Антология советского детектива-50. Компиляция. Книги 1-12 [Игорь Иванович Заседа] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Армаис Гульянц Бои без выстрела

Предисловие
Я с удовольствием прочитал повесть А. Г. Гульянца «Бои без выстрела». Несомненно, книга будет хорошим подспорьем в воспитании молодого поколения сотрудников милиции. Потому что повесть привлекает прежде всего правдой жизни. И хотя конфликты, описанные в ней, не новы, повесть свежа, насыщена интересными фактами, а, самое главное, заставит читателя задуматься о многом. Лично знаю автора этой книги, так сказать, по долгу своей прежней службы. С Армаисом Григорьевичем Гульянцем я контактировал еще будучи парторгом ЦК Компартии Узбекистана, а затем и первым заместителем министра внутренних дел республики. В этой должности я проработал с 1954 по 1968 годы. Именно данный сложный период, целый кусок моей жизни, отчасти, отражен в повести. На него, если можно так выразиться, ложится основная нагрузка повествования. Эти годы оставили глубокий след в моей памяти. Они, как шрам от раны, которая со временем заживает, но рубец остается. Вот почему я с большой охотой решил высказать свое мнение об этой книге. Вначале скажу об оперативно-розыскных отделах. Они были созданы в МВД и в его органах на местах в 1966 году. Как и все прогрессивное, новое, это решение вызвало массу кривотолков, стало «притчей во языцех» и в министерстве. Но очень скоро оперативно-розыскная служба дала отдачу. Десятки преступников, ранее много лет скрывавшиеся от правосудия, сели на скамью подсудимых. В этом целиком и полностью заслуга сотрудников совсем молодой еще тогда оперативно-розыскной службы, которая не только искала преступников, но и выясняла степень виновности того или иного человека. И нередко реабилитировала людей, на которых незаконно возводились тяжкие обвинения. Вот тогда-то и выяснилось, что оперативно-розыскные отделы волей-неволей становятся своеобразным контролем за деятельностью ОУР и ОБХСС, вводят их в строгие рамки законности. Это, конечно, некоторым не понравилось. Начались склоки, доходящие до абсурда. В повести отражен этот момент. Но герой её — Петросов — по сути дела пасует перед преградами, которые становятся на его пути. Он одинок в своей борьбе. Я его хорошо понимаю, потому что сам в свое время испытал нечто подобное. Вера в справедливость и, в конечном счете, её торжество пронизывает повесть «Бой без выстрела». Вот почему она так притягательна, хотя не все в ней «хорошо кончается». На мой взгляд, книга выходит за рамки обычных рассказов о сотрудниках милиции. Она — назидание для молодежи, напоминание об уроках прошлого, о долге грудью стоять на страже законности. Наряду с этим повесть познавательна. Она в какой-то степени дает представление о сложностях оперативного розыска. Это первое произведение об оперативно-розыскных отделах, которые, к сожалению, утратили свою самостоятельность в органах МВД. Я уверен, что повесть «Бой без выстрела» понравится широкому кругу читателей и вызовет определенный резонанс у сотрудников органов внутренних дел. Несомненно, будут и споры. А это особенно хорошо.М. БЕГЛОВ,генерал-майор в отставке.
Посвящая моим наставникам, давшим мне путёвку в жизнь!
Сомнения полковника
В тот вечер начальник оперативно-розыскного отдела полковник Александр Николаевич Петросов дольше обычного задержался на работе. В управлении царила тишина. Только в комнате дежурного иногда раздавался телефонный звонок и слышались приглушенные разговоры. В кабинете был полумрак. Лишь сноп яркого света настольной лампы под металлическим абажуром высвечивал светло-голубую картонную папку, раскрытую на столе перед полковником. Вот уже в который раз он, по привычке массируя рукой подбородок, перебирал находящиеся в ней бумаги. Всего с десяток листов плотного с минимальным интервалом машинописного текста. И может быть, именно это малое количество документов настораживало Александра Николаевича, приглашало к раздумью, предостерегало от скоропалительных выводов. На первый взгляд, все действительно выглядело предельно просто. В небольшом районном городишке Гильян случилась беда. Теплым весенним вечером шофер колхоза, находящегося в соседнем районе, ворвался в дом родителей своей жены Халимы, которая была там же, ножом убил тещу и свояченицу, а Халиму тяжело ранил. С места преступления скрылся. Принятыми мерами розыска убийцу обнаружить не удалось. А ведь совсем недавно у дверей этого дома под струны тара и звонкие удары дойры звучала «туйлар муборак» (свадебная поздравительная песня). Счастливый жених увозил к себе смущенную всеобщим вниманием невесту. Блеск ее глаз угадывался даже сквозь полупрозрачную белую фату, скрывающую по обычаю лицо, и всем окружающим было ясно, что и Халима не менее счастлива. Что же произошло с Тулкуном? В сотый раз задавал себе этот вопрос Петросов, но ответа не находил. Более того, в папке имелась характеристика на Каримова с места работы. Руководители хозяйства единодушно отзывались о шофере в высшей степени положительно. Честен, трудолюбив, нетерпим к недостаткам... Александр Николаевич с нажимом подчеркнул эти слова красным карандашом. Они усугубляли его сомнения о том, что следствие велось добросовестно и в процессе его выяснились все обстоятельства гильянской трагедии, со времени которой прошло уже несколько лет. Все эти годы преступник находился на свободе. Розыск его затянулся. Полковника вызвали «на ковер» к министру. Там основательно распекли, а затем приказали принять это затянувшееся дело лично к своему производству. Петросов не почувствовал обиды за «головомойку», понимая, что упреки в его адрес справедливы. И вот поздний вечер, тощая голубая папка и сомнения, сомнения, сомнения... Александр Николаевич снял трубку и набрал номер своей квартиры. К телефону подошла младшая дочь. Хмурое лицо полковника просветилось. Он любил живую и всегда веселую Тамару по-особому. И не потому, что она в большой семье была младшей. Петросов мечтал о сыне. Но так уж получилось, что жена подарила ему двух дочерей. Тут и пришла в голову Александра Николаевича мысль: он решил сделать из Тамары сына. Девушка окончила девятый класс, «тянула» на золотую медаль, но отец неожиданно для всех забрал ее из школы и устроил на крупный машиностроительный завод учеником токаря. Петросов улыбнулся, вспомнив, какой бой пришлось ему выдержать с бывшими педагогами Тамары. Может быть, все бы закончилось иначе, если бы сама девушка не встала на сторону отца. И золотая медаль от нее не ушла, она ее получила, окончив вечернюю школу рабочей молодежи. Одна-единственная. — Я еще часок поработаю, — уставшим голосом сказал полковник дочери. И, опасаясь расспросов и возражений, поспешно положил трубку. Нужно было составить подробный план оперативно-розыскных мероприятий по этому сложному делу. И первым пунктом в нем он записал: «Встреча со следователем».Первые неудачи
Серая «Волга» катила по хорошо укатанному степному проселку, то выскакивая на холм, то скрываясь в низине. Опять была весна, и степь сверкала зеленью разнотравья и алым полыханием полевых маков. Через месяц этот изумрудный ковер исчезнет, степь пожелтеет, а там, где задерживались талые воды, потрескается земля и засахарятся солончаки. Лишь седая полынь да тусклые солянки выдюжат здешнюю адскую жару и безводье. Петросов с жадностью вдыхал чистый воздух весенней степи, напоенный ароматами цветов и трав. Коренной городской житель, он редко имел повод к таким дальним поездкам в «глубинку» южной республики. А между тем солнце начинало припекать. Проселок уже изрядно просох, и машина волочила за собой негустой шлейф пыли. У самой обочины дороги в теплых лучах солнышка грелась большая, величиной с тарелку черепаха — главная хозяйка этих мест. Летом даже вездесущий шакал обходил стороной это мертвое место земли. А бесплодная степь ждала добрых человеческих рук, которые бы напоили, вспахали и засеяли ее. И уж воздаст она им за это сполна, не поскупится. Полковник был в штатском — так проще беседовать со здешними людьми. Он хорошо знал район, в который направлялся. Не раз бывал и в городке, где произошло тяжкое преступление. Тогда, в середине 30-х годов, довольно крупный кишлак на всю округу был знаменит своими муллами, ишанами и «святой» водой, ключом бьющей из-под высохшего карагача у центральной мечети. А всего подобных мечетей здесь было 65. Славился Гильян и своими чеканщиками, создавшими неповторимые узоры на металле. Кто-то метко назвал их металлическими кружевами. Изделия гильянских мастеров очень высоко ценились не только во всем крае, но и далеко за его пределами. И население кишлака почти сплошь было зажиточным, глубоко религиозным. Чужаков здесь не терпели, ревниво относились к ним. «Крепкий орешек этот Гильян, — вздохнув, подумал полковник. — Трудно рассчитывать здесь на успех. Разве что следователь сообщит что-нибудь новенькое?» Следователь гильянского городского отдела внутренних дел, который вел дело Каримова, капитан милиции Тулкун Хасанов, встретил Петросова вначале весьма приветливо, но, узнав о цели его визита, помрачнел. — У вас есть какие-нибудь сомнения? — спросил он. — Имеются, — кивнул полковник. — И прежде всего мне совершенно не ясна причина, побудившая Каримова совершить такое тяжкое, прямо скажем, по жестокости редкое в наши дни преступление. Какая сила заставила его решиться на такой отчаянный шаг? — А что здесь загадочного? — пожал плечами следователь. — От Каримова ушла жена, взыграло мужское самолюбие... Вот и результат... — Вы интересовались, почему от него ушла жена? — Да, я это тоже выяснил. Очевидцы рассказывали, что Каримов часто прикладывался к рюмке. Ряд свидетелей преступления, находившихся в тот вечер неподалеку от дома, где было совершено убийство, думают, что и тогда он был пьян. — Думают или утверждают?— перебил капитана Петросов. — Если хотите, утверждают, — чуть поколебавшись, ответил тот. — На берегу арыка, где перед убийством сидел преступник, была обнаружена пустая бутылка из-под водки. — Это еще не улика, — досадливо поморщился полковник. Александр Николаевич провел рукой по слегка вьющейся полуседой шевелюре. Опасения его оправдывались. Из беседы со следователем он понял, что ничего нового от него не услышит. Но его насторожило одно обстоятельство. В разговоре капитан часто надолго умолкал, словно обдумывая ответ на тот или иной вопрос полковника, а затем предлагал ему выяснить подробности у руководства района, там-де знают больше, чем в горотделе. — Хочу побеседовать с родственниками погибших и свидетелями преступления. Составьте мне их список с адресами, — попросил он капитана. Вскоре уже держал лист с отпечатанным на машинке текстом. Но и здесь Александра Николаевича ждала неудача. Многочисленные родственники убитых были озлоблены (это естественно и понятно). О причинах ухода Халимы от Тулкуна умалчивали и лишь грозились жестоко отомстить Каримову, а заодно и его родне. Полковник понимал, что это не пустая угроза. И еще одно обстоятельство бросалось в глаза: односельчане, названные в списке следователя свидетелями, что-то старательно скрывали, при разговоре об убийстве опасливо озирались по сторонам. «Нужно срочно ехать в райцентр, где раньше жил с женой преступник», — решил Петросов. Он сидел в чайхане, неторопливо отхлебывая из маленькой пиалушки крепко заваренный зеленый чай. В это полуденное время здесь было тихо. Лишь в противоположном углу, сидя на цветастом паласе, трое аксакалов о чем-то оживленно спорили, размахивая руками. К столу полковника подошел чайханщик, заменил опустевший чайник полным. — Трудное дело досталось тебе, начальник, — тихо сказал он. — Ты туда поезжай, — он неопределенно махнул рукой. — Да, поезжай, как гость. Заодно и больницей тамошней поинтересуйся. Многое узнаешь, — добавил он скороговоркой, ибо старики, рассевшиеся на паласе, притихли, прислушиваясь к их разговору. «Это уже что-то новое, — размышлял Александр Николаевич, допивая чай. — И при чем здесь больница? Какое она имеет отношение к делу? Все запуталось в какой-то тугой клубок. Ясно одно: нужно ехать в райцентр, и ехать немедленно». И снова дорога, петляющая меж холмами, огибающая овраги, в прохладной глубине которых переплелись непроходимые заросшие кусты шиповника и ежевики. Затем по сторонам дороги появились сады, сиреневые от набухающих почек. За окнами машины мелькали колхозные сады, здесь целина была частично поднята, и тракторы упорно продолжали бороздить ее. Но Петросов сейчас был хмур и далек от живописных красот природы. Опять нахлынули воспоминания, отогнать которые он был не в силах, а вернее, и не хотел. Идея о создании в органах милиции самостоятельного оперативно-розыскного отдела (ОРО) волновала Александра Николаевича давно. Он осторожно высказывал эту мысль на совещаниях, но мало кто ее поддерживал. Одним идея эта казалась сомнительной, а иные встречали ее прямо-таки в штыки, опасаясь (и не без основания), что нововведение больно ударит по их престижу, вторгнется в ту сферу деятельности, которую они считали исконно своей собственной вотчиной и ревниво охраняли от «чужаков». — Ведь есть же уголовный розыск, — говорили такие, делая ударение на последнем слове. — Зачем же еще огород городить? — Да, — соглашался Александр Николаевич, — труд сотрудников ОУР и ОБХСС очень сложен и заслуживает большого уважения. Но, к сожалению, раскрытие преступления не всегда завершается поимкой преступника. Розыск некоторых из них длится иногда нетерпимо долго, так как оперативников захлестывают другие неотложные уголовные дела. Иной раз особо опасный преступник числится в бегах десятилетие и более. Розыском таких должен заниматься специальный отдел. Это соответствует основному принципу всей нашей работы: ни одно совершенное преступление не должно оставаться безнаказанным. И когда из центральных органов поступила наконец директива о создании ОРО, Петросов встретил ее с нескрываемой радостью. Он верил в будущее оперативно-розыскной службы, поэтому именно ему поручили ее создание в крупном областном управлении. Споры о праве существования отдела заметно поутихли, только обсуждать это событие его противники предпочитали келейно, при наглухо закрытых дверях. Это очень огорчало Петросова, ибо он надеялся на дружескую помощь и поддержку товарищей, особенно в это трудное время становления. С энтузиазмом взялся Александр Николаевич за дело. Подобрал подходящих сотрудников, владеющих методами личного сыска, обладающих логически аналитическим мышлением. Среди них было немало молодых, инициативных работников, горячность которых не раз приходилось сдерживать. Но ни один из них не разочаровал впоследствии, не обманул надежд полковника Петросова. Как сквозь табачный дым, который всегда витал в его кабинете во время оперативных совещаний, проплывали сейчас перед ним их лица — лица сподвижников и друзей. Саша Наумов, Ибрагим Бектиев, Григорий Пак... Молоденькие лейтенанты обрели крепкие крылья и сейчас руководят крупными подразделениями органов внутренних дел, у них у самих уже немало учеников. А в то время трудно было начинать. Петросов понимал, что в период организации ОРО и становления его коллектива он не имеет права на ошибку. Любая оплошность обязательно вызовет кривотолки, недоверие к новому подразделению. И еще нужны были конкретные дела, конкретные успехи. И вскоре они пришли — первые удачи молодых сотрудников отдела. Особенно запомнилось одно из таких дел.«Живой труп»
В переводе на русский Шахарча — значит «городок». Лет 30 назад такое название вполне подходило к этому населенному пункту, который славился своими базарами и искусными кустарями. Сюда в базарные дни съезжались многие сотни дехкан окрестных кишлаков, пригоняли скот из далеких аулов и русские казаки — на вырученные деньги приобретали и увозили отсюда мануфактуру, чай, керосин. Глинобитные мазанки с плоскими крышами утопали в зелени. Узкие улицы-щели наводняли маленькие примитивные кустарные мастерские, где с утра до сумерек не смолкал грохот молотков, гомон голосов, треск горящих дров, не рассеивался туман сизого чада. Кожевенники выделывали здесь так называемый айбак — грубую кожу, идущую на изготовление дехканских сапог, в многочисленных сапожных шили и мягкие ичиги, и европейскую обувь, и национальные чарыки — туфли с острыми загибающимися кверху носами. Два десятка арбасазов ремонтировали арбы и делали новые из «среднеазиатского дуба» — карагача. Женщины в глухих ичкари пряли из гузы пряжу, портные шили цветастые халаты и скромные бешметы. А «правили здесь бал» спекулянты-перекупщики, наживавшиеся на тяжелом труде кустарей. Немало усилий пришлось приложить сотрудникам милиции, чтобы очистить шахарчинские рынки от таких дельцов. Теперь Шахарча вырос, стал крупным областным городом с промышленными предприятиями и строительными организациями. Население его утроилось, появились новые кварталы многоэтажных домов. Сюда пришли магистральный газ и электричка. Располагалось в Шахарча и отделение госбанка. В нем-то и произошло однажды чрезвычайное происшествие. Началось все весьма банально: в то памятное утро не пришел как обычно на работу старший кассир Анатолий Хван. Поначалу это обстоятельство никого не встревожило. Сослуживцы знали кассира, как аккуратного и пунктуального работника, и если он, случалось, задерживался, то всегда по уважительной причине. Но вот прошел час, а Хван не появлялся. Публика, толпившаяся у закрытого окошечка в ожидании денег, стала шуметь. На дом к кассиру отправился посыльный, который возвратился вскоре очень встревоженный. Дома Хвана не оказалось, дверь, по словам соседей, была на замке со вчерашнего вечера. — Видно, у родственников загулял, — сказал кто-то. — Подождем еще часок, может быть явится. Но ни в этот день, ни на следующий кассир на работе не появился. Словом, пропал при загадочных обстоятельствах. Загадка, однако, перестала быть таковой после ревизии в кассе. Оказалось, что Хван исчез, прихватив с собой кругленькую сумму денег. В тот же день на берегу канала вездесущие мальчишки обнаружили одежду, как оказалось, принадлежавшую пропавшему. В пиджаке нашли записку следующего содержания: «Прошу в смерти моей никого не винить. Я совершил крупную растрату и знал, что это рано или поздно обнаружится. В постоянном страхе больше жить не могу, поэтому добровольно ухожу из жизни...» В Шахарча прибыла группа аквалангистов из спасательной службы, которая в то время входила в состав тогдашнего министерства охраны общественного порядка. Руководил группой опытный водолаз Афанасий Косов. В поисках утопленника метр за метром, квадрат за квадратом было обследовано дно канала, но безрезультатно. Решились на крайнюю меру — перекрыли головной шлюз. И опять-таки на обнажившемся дне останков кассира не обнаружили. Вот тогда-то и возникло предположение, что «самоубийство» Хвана — хитро задуманная мистификация. На крупного расхитителя объявили масштабный розыск. Шло время. Десятки людей искали Хвана, собирали о нем и его родственниках дополнительные сведения, однако это не давало результатов. С тех пор минуло девять лет. Поиск «утопленника» зашел в тупик. Многим уже казалось, что разыскать кассира невозможно. А коль потеряна вера в успех, никакого успеха и ждать не приходится. Именно такие вот непомерно затянувшиеся дела, от которых хотели во что бы то ни стало избавиться, дела, омрачающие победные рапорты о весомых процентах раскрываемости преступлений, и легли в первую очередь на плечи молодой, еще неоперившейся, не набравшейся опыта оперативно-розыскной службы и, в частности, подразделений отдела, которым руководил А. Н. Петросов. Розыскным делом кассира Хвана занялся капитан Аман Абдурахманов. По совету Александра Николаевича, он начал с подробнейшего изучения личности «своего героя», образа его жизни, привычек, увлечений... За девять лет многое изменилось. Большинство людей, знавших преступника, уехало из этих мест, а те немногие, кто остался, давали ему противоречивые характеристики. Побывал Абдурахманов и на заброшенном подворье Хвана. Когда-то добротный, саманный дом под шифером заметно одряхлел, стены потрескались и местами обсыпались. Никто на эту усадьбу не зарился и жить здесь не собирался. Стоял капитан в запущенном, заросшем лебедой и крапивой дворе и мысленно перебирал все, что успел узнать о бывшем его хозяине. Хван был немногословным и осторожным. С людьми знакомился неохотно, ни с кем особенно дружбы не водил. Окружающие объясняли это тем, что таким он стал по причине своей должности кассира, ежедневно имеющего дело с огромными суммами государственных денег. Постоянная ответственность и наложила, видимо, своеобразный отпечаток на его характер. И еще одна, казалось бы, незначительная деталь не прошла мимо внимания офицера. По словам соседей, все свободное время Хван проводил на своем весьма обширном огороде, где разводил овощи, особое предпочтение отдавал луку, сельскохозяйственной культуре, которую, как и рис, мастерски возделывают лица корейской национальности. «До сих пор, — думал капитан, — бывшего кассира искали главным образом в рисоводческих хозяйствах, в которых у того имелись многочисленные родственники. Овощеводческие же оставались почему-то вне поля зрения милиции. А что если преступник скрывается в одном из них? Ведь обычно человек, связанный с землей, с трудом избавляется от укоренившихся с годами привычек. Даже если прошло девять лет...» Снова запросы, официальные ответы, справки, заверенные печатями разных организаций. И вот удача! Оказывается, в соседней республике, в крупном совхозе, где возделывают именно лук, живет один из двоюродных братьев Хвана. Наученный горьким опытом столь затянувшегося поиска, Абдурахманов, оформляя командировку к соседям, не рассчитывал на быстрый успех. Но на сей раз обстановка благоприятствовала оперативному работнику. Местные сотрудники милиции сделали все, чтобы облегчить по прибытии работу своему коллеге, обеспечили транспортом и снабдили необходимыми документами прикрытия. К тому же и момент для поисков оказался очень удобным — в разгаре была предвыборная кампания и на избирательных участках можно было ознакомиться со списками избирателей. Однако, как капитан и ожидал, в этих списках фамилии разыскиваемого не оказалось. В разговоре с сотрудниками местной милиции Абдурахманов узнал, что в шестидесяти километрах от города расположен еще один большой овощеводческий совхоз, где большинство корейцев также выращивают лук. В тот же день оперативник был в этом хозяйстве. И опять неудача. В сельском агитпункте разыскиваемый человек на букву «X» по фамилии Хван не значился. Однако чутье оперативника подсказывало: искать надо здесь. И капитан становится «агитатором». С утра до вечера он обходит дома жителей поселка, присматривается к людям, прислушивается к разговорам. В этот памятный день Абдурахманов был в своих путешествиях по улицам не одинок — шустрые и любопытные мальчишки сопровождали новоиспеченного «агитатора» по пятам. — А вон там жили Хваны, — неожиданно для Амана сказал один из них, указывая на ничем не примечательный домик за невысокой изгородью. — Теперь там их родственники... — Что ж, побываем и здесь, — ответил оперативник и, сдерживая волнение, подошел к полуоткрытой калитке. В небольшой комнате находилось двое: взрослый мужчина и мальчик лет двенадцати. Сидя за обеденным столом, они доигрывали партию в шахматы. — Вот с сыном сражаемся, — отвечая на приветствие гостя, чересчур поспешно, как показалось Абдурахманову, пояснил хозяин дома. Аман подошел к играющим и взглянул на доску. С первого же взгляда, будучи неплохим шахматистом, он понял — партия интересная. Белые, которыми играл подросток, явно выигрывали. Через два хода черному королю грозил мат. — А ну-ка, парень, давай поиграем, — улыбнувшись, предложил оперативник. — Твой ход? — Да, — смущенно ответил тот и, нерешительно, взяв коня, поставил его на соседнюю клетку. — Так конь не ходит, — удивился Абдурахманов. — Да и не конем тебе ходить надо в такой ситуации, а ладьей... Уже через два следующих хода капитан убедился, что парнишка не имеет ни малейшего представления о шахматах. Он увидел, что мужчина, стоявший рядом с ним, нервничает все больше и больше. «Зачем ему нужно было обманывать меня, — размышлял сотрудник милиции, незаметно оглядывая помещение. — Ах, вон оно что! За высокой ширмой он увидел клеёнчатую дверь, ведущую в соседнюю комнату. — Не там ли прячется второй «шахматист»?» Подозрения капитана подтвердились. В углу, у самого окна, стоял человек. Оперативник сразу узнал его — это был Хван. Так через девять лет «утопленник» всплыл на поверхность. После преступник скажет, что так надоело ему скрываться от правосудия (и будет сказано это искренне), что сам бы пришел с повинной, но еще страх был велик, не подготовлен он был к такому шагу. Александр Николаевич Петросов на всю жизнь запомнил эти слова. Они открыли перед ним новые горизонты в его работе, новые методы, среди которых одно из ведущих мест занимала добровольная явка преступника с повинной.Незапланированный визит
Шофер-милиционер сержант Юра Костин, сменивший на время поездки милицейскую форму на старенький, видавший виды комбинезон, уже не первый год водил машину полковника, изучил своего начальника, понимал с полуслова, безошибочно угадывал все нюансы его настроения. Вот и сейчас, видя, что Александр Николаевич чем-то озабочен и не расположен к посторонним разговорам, Юра предпочитал помалкивать, уныло вглядываясь в бегущую под колеса дорогу. А Петросов не замечал его мимолетных косых взглядов. Из его головы не шел случайный разговор с чайханщиком. «Поезжай, как гость», — советовал тот. Как это понимать? А может быть, действительно разговор не получился с жителями Гильяна, потому что говорил он с ними, как официальное лицо. Дорога стала забирать круто вверх. Когда машина, натужно гудя мотором, взобралась наконец на высокий холм, перед глазами раскинулась вся долина — пестрая скатерть полей, садов и виноградников. Справа виднелись крыши домов большого поселка Актепе, до него было километра четыре. Петросов впервые за всю дорогу улыбнулся. Он знал, что там живут два его старинных друга: бывший председатель здешнего колхоза Кудрат Сабиров, которого однажды несправедливо обвиняли в срыве хлопкозаготовок. Тогда Александр Николаевич — еще совсем молодой работник органов НКВД — поддержал председателя. Не согласился с решением секретаря обкома об исключении его из партии и Мечислав Карлович Томич — бывший сослуживец и первый наставник Петросова. Об этом замечательном человеке, опытном чекисте с особенно большой теплотой думал сейчас полковник. Томич хорошо знал его брата — одного из руководителей ВЧК—ОГПУ. В конце 20-х годов, во время ликвидации крупной банды, в Сибири брат погиб. Мечислав Карлович тоже начинал службу в ЧК в глухом таежном краю, было ему неполных двадцать лет. Однажды бандиты напали на таежную деревушку и разграбили крестьянские дома. Жителей же вывели на окраину села и перестреляли. В живых не оставили ни единого человека, не пощадили даже детей. В эту банду, которую возглавлял бывший царский офицер Сахно, удалось проникнуть молодому чекисту Томичу, которого в здешних местах никто не знал. Он и помог окружить и уничтожить бандитов. Отделение, где служил Мечислав Карлович, располагалось в небольшом уездном городишке, со всех сторон окруженном дремучей тайгой. Словом, самое подходящее местечко для всякого рода уголовного сброда. Скрывался в этой глуши и знаменитый конокрад Васька Новоселов. Не было во всем крае в то время крестьянина, который бы не знал этого дерзкого преступника. Его боялись и люто ненавидели, ибо потерять лошадь в хозяйстве — значило идти по́ миру. Долгое время охотился за ним Томич, и однажды в горячей перестрелке Ваську взяли. Но, видно, в «сорочке родился» бандит. Удалось ему из-под стражи бежать, и стал он свирепствовать пуще прежнего, принялся уводить и коров. Не проходило и дня, чтобы чья-нибудь семья не оплакивала пропажу «кормилицы». И посмей только пожаловаться властям, с такими Новоселов не церемонился — пулю в затылок и дело с концом. Жена бандита — молодая сибирячка, чернобровая и румяная, жила в селе, в двадцати километрах от городка. Мечислав Карлович и его товарищи знали, что Васька бывает здесь, а иногда гостит неделями. Но ни засады, ни обыски не давали никаких результатов. Скотокрад слыл неуловимым. Та памятная ночь была особенно морозной. Снег звенел под ногами, как стекляшки. Над крышами столбом поднимались дымки. Томич вышел на улицу и словно в ледяную воду нырнул. Аж дух захватило от холода. — Да, — подумал он, потирая уши, — в такую стужу даже бандиты сидят на печи... И вдруг шальная мысль пришла в голову юноше. А что, если именно сегодня Новоселов сидит дома. Сидит себе, чаи распивает и плюет на всю нашу братию. Нагрянуть бы сейчас к нему неожиданно, да накрыть. И задержу его я — Славка Томич — самый молодой сотрудник. Много лет спустя, вспоминая этот случай, Мечислав Карлович признавался, что поступил по-мальчишески, когда, никого не предупредив, один в легкой бричке выехал в поселок, расположенный в глухомани. Лошадь легко бежала по пустынной, таежной дороге. Время подходило к полуночи, когда впереди замерцали огоньки. Разыскав дом председателя сельсовета, Томич с его помощью отобрал трех понятых из числа сельских активистов и вкратце разъяснил им задачу. Новоселовская изба была на самой окраине, сразу же за ней начиналась тайга. Когда группа Томича подошла к дому, сквозь щель между оконными ставнями пробивался свет. Он сразу же погас после стука в дверь. Долго никто не отзывался, потом послышались осторожные шаги. — Кто там? — спросил испуганный женский голос. — Уголовный розыск, открывайте... За дверью послышалась возня, истошно завизжал поросенок, потом все стихло. Прошло минут десять. Дверь по-прежнему не открывали. Мечислав вышел из себя. Забыв об осторожности, он подошел к окну вплотную и ударил рукояткой револьвера в ставню. — А ну открывай, а то сейчас бомбу брошу! Весь дом на воздух взлетит к чертям собачьим! Угроза подействовала — в хате вновь зажгли свет. Звякнула тяжелая щеколда, дверь распахнулась, и на пороге появилась полуодетая хозяйка с керосиновой лампой в руке. — Входите, — хмуро оглядев каждого, процедила она сквозь зубы. В сенях было полутемно и сыро. Томич с понятыми прошел в горницу. Но и она оказалась безлюдной. Хозяйка, наблюдая за обыском, спокойно стояла у окна, скрестив руки на пышной груди. — Где муж? — спросил Мечислав. — А мне почем знать, — повела она плечами. — Почему долго не открывала? — По ночам всякие люди по тайге шастают. — Новоселова кокетливо сощурила глаза, с головы до ног оглядев статную фигуру молодого оперативника. — Кто же знал, что ко мне такой орел залетит? Да еще на ночь глядя. Отвернулся Томич, чувствуя, что краснеет. Уж больно красива была эта женщина. Преодолев минутное смущение, сел за стол, стал писать протокол, вспоминая все подробности этого ночного визита. И вспомнил вдруг истошный визг поросенка в сенях. — Давайте-ка еще раз сени осмотрим, — сдерживая волнение, предложил он понятым. — Чего вам еще там понадобилось? — заволновалась Новоселова. — Весь дом вверх дном перевернули и все мало... — Но под пристальным взглядом Томича нехотя взяла лампу. Тусклый свет снова выхватил из темноты сырые, срубленные из вековых лиственниц стены. За перегородкой в углу по-прежнему слышалось мирное похрюкивание. — Уберите поросят, — приказал Мечислав своим добровольным помощникам. — Это зачем еще? — закричала хозяйка. — Не имеете права скотину трогать! Я жаловаться буду. Но видя, что угрозы ее не действуют, она вдруг швырнула на пол лампу и скрылась в горнице. Сухо щелкнула за ней задвижка на двери, все погрузилось во тьму. Пришлось одному из понятых бежать домой за фонарем. При его свете Томич тщательно обследовал поросячий хлев и под соломенной подстилкой обнаружил массивное, также сработанное из лиственницы творило, ведущее в погреб. Приподняли за кольцо тяжелую крышку. И тут же услышали: — Не стреляйте... Сдаюсь... Из подземелья, еле протиснувшись в творило тайника, неуклюже вылез огромный бородатый детина, взлохмаченный, похожий на медведя-шатуна. В нем трудно было узнать знаменитого скотокрада Новоселова, но это был он. Преступник не оказал никакого сопротивления, хотя в его распоряжении были винтовка, карабин, маузер и большой запас патронов к ним. Как выяснилось на следствии, он думал, что арестовать его приехал большой отряд чекистов. Крепко тогда досталось Томичу от начальства за самоуправство. И, как говорится, урок пошел впрок. После случая с Новоселовым уяснил он себе на всю жизнь такие непреложные в работе чекиста заповеди: не поступай без нужды опрометчиво, по первому побуждению, всегда аналитически взвешивай факты. Словом, не давай волю чувствам, строго придерживайся духа, буквы, даже запятой закона. И то, что мелочей в боях на «незримом фронте» нет. Тот же поросячий визг, осенивший Томича при поимке особо опасного преступника, — не случайность. При глубоком анализе такие «случайности» являются ключом к решению сложнейших задач, помогают выбрать правильную версию в раскрытии преступлений и розыске преступников. Этому и учил Мечислав Карлович своих подчиненных... Александр Николаевич повернулся к шоферу: — Юра, — сказал он, — поверни направо. Заедем в Актепе. Повидать кое-кого надо. Полковник не собирался заезжать в этот населенный пункт. Но совет старых опытных друзей в сложной обстановке, даже для такого «зубра» в оперативно-розыскной работе, каким считали многие сотрудники управления Петросова, был сейчас неоценим. Ехал он к ним почти с пустыми руками. Первоначальные планы, так вроде бы хорошо продуманные в тиши кабинета, рушились. Причины и условия, способствовавшие гильянской трагедии, так и оставались загадкой.Добрый совет друга
Томич с женой жил в просторном доме, построенном в чисто восточном стиле: прочно связанный из жердей ивы каркас, заложенный сырцовым кирпичом, оштукатурен вязкой глиной, обычно шедшей на сооружение мощных, как стены старинных крепостей, дувалов. Затвердев, она становится настолько крепка, что ее и пуля не пробьет. Купил Томич дом по случаю у местного жителя, уехавшего из кишлака в город. Будучи сыном немца и югославки, приехавших в эти края еще в прошлом веке, Мечислав Карлович всем сердцем полюбил здешние места, гостеприимный, трудолюбивый народ. Уже около десяти лет Мечислав Карлович был на пенсии, но продолжал работать, преподавая в местной школе немецкий язык, которым владел в совершенстве. Седой, как лунь, с красивым дородным лицом, он был по-прежнему подтянут и бодр. Когда машина Петросова подкатила к дому Томичей и полковник вошел в калитку, во дворе была жена Мечислава Карловича — Нина Борисовна — среднего роста старушка, худощавая, но крепко скроенная. Сидя на корточках, она раздувала огонь в мангале и вначале не заметила гостя. С доброй, сыновьей улыбкой смотрел Петросов на эту с юности ему знакомую женщину, разделившую с мужем все тяготы долгой службы в ЧК. Тогда в отделе она была машинисткой и переводчицей, так как владела английским, французским и немецким языками. И так же в совершенстве освоила она боевое оружие. Не раз на учебных стрельбах из «маузера» выходила победительницей к всеобщему огорчению (как, впрочем, и радости) мужчин, которые очень любили Нину Борисовну (тогда она была просто Ниночка). Полковник кашлянул, женщина обернулась и встала. Глаза ее, еще слезящиеся от дыма, долго вглядывались в нежданного гостя. И вдруг лицо ее просияло. — Боже мой! Саша! — Нина Борисовна всплеснула руками. — Мечислав Карлович, голубчик! — громко позвала она мужа, — взгляни-ка, кто к нам пожаловал... На пороге появился хозяин. Мужчины обнялись, крепко расцеловались. — Дай-ка взглянуть на тебя, — Томич слегка отстранил от себя Петросова. — Эге, и тебя снежком припорошило. Бежит время, стареем, брат. Но ты еще выглядишь молодцом. Кого нам благодарить за то, что решил наконец повидать стариков? — Повод, к сожалению, не из приятных, — натянуто улыбнулся Александр Николаевич. — Совет мне ваш нужен... — Значит по делу. Ну что же, тогда вначале дастархан, за ним и поговорим... Пока загоняли во двор машину, пока умывались с дороги, хозяева покрыли супу*["1] поверх циновок кошмой, а затем старым бухарским паласом с крупным, простым рисунком белого, желтого и красного цветов. Знал Петросов, что только при встрече самых дорогих гостей расстилают этот палас, знал он и его историю. Когда-то Томич сумел склонить одного из главарей крупной банды к добровольной ее сдаче. За это коллегией ОГПУ был награжден именными часами, а товарищи, «сбросившись» после получки, купили для него на базаре бухарский палас. Подарок был как нельзя кстати, ибо для молодой четы Томичей он стал свадебным. На дастархане появились ляган*["2] с кусочками холодной баранины, лепешки, молодое виноградное вино. — Ты бы, мать, чего-нибудь нам покрепче, — попросил Мечислав Карлович. — В такой день не грех по чарке-другой пропустить. Нина Борисовна рассмеялась и, махнув рукой, пошла в дом. Вернулась, неся в руках запотевший графинчик водки, настоенной на лимонных корках. Выпили, закусили... — А как там Сабиров себя чувствует? Жив еще курилка? — спросил Петросов о бывшем председателе колхоза. — Куда он денется, — засмеялся Томич. — Такое «пенсионное» пузо наш Кудрат отрастил, что собственных колен уже лет пять не видит. — Повидать бы его надо. Ведь мой визит к вам и Кудрата касается... — О чем речь, Саша? Сию минуту его и пригласим. К тому же и повод для этого внушительный. Все-таки друзья мы старые, в кои веки еще встретимся? — Ты у нас самый молодой, — обратился Томич к водителю, — сбегай в самый конец улицы до 43 дома. Там и живет Сабиров. Скажи, что Мечислав Карлович просил срочно зайти по важному делу. Вскоре Юра вернулся. За ним, отдуваясь, во двор в буквальном смысле вкатился «колобок». Трудно было в этом толстяке узнать некогда поджарого красавца-джигита Кудрата Сабирова, неизменного победителя любой пайги, кишлачного сердцееда и задиру. Теперь это был уже Кудрат-ата, аксакал, который по нынешним габаритам не поместится ни в каком седле. Сейчас он стоял перед хохочущим Томичем, сняв тюбетейку, вытирал вспотевшую лысину. — Чего гогочешь, как гусак? — наконец рассердился он. — Зачем звал? Чья это машина во дворе? — А вот его, — снова коротко хохотнув, указал Томич на Петросова. — Не узнаешь? Сабиров вгляделся в сидящего на супе человека. — О, аллах, — неожиданно тонким голосом закричал он. — Петрос! Сашка! Как ты здесь? — он бросился к Александру Николаевичу, стал тискать его в объятиях, трясти обеими руками его руку. — Почему меня обижаешь, почему мой дастархан стороной обходишь? Барана буду резать, плов делать... — Успокойся, Кудрат, — примирительно сказал Петросов. — Я сюда недавно приехал, и двух часов еще не прошло. Поговорить мне с вами обоими нужно. Присаживайся, выпей, закуси, а я между тем расскажу, в чем дело. Рассказ полковника друзья выслушали с большим вниманием, почти не перебивая. Лишь иногда уточняли детали. Когда он закончил, долго молчали. — Неспроста тебе чайханщик о больнице намекнул, — наконец сказал Томич. — По всей видимости с нее нужно и начинать. Слушок здесь у нас прошел, что кое-кого там посадили. Подробностями я не интересовался, а вот тебе этим заняться следует. — А с Гильяном у тебя все равно ничего бы не вышло, — добавил Сабиров. — Знаю я тамошнюю публику. Теперь тебе туда и соваться нечего. — Мой совет, — задумчиво продолжал Томич, — таков: поезжай, как и наметил, в райцентр, где жил и работал убийца. Да поезжай не один. Как мне помнится, у нашего чересчур упитанного друга там где-то родственники живут. Не так ли, Кудрат? — обратился он к Сабирову. — Точно, — кивнул тот головой. — Брат жены там неподалеку. — Вот и навести вместе с Сашей шурина. Это ни у кого не вызовет подозрения. А по ходу твоей работы, Александр, думаю, наметятся пути розыска преступника. И, повторяю, начинай с больницы.Многое проясняется
Крупный районный центр Чаули располагался в живописных предгорьях. Воздух здесь был чист и прозрачен, жара заметно спала. Снежные вершины казались такими близкими, что появлялось ощущение, будто склоны гор начинаются в самом городе. Брат жены Сабирова — Камал Закиров — семидесятилетний мужчина с бородкой клинышком, улыбчатым лицом и румяными щечками выглядел гораздо моложе своих лет. Встретив приезжих, он прямо-таки щеголял перед ними восточным гостеприимством. Тут же зарезал барана, запахло перекаленным в казане маслом. Жена хозяина — полная, дородная женщина, — настрогав колечками лук и нарезав соломкой морковь, промывала рис. Сам хозяин, засучив рукава, готовился «колдовать» над пловом. А пока перед дорогими гостями поставили полные чайники, пиалушки, сладости, лепешки, кишмиш. Дом Закирова находился не в самом Чаули, а на центральной усадьбе овцеводческого совхоза «Маяк», откуда в город регулярно ходили автобусы. Это обстоятельство особенно обрадовало Петросова — можно было на время оставить свою машину, дать отдохнуть шоферу, так как дорога была нелегкой и долгой. Тем временем хозяин, пережарив лук и заложив в казан мясо, не переставал делиться с гостями здешними новостями. Весть о гильянской трагедии дошла сюда очень быстро. После чего безошибочно сработал «узун кулак» — в буквальном переводе «длинное ухо», а в переносном смысле — базарная молва. Какими только невероятными подробностями не успела обрасти эта весть. Но кое-что в рассказах Закирова Александра Николаевича заинтересовало. Оказывается, Камал-ака хорошознал преступника, так как являлся каким-то дальним родственником, и среди близких убийцы пользовался большим уважением и авторитетом. — Тулкун не успокоится, пока жену не добьет и еще кое-кому не отомстит, — уверенно заговорил Закиров, помешивая шумовкой в кипящем котле. — Это он и матери недавно сказал... — Как так? А нам говорили, что Каримов скрывается, — удивился словам шурина Сабиров. — Правильно говорили, только он хитрый, — неопределенно ответил тот. Петросов все время ждал, что хозяин хоть словом обмолвится о больнице, но тщетно. Уже переставший бурлить казан был плотно закрыт деревянной крышкой и жена Камала-ака выгребала из-под него часть углей. Сам хозяин вынес из дома бутылку коньяка и предложил гостям по случаю приезда выпить. После трапезы Камал-ака еще более разрумянился, стал разговорчивее. Александр Николаевич решил сам завести разговор на интересующую его тему. — Зуб мне не дает покоя, — пожаловался он. — Хочу завтра в город съездить в больницу. Закиров тотчас умолк, насторожился, даже перестал жевать. — Сейчас ты туда лучше не ходи, — посоветовал он. — Почему? — удивился Петросов. — Плохие люди там были. Из-за них-то и случилась беда в Гильяне. — Да объясни ты толком, — вмешался в разговор Сабиров. — Не хочу вспоминать об этом, — почему-то обозлился шурин. — Хочешь узнать — сам в прокуратуру иди, там все расскажут. «И как я раньше об этом не подумал, — упрекнул себя полковник. — Если Томич советовал начинать с больницы, это не значит, что именно туда нужно идти. Мечислав Карлович говорил, что там кого-то арестовали. Значит, в прокуратуре знают об этом во всех подробностях, да и в милиции тоже». Чтобы не тревожить хозяина, Петросов о больнице больше не заикался. Разговор теперь потек совершенно в ином русле. Говорили о делах житейских, о видах на урожай, о предстоящей окотной кампании, вспоминали о прошлом, попивая душистый кок-чай. Уже сгустились сумерки, в горах они наступают быстро. Хозяйка вынесла во двор переносную лампу. При ее свете и закончили трапезу. На следующее утро к началу рабочего дня Александр Николаевич уже был в прокуратуре Чаули. Представившись прокурору и предъявив удостоверение, он вкратце объяснил цель своего приезда. — Ну как же, — оживился его собеседник. — Прекрасно знаю это дело, оно изрядно нашумело. Одну минутку. — Прокурор снял телефонную трубку, набрал трехзначный номер. — Осип Маркович, — сказал он кому-то. — Зайди ко мне, пожалуйста. Через минуту в кабинет вошел черноволосый, подтянутый человек. — Слушаю вас, Петр Николаевич... — Прошу познакомиться, — обратился прокурор к Петросову, — следователь Осип Маркович Гримберг, который вел следствие по интересующему вас делу. А это товарищ из областного управления, — пояснил он вошедшему. — Будь добр, познакомь его с документами по больнице. — Слушаюсь, Петр Николаевич, — все также кратко отчеканил Гримберг. Поблагодарив прокурора, Александр Николаевич прошел в кабинет следователя. И тот сообщил ему то, о чем поленился поинтересоваться гильянский следователь. В чаулийской больнице длительное время группа врачей за крупные взятки оформляла пенсии по болезни или выписывала больничные листы совершенно здоровым людям, спекулировала дефицитными лекарствами. Шофер Тулкун Каримов, случайно узнав об этом от родственника, возмутился. О врачах-взяточниках он написал в районную газету, но его письмо почему-то оказалось в руках тех, о ком он сообщал. Тулкуну стали угрожать, увещевали его, что правды он все равно не добьется, а сам угодит за решетку. Но Каримов оставался непреклонен, обратился в милицию и прокуратуру. Данные, изложенные в его заявлениях, при проверке полностью подтвердились. Несколько месяцев пришлось Осипу Марковичу распутывать сложный клубок преступлений. Многие свидетели с неохотой давали показания, так как сами вручали врачам взятки и незаконно пользовались бюллетенями. Признавались только тогда, когда их припирали к стене неопровержимыми фактами, а их нужно было искать. В итоге один за другим все участники преступной группы были арестованы. И огромную помощь следствию оказал Тулкун Каримов. Гримберг знал о случившемся в Гильяне и кое-что выяснил о причинах, побудивших по сути дела честного человека совершить тягчайшее преступление. После ареста взяточников их родственники стали жестоко мстить Каримову, угрожали убийством, если он не откажется от своих показаний в суде. С помощью некоторых представителей духовенства они спекулировали на религиозных чувствах его родных, особенно матери. Обстановка в доме Каримовых стала невыносимой. В такое трудное время и познакомился Тулкун со своей будущей женой Халимой. А вскоре сыграли и свадьбу. Но угрозы не прекратились. Более того, теперь они градом посыпались и на головы родственников его молодой жены. В их травле принимали участие и некоторые руководящие работники органов здравоохранения района. Молодая женщина не выдержала такой массированной атаки злопыхателей, они вынудили ее уйти от мужа и вернуться в Гильян. Уже потом из разговора с людьми, бывшими на свадьбе Каримова, а затем и от него самого Петросов узнал все подробности и того злополучного вечера. Тулкун неоднократно приезжал в Гильян, умолял жену одуматься, не позорить его. Но в доме Халимы его встречали бранью, а иногда и побоями. А в последний раз над его унижениями смеялась даже Халима. Под влиянием этих обстоятельств Каримов и совершил преступление, о котором до сих пор с ужасом вспоминали гильянцы. Еще несколько раз Петросов встречался с Осипом Марковичем Гримбергом. Следователь все больше и больше нравился ему. Был он от природы добрым и веселым человеком. Не любил Гримберг говорить о трудных и сложных уголовных делах, которые приходилось ему расследовать, зато охотно вспоминал случаи, о которых можно было рассказывать с присущим ему юмором.
Курсанты полковой школы (слева направо) Юрий Горелик, ГУЛЬЯНЦ Армаис Григорьевич, Сергей Фёдорович ЧЕРНИКОВ. (Снимок 1936 г.).

Первый секретарь Янгиюльского райкома партии Исан Юсупович ЮСУПОВ (слева направо), председатель колхоза им. Ахунбабаева Наманганской области АБДУЛЛАЕВ, Армаис Григорьевич ГУЛЬЯНЦ, сотрудник НКВД по Янгиюльскому району, Хафиз КАМАЛОВ. (Снимок 1946 г.).

Первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан в 1954-1968 годах Михаил Дмитриевич БЕГЛОВ. (Снимок 1970 г.).
Александр Николаевич в свою очередь знакомил следователя с новыми фактами, связанными с гильянским делом. Анализируя все «за» и «против», и тот, и другой все чаще думали об одном: Каримова, ранее никогда не имевшего дела с правосудием и совершившего преступление в состоянии крайнего душевного потрясения, можно склонить к явке с повинной. — Вы хорошо знали Тулкуна, когда он еще не был преступником, — сказал Петросов однажды. — Он вам безусловно верит. А что, если составить на его имя письмо, подписанное вами. Объяснить в нем его положение, посоветовать не усугублять свою вину. — Я охотно это сделаю, — оживился Гримберг. — Но кто передаст письмо адресату? — Это моя забота, — ответил Александр Николаевич. — Есть одна идея.Явка с повинной
А идея эта пришла в голову Петросову в первый же день их приезда в Чаулийский район. Тогда из разговора с шуриным Сабирова он запомнил, что тот хорошо знаком с самыми близкими родственниками преступника, в том числе с его матерью. С тех пор мысль о возможности прибегнуть к помощи Камала-ака не покидала Александра Николаевича. Мало вероятно, что Тулкун, столько лет скрываясь, не поддерживает с матерью связь. Безусловно, она знает о месте его нахождения. В этом следователь был уверен. Именно через нее лучше всего переслать написанное следователем письмо, которое уже лежало в кармане Петросова. О ходе своей работы в Чаули Александр Николаевич в общих чертах рассказывал добродушному толстяку Кудрату, приехавшему с ним по совету Томича. Тот, в свою очередь, получил от родственника немало сведений, о которых Петросову было неизвестно. О том, например, что Тулкун раздобыл где-то пистолет, что он озлоблен и сейчас очень опасен. Часто меняет место жительства. — Пожалуй, настало время поговорить с твоим шурином откровенно, — сказал полковник. — Тем более что, на мой взгляд, он кое о чем уже догадывается. По крайней мере уверен, что приехали мы к нему неспроста. И разговор такой вскоре состоялся. Было это поздно вечером, когда домочадцы уже готовились ко сну. — Камал-ака, — начал Петросов, — человек вы умный, уважаемый не только в колхозе, но и в районе. Известна нам ваша честность и принципиальность. Поэтому я и решил поговорить с вами напрямик, вы должны понять меня. Закиров слушал молча, опустив глаза. — Как видно, вы уже догадываетесь, что приехали мы к вам отнюдь не в гости, хотя высоко оценили радушие и гостеприимство этого дома. Привело нас сюда известное гильянское дело. Каримов, совершивший тяжкое преступление, продолжает скрываться, грозит, как вы сами нам говорили, новыми убийствами. Этого не должно случиться. Камал-ака согласно кивнул головой. — Помнится, — продолжал Александр Николаевич, — вы в первый же день нашего приезда обмолвились, что Тулкун каким-то образом поддерживает связь с родственниками, в частности, с матерью. Откуда у вас такие сведения? — Сама Мухайе-биби говорила... — А не могли бы вы с ней поговорить еще, объяснить, что сын ее, скрываясь от правосудия, лишь усугубляет свое и без того нелегкое положение, что рано или поздно ему придется держать ответ за содеянное. И никакая конспирация его не спасет от ареста, это дело времени. Так пусть он будет благоразумным и сам явится с повинной. Для него это единственный, я подчеркиваю, единственный путь облегчить свою участь. Согласны ли вы нам в этом помочь? Закиров долго молчал, зажав в кулаке клинышек бородки. — Я могу поговорить с Мухайе-биби, — наконец негромко сказал он. — Только ничего из этого не выйдет. Она говорила, что Тулкун стал совсем злой. — Чтобы облегчить вашу миссию, — Петросов достал из грудного кармана пиджака конверт, — вот письмо. Его написал человек, которого Каримов хорошо знает и которому доверяет. Меня не интересует, по каким каналам оно будет отправлено. Важно, чтобы Тулкун его прочитал и сделал правильный вывод. — Хорошо, я попробую... С утра Камал-ака, хмурый, неразговорчивый, уехал на автобусе в город. Вернулся лишь к вечеру, заметно повеселевший. — Мухайе-биби взяла письмо, — сказал он в ответ на вопросительные взгляды. — Но она решать ничего не будет, посоветуется с родственниками. Только после этого даст мне ответ. — Большое вам спасибо, Камал-ака. — Петросов с чувством пожал Закирову руку. — Это уже победа... В томительном ожидании прошло несколько дней. Наконец после очередной поездки в Чаули Закиров сообщил: — Послание Тулкун уже получил и хочет лично поговорить с начальником, который мне его передал. Но при этом поставил условие: встреча может состояться только за городом в степи. Ты должен быть один и без оружия. «Осторожный малый, — подумал Александр Николаевич. — Ну что ж, в его положении это вполне естественно». И спросил: — Когда и где? — Завтра в полдень, в двадцати километрах от города по дороге на перевал. Справа там есть высокий холм. Ты его сразу увидишь, земля вокруг голая, солончаки... Машину оставишь в трех километрах от места встречи. Почти всю ночь Петросов не сомкнул глаз. Рядом на курпаче ворочался и кряхтел Кудрат, который тоже не спал, беспокоясь за друга. Оба понимали, что наступает самый ответственный момент в деле, ради которого они здесь. Лишь под утро глубокий сон свалил друзей. Когда они проснулись, заря уже подрумянила сахарные вершины гор. Было довольно прохладно. Сержант Костин хлопотал у машины, Камал-ака грузил в багажник канистру с бензином, его жена накрывала на стол. Умылись ледяной водой из медного кумгана, не спеша позавтракали — времени было еще достаточно. Наконец Петросов решительно поднялся. — Пора в путь, — произнес он, — и вслед за шофером направился к машине. Дорога на перевал все время круто забирала вверх, но на пятнадцатом километре вдруг неожиданно поползла в низину и вытянулась лентой. Полковник огляделся и лишний раз подивился предусмотрительности преступника. Действительно, лучшего места для встречи с глазу на глаз не придумаешь. Кругом была мертвая пустошь, которая просматривалась во всех направлениях. Александр Николаевич подал знак шоферу, и «Волга», свернув на обочину, остановилась. Дальше предстояло двигаться пешком. Вот и двадцатый километр, и холм справа от дороги. На вершине его стоял человек. Сдерживая волнение, Петросов быстрым шагом направился к нему. Каримов, а это был он, смерил незнакомца с головы до ног внимательным, настороженным взглядом. Правая рука его была в кармане широких брюк. Потом не менее внимательно он осмотрел окрестность и, видимо, успокоился. — Ну, здравствуй, начальник, — хриплым голосом проговорил он. — Прочел я письмо, которое вы моей матери подсунули. — Ну, и какой же будет на него ответ? — А никакого, — усмехнулся Тулкун. — Где вы раньше были, когда грозились убить меня, когда жену у мужа отняли, на весь район ославили? — Каримов скрипнул зубами, рука его, спрятанная в кармане, дернулась. Петросов насторожился. — Не бойся, не бойся, начальник, у меня на тебя зла нет. А вот с теми непременно рассчитаюсь. — Да, чисто по-человечески мне понятно, что тебя обидели, — проговорил Александр Николаевич. — Но это не дает права хвататься за нож, лишать жизни людей. Более тяжким преступлением может быть только измена Родине. А ты опять грозишь убийством. Неужели тебе не надоело так жить, Каримов? Ты же неглупый человек и знаешь, что рано или поздно, а скамьи подсудимых тебе все равно не миновать. А если сам явишься с повинной, возможно, это облегчит твою участь. Впрочем, в письме все написано. Видимо, тирада, которой Тулкун начал беседу, лишь была бравадой. Он сразу как-то сник, вытер левой рукой со лба испарину. — Ну хорошо, предположим приду к вам. А какая гарантия, что меня не поставят к стенке? — Никаких гарантий я тебе, разумеется, дать не могу. На это есть суд. Ты совершил особо тяжкое преступление и отвечать за него придется по всей строгости закона. — Это хорошо, начальник, что ты мне не врешь, — Тулкун помолчал, что-то обдумывая, потом продолжил. — Мне и самому осточертела такая цыганская жизнь, устал постоянно скитаться да прятаться. Я обдумаю твое предложение. Ответ получишь опять-таки через Камала-ака. — Когда? — Не спеши, не спеши, начальник. Не твоя жизнь поставлена на карту. Когда захочу, тогда и скажу. Может быть и скоро. А теперь иди, иди и не оглядывайся. Петросов медленно спустился с холма. Пройдя довольно значительное расстояние, он все же обернулся. Каримова на вершине уже не было. Как поведет он себя дальше? Найдет ли в себе мужество принять разумное решение? Этого полковник не знал. Однако события развивались стремительно. Уже к вечеру на другой день Камал-ака, побывав в Чаули, сообщил, что Тулкун у матери, там заночует, а утром будет здесь. К себе в управление Петросов возвращался с Каримовым. Еще одно успешно завершенное дело можно было записать в актив оперативно-розыскного отдела.Под личиной слуги аллаха
В тот вечер в кабинете полковника Петросова были лейтенанты Григорий Уткин и Махмуд Шукуров — оперуполномоченные оперативно-розыскного отдела Калькаузского района, где месяц тому назад было совершено тяжкое преступление. Дело было так. Юнус-ака и Матлюба-апа Ярматовы — жители кишлака Газель — возвращались с работы домой. Их внук, маленький Алишер, бежал впереди, весело размахивая хворостинкой. Вдруг он остановился. У поворота дороги, на обочине пыльного проселка, сидел человек. Коричневое лицо его было неподвижно, как маска. Козлиная бородка, окрашенная хной, едва прикрывала длинную жилистую шею. Из-за маленьких черных очков невозможно было определить — куда смотрит этот странный мужчина. Вид незнакомца испугал мальчика. — Здравствуйте, дядя, — робко проговорил Алишер. Незнакомец промолчал, словно не расслышав приветствия. — Здравствуйте, — уже громче повторил мальчик. И вновь — в ответ молчание. Алишер с недоумением посмотрел на подошедшего деда. Впервые он встречал взрослого человека, который не реагировал на приветствия. А может быть, он немой? — Нехорошо обижать мальчугана, — вступился за внука Юнуса-ака. — Ведь ты мусульманин... Вон и Коран у тебя в руках. Заповеди Аллаха помнишь, а вот о законах вежливости, видно, забыл. При этих словах лицо незнакомца передернулось. В бешенстве, оскалив крупные желтые зубы, он вскочил. — Ты, продавший душу неверным, ответишь за свои слова, — прохрипел он и нагнулся. Юнус-ака не успел опомниться, как в руках у незнакомца оказалась двустволка. — Что ты делаешь, мерзавец! — крикнула Матлюба-апа, бросаясь на помощь мужу. Грянул выстрел, и седая женщина, как подкошенная, рухнула на землю. Вторым зарядом был сражен наповал Ярматов. Спрятав в кустарнике ружье, убийца поспешно ушел в густые тугаи. В тот же день во все концы республики было передано срочное сообщение: «Вниманию всех управлений... Разыскивается особо опасный преступник Саид Алланазаров, больше известный под именем «мулла Саид». Примите самые решительные меры по его розыску и задержанию». «Муллу Саида» знали многие. Имя это было известно даже жителям соседних областей. Молодежь его просто-напросто боялась и избегала, а старикам он внушал благоговейный трепет, как «святой человек». Самозваный мулла не пропускал намазов, строго придерживался распорядка жизни, определенного священным писанием, одурачивал верующих предсказаниями, которые иногда по случайному стечению обстоятельств сбывались. Но главной статьей его доходов были... покойники. Нет, Саид не раскапывал могил и не грабил захоронений. За долгие годы «служения аллаху» Алланазаров изрядно поднаторел в религиозных обрядах, связанных с похоронами. Более всего на свете он любил считать деньги. В такие минуты его узкие, вечно бегающие настороженные глаза превращались в щелочки. В них отражалась целая гамма чувств: и алчность, и радость, и презрительная насмешка над одураченными людьми, которые зачастую отдавали «мулле» последние гроши. Но никто из верующих не видел этих наглых глаз. Саид всегда заботливо прятал их за стеклами черных очков. Да и сам он не хотел видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Его слепило яркое солнце, злил детский смех... С детства Алланазарову — сыну крупного бая — внушали презрение к труду. За свои 55 лет он не проработал ни дня. Закат его карьеры на «святой ниве» начался еще в кишлаке Коктюбе. Там «мулла» в припадке бешенства, забыв о своем «священном сане», зверски избил старика — местного жителя. Тот в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сообразив, что запахло привлечением к уголовной ответственности, преступник поспешил скрыться... Его розыск Александр Николаевич недавно поручил офицерам, которые находились сейчас в его кабинете. Месяц кропотливой работы с ее удачами и разочарованиями не прошел даром. Сегодня они докладывали Петросову о том, что поиск убийцы подходит к концу. Установлен новый район «деятельности» самозванца, который продолжает гипнотизировать легковерных людей своей «святостью». Лейтенант Уткин подошел к карте области: — Из опроса местных жителей большинство утверждало, что видели в компании священнослужителей человека, по приметам похожего на Алланазарова. Они разъезжают по кишлакам Чарыкского района, совершая погребальные обряды. Только что получены сведения, что преступник скрывается в районном центре, в сарае около мечети. Задерживать его туда отправились оперуполномоченные Александр Ким и Джура Хакимов. Александр Николаевич взглянул на часы. Было уже около девяти вечера. — Ну что ж, подождем, — сказал он, вздохнув. — Поработали вы отлично, если и задержание пройдет так, буду ходатайствовать перед начальством о вашем поощрении. А теперь, — повторил он, — подождем доклада из Чарыка. Как раз в это время Александр Ким и Джура Хакимов подъезжали к райцентру, где, по сведениям, скрывался убийца. Зимние ночи в Чарыке особенно темны. Низко стелется по мокрой земле туман, липкая, промозглая сырость заползает за воротник, тоскливо в это время на безлюдных улицах. Вот и небольшой глинобитный сарай, притулившийся к мечети. Оперативники скользнули к двери, прислушались. Из помещения не доносилось ни звука. — Спит, — еле слышно шепнул Джура. — Нужно брать... Александр согласно кивнул и растегнул кобуру. В тот же миг оба всей тяжестью навалились на дверь. Громко звякнул сорванный запор, на головы посыпались куски глины. Вспыхнул электрический фонарик, его узкий луч заскользил по стенам, выхватил из темноты лежащего в углу человека. Тот, отбросив грязное, ватное одеяло, попытался вскочить. Яркий сноп света ослепил его. Ведь на сей раз «мулла Саид» был без очков.Липовые проценты
Генерал внутренней службы Иркин Шукурович Якубов много повидал за долгие годы службы в правоохранительных органах, знал толк в оперативной работе, был неплохим организатором. Когда-то о его смелости при задержании особо опасных вооруженных преступников ходили легенды. Это с участием Якубова в середине тридцатых годов была разоблачена и с боем взята крупная банда убийц и налетчиков. Он участвовал также в ликвидации преступной группы некоего Морозова, члены которой, одетые в милицейскую форму, грабили и терроризировали мирных жителей. Якубова хвалили, повышали по службе, обильно сыпались награды. Словом, как говорится, прошел Иркин Шукурович «и огни, и воды», а вот с «медными трубами» произошла осечка. Есть категория людей, которым звон фанфар и хвалебные гимны чрезмерно кружат голову. Такие, как правило, не выдерживают «испытания славой», они начинают верить в свою непогрешимость, а чужие заслуги приписывать своему «руководящему гению». Так, к сожалению, случилось и с Якубовым. Уже будучи начальником областного управления внутренних дел, имея могущественных покровителей в вышестоящих инстанциях, генерал стал властным, грубым с подчиненными, нетерпимым к любым возражениям. Слово его считалось законом, предложения не обсуждались. В противном случае, строптивого ждали большие неприятности. Первая стычка Петросова с начальством произошла в самом начале организации оперативно-розыскной службы в управлении, когда он был еще майором. Александр Николаевич помнил о ней со всеми подробностями. Тогда, вызвав его в свой кабинет, генерал спросил: — Сколько у тебя розыскных дел в стадии разработки? — Пока шесть, — доложил Петросов. — И долго ты намерен с ними возиться? — Дела сильно запущены, товарищ генерал. До того, как они поступили к нам, розыск по ним долгие годы практически не велся. Моим сотрудникам приходится буквально добывать по крупицам массу дополнительных данных на преступников. У некоторых свидетелей многие факты за давностью лет истерлись в памяти. В показаниях они часто путаются, противоречат друг другу. — Закругляй работу и кончай с этими делами. — Каким образом, товарищ генерал? Якубов нервно забарабанил пальцами по столу. — Не мне тебя учить, как это делается, — сказал он наконец. — Потряси, к примеру, как следует тех самых забывчивых свидетелей, заставь их вспомнить все подробности, а для острастки отправь в каталажку. Пусть они посидят с недельку, ничего с ними не случится. А ты тем временем эти шесть дел оформишь, как завершенные. Отчитаемся по ним и в архив... Александр Николаевич не верил своим ушам. Вначале он подумал, что начальник управления решил над ним подшутить, но лицо у того было хмурым и серьезным. — Как же так, товарищ генерал? — Петросов даже охрип. — Невинных людей подвергать незаконному аресту? — Я же тебе сказал, через недельку мы их выпустим на все четыре стороны. Даже извиниться можем, — Якубов стал раздражаться. — Словом, делай, как сказано! — отрубил он. Александр Николаевич молчал, обдумывая положение. Выполнить приказ — значит совершить вопиющее беззаконие. Не выполнить — значит нажить себе лишние неприятности как раз в то время, когда его отдел только набирает силы, когда коллектив доверяет ему и поверил в себя. Идти на сделку с совестью по отношению к товарищам было бы предательством. Лишь минуту длились колебания, но об этом моменте Петросов потом не раз вспоминал со стыдом. Как он, чекист, пришедший в органы на смену погибшему брату, мог тогда колебаться? — Не могу, товарищ генерал, — сказал он, решительно тряхнув головой. — Приказа вашего выполнить не могу. Якубов резко ударил по столу ладонью. — Управлению требуются проценты раскрываемости преступлений, а не твое чистоплюйство! К тому же учти — проценты эти нужны там, — он многозначительно поднял указательный палец вверх. — Иди, майор, и подумай как следует. Не ты, так другие выполнят мой приказ. — Ни себе, ни своим людям сделать этого не позволю, — твердо ответил Петросов и поспешно вышел из кабинета. С того памятного разговора прошло немало времени. Работа шла успешно, были завершены и те шесть злополучных розыскных дел, о которых тогда шла речь. Казалось, что и генерал забыл об инциденте. По крайней мере Александру Николаевичу он о нем больше не напоминал. «Видно понял, что перегнул палку, — размышлял иногда на досуге Петросов. — Он же не новичок в органах, опыта ему в нашей работе не занимать...» Такие мысли пришли ему в голову и в то утро, когда он составлял сообщение об успешном завершении розыска и задержании особо опасного преступника Алланазарова по кличке «мулла Саид» и рапорт с ходатайством о поощрении участвовавших в этом деле сотрудников. Направляясь к начальнику управления, Петросов уже подходил к двери своего кабинета, когда на его столе вдруг раздался очень длинный и резкий телефонный звонок. Так обычно звонят по междугородной связи. Он поспешно вернулся, торопливо снял трубку. Смутное, недоброе предчувствие сжало сердце. Звонил из Актепе Кудрат Сабиров. Срывающимся на крик голосом он сообщил, что прошедшей ночью от сердечного приступа внезапно скончался их общий друг, чекист старой гвардии Мечислав Карлович Томич. Александр Николаевич с силой сжал телефонную трубку. Тугой комок подкатился к горлу, не давая выговорить ни слова в ответ. — Ты слышишь меня, Саша? — голос Кудрата был встревоженный. — Слышу, слышу, — еле выдавил из себя Петросов. — Когда похороны? — Через два дня. Я жду тебя... Нина-апа совсем плохая... Видно, тоже долго не протянет... — Я приеду, Кудрат... Обязательно приеду, жди... Александр Николаевич тяжело опустился на стул. Совсем недавно он слышал заразительный смех Томича, сам весело смеялся его шуткам над толстяком Сабировым. И вот старый наставник и друг ушел. Ушел туда, откуда не возвращаются... Так, в оцепенении, он просидел долго, пока опять не позвонили. — Я как раз собираюсь к вам, товарищ генерал, — сказал он в трубку. — Сию минуту буду. В кабинете Якубова были начальник отдела уголовного розыска полковник Крамаренко и секретарь парткома управления майор Газиев. Все трое что-то оживленно обсуждали, при появлении Петросова умолкли. — Пришел доложить вам, товарищ генерал, — с порога начал Александр Николаевич. — Особо опасный преступник Алланазаров сегодня ночью задержан в райцентре Чарык. Вот подробный отчет о проведенных перед этим оперативно-розыскных мероприятиях и мое ходатайство о поощрении сотрудников, которые этим делом занимались. — Не поощрять их надо, а наказывать, — вмешался в разговор Крамаренко. — Не понял вас, товарищ полковник, — вопросительно взглянул на него Петросов. — Объясните яснее... — Могу и яснее. Все эти ваши фокусы и, так называемые, психологические эксперименты, каковыми вы называете явки с повинной, не только не способствуют оперативному розыску преступников, но и расхолаживают сотрудников. Теперь они чувствуют себя этакими доморощенными Шерлоками Холмсами и даже позволяют себе вмешиваться в деятельность ОУР. — В чем это выражается? — Примеров предостаточно. Мы возбудили несколько уголовных дел, преподнесли вам преступников для розыска, что называется, на блюдечке — имена, отчества, фамилии и так далее. А ваши пинкертоны утверждают, по их данным, мало вероятно, что эти люди причастны к преступлениям, что нужно еще многое перепроверять. Значит мы по-вашему дурачки? — Окончательно решение о виновности или невиновности человека выносим не я и не мои сотрудники, — возмутился Петросов. — Для этого существует суд. Мы же, как впрочем и вы, обязаны предоставить следствию объективные оперативные данные, которые достаются этим самым пинкертонам, как вы их называете, ох как нелегко. И, конечно же, для этого требуется дополнительное время. На ваш взгляд получается, что упечь человека за решетку гораздо проще, чем скрупулезно и добросовестно разобраться в том или ином деле, зачастую очень сложном и запутанном. Я диаметрально противоположного мнения. Согласен, процент раскрываемости преступлений при этом несколько снижается. Но я против липовых процентов, против нашего мнимого благополучия, от которого могут пострадать невинные люди. — Не могу с тобой согласиться, Петросов, — подал голос генерал. — Своими действиями ты дискредитируешь работу уголовного розыска — главной нашей ударной силы. Виновен, не виновен — не твоего это ума дело. Сам же говоришь, что это выясняют следствие и суд. Твоя же обязанность — найти, задержать и доставить. Тогда и проценты будут, и поощрения, и награды. Крамаренко хорошо это усвоил, поэтому и приказания мои выполняет беспрекословно. — Слепо, хотите вы сказать? — Пусть даже и так, — отрезал Якубов. — Дисциплина для всех нас — закон... У тебя все? — Одна личная просьба, товарищ генерал. Разрешите на два дня съездить в Актепе. Можете потом их вычесть из моего трудового отпуска. Старый мой товарищ там умер, хочу попрощаться. — Сожалею, но ничего не получится, товарищ полковник, — поднялся из-за стола секретарь парткома. — Завтра внеочередное партийное собрание управления. Вам на нем нужно быть обязательно. — Ничего не могу поделать, — с деланным огорчением развел руками и Якубов. — Все свободны... Давно на душе Петросова не было так скверно. Теперь, когда сквозь его руки прошло множество уголовных дел, по которым его сотрудники и он сам вели розыск скрывающихся от правосудия преступников, Александр Николаевич убеждался, что «накручивание» липовых процентов в системе подразделений областного управления явление отнюдь не редкое и может стать системой, перейти в хроническую болезнь. Вот так, оказывается, почему с самого начала руководящие сотрудники уголовного розыска встретили в штыки идею создания самостоятельной, не подчиненной им оперативно-розыскной службы. Ведь в ОУР преступление считалось раскрытым, если преступник назван, хотя и не пойман. На него объявляется розыск, а дело списывается в архив. Основным показателем работы сотрудников ОРО является задержание правонарушителя. А если он окажется непричастным к преступлению? Значит и с папок, сданных в архив, работникам уголовного розыска придется стряхивать пыль, вновь они «повисают» у них на шее. Петросов понимал также, что погоню за дутыми процентами и другие нарушения законности одному ему не искоренить. Но ведь в коллективе, где он работает, подавляющее большинство — добросовестные, принципиальные и смелые сотрудники. Именно эти люди — его самая надежная опора. И, успокоившись, Петросов стал готовиться к предстоящему партсобранию. Небольшой зал заседаний управления в тот памятный день был переполнен. Здесь присутствовали все начальники городских и районных отделов внутренних дел области, руководители различных служб, представитель областного комитета партии Саттаров, областной прокурор Гринько. Все это говорило о серьезности повестки дня. Коммунисты должны были обсудить итоги работы управления за истекший год, вскрыть основные недостатки и упущения, дать принципиальную оценку деятельности руководства. По первому вопросу, как обычно, выступал генерал Якубов. Он охарактеризовал оперативную обстановку в области, как ставшую значительно благополучнее. Затем вкратце проанализировал работу каждой службы управления и, поминутно обращаясь к цифрам, подвел общий итог. — Поработали мы неплохо, — сказал в заключение генерал и посмотрел на сидевшего в президиуме представителя обкома. — Особенно высоких результатов добились работники уголовного розыска, значительно повысив процент раскрываемости преступлений. И эти проценты были бы еще выше, если бы их рост не тормозили сотрудники оперативно-розыскной службы, которой руководит коммунист Петросов. Пока не поздно, ему нужно сделать соответствующие выводы. Однако, товарищ Петросов, видимо, с этим не спешит. Вместо того, чтобы наводить порядок в своем отделе, он занимается критиканством, игнорирует распоряжение руководства, бездоказательно умаляет успехи уголовного розыска — лучшего нашего звена, товарищи. Думаю, что коммунисты этого отдела на сегодняшнем собрании выступят и дадут принципиальную оценку такой позиции. «Ловко придумано, — размышлял Александр Николаевич, слушая Якубова. — Хочет заранее заручиться поддержкой сотрудников ОУР, спустить собрание на тормозах, свести его к личному конфликту и уйти от основной темы. Ну что ж, поглядим...» Когда Якубов сошел с трибуны и занял свое место в президиуме, зал настороженно молчал. Раздавшиеся кое-где жидкие хлопки тут же смолкли, словно утонули в этой тишине, от которой генералу почему-то стало не по себе. Тяжелым взглядом он обвел присутствующих в зале и что-то сердито сказал сидевшему рядом Газиеву. Секретарь парткома торопливо поднялся. — Кто хочет выступить, товарищи? Смелее, не стесняйтесь, высказывайтесь откровенно... Газиев скороговоркой сыпал свои слова, а сам тем временем искал заранее подготовленный список выступающих в прениях. «И куда он мог запропаститься? Ведь только сейчас в руках его держал». Наконец злополучный список нашелся. Секретарь парткома облегченно воздохнул. — Итак, товарищи, — начал было он, — слово для выступления... — Но договорить ему не пришлось. — Разрешите вопрос к докладчику, — раздался вдруг голос из последних рядов. Газиев опешил и вопросительно взглянул на Якубова. — Пожалуйста, пожалуйста, — снисходительно улыбаясь, встрепенулся тот, хотя также был удивлен. — Слушаю вас... С места поднялась долговязая, на вид нескладная фигура человека в форме старшего лейтенанта милиции. — Кто такой? — не глядя на Газиева, сквозь зубы спросил Иркин Шукурович. — Не могу знать, товарищ генерал. Видно, из новеньких... — Ох, уж эти мне новенькие... — и уже в зал бросил, — так я внимательно слушаю вас, товарищ. Извините, не знаю вашего имени и должности... — Старший лейтенант Захидов Карим Раджабович, — по всей форме представился вставший. — Оперуполномоченный уголовного розыска Янгисайского горотдела. Начальник наш в отпуске, временно исполняю его обязанности. Я вот о чем, товарищ генерал, спросить хотел: вы говорили, что процент раскрываемости у нас по линии уголовного розыска возрос. А нельзя ли конкретнее? Как понимать это в количественном отношении? Тщательно готовился Якубов к этому партийному собранию. Казалось бы, предусмотрел все возможные варианты, которые могли возникнуть на нем. Но такой вопрос застал его врасплох. Вообще, он не был подготовлен к ответам ни на какие вопросы, потому что по опыту прошлых собраний был уверен, что их не будет, по крайней мере не должно быть. Почему же сегодняшнее пошло вдруг не по той проторенной колее? Это стало ясно с самого начала, когда из привычной схемы выпал такой немаловажный фактор, как «дружные аплодисменты». А вот теперь вопрос задали. Причем каверзный, заранее обдуманный, в чем Якубов ни на йоту не сомневался. Его хотят подсидеть, сбить с толку, осрамить перед высокими гостями. Ну нет! Не таков Иркин Шукурович, чтобы его голыми руками взять. А этого старшего лейтенанта запомнить надо. Хорошенько запомнить... Выигрывая время для обдумывания создавшегося положения, генерал перебирал на столе какие-то бумаги, делая вид, будто ищет в них ответ на заданный вопрос. В зале стояла такая тишина, что шелест листков был отчетливо слышен даже в последних рядах. Наконец Якубов оторвался от своего занятия и поднял голову. — Процент, товарищ, — начал он, — это можно сказать традиционное и наиболее емкое мерило нашей повседневной деятельности во всех сферах. Вы товарищ, э-э-э-э... — Захидов. — Да, да, товарищ Захидов. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Вы зря недоверчиво относитесь к этому показателю. Ну, а цифры, о которых вы изволили спрашивать, вот они, — генерал помахал перед собой какой-то бумагой. — Цифры эти знают те, кому положено знать общую сводку по управлению. Вы, товарищ, э-э-э-э... — Слово для выступления предоставляется, — начал Газиев, когда Якубов сел. Но он вновь не успел договорить. — Разрешите мне? — встал со своего места Александр Николаевич и, не дожидаясь ответа, направился к трибуне. Когда раскладывал перед собой небольшую стопку исписанных листков, руки его от волнения слегка подрагивали. — Товарищи коммунисты, — тихо начал он. — В своем докладе начальник управления бросил упрек в адрес оперативно-розыскного отдела. Я далек от мысли оправдываться, ибо действительно еще очень много в нашей службе недостатков и прежде всего не хватает нам той самой оперативности, на которую намекнул генерал. Но я никак не могу согласиться с его оценкой работы некоторых подразделений управления и, в частности, уголовного розыска. Этот отдел — наша главная ударная сила. Так говорил генерал Якубов, в этом убеждены все, в том числе и я. С такой высокой оценкой нельзя не согласиться. Огромный объем работ выполняют сотрудники ОУР. Мне это особенно хорошо известно, потому что по их материалам оперативно-розыскная служба ведет поиск скрывающихся от возмездия преступников. В прошлом году, например, более чем по двадцати уголовным делам, полученным из ОУР, розыск завершен успешно. В результате перед судом предстали и понесли наказание особо опасные преступники, убийцы, крупные расхитители государственной собственности, скрывавшиеся в самых различных уголках страны. Этот успех — наша общая заслуга. Но есть и оборотная сторона медали. Оценивая работу ОУР, начальник управления особо подчеркнул отрадный на его взгляд факт повышения процента раскрываемости преступлений. А откуда у нас этот прирост? Всегда ли его достигают честным путем? Вот об этом, и именно об этом, я буду говорить сегодня. Приведу несколько конкретных примеров. Однажды мы разыскивали некого Михаила Рогова, который, по данным ОУР, путем подкопа совершил крупную кражу ценностей из промтоварного магазина Чаварского района. Задержать преступника им тогда не удалось. После кропотливой работы, которая, заметьте, длилась не один месяц, нам удалось установить, что Рогов живет в одном из городов России. Там согласно санкции прокурора он был арестован и доставлен в Чавар. И что же выясняется? Задержанный выехал с семьей из этого района еще в 50-х годах, то есть за восемь лет до магазинной кражи, с места нового жительства никуда не отлучался, честно трудился на заводе. Сцену грабежа же, как выяснилось, ловко разыграли бывший завмаг и заведующий складом с целью скрыть большую недостачу дефицитных товаров, похищенных ими. Другой пример. У жительницы города Янгибалык Тургуновой обворовали квартиру. По этому факту ОУР возбудил уголовное дело на Ивана Тагиева, перепоручив его розыск нам, а преступление записал в свой актив, как раскрытое. Сотрудникам оперативно-розыскной службы найти Тагиева удалось в Дустлике. И опять-таки конфуз. Точно установлено, что Тагиев ни разу не бывал в Янгибалыке и даже не имел представления о существовании этого города. Был и такой безобразный случай: мы очень долго искали Петра Лушко, которого обвиняли в краже легковой автомашины. Нашли его аж на Сахалине, где он работал стропальщиком на рыболовецком сейнере. В день угона машины находился в плавании, далеко от родных берегов. Спрашиваю вас, товарищи коммунисты: что это, ошибка или преднамеренный обман, очковтирательство, погоня за дутыми процентами? А сколько времени и труда было затрачено на розыски таких «мифических» преступников. И каждый раз коллектив нашего отдела искренне радовался за конечный результат работы по этим «пустым делам», потому что не пострадали невинные люди от чьей-то преступной халатности, что их честное имя не было запятнано. В этом мы видим смысл своей работы. Якубов сидел в президиуме красный, как рак. Крамаренко, ерзая на стуле, подавал ему из зала какие-то знаки. Вся «королевская рать», занимавшая два первых ряда стульев, гудела, как растревоженный улей. — Это демагогия, — не выдержав напряжения, прикрикнул генерал на Петросова. — Подтасовка фактов! Клевета на коллектив! Прекращай это безобразие... — Пусть говорит, — раздались крики из зала. — Вас же не перебивали... — Собрания организовать не умеешь, — цыкнул Якубов на испуганного Газиева. — Почему заранее регламент не установил? — Упустил из виду, товарищ генерал... — Упустил из виду, — передразнил секретаря парткома начальник управления. Он злился еще и потому, что областной прокурор, до этого чего-то писавший, отложил в сторону авторучку и стал с интересом следить за происходящим. К нему присоединился и представитель обкома. Они о чем-то тихо переговаривались. «Черт меня дернул пригласить их на это собрание, — с досадой думал Якубов. — Но кто знал, что Петросов решится на такое? Впрочем, от него всего можно было ожидать. Но чтобы он завоевал явную симпатию аудитории — это уж слишком! Пора его приструнить. Да так, чтобы век помнил...» Тем временем Александр Николаевич продолжал говорить. Он уже справился с волнением, голос его окреп, даже зазвенел. — Есть и еще источники дутых процентов,определяющих мнимое благополучие работы управления. Это не раскрытие, а сокрытие преступлений. Случается, к сожалению, и такое. Особенно в некоторых райотделах на местах. Там мелкие кражи, например, стараются не регистрировать, дабы не возиться с их раскрытием. Таким образом, создается видимость «неуклонного снижения» преступности в районе, а в конечном счете и области в целом. При этом некоторые недобросовестные сотрудники вначале уговаривают потерпевших отказаться от своих заявлений, а если те противятся, то просто тянут время, пока просителям самим не надоест обивать пороги зданий отделов милиции. Петросова слушали с вниманием. Он говорил о нездоровых взаимоотношениях людей, сложившихся в ряде коллективов (в том числе и в аппарате управления), о невнимании, а то и явном пренебрежении к молодым сотрудникам со стороны начальников, словом, о том, что давно волновало многих. Когда он закончил выступление и возвращался на свое место, зал шумел. Здесь уже не было равнодушных. Одни дружески улыбались полковнику, другие враждебно посматривали в его сторону, а были и такие, которые жалели его, считая, что на сегодняшнем собрании он сам себе выкопал могилу. Слово «для справки» вновь взял Якубов. Назвал Петросова пасквилянтом, он опроверг все факты, приводимые им. Правда, оговорился при этом, что никто не застрахован от «отдельных упущений» в работе. Но Александра Николаевича неожиданно поддержали Саттаров из обкома и прокурор Гринько. Большое впечатление произвело на присутствующих и выступление начальника отдела службы подполковника Гурова, резко осудившего позицию руководства управления, которое совершенно нетерпимо к справедливой критике в свой адрес. — Полковник Петросов сказал то, о чем все мы знали, но до сих пор предпочитали помалкивать, потому что коммунист Якубов пренебрегает мнением коллектива, если оно противоречит его собственному. Единоналичие у нас стало единовластием, что всегда порождает угодничество и беспринципность, страх за собственную шкуру, стремление показать себя лучше, чем ты есть на самом деле. В этом весь корень зла, в этом главные причины и условия, способствующие очковтирательству, припискам в отчетности и другим грубым нарушениям законности... После этого выступления «по случаю позднего часа» собрание было прервано и перенесено на неопределенный срок. Два последующих дня в управлении было затишье. И Петросов сумел выкроить время для поездки в Актепе, чтобы проводить в последний путь Томича. Похоронили его под старым, развесистым платаном, что рос во дворе школы, в которой он работал в последние годы. Нина Борисовна не надолго пережила мужа. Она угасла через полгода, ушла из жизни тихо, как-то незаметно, никого не обременяя, как, впрочем, и жила. Только перед смертью сказала Кудрату: «Вот и увижусь я скоро со Славиком», — и лицо ее прояснилось. В такие минуты люди хотят быть суеверными. Кто осудит их за это? Ее могилка рядом с мужней. Позже на средства сельчан здесь был установлен скромный обелиск. А в тот день шел мелкий снег, и редкие снежинки, пробившись к земле сквозь ветви платана, тут же таяли на свежем могильном холмике, рассыпались каплями слезинок на резных махровых лепестках алых гвоздик — любимых цветах Мечислава Карловича. Жена Кудрата увела Нину Борисовну домой, а друзья еще долго стояли здесь молча, думая каждый о своем. — Жаль Аллаберген с Григорием не успели, — тихо сказал Кудрат. — Завтра, видно, приедут. Может, останешься еще на денек. — Никак не могу, дорогой, — вздохнул Петросов. — Трудные, брат, времена у меня сейчас. — Работы много? — Да и это тоже, — уклончиво ответил полковник. — А Аллабергену и Грише привет от меня передай и наилучшие пожелания. Как они там поживают? — На пенсии уже оба. В каждом письме и тебе приветы шлют. Ты бы хоть написал им, а то обижаются... Друзья снова замолчали. Этот разговор вновь перенес Александра Николаевича в далекое прошлое. Аллаберген Давлетов и Григорий Ляшко, как помнит читатель, также были учениками Томича, но по возрасту гораздо старше Александра Николаевича. Всего около года Петросов работал с ними в центральных органах внутренних дел, а потом оба были направлены в один из самых отдаленных и сложных в оперативном отношении пустынных районов края. И там один спас жизнь другому, там каракалпак Давлетов и украинец Ляшко стали побратимами. Было это так.Схватка в Кызылкумах
Удивительное это растение «куян суяк». Стебли его тонки, но так тверды, что с трудом поддаются даже лезвию острого ножа. Недаром на русский язык «куян суяк» переводится, как «заячья кость». Чабаны знают, что из стебля «куян суяк» получаются самые крепкие кнутовища и посохи, непременные атрибуты в долгой дороге. У Аллабергена Давлетова, тогдашнего начальника отдела милиции Шарийского района, и его друга начальника ОУР того же отдела Григория Ляшко с этим удивительным растением связаны воспоминания об одном из самых сложных дел, в котором им когда-либо приходилось участвовать. А началась эта история так... Самолет приземлился в крупном областном центре. Когда затих грохот мотора, капитан Давлетов вместе с группой пассажиров сошел по крутому трапу на бетонные плиты аэродрома. Впереди еще день отпуска, и Аллабергенов решил провести его в городе. Но отдохнуть не пришлось. У выхода из аэропорта он увидел старшего лейтенанта Ляшко. — Ты как здесь очутился, Гриша? Случилось что-нибудь? — Пойдем в машину, по дороге расскажу, — коротко бросил старший лейтенант, увлекая друга к стоящему неподалеку «газику». Пока ехали до райцентра, Давлетов узнал, что за последнюю неделю в районе было совершено около двадцати дерзких ограблений. Из различных магазинов похищено большое количество ценностей. Грабители действовали по ночам, одновременно несколькими группами. Причем орудовали нагло. Всякий раз после кражи на местах преступления они оставляли записки одного и того же содержания: «Не ищите, не найдете. А начальника милиции ждет смерть». Все кражи «по почерку» абсолютно одинаковые. Нет ни малейшего сомнения, что действовали одни и те же люди. После некоторого раздумья Аллаберген сказал: — Ты, Гриша, в первую очередь в архивах покопайся. Может быть, там похожий «почерк» объявится. — Уже копался, — обиделся Ляшко. — Ничего эти раскопки не дали. Решительно ничего, ни одной зацепки. Таких дерзких преступлений у нас сроду не было. — Ну что ж, как говорится, отрицательный результат — тоже результат. Значит у нас действуют залетные птицы, гастролеры. А незнакомый человек в таких населенных пунктах всегда бросается в глаза. Нужно сориентировать на это всех участковых... В тот же день на оперативном совещании был составлен подробный план по розыску преступников. Было решено взять под наблюдение всех незнакомых и подозрительных лиц как в самом райцентре, так и в его окрестностях. И хотя совещание это не обошлось без споров, все его участники сошлись в одном: за такой короткий срок воры не могли реализовать такое большое количество похищенных ценностей. Несомненно, награбленное где-то спрятано, и расставаться с ним преступники не пожелают. Значит искать их нужно здесь и нигде более. Уже на другой день в отдел поступили интересные сведения. В соседнем поселке в домах колхозников остановились приезжие. Назвали себя заготовителями. Приехали более недели тому назад, но пока ничего не заготовили. Ведут себя подозрительно, по ночам спят только во дворе, объясняя это наступившей жарой, хотя на улице была уже поздняя осень. Участковый Джаксыбай Бекметов доложил, что ему кажется очень подозрительным уединенный домик, с трех сторон окруженный густыми зарослями джугары, бурьяна и камыша. — С этого домика и начнем, — сказал Давлетов. Незадолго до рассвета оперативная группа подошла к усадьбе и рассредоточилась. Дом был окружен. На стук в дверь вышла сама хозяйка. — Милиция! — крикнула она, узнав Давлетова, и в ту же минуту резко звякнуло оконное стекло. Оттолкнув женщину, капитан рванулся внутрь помещения. Там было пусто. В разбитое окно дул ветер. С улицы послышался чей-то стон. Спрыгнуть с подоконника — дело одной минуты. Луч фонарика скользнул по кустам. На земле лежал сотрудник милиции, охранявший эту часть дома. Когда его привели в чувство, он рассказал, что видел, как из темноты прямо на него выпрыгнул здоровенный мужчина. Схватить его оказалось нелегко. Оглушив чем-то тяжелым милиционера, он скрылся в зарослях. Организованная тут же погоня успеха не принесла. Зато обыск, проведенный в доме, в какой-то мере вознаградил сотрудников милиции за эту неудачу. Вначале, правда, казалось, что и он ничего не даст. В комнате в беспорядке валялся лишь старый хлам, рваное тряпье. Грязные матрасы напоминали одеяние дервиша — на них не было живого места от разноцветных заплат. Но вот распороли один из них, и на пол посыпались рулоны добротного бархата и сверкающего глянцем хан-атласа. Так была найдена часть похищенных из магазинов ценностей. Не пришлось спрашивать у хозяйки и фамилии ее ночного гостя. В кармане пиджака, висевшего здесь же на стуле, обнаружили удостоверение на имя Курбана Бурханова с четкой его фотографией. Немало сюрпризов ожидало сотрудников милиции и в огороде. Под листьями тыквы лежали туго набитые крадеными вещами мешки. С помощью собравшихся у дома местных жителей прочесали посевы джугары и нашли еще несколько чемоданов с ценностями. Тем временем другая оперативная группа, которую возглавил старший лейтенант Ляшко, мобилизовав дружинников и активистов, надежно перекрыла пути, ведущие из райцентра и близлежащих поселков. Началась ликвидация всей банды. Задержали пароконную подводу, на которой пытались покинуть пределы района остальные преступники. Их оказалось более десяти человек. Не было среди них только главаря банды Бурханова по кличке «Курбан-бала». Приметы его сообщили всем чабанам, егерям и объездчикам. Снег выпал неожиданно. Зима в этом году была ранней и обещала быть суровой. Задули северные ветры. Холодные, пронзительные, они гнули к земле податливые тугаи, злобно шипели в сухом кустарнике и камышах, а в юрте старого Матрасула было тепло и уютно. В очаге ярким багрянцем тлел кизяк, пахло дымом и овечьей шерстью. Старик-чабан, изредка поглядывая на спящего у огня внука, с беспокойством прислушивался к непогоде. Вдруг он насторожился. Сквозь монотонный вой ветра до его обостренного слуха явственно донесся треск ломающихся сучьев. Кто-то, минуя тропу, продирался к его стоянке. Полог юрты откинулся и на пороге, почти полностью загородив проход, возникла фигура мужчины. Быстро оглядевшись и убедившись, что внутри, кроме старика и мальчика, никого нет, незнакомец шагнул к свету. Теперь Матрасул хорошо видел его лицо: крупное, скуластое, малиновое от загара. Тяжелые веки почти скрывали глаза. Чабан сразу узнал незваного гостя. В том, что перед ним бандит «Курбан-бала», он не сомневался. Вон и глубокий шрам на подбородке, о котором говорил ему пять дней назад начальник милиции. Да и другие приметы сходятся. У старика за долгие годы кочевой жизни и глаз стал зорким, и наблюдательность превосходной. — Что ты уставился на меня, как на шайтана? — наконец нарушил молчание пришелец, грея руки у очага. — Или забыл о законах гостеприимства? — он устало опустился на кошму. — Я новый работник лесхоза. Деньги собираю за саксаул. — В этом доме гостям всегда рады, — спокойно ответил Матрасули, подходя к внуку: — Эй, Урунбай, вставай! Поможешь мне барана зарезать. Гость с дороги устал, его накормить надо. Да оденься потеплее... Мальчик проснулся и спросонья долго не мог понять, чего от него хочет дед. Потом нехотя встал, оделся и они оба вышли во двор. Здесь, схватив мальчика за худенькое плечо, старик быстро зашептал: — Беги в милицию к начальнику. Скажи только: «пришел», они поймут. Беги быстрее... По взволнованному лицу деда Урунбай понял, что произошло нечто очень важное. Он молча шагнул в кусты и скрылся в них. — Где мальчишка? — подозрительно глядя на хозяина, спросил гость, когда тот с разделанной тушей барана вернулся в юрту. — За отарой присмотреть пошел, — в голосе Матрасула было безразличие, и это на какое-то время успокоило бандита. Но вот прошел час, уже поспела шурпа, и ее крепкий душистый запах заполнил юрту, а Урунбая все не было. Курбан забеспокоился. — Где твой щенок? — заорал он, подступая к Матрасулу. — Ты хочешь обмануть меня, старая лисица. Старик увидел, как рука гостя скользнула за голенище сапога. Он прижался к стене юрты, машинально шаря рукой по колючему войлоку, и вдруг нащупал за спиной свой старый пастуший посох. Когда-то еще в молодости, подражая старшим, молодой чабан вырезал его из старой твердой, как железо, ветви «куян суяка», и до сих пор он верно служил своему хозяину в его длинных переходах по необъятным степным просторам и пескам Кызылкумов. Вначале для него это была просто палка, которой можно было ради забавы сшибать с репейника взъерошенные колючками головки, потом палка в руках молодого мужчины превратилась в незаменимое орудие погонщика, затем стала посохом старика, его «третьей ногой», как сам любил говорить Матрасул. А в эту критическую минуту посох был в его руках единственным оружием. И когда «Курбан-бала» выхватил нож, старик с силой ударил бандита по руке. Голубоватое лезвие сверкнуло в воздухе, и, мягко подпрыгивая по кошме, нож отлетел в сторону. И как раз в эту минуту издалека донесся еле слышный собачий лай. С каждой минутой он приближался. Преступник бросился к выходу. Матрасул попытался задержать его, но был сбит с ног ударом огромного кулака. Сорвав со стены старую двухстволку хозяина и порыжевший патронташ, Бурханов исчез в полутьме наступающей ночи. Небольшой отряд, увязая в снегу и непрерывно петляя в зарослях, шел по следу бандита. Впереди, еле поспевая за рвущейся с поводка овчаркой, бежал проводник, старший сержант Санаев, за ним капитан Давлетов и старший лейтенант Ляшко, замыкал шествие старый Матрасул, ведя в поводу верблюда. Чабан оказался отличным следопытом, и без его помощи ищейка след бы в такую непогоду давно потеряла. Шли уже сутки. Начались пески Кызылкала. Выбившиеся из сил служебно-розыскная собака и ее проводник отстали, теперь была надежда только на Матрасула. К вечеру на перекрестке троп след Курбана исчез. Оставив на этом месте верблюда, старик повел сотрудников милиции по целине. У подножья огромного бархана решили передохнуть. И вдруг... — Костер, — хрипло выдохнул Ляшко, схватив за руку друга. И действительно, над вершиной бархана струился дымок. Забыв об усталости, люди поднялись и стали карабкаться по песчаному склону. Бандит не ожидал, что его преследователи так близко, он думал, что оторвался от них по крайней мере на два десятка километров. И все же был настороже, выбрав для привала вершину бархана. Отсюда он сразу же заметил фигуры, ползущие в его сторону, и залег за корявым стволом старого саксаула. — Заходи слева, — крикнул Григорию Аллаберген, а сам, рывком выдернув из кобуры пистолет, не таясь, пополз вперед. Расстояние между ним и преступником быстро сокращалось. Но тот разгадал маневр Давлетова и даже не смотрел в его сторону. Он ждал нападения с фланга и был готов к нему. Когда голова старшего лейтенанта появилась совсем близко из-за гребня, бандит вскинул ружье и стал тщательно целиться. В эти короткие секунды целая вереница мыслей промелькнула в голове Аллабергена. Он видел, что его боевой товарищ не подозревает, как близка сейчас от него смерть. Пристрелить бандита? Нет, его нужно взять обязательно живым. На многие еще вопросы следователя ему предстоит ответить. Но и медлить нельзя... Давлетов сжал обеими ладонями рукоятку пистолета, как когда-то учил его Томич, прицелился и плавно спустил крючок. Он увидел, как после выстрела бандит выронил ружье и судорожно схватился за пробитое пулей плечо. К нему уже во весь рост бежал Григорий. Капитан облегченно вздохнул и, набрав в ладонь снега, приложил его к разгоряченному лбу. Об этом случае написала районная газета, а затем и областная. По два экземпляра их Гриша Ляшко прислал Мечиславу Карловичу. В коротеньком письме пояснил, что второй экземпляр для «Саши-маленького», (так они называли когда-то Петросова) и очень просил не сообщать об этой посылке Аллабергену. «Он меня убьет, — писал Гриша. — Страшно боится, как бы вы не подумали, что он хвалится перед вами своим успехом». Вспомнив это письмо, Александр Николаевич грустно улыбнулся. Да, жаль, что не придется встретиться со старыми боевыми товарищами, с которыми начинали службу. И осталось их не так уж много. В тот же день, поздно вечером, простившись с друзьями, Петросов на попутной машине уехал домой...На озере «Камышовом»
Любое дело рождает своих мастеров. Люди эти беспредельно преданы своей работе, вкладывают в нее всего себя без остатка. Многие из таких специалистов становятся настоящими асами в той или иной сфере деятельности. О них гремит заслуженная слава, к ним идут за помощью, за советом. И вдвойне дорог, вдвойне уважаем такой человек, если широкая известность не кружит ему голову, если она — коварная искусительница — не убила в нем лучшие человеческие качества, а напротив, обострила их, наложила новые обязанности перед окружающими. Сравнительно молодая тогда еще оперативно-розыскная служба также имела своих талантливых представителей. Среди них Петросов особо выделял старшего оперуполномоченного Мамура Турсуновича Раджабова, который за три года сумел разыскать полторы сотни преступников, длительное время скрывавшихся от кары. Работал Раджабов в другом областном управлении, и его методы оперативного розыска живо интересовали Александра Николаевича. Впервые они встретились на слете отличников милиции в столице республики и, как обычно бывает среди людей увлеченных, сразу же нашли общий язык и вскоре подружились. И тот, и другой имели солидный опыт и свои «секреты» в розыскной работе. Посоветовавшись, решили обобщить все это, чтобы дать молодым, начинающим сотрудникам хотя бы приблизительную схему действий в том или ином случае. Ведь первый вопрос, возникающий перед оперативным работником, приступающим к выполнению задания, — это «с чего начинать?» Методы работы Раджабова и Петросова во многом были схожи. Начинали они розыск прежде всего с тщательного изучения личности преступника, его биографии, родственных связей (в том числе самых отдаленных), привычек и особенностей характера. Они штудировали личные дела разыскиваемых по месту их бывшей службы. Если же те были судимыми ранее, то очень много полезных сведений давали документы следствия, суда и исправительно-трудовых учреждений, вплоть до отпечатков пальцев и особых примет. Отличительной чертой Раджабова была его страсть к личному сыску, которому он придавал особое значение и которым владел мастерски. Он обладал счастливым талантом перевоплощения, отлично знал колхозную жизнь, труд земледельца и скотовода (ибо сам вырос в деревне), приобрел специальности каменщика и штукатура. Там, где это находил необходимым, мог сыграть роль дипломированного агронома или строительного рабочего — этакого разбитного шабашника, приехавшего на периферию «зашибить деньгу». И этот артистический талант не раз помогал оперативнику успешно завершать поиск. Некто Садык Ахмедов, очистив колхозную кассу и забрав крупную сумму денег, бежал из родного поселка. Из того же сейфа прихватил и паспорт кассира. Где вор скрывается — никто из тамошних его родственников, как выяснил Раджабов, действительно не имел представления. С ними осторожный преступник все связи оборвал. Зато было доподлинно известно, что его родная сестра живет в одном из колхозов соседней области. Может быть, там удастся напасть на след Ахмедова? Как говорится на Востоке: «За одну нитку потянешь — тысяча заплат упадет». Но как, и где ухватить эту нить? И вот Раджабов сидит в чайхане уже упомянутого колхоза. Трудно теперь его узнать. Старый пиджак с заплатами на локтях, такие же брюки, заправленные в рыжие стоптанные сапоги, на копне нечесаных волос еле держится засаленная тюбетейка. Даже старик-чайханщик, подавая новому гостю наполненный чайник, с подозрением оглядывает его и что-то бормочет себе под нос. Да и другие посетители с нескрываемым интересом разглядывают незнакомца. «Да, — думает Мамур, — видок у меня прямо чучелом в огород ставь. Кажется, переборщил я малость...» — Ты откуда же, сынок, будешь? — наконец не выдерживает любопытный чайханщик, ставя перед ним уже третий чайник. — Из города, ата. Говорят, здесь у вас многие колхозники новые дома строить собираются. А я в строительстве мастак, все, что хочешь, сделаю. И стены сложу, и крышу настелю по первому разряду. Это мне не впервой. Только таньгу гони... — и Раджабов многозначительно потер перед носом старика большим и указательным пальцами. — Не знаете, где можно подрядиться? Чайханщик задумчиво почесал бритый затылок. Загадочный посетитель теперь перестал быть для него загадкой. Шабашить в колхозы из города приезжают часто. И целыми бригадами, и в одиночку. — Строятся-то у нас многие, это верно, да только все хашаром*["3], с родственниками да соседями. Там вместо таньги плов да шурпа, — чайханщик пренебрежительно махнул рукой и состроил кислую физиономию. Видимо, и он к такому безденежному расчету относился с прохладцей. — Ты вот что, сынок, — продолжал он. — Иди-ка ты прямиком к Тахиру. Он тебе найдет дело. — А кто такой этот Тахир? — Тахир Абдукадыров — приемщик в заготзерне. Живет с матерью, сестрами да еще ребятишек полон двор. Жена его, как два года умерла. Теперь снова жениться решил. Дом новый строит для молодой. На той неделе искал людей глину месить, да кирпич формовать. Вроде бы пока никого не нашел. Вот ты и подрядись к нему.... — Как мне вас благодарить, ата? — прижимая руку к сердцу, рассыпался в благодарностях Раджабов. — Как только подработаю — с меня самый лучший шашлык из молодого барашка. — За что же, сынок? — За добрый совет, ата. Ведь я здесь впервые, никого не знаю. — Ну, это пустяки, — скромно потупился чайханщик. Не догадывался он, что его новый знакомый уже заранее знал о Тахире Абдукадырове, затеявшем новостройку, и самое главное, о том, что этот Тахир является ближайшим соседом сестры разыскиваемого преступника. А территория, на которой намечалось строительство нового дома, вплотную примыкала к ее участку. Самое подходящее место для наблюдения. Такая счастливая случайность обнадеживала, вселяла надежду на успех задуманного предприятия. Но с самого начала события развивались не так, как бы хотелось. Семейство Абдукадырова приняло чужака настороженно. Видимо, разбитной вид его и одежда не внушали доверия хозяевам. Короче говоря, в первый же день Раджабову в подряде отказали категорически. — Сразу видно, бывший уголовник, — услышал он, понуро уходя со двора. — Такой ограбит, а то еще, о аллах, убьет... Три дня Мамур слонялся по поселку, а ночью спал в развалинах старой мазанки, которую облюбовал на пустыре у глубокого оврага, сплошь заросшего кустами шиповника. Но, к счастью, это длилось недолго. Абдукадыровы так и не нашли себе работников среди местных жителей и решили все же рискнуть — нанять его. С раннего утра Раджабов, засучив брюки до колен, месил глину с соломой, формовал и раскладывал для сушки сырцовый кирпич, сносил готовый в штабель. Свой неизменный узелок, в котором всегда лежали пара вчерашних лепешек, с десяток конфет к чаю и заботливо завернутый в чистую тряпицу пистолет, он с деланной небрежностью вешал во дворе на сучок дерева. И все это время внимательно приглядывался к окружающим и слушал. К молчаливому и старательному работнику привыкли и перестали обращать на него внимание. Соседка часто заглядывала сюда, болтала с женщинами, но о своем брате Садыке, который так интересовал Мамура, не заикалась. Лишь однажды она упомянула о нем, сказав, что Садык что-то там натворил и сейчас не живет дома, что у него много друзей в Таджикистане, может быть, туда подался. Такой поворот дела несколько озадачил Раджабова. Он уже убедился, что здесь о месте нахождения преступника также не знают. Нужно было менять план действия. «Подожду еще день и возьму у хозяев расчет, — решил он. — Тем более что работа, на которую подрядился, подходит к концу». И тут опять-таки счастливая случайность вознаградила Мамура за терпение и выдержку. К соседям приехали гости — отец и сын, оба таджики. Хозяева тут же зарезали барана, приготовили традиционный плов, на который пригласили и Абдукадыровых. Узнав, что приезжие по специальности плотники, Тахир уговорил их задержаться на недельку и поработать (конечно же, за хорошую плату) на строительстве его дома. То обстоятельство, что гости из Таджикистана, сразу же насторожило Раджабова. Ведь об этой республике в связи с разыскиваемым Ахмедовым упоминала однажды его сестра. Он решил еще несколько дней выждать. Плотники оказались людьми трудолюбивыми, немногословными. На Мамура обращали мало внимания, к тому же с самого начала тот делал вид, что по-таджикски не понимает, поэтому между собой оба при нем разговаривали не таясь. — Говорят, брат нашей хозяйки по кривой дорожке пошел, — услышал Раджабов однажды обрывок разговора. — Вроде бы украл чего-то, а может и болтают люди зря. Но если правда, то не завидую я его родителям. Кривой линейкой прямую линию не начертишь. — Встретил я Садыка 1 мая в Душанбе, — отвечал сын. — Одет шикарно, во все новое, в лучших ресторанах гуляет, меня как богатый бек угощал. Видно, денег у него — куры не клюют. Говорил, что в поселке Обиклик обосновался, там и подружку себе подыскал, у нее и живет. И еще просил Садыком его не называть. Я, говорит, теперь Талат. — Да, не врут, видно, люди, — вздохнул старик, обтесывая топором бревно. — От своего имени просто так не отрекаются. В тот же вечер, взяв расчет у хозяина и угостив, как обещал, шашлыком чайханщика, Мамур, не дожидаясь утра, двинулся в путь. До шоссейной дороги, где курсировали рейсовые автобусы, было около тридцати километров, а попутных машин в такой поздний час ждать было бесполезно. К тому же начал моросить дождь, укатанный за день проселок, стоптанные сапоги скользили, увязая в грязи. Лишь к утру вконец уставший оперативник вышел на большак и сумел сесть в первый же междугородный автобус. Ему повезло — даже место свободное нашлось. Плюхнувшись на сиденье, Раджабов мгновенно заснул и проспал всю дорогу до областного центра. Оттуда позвонил в свое управление, доложил обстановку, высказал свои соображения и получил «добро». Обиклик, хотя и располагался он возле железной дороги, назвать оживленным было бы большим преувеличением. Жителей здесь было немного и, в большинстве своем, все старожилы, пожилые люди и старики, знавшие друг друга чуть ли не с детства. Молодежь, в чьих документах в графе «место рождения» указан был этот поселок городского типа, в большинстве своем уезжала в крупные промышленные города республики. Вначале на учебу, а потом и «навовсе», охотно «доверяя» пахать и холить колхозную землю «уважаемым предкам». Гости же здесь почти все «транзитные» и наезжали по случаю. С точки зрения Раджабова лучшего поселка нельзя было придумать. Здесь все на виду, любой приезжий тут же попадал в поле зрения. Поэтому не удивительно, что здешний участковый инспектор старший лейтенант Бекметов, едва взглянув на фотографию Ахмедова, не задумываясь, сказал: — Улица Бешарок, дом 12. Живет там тетушка Зайнаб Алиханова со взрослой дочерью. Сама работает сторожем на станции, но это, как все знают, для виду. Обе, мать и дочь, промышляют спекуляцией, скупают у колхозников разные продукты в зависимости от сезона и продают их в райцентре. Несколько раз мы уже предупреждали их, вроде бы сейчас поутихли. А этот, — он указал на снимок, — по слухам, дочкин жених Талат Гафуров. Приехал сюда недавно. Говорит, что в отпуск, поохотиться. Все вечера проводит на дальнем озере, «Камышовым» оно зовется. Дичи там действительно много. Документы его в порядке — сам проверял. — Плохо проверял, — досадливо поморщился Раджабов. — Вовсе не Талат это, а Садык, и не Гафуров, а Ахмедов, — ограбивший колхозную кассу. Может быть, поэтому и твои спекулянтки притихли — денег теперь у них хватает. Ну, да сейчас об этом говорить бесполезно, нужно действовать. Значит, говоришь, у него ружье имеется? Это усложняет дело... — Раджабов с минуту что-то обдумывал, потом спросил: — Рыба в озере водится? — А как же, — оживился участковый, — озерного карася уйма. Рыбешка небольшая, всего с ладонь, но вкусная. Есть рыба и покрупнее. Я сам, честно говоря, рыбак заядлый... — Ты мне снасти свои одолжи. Завтра утром пойду на озеро, хочу с охотником твоим повидаться. — Так, может быть, вместе махнем. У меня завтра выходной... — Тебе нельзя — Ахмедов твою личность хорошо знает. Увидит, сразу насторожится, ружье из рук не выпустит. А с таким бугаем шутки плохи. — Тогда учти, — предупредил нового друга Бекметов. — Охотится он большей частью на островке в южной части озера. Глубина по колено, так что не утонешь, шагай смело. А я, на всякий случай, поблизости буду, в крайнем случае подстрахую. Если спросит, скажи, что ты агроном новый. Здесь как раз ждут его приезда. Заря еще чуть теплилась синевой на горизонте, а Раджабов уже по-хозяйски расположился у воды на маленьком островке, поросшем по берегам кугой. С каждой минутой становилось светлее. Вот уже отчетливо стали видны силуэты поплавков, неподвижно лежащих на спокойной водной глади. Где-то рядом громко ударила по воде крупная рыба, над головой просвистели крылья. Утки снимались с ночевки и летели жировать на луга и посевы проса.
Председатель колхоза «Кизил Азамат» Кибрайского района Ташкентской области АЛМАТ ЭРМАТОВ (1898-1957 г.) с сыном Арифом. (Снимок 1950 г.).

Группа сотрудников оперативно-розыскного отдела УВД Ташоблисполкома. Справа пятый — А. Г. ГУЛЬЯНЦ. (Снимок 1966 г.).

Председатель колхоза им. Сталина Кибрайского района Ташкентской области А. САБИРОВ (второй справа) и А. Г. ГУЛЬЯНЦ. (Снимок 1964 г.).

Иван Ефремович ПИРАНОВ. Родной брат автора. (1926 г.).
Со стороны тропы послышался плеск воды и хруст камыша. Кто-то, не таясь, шел к острову. Вот человек выбрался на берег, сбросил рюкзак, огляделся. Заметив Раджабова, застыл как изваяние, пристально вглядываясь в силуэт незнакомца. Потом снял с плеча ружье и медленно направился к нему. Подойдя почти вплотную, остановился за спиной. — Ассалям алейкум, — Раджабов едва взглянул на пришельца и вновь уставился на поплавки. Но и этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы узнать в «охотнике» Садыка Ахмедова, по следу которого он шел вот уже около месяца. — Кто таков? — вместо приветствия спросил тот. — Сейчас рыбак, как видишь. Садык зло усмехнулся. — У муллы спросили: «Кто твой отец?» Он ответил: «Моя мать лошадь». Что-то я не встречал таких рыбаков раньше. — И не мудрено. Я только вчера утром к вам приехал, агрономом в колхозе работать буду. А сегодня вот решил порыбачить... Оба помолчали. Ахмедов решал, как ему быть. Не лучше ли с чужих глаз долой? Кто знает, что за человек этот рыбак? В то же время он слышал, что в поселке действительно ждут нового агронома. Так что вроде особых причин для беспокойства нет. Но постоянное ощущение опасности, боязнь разоблачения приучили его не доверять никому, быть всегда настороже. — Не клюет что-то, — сокрушенно вздохнув, нарушил молчание Раджабов. — Может, тебе повезет. А я перекушу да домой двинусь, — и он стал неторопливо развязывать свой узелок. Ахмедов также принес рюкзак и молча сел на него рядом. Ружья из рук он не выпускал. — Может, пропустим по маленькой за знакомство, — подмигнул ему Мамур, доставая бутылку водки. — Это можно, — оживился Садык. Он положил двухстволку на колени и протянул руку за стаканом. Момент был самый подходящий. Раджабов, нагнувшись, резко рванул ружье за стволы и швырнул его в воду. Но реакция Ахмедова была поразительной. Он тут же вскочил, словно подброшенный мощной пружиной, и вцепился противнику в горло. Сознание своей оплошности, бешеная ярость утроили его силы. Мамур безуспешно пытался достать пистолет из бокового кармана куртки. Клубок намертво сплетенных тел покатился по земле. Раджабов почувствовал, что слабеет. Пальцы преступника железным кольцом все туже сжимались вокруг его шеи. Собрав последние силы, он рывком повернулся на бок и ударил противника коленом в пах. Тот по-звериному зарычал, но хватку ослабил. Мамур вскочил на ноги и выхватил, наконец, пистолет. — Не стреляй, Раджабов — услышал он знакомый голос участкового Бекметова. — Теперь твоя рыбка с крючка не сорвется.* * *
Это лишь один эпизод из повседневных будней Мамура Раджабова. А сколько их еще было! Помнит оперативник, например, о том, как они с участковым уполномоченным Джумановым разыскали и задержали в песках Кызылкумов вооруженного преступника, лишившего жизни четырех человек. Тогда сотрудники милиции выступали в роли представителей областного центра, контролирующих ход стрижки овец. А задержали убийцу на самой дальней ферме, куда еле-еле добрались пешком. Случалось Раджабову перевоплощаться и в бывшего уголовника, только что освободившегося из мест заключения. Эта безупречно сыгранная им роль помогла однажды быстро напасть на след убийцы, которого безуспешно разыскивали четыре года. Петросов высоко оценил незаурядный талант своего коллеги. Не раз, разбирая с сотрудниками ту или иную сложную ситуацию, возникающую при розыске преступника, он на конкретных примерах ссылался на опыт Раджабова, на его решительные (иногда даже рискованные), но хорошо продуманные действия. И не слепому подражанию авторитету учил Александр Николаевич подчиненных. Он приучал их к работе творческой, заставляя логически мыслить и смело проявлять инициативу. ...Предложили генералу Якубову командировать Петросова для обмена опытом работы в один из центральных регионов России, где оперативно-розыскная служба, по имеющимся данным, также добилась ощутимых результатов. Якубов, как говорится, «принял установку к сведению», но командировку под всякими предлогами затягивал. И вряд ли бы она вообще состоялась, если бы об отделе Петросова не заговорили вновь в связи с розыскным делом, проходившем под кодовым названием «Гнездо филина».Гнездо филина
В отдел милиции крупного города области обратилась Ксения Рахимова. Она сообщила об исчезновении своей восьмилетней дочери Ирины. По ее словам, девочка пришла из школы, как обычно, вовремя. Пока мать накрывала на стол, чтобы ее накормить, та вышла погулять на улицу. С тех пор ее не видели. Вначале это заявление не вызвало особой тревоги. Мало ли где девочка-подросток могла задержаться. У нее было много подружек, а соблазнов в таком возрасте еще больше: здесь и кино, и аттракционы в парке, и передвижной зоосад, только что приехавший в город. Но предпринятые поиски в этом направлении оказались безрезультатными. Оповестили о случившемся все городские больницы, детские комнаты милиции, побывали в морге. И везде отрицательный ответ. Ира Рахимова как в воду канула. Через несколько дней, когда уже стало ясно, что этот случай выходит за рамки обычных, на пропавшую девочку было заведено розыскное дело, которое и легло на стол полковника Петросова. Одновременно к делу подключились наиболее опытные и энергичные сотрудники уголовного розыска во главе с начальником ОУР полковником Крамаренко. Александра Николаевича это обстоятельство и удивило, и обрадовало. Крамаренко, который всегда и во всем был солидарен с начальством (право́ оно или нет!), Крамаренко, который радовался любой неудаче оперативно-розыскного отдела! И вдруг впервые Петросов ощутил именно с его стороны дружеское участие, почувствовал локоть товарища, на который можно было, не задумываясь, опереться. Что это? Прозрение? Но об этом размышлять было некогда. Поиски пропавшей девочки продолжались. Версия за версией рождались и умирали, пока почти через месяц в канале, который рассекал город посредине и питал затем ледниковой водой поля окрестных колхозов, не обнаружили обезображенный труп Ирины. Мать опознала ее по одежде и ряду лишь ей известных примет. Судмедэкспертиза констатировала преступление на сексуальной почве, а затем убийство. Кто мог решиться на такое? О случившемся мгновенно узнали жители всего района, где проживала семья Рахимовых. Людей потрясло зверское убийство девочки, они справедливо требовали от сотрудников милиции принятия срочных мер по розыску преступника и публичного суда над ним. Ширился поток писем на эту тему в высшие органы республики. В эти напряженные дни, казалось, исчезли все разногласия между оперативно-розыскным отделом и уголовным розыском. Работали бок о бок, предельно выкладывались, не считаясь со временем. Сотрудники ОУР уже располагали рядом данных. Из опроса жителей близлежащих домов выяснилось, что в тот роковой день, когда пропала Ира, в подворотне дома Рахимовых трое молодых мужчин играли в карты. Среди них был и Петр Филин, постоянно живущий здесь вместе с сестрой. Одна из соседок рассказала, что видела, как на детской площадке Филин угощал девочку конфетами, а потом повел ее куда-то. Одет он был в клетчатую сорочку и серые хлопчатобумажные брюки. Настораживал и такой факт: после исчезновения Иры скрылся и Петр Филин. У сестры, в квартире, в которой был прописан, он больше не появлялся. Не видели его с тех пор и в механических мастерских, где он работал слесарем. Где теперь его искать? Так возникло это розыскное дело под названием «Гнездо филина», которое принял в свое производство отдел Александра Николаевича. Поиск Петра Филина Петросов поручил одному из лучших своих сотрудников — старшему лейтенанту милиции Ачилову. Вскоре тот уже располагал весьма подробными сведениями о подозреваемом. По месту работы Филин характеризовался отрицательно. Ежедневно пьянствовал, был замечен в употреблении наркотиков, в рабочее время организовывал азартные картежные игры на деньги. В столичном крупном жилом массиве он имел сожительницу, некую Юлию Сорокину, точный адрес которой и место службы были также установлены. По предложению Ачилова, Александр Николаевич обратился в отдел оперативной службы министерства с просьбой установить тщательное наблюдение за Сорокиной. Оба не сомневались, что та встречается с Филиным и в курсе его дальнейших намерений. С начальником этого отдела полковником Каримовым у Петросова были довольно сложные отношения. Выдвиженец генерала Якубова, он разделял и его мысли, и его методы руководства. «Якубов в миниатюре» называли его между собой рядовые сотрудники. И не мудрено, что к оперативно-розыскной службе и лично к Петросову он не питал особой симпатии. Выслушав просьбу Александра Николаевича, Каримов недовольно поморщился: — Опять ты, Петросов, мудришь. Мало тебе своих людей, что ли? На чужом горбу в передовые хочешь выехать. Нет у меня сейчас свободных сотрудников... Но когда присутствовавший при этом разговоре Ачилов не выдержал и напомнил, что дело «Гнездо филина» на контроле самого министра, засуетился. — Все, что от нас зависит, сделаем, — заверил Каримов. А в результате наружное наблюдение за Сорокиной было установлено формально и с опозданием на четыре дня. За это время, как выяснилось впоследствии, она дважды встречалась с Филиным, а в третий раз даже на глазах у тех, кому было поручено за ней наблюдать. Более того, когда Ачилов пригласил ее на беседу в кабинет, Сорокина, словно в насмешку, подробно описала ему их внешность. — Ваш приятель Филин подозревается в совершении тяжкого преступления, — сказал женщине оперативник. — Трагически погибла ни в чем не повинная девочка — единственный в семье ребенок. Каково сейчас ее родителям? Вы сами мать, должны это понять и помочь нам. Где сейчас скрывается Филин? — Я не знаю, — помолчав, ответила Сорокина. — Честное слово не знаю. В последнее время я его бояться стала. — Почему? — насторожился Ачилов. — Раз как-то шрам у него на плече заметила. Раньше его не было. Откуда, спрашиваю, он у тебя? А Петр усмехнулся и говорит: «Это мне Колька на память оставил, царствие ему небесное», — и зубами заскрипел. Страшно мне очень стало, когда глаза его в тот раз увидела... — А кто этот Колька, не знаете? — Ничего он больше о нем не говорил. Да я и не интересовалась. У них там своя компания. Пьют, анашу курят да в карты режутся. — И это все? — спросил Морев. — Мне почему-то кажется, что вы все время чего-то не договариваете. Причем, не договариваете главного. Или я ошибаюсь? Сорокина потупилась, потом, махнув рукой, быстро заговорила: — Нет, вы не ошиблись. Знаю я о смерти той девочки. Правда, Филин про нее другому рассказывал. Уверял, что во всем его приятели виноваты, а ему теперь отдуваться приходится. При последней встрече он мне свой паспорт и военный билет на хранение оставил. Сказал, что у него другие документы есть. Вчера должен был в Кустанай ехать. ...В тот же день оперативники милиции Казахстана получили все данные о Петре Филине и задание на его розыск и арест. Сорокина не солгала. Он был опознан и задержан в Кустанае с поддельными документами на имя Николая Кружилина. В ходе следствия, которое длилось около трех месяцев, вскрылось многое, что ранее было неизвестно. К убийству Иры Рахимовой, кроме Филина, были причастны еще двое его дружков, тунеядцев и завсегдатаев пивных. Бывший уголовник Николай Кружилин, паспорт которого обнаружили у преступника, в пьяной драке был убит Филиным (отсюда и шрам на его плече, о котором упоминала Сорокина). Труп с помощью тех же дружков убийца закопал в заброшенном гравийном карьере. Все преступники были полностью изобличены и предстали перед судом. Петра Филина приговорили к исключительной мере наказания — расстрелу. «Гнездо филина» получило широкую огласку. Ряд сотрудников управления, принимавших участие в раскрытии этого преступления, былинаграждены. Якубову вновь напомнили о необходимости командировать Петросова в центр для обмена опытом работы. Александр Николаевич получил команду готовиться к такой командировке.Не у дел
Памятное партийное собрание, проходившее в управлении не по привычному сценарию, заставило многих задуматься, со стороны критически взглянуть на себя и свою работу. Люди понимали, что такой принципиальный разговор должен был рано или поздно состояться, ибо видели — морально-психологический климат в коллективе накалился до предела. В народе говорят: «Без ветра листья не шелохнутся». Именно таким освежающим ветром было это последнее партсобрание, так и не доведенное до конца. Дуновение его почувствовали все без исключения. На одних он дохнул оттепелью, на других — зимней стужей. Большинство сотрудников уголовного розыска, воспитанных на славных боевых традициях чекистов, решительно потребовали от руководства своего отдела прекратить практику «приглаживания» отчетных данных взятыми с потолка цифрами, отказаться от манипуляций, ведущих к нарушению законности, наладить, наконец, по-настоящему деловые, творческие связи с оперативно-розыскной службой, а не искать в ее работе лишь ошибки. — Кто работает в оперативно-розыскном отделе? — спрашивали у Крамаренко сотрудники. И сами же отвечали: — Наши товарищи, вчерашние работники ОУР, которых мы хорошо знаем и которым всецело доверяем. По роду деятельности во всей системе МВД нет отделов более близких, чем наши. — Это не нам решать, — резонно отвечали ему. — Но вы же сами, товарищ полковник, прекрасно знаете, что отдел Петросова уже отлично зарекомендовал себя, как самостоятельная единица. И не палки от нее нам в колеса, а ощутимая помощь. Вспомните, сколько они преступников по нашим ориентировкам разыскали, сколько дел многолетней давности полностью закрыли. А у нас зачастую получается так: ошиблись розыскники или затянули поиск — бей их по головам на каждом совещании. А если ошиблись мы и, упаси бог, те же розыскники ошибку обнаружили — это опять-таки воспринимать склонны как их козни против нас, удар по нашему престижу, так сказать, подсиживание. Крамаренко в доверительных беседах с генералом информировал об этих «нездоровых настроениях», но чувствовалось, что убедительные доводы сотрудников и его задевали за живое. Особенно разительные перемены в его характере произошли уже после дела «Гнездо филина». Теперь Крамаренко уже не являлся к начальству просто так, без вызова. Даже избегал его, стараясь большую часть времени проводить в разъездах по области. К нему пришла, как он сам говорил, вторая молодость. Ну, а секретарь парткома Газиев был просто испуган. Принародно поднять голос против руководства — такое не укладывалось в его голове. Вот уже две недели генерал не вызывал к себе секретаря, и тот не знал, что ему делать. Газиев привык выполнять «установки», спущенные сверху, и буквально терялся, когда таких установок не получал. Мыслить же самостоятельно он давно разучился. И партийный секретарь решил на время заболеть. Якубов критические высказывания в свой адрес, прозвучавшие на собрании, воспринял и расценил однозначно. Он усмотрел в них лишь посягательство на свой личный авторитет и всю вину за случившееся взвалил на Петросова. Он, только он — смутьян, злопыхатель и демагог — виноват во всем. От таких нужно избавляться во что бы то ни стало. И все же, как ни бодрился генерал, он в последние дни все время испытывал смутное беспокойство. Ему с тревогой вспоминался недавний разговор с высокопоставленным приятелем из министерства. Обычно тот всегда поддерживал его, выполнял любую самую щекотливую просьбу не задумываясь, прав Якубов или нет. Телефонный звонок, и судьба неугодного сотрудника решена. Кто-то спроважен на пенсию, кто-то остался не у дел. А их жалобы путешествовали по кругу, и в конечном счете их рассматривал все тот же Якубов. На сей раз сетования генерала на «козни злопыхателей» и «главного смутьяна Петросова» его министерский друг пропустил мимо ушей, словно и не слышал их вовсе. Старательно избегая вопросительного взгляда своего собеседника, он сбивчиво заговорил о трудностях работы в аппарате, о том, что «чертовски устал и серьезно подумывает об отдыхе». В голосе его слышалась какая-то растерянность, чувствовалось, что говорит он совсем не то, о чем думает. Словом, от этого визита у Якубова остался лишь неприятный осадок и ничего более. Он подошел к окну, рывком отдернул тяжелую плюшевую штору. В кабинет брызнул сноп солнечных лучей. Секретарь доложила, что в приемной ждет полковник Петросов с планом предстоящей командировки. — Пусть войдет, — буркнул генерал, не оборачиваясь. Войдя в кабинет, Александр Николаевич доложил о цели своего визита. Якубов продолжал смотреть в окно, нервно барабаня пальцами по подоконнику. Потом круто повернулся и подошел к столу. Усаживаясь в кресло, сказал: — Командировка твоя меня не интересует. Не я ее выдумал, не мне о ней судить. Без меня решили, что опыт твой передовой, вот и передавай его кому хочешь. Он закурил, вновь встал, медленно пройдясь по широкой ковровой дорожке, вплотную подошел к Петросову, тяжелым взглядом окинул его с головы до ног. — Не круто ли забираешь, полковник? Так и шею свернуть недолго. — Я вас не понимаю, товарищ генерал... — Врешь Петросов. Все ты понимаешь! И не строй из себя святошу! Ты на кого замахиваешься? На меня, который тебя в люди вывел? Воистину дали ослу райхон*["4] понюхать, а он его съел. Якубов со злостью ввинтил в пепельницу недокуренную сигарету. — Учти, Петросов, твои фокусы на партсобрании дорого тебе обойдутся. Мы тебя выдвигали, мы тебя и задвинем. В порошок сотрем... — Кто это мы? — Потом узнаешь, — неопределенно ответил начальник управления. — Больше я тебя не задерживаю. Можешь отправляться в свою командировку. Якубов в бешенстве нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока в кабинет не вошла секретарша. — Крамаренко ко мне. — Он в отъезде. С утра выехал в Янгишахар. Ваш заместитель в курсе. — Черт знает что, — генерал стукнул по столу кулаком. — Тогда срочно вызовите Газиева. — Секретарь парткома уже второй день болен. Жена его звонила, сказала, что у мужа грипп. — Ладно иди, — устало вздохнул Якубов и задумался. — Что это значит? Почему Крамаренко вдруг воспылал любовью к разъездам. Да и Газиев заболел в самый неподходящий момент. Неужели поредела его «королевская рать»? Не может этого быть. Но как ни тешил он себя мыслью о том, что «петросовский бунт» — это всего лишь глас вопиющего в пустыне, настроение большинства коммунистов на последнем партийном собрании выбило его из привычной колеи. Нужно было на всякий случай заручиться солидной поддержкой. Поэтому все эти дни, находясь в разъездах по высоким инстанциям, он лишь на короткое время показался в управлении, полагаясь на своего нового заместителя Алексея Сергеевича Матвеева, назначенного на эту должность всего два месяца назад. И, видимо, просчитался. В работе управленческого механизма, так хорошо им отлаженного, Якубов впервые за многие годы уловил сбои. «Отпустил вожжи, — с досадой корил себя генерал. — И заместитель, кажется, пошел на поводу у смутьянов. Ну что ж, и на него управу найдем. Не таких обламывали». И в связи с этим вновь вспомнил Петросова. Когда-то их считали друзьями. И не ошибались. Дружба эта была действительно искренней. Познакомились они давно в бытность свою молодыми офицерами, полными энергии, смелых замыслов и радужных надежд. Якубов был смел в суждениях, честен и настойчив в достижении цели. Уже занимая довольно высокую должность, беспощадно боролся со всякого рода правонарушителями, не взирая на лица. Однажды в его поле зрения попала группа высокопоставленных дельцов, которая за крупные взятки позволяла ряду хозяйственников безнаказанно обманывать государство, совершать хищения, маскируя их подделкой документов и приписками в отчетах. Но покровители эти занимали столь высокие посты, что он не решился действовать самостоятельно и доложил обо всем в вышестоящие органы, коим подчинялся. И тут впервые обжегся. Доклад его очутился в руках именитых взяточников, которые были подлинне́е Якубовских. В тот раз он имел крупные неприятности, но на должности сумел удержаться. Может быть, именно этот эпизод и повлиял на его характер и всю дальнейшую деятельность. Вернее всего, именно тогда Якубов решил больше так не рисковать. А чтобы жить всегда спокойно, самому заручиться подобными покровителями, а не «катить на них бочку». Уже будучи начальником областного управления, он повел себя весьма рискованно. У него, как у ребенка зубы, начали «прорезаться» барские замашки. Вокруг Якубова закружились подозрительные личности, завмаги всех мастей, заведующие складами и оптовыми базами, словом, материально-ответственные «тузы». Его супруга стала появляться в людях в очень дорогих нарядах, блистая драгоценностями. Нет, Якубов не опускался до «левых денег». Но он охотно пользовался «любезностями», которые в простонародье называют «блатом». И, конечно же, со своей стороны также оказывал блатмейстерам кое-какие «любезности» в рамках условно дозволенного, живя по принципу: «ты — мне, я — тебе». Александр Николаевич не раз на правах старого друга старался предостеречь Якубова от опрометчивых поступков, говоря, что не к лицу в его положении поддерживать такие сомнительные знакомства, которые к добру не приведут. С тех пор для Якубова Петросов стал наипервейшим врагом.* * *
Командировка Петросова неожиданно затянулась на три недели. Поначалу гостя с Востока руководство министерства встретило радушно, предоставило для ознакомления массу интересных и поучительных материалов, старалось, как говорится, «показать товар лицом». И, действительно, там было чему поучиться. Но когда перед отъездом Петросов откровенно высказал свои соображения по поводу показухи и погони за липовыми процентами и рассказал о подобных случаях в своем управлении, отношение к нему резко изменилось. Провожали Александра Николаевича сухо и на прощание намекнули, что в ревизии своей деятельности здесь не нуждаются, как, впрочем, и в советах. А заведенный порядок всех вполне устраивает, и не заезжему коллеге его менять. Вернувшись домой, Александр Николаевич тут же засел за отчет о командировке. В нем он старался объективно осмыслить и оценить то, что увидел за эти три недели. Не сбрасывая со счетов солидный положительный опыт, накопленный его коллегами, Петросов резко критиковал их практику искусственного создания мнимого благополучия за счет, мягко выражаясь, пренебрежительного отношения к законам. Он с горечью признавал, что и в его управлении руководство зачастую поощряет, а иногда и прямо санкционирует подобные беззакония все с той же целью — выглядеть лучше, чем на самом деле. Александр Николаевич понимал, что такой отчет покоробит тех, от кого зависит дальнейшая его судьба в органах МВД, что рискует он собственным благополучием. А спустя месяц стало известно, что ОРО вливается в отдел уголовного розыска и перестает быть самостоятельной единицей. Это был удар, силу которого Александр Николаевич ощущал потом многие годы. На Востоке говорят: «Стоит чинаре свалиться — хватаются за топоры». В трудные для себя дни Петросов убедился в справедливости этой народной мудрости. Генерал Якубов торжествовал победу, начальник ОУР Крамаренко вновь стал завсегдатаем его кабинета, Газиев перестал болеть. Нескрываемым злорадством встречала Александра Николаевича вся «королевская рать», когда он появлялся в управлении. Петросов узнал, что письмо, отправленное им в центр, переслали в республиканское министерство, где его расценили как кляузу. Автору записки с ведома и одобрения Якубова решили в спешном порядке предоставить «почетную отставку», благо, что подходящий повод к тому был — Петросов механически «выпадал» из штата в связи с ликвидацией его отдела. А другой подходящей должности не нашлось. Итак, в верхах судьба Александра Николаевича была решена. Но не учли руководители министерства, а вместе с ними и генерал Якубов тех изменений, которые уже произошли в коллективе областного управления, в настроении людей. Основную массу сотрудников такое решение возмутило. Все отлично понимали, что это — расправа за критику. Коммунисты потребовали созвать внеочередное открытое партийное собрание. Обо всем случившемся подробно проинформировали обком. Дело принимало нежелательный для Якубова оборот. Не дожидаясь развития событий, он тут же предложил Петросову взять очередной отпуск, а после него возглавить отдел службы управления. Должность эта была далека от той оперативной работы, которую Александр Николаевич знал и любил, поэтому, прежде чем дать согласие занять ее, он решил подумать. Предложение же генерала об отпуске принял и спустя два дня укатил в Крым.Вынужденная отставка
Впервые на отчетно-выборном партийном собрании начальника управления не избрали в президиум. Его кандидатуру, предложенную секретарем парткома, отвели большинством голосов. Об этом Якубов не знал, так как запоздал на полчаса. Войдя в зал, он, как обычно, занял свое привычное место за кумачевым столом рядом с Газиевым. Тот не решился преподнести генералу горькую пилюлю и промолчал. Справедливость восстановил Матвеев. — Вас в президиум не выбирали, товарищ генерал. Это было сказано тихо, так что в зале вряд ли кто расслышал слова заместителя Якубова, разве что догадался. Но для него самого они прозвучали громом среди ясного неба. Побагровев как кумач, покрывающий стол президиума, он встал и с видом незаслуженно оскорбленного достоинства сел в зале на услужливо освобожденном кем-то из его «гвардии» стуле. В подобных ситуациях Якубов умел владеть собой. Этот счастливый дар многих иной раз вводил в заблуждение. Генерал казался спокойным, даже добродушным, но в душе бушевала буря и каждый нерв был напряжен до предела. Вот и сейчас, внешне оставаясь ко всему безразличным, он кипел яростью и клял себя за то, что вообще появился здесь. Проще было сказаться больным и избежать такого унижения, какого не испытывал давно. Но кто знал? Какой же теперь сюрприз готовят ему в этом зале? Неужели вновь заговорят о «липовых процентах»? Опасения Якубова на сей раз оказались напрасными. Отчет и выборы протекали по привычному руслу, только настрой собрания был совсем иным. Коммунисты выступали смело, давали принципиальную оценку деятельности парткома, а, вернее, его бездеятельности. И только в этой связи критиковали руководство управления. Как и следовало ожидать, Газиева при голосовании «прокатили на вороных». Избрали нового секретаря. Значительно обновился и состав бюро. «Погорел Газиев, — думал Якубов, возвращаясь с собрания домой. — Жаль, конечно, что такой козырь выпал из колоды. Но что поделаешь, выручать его было рискованно — не та атмосфера. Горлопанов уж слишком много развелось в управлении. Пусть пока покричат, потешатся. А мы тем временем в демократию поиграем, как говорится, перестроимся или точнее «перекуемся». Газиев же — пешка на шахматной доске. Ею можно в любую минуту пожертвовать». Дома, залпом опрокинув стакан коньяку, он окончательно успокоился. Однако неприятности на Якубова обрушились совсем с другой стороны, откуда их никто не ожидал. Генералу напомнили в обкоме и о нынешнем положении дел в управлении, о морально-психологическом климате в коллективе, о справедливых претензиях коммунистов к руководителю. А на очередном заседании бюро выступила второй секретарь обкома Зухра Кадыровна Ахунова. — Никто не умаляет ваших прежних заслуг, товарищ генерал, — обращаясь к Якубову, сказала она. — Мы о них помним и за это вам честь и хвала. Но с некоторых пор вы неузнаваемо изменились, стали властелином среди подчиненных и приспособленцем среди тех, от кого зависите. Отсюда все ваши беды: и беспринципность, и потеря авторитета, а в конечном счете — развал работы. Мы не раз предупреждали вас об этом, причем, щадя ваше самолюбие, говорили при закрытых дверях. Но вы не вняли добрым советам. Теперь мнение членов бюро однозначно: генерал Якубов больше не может (да и не имеет права) руководить областным управлением внутренних дел. Советуем вам написать соответствующее заявление и сегодня же передать дела своему заместителю, полковнику Матвееву. В вашем министерстве в курсе. Заявление с просьбой об отставке Якубов написал. Лицо его при этом было спокойным. Когда он ехал в обком на заседание бюро, то предусмотрел и такой факт. Но генерал никак не предполагал, что от него потребуют немедленной передачи дел. А ему нужно было время. По крайней мере день, чтобы позвонить куда следует и проинформировать кого следует о случившемся. А там найдут управу не только на обком. Когда генерал вернулся в управление, Алексей Сергеевич Матвеев ждал его в приемной. Он уже знал обо всем, что произошло, и получил приказ из министерства приступить к приему дел у Якубова и о результатах доложить. День клонился к вечеру, поэтому нужно было спешить. Однако начальник управления с ходу взял его под руку, провел в кабинет, демонстративно, почти силой усадил в свое кресло, сам сел напротив и, весело усмехнувшись, сказал: — Вот теперь все на своих местах. Ты не обижайся на меня, полковник, если что не так у нас с тобой было. А сейчас у меня к тебе, как говорится, последняя просьба. Сам видишь, расстроен я очень, чувствую себя разбитым. Прошу тебя, Алексей Сергеевич, давай эту «сдачу-передачу» отложим до завтра. Сегодня я заниматься этим физически не в состоянии. — Но я получил приказ министерства... — Не беспокойся. Я туда позвоню, они не будут возражать. По-человечески Якубова можно было понять, и Алексей Сергеевич согласился. Как только Матвеев ушел, генерал засел за «вертушку». Он лихорадочно набирал номер за номером, пытаясь связаться с теми, кто всегда ограждал его от неприятностей, кто своим властным жестом и многопудовым «должностным весом» топил ему неугодных, и при любых обстоятельствах помогал самому Якубову оставаться на плаву. Но на сей раз хорошо отлаженный «механизм прикрытия» почему-то не срабатывал. Тот, с кем генерал связывал главные надежды, в отъезде, а те, к кому он смог дозвониться, с первых же его слов в очень вежливой и завуалированной форме помочь ему отказались, сетуя на «крайнюю занятость» и плохое самочувствие. Кроме слов сочувствия, он ничего утешительного не услышал. Якубов с досады бросил на рычаги телефонную трубку и взглянул на часы. Шел третий час ночи. Он понял, что рассчитывать на помощь высоких покровителей уже бесполезно. «Ну что ж, — подумал генерал, — мудра восточная пословица: «Покинутого покойника укладывают в табут*["5] без слез». Утром хмурый и не выспавшийся он молча передал Матвееву ключи от сейфа и письменного стола. Уходя из кабинета, коротко бросил: — Сам разберешься, полковник. Что будет неясно — позвони. Помогу. С моей стороны бумажные формальности будут соблюдены... Обо всех происшедших в управлении событиях Петросов узнал, лишь вернувшись из отпуска. За это время он многое передумал. Ликвидацию оперативно-розыскного отдела, как самостоятельной единицы, он воспринял очень болезненно. И не столько потому, что служба эта была его любимым детищем и с ее упразднением он сам лишился должности. Он считал, что такая реорганизация — чья-то грубая ошибка, которая повредит общему делу. Ведь ОРО, имея в своем ведении так называемую разрешительную систему, связанную с пресечением незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатки и других запрещенных предметов, перечисленных в уголовном кодексе, контролировал деятельность охотничьих обществ, к сотрудникам отдела обращались за помощью, когда находили трупы неизвестных людей, личность которых требовалось установить. Розыскники брали на свои плечи нелегкий груз, который значительно облегчал труд сотрудников таких ключевых служб системы МВД, как отдел уголовного розыска и ОБХСС, позволял им после раскрытия того или иного преступления, когда преступника, совершившего его, задержать не удавалось, не отвлекаться на его поиски (иногда очень долгие), а браться за очередное «горящее» дело. Эти свои соображения Александр Николаевич еще перед отпуском изложил в письме, которое отослал... Он готовился принимать новый отдел, когда вдруг застарелая болезнь напомнила о себе во весь голос. После лежака на черноморском пляже он очутился на больничной койке.Раздумья и трудное решение
В тишине больничной палаты времени для размышлений у полковника Петросова было более чем достаточно. Он думал о предстоящей работе на новом месте, о своем письме, ответ на которое ждал, о своих задумках, которые не успел осуществить, о незавершенных розыскных делах. Полковника Матвеева — временно исполняющего обязанности Якубова, Александр Николаевич знал мало — тот совсем недавно пришел в управление. Петросову было известно только, что Алексей Сергеевич — кадровый партийный работник, направленный на службу в органы МВД обкомом партии. Поэтому он искренне удивился, увидев его однажды входящим в свою палату. После обмена обычными в таких случаях любезностями, вопросами о самочувствии и ничего не значащими фразами о погоде, Матвеев сказал: — Не удивляйтесь. Я пришел по поводу вашего письма в ЦК. Ведь вы туда писали, не так ли? — Да, я писал о том, что... — Содержание письма мне известно, — перебил Петросова его собеседник. — С ним меня ознакомили в министерстве. — Так я и знал, — сокрушенно вздохнул Александр Николаевич. — Опять этот «эпистолярный футбол». Объясните мне наконец: почему так получается? Почему письмо с жалобой на министерство попадает в это же самое министерство? И это не случайность, не чья-то ошибка! Это стало, если хотите знать, правилом! — Мне трудно ответить на этот вопрос, Александр Николаевич. — Но я обязан сообщить вам о реакции на это злополучное письмо. В новой должности вас не утвердили. Министр подписал приказ о вашем откомандировании в распоряжение отдела кадров. Поверьте, новость эта для меня тоже неожиданна и неприятна. В недоумении многие товарищи и у нас в управлении. Я сам пытался разобраться во всем случившемся, побывал в министерстве. Но там смотрят на меня, как на человека нового, еще не знающего ни людей, ни обстановки в подразделении. Вот почему, несмотря на вашу болезнь, я и решился сообщить вам обо всем. Считаю это своим человеческим долгом. — Вы бы очень обидели меня, Алексей Сергеевич, если бы, придя сюда, умолчали об этом. Ваш рассказ развязал мне руки. Около двух месяцев я ждал ответа, ничего не предпринимая. А стоячая вода протухает. Теперь я буду докладывать лично первому! — Это ваше право, Александр Николаевич. Только не наломайте дров. — И вы о том же, — саркастически усмехнулся Петросов. — Не надо! Не портите впечатления от нашей встречи. Я прекрасно знаю, о чем вы сейчас думаете. Да и не вы один. Многие меня часто спрашивают: «Чего ты добиваешься? Куда лезешь? Зачем ищешь на свою шею приключения?» Да поймите же, не ищу я их! — Александр Николаевич в сердцах стукнул кулаком о спинку кровати. Потом, спохватившись, взял себя в руки. — Мне будет очень жаль, если вы уйдете из управления, — сказал Матвеев, прощаясь с Петросовым. — Такого бойца, как вы, хотелось бы всегда иметь под рукой. — Боюсь, что вы переоцениваете мои способности, — устало махнул рукой Александр Николаевич. — Поживем — увидим...* * *
Когда Петросов выписался из больницы и впервые после столь долгого отсутствия появился в управлении, его ожидал вызов к министру. В обширной приемной, куда он через час явился, уже сидели человек десять. Но миловидная, средних лет женщина-секретарь в капитанских погонах войск внутренней службы коротко сказала: — Вас ждут, — и пропустила Александра Николаевича без очереди. — Прошу садиться, товарищ полковник, — кивнул Петросову министр, перебирая на столе ворох каких-то бумаг. — Мы разобрались в вашем деле. К сожалению, должен признаться, что меня ввели в заблуждение. Я даже не знал, что вы болели. Словом, приказ об откомандировании вас в распоряжение кадров отменен. Хочу предложить вам работу в аппарате министерства. Все это он произнес скороговоркой, не глядя собеседнику в глаза. В голосе министра слышалась досада. Уж больно редко ему приходилось признавать собственные ошибки. Петросов хорошо знал цену таким беседам и подобным предложениям. В таких случаях лестный пост в министерстве, нежданно-негаданное повышение по службе — мера вынужденная, давно придуманная для укрощения строптивых, а затем избавления от них, как говорится, «по-доброму», без шума. — Так как вы смотрите на мое предложение? — министр оторвался от бумаг и впервые пристально посмотрел на Александра Николаевича. Это был тяжелый, недобрый взгляд, позволивший Петросову окончательно отбросить все свои сомнения. — Благодарю за доверие, товарищ генерал. Но я действительно серьезно болен, и болезнь эта все чаще дает о себе знать. Как ни горько сознавать, но работать с полной отдачей я уже не смогу, а делать дело в полсилы не привык и не умею. Пора уходить на пенсию. — Это ваше твердое решение? Может быть, еще подумаете? — Нет, это решение твердое, товарищ генерал. Я все обдумал. — Ну что ж, не смею больше вас задерживать. Желаю всего доброго. — И министр вновь углубился в бумаги....Значит и жизни не было
За оформлением различных документов, как чисто служебных, так и пенсионных, за подтверждением всевозможных справок и снятием необходимых копий прошло около месяца. И вот наступил день, когда Александр Николаевич, проснувшись однажды утром, понял, что спешить ему отныне некуда, что ждут его утром лишь пижама да шлепанцы. Он лежал, глядя в потолок и прислушиваясь к звону посуды на кухне, где жена готовила завтрак. Она, как всегда, торопилась, боясь опоздать в школу, где преподавала географию. Уже давно Петросовы-старшие жили одни. Обе дочери выросли, обзавелись своими семьями, жили и работали в других городах. Они подарили бабушке и дедушке прекрасных внуков. Вспомнив о них, Александр Николаевич подумал, что неплохо было бы на это лето забрать детишек к себе. Теперь присмотреть за ними есть кому. В это утро за завтраком жена — Лаура Михайловна — сказала: — После болезни тебе, Александр, необходимо отдохнуть. Постарайся на время отвлечься, разбери свой домашний архив, приведи его в порядок. Ведь в нем вся твоя жизнь. Я убеждена: тебе полезно сейчас обернуться назад, оценить по достоинству свое прошлое. Ведь недаром же потрачены все эти годы? Сколько в них поучительного для тех, кто начинает жить. Уверена, что об этом стоит не только вспомнить, но и написать. Поначалу короткий разговор этот за яичницей и утренним кофе Александр Николаевич воспринял, как довольно неуклюжую попытку жены отвлечь его от грустных размышлений. К ее предложению он отнесся с недоверием. И за разборку бумаг в своем изрядно запущенном архиве взялся без особого энтузиазма, лишь бы убить время. Но вскоре работа эта увлекла его, а затем и целиком захватила. Петросов даже не предполагал, сколь интересными окажутся такие «раскопки», какую радость доставят ему драгоценные находки в бумажном кургане, сколько воспоминаний, и грустных, и радостных, навеют они. Разбирая пожелтевшие бумаги, листая блокноты с полустертым карандашным текстом, осторожно разворачивая хрупкие на сгибах вырезки из газет, Александр Николаевич день за днем восстанавливал в памяти события давно минувших лет. Как сквозь туман, с расплывчатых любительских фотографий на него смотрели дорогие лица товарищей, многих из которых не было уже в живых. А с тетрадных листков старых писем он вновь слышал их голоса. Именно в эти дни он особенно остро испытывал чувство неудовлетворенности. Вновь и вновь перед ним вставали мучительные вопросы: «А что я сам сделал?» Петросов усмехнулся. Когда-то много лет назад он уже слышал эту фразу. Вспомнилась давняя поездка в Хиву. Там старик рассказывал интересную восточную легенду. Когда-то давным-давно в Хорезм приехал чужестранец. Долго бродил он по улицам древнего города, любовался роскошью мечетей и величием стройных минаретов, а под вечер забрел на кладбище, оказался среди надгробий. На каждом была надпись, и странник стал вчитываться. Чем больше читал, тем все более удивлялся. «Здесь лежит Хасан-ибн-Хусейн, — значилось на одном из надгробий. — Прожил три года». «Под этим надгробным камнем покоится прах Ибрагима-ибн-Сагди — было начертано на другом. — Прожил пять лет». «Здесь похоронен Сервер-ибн-Сагдулла. Прожил один год»... В недоумении пожал плечами пришелец. Он оглянулся вокруг и заметил в тени старого развесистого карагача не менее древнего аксакала с посохом в руках. Тот безучастно сидел в этом городе мертвых. — Скажи мне, достопочтенный, — обратился к нему путник. — Что это, кладбище для младенцев? — Почему же? — вопросом на вопрос ответил старик. — Здесь похоронены люди в почтенном возрасте... — Но как же тогда верить надписям на их могилах? — Сразу видно, что ты чужеземец и не знаешь наших обычаев, — вздохнул старик и, тяжело опершись на посох, поднялся. — Пойдем... Он повел странника по кладбищу, то и дело останавливаясь у могильных холмиков. — Вот могила старого Рахматуллы-палвана, с которым я когда-то дружил в детстве. Неимоверной силой обладал этот человек, аллах его в этом не обидел. Таких с большой охотой брали в свою охрану баи и беки. Взяли и Рахматуллу. Он загордился, стал байским прихвостнем, бездельником и пьяницей. А годы шли, тяжела их поступь. Когда за ненадобностью его выгнали как престарелого пса камчой с байского двора, Рахматулла вспомнил вдруг об аллахе и стал работать в кузнице. Много дехканских коней подковал и арбы чинил не хуже заправского арбасаза. Два года простоял с молотом у наковальни. А значит два года и прожил. По добрым делам судят о человеке, добрыми делами оценивают его жизнь. Нет их — значит и жизни не было.* * *
Февраль выдался снежным, и даже в марте по утрам стояли необычные для этих мест холода. Весна запаздывала, но с каждым новым днем все чаще ощущалась ее теплое дыхание. Кое-где уже робко покрывались розовым цветом урючины, набухали почки на деревьях, чтобы в одну прекрасную ночь разом взорваться и ослепить проснувшихся по утру людей. Это здесь. На юге. А в Москве все еще буйствовала зима. Петросов, оставив на время домашний архив, побывал-таки в союзном министерстве, где он вновь возбудил вопрос о восстановлении в органах внутренних дел оперативно-розыскных отделов, как самостоятельных подразделений. В его подробной докладной записке теперь не было и следа личных обид и прежних переживаний. Были документы, факты, говорящие в пользу оперативно-розыскной службы, анализировались причины неудач и срывов в ее работе, обобщался накопленный опыт. «При тесном и деловом взаимодействии с ОУР и ОБХСС, — писал Петросов, — эта служба помимо всего прочего будет способствовать эффективному взаимоконтролю за строгим соблюдением социалистической законности. Вывести же ее из подчинения отдела уголовного розыска побуждают отнюдь не соображения престижности, а факты постоянного отвлечения розыскников от основной работы». Отстаивая свое мнение, Петросов не думал о себе. Он знал, что теперь уже не ему, а другим — более молодым, но не менее влюбленным в свое дело чекистам — предстоит совершенствовать и развивать далее оперативно-розыскную службу, что работать им будет легче, ибо к старым методам руководства, голому администрированию и очковтирательству возврата нет. В центре оценили богатый документальный материал о работе оперативно-розыскного отдела, представленный Петросовым, и предложили ему написать книгу воспоминаний, не зная, что работу над ней он уже начал. И, вернувшись домой, Александр Николаевич вновь засел за архив. Как-то по старой памяти к нему заглянул Виталий Иванович Месяцев. Он тоже был на пенсии и тоже ушел на отдых из отдела БХСС далеко не по своей воле. Удивили и огорчили Александра Николаевича вопросы старшего товарища. — Зачем ворошишь прошлое? — спрашивал он. — Чего этим добиваешься? Петросов ничего не ответил на это. Он подошел к окну и распахнул его настежь. Во дворе бушевал апрель. В накуренную комнату ворвался свежий ветер. Ветер больших перемен.1985-1990 гг.Ташкент.
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
Айван — крытый навес типа террасы. Ака — старший брат; почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту. Аллах-акбар — дословно «бог велик». Восклицание это соответствует русскому «боже мой». Арбасар — мастер по изготовлению арб — деревянных повозок с двумя неимоверно большими колесами, которые гнули из прочной древесины карагача. Дерево это иногда называют «среднеазиатским дубом». Самой распространенной в Туркестане была кокандская арба грузоподъемностью до 30 пудов. Арбы хивинская и дунганская (кульджинская) — значительно меньших размеров. Профессия арбасара очень ценилась на Востоке, а секреты их мастерства передавались от отца к сыну. Ата — отец; почтительное обращение к пожилому мужчине. Ашички — игра в кости, напоминающая русские бабки. Балахона — надстройка над домом. «Восточный бельведер». Байга — скачки. До революции богатые беки и баи состязались между собой в пышности организации подобных соревнований. Призы победителям были огромны. В своей книге «Туркестанский край» В. И. Масальский приводит такой пример: «В 1896 году на байге, устроенной в окрестностях Чимкента неким Султан-Беком на поминках своего отца, первый приз состоял из тысячи золотых рублей, пятидесяти верблюдов, двадцати лошадей и большого слитка китайского серебра («ямба»). В этих скачках на 50 верст приняло участие около ста всадников». Газават — так называемая «священная война» (джихад) против «неверных» с целью распространения силой оружия религии ислама. Под зеленым знаменем газавата орудовали самые реакционные силы, бесчинствовали в Туркестанском крае басмачи и религиозные фанатики, втягивая легковерных мусульман в братоубийственную войну. Ныне этой потрепанной зеленой тряпкой воинственно размахивают враги афганского народа — душманы, забыв об уроках истории. Дастархан — скатерть, уставленная яствами для трапезы. Иными словами, накрытый для еды стол. Дервиш — мусульманский странствующий монах. На Востоке лицо священное. Одеяние дервиша вошло в поговорку. Их плащи, обычно, сплошь состояли из разноцветных заплат. Дойра — узбекский и таджикский бубен. Дувал — глинобитный забор. Дутар — двухструнный национальный музыкальный инструмент. Зирвак — полуфабрикат для приготовления различных восточных блюд. В сильно перекаленном хлопковом масле пережаривают нарезанный тонкими колечками лук, кусочки мяса, морковь с добавкой специй. По желанию из такого зирвака можно приготовить плов, шурпу, шавлю, лагман, мампар и другие национальные блюда. Ичиги — мягкие сапоги из козлиной кожи без каблуков. Ичиги облегают обычно ногу, как чулки. Ичкари — на Востоке женская половина дома. Посторонним мужчинам вход в нее закрыт. Кабристон — «страна усопших», кладбище. Казан — чугунный котел. Камча — плеть типа нагайки Кизяк — высохший помет домашнего скота. Собирают такие сухие «лепешки» на пастбищах и заготавливают впрок, как прекрасное и экономичное топливо. Кок-чай — зеленый чай. Кумган — медный кувшин. Курбаши — предводитель басмаческой шайки. Курпача — узкий ватный матрасик. Ляган — большое блюдо (чаще из расписной керамики). Махаллу — городской квартал, квартальная община. Ранее такие кварталы строго разграничивали ремесленников по роду их занятий. Свои махалля имели жестянщики, оружейники, кузнецы и т. д. Каждая махалля имела своего выборного аксакала, который пользовался властью волостного управителя. Палас — тонкий ковер без ворса. Лучшими считались паласы бухарские с крупным рисунком белого, желтого и красного цветов. Особенно много их выделывали в кишлаках Шахризябского и Каршинского бекств. Райхон — очень пахучая ароматная трава (базилик). Силяу — взятка, подачка. Суфи — служитель мечети, призывающий верующих к молитве. Табут — носилки, на которых по восточным обычаям относят на кладбище покойников. Тар — струнно-ударный музыкальный инструмент. Хафиз — певец. Хирман — место складирования собранного хлопка-сырца. Чайрикер — безземельный дехканин, обычно из пришлых. Временно нанимался в работники к зажиточному земледельцу. Чачван — сетка, сотканная из черного конского волоса, которой женщины Востока покрывали свои лица. Шурпа — картофельный суп с мясом. Юзбаши — сотник.
ОБ АВТОРЕ
Армаис Григорьевич ГУЛЬЯНЦ родился в 1923 году в городе Самарканде. Ветеран органов внутренних дел, полковник внутренней службы в отставке. Трудовую деятельность начал в 1936 году наборщиком типографии. С 1940 года служил в органах внутренних дел. Вырос с оперуполномоченного НКВД до начальника оперативно-розыскного отдела областного управления внутренних дел. Имеет ряд правительственных наград.
Гулям Хамид Бессмертие
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В городе давно погасли огни, и кромешная тьма окутала его, каменный, большой, густо расползшийся по некогда пустым оврагам и берегам узких речек. Тихо перевалило за полночь… Ветер, шумевший целый день, угомонился. Проливной дождь, которого ждали и не могли дождаться все лето, быстро опрокинулся на пыльные улицы. Вероятно, ветер успел принести его. Махсудов, выйдя из кабинета на балкон — подышать дождем, опоздал немного — ливень иссякал. Но дышать стало легче. Городские дороги, дувалы — глиняные, потрескавшиеся от солнца заборы вокруг низких домов и тесных двориков, сами дома, деревья — час назад все это еще было одето пылью. Запах пыли за лето сделался самым привычным запахом, даже ночи пахли ею… А теперь все переменилось, забыто запахло зеленью, сам воздух промылся, стал невесомей, прохладней. Махсудов поднял голову — в надежде, что дождь еще разыграется или повторится. Пролетали капли, становясь мельче, превращаясь в россыпь. Звезд не было видно, — значит, облака завалили все небо. Еще к вечеру их ползучие караваны собрались над городом и, кажется, замерли, остановились, будто это был их караван-сарай. Тяжелые, перегруженные дождями, облака двигались медленно и обещали повисеть над бедным городом несколько дней, вдосталь напоить его сады и ручьи, наполнить арыки. Однако… Махсудов вернулся в кабинет и вскользь глянул на календарь, сделанный для стены, но лежащий у него на столе, под рукой — так удобней было следить за бегущим временем, записывать на шершавых листках, поверх чисел, дела на будущее. Одиннадцатое сентября двадцать третьего года. Да, ему запомнится этот день. И эта ночь… Целый город спокойно спит, а у него горит и горит лампа на столе, и сколько ей еще гореть? До утра? Надо бы сосредоточиться и думать о деле, а в голову лезут печальные и бесполезные мысли. Сколько бы ни светиться его лампе, этого крепкого и статного парня, учителя, поехавшего работать в Ходжикент, большой кишлак, раскинувшийся в предгорьях, уже не удастся увидеть живым и веселым. Меньше месяца прошло с того дня, когда они виделись единственный раз… Тогда, оставив свой кабинет в длинном здании ГПУ, Главного политического управления, ставшего центром борьбы с врагами новой власти, новой жизни на древней, исстрадавшейся земле, он сам отправился в педагогическое училище, как только из Комиссариата народного просвещения ему сообщили, что там нашелся девятнадцатилетний выпускник, который храбро согласился ехать в Ходжикент. Рослый парень, чем-то — это бросилось в глаза — похожий на родного сына Масуда, сложением и ловкостью которого любовались все, знакомые и незнакомые, представился: — Абиджан Ахмедов. — Ты знаешь, что твоего предшественника, первого учителя в Ходжикенте, несколько дней назад убили? — Да, мне сказали. — Кхм… хм… Я приехал предупредить тебя, что надо быть внимательней и осторожней… Обдумывать каждый свой шаг, каждое… — Я не боюсь. А кто его убил? — Пока я не могу ответить тебе. Мы еще не нашли… И найдем ли скоро — кто знает! Враги прячутся увертливо и хитро. Скрываются поглубже во тьму… — А мы действуем открыто, потому что приходим от имени народной победы! Так? Как бы враг ни старался, ему не повернуть жизни! Реки вспять не текут! — Это правильно, но… Надо быть умней врага! Вон ты какой видный и молодой! — он тогда и узнал, что Абиджану всего девятнадцать. — Я их не боюсь! — повторил Абиджан. И вот теперь на столе лежало донесение из Газалкента, районного центра, о том, что Абиджан Ахмедов убит. Тоже убит, как и первый учитель ходжикентской школы Абдулладжан Алиев, который закончил педагогическое училище на год раньше своего товарища, разделившего с ним такую зловещую судьбу. Учились, рвались к самостоятельной жизни и работе, а срок ее вышел вон какой — укороченный… И работы, и самостоятельной жизни… «Боже мой, ведь и месяца не прошло!» — глубоко вздохнул Махкам Махсудов, вспоминая о своей встрече с этим завидным молодцом, бывшим по существу мальчишкой. Наставить бы его получше, посерьезней! Но врагов словами не остановишь и тем более не поправишь ничего,уже не поправишь. Безжизненное тело Абиджана нашли у реки, за кишлачной мельницей, под ивой. Ударили его чем-то твердым по голове и, похоже, бросили в реку, но она недалеко унесла труп и оставила на прибрежной мели. Начальник районного ГПУ Алимджан Саттаров, байский батрак в недавнем прошлом, писал обо всем мелкой арабской вязью, подробно и вдвойне малограмотно, видимо от волнения, от беспокойства. Письмо пестрело ошибками. Что же дальше? Будет ли работать ходжикентская школа? Или лучше пока не нужно? Вот найдут убийц, тогда… Уже — не убийцу, а убийц! Махсудов скрипнул зубами. Таких два преступления в одном кишлаке, за один месяц! Два страшных убийства, можно сказать, на глазах у людей — и почти никаких следов! Первый учитель, открывший ходжикентскую школу, Абдулладжан Алиев, был убит в саду возле школы, ночью, неожиданным выстрелом из маузера. Тогда Махсудов сразу поехал в Ходжикент. Этот старый кишлак давно и далеко знаменит своими пятью чинарами. И в самом деле, они были сказочно огромными, с толстенными стволищами, похожими на колонны, — в одиночку и четверти такого ствола не обхватишь. Неоглядные чинары! А под ними булькают родники. Мир и благодать… За чинарами, на взбегающем круто склоне, укрылась могила, в которой покоился какой-то неизвестный святой. Может быть, в ней никто и не покоился, но слава могилы, якобы исцеляющей от всех напастей и хворей, привлекала, притягивала к себе тысячи верующих, больных и здоровых. На изрядно натоптанной тропе отпечатались не столько набожность, сколько годы и безгласные беды окрестных крестьян. Тропа тянулась среди каменных глыб, в беспорядке наваленных щедрой природой вокруг. Людей, несущих сюда свои жалобы на судьбу и здоровье, было столько, что тропа, собственно, стала уже узкой улицей. Святое место! А на ветвях чинар висели лоскуты разноцветных тряпок, рога баранов и коз, керамические сосуды и еще всякая всячина, которой поклонники и просители отмечали свое присутствие здесь. Но если бы только этим! Под чинарой, на одной из плоских каменных глыб, завернувшись в бежевый чекмень, с громадной чалмой на голове, как птица, сидел старый ишан и неторопливо перебирал четки. Непрестанно и молча. Он будто бы охранял тряпки и рога, но Махсудов отлично понимал, что куда больше, чем эти знаки паломничества, ишана занимали подношения — жирные, специально откормленные для этого бараны и пернатые, а также — шелестящие червонцы. Дары! Чем они были крупнее, тем сильнее разрастались и надежды просящих. А ишан перебирал свои четки, прикрыв глаза… — Как его зовут? — Салахитдин-ишан. Много было вокруг — и в зеленых долинах, и в песчаных пустынях — таких вот ишанов, шейхов и святых мест! Учителей мало… Ходжикентская школа занимала байские дома, к которым и шли Махсудов и Саттаров, оставив своих лошадей у сельсовета. Саттаров сказал, что сад, убегающий в обе стороны и к горам, с яблонями и виноградниками, принадлежал самому богатому человеку в кишлаке Нарходжабаю и конфискован в пользу народа. Но бедняки еще не рисковали проникать в байские постройки с внутренними и внешними дворами, которые виднелись за дувалом, хотя уже не первый год под солнцем, каждый день выплывающим из-за гор и повисающим над ними в своем ослепительном сиянии, утверждалась новая жизнь. Земли бая, протянувшиеся от районного центра — Газалкента — до кишлака Юсупхана, изрезанные многими дорогами и арыками — канавами для воды, распределили между бедными крестьянами, и они сразу начали обрабатывать их, пошли в поля, вскинув на плечи кетмени. Еще бы! Земля — это хлеб. Теперь вот объединились в товарищество, чтобы помогать друг другу… А байские дома и сад были пока полузаброшенными, ждали своего часа. Приехал первый учитель — здесь и открылась школа. Но… Внешний двор байского поместья прилегал к улице, отделившись от нее высоким дувалом. Входили во двор через большие инкрустированные ворота. Уже они сразу свидетельствовали о байском богатстве, а значит, и величии. Много и долго потрудились для этого чьи-то искусные руки, изготовившие ворота и покрывшие их тончайшими, ажурными узорами, изящными украшениями. Красивые ворота… Ну что ж! Теперь они вели в школу. Да школа затихла, словно вымерла… В глубине двора высилась двухэтажная мехманхона, гостиная, еще недавно шумевшая пышными пиршествами. По кишлачным масштабам — вполне можно сказать — дворец. По бокам от нее — конюшни и хлева для скота, вместительные, — видать, немало было у Нарходжабая и скакунов и коров. Сейчас во «дворце» разместилась контора товарищества, но это лишь на словах, в ней — пусто, все — на полях, там и управляются с канцелярскими делами, к которым ни у кого не было особого вкуса. Внутренний двор тоже хранил следы недавнего благополучия и благоденствия Нарходжабая. Во всех четырех углах этого двора виднелись четыре зданьица, очень похожих друг на друга размерами и архитектурой: в каждом по одной-две комнаты с верандой. Здесь когда-то — теперь уже когда-то! — жили четыре «законные», если судить по еще гласно и негласно чтимому шариату, жены бая… Новая власть наступала и отменяла законы шариата, пыталась их переделать… По словам Саттарова, старшая жена бая, Фатима-биби, еще и сейчас ютилась здесь, в садовом доме, густо и старательно укрытом яблонями, вон там, выходит, за дувалом внутреннего двора. Бай бросил ее, куда ей было деваться? В тоскливом одиночестве готовилась встретить подступающую старость мать байского сына Шерходжи и дочери Дильдор… Правда, дочь еще оставалась с ней, но надолго ли хватит ее терпения? Дочь росла капризной, пристрастилась к забавам, а здесь стало вон как тихо и скучно… Молоденькая, ей тесны не только двор и сад, но и сам Ходжикент, ее манит другая жизнь, и кажется, что она, эта жизнь, тем прекрасней, чем дальше отсюда… Байская дочка всем сама говорит об этом, она не только шаловлива и капризна, но и дерзка… — А сын? — спросил Махкам. — Честолюбивая сволочь, — ответил Саттаров. — Бывало, не подступишься… — Где он, Шерходжа? — В Ходжикенте его давно никто не видел. Исчез, отсюда, слава аллаху, сразу вслед за баем… — Ну, а где сам Нарходжабай? Что о нем слышно? — Разное… То одно долетит, то другое. Живет, как перекати-поле! — Поточнее, Алимджан! Прошу. — Сюда, в Ходжикент, бай не заглядывает. Это точно. Проверяли… Чаще всего бывает у третьей, самой любимой жены Суюн-беке, поселившейся в доме байского приказчика в Газалкенте. Есть у него еще жена Тамара, татарка, дочь купца Габдуллы. Этот Габдулла вел торговлю во многих крупных городах, а после революции, когда конфисковали его миллионы в банках, бежал с женой в Турцию, оставив Нарходжабаю дочь-красавицу вместе с ташкентской усадьбой. Так что у бая имеется еще добротный городской дом, где обитает Тамара. Бай ее изредка навещает… — А четвертая жена? — Карима? О, эта здесь, в кишлаке! — Ну, а к ней бай заглядывает? — Нет, нет! Не заглядывает, да и не может! — Почему? — Карима стала женой Исака-аксакала, председателя Ходжикентского сельсовета. Исак не нарадуется! Получил свое счастье! — Что значит получил? Ему отдали младшую байскую жену, как конфискованное имущество? — Да нет же… Тут старая история, давняя любовь… В свое время им помешали бай и отец Каримы, а теперь… — Значит, забыл о ней старый Нарходжа? — В самом начале приезжал, пытался отобрать ее у Исака, как-то даже увез, но Исак быстро вернул жену… — Отнимал — вернул, — проворчал Махсудов, понимая, что под этими словами лежали запутанные отношения, которые вряд ли имели связь с делом об убийстве учителя. Кто его застрелил? Можно было подозревать честолюбивого Шерходжу, байского сынка. Но Саттаров повторил, что и след его простыл давным-давно. Можно самого бая!.. — Но его как раз в тот вечер видели на свадьбе у знакомого в Газалкенте, — сказал Саттаров. — Никуда не уходил, даже на пять — десять минут не отлучался… Гулял! Свидетелей — сколько хочешь! — А еще есть какие-нибудь подозрения? — Мельник Кабул… — На чем это основано? — Ни на чем, — мрачно отозвался Саттаров. — Оснований у меня никаких… Просто хитрая бестия, с языка мед течет, а нутро… Старый байский дружок и прислужник, частый гость у ишана… И какие-то внутренние догадки есть… Не он, так кто же еще? — Этого мало. Они приблизились к месту преступления. — Труп нашли на веранде, — сказал Саттаров и показал, на какой, протянув в ее сторону свою камчу — плетку, которую не выпускал из рук. — Абдулладжан, очевидно, не спал, когда… — Это случилось ночью? — Да… Обычно Абдулладжан устраивался спать на веранде, один. Вот его постель, даже не убирали… Убийца перелез через дувал, в том месте, — и Саттаров ткнул плеткой в угол двора, где росло разветвленное тутовое дерево. — Там дувал осыпался, есть такой вот след… Похоже, вооруженный тихонько подошел поближе к веранде, где был Абдулладжан… Может быть, учитель еще читал — лампа стояла на веранде… Может быть, заметил силуэт подкрадывающегося человека, поднялся, подшагнул к краю веранды… Тогда тот отступил, захоронился за дерево, за тутовник, и выстрелил оттуда… — И выстрелил, — повторил Махсудов. — Там нашли гильзу… По этой гильзе и установили, что убийца был вооружен маузером. Сейчас пыльный тутовник, растопырив ветки, стыдливо бросал жалкую тень в сторону от дома, вдоль дувала… — Абдулладжан упал на самый край веранды, свесив с нее руку. Так и лежал, когда мы подошли. Щупленький, маленький… Окровавленный… Открыв резную дверь, вошли в полутемную комнату. В ней стояли парты, на стене перед ними висела черная доска, тронутая мелом. С потолка свисала керосиновая лампа, прикрытая новым красным абажуром, в нишах аккуратными рядками теснились книги. Вот и все оружие, бывшее у учителя, — мел и книги… — Калитку в дувале он закрывал на задвижку, — сказал Саттаров, — она была закрыта, когда мы пришли. — Задвижка — не маузер… Не стреляет. — Что же, вооружать учителей? Махсудов не ответил. Следили за ишаном, за Кабулом-мельником, за старшей женой бая — все зря. Ничего это не дало. Ничегошеньки. Два дня Махсудов обдумывал ситуацию… Враги не имели каких-то особых притязаний к Абдулладжану. Он приехал учить кишлачных детей и этим подписал себе смертный приговор. Так что? Так вот что главное — школа должна работать. Занятия в ней будут ответным ударом, самым сильным ударом по врагу! Он хочет нас испугать, надо показать ему, что мы не из трусливых… — Пришлем нового учителя, — пообещал Махсудов. Саттаров обрадовался: — Чем скорей, тем лучше! А то дети испугаются, перестанут ходить в школу, да и родители перестанут их пускать… И вот второго учителя свалила в Ходжикенте вражья рука. На этот раз вооруженная не маузером, а камнем, Другая рука? Быстро промелькнули перед глазами Махсудова толстые стволы чинар с зеленой тьмой наверху, каменные утесы на горном склоне вокруг могилы святого, строптивая река, ныряющая под мельничные колеса. Шум ее будто донесся до ташкентского кабинета, повеяло прохладным речным ветром… Это неплотно прикрытая балконная дверь отъехала и пропустила юркий сквознячок, ночную свежесть. А река все шумела… Или тополя у балкона? Махкам встал, чтобы закрыть дверь, но едва взялся за нее, как все начало переворачиваться, закружилась голова, он едва удержался на ногах. Постояв, понял, что это безопасно. Это от смертельной усталости и долгих бессонных ночей, которым не было счета. А приди сейчас домой, сна все равно не дождешься — будут Ходжикент, чинары, Абиджан… Махсудов рванул дверь на себя и, снова оказавшись на балконе, облокотился о перила. Стареешь ты, брат, сказал он самому себе. Был бы помоложе, сейчас, не медля, помчался бы в Ходжикент и утром вышел в знакомый двор, чтобы огласить кишлачную окраину школьным звонком, созвал бы детей, посадил их за парты, сам встал у доски! Вот о чем он думал подспудно все это время, каждую минуту. Как только он прочитал письмо Саттарова, полное каракулей и ошибок, так в голове проснулся и остановился вопрос, на который не было ответа: кого послать теперь? Собой он распорядиться мог, сам и правда поехал бы, но как послать другого, пока не раскрыто преступление, не найдены убийцы? А посылать придется молодого, юного, просто не было еще учителей постарше. Куда посылать? На смерть? Полукруглый диск луны выплыл из-за облака и осветил макушки тополей, а через миг в черном бездонном небе замерцали звезды. Вот тебе и долгий дождь, обещанный облаками! Был он коротким, пролился сразу весь без остатка, как и жизнь этих юношей, посланных в Ходжикент. Тяжелые облака, казавшиеся неподвижными, на самом деле были летучими, унеслись на невидимых крыльях, не удержишь, но вместо пыли оставили на листве свои живительные капли. Все же оставили! Райхоны, разросшиеся во дворе, самые пахучие цветы на свете, от которых пьянеет человек, после дождя, в чистоте промытого воздуха, напоминали о себе, совсем уж не скупясь и дурманя… Ни Абдулладжан, ни Абиджан, наверно любившие этот запах с детства, больше не услышат, как пахнут райхоны… Кого послать в Ходжикент вслед за ними и вместо них? На столе, в черной большой коробке телефона, второй раз сипло затрещал звонок. Махсудов заспешил на его зов. Поздний час, однако. Кто-то еще не спал, кому он требовался? — Здравствуйте, товарищ Махсудов, — услышал он и по голосу сразу же узнал говорившего. — Здравствуйте, товарищ Икрамов. Это был ответственный секретарь ЦК компартии Туркестана. Молодой голос его звучал приглушенно и расстроенно: — Я по поводу Ходжикента. Что будем делать, Махкам-ака? И Махсудов хотел в ответ спросить: «Вы уже знаете?» — но сам звонок партийного руководителя края показывал, что он уже все знал, ему доложили о втором убийстве партработники Газалкентского района, и Махсудов ничего не сказал. Он не отвечал, а Икрамов не торопил. Молчание затянулось. — Думаю, — наконец сказал Махсудов. — Пока не знаю… — Это хорошо, — неожиданно отозвался Икрамов. — Я прошу вас: никаких торопливых, неосмотрительных решений, подстегнутых пылкими эмоциями. Все продумать как следует, все до последних мелочей, и тогда… А мнение самих районных и сельсоветских товарищей? — Спрашивают, может, подождать с занятиями в школе? — Нет, — услышал он зазвеневший твердый и непреклонный голос. — Дети должны знать, что учителя нельзя убить. Учитель бессмертен, потому что учитель — это… сама жизнь! Вы понимаете? — Да, я понимаю… Когда Икрамов прервал речь, чтобы поискать необходимые слова, то действительно нашел их. Очень понятные: сама жизнь. Учитель — это жизнь. А два учителя — убиты: выстрел, камень… Как это жестоко и несправедливо! Какая беспощадная злоба — против чего? Против жизни! Не будет вам никакой пощады, убийцы! Мы найдем вас! А пока… — Товарищ Икрамов! Я уверен в одном, что новый учитель в Ходжикенте должен быть вооружен. Раз. Еще лучше, если мы пошлем на это место нашего опытного работника, который сможет одновременно и преподавать… — Два, — сказал Икрамов. — Поддерживаю. — Но имени я пока назвать не могу. Не готов… — Позвоните мне через полчаса, через час. — Будете у себя? — Я как раз пишу статью об учителе. Ленин был учителем… Ну, жду. Махкам положил трубку, дал отбой ручкой телефонного аппарата и опять пожалел, что он не молод, как, например, Акмаль Икрамов. Ответственному секретарю Туркестанского ЦК не исполнилось двадцати шести. Революция — подвиг молодых, а уж все дела первых после нее лет мирной жизни тем более требуют молодого плеча там и тут… А твоя жизнь, Махкам, это — 1905-й, железнодорожные мастерские, долгие партизанские годы, борьба с басмачами — памятные ступени на пути к ней, к новой жизни. Седина одела твою крупную голову, все казалось, что ранняя, а нет, в самую пору. И хоть ты побрил свою голову наголо, из ненависти к седине, все равно… Вон у сына, Масуда, — буйные черные кудри, угольные волосы над высоким лбом… Сын Масуд… Теперь только его имя, только он и были на уме. Пришлось даже губу прикусить, размышляя о нем. Мысль о сыне была остра, как алмазное лезвие… Масуд окончил педагогическое училище еще на год раньше Абдулладжана и проработал этот год в школе имени Фароби. Затем начали набирать лучших людей на работу в ГПУ, и Масуд сказал: — Отец! Я хотел бы… Конечно, молодежь считает честью для себя эту работу, как бы она ни регламентировала личную жизнь, какими бы нагрузками ни грозила. Но… молодых тянули сюда и романтика мужества, необходимого для опасной службы, и сама страсть борьбы, и тайна следственных дел… — Есть комиссия, — ответил ему тогда отец. Придя с комиссии, строго отбиравшей молодых работников для ГПУ, Масуд обнял мать и отца и сказал: — Взошла моя звезда! Сын радовался, более того, был счастлив. Отца своего он считал примером для подражания, и служба здесь стала для него святым делом. Он многому научился и даже начал отличаться, раскрывая запутанные дела. Если раньше коллеги считались с ним, казалось, только как с сыном крупного руководителя, то теперь стали уважать независимо от отца. Сын рос, становился мужчиной с умными задумчивыми глазами… Махсудов подошел к сейфу, открыл его и погрузился в личные дела чекистов. Он просматривал лист за листом и вспоминал замечательных людей, беззаветных защитников революции и ее завоеваний, видел их лица, с кем-то мысленно перекидывался словами, иной раз шуткой. Да, здесь было много готовых сейчас же поехать в горы, но — никого, кто бы окончил педучилище или хотя бы курсы по подготовке учителей. Для чего ты смотришь эти анкеты, Махкам? Он бы мог ответить на это чистосердечно: ищу лучшего! Но ведь этот лучший должен быть и учителем… Махкам вернулся к столу и протянул руку к телефонной трубке, но остановил ее на полпути. Прежде — поговорить с Масудом. Это ведь особое дело, особые обстоятельства. До того как объявить о своем решении, надо было увидеть, почувствовать, как к нему отнесется сын. Не оробеет? Поймет ли — почему он? Махсудов знал, что почти все работники оперативного отдела, среди которых был и Масуд, задерживались за полночь. Иногда Масуд делал что-то и ждал отца, чтобы вместе пойти домой по ночному городу. Если Масуд не растеряется и отважится поехать в Ходжикент, значит, ходить теперь тебе знакомой дорогой одному… Выйдя из кабинета, он обратился к дежурному по этажу и попросил позвать к нему Масуда, сейчас же. Вернувшись, снял стекло с лампы, подчистил ножницами фитиль, поставил стекло на место, и сразу в комнате сделалось светлее. А из-за двери послышалось, как Масуд прыгает по лестнице через две ступеньки. Только он мог подниматься так легко на своих пружинистых ногах. Открылась дверь, и Масуд вошел, поправляя гимнастерку и широкий ремень. Строгое лицо отца, уже сидевшего за столом, сведенные полуседые брови, две глубокие борозды на лбу, пролегших резче, чем всегда, — все это бросилось в глаза, смахнуло улыбку, которая была уже наготове. — Как твои дела, сынок? — спросил Махкам, рассматривая сына будто впервые. Боже, неужели джигиты бывают такими, без изъяна! Голова чуть не касается потолка — ну, вымахал! — плечи широки, костюм, обтянувший тело, как влитой, вот-вот не выдержит и треснет, могуч ты, Масуд, могуч! Гордость за сына обуяла душу Махсудова… — Дела хороши, — ответил Масуд, вытащил из кармана вчетверо сложенную бумагу и протянул отцу: — Камалитдин прислал. Прежде чем развернуть ее, отец посмотрел в глаза сына, какие-то детские, чересчур красивые, с очень уж длинными ресницами. «Сложением он в меня пошел, а глаза, лицо — это от матери, Назокат…» — А-а, подписал все же Камалитдин? Дело это уже не один месяц занимало внимание работников ГПУ. Купец из Бухары зарыл где-то свое золото, жемчуг и после падения эмирата бежал в Афганистан, однако не выдержал томления по богатству, пропадающему в грешной земле, тайно пересек границу, направился в Ташкент, но на этом обратном пути попался. Не удалось взять драгоценности и уехать с ними за рубеж без паники, не так поспешно, как впервые. Однако он один знал, где зарыт клад. Камалитдин не выдавал своей тайны, своего золота, закрылся, как глухой сундук, молчал, будто и не слышал, о чем его спрашивали. Казалось, онемел купец. Нет, когда его спрашивали, зачем он вернулся, злобно шипел: «Помолиться в святых местах родной земли». Все измучились. Передали дело Масуду. И вот — место, где зарыты сокровища, названо и нарисовано. Рукой Камалитдина. — Как тебе это удалось? — В старину говаривали: «Хитрость нужно побеждать хитростью». Мне сам Камалитдин помог. На нервом же допросе вдруг говорит: «Красивый парень, молодой. А жалованье какое?» Я отвечаю: «Маленькое» — и руками развел. Думаю: к чему-то клонит, бестия! А он посидел, помолчал, пригнулся ко мне и спрашивает: «Наверно, и невеста есть?» — «Конечно! И как раз дочка богатого человека в городе, свадьбу надо устраивать получше, а денег едва на жизнь хватает… Нет средств, чтобы жениться!» Дня три он еще тянул, а вчера спрашивает: «Ну, как дела у Меджнуна? Плохо?» Я вздыхаю. А он говорит: «В жизни один раз живем, сынок, раз возможность есть — нужно пожить! Поедем со мной, я тебя наделю, чтобы хватило для самой лучшей свадьбы в городе. Когда поедем?» — «Нет, — говорю. — Там, может быть, у вас засада? Я из пугливых. Сначала нарисуйте место…» — А он? — Долго сидел без слова и движения. Замер. Только глаза на меня косятся — хитрые и колючие… «Ладно, — шипит, — про свадьбу — это детские забавы. Я давно об этом догадывался… А что ты выиграл? Ты ведь ничего не узнал!» И хохочет. То шипел, как змея, а то захохотал по-шакальи… «Нет, — отвечаю, — узнал кое-что… Например, что не помолиться вы приехали, что есть у вас зарытые богатства, и место это рано или поздно вы назовете, и чем дольше они там пролежат, тем выше будет вам наказание за укрывательство». — Та-ак, — одобрительно протянул Махсудов. — Тогда он поджал губы, посидел еще и решился: «Давай бумагу! Но есть у меня одно условие: возьмете золото, все возьмете и меня отпустите. Не суждено воспользоваться своим богатством — хоть жизнь куплю за него! Зачем вам нужен больной старик, а? Только место занимаю…» Я посоветовался в отделе и принял его условие, пока он не передумал. Вот… — Спасибо, сынок, — Махкам встал, подошел к сыну, поощрительно похлопал его по плечу и заходил по кабинету, своей озабоченностью и строгостью на лице явно показывая, что сокровища Камалитдина не были главным делом в их разговоре. — Если разрешите, я сам поеду за золотом, — тихо попросил Масуд. Больше нельзя было оттягивать… — Нет, сынок, ты поедешь в другое место. — Куда? — А с ним поедут другие… — А я? — Ты поедешь в Ходжикент. — Зачем? — Чтобы снова стать учителем. — Вместе с Абиджаном буду работать? — еще не понимая, в чем дело, напрягаясь, но не возражая, спросил сын. Он, конечно, знал про убийство Абдулладжана, с которым какое-то время учился, но про участь Абиджана еще не слышал. — Прочти это письмо, — и Махсудов протянул ему листок, нервно исписанный Саттаровым. Сын читал, а он остановился и смотрел на него не отрываясь. И вот сын повернул к нему лицо, ставшее еще более напряженным, даже кожа на щеках натянулась. Не было испуга, была скорее готовность к действию, которую он, отец, и ожидал увидеть. — Это специальное задание, — сказал Махсудов. — Учитель, который туда поедет, чтобы школа работала и дети учились назло врагам, — этот учитель останется и чекистом. Внимательным, умеющим за всем следить и делать выводы… — Понятно. — Я выбрал тебя. — Понятно, — повторил Масуд. Отец сел за стол, с трудом устроив под ним свои длинные, как жерди, ноги, достал из ящика карту памятных ходжикентских мест, нарисованную им от руки, и ладонью подозвал сына. Масуд сделал два шага и наклонился. Взоры отца и сына заскользили по рисункам, обозначавшим байский двор, мельницу, чинаровую рощу — обиталище ишана, дом в саду, где жила старшая жена Нарходжабая со своей капризной дочерью Дильдор… — Места опасные, — сказал Махсудов, водя указательным пальцем и рассказывая. — Я тебя посылаю в логово врага, в пасть Змея Горыныча. И это не сказка. Масуд улыбнулся: — Один кишлак — не государство, на которое со всех сторон лезли враги. И все равно мы победили! Еще раз вспомнилось, что такие же или близкие к ним слова сказал Абиджан перед отъездом в Ходжикент. — Задача сложная… — Наверно, простых нет. — Сын понимал, что отец казнится, посылая его, но какие слова могли бы облегчить его состояние, нет таких слов, и не надо говорить зря, поэтому он спросил коротко: — Когда мне выезжать? — Завтра. Уже сегодня. Встретишься с просвещенцами, получишь направление… — Хорошо, отец. — Я еще поработаю, напишу письмо Саттарову, а ты… ты иди домой, к матери. И отдохни перед дорогой! — Хорошо, отец. Ветер с Анхора, реки, разрезающей город, снова приоткрыл дверь балкона, и с улицы залетел лист, проживший свое на ветке. Послышался петушиный зов, торопящий зарю… Махкам сидел неподвижно и думал о жене, Назокат. Что скажет ей Масуд? Наверно, только то, что возвращается на учительскую работу. Весело разрисует горный пейзаж, родники и щедрые сады… Он это умеет! Он сумеет про это даже хороший стих сочинить. Но об убийстве товарищей-предшественников не скажет ничего. Пожалеет мать. Он ведь сын своего отца… Махсудов оглянулся, словно мог увидеть сына, — луна далеко отошла от тополей, вот-вот начнет светлеть восточный небосклон. Накручивая ручку телефона, Махкам подумал, что, пожалуй, поздно звонит, но ему ответили. — Товарищ Икрамов! Могу доложить — учитель нашелся, и я полагаюсь на него. — Очень хорошо, — сказал Икрамов. — Кто это? — Мой сын.ГЛАВА ВТОРАЯ
Назокат не из робких, она все поймет. Вот уже двадцать три года они живут, не чая души друг в друге. Полюбил он девушку-соседку с улицы Ташкайка и женился на ней, когда еще работал в железнодорожных мастерских. Рабочие кружки, сходки… После нескольких выступлений с революционными речами — арест. И в тюрьме он прочитал на клочке смятой бумаги несколько неровных строк о рождении сына. Строки эти были написаны тогда другой доброй рукой, а сейчас Назокат сама стала учительницей и работала в одной из ташкентских школ… В шестнадцатом году, когда Масуду исполнилось четырнадцать лет, опять была разлука. Главу семьи мобилизовали на тыловые работы, гремела первая мировая… В родные края вернулся после Февральской революции семнадцатого и сразу же установил связь с товарищами из Красновосточных мастерских, а в ноябре начали вооруженную борьбу за власть Советов. Скоро он стал командовать революционным отрядом старогородских бедняков. Буря гражданской пронесла его по всему Туркестану, нигде он не жалел живота в борьбе за новую жизнь, и в восемнадцатом почудились покой, тишина, но ненадолго. Весной его позвали работать в ЧК. Вот уже пять лет, пять с виду тихих лет, в жестокой, непримиримой схватке с врагами, старорежимниками, остатками былого, вцепившимися в это былое зубами, чтобы удержать, спасти… Чего это вдруг вспомнилось? Он опять усмехнулся над собой: старею! И подумал — почему у них с Назокат один сын? Один-единственный! Наверно, из-за частых разлук, из-за опасной жизни. Прочь, прочь гиблые мысли! Масуд — единственный, но зато какой богатырь — десятерых заменит. Ум у него острый, глаз у него зоркий, он разделается с этими Горынычами в Ходжикенте. Пусть сопутствует ему удача! И они с Назокат еще погуляют, порадуются на свадьбе Масуда… Он улыбнулся про себя и прибавил шагу. Назокат и правда была не из робких, жизнь многому научила, но все равно проводить ночь, хоть и в небольшом домике, совсем одна по-женски боялась. Муж и сын приходили поздно, чаще всего — вместе, а если порознь, то один — за полночь, другой — перед рассветом. Да и последние случаи ее насторожили. Она не обо всем рассказывала своим и без того озабоченным мужчинам, но… стала зажигать лампу на веранде. Перед этим какие-то хриплые голоса выкрикивали с улицы угрозы и ругательства. А недавно бросили камень, разбили лампу вдребезги и высадили стекло в окне. Двор сразу погрузился в непроглядную тьму… Двое мужчин пытались перебраться через дувал. Назокат кинула в ту сторону кусок кирпича, они бежали. Об этом она рассказала мужу, и было решено завести собаку. Во дворе появился рослый пес по кличке Алапар, спокойный, однако рывком кидавшийся на малейший шум. Стала проходить тревога Назокат… Через несколько дней Алапара нашли мертвым у дувала, а рядом валялись куски коровьего легкого, начиненного мелким стеклом. «Дурачок, разве я тебя не кормила!» — пожурила бездыханного Алапара Назокат, но другой собаки брать не захотела. Подумав, решили приглашать на ночь соседскую девушку Салиму, и та согласилась с охотой и даже, кажется, с радостью. Она первый год работала в школе, открывшейся в их квартале, в их махалле, и была благодарна старшей учительнице за советы — они много разговаривали перед сном, делились открытиями и заботами, которыми неизбежно сопровождалось учительство. Но еще было и другое… Салима не только жила рядом с Масудом, но в свое время училась с ним и как-то по-особому смотрела на него. Она и сама еще не могла бы сказать, любовь это или просто юное беспокойство, юная мечта, но ее тянуло в дом, где жил Масуд, тянуло к его матери. — Опаджан, — спросила она недавно, — правда в жизни бывает великая любовь или только в книгах пишут о ней? Лейли и Меджнун… Фархад и Ширин… — Что я могу тебе сказать, девочка? — ответила Назокат. — Лучше расскажу про один случай, о котором в книгах еще не написано… Шил на свете молодой человек. Мирза. Имя свое оправдывал тем, что работал писарем у разных баев. В одном городе, куда занесло Мирзу в поисках доходного места и счастья, увидел у своего хозяина, известного заводчика Миркамильбая, его племянницу, которую звали Азизахон. И полюбил. И, конечно, рассказал об этом баю, он был честный парень. Но бай и мысли не допускал выдать племянницу за своего работника, бай зло пошутил и посмеялся. Тогда тихий Мирза взорвался, наговорил баю кучу дерзостей и ушел с работы. Однако раньше все же перехватил в доме Азизахон, не мог не сказать ей о своей любви. — И что? — Оказалось, и Азизахон давно любит ладного парня. Да еще такого смелого, бедного, но с таким достоинством, непокорного! Теперь она полюбила его еще больше. И они бежали вместе, добрались до Ташкента, здесь и обвенчались. — А потом? — У них родилась дочка, которую назвали Назокат. — Это ваши отец и мать?! Назокат кивнула. — А где они сейчас? — Там, — грустными глазами Назокат показала на дувал, за которым как на ладони открывалось кладбище. Перед закатом длинные тени деревьев, окружавших кладбище, дотягивались до самой веранды долга Махсудовых, расположенного на высоком берегу Анхора. — Прошлым летом умер отец. Мама перестала улыбаться, разговаривать, не прошло и недели, она, как свечка, растаяла. Это бывает, я сама это видела… Обе замолчали, задумались, опустили голову, и Салима вздохнула. — Говорят же старики: в жизни горе с радостью неразлучны. Так вместе и живут… — И спросила, чтобы отвлечь соседку от горестных воспоминаний: — Вероятно, отец и научил вас грамоте? — Раньше девочек не полагалось учить, да я и не очень рвалась. Не надо, так и не надо… Но отец у меня был умный и смелый человек. Я уже девушкой стала, когда он раскрыл передо мной тетрадку и заставил взять в руки карандаш. «Времена меняются, Назокат. Учись!» А позже сколько раз я благодарила его! Как мне пригодилась его наука, когда пошла на курсы по подготовке учителей! Успела сказать ему, еще живому, — рахмат, спасибо… — А читать любите? — Конечно. Мой муж Махкам-ака много ездит, во всех поездках не только делами занимается, книги собирает, привозит и отдает мне: «Почитай, дорогая… У меня-то времени нет, ты почитай, а потом мне расскажешь…» Так они разговаривали и пересмеивались, и Назокат заключила: — Да, чем больше человек занят, тем больше ему нужна жена! И Салима спросила ее: — Не собираетесь женить Масуджана? Задать-то Салима этот вопрос задала — как-то непроизвольно, но тут же зарделась. Сидела вся алая, как горный тюльпан, опустив глаза и теребя длинными пальцами, накрашенными густой хной, бахрому скатерти на низком столике. А Назокат, не замечая ее смущения, потому что смотрела куда-то вдаль, где пеплом покрывался закат, и думала о судьбе сына, ответила: — Пора его женить. Двадцать два исполнилось! Но мы с мужем не собираемся неволить сына. Отец его как-то сказал — пусть сам выберет ту, которая ему по душе! Теперь она заметила необычное замешательство девушки, но Салима, неосторожно задавшая свой вопрос, решила доводить дело до конца, — как говорится, падать так падать, — и спросила еще: — А есть у Масуджана девушка по душе? И прикусила свои пухлые губы, пригнула голову еще ниже. А Назокат, приглядываясь к ней и поражаясь, что раньше ничего не замечала, ответила поскорей: — Думаю, нет. Если бы Масуджан полюбил кого-то, то уж я бы, его мать… — Не мать, а аяджан! — перебила Салима, приподняв лицо с еще пламенными щеками. — Почему Масуд зовет вас так — ая, когда все дети вокруг зовут маму — опа? — Мы — ферганцы. Везде — опа, а в Фергане маму зовут — ая. — А это чьи? — Салима отвернулась и, распахнув глаза, сквозь открытую дверь смотрела на стену комнаты, увешанную музыкальными инструментами. На разноцветных гвоздиках — кто-то не поленился, покрасил их — висели дутар и танбур, кашгарский рубаб и флейта… — Масуджана. — Он играет? А я никогда не слышала! Мать только ухмыльнулась и слегка пожала плечом, догадываясь, что девушка все еще не может отделаться от неловкости, мечется и невольно перескакивает с одного на другое и даже прибегает к простительной, еще ребячливой неправде. Вся махалля заслушивалась, когда играл Масуд, а она не слышала! — И время находит! — Он такой, как огонь! — не без гордости сказала Назокат. — Не знает покоя. Чуть освободится, песни поет, газели сочиняет. А потом — глядишь — уже чинит свой велосипед, или дрова колет, или воду с речки несет. Одним словом, неугомонный! Салима вскочила, припала грудью к перилам веранды и начала раскачиваться, как будто это были качели. — Дядя Махкам и Масуджан, — спросила она немного погодя, — они и сегодня поздно придут? — Кто знает! — вздыхая, ответила Назокат. — Служба у них такая. Все спят, а они работают… — Может быть, как раз для того и работают, чтобы другие спокойно спали! — вырвалось у Салимы в ночной тиши. — Да-а… А я жду. Сколько уже лет это продолжалось! Они возвращались домой усталые, вздремнут часа три-четыре и снова — на ногах, спешат, побриться некогда. Масуджан грозится бороду отпустить. И она спешит — дать им хотя бы по пиалушке-другой горячего, покрепче заваренного чая… — А может быть, дождь их задержал? — сказала Салима и протянула руку под капли. Правда, во время их разговора пробарабанил по листьям, простучал по окаменевшим уличным тропам торопливый дождь, а сейчас перестал — так же быстро, как и начался, и ветер утих, ночь вдруг умиротворилась, не шумела больше без умолку шелестевшими до сих пор листьями, будто тоже уснула. — Постелем, — предложила Назокат девушке, поднялась и направилась к широкой нише в стене веранды — там стопой лежали одеяла. Салима спохватилась и принялась помогать ей. — Я думаю, — сказала Назокат, взбивая подушки, — что девушке, которая выйдет за Масуджана, будет нелегко, как и мне. Салима не ответила, но уже в тишине, когда казалось, что девушка спит, она облокотилась о подушку рядом с Назокат и промолвила: — Девушку эту нужно откровенно предупредить, какая у него работа тяжелая, как он устает и мало бывает дома, как ей придется по ночам оставаться одной. Наверно… признаюсь вам, опаджан… не каждая девушка такую жизнь вынесет! — Чтобы вынести, — полушепотом ответила Назокат, — нужно любить. И все. — Да! — торжественно согласилась Салима. — За любовь можно приносить любые жертвы! И прозвучало это так, что никакого труда не составляло догадаться: «Я эта девушка, я!» Все понимая и, кажется, радуясь этой новости, Назокат посоветовала девушке, как ребенку: — Спите, милая, уже поздно… Небо расчистилось, всплыла луна, осветившая двор и веранду, усталость охватила Назокат, но была она какой-то необычной, сладкой. Вспомнилось, как сама была молодой. Была… Это уже далеко. Годы проносятся, как летучие облака. Сначала кажется, что еле ползут, а потом — уже умчались, унеслись без возврата — в прошлое, которое все дальше, дальше… Но жизнь не останавливалась, она открывала новые обещания и сюрпризы. Глаза сомкнулись, подкатывался какой-то добрый, может быть, счастливый сон, и тут Назокат услышала, как повернулся ключ в калитке — раз, ее открыли с улицы, два — ее закрыли со двора. Звякнул велосипед. Значит, Масуд вернулся один. Когда возвращались домой вдвоем, то его любимый велосипед оставался там, в доме, где велась эта непрестанная служба. Любили с отцом пройтись по тихим улицам и улочкам, размяться, подышать, побеседовать… Велосипед больше не звякал, как обычно; она беспокойно приподнялась и, вытянув шею, увидела, что Масуд идет на цыпочках через двор, а велосипед песет приподняв в руках. Тогда она притворилась спящей. Он прислонил велосипед к стене возле крыльца, вошел в комнату, быстро разделся и лег. А она улыбнулась, глянула на лицо Салимы, такое нежное и милое под луной, поправила ее бесчисленные косички, разметавшиеся вразброс по всей подушке, и опять прикрыла глаза… На рассвете она уже вынесла из дома кастрюлю с подошедшим тестом, развела огонь в дворовой печке для выпечки хлеба — тандыре — и села делать лепешки. Промаргивая сонные глаза, вдруг подлетела Салима. Она соскочила с веранды прямо на траву, минуя ступени; ее обиженное лицо было смешным. — Почему не разбудили меня? — Рано. — Я помогла бы! — Вон, берись… — Назокат кивнула на керамическое блюдо, полное бараньих шкварок. — Побрызгай их водой и разомни. Махкам-ака любит свежие лепешки со шкварками. — Он еще не пришел с работы? — Нет. Сегодня что-то совсем задержался. Поругаю его! — А Масуджан? — Спит. — А он со шкварками любит? Мать не успела ответить, как с веранды спрыгнул Масуд и, размахивая своими большими руками, крикнул: — Он тоже! — Теперь он разводил руки в разные стороны, сгоняя с себя остатки сна. — Разве вы не слышали, соседушка, что ягненок идет по следу овцы, а сын по следу отца? — Между прочим, — сказала Назокат, — твой отец женился на соседской девушке. Масуд, уже кативший к тандыру большой пень из угла двора, остановился и выпрямился: — Ох, рискованная мысль, мамуля! И, подхватив около тандыра колун, размахнулся и ударил по корявому пню. Удалые, молодецкие покряхтыванья его полетели над двором. Пень был крепкий, но скоро развалился надвое, а вот уже и мелкие полешки пошли от него отскакивать. Масуд снова выпрямился и вытер пот со лба. — По-моему, любовь похожа на дыню. Салима вытянулась всем телом, свела брови. Ей показалось, что этот белозубый богатырь с топором в руках смеется. Губы его и правда растянулись. — Конечно! — продолжал он. — Если очень жарко, дыня не ждет, когда подойдет крестьянин, сама начинает трескаться и даже отрывается от корня. Черенок пересыхает. Если же родители, не дай бог, торопят своих детей, они могут запросто сорвать зеленую дыню. А? Не надо искушать судьбу! Салима поникла, в каждом слове, в образе этой невкусной зеленой дыни девушке послышался ответ на ее надежды. Масуд высмеивал то, чем она дорожила. — Оставь ты свое балагурство! — сердито оборвала сына Назокат. — В твои годы отец уже имел ребенка! — Меня? — удивленно спросил Масуд, прижав к груди руку с колуном. — Теперь понятно, почему я такой зеленый! И Назокат и Салима рассмеялись. Да его не надо принимать всерьез, он просто очень веселый, этот богатырь, забавный и смешной, как мальчишка. Между тем на лице Масуда, покрытом капельками пота, уже не осталось и следа улыбки, он повернулся к Салиме и сказал: — Мама в эти дни штудирует поэзию Физули, чтобы познакомить с ней учеников. А я листаю заодно, попутно… Там, в сборнике, есть семьдесят седьмая газель… Читаем:ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Послушно катил велосипед вдоль тополей, протянувшихся бесконечными рядами по обеим сторонам дороги, иногда изматывающе трясло на кочках, и седло скрипело всеми своими пружинами, и возницы-арбакеши с лошадок, запряженных в высокие арбы — грузовые повозки, выворачивали головы, провожая взглядами странного путешественника, упрямо крутящего свои педали, и едущего им навстречу. С каждой верстой дорога становилась трудней. Остались позади ровные поля, сады за дувалами, земля захолмилась, речки и ручьи стали чаще пересекать дорогу, замелькали деревянные мосты, а склоны лезли все круче, к небу. Проезжая в одном кишлаке по неровно уложенному булыжнику, Масуд почувствовал вдруг, что смертельно устал. Пока добрался до Газалкента, пришлось дважды останавливаться и менять проколотые камеры, сначала в переднем колесе, потом в заднем. Ясно стало, что до места сегодня не доехать, — значит, заночует в Газалкенте, в караван-сарае. Так и сделал… К велосипеду подходили арбакеши от арб, задравших в темнеющее небо тонкие оглобли, трогали шины, раму, качали головами. Лошаденки, выпряженные из этих оглобель и привязанные к огромным, выше человека, колесам арб, обмахивались хвостами. Погонщики верблюдов, уложив своих выносливых пустынных пешеходов на колени и сняв с их горбатых спин поклажу, присоединялись к арбакешам, рассматривали диковинный велосипед, удивлялись, как эта штука не заваливается в пути, если у нее два колеса не по сторонам, как у арбы, а подряд, тараторили без умолку, а верблюды так же безостановочно жевали что-то и роняли с бледных губ на пыльную землю пузырящуюся слюну. Масуд напился чаю, съел еще одну домашнюю лепешку и крепко уснул. Утречком зашел в районный отдел, к просвещенцам, представился, выслушал их предупреждения и покатил дальше. В Ходжикент он прибыл в самом конце дня. Иной раз дорога становилась такой крутой, что двигался пешком, ведя велосипед рядом с собой. Этот «аэроплан» не летал. Масуд шагал, ступая тяжело и упрямо и обдумывая разные вероятности, которые только мог предположить при своем появлении в этом далеком, оказывается, кишлаке. Например, входит во двор школы, а там уже ждут его убийцы Абдуллы и Абида… Это самое простое — у него есть наган, а у ребят не было. Раз самое простое, вряд ли так будет, но на всякий случай он нащупал наган в кармане. Ночью будет класть его под подушку, понятная вещь. Днем носить с собой. Всегда. Возникали и другие варианты нападения на него, но наган выручал… На каком-то, самом крутом склоне Масуд остановился и задумался — с кем он сразу встретится в байском поместье? Сына, говорят, нет, а дочка там, Дильдор. Запало имя в память, когда отец рассказывал. Она сразу представилась ему толстощекой, жирные складки под подбородком, отвислый, ненасытный живот. В кишлаках таких называли сдобными. Как же! Мать откормила ее лепешками, пирожками, сладостями. Чем еще могла тешиться байская дочка? И чем могла свою дочку побаловать вволю ее мать, первая жена бая, как ее? Ведь отец тоже называл имя. Фатима… да, Фатима-биби. Вот эта самая Дильдор входит во двор лупоглазая, а он — ни слова. Он резок и неразговорчив. Это теперь не ваш двор, бывшая молодая госпожа, а школьный. Так решил бедный кишлачный люд, а я его представитель, и друг, и работник. Я не баю прибыл сюда служить, а кишлачной бедноте, которая потянулась к знаниям. Все это будет написано в его глазах. Ни слова. Молчаливый поворот от ворот. А почему это она входит во двор? Ну, это так… Когда-нибудь он неизбежно повстречается и по-хозяйски поведет себя с отпрысками бывшего бая, будь то дочь или сын. Вот его имя выскочило из головы напрочь. Надо будет спросить у председателя сельсовета. Но сельсовет встретил его замком. Сторож сказал, что председатель — Исак Укталов, по прозвищу Исак-аксакал — уехал в соседний кишлак поговорить насчет каких-то важных дел. Вряд ли он сегодня вернется, хотя и рано уехал. — А где чайхана? Сторож махнул рукой вниз, в сторону гузара. Масуд остановился у чайханы, в центре кишлака, сел на пыльную траву у моста через быструю, какую-то сумасшедшую реку, и показалось — больше не встанет. Не хватит сил. Прислонил «аэроплан» к прибрежной иве, а сам посидел на этой траве без движения, потом спустился к воде, которая бурным потоком вылетала из-под моста, умылся и досыта наглотался ее, живительной и холодной. Сводило зубы от этой воды. В ней чувствовалась близость горных ледников. Масуд посидел еще немного у реки, вытерся и огляделся. С ближнего склона, тяжело ступая, к реке сходили могучие чинары, полнеба закрывая своей листвой. По другую руку зеленела ивовая роща, и в ней виднелась площадка, похожая на дворик. Там устроились две арбы, большая и маленькая. Рядом с ними осел и лошадь мирно расправлялись с сеном из торб, надетых им на морды. Ниже рощи в глаза бросался длинный, по виду недавно отремонтированный дом. «Очевидно, это и есть мельница Кабула», — предположил Масуд. И не ошибся. Из дома появился старик и побрел к маленькой арбе, волоча на спине белый мешок с мукой. Осел выкруглил на него глаз, испуганно блеснувший. Такой же старик, только одетый куда богаче, в бежевый шерстяной халат, сидел на каменной глыбе под самой верхней чинарой. На голове — чалма, закрученная в несколько колец, огромная, как гнездо аиста, которое каждый год наращивают потомки белой птицы. Бородка клинышком. Четки в руках. «А это, конечно, Салахитдин-ишан, хранитель старых лоскутов и козлиных рогов, которые висят на ветвях чинар», — усмехнулся про себя Масуд. В чайхане посиживали несколько человек, попивали чай. Сначала Масуд хотел спросить у них, где школа, и двигаться туда. Но потом передумал. «Посижу рядом, попью чаю, глядишь, и узнаю новости кишлачные…» — Здравствуйте! — Здравствуйте… — молодой джигит в домотканой рубахе с открытым воротом, накрепко подпоясанный платком, скрученным, как веревка, пробормотал еще что-то, но так неразборчиво, что Масуд сказал усмехаясь: — Что это, милок, половина слов в горле застряла! Не подавились бы! Оставив велосипед у деревянного настила чайханы, он уселся неподалеку от компании молодых людей, подогнув под себя ноги. Дружки, окружавшие джигита в домотканой рубахе, загоготали. Видимо, позабавила легкомысленная небоязливость новичка в разговоре с их главарем. Зато сам джигит огрызнулся: — А как я должен тебя встречать? Еще будешь учить меня уму-разуму! — Если надо, с удовольствием поучу. Мне не жалко, во-первых. Во-вторых, это моя профессия. Я учитель! Приехал работать в Ходжикент. А ты кто? Что молчишь? Джигит выругался. — Э-э, чего задираешься, как петух? Или зло у тебя повисло на кончике языка? Чайханщик! — Масуд окликнул долговязого дядьку, колдующего невдалеке у своего большущего самовара. А джигит исподлобья поглядывал на него мелкими глазами. Дружки джигита нагнули головы. — Какие новости, братки? — спросил их Масуд, пока чайханщик, кивнув ему, держал чайник под булькающей струей самовара. Соседи джигита молчали. Сам он почесал висок и спросил одного из них: — Ну, а дальше что? Видимо, одобрил их молчанье и велел продолжать разговор, прерванный Масудом. — Входит дед Мухсин, значит. К нам во двор. Смотрит на виноградные лозы, увешанные вот такими кистями. «Богатый урожай!» Вошел, дьявол, откуда ни возьмись, и ушел… А утром все грозди завяли! — Вот! — поддакнул молодой парень в красных кавказских сапогах. — Если бы я сам не видел этот увядший виноград, никогда не поверил бы, что у деда Мухсина такой дурной глаз! Вообще-то забавный дед, смешливый. Никогда не подумаешь… — Послушайте меня! — ворвался в короткую паузу парень в красных сапогах. — Мельник Кабул в прошлом году поменял жернова. Старые камни отслужили. Поставил новые, покрепче и побольше… А сам сидит в ивовой роще! — Зачем? — спросил главный джигит. — Караулил деда Мухсина… Да, да! Если дед появлялся… Подошел чайханщик, тощий и синеглазый, как женщина с гор, но за женщину его никак нельзя было принять из-за пышных усов. В одной руке — скатерть и поднос, на котором уместились две лепешки и тарелка со сладостями, в другой — чайник, накрытый пиалой поверх крышечки. Он приблизился маленькими шажками и поклонился: — Добро пожаловать, дорогой гость! — и начал расстилать перед Масудом скатерть — дастархан. Старания чайханщика вызвали недовольные взгляды со стороны, на полуслове прервали парня в красных сапогах, он был нетерпелив и потребовал: — Слушайте! И даже чайханщик прислушался. — Появится дед, Кабул угостит его чайком, припасенным специально для этого, чайник рядышком держал, скажет два-три ласковых слова, а дед и рад, а Кабул тотчас отправляет его обратно, подальше от мельницы… А как-то прозевал! Тырк-мырк, а Мухсин уже стоит внутри мельницы и смотрит, как крутятся новые жернова. Смотрит и хвалит: «Хорошо сработаны камни!» И все! Камни тут же растрескались, а мельница остановилась. Сотрапезники начали отплевываться и хватать себя за воротники, как и полагается, чтобы огородиться от дурного слова, дурного глаза. Послышались их вздохи, восклицания: — О боже! И только чайханщик покачал головой и заметил, уходя к своему самовару: — Ну и чушь несешь! — Почему это чушь, Кадыр-ака? — язвительно спросил его парень в красных сапогах. — Мне не нравится это ваше слово! — Прости меня, — улыбнулся Кадыр-ака, приложив ладонь к сердцу, — чушь, потому что все — неправда. — Почему — неправда? — Потому, что дед Мухсин никогда не будет рад холодному чаю, уж я-то знаю. И еще потому, что мельник Кабул по скупости плохие камни купил, когда менял старые жернова на новые. Это ты сам знаешь… Вот они и лопнули! Пришлось опять менять. Бог его наказал за скупость. Рассказчик надулся, набрал полную грудь воздуха, чтобы послать недобрые слова вдогонку чайханщику, но вмешался третий, косоглазый, махнув на чайханщика рукой: — Да ну его! То, что вы рассказали, детские сказки против того, что я знаю! Посмотрите-ка на вершину нашей горы. Видите? С некоторым страхом они подняли глаза на самую высокую гору, обросшую арчовым лесом. Она была мрачной. В лесу и вокруг чернели камни, сорвавшиеся сверху, откуда срывалась и река, пронзая лес и пенясь под мостом. — Ну? — Как-то раз дед Мухсин упорно стал рассматривать эту гору, — продолжал косоглазый, приподняв вытянутый палец, — и воскликнул: «О боже, какая красота!» — И что? — Сразу же — землетрясение! Макушка горы растрескалась, каменные глыбы покатились вниз. Вот они теперь и лежат в арчовой роще и ниже! Эй, чайханщик, что ты скажешь на это? Откуда взялись камни в арчовой роще, а? — Я не слышал твоего рассказа, — откликнулся Кадыр-ака. Масуд бросил в пиалу сахар, покрошил в нее лепешку, залил горячим чаем и пошел уписывать. Уж очень вкусной показалась еда. «Конечно, — думал он, — люди эти не столько глупые, сколько темные. И сразу им всего не объяснишь. Это объяснять нужно с детства. Лучше не ввязываться!» Ел и рассматривал заводилу — землистое лицо с рябинками, узкий лоб, колючие глаза… — Эй, ты, — неожиданно обратился к нему главарь, — слышал? Приехал к нам в кишлак, не встречайся с дедом Мухсином, а то, не ровен час, такой ладный, калекой станешь! Сиди дома! Окружение встретило его слова дружным хохотом, один задрыгал от восторга своими красными сапогами, другой, косоглазый, заколотил себя в грудь. Довольный джигит огладил безбородое, рябоватое лицо. Вот как, дескать, пригвоздил я гостя! Но Масуд доедал сладкую «тюрю», не обращая внимания на возгласы и смех соседей, и главарь недовольно дернул плечом. Масуд свернул скатерть, поставил на нее опустевший поднос, провел по щекам ладонями, соединив их ниже подбородка, привычным жестом поблагодарив за еду, и позвал чайханщика: — Возьмите деньги! А то… Как бы ненароком не прикарманил кто-нибудь! Смех рядом стих. Смелость нового учителя пришлась по душе чайханщику, подстегнула, и он начал сводить свои счеты с праздными болтунами. — Да! От них всего жди. Картежники! Двое из компании, сам джигит-главарь и косоглазый, вскочили, сжали кулаки, но чайханщика как будто даже и не слышали, а подступили к Масуду. — Думай, прежде чем сказать, пришелец! — В горле твоем, похоже, очень широко окно открыто, можем и заткнуть! Масуд, тоже успев подняться, переждал словесную бурю и спросил с беззлобной ухмылкой: — Что же вы остановились передо мной, как перед чемпионом по борьбе? Он был такого роста, что оба задирщика невольно посматривали на него снизу. Но главарь все же проворчал: — Чемпион! Видали мы таких… — Ну, так знайте, хвалиться не хочу, но я действительно один из чемпионов Ташкента. Запомните это на всякий случай. И то, что воробей не петух! А если перестанете петушиться, если по-доброму, то приходите в гости, я на все вопросы вам отвечу, с охотой поделюсь всем, что знаю. — Да? — ехидно прищурился косоглазый. — Что ты можешь объяснить про деда Мухсина? Масуд засмеялся: — Тут Кадыр-ака прав. Все это не больше чем выдумка. — Все три случая? — спросил главарь. — Все три. Виноград мог увянуть, но не от дурного глаза бедного дедушки, а от плохой обрезки, от лишних листьев, от сырой тени. Про жернова вам Кадыр-ака метко сказал. А если и не поскупился Кабул на важную покупку для своей мельницы, то ему жуликоватые торговцы плохие камни подсунули. Это уж как пить дать! — А гора?! — Попросите деда Мухсина сколько угодно смотреть на гору и хвалить ее при этом не переставая, никакого землетрясения не будет. Могу поспорить. Пусть хоть с утра до вечера смотрит и хвалит! Хоть сейчас. Хоть завтра. Ну? Кто готов поспорить со мной? Боитесь? Может, деда и на улице не было, когда землетрясение случилось. Может, дед еще не родился, а камни уже лежали в арчовой роще. — Молодец! — азартно засмеялся над примолкшей компанией чайханщик. — Так их! — Не грех и еще учесть… — Что? — Небось вы и сами кое-что прибавили для интереса! Главарь тоже рассмеялся: — Без этого хороших рассказов не бывает! — Теперь я тебя спрошу, если можно, — сказал Масуд главарю, доставая из кармана свернутую в трубку и успевшую малость потрепаться газету. — На, держи… Что это такое, знаешь? — Газит! — задрав голову, вызывающе ответил безбородый атаман картежников. — Правильно, уже и тебе знакома газета… Давай прочти что-нибудь! Там много интересного написано, верней, напечатано… Читай «газит»! Ну, хотя бы одно название. Как она называется? Безбородый молчал, потея от натуги. В конце концов усмехнулся и выдавил из себя: — Э… э… — Ну вот! Держишь газету, а только всего и прочитал, что «Э…»! — Так его, так! — повторял чайханщик ликуя, протянул руку и взял газету, а потом, наморщив лоб, прочитал по складам: — «Ки-зи-и-ил Уз-бе-ки-и-и-стон»! — Да, «Красный Узбекистан», правильно! Где научились? — Там спрошу, там… Когда хочешь, то научишься… Везде! — Возьмите себе газету, Кадыр-ака, почитаете в свободный час и узнаете, как живут люди в других кишлаках, в Ташкенте, что делается совсем далеко от нас, в Петрограде, в Москве! — И Масуд повернул свою кудлатую черную голову к атаману: — А ты — хочешь знать, что пишет газета, приходи в школу, записывайся в ликбез. Создадим курсы для взрослых, на днях откроем. Через несколько месяцев сам начнешь читать. И писать! Атаман засмеялся — то ли над Масудом, то ли от забавности этого обещания, показавшегося ему несбыточным, трудно было понять. А косоглазый насмешливо заметил: — У нас двое бедняг уже пытались открыть этот самый… ликбез! — Я знаю, — серьезно сказал Масуд. — Потому и приехал… Меня убьют трусливые бандиты, приедет четвертый, и ликбез все равно откроется. — Почему это они трусливые? — перебил голосистый парень в красных сапожках. — Из-за угла убивают, — сказал чайханщик. — И не только поэтому, — добавил Масуд. — Они боятся грамотных крестьян. Грамотными трудней командовать, а они командовать хотят. Вот и боятся нас, учителей… Мешают. Убивают. — А ты говоришь — откроют! — вызывающе сказал главный, сузив без того мелкие глаза. — А если всех убьют? Масуд засмеялся: — Руки коротки. Мне-то самому ликбез ведь не нужен, я уже читаю и пишу, я приехал крестьянам помочь. А их больше, чем бандитов. Неужели они дадут себя запугать? Никогда! — Да, не дадим, — сказал чайханщик. — А вы… вы… — Вы, четверо, как слепые, — договорил за него Масуд. Парень в красных сапогах вскочил и крикнул: — Чего это они тут раскомандовались? — Я не командую, — сказал Масуд, — я тебя, дурака, в школу зову. — Двое таких уже лежат, тебе показать где? Масуд проследил за взмахом его руки и спросил чайханщика: — Там кладбище? — Там. Их могилы вон за теми тремя тополями. Видите? — Кто похоронил? — Люди. Масуд опять повернулся к компании: — Не такие, конечно. — Нас это не касается, — проворчал главарь. — Похоже, вас ничего не касается… — Масуд спрыгнул с настила, называемого «сури», и взял велосипед. — Эх-ма! Но — коснется! — крикнул он картежникам, один из которых уже достал из-под халата и перетасовывал колоду. — Кадыр-ака! Где школа? — Я покажу. Кадыр-ака тоже спрыгнул с сури и вместе с Масудом отошел немного от чайханы. — Не ходите туда, — заговорил он быстро, взяв его за руку на руле велосипеда. — Не ходите в этот несчастный дом! Проклятое это место! — Да место тут ни при чем. — Как же так! За месяц из него два трупа вынесли! — Не место… — проговорил Масуд. — Враги виноваты. Кадыр-ака крепче сжал его руку. — Конечно! Может быть, они уже там, в укромном углу. Притаились… — А кто это может быть, по-вашему? — Если бы я знал, сам… — чайханщик показал, как он сам задушил бы убийц. — Послушайте, учитель… Послушайте меня! Я постарше вас, вдвое больше рубах износил! Не ходите! Не живите там! — А где же мне жить? — спросил Масуд. — Идемте ко мне. У меня детей нет, одна Умринисо, моя жена. Рада будет. Прошу. — Спасибо. В чайхане вашей буду частым гостем, Кадыр-ака. Не волнуйтесь. — А вас как зовут? — спросил чайханщик. — Масуд. — Значит, в чайхану будете приходить, Масуд? — А вы ко мне приходите. Где дом Нарходжабая? — Вон. — Тот белый, на возвышенности? — Да. — Так я уже был там! Этот самый, где сельсовет? Кадыр-ака покивал в подтверждение. Пышные усы заколыхались. А Масуд подумал: здорово же меня измотала дорога, что я не узнал дома по описанию отца, не заметил инкрустированных ворот, у которых разговаривал со стариком сторожем. Надо встряхнуться. Он и в самом деле встряхнулся и покатил, вскочив на велосипед, а Кадыр-ака вернулся в чайхану, где кишлачные лодыри, пошумливая, уже кидали карты друг другу. Кадыр-ака с ожесточением стал убирать у них скатерть. — Эй, эй! — раскричался на него главарь. — Какая змея тебя укусила? — Скоро вечерняя молитва… — Да, — поглядев на низкое, заалевшее солнце, подтвердил косоглазый. — Убирайтесь! — Мы — правоверные, помолиться не забудем, а ты, собака, что привязался? Не трогай нас! — налетел на чайханщика главарь. — А чего тебе со мной лаяться? — спросил Кадыр-ака, выпрямляясь. — Ты с ученым парнем поспорь. Он один вас всех прижал к земле. Так что твое дело теперь — сиди помалкивай! — О, еще один учитель поднял хвост! — Сильный только перед сильным хвост поджимает, — ответил Кадыр-ака парню в красных сапогах. — Чего мне перед вами-то гнуться? — Замолчи! — крикнул главарь. — Тоже мне! Сам перед учителем сник, а теперь горло дерешь! — усмехнулся чайханщик. — Горлодер. — Сник? Поживем — увидим, под чью он дудку запляшет! — Как бы он всех вас не заставил плясать под свой дутар! Видели, у него дутар привязан к «велисапету»? Выкладывайте денежки за чай и еду! — Ладно, брось, мы тутошние… — Никуда не удерем. — Подсчитай, сколько мы тебе должны, завтра заплатим сполна и сразу! Они разбежались в разные стороны и поспрыгивали с сури, а он так и остался стоять со скатертью в руках. Солнце уже коснулось макушек чинар своим золотым краем. До вечерней молитвы остались минуты. Ларьки по бокам от чайханы позакрывались, кишлак словно вымер, а скот еще не запылил по улочкам и закоулкам, вернувшись с сочных пастбищ… Кадыр-ака скатал паласы с настила и занес в пристройку. Вылил воду из самовара, плеснул воды на золу. Это значило, что чайхана закрыта. Он торопливо зашагал домой, через мост, но где-то в конце его остановился, прислушался к себе и почувствовал, что его все еще гложут опасения. Тогда он прикрыл свои синие глаза и прислушался к притихшему внешнему миру. Если бы у байского дома был выстрел — сюда донеслось бы. Если бы на новичка пошли с холодным оружием, он не из слабых, долетели бы крики, а ничего не было. И вдруг в воображении его обрисовалась такая картина: Масуд входит во двор, где в недавнем прошлом коротали время жены Нарходжабая, а кто-то набрасывает ему на голову мешок, и руки, длинные и беспощадные, начинают душить… Кадыр-ака повернул и что есть мочи побежал ко двору Нарходжабая, наверх.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Запыхавшись, он подбежал к воротам, и сердце его заколотилось еще неудержимей, мощными ударами. Почему это — ворота настежь? Он ринулся к внутреннему двору, завертел головой — туда и сюда. Все двери были открыты, дома проветривались — это он увидел через дувал, а Масуд подметал двор, собирая в кучу опавшие и залетевшие сюда листья. Сентябрь уже подбирался к середине, и желтые пятна листьев там и тут ставили на землю свои осенние знаки… Кадыр-ака с облегчением смотрел на Масуда через дувал, а новый учитель помахивал метлой, не замечая его, и негромко напевал:ГЛАВА ПЯТАЯ
Отец Исака-аксакала любил деревья и насажал их вокруг дома множество. Да и самому Исаку передалась эта страсть, так что сад во дворе всегда был ухожен и рядом с возмужалыми, кряжистыми яблонями и персиками, обновляя двор и землю, в саду каждой весной оперялись молоденькие деревца. Исак заботливо подсаживал их взамен отживших. Сам дом тоже помнил отцовские руки и носил следы беспрерывных усилий хозяина молодого, прозванного тем не менее аксакалом. Отец заложил фундамент из тяжелых каменных глыб, наломавших мускулы и кости — поворочай-ка их! Как посмотришь, так и вспоминаешь отца, вытирающего с бровей капли пота, залеплявшего глаза. Но отец не жаловался никогда, знай молча работал. Много работал, да мало имел. Так и не дожил до счастливых дней, В одиночку счастья не заработаешь… Лицевую стену отцовского дома Исак постарался оштукатурить поглаже — в память о строителе. И была еще одна причина — в доме появились жена и радость. На остальные стены не хватило пока ни материала, ни времени, но, даст бог, все вокруг заиграет! Не сразу, но жизнь у Исака начала складываться обещающе. И он крепко ухватился за нее и не собирался выпускать из своих рук. Еще в молодости задумал он жениться на дочери соседа Курбана-ака, да где-то далеко шла война, и его забрали на тыловые работы, как тогда, в шестнадцатом, забирали многих других из азиатских кишлаков и городов. Уехал он нежданно-негаданно от родных гор, от своего Ходжикента в дальнюю даль. От любимой Каримы. Два года мотало его по разным краям, набирался кровавых мозолей на руках и ума-разума. Русские друзья-рабочие безбоязненно объясняли, что к чему, у самих жизнь шла невмоготу, дышать становилось нечем. Вернулся Исак в свой Ходжикент умудренный знаниями и наставлениями, которых вдоволь наслушаешься в странствиях, окрыленный всякими небывалыми новостями о том, что свергли царя, что власть захватили рабочие люди, чтобы строить справедливую жизнь, и с дрожью в сердце — оттого, что с каждым шагом становился ближе к Кариме, вот-вот увидит ее. В кишлак он вошел, как выяснилось потом, в день ее свадьбы. Курбан-ака выдавал дочь за Нарходжабая. Отдавал баю! Четвертой женой! Не отдыхая, Исак схватил мать за руки и попросил пойти с ним в дом, где справляли той, чтобы вызвать Кариму или хотя бы увидеть ее. Узбекские ворота во время тоя открыты, зайти было легко. Народу гуляло много. Исака не заметили. Старая мать привела Кариму в укромное место, удалось ей подобраться к девушке и шепнуть, что Исак вернулся и ждет ее. Он хотел увидеть Кариму, несколько лет в далеких местах, таких далеких, что и не объяснишь, где это, все пытался представить себе, как они встретятся, как это будет. И вот встретились… Карима подошла чуть живая, разодетая, как и полагается байской невесте. Чужая была невеста, и наряды чужие… Какую-то капельку она держалась, и как раз когда он хотел повернуться и уйти прочь, Карима не выдержала и бросилась ему на шею. Как она плакала, боясь, что ее услышат, как давилась слезами, не могла говорить! И все в нем перевернулось, переломилось. Он мог уйти отсюда только с ней на руках. — Бежим! Но Карима лишь покачала головой, прикрытой шелковой кисеей. Губы ее свела судорога. Наконец она прошептала, что — все, уже все… Все кончено! Мулла обвенчал ее с баем! Если бы Исак вернулся хоть на день раньше. А теперь… теперь ей только и осталось, что — в омут. Она и хотела броситься в пропасть. Повторяла, как полоумная: — Если бы на день раньше! Если бы вчера… Люди начали обращать внимание, матери пришлось скорее увести ее в дом. Вот и вся свадьба, все гулянье у Исака… А ведь готовился, ведь думалось… Неужели все? На второй день он пошел к Курбану-ака, отцу Каримы. Старик сиротливо сидел на коряге в опустевшем дворе. Исак думал, когда свирепо шагал сюда, что убьет его, а здесь терпеливо и даже покорно выслушал. Что мог сделать старик? В позапрошлую зиму у Курбана-ака скончался отец, а летом — мать. Похороны, поминки… Два раза ходил с протянутой рукой к Нарходжабаю, он помогал. А прошлой зимой, на редкость холодной, как назло, погиб от морозов бык, куда бросаться весной? Опять туда же, той же натоптанной дорожкой. Бай выручил. Но велел отдать ему в счет долгов красавицу Кариму в четвертые жены. Не было другого выхода… Суди, молодец, как хочешь, а жизнь не переделаешь. Оказывается, сказать легче, чем дело сделать, да еще переделать давным-давно сделанное, старое… Почему не переделаешь? Уже переделывают. Исак рассказал Курбану-ака обо всем, с чем ехал сюда, что кричала жизнь на всех дорогах. — Конечно, — сказал Курбан-ака, кидая остатки насвая, жевательного табачка, под язык. — Мы тоже слышали. Разное говорят… Да мало ли что говорят и будут говорить, сынок? Не зря он ходил к Курбану-ака, сидел с ним. Хлебал ли он похлебку, сваренную для него матерью, поливал ли деревья в саду, запущенные без него, заросшие, а то и подсохшие, он думал о словах старика: «Мало ли что говорят!» Революция еще не поднялась до этих горных высот. Ну что ж, значит, на его долю выпало поднимать ее. А уж он давно понял, что такое одному не под силу, и назавтра объявил в своем дворе сход кишлачных бедняков. Не все, но человек двадцать как-никак собрались. Это уже немало. Открыв рот, слушали про революцию, про то, что баи просто так своего богатства, всего, что награбили у народа, у этих же самых бедняков, обратно не отдадут. Отбирать надо. Согласно кивали головами. — А что с баями делать? — Пусть живут своим трудом! — Не умеют, не захотят. Стрелять начнут! — Придется проливать кровь. Опять серьезно молчали и задумчиво кивали головами. — У них защита найдется. — Не найдется. Везде власть наша. И в Москве, и в Ташкенте! Кончилась сходка тем, что образовали ревком, а председателем избрали — кого же! — Исака. И как-то так получилось, что один, а там и другой, а там уж и весь кишлак стали называть его аксакалом. Старейшиной! В двадцать семь лет-то… Пришлось ему бороду отпускать. Борода выросла большая, вся — черная. Но это позже, а тогда… на первом же заседании ревком решил взяться за Нарходжабая, самого неразговорчивого, неуступчивого и безжалостного живодера в округе. Приняли решение и во двор бая пошли всем ревкомом. Вызвали из дома, объявили ему, что все его земли конфискованы и передаются крестьянам. И скот тоже. И запасы зерна и прочие запасы. Ему оставлялись дом в саду и поле в три сотых. Для одной семьи хватит! Бай, к удивлению, молчал, вдавив голову в плечи. Неожиданно спросил, рыгнув — видно, из-за завтрака вытащили: — Кто конфискует? — Советская власть! — ответил, как отрубил, Исак-аксакал. Бай молчал. Но уже когда ревком начал выходить со двора, догнал Исака, схватил за руку, принялся ругаться, брызжа слюной, угрожать, кричать, что Исак мстит за Кариму. А Исак никому не мстил — ни баю, ни судьбе. Он просто понимал, как несправедливо, когда все работали, а богатства прятал в свои мешки один человек, бай Нарходжа! И что не он, Исак, так кто-то другой все равно возьмет бая и вытряхнет из него все наворованное, как из перевернутого мешка. Кто-то из еще более молодых ревкомовцев крикнул: — Что ты терпишь, аксакал? Дай ему покрепче, чтобы запомнил, кровосос. Несколько ревкомовцев повернули на помощь к Исаку, и бай выпустил «аксакала». А к вечеру Нарходжа велел собрать вещи из домов своих жен, грузить на арбы. Сам таскал. Баю помогали сын Шерходжа и два работника, в том числе наиболее преданный друг Нормат. Они выпустили всех животных из скотного двора и конюшни, пусть гуляют по кишлаку! А кто не хотел убегать — целое стадо коров, овец и коз — погнали к гузару, главной площади в самой середине кишлака. Через эту площадь проходили все дороги в другие кишлаки и города. Как видно, бай не на шутку испугался и решил убраться — с чем бог позволит. Но бог на этот раз оказался не очень щедрым для бая. На гузаре его обоз встретили ревкомовцы, а в чайхане и вокруг собрался и галдел народ, такой шум кипел, что казалось, тысячи человек сбежались на гузар. Не удалось баю бежать! Под крики людей, разгневанных этой его попыткой, ревкомовцы отобрали у Нарходжи скот, тут же раздав его неимущим и оставив некогда могущественному семейству двух рабочих быков, две коровы да пять-шесть овец и коз. С тем и убрался Нарходжабай, покрывая проклятьями кишлак и народ, который столько лет гнул на него спину, а теперь смеялся. Бай кричал на прощанье, что ноги его тут не будет и они еще поплачут без него, потому что не к кому больше обратиться за помощью… за подаянием, понимали уже многие, поэтому и смеялись. Позже спохватились, что не видели на арбах старшей жены Нарходжабая — Фатимы-биби. И выяснили, что она осталась с дочкой Дильдор в доме на дальнем краю сада. Обсудили это и обнаружили, что и Каримы вроде не было. Тоже осталась в Ходжикенте? Да, осталась, но в байский домик не пошла… Бай грузился в такой суматохе, когда, говорят, и собака хозяина может не признать, и Карима выбралась со двора. По чужим садам и дворам, прижимаясь к дувалам, она добралась до дома Исака-аксакала. Со слезами упросила его мать спрятать ее, бедную, до прихода хозяина, пусть он прикажет, как ей дальше жить… Не могла она и не хотела уезжать с ненавистным баем. Мать Исака всего боялась до дрожи — вдруг бай ворвется, вдруг Шерходжа ворвется, вдруг сын рассердится, как не сердился никогда, а тут еще и сам Исак не возвращался домой, хотя уж ночь наступила. Ревком заседал. Создали вместо ревкома сельский Совет, а председателем избрали — ну конечно! — Исака, молодого и чернобородого. Он вернулся за полночь. Увидел Кариму, сидящую на веранде, и — ничего не сказал. Только постоял недолго и снова на нее глянул — она была одета в ситцевое красное платье, которое помнилось по ее девичьим годам. Из-под ребер подкатила неожиданная радость. Он вздохнул облегченно и улыбнулся Кариме. А она встала, как будто ничего не случилось, как будто она давно тут жила, подошла к нему, сняла с него чекмень… С тех пор минуло шесть лет. Пятилетний Салиджан спит-посапывает рядом с бабушкой на веранде, месячный Алиджан сладко и бесшумно приютился в глубокой люльке, одна она бодрствует, хотя ночь давно уже развесила над Ходжикентом свой высокий звездный полог, каждый раз все такой же, каким был в молодости наших дедушек и бабушек, и каждый вечер новый — то светлей с того края, который вчера был темным, то в облаках, то чистый и прозрачный, как будто звезд стало вдвое, втрое больше и небо решило все их показать людям. Муж часто уезжал на ночь — днем времени не хватало — в соседние кишлаки, о делах поспорить, с дружками посоветоваться — все председатели были новые, и власть новая, учились жить и работать. Иногда он задерживался до утра, но чаще скакал домой, даже если предупреждал, что может задержаться. Просыпалась и звала тоска по любимой жене, которую ему все же подарила жизнь, и Кариме не спалось, ждала мужа с верой и лаской, затаенной в душе. Сегодня рано уехал, еще засветло, может быть, скоро и вернется… Карима взяла чугунок с молоком, к вечеру истопившимся в печке, и стала разливать — часть в кастрюльку, для завтрака, часть в чашку — себе, и тут крепко забарабанили в калитку. Кто это мог быть? «Аксакал» обычно так никогда не стучался, он окликал, сопровождая свое появление шутливой фразой, но, может быть, устал и решил постучать? Она хотела крикнуть: «Бегу!», но промолчала, чтобы пошутить над ним, ответить ему своей игрой, и пошла через сад к калитке, крадучись и прижимая чугунок к груди. Так спешила, что забыла поставить его на место, — от внезапности этого ночного стука в калитку, который повторился. Захотелось спросить, кто там, но опять промолчала, потому что подаст голос — не выйдет розыгрыша! Она отодвинула задвижку, ожидая, что «аксакал», присевший за калиткой до земли, распрямится и обнимет ее и засмеется. Но вместо этого блеснул нож и, жикнув, пролетел над ухом. За калиткой обрисовалась чья-то большая темная фигура. Нагнулась, собираясь то ли повернуться, спрятать лицо, то ли ударить Кариму головой и ворваться во двор, но Карима запустила в эту фигуру, в эту голову чугунок с остатками молока, быстро захлопнула калитку и закрыла на засов. Тут только, отшагнув и прислонившись к соседнему дереву, она почувствовала, как гулко бьется сердце, и услышала, что мужчина за калиткой стонет и ругается. Видно, она все же угодила ему в голову тяжелым чугунком. Упал, похоже, и поднимался. Что он станет делать? Карима затаилась. До нее донеслись шаги. Человек удалялся… Она подняла глаза на дерево, у которого стояла, и увидела нож, вонзившийся в шершавый урючный ствол. Удар был сильным, нож воткнулся глубоко и торчал ручкой немного вверх. Боже, если бы Исак был дома, он догнал бы этого… страшного бандита, метнувшего свой нож, и… Нет, нет! Не в нее целился бандит, а в Исака! Это хорошо, что мужа нет дома! Дети остались бы сиротами! Карима еще раз боязливо покосилась на нож. Ну конечно, бандит ждал, что калитку Исак откроет, кто же может ночью неизвестному пришельцу открыть калитку в свой двор, не женщина же! И нож пронесся выше, потому что бандит, хотевший убить Исака, целился в него, а он на голову выше своей Каримы. Если бы это он открыл калитку, бандит бы не промахнулся. Тоже какой-то здоровый, по себе мерил. Ноги подкосились… С трудом выпрямилась и отошла. Вспомнила о ноже, но испугалась вернуться, еще раз его увидеть. А потом подумала, и хорошо, что торчит, не надо трогать, пусть торчит, приедут чекисты из Газалкента, посмотрят… Саттаров приедет и посмотрит… А муж прекрасно сделал, что задержался. Бог его спас! А если бандит снова появится до утра? И не один, если их будет несколько, много, придут и зарежут ее, и мать Исака, и детей?! Едва мысль добежала до детей, как Карима рванулась в дом, сняла со стены винтовку мужа, с которой Исак не раз учил ее обращаться, хотя она только смотрела на оружие, а в руки не брала. Теперь сжала винтовку, вспомнила, проверила, заряжена ли она, и выяснила, что нет. Нагнулась, покопалась в ящике, спрятанном на дне крайней ниши, нашла патроны и зарядила винтовку. Все сумела! Глаза запомнили, что должны делать руки. А ну-ка попробуйте теперь, то ли подумала, то ли прошептала она, выйдя на веранду и окидывая взглядом темный сад. До самого рассвета она ходила по двору. Первыми очертились вершины Чимганских гор. Из-за них выкатывается солнце, и на их каменные пики раньше всего падают его лучи. В дальних и соседних дворах, почуяв приближение бесшумного светила, запели по-своему, раскричались петухи. Птицы зачирикали, защебетали вдруг так радостно и так громко, хоть уши зажимай! Природа просыпалась. Запели на свой лад и перепелки в клетках Исака, сделанных им из огромных выпотрошенных сухих тыкв с сетками. Чтобы дети развлекались. Тыквы висели в восточной стороне двора, откуда солнце заглядывало в сад… «Не забыть дать корма перепелкам», — подумала Карима и побрела к дому. Небо посветлело, в ореховой роще на соседнем склоне заливались соловьи. Все это успокаивало понемногу, но нож торчал в урюковом дереве. Тем не менее день — не ночь, она поднялась на веранду, разрядила винтовку, чтобы не схватил ее, заряженную, Салиджан, который скоро проснется. Однако раньше, чем очнулся дом, чем заворочалась свекровь и заулыбались и захныкали детишки, за дувалами послышался топот коня. Как же она ночью не сообразила, что появлению Исака должен предшествовать этот топот? Он ведь уехал на саврасом! Она побежала к калитке, сняла засов, распахнула ее. — Ну как, хорошо выспалась? — спросил Исак, вводя коня во двор. — Да. — Все в порядке? — Да, сейчас расскажу… Давай! Она взяла за повод саврасого, увела в конюшню, быстро привязала. Пусть остынет до корма и воды… Торопливо вышла, помогла мужу снять чекмень, выцветший под солнцем и дождями, а Исак спросил улыбаясь: — Ну, что же ты молчишь? Что ты обещала мне рассказать? Она хотела прежде дать ему умыться, но не выдержала, взяла за локоть и подвела к урючному дереву… — Кто приходил? — Какой-то хулиган. Исак вернулся к веранде, взял чекмень и засунул руки обратно в его рукава. — Выведи коня! — Хоть бы позавтракали… У меня топленое молоко… с лепешкой… вы же любите… — А новый учитель не приходил? — Исак остановился с конем возле калитки. — Ладный такой, высокий. — Нет. — Мне Саттаров звонил, Алимджан. По телефону. Рассказывал, что вот-вот новый учитель должен к нам приехать, на велосипеде. — Не видала. Карима смотрела на мужа встревоженными глазами и качала головой. Новые слова — телефон, велосипед — все еще вызывали у нее тревогу. Как это — в Газалкенте говорят, а здесь слышно? Как на двух таких колесах катаются и не падают, когда, если поставить этот велосипед, он и секунды не держится, сразу валится. Старики уверяют — тут не без колдовства, то есть не без шайтана! — Ты не тревожься, — сказал Исак-аксакал, глядя в глаза жены. — Берись за плов! — Какой плов? — Если новый учитель не приехал, то сегодня приедет. Будем угощать. Она покивала головой: хорошо, мол, но глаза ее все еще тонули в горькой тревоге. А с узкой улицы уже перемахнул во двор быстрый топот коня — Исак с места тронул рысцой…ГЛАВА ШЕСТАЯ
По пути к сельсовету Исак и так и эдак успел обдумать событие, о котором ему рассказала жена. Он давно перевел коня на спокойный ход. Получалось, что люди, эти выродки, замыслившие убить его, не знали, что он еще за полдень уехал из кишлака. У него были и в Хумсане, и в Богустане неотложные дела, связанные с Салахитдином-ишаном. А может быть, знали? Может быть, за учителем охотились, подлецы? Если он приехал, проще всего предположить, что на первую ночь остановился в доме, председателя. Мать и Карима приняли бы учителя с дорогой душой. А ночью кто пошел бы к калитке на громкий и откровенный стук! Мужчина! Учитель! Но ведь ты никому не говорил о звонке Алимджана Саттарова, предупредившего, что учитель едет. И велосипед — не поезд, который ходит по расписанию, нарушая тишину дальних просторов гудком своего паровоза. Вот, ты сам гадаешь, когда тебе ждать и встречать учителя. Нет, не мог убийца рассчитывать, что учитель откроет ему калитку. Плохой из тебя расследователь, Исак. Этот нож предназначался тебе, дорогой. Тогда и выходит, что о твоем отъезде не знал ничего басмач, приблизившийся ночью с ножом к твоей калитке. А раз не знал, то он не здешний, приезжий. И понять все это не так уж трудно… С Саттаровым это следует обговорить подробно. Сейчас же… Вот слезет с коня, поднимется на второй этаж бывшего байского дома, где гости пировали, и позвонит… Но так сильно охватило и не отпускало беспокойство об учителе, что он сразу спросил, завидев у ворот крохотного, как гном, деда — сельсоветского сторожа: — Никто не приходил? Вчера-сегодня… — Как же! Учитель приехал! Вчера. — А где спал? — В школе. Где же еще! — Ну-ну… Вы его когда видели? — Вчера видел. Такой парень! Рослый, сильный! Как борец — хоть сейчас отправляй его на кураш! И зачем ему школа? Такой… — Ну-ну, — опять сказал Исак и, перебив, остановил сторожа: — Можете идти домой, Ахмад-ата, отдыхать. — Хорошо, аксакал. А ворота? — Настежь откройте, как всегда! Председатель сельсовета велел держать распахнутыми во весь размах ворота в свою контору, но после двух этих злодейских убийств люди кишлака все равно реже, чем раньше, заворачивали в сельсовет. Казалось бы, школа — одно, а сельсовет — совсем другое, у каждого своя нужда в нем, а вот поди ж ты — жизнь в Ходжикенте притихла, словно бы пригнулась в ожидании очередного удара. И ведь как все связано! Пуля и камень поставили свои точки на коротких путях молодых учителей, а прошлой ночью нож летел в председателя. Да пролетел мимо… Исак в который раз представил себе, как это было, и только сейчас сердце его не то что сжало, а скрутило от мысли, что острие этого ножа могло коснуться Каримы, могло вонзиться не в дерево, а в ее тело. За что? Ему это казалось невероятным! А могло… Байская жена, сбежала от Нарходжи, который взял ее себе за долги и по шариату имел на нее все права. Сбежала — смерть! А теперь — председательская жена. Согласилась на это — смерть! Нож в грудь — ее участь… Ну ладно. Не пугай себя, Карима жива, слава богу, а там еще посмотрим, чей верх… Исак не сомневался, что байские деньки сочтены, но кому быть на празднике новой жизни — ему или новым председателям, которые сейчас с мокрыми носами бегают по пыльным кишлачным улицам, — это еще, конечно, не известно… А почему сразу, при первой же мысли о врагах, воскресло в голове имя Нарходжи? А кто же еще? Карима была действительно отдана ему в жены и недолго, но жила в его доме. Исак вспоминал об этом без злобы на Кариму, которая сама пришла к нему и подарила двух прекрасных сыновей, но ведь это было, этого не зачеркнуть, и бай мог помнить и мстить. Да что ему Карима, Нарходжабаю, который лишился пусть награбленных, но таких богатств, что не пересчитаешь в один присест: земли, сады, рисорушки, дома, запасы, золото, драгоценности, жены, работники, и еще, и еще! Кони, кони, которых он так любил, которыми гордился перед друзьями-богачами из других волостей! Скот, дававший столько молока и мяса, что посуды и телег не хватало, чтобы возить в город, на базар! Деньги, бессчетные деньги каждый день текли в карманы Нарходжабая, и вдруг — стоп! Для бая, привыкшего к такому ходу жизни, к своим богатствам, это «стоп» — хуже пули. Значит, кто бы ни метнул нож — за ним прятался бай. А вот именно ли Нарходжабай? Это не совсем ясно… Так сказали бы и Саттаров, и Махсудов, но… что тут долго голову ломать?! Махсудов объяснил, когда приезжал в Ходжикент, что, конечно, Нарходжабая не назовешь ни ангелом, ни другом, ни трусом, ни просто вынужденно смирившимся с новыми порядками раскулаченным мироедом, который — и это еще живо роилось в его памяти — был хозяином всего, властелином! Но одного этого недостаточно, чтобы обвинить бая в убийстве учителей, а главное, обвинишь не того — настоящего убийцу упустишь, вот что! Может быть, и не Нарходжа, может быть, недобитые басмачи сколотили вокруг какого-нибудь курбаши-предводителя банду для нападения и убийства самых активных проводников и деятелей новой власти, новой жизни. Выходит, на первом месте у них — учитель, самый опасный в их глазах человек. Да, да, он детей учит, он и взрослым прочищает зрение. Тебя убьют, Исак, сразу другого выберут, а учителя самого нужно выучить сначала, учителей, говорил Махсудов,мало, их, наверно, долго хватать не будет, поэтому удар врага болезненный, точный. Нужно прикрыть новенького от пуль, таящихся наготове в чьих-то маузерах, от ножей, зажатых в чьих-то руках. Исак поднялся по внутренней лестнице дома на второй этаж, вынул связку ключей, открыл дверь большой комнаты, превращенной в комнату сельсовета, подошел к широкому окну, чтобы открыть и его, и остановился. За стеклом зеленели горы в камнях и солнечных пятнах. Кое-где кусты, тронутые дыханьем осени, начинали краснеть и желтеть. Там, в горах, было холодней, чем внизу. Там много зарослей и пещер, в которых можно прятаться и даже невидимо жечь костры, подумал Исак, есть где прятаться… Исак растворил скрипнувшие оконные створки и увидел байский сад и клин земли за ним, поднимающийся на ближний склон. Там должны были работать люди. Никого не видать… Не вышли! Боятся чего-то… Что ж, он сам выйдет, один! Почему — один? Потому что верит, что за ним придут и другие. Но, значит, и люди вспомнили о бае? — Можно, аксакал? — Входите, учитель! — Вы узнали меня? — Сторож описал. А вас не трудно узнать после двух слов — рослый, ладный… Сядем, потолкуем. Я рад, что вы приехали… — Ну а как же! Меня направили. Вот бумага. Исак застелил стол красным полотенцем, отодвинув с него книгу в переплете, довольно толстую. Масуд взял книгу в свои руки: — Кто читает? — Я… Некогда, правда… — А где вы грамоте научились? — В красных вагонах, — серьезно ответил Исак, и глаза его, повернувшись к свету и не видя окон и гор за ними, углубились во что-то далекое, где шла война, ползли эшелоны и, кто-то из самых беспокойных и нужных жизни и времени людей, какой-нибудь врач или даже офицер не очень высокого чина, собирал желающих и учил их буквам под несмолкаемый днем и ночью стук колес. Красные вагоны — это были товарные вагоны, в которых тыловые рабочие перемещались в разных направлениях — куда погонят… Исак уселся на свое место, и Масуд присел к столу с другой стороны. — Потом с большевиками стали говорить по-русски, — улыбаясь, вспоминал чернобородый «аксакал», — учились читать листовки. — Понятно. — Я своих учителей никогда не забуду. Учитель… даже не знаю, как сказать. Это — учитель! Одно слово! Лучше не скажешь. И вас заверить хочу, — Исак приложил свою толстопалую натруженную ладонь к груди, — все сделаем, чтобы вас прикрыть, не дать… — Он помолчал. — Сельсовет у нас был раньше на гузаре, теперь здесь. Дорога в школу — через дом сельсовета. Мы — на переднем плане, школу прикрываем… Телефон провели! — Исак широко провел рукой в сторону стены за собой, и Масуд увидел там, за спиной председателя, телефонный аппарат с блестящей ручкой и трубкой, большой и очень похожей на сурнай, хоть песни играй на ней, хоть труби. — Это Саттаров постарался, Алимджан, чтобы у нас всегда была с ним связь, самая срочная! Если надо! — И с Ташкентом можно по телефону поговорить? — Да, конечно, — важно ответил ему Исак. — Сначала покрутить, наш город ответит, а у них попросить Ташкент, подождать, ну, раза два-три напомнить, поторопить, они быстро забывают почему-то, а потом уж будет и Ташкент… Не очень слышно, но догадаться можно все же, что говорят! — Теперь нам никто не страшен! — восхищенно сказал, почти воскликнул Масуд. — Не говорите так… — Почему? — Вы сын Махсудова? Мне сказал Алимджан-ака… — Да. — Разбираетесь в этом деле? В обстановке. — Я — учитель и во всем разбираюсь… — Угу, — Исак помял ладонью свою черную бороду, покрутил в ней пальцами и рассказал Масуду про сегодняшний ночной случай у калитки своего двора. — И жена запустила в него чугунком? — Да. — Молодец! — Она у меня вообще молодец… Сама от бая сбежала. Спасибо, учитель, за доброе слово о моей Кариме. — Рана у него на голове должна быть! — У кого? — У бандита. У этого человека. Он застонал? Значит, попала в голову. Если бы в плечо, в грудь — вытерпел бы. А в голову… Чугунок — это чугунок, на голове рана быть должна! — повторил Масуд убежденно. — Ай да учитель! — вытаращил глаза Исак. — Мне и мысли такой не пришло… Бог вас просветил! — И энергично встал с места. — Найдем! Весь кишлак перероем, а… — Если он еще в кишлаке. — Да, — Исак перестал ходить, охваченный нервным возбуждением, и уставился на Масуда. — Если не ушел из кишлака… Я сейчас же позвоню Саттарову и — за розыски. Уверен, он скажет то же самое! Вы — герой! — Рано хвалите. Исак-аксакал уже накручивал жужжащую ручку аппарата, плотнее прижав его рукою к стенке. Газалкент не хотел отвечать что-то, аппарат рычал от раздражения, а никто не отзывался. — Ну, подождите, — сказал Масуд, без преувеличений боясь, что «аксакал» сломает телефон. — Расскажите мне, что за человек Кадыр-ака, который работает у Кабула-мельника в чайхане? — Он? Золотой человек! — Я тоже так подумал. И хочу взять его на работу в школу. Что скажете об этом? — Что я могу сказать? Сам спрошу… Откуда деньги возьмем ему платить? У нас — нет… — Он пока и не требует, а потом добьемся. Школе дадут… Кадыр-ака будет всем школьным хозяйством ведать, помогать мне, а жена — уборщицей. Они согласны. — Я же вам сказал — золотые люди. Бедняки, а не требуют! Масуд решил промолчать о том, что Кадыр-ака обещал вчера прийти, а не пришел, это прозвучало бы, чего доброго, жалобой, а чайханщик мог не успеть собраться, или жена его, кажется, Умринисо, испугалась ночи, упросила помедлить до утра, а может, вообще испугалась перебираться в школу. Отец всегда учил — предполагай, но не гадай, если можешь узнать. Узнай! Это всегда точнее. — Покрутите! Исак, который не выпускал телефонной ручки, принялся накручивать ее, но опять без толку. — Я хочу, чтобы не только ребята в школу ходили, — заговорил Масуд, отвлекая «аксакала», — мы и взрослых запишем и соберем в ликбез. Будем ликвидировать безграмотность… Найдутся ли желающие? — Желающих-то, — Исак махнул рукой, — самая большая школа не поместит, если только они… не испугаются. Вот что! — он цокнул языком. — Страх у них, особенно сейчас… А народ в кишлаке поголовно неграмотный… — Тем легче испугать его. — Да! И учиться хочется, и… — Работать нужно. Нам с вами. С утра — дети, во второй половине дня — взрослые… Если даже три-четыре человека запишутся, если один — буду учить. Это я беру на себя. — А я налажу дежурство милиции. Во время занятий… У нас же есть милиция! — Один придет, за ним — другие… Из Ташкента пригласим театр… В школе музыкальный кружок организуем… Это я тоже беру на себя. Люди должны учиться! — А я — ваш помощник, учитель. — Уже четыре года прошло, как Ленин, наш вождь, сказал — учиться, учиться и учиться! — Оказывается, мы еще… мало делаем… — Хорошо, что виноватых далеко не ищете… С себя начинаете… — Да я! Масуд отыскал на столе листок бумаги, написал сверху карандашом: «Ликбез — Карима Уктамова», спросил: — Согласны, если и я с нее начну? — Даже имя мое знаете… — Крутите! — напомнил Масуд, кивнув на телефон. Наконец Газалкент отозвался, соединили с Саттаровым «аксакала», он все рассказал и закивал головой, слушая распоряжения в ответ, повесил трубку, дал отбой, крутнув ручку еще пару раз, и повернулся к двери: — Вот и Кадыр-ака! Чайханщик виновато стоял в дверях, понурив голову с пышными усами: — Простите, учитель. Ночью никак не могли отыскать арбу… Где найдешь? А вещи все же есть кой-какие… И потом… Я хотел керосин отнести, а жена… — Испугалась одна остаться? — Да! — улыбнулся Кадыр-ака. — Говорит, боюсь! Она хорошая, послушная, но… — Ладно, — перебил Исак-аксакал. — Умринисо уже здесь? — Утром опомнилась, и арбу нашли. — Я бегу к Батырову. Наша милиция! Лестница заскрипела под его ногами, а Масуд позвал чайханщика: — Пошли и мы. Во дворе, у сложенных на земле узлов, стояла, закрыв лицо платком, одноцветным и темным, скромная женщина, поздоровалась негромко. — Счастья вам на новом месте! — весело ответил Масуд и легко вскинул на плечо самый вместительный узел. — Вон в тот дом, правее школы, он пустой. В нем будете жить! — Фатима-биби там жила, я у нее убирала… — Открой лицо, Умринисо! Не забывай — в школе находишься. Думай, что учитель — твой сын, — услышал он за своей спиной. — Ну, как будто наш сын. Его зовут Масуджан… Переносили вещи. Перед входом в дом, на террасе, все вместе помолились. В открытые двери первым ворвался свет. — Так, дорогие. Раскладывайтесь поудобнее. А я пошел. — Куда, если не секрет, учитель? — Учеников переписывать. Тех, кто уже ходил в школу, и тех, кто захочет к ним присоединиться, а кроме того, и взрослых… в кружок ликбеза. Пора! — Позвольте, учитель… Вы — человек новый. Лучше нас с Умринисо говорить, конечно, умеете. Все, что надо. Но один лишь сделает вид, что слушает вас. Другой и слушать не будет. А третий даже и в дом не пустит! У нас кишлак… темный. Не такой, конечно, как глухая ночь, как бывает… ночь без звезд и луны. Нет, разные в нем люди, как в любом другом месте… есть и скрытные, себе на уме, а есть с душой нараспашку. И сквалыги-сутяжники, лишь бы поругаться с кем-то, поссориться. И радушные, встретят гостя — последнюю рубашку отдать готовы, если тот нуждается, последнюю ложку плова, если ты голоден. И скучные, от тоски с ними помирай, и веселые, любят спеть, станцевать. Ну, я сказал, как везде. Но все же… все же… не везде так, как в Ходжикенте… двух подряд учителей убили, молодых… им бы жить и жить! А… Словом, понятно. Люди стали бояться школы. Вас еще не знают. А меня уже все знают! Мы с Умринисо тут родились и выросли. Слава богу, никого не обижали, жили своим трудом, и это все тоже знают. Нам скорей поверят, пошлите нас, Масуджан. Я кой-как запишу… и она сумеет кой-как записать. Я учил, как мог, она даже письма писала людям, когда война была, и наших забирали окопы рыть. Далеко… Напишет — ей лепешку дадут, кувшин молока, кто что, поделятся… Доходили письма! Во-от… Нас все знают, и мы всех знаем. Мы о вас хорошие слова скажем… Самые хорошие… Пошлите нас лучше. После этой длинной речи Кадыр-ака даже пот с лица вытер ладонью. А Масуд подумал — умный чайханщик, в его предложении есть резон. — Хоп, — сказал он, — хорошо! Вам поручаю это и Умринисо-ханум, — он повернулся к жене чайханщика, а она смущенно покраснела — за долгие годы ее никто не называл так, уважаемой. — Вы, Кадыр-ака, будете записывать детей, а вы, Умринисо-ханум, взрослых, которые захотят в кружок ликбеза ходить… Имя, где живут… — А куда записывать? — Я сейчас вам тетрадки принесу… Он убежал в школу, в свой дом, выхватил из чемодана две тетрадки и карандаши и вернулся. Тетрадки были общие, толстые, и он подумал, хватит и для большого списка. — Вот. Умринисо, до сих пор боязливо прятавшая от учителя хоть пол-лица под платком, теперь перестала это делать, взяла тетрадь с карандашом и прижала к груди. Муж предупредил ее: — Ну, женушка, достойная работа нашлась тебе. Смотри, чтоб не вышло по той поговорке: у женщины, которая за ситом к соседке пришла, слов найдется побольше, чем дырочек в сите! Все сделаем, учитель! Больных отметим… Я знаю, Абиджан больных отмечал… — Кстати, — спохватившись, сказал Масуд. — Если где увидите человека, который в голову ранен, мне скажете… — Кто ранен? Какого человека? — Не знаю. Если увидите, прошу мне сказать. Это плохой человек. Аксакал распорядился. Чайханщик действительно всех знает, по всем домам пойдет. Может увидеть… — Я понял, учитель. Солнце поднялось над горами, ветви чинар просеяли его лучи и заблестели, ветер иногда прилетал с реки, как будто волны несли его или рождали. Масуд шел по каменистому, усыпанному мелким щебнем спуску от бывшего байского дома к мосту и видел, что возле мельницы Кабула стоят четыре арбы, груженные мешками. Арбакеши, с усилием подбрасывая тяжкие мешки на плечах, чтобы уложить получше, перетаскивали их в мельницу. Видно, только что подъехали, даже не успели выпрячь коней. Он прошел еще немножко и свернул в сторону чинаровой рощи. Еще в Ташкенте Масуд дал себе слово в первый же день своей ходжикентской жизни побывать у могил Абдулладжана и Абиджана… Наверху, под самой большой чинарой, на каменное глыбе, обтесанной со всех сторон, сидел ишан и перебирал четки. Глыба была похожа на трон. Дервиши, вечные нахлебники «святых» мест, старательно изображавшие из себя верующих нищих, обряженные в лохмотья, окружали «трон» ишана. Как мухи. Когда Масуд проходил мимо, ишан оставил четки и стал оглаживать свою конусообразную бородку, но на прохожего и глазом не повел. Масуд, как полагается, прислонил ладони к груди и приветствовал ишана, но тот по-прежнему смотрел никуда. Видно, ишан не ответил на его приветствие, потому что к его ногам не полетела монета. Возвратиться и дать ему денег? Ну уж нет, лучше на эту монетку купить школьникам лишнюю тетрадь. И, думая так, Масуд прибавил шагу… Кладбище началось сразу за чинаровой рощей. Было оно голым и облитым солнцем сверх меры. Только вдоль ограды росли бесшумные сейчас тополя, отделяя кладбище от байского сада. Тоскливое место… Купола старых могил потрескались и покрылись выгоревшей верблюжьей колючкой, даже она, неприхотливая, омертвела, не вы держала этой смертной сухости, похуже, чем в пустыне. Да, собственно, кладбище было маленькой пустыней. Пустырем на жгучем солнцепеке. Холмы, которые погребли под собой чьи-то неисполненные желания и несбывшиеся надежды, кишели муравьями. Заслышав шаги, в бурьян уносились ящерицы. Сбоку Масуд заметил две свежие могилы. Тополя, на которые вчера показывал Кадыр-ака, стояли довольно далеко от них, это при взгляде оттуда, снизу, все уплотнялось, а тут словно бы разъединилось, разделилось… Одна могила была повыше, совсем свежая, а вторая уже подсохла и осела. Там — Абдулладжан. Он — первый… И опять здесь, у могил, вспомнилось ташкентское педучилище, шум, веселье, радостные лица. Шутка долго еще казалась им главным и самым замечательным делом в жизни, они умели отдавать ей время. Готовясь к честной, хлопотливой, всепоглощающей работе, они еще оставались детьми. Вспомнилось, как самозабвенно играл Абдулладжан бедняка Гафура в пьесе «Бай и батрак», которую поставила их самодеятельность. Девушки с чуткими сердцами говорили, что он зря пошел в учителя, погубил в себе артиста. Во всяком случае, учитель — с душой артиста. Абиджан увлекался спортом. Рослый, упрямый, он мог доказать в спорте свою силу, завоевать расположение друзей и веру их в то, что на него можно положиться в любом деле. В велосипедных гонках Ташкент — Коканд Абиджан занял первое место… Все это было, было! А теперь — холм земли, который осядет, высохнет, по которому бегают скользящие ящерицы… Злоба на несправедливость, на безбожность такого исхода двух молодых жизней охватила Масуда, и он не сразу услышал за собой какой-то льстивый, заикающийся голос: — И-их з-здесь похоронили… — Учителей? — Л-людей б-б-было много… Позади него, в пыльном халате, сидел, скорчившись, кладбищенский служитель, который крадется по следу тех, кто приходит сюда, и читает молитвы из корана, не дожидаясь, попросят ли его об этом, но зато уверенный, что будет подаяние. Молитву он читал наскоро, почти не заикаясь, но на редкость неразборчивым, картавым языком. Масуд сунул ему в протянутую руку мелочь, служитель сжал грязный кулак и посмотрел на него красными от болезни глазами. Покачал головой. — Вы чего? — спросил Масуд. Человек ничего не ответил, но опять сожалеюще покачал головой. Масуд пошел. Сухие репьи цеплялись за одежду с высоких кустов бурьяна. Очистив рукава и брюки выше колен, Масуд зашагал дальше вдоль старого дувала с ложбинками и осыпями, окружавшего удаленный от кишлака и напоказ бедный домик дервишей, правоверных слуг аллаха. И вдруг услышал матерщину… Отборную! Самую настоящую! В святом-то доме! Он присел за дувал и поднялся, когда и во дворе все затихло. На веранде лежал длинный дядька с перевязанной головой. Повязка была небрежна и толста, со следами крови. Внезапно ругань посыпалась снова. Затаившись, Масуд начал разбирать слова. Человек с перевязанной головой посылал кому-то проклятия за то, что его забыли надолго, не несут ни еды, ни воды. Хотя бы напиться принесли, сволочи! Он едва не кричал. Вероятно, рана саднила… Это был он, тот самый, что кинул нож в Кариму, Масуд не сомневался. И он был один, раз клял на чем свет стоит всех, кто его забыл. Медлить было нельзя. Масуд вынул наган, перемахнул через дувал и быстро подошел к раненому. Тот увидел его в последний миг, хотел схватить что-то и будто бы приготовился вскочить, но Масуд раньше поднял руку: — Тихо! Пикнешь — застрелю. Встать. Руки вверх! Увидев наган, направленный на него, раненый сразу побелел. Встал неторопливо, косясь на подушку, валявшуюся поверх подстилки на веранде. Масуд показал ему наганом, чтобы отошел, и отшвырнул подушку ногой. Под ней чернел маузер. Раненый озверело смотрел на Масуда, а Масуд не спешил. Он присел, не сводя нагана с этого человека, поднял маузер, спрятал в карман и велел: — Шагай вперед! Тот, не веря, что все это взаправду, поплелся, съедая выпученными глазами тропинку в желтеющей здесь траве. Масуд соображал: если они пройдут мимо ишана, там дервиши, может подняться шум. А главное — он с наганом в руке. Он же — учитель, только учитель, и завтра должен начать занятия в школе… Но этого нельзя выпустить ни под каким видом! Может быть, маузер, оттягивающий карман, — тот, из которого пуля оборвала последний вздох Абдулладжана… А если маузер, почему этот выродок не стрелял ночью в Исака, то есть в Кариму? Не хотел поднимать шума. Надеялся на свой летучий нож. — Налево! Живо. Ишана и дервишей лучше обойти. Тропа как раз свернула к реке, и Масуд властным шепотом приказал арестованному тоже свернуть. Тот сделал это нехотя, трудно, но все же подчинился. Он надеялся, что ишан и дервиши помогут. А Масуд подумал: не поручишься, что и среди верующих кто-то не вооружен. — Шагай! Надежда уходила от дядьки с перевязанной головой, оставалась под чинарами, возле ишана с четками. А они спускались к реке. Шум воды становился все слышнее. Так… Время самое рабочее — утро. На гузаре безлюдно. Но у мельницы — четыре арбы и арбакеши, таскающие мешки. Наверно, уже перетаскали? Они приезжие, если и увидят… Нет, лучше пусть не видят, как он ведет кого-то. Кого? Он еще не знал ни имени, ни судьбы этого человека. Но, казалось, уже знал о нем многое. — Стой! Тот остановился. Масуд подшагнул, ощупал его тело — у дядьки больше не было ничего. Нож — в дереве во дворе Исака. Маузер — в кармане Масуда. Он сунул в другой карман свой наган. — Опусти руки и спокойно иди вверх, через гузар. Я пойду рядом, вот, даже возьму тебя за локоть, как будто веду раненого, несчастного, помочь хочу. Если в сторону шагнешь… помни, в другой руке у меня наган, стрелять буду прямо из кармана. Хорошие штаны, но не пожалею… ни штанов, ни тебя. Левой рукой он сжал локоть дядьки, и они двинулись своей дорогой. Все пока было терпимо. Арбакеши еще таскали тяжелые мешки. Один глянул из-под мешка на прохожих, но смотреть было неудобно, и он отвернулся. Дорога поднималась к сельсовету…ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ну конечно, в Ходжикенте — новый учитель, и Шерходжа внезапно появился и расспрашивал о нем. Ему интересно. Еще недавно молодой хозяин был самым видным человеком в кишлаке, ему принадлежало будущее, а теперь все переменилось. Странная штука жизнь! Хозяевами вдруг стали бедняк Исак, учитель… Двух первых учителей убили, но при чем же тут Шерходжа? Его не было. Он скрывался где-то в горах. А почему скрывался? Дильдор задумалась… Ночью к новому учителю ее посылал Шерходжа, он же велел отнести керосин. Ему не терпелось узнать, каков он, новый. Она рассказывала об этом ташкентце. Шерходжа перебил: — Давай замолчи, ладно! Ты чего-то очень уже охотно о нем болтаешь. Остановись! Видимо, она повторялась, вспоминая, как он на дутаре играл и пел. Какой голос у него, какой сам большой и сильный. Богатырь. — Он учиться звал, — безразлично сказала Дильдор. — Я тебе пойду! — крикнул брат и вытер жирные губы. — Если хочешь отправиться на тот свет от моей руки, учись! Но такое в кишлаках братья говорят сестрам не раз и по разным поводам. Да, наверно, и не только в кишлаках. Шерходжа посидел, прищурившись и сморщив лоб, как старик, подумал, выключившись из разговора, отдалившись от нее и матери, и, очнувшись, позволил: — А впрочем, ходи, ходи… — Он говорил без улыбки и даже повысил голос на встрепенувшуюся мать. — Пусть ходит, что с ней сделаешь?! Пусть учится читать «алифбе»! А он будет расспрашивать об учителе? — Все теперь тайно бредят школой! — засмеялся Шерходжа. — Чего отставать? Дочь бая должна знать больше всех! А может, и не будет расспрашивать, понял, какой учитель и что вообще двери в школу, похоже, не закроются, хотя кто-то и разделался с грамотными ребятами, приехавшими в кишлак, чтобы научить этому самому «алифбе», азбуке, других. Всю ночь Дильдор вспоминала Масуда. Смешно было! Иногда казалось, что в постели около матери лежало только ее тело, а душа была там — на веранде, где он пел ей:ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Какую-то звезду смахнуло с неба, точно она постаралась повиснуть поближе к земле и сорвалась, а все остальные вспыхнули и засияли на своих местах. Над горами, над рекой, над крышами Газалкента. Ларьки давно закрылись, кузница перестала звенеть и раскидывать по кишлаку, именуемому в здешних краях городом, эхо своих звонов, люди разошлись по домам — все, кроме сторожей. Один Чирчик шумел беспрерывно и даже еще громче, чем днем. У нее, у реки, не было перерыва на ночь, не было отдыха… Саттаров любил эти часы, легче и лучше думалось, наверно из-за тишины, установившейся в мире. Ничто не отвлекало. Вроде бы все было хорошо в районе, и вдруг — одно убийство, второе, молодые ребята, ходжикентские учителя. Только-только успокоилось это — пули, злодейства, навсегда оборванные жизни. Казалось, хватит. Жизнь с восторгом сделала новый шаг и тут же вызвала новые выстрелы. Не было безопасных дорог вперед. Сожалеть — да, но удивляться… В байском доме школу открыли, бай не мог с этим примириться. Бай не выходил из головы Саттарова. И не потому, что среди многих других дел об утаенных от рабочей власти богатствах, которыми теперь в основном приходилось заниматься, Нарходжабай играл не последнюю роль, тоже еще скрывал что-то от народа, хапуга, и немало, но и потому, что пуля сразила школьного учителя в байском дворе и камень убил другого учителя возле мельницы бывшего байского караванщика. Нет-нет, а мысли о бае всплывали как бы сами собой и заставляли передумывать и перебирать все дело… Бай жил в отстраненности от Ходжикента и не имел с ним, со своим бывшим кишлаком, никаких связей. А все ли известно? Еще вчера Саттаров думал: связь — это дорога, дорога — это конь, конь — это кузнец, и под вечер поднялся из-за стола, заваленного делами и папками, и зашагал по пустеющей вечерней улице к кузнице Сабита. Кузница эта стояла как раз напротив байского дома, а сам Сабит был большевиком, и Саттаров без труда давно поручил ему следить за Нарходжабаем, но — толку никакого. Последний раз, когда Саттаров зашел в кузницу пообедать, Сабит, вытирая руки, которые так и невозможно было до конца оттереть от прокопченности, сказал ему: — За два месяца — никуда, ни одной ногой! Я все вижу! — Это ведь тоже странно, что из байского дома никто никуда не ездит. — Да уж… это верно… но… Я все вижу! — повторил Сабит. — А может, не все? — Как? — Кто может подковать у нас коня? — Я! Байских — два месяца не подковывал. — А еще? — Готовую подкову поменять? Есть старики… — неуверенно сказал Сабит. Они перебрали стариков, звеневших своими молотами когда-то на гузаре, и Саттаров спросил: — У тебя с ними отношения добрые? Сабит расплылся, отсветы кузнечного огня засверкали в его глазах. — А как же? Это как род! Это… — он сдавил ладони и потряс ими, показывая нерасторжимую дружбу кузнецов. — Сходи к старикам. Лучше не расспрашивай, а просто поговори, побеседуй, глядишь, сами скажут. Приводил ли кто байских коней? Если — да, кто? Что-то есть в этом подозрительное, даже для газалкентских нужд своих коней не куют. А? — Может, для этого в другие кишлаки ездят? — Может быть. — Хотя рядом близко другой кузницы нет. Справляюсь. — Я знаю… Мальчишкой он знал все кузницы в округе, а в одной из них непременно должен был работать. Это его сон был — качать длинную рукоятку горна и вздувать огонь, сыплющий искрами, создавать его нестерпимо жаркое сиянье, на которое посмотреть нельзя, а намахавшись вволю, длинными щипцами выхватывать из огня разные разности и подставлять под молот кузнеца. А потом самому взять молот. Это казалось чудом. Да кто из кишлачных мальчишек, тем более наделенных крепкими руками, не мечтал о молоте, о кузне? Однако судьба, которая, говорят, от роду написана каждому, распорядилась иначе. Если верить в судьбу, с усмешкой подумалось как-то, то людям его поколения, его ровесникам, от роду была написана революция. Со дня основания стал он командовать районной ЧК, был первым чекистом Газалкента. И хотя сейчас его учреждение, занимавшее тот же кирпичный дом, называлось ГПУ, слово «чекист» прижилось, впечаталось в облик, в характер всех, ходивших сюда на службу и не раз отправлявшихся отсюда на смерть во имя жизни. И почти всегда Саттаров был впереди. А как же иначе? А по натуре слыл он среди друзей мягким человеком, отличался добротой, любил людей. И семья у него была большая — сыновья, дочери, жена, заболевшая рано, хорошо, что дети нежно любили мать и помогали за ней смотреть, и отец, которому исполнилось, считай, девяносто, а все еще выбирается в поле, занимается крестьянством, иначе не знает, куда себя деть. Насколько закрыто для других учреждение Алимджана Саттарова, настолько открыты двери его дома, заходи, дели любое угощение, тебе всегда рады. Чем богаты, конечно… А богаты — не очень, дом Саттарова скорее беден, но он этого как-то не замечает. Некогда. Вот опять отвлекся от чего-то и думает о Нарходжабае. Бай уверен, что со всех сторон обставился защитными стенами — не подкопаешься. Саттаров вынул из настольного ящика протоколы прежних допросов бая и перечитал их. Что же получалось по словам Нарходжи? Все земли и воды, скот и имущество он — по своему желанию — отдал государству. Сына давно не видел. Со старшей женой и дочерью Дильдор порвал отношения, потому что они от него отказались. Обидно, но бог с ними. Жена Тамара? Да, была, коран разрешал, но теперь отпустил ее на все четыре стороны, оставил Тамаре лавку, дом, двор, что она там делает, в Ташкенте, он даже и не знает. Пусть делает что хочет! По нынешним временам ему содержать бы свою любимую, одну-единственную оставшуюся у него жену — ведь можно одну — Суюн-беке с маленькой дочкой, и — болды-енды! Хватит, как говорится. Он живет, ни во что не вмешиваясь. На поверхностный взгляд, можно успокоиться и оставить человека. Бай не раз кричал: — Отвяжитесь от меня! Но если всерьез задуматься, поглубже… Богатства свои Нарходжабай не сам отдал, не по своему желанию, ходжикентский народ отобрал их, действуя во главе с Исаком-аксакалом, вернул хоть часть своего. Где байский сын Шерходжа? Не видел, неизвестно — это не ответ, это вопрос. Где он? Старшая жена с дочкой могли отказаться от бая по его велению, лишь демонстративно. Для обмана. Ну, а Суюн-беке, она ведь тоже не бедная. Он знал ее, Суюн была дочкой скотовода-богача Сарыбая, у которого начал он сызмальства свою пастушечью работу. Летом Сарыбай пас тысячи овец на горных пастбищах. Говорили — тысячи, точного счета никто не знал. А пастбища принадлежали кому? Нарходжабаю. Баи были друзьями, овцы одного ходили по земле другого. Да не ходили — текли. Бывало, повстречаются два стада — чьи? Сарыбая с Сарыбаем, путаницы нет… Когда Нарходжа женился на Суюн — породнились знатные богатеи, земли их размахнулись. Но — тут революция! Сарыбай успел подарить Нарходже дом в Газалкенте, а сам распродал своих овец ферганским земледельцам, подался за дырявый пока еще кордон, в Гульджу, и больше не вернулся. Можно было еще раз допросить бая, встряхнуть, да какой смысл? Опять начнет бай отнекиваться, а прижать, а поймать нечем. Выскользнет, приноровился… С особым нетерпением ждал Алимджан Саттаров этого утра, рассказа Сабита, кузнеца, которому верил, и… не ошибся. По дороге из дома на службу он повернул к кузне, постоял, перекинулся парой слов с Сабитом, уже распалившим свой горн, и услышал, что позавчера один старик сменил подкову коню со двора Нарходжабая, а вчера, в те самые часы, когда листались протоколы с насмешливыми ответами бая, на этом коне байский работник Нормат уехал. Куда? Может быть, в Ходжикент! Старик кузнец спросил Нормата: — А-а, давно тебя не было… Куда ехать собираешься? — Может быть, и в Ходжикент! — ответил Нормат. Поди знай, байскую волю выполнял Нормат, маскируя истинный пункт предполагаемого путешествия, или по горделивой глупости проболтался? Если — в Ходжикент, ох как это много говорило! Это значило, что была у бая связь с кишлаком, который он испокон века считал своим. — Постучись к баю во двор, скажи, что тебе Нормат нужен, по какому-нибудь твоему делу. Быстро! — велел Саттаров кузнецу. Тот вернулся через несколько минут с ответом, что Нормата нет дома, уехал. А куда — Саттаров спрашивать не велел, чтобы не напугать дворню, не нарваться на доносчика. Требовалось сейчас же позвонить в Ходжикент и предупредить всех тамошних. Он ускорил шаги, поздоровался с часовым у входа в кирпичный дом, красневший в Газалкенте, как маленькая крепость новей власти, и еще торопливей двинулся к своему кабинету. Он уже почти взялся за трубку телефона, как тот зазвонил. Требовали его. Из Ходжикента. — Да. Я слушаю. Это я! — Алимджан! — кричал голос Исака-аксакала. — Алимджан-ака! Видимо, неважно слышалось. — Говори! — Нами задержан Нормат, сын Халмата. Верный пес Нарходжабая. Его работник. Ночью постучался в мою калитку, нож швырнул в Кариму… — В Кариму? — Не попал! И, конечно, не в нее метил. Меня не было, я на самом рассвете в кишлак вернулся. Как раз ездил по важным делам в Богустан и Хумсан. Вот придут оттуда бумаги, тогда… Ну ладно, это потом… В общем, Нормата взяли, а нож еще в урючном дереве так и торчит. Что нам с этим Норматом делать? К вам везти или вы к нам приедете? — Где сейчас Нормат? — В милицейском участке сидит, под стражей. — Как его взяли? Не сама же Карима… — Новый учитель отличился. Приедете — все расскажу. — Смотрите за этим Норматом зорче! Похоже, это кончик, за который можно уцепиться. Долго мы его искали, молодец учитель! — В дверь постучали, и на голос Саттарова вошел человек — невысокий, чуть лысеющий со лба, с очень светлыми ресницами и бровями, как у рыболова, который целыми днями сидит и выгорает на солнечном берегу. Он собрался доложить, но Алимджан-ака только рукой махнул, обрадовавшись вошедшему, и крикнул в трубку: — Аксакал! Ты слушаешь? К вам приедет Трошин, Алексей Петрович. Да, да! Он только что прибыл из Ташкента, я думаю, как раз по делу об учителях. А я пока задержусь в районе, можно и тут ждать всего… чего угодно! Нет, переводчик Трошину не нужен, Алексей хорошо говорит по-узбекски… Как мы с тобой! Жди. Охрана и еще раз охрана! Нормат — не один, у него есть сообщники, это ясно, и ему могут организовать бегство, а если не удастся, постараются уничтожить его. Тоже возможная вещь. Я сейчас поговорю с Трошиным и еще позвоню тебе, аксакал. Теперь он протянул руку чекисту, только что приехавшему из Ташкента, так похожему на крестьянского работягу, несмотря на форму. — Очень кстати ты, Алексей. Важная новость… Они обмозговали и обсудили только что полученное сообщение о Нормате, и Трошин спросил: — Что думаешь делать? — Бая взять… Он вчера Нормата послал в кишлак — это факт. Его ужемогли предупредить, что Нормат попался… или вот-вот могут. Бай бежит… значит, перехватить! А то опоздаем. — Пожалуй, — согласился Трошин. — Пошли меня. — К баю? — Ага. Выписывай ордер. — Тебе в Ходжикент быстрей бы! — Так это же два конца одной веревочки, как я понял, и все, что я здесь узнаю, мне там поможет. Уж бить так бить. — Давай. На обыск в его доме возьмешь понятым кузнеца Сабита, он напротив работает, под рукой. — Хоп, — Трошин ушел. А Саттаров дозвонился до Ходжикента и приказал начальнику кишлачной милиции Батырову произвести немедленный обыск в бывшем доме Нарходжабая. Да, в связи с арестом бая — обыск в доме, где сейчас живут его жена и дочь. Ничего не отыщется, — значит, извиниться… — Встретите Шерходжу — задержать! — Выполним. — Дайте трубку председателю сельсовета… Аксакал! Скажите-ка, мне интересно, как дела у нового учителя в школе? — Он молодец! — крикнул Исак. — Я тоже так думаю… Исак решительно объявил: — Масуджан завтра начинает занятия. — Это самое главное… Походив по кабинету и продумав предстоящий раз говор с Махсудовым, а заодно еще раз — начавшееся дело, Саттаров стал крутить телефонную ручку. Ташкент не сразу, но ответил. Слышно было плохо, по кабелю все время проходили волны шума, как волны ветра, а сквозь шум с трудом пробивались голоса: — Махкам-ака, это я, Саттаров… — Здравствуйте… — В Ходжикенте задержан работник Нарходжабая Нормат Халматов… при попытке убить председателя сельсовета… — Бывший байский работник? — Нет, теперешний. Он работает у него в газалкентском доме. Вчера отсюда направился в Ходжикент. — Что говорит бай? — За ним пошли… — Так… Кто пошел за баем? — Трошин. Есть просьба… — Меры… — перебил Махсудов. — Какие меры приняли? — Обыск во всех байских домах, здесь, в кишлаке… и еще просьба… — Какая? — спросил начальник, расслышав с трудом. — Какая? — Пошлите работников в ташкентский дом Нарходжабая. Нельзя медлить! Всеми жилками чувствую, что… К шуму прибавился долгий, беспрерывный треск, и Саттаров испугался, что связь оборвется, но сквозь всплески трескучей бури донеслось: — Я вас понял, сделаем. Шерходжу не нашли? — Никуда не денется. — Если он здесь, а не далеко, — сказал Махсудов, и снова затрещало, и снова утихло ненадолго, и сквозь осколки этого треска проломился растерзанный на клочки вопрос Махсудова: — Наш… верблюжонок… как? Что слышно? — Хорошо! — закричал Саттаров. — Верблюжонок ваш завтра начинает занятия в школе. Школа открывается! Он кричал еще какие-то слова и спрашивал, слышит ли Махсудов, и так и не понял, услышали ли его, потому что разговор, который, казалось, начал налаживаться, вдруг оборвался в хрипе. И в это время в кабинет вошел Трошин. — Ну как? — Нечем похвалиться, — Трошин был мрачен. — С одной стороны, вовремя пришли, с другой — все на свете отрицает бай. Вот акт обыска. — Хм! Большие богатства! — Как раз укладывал их в хурджуны. Похоже, на всякий случай. О Нормате он еще ничего не знает. Вот, попался с этим золотом и драгоценностями, а… — Ладно, введите арестованного. Бай вошел в длинном, почти до пят, зеленом чекмене, по-прежнему толстый, смерил ненавистным взглядом Саттарова, севшего за стол, и даже не посмотрел на Трошина, с которым только что пообщался. Узкий лоб, большая голова, приплюснутое лицо, задетое оспой, — все это было знакомо Саттарову, не раз видел он бая издали и вблизи, в дни былых праздников и расправ, да и в этом кабинете. Седина обрамила байскую тюбетейку. Но не было ни покорности, ни даже податливости, ни капли униженности в повадках Нарходжабая. Голову он держал чуть вскинутой и повернутой вбок. — Большие богатства, — глядя в список, повторил Саттаров специально для него. Грузным телом Нарходжабай качнул стул, на который опустился по знаку саттаровской руки, и усмехнулся: — Не нищий. — Да. — Трудом наживал! — Мы знаем каким. — Каким? — огрызнулся бай, собрав морщины у глаз. — Чужим. — Люди на вас трудились, — прибавил Трошин. — Пусть потрудятся на себя, — засмеялся, глянув на него, бай, — а я посмотрю, как у них получится! — Видите, он всех, кроме себя, считает дураками, — сказал Саттаров товарищу, передавая ему листок для протокола допроса. Трошин поставил рядом с собой чернильницу, а бай все еще усмехался, кривя рот. — В Ходжикенте, — не сводя с него взора, начал Саттаров, — сегодня ночью арестован ваш работник Нормат. Он пытался убить ножом председателя кишлачного Совета. Не он ли и учителей убил? Бай напрягся, усмешка соскользнула с его плоского лица, он дернул плечом, повертел шеей, как будто ему что-то было неудобно, начало резать, но сказал спокойно, даже с зевком: — А я откуда знаю? — Вы послали Нормата в Ходжикент? — Ложь! — крикнул бай, пытаясь встать, но тут же уселся и расставил ноги, чтобы почувствовать себя прочнее. — Клевета! Он заговорил тише, и даже усмешка снова обнажила пару золотых зубов во рту. — Нормат… хе-хе… Он неблагодарный работник, я его выгнал! — Это мы проверим, когда допросим Нормата, — сказал Саттаров. Нарходжабай вздрогнул, рывком обратился к начальнику и, что есть мочи стукнув кулаком по столу, загорал: — Что может сказать раб, которому прищемили хвост? Постарается бывшего хозяина втянуть, спрятаться за меня. Но я сказал вам — все это клевета! — Тише! — прикрикнул и Саттаров. — Если еще позволите себе кричать да стучать, наденем наручники. Подумайте хорошенько. Есть возможность как-то облегчить свою участь, если чистосердечно раскаетесь, назовете сообщников. Заставите их оружие выложить. Снисхождение надо заслужить… — Я не виноват. Мне не о чем вас просить. — У вас есть вопросы, Алексей Петрович? — Одного я не понимаю… Чем именно работнику Нормату мешал Исак-аксакал? За что Нормат решил его убить? Может, Нарходжабай это растолкует нам? — Ничего не знаю, — ответил бай. — Мне плевать и на Нормата, и на вашего аксакала. И теперь застыл, замкнулся, держа свою большую голову все так же высоко. …Ночью Саттаров остановился у открытого окна. Луна тихо плыла по макушкам тополей. Ветер словно поднялся выше, и река успокоилась, шум ее утих и перемешался с шумом тополиной листвы. Взблескивали в отдалении горные пики, где-то там прятался Ходжикент. Так или иначе завтра в кишлаке откроется школа. Зазвенит звонок. И вот какая мысль пришла этой полночью к Саттарову — а когда-нибудь, в том далеком и счастливом времени, когда школьные звонки будут безбедно трезвонить по всем кишлакам, вспомнит ли кто этот ходжикентский звонок, за который уже заплачено двумя жизнями?ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Под утро Трошин слез с коня возле каменного дома, отданного милицейскому участку в Ходжикенте. Выйдя навстречу из дверей, его встретил Аскарали Батыров, узкоглазый и моложавый храбрец, не раз отличавшийся бесстрашными вылазками против басмачей, а теперь заскучавший от какой-то непонятной перемены в обстановке — враг трусливо прятался, не хотел драться и вдруг наносил удары из-за угла. И снова исчезал. Странная война! И похоже, надолго… — Здравствуйте, Алексей Петрович! — Здорово! Батыров взял повод трошинского коня, утомленного длинной горной дорогой, охлопал его шею, огладил. А Трошин между тем разминал плечи и спрашивал: — Где арестованный? — В подвале, где же. — Охраняете как следует? И начальник обиделся, вспыхнул: — Сам стерегу! — Вижу, вижу, молодцы… Тонкие ноздри Батырова раздувались и подрагивали, как в предчувствии жаркого дела. Милицейский начальник поделился своим беспокойством: — Аксакал говорит, да я и сам думаю, что тут не обошлось без Нарходжи. Он обязательно захочет выручить Нормата. И себя, конечно, спасти. Я его знаю… Может быть налет. — Конечно. Но Нарходжу вчера вечером мы арестовали. Если и будет налет, то без него. Вы тут никого больше не заметили? — Где? Под юбкой у Фатимы-биби? — Кстати, в доме у нее, в доме бая, я должен произвести немедленный обыск, у меня ордер. Вы там еще не смотрели? — Батыров промолчал, туда, как видно, не заглядывали, в полной уверенности, что это ничего не даст. — Ну, лады… В кишлаках рано встают, я отдохну чуть-чуть, загляну к аксакалу и пойду. Заведя коня в конюшню и задав ему корма, Батыров угостил Трошина холодным чаем, ломтем лепешки, пахнущей забытыми пряностями из трав и семян, желтым кусочком сахара-леденца. Еда не была особенной, но показалась на редкость вкусной, и за ней ждал Трошина интересный рассказ о том, как Нормата взял Масуджан — быстро и без колебаний. — Ну и парень, — сказал он, и это было у него высшей похвалой. Через полчаса Трошин трудился уже во дворе у «аксакала», и хотя там приготовили горячий чай, он успел остыть, пока выдернули нож из ствола, осмотрели, описали, обернули платком и упаковали на всякий случай, а подогревать уже было некогда, пора было двигаться дальше. День наступал. В кишлаке он будто бы разгорался быстрей. От простора, что ли? Чтобы не обидеть Кариму, сделали по глотку из пиалушек, и Трошин спросил «аксакала», не очень ли испугалась жена. — Чего говорить! Но как начала обо мне беспокоиться, так и не перестает. До сих пор… Масуда застали уже на ногах. Только-только учитель разложил тетрадки и карандаши на партах. По тому, что они лежали не везде, было ясно, что учеников пока набралось меньше чем на класс, но все же немало. Масуд обрадовался Трошину, как будто сто лет не видел его, обнял, тряс и тряс руку. Познакомил со своими помощниками — Кадыром-ака и Умринисо. Трошин передал ему все приветы из дома, а Масуд больше слушал, чем расспрашивал. Улыбался и кивал — он был счастлив, что ему привезли живое слово из маленькой махалли над Анхором. Первые наши дороги из дома всегда кажутся длиннее, чем они есть на самом деле, и длиннее многих будущих дорог, порой и вправду ведущих на край света. Это — первые… А будущие — предстоят ли они еще, мы о них не очень думаем, начала занятий еще оставалось время, и Умринисо поручили следить за детьми, которые вот-вот соберутся, а сами с Кадыром-ака пошли к дому бая в саду, где жили Фатима-биби и Дильдор. Из учтивости Кадыр-ака шагал поодаль, сзади, а Трошин и Масуд вполголоса разговаривали о своем. — То, что Нормат выполнял волю бая, ясно, сколько бы он ни отпирался. Но… такое ощущение, что здесь еще кто-то есть! — Почему? — Очень уж презрительно отзывался бай о Нормате. Раб. Не может он быть главным. — А может быть, нарочно? — спросил Масуд. — Может, — ответил Алексей Петрович. — Подозрений много, а знаем все еще мало. — Много будешь знать — скоро состаришься, — повторил Масуд любимую поговорку Трошина, чтобы как-то развеять его тяжелую хмурость. Они приблизились к дому. Будить никого не пришлось — Фатима-биби уже сидела на веранде, бормотала что-то, перебирая четки. Увидев людей, идущих без приглашения и без спроса, да еще одного из них — в военной гимнастерке, Фатима-биби вытянулась и замерла, как статуя. Даже костяшки толстых четок застыли в ее пальцах. На чужие голоса из двери выскочила Дильдор. И тут же вздернула свой голубой платок с плеч на голову, закрыла мелкие косички и лицо. И никто не увидел, как она сначала вспыхнула, почти восторженно, увидев Масуда, и как померкла тут же. Тихонько присела на одеяло рядом с матерью. Подняла глаза, увидела, что Масуд таращится на нее, и поправила нерешительным, как бы случайным прикосновением бутончик розы за ухом, заложенный туда, едва вскочила с постели. Может быть, Масуд не мог прийти один, а не терпелось, и поэтому он взял друзей? Эта мысль родилась и начала вызревать до того мига, как невысокий русский, в форме, сказал извиняющимся, но непреложным тоном: — Я, матушка, из Главполитуправления. Прибыл для обыска дома Нарходжи, сына Давлатходжи. Этого, значит, дома, где вы живете. Вот и ордер. Он протягивал листок бумаги, а мать сидела не шевелясь. Как будто ее не касалось. Как застыла, вроде истукана, в том состоянии и пребывала, не реагируя ни на что — ни на жесты, ни на слова. — Посмотрите, — предложил Трошин. — Будете смотреть? Он, видимо, отличался терпеньем. И Фатима-биби наконец ответила ему, благо, что с ней разговаривали по-узбекски: — Я неграмотная! — и еще выше вздернула голову, словно гордилась этим. — Плохо, очень плохо, — сказал Трошин. — А она? — и показал на Дильдор, сразу сжавшуюся в комок. — И она тоже! — Что ж делать? Вот учитель — он вам прочтет, — Трошин передал ордер Масуду, тот сказал, что ордер — это разрешение, и прочел, а Дильдор стало понятным, зачем этот, из ГПУ, привел учителя, и снова она всех возненавидела. Еще секунду назад, в счастливом и обманчивом озарении, она вообразила, что Масуд пришел в дом с товарищами, чтобы увидеть ее с утра, а на самом деле… — О боже! — вырвалось у нее внезапно, как будто она уронила спелый арбуз с руки, и она метнулась в комнату, но мягкий русский задержал ее добрым, даже ласковым, однако требовательным и ставшим от этого еще ненавистней голосом: — Нельзя, нельзя, девушка. Пока обыск не кончится, сидите на месте, здесь, на веранде. Прошу вас. Ей пришлось, сгорая от стыда и злости, вернуться на одеяло, а мать скосилась на учителя и чайханщика: — А эти мужчины зачем здесь? У меня девушка в доме! — Учитель вам ордер прочел. А это — завхоз школы. Они рядом живут, и я пригласил их как понятых… Фатима-биби сощурилась и покосилась на Кадыра — вот как, только что был работником у Кабула, а уже завхоз школы, не для этого ли ты вчера приходил, чтобы сегодня ГПУ привести? А Трошин договаривал: — Полагается при обыске, чтобы были понятые из посторонних. Все без нарушений, без подтасовок. Начнем! Весь дом Трошин терпеливо обстучал — нет ли где пустых мест, захоронений, после него обысков можно было не проводить, — все паласы и одеяла приподнял, свернул и развернул, все осмотрели, остался один большой сундук, из которого мать, как помнила Дильдор, вчера подбирала что-то на приданое Замире, готовясь посватать ее за Шерходжу. Шерходжа! Вот кого она искали. Да не найти — он уже далеко, в горах, наверно. — Что в этом сундучке, мамаша? — Мое приданое. Старье. — Придется открыть. Все приданое переселилось аккуратными стопками на пол. Были тут старые, никогда, похоже, не ношенные шали и платья, отрезы дорогого ханатласа, из которых так еще ничего и не сшили, блестящие шаровары, которых хватило бы десятка на три девушек, и прочая разность, не интересовавшая Трошина. Но уже под самый конец он протянул вдруг: — Та-ак… И извлек со дна сундука тяжелый железный ящик. Масуд, работая в ГПУ, не раз видел такие ящики, иногда полные патронов, а иногда пустые, невесть где подобранные и приспособленные под разные нужды. На ящиках сохранились выбитые английские надписи. Басмачи, пользовавшиеся закордонными патронами против рабочего люда, поднявшегося на борьбу за жизнь, раскидали эти ящики по узбекской земле. Вот один такой нашелся и в сундуке Фатимы-биби. Пустой, правда. — Откуда он у вас, матушка? — А я знаю? — спросила Фатима-биби без тени боязни. — Понятия не имею. Может, мой сын, мальчишка тогда еще, засунул его как-то на дно, а я и не видела. — Какой сын? — попытался слукавить Трошин. — Как будто не знаете? — ядовито процедила сквозь зубы старшая байская жена, сразу став и злее, и немощней, даже морщины виднее налегли на ее лицо. — Шерходжа? — спросил Трошин. — У меня один сын. Да я его уж полгода в глаза не видела, — Фатима-биби ответила и отвернулась. Если бы кто глянул в это время на Дильдор, то, может быть, спросил бы — не хочет ли она сказать что-нибудь. Она вся невольно подалась вперед, и глаза ее беспокойно заблестели. Но Трошин сел писать акт, Масуд же, хоть, и вышел на веранду, где Дильдор сидела, старался не смотреть на девушку, так что никто не заметил ее секундного порыва. — Что за напасть? — спросила Дильдор, грустно вздыхая. — Не знаю, — ответил Масуд. Узкие брови ее сомкнулись над переносицей. — Знаете, все знаете! — крикнула она. — Нет на этом свете ничего такого, что бы вы не знали! Масуда задел рассерженный, сдавленный, какой-то шипящий крик девушки. Желая как-то помочь ей, Масуд улыбнулся, а она, угадав это желание, оттолкнула: — Что хотите делайте, хоть застрелите! К черту вас! И заплакала, уткнувшись в край одеяла. Когда собирались уходить, Фатима-биби снова сидела, застыв как мумия, а Дильдор выпрямилась, слезы ее высыхали быстро, не оставляя следа, но лицо было далеким, отрешенным, чужим для этих людей. «Ведь и они мне совсем чужие! — думала она. — Даже странно, что такие чужие люди, как мы, живем на одной земле!» — Подумайте, — сказал на прощанье Трошин, — если захочется что-нибудь сообщить, приходите в милицию, в сельсовет. Никогда не поздно раскаяться, аллах так учит! Но, конечно, сами понимаете, лучше пораньше. Удивительно верная пословица есть у вашего народа: «Запоздалое сожаление — твой враг». А у меня — дружеский совет: «Не проглатывайте правду». Докопаемся — и вас тогда заденем. А зачем? Можем обойтись без этого. Обе жительницы дома, к которым он обращался, не смотрели на него. И он положил на низкий столик посередине веранды — тот самый, с которого Шерходжа вчера ел плов, вспомнила Дильдор и как бы увидела и жирные пальцы брата, и рисинки на его губах, и патлатую гриву над плечами — листок с актом обыска и попросил: — Подпишите. Фатиме-биби и Дильдор пришлось пошевелиться, приложить к бумаге пальцы, помазанные химическим карандашом, а Масуд и Кадыр-ака подписались. — Нам, наверно, пора, — напомнил Масуд, — в школу. — Да, ступайте, ступайте, — отпустил их Алексей Петрович, не скрывая своего плохого настроения, потому что обыск, в общем-то, был бесплодным, если не считать старой коробки иностранного образца, пустой и мало что говорившей, — звоните на урок, а я еще по саду поброжу… Окаменевшая Фатима-биби думала о своем: «Сколько раз я просила непутевого сына, чтобы он не оставлял в моем сундуке эти вещи, возмущающие покой. О боже! За что мне это на старости лет? Думала, вчера он все забрал, все унес, сам заволновался, что с обыском могут прийти. Он умный. Считала, в сундуке один ящик, а оказалось — два. Правда, тот был с патронами, слава богу, что сын унес, новее равно — проклятье!» Думала и Дильдор: «Если бы я сказала им, что вчера видела брата, то совесть моя была бы чистой. Но тогда родные отказались бы от меня за то, что я выдала Шерходжу! Как же совесть разделить между всеми? Совесть не делится…» — Почему вы сказали им неправду, мама? — Что-о-о? — Лицо Фатимы-биби исказилось хуже, чем от удара. — Какой правды ты хочешь? — Шерходжа… — начала она, надеясь узнать у мамы, чего боится брат, откуда явился и куда делся, но мать не дала ей говорить, мать заверещала, схватившись рукой за горло: — Иди, расскажи им правду! Брата предай, чтобы он кончил жизнь в тюрьме. Иди! Меня тоже раньше времени отправь на тот свет. Понравишься голодранцам. Иди! Она словно бы проклинала ее, грозила так, будто Дильдор уже выдала брата. И Дильдор не выдержала, сбежала с веранды, спряталась под кроной соседнего ореха и прижалась к нему головой, только и осталось довериться молчаливому дереву. Она обхватила щеки ладонями и снова плакала, когда услышала за спиной чьи-то осторожные шаги. Они замерли, и Дильдор подумала, что тот самый любопытный русский, что пошел побродить по саду, как будто это был его сад, сейчас будет о чем-то спрашивать, но она ничего не скажет, она сожмет зубы вот так и встретит все его вопросы усмешкой. Она оглянулась и вправду онемела — перед ней стоял Масуд. Дильдор прижалась к стволу. А он потупился. — Я вернулся… сказать вам… сегодня мы занятия начинаем… Приходите!ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Чем дольше тянулся допрос, тем дальше уводил Алексея Петровича от истины Нормат, с виду казавшийся простаком и недотепой. Он размахивал руками, фыркал, невпопад восклицал ругательства, обращался к забавным воспоминаниям и кишлачным случаям и с ним, и с другими, каждый раз ожидая, что его перебьют, но Трошин недаром слыл таким терпеливым. Он выслушивал Нормата, кажется, даже с вниманием и интересом, давая ему выкипеть, истощиться, и задавал свой вопрос, каждый раз возвращая «недотепу» к событиям вчерашнего дня. Оба устали, но Нормат крепко держался своего, повторяя: да, он хотел убить Кариму и готов понести за это наказание. И вновь рассказывал, как он выдернул нож из ножен на поясном платке, как она открыла калитку. Ах, если б это повторить! Он бы прицелился лучше… Но — промахнулся. Вот единственное, о чем он жалеет. Поверите, дорогой? Если бы еще раз… За что он хотел ее убить? Как же! Карима — его родственница, дочь его тетушки. И — подумать только, чего натворила! Ей так улыбнулось счастье! Стала женой Нарходжабая, достатка хлебнула, ну, дура, живи и радуйся. Не оценила, не поняла — ее дело. Однако если уж к другому тебя потянуло, тварь, так сначала хоть разведись, не нарушай религиозной клятвы, закона! А она? Забыла, что ее мулла венчал? Легла в постель Исака… Что за это? Смерть. Ведь если советский закон кто нарушит — тоже не щадят. Он, Нормат, мужчина — молодой и сильный, на него пал этот долг в роду — расправиться с блудницей, со всего рода смыть позор. Новые законы? В сельсовете ее развели и записали с Исаком? Может быть. Он не знает… Он знает один закон — мулла венчал. А ты сбежала? Смерть! По шариату так. Больше он ничего знать не хочет… Алексей Петрович смотрел на него и думал — где в нем настоящее, есть ли это — настоящее? Сын табунщика Халмата, растившего баю Нарходже скаковых лошадей. Табунщик ненавидел бая, который из самого Халмата тянул жилы, да и лучших коней гробил широко и безжалостно. И хотя кони Халмата получали призы на козлодраниях и в народе их называли не конями бая, а конями Халмата, своих коней у Халмата не было. После революции они с баем разошлись, и Халмат облегченно вздохнул. Получил землю в соседнем кишлаке. Начал крестьянствовать. А сын, Нормат, порвал с отцом и остался работать у Нарходжи. Был у него сначала мальчиком на побегушках, старался. Вырос, сделался услужливым работником, почти своим человеком, но место знал, не лез… — Бай послал вас в Ходжикент? — Бай? Нет. Я сам взял коня и поехал! А он ни о чем и не догадывался. — Без позволения бая отправились? Нормат покряхтел, поерзал, грузно уселся крепче и рявкнул: — Бай меня выгнал накануне! — Такого хорошего работника — и вдруг взял и выгнал? Не верится. За что? — Ах, хозяин! — махнул рукою Нормат, многих и часто называя хозяевами, в том числе и Трошина. — Я не виноват. Клянусь, ни в чем не виноват, я честный! Я вот вам такое расскажу. Один раз… — За что бай выгнал? — напомнил Трошин, перебивая. — Тут все дело в Суюн-беке… Бай только с ней одной сейчас живет, все для нее. Она красивая. Но я… Нет, хозяин, я на байскую жену даже не смотрел, ходил мимо — опускал глаза. Куда мне? Разве можно? Но ему показалось, и начал придираться… Старый всегда ревнивый, мудрые люди так говорят. Вот и все. А я сюда приехал — думал: докажу баю свою верность. Убью сбежавшую от него Кариму и докажу. Приехал ее убить. Ну, что не ясно? Все ясно! Нормат прикрикнул, потом засмеялся, потом закрутил головой, нервы его сдавали. Трошину же становилось понятней, что не так прост этот молодой здоровяк, и бай Нарходжа не так прост, они разработали ответы на все случаи, которые только можно было предусмотреть, хорошо подготовились и теперь держались за это, ухватившись намертво. Сговор их был очевиден, но вовсе не так уж глуп и нелеп, если учитывать все кишлачные обычаи и предрассудки. Набычась, Нормат словно бы следил за ходом мыслей Трошина и ворчал, подпирая свои объяснения: — Я смотрел на Суюн-беке, как на свою мать. Вот, как перед богом! — он стукнул себя кулачищем в грудь. — А бай… — и вдруг пошел поливать бая самыми непристойными словами, раз уж так вышло, что из-за него он оказался на улице, получил возможность съездить сюда, в кишлак, и попался, а теперь может и жизнью поплатиться. — Поплатиться вы можете, потому что правды не говорите. Из-за бая, да! Запугал он вас, служите ему сейчас еще верней, чем раньше. — Трошину очень хотелось закурить, и он вынул папироску из мятой пачки «Нашей марки», но внезапная ругань и слезы в глазах Нормата заставили его положить пачку, откинуть папиросу и попробовать помочь этому холую стать человеком, уцепившись за проклятия, от души посылаемые им баю. — Скажите правду, Нормат! — Какую правду? Я не понимаю, хозяин. Я все сказал. Истинную, святую правду. Вот как! Не было ничего человеческого, искреннего ни в его слезах, ни в словах. Было представление. Трошин встал и велел часовому увести арестованного, посоветовав ему напоследок: — Подумайте. А сам походил по каменному подвальному помещению, пахнущему сыростью. Раньше здесь было байское зернохранилище. Узкие, как норы, окна выходили на улицу, казавшуюся далекой. Может, выйти, подышать? Хорошо бы передохнуть, но мысли не оставляли и не оставят, пока не схватишь байского прислужника за руку. Трошин поднялся наверх, в кабинет Батырова, так и забыв папиросы на столе внизу. Ну и бог с ними. Надо было потолковать с людьми. С теми, кто ближе знает Нормата и поможет подойти к нему вплотную, найти щель в кольце, старательно обведенном врагами вокруг бандита на случай провала. Да и просто услышать людское слово. Живое слово тоже помогало по-своему. Честная речь, честные глаза… Он попросил Батырова сходить в сельсовет за Исаком-аксакалом, хорошо, если потом, освободившись, и Масуд заглянет. У него может быть сколько угодно вопросов к председателю сельсовета после первого дня занятий, а председатель — здесь, вот и пусть зайдет, не вызывая ненужных кривотолков. Будет случай посоветоваться. В батыровском кабинете тоже пахло сыростью, проникавшей по стенам из глубин земли. Ее заплесневелый запах облегал ноздри. И подумалось о Батырове — молодость истрачена на войне, так этого мало, еще и сейчас ходи сюда, под эти своды, и бейся с Норматами всех мастей, отплевываясь от ранних болезней, потому что они казались мелочью — война за победу трудового человека продолжалась. Батыров ушел, прихрамывая и скрывая, что его мучает ревматизм. Отмахнулся: — Это рана. А может, и правда мучила рана, полученная в боях с войсками генерала Осипова, пытавшимися пробраться через горы, через Бричмуллу, в Ферганскую долину. Они тогда были в одном отряде, но Трошина ранило сразу, а через какое-то время и Аскарали… За окном разливалось солнце, птицы перескакивали с ветки на ветку в тополях, иногда подавая голоса, все было так мирно и привлекательно, что вспомнилось, как самого с мальчишества тянуло работать на железной дороге, а так еще и не дошел до нее. Вероятно, и Аскарали тянет на рассветах в поле, хочется вскинуть на плечо кетмень, коснуться ладонью его блестящей рукояти, натереть мозоли, проложив в сухой земле путь воде, а вместо этой счастливой работы каждое утро приходится затягивать натуго ремень, отягощенный кобурой с наганом… Исак-аксакал пришел радостно возбужденный, оживленный, шумный. Занятия в школе начались! Пусть явилось пока не очень много детворы, но Масуд — молодчина, сообразил, вот голова! Вместо того чтобы загонять школьников в дом, прятать, вынес несколько парт во двор. И начались занятия у всех на глазах. А через полчаса другие дети облепили дувал. Головенок было столько, что места им не хватало! А Масуд раза два прерывал занятия и звал: — Эй! Ну, чего вы там на заборе, вот где ваше место, за партами. Идите сюда, кто хочет! Кое-кто сразу пришел, кое-кто убегал с испугу, но к концу дня почти все перебрались с улицы во двор школы. Так-то! И главное, все получили тетрадки и карандаши и почувствовали себя школьниками. Лицо Исака потихоньку стало грустным. — Вы чего зажурились, аксакал? — спросил Алексей Петрович. — В такие минуты, — стеснительно улыбнулся тот, — хочется снова родиться, чтобы пойти в школу. Как эти дети! — Между прочим, — заметил Аскарали, — Масуджан и взрослых приглашает учиться! — Да, я знаю. Сегодня в сельсовет и взрослые шли без конца, как никогда. Сначала вроде бы по делам, а потом уж просто теснились на веранде и слушали складные речи Масуда открыв рты… И я слушал! Он рассказывал о революции, о крейсере «Аврора», о Москве, о Ленине. Да, вот какой у него был первый урок! Даже маленькие поняли, что революция открыла им двери в школу. И дорогу в жизнь. Заслушаешься. Такой учитель не просто учит, а воспитывает верность революции. Вот что! Ленина показывал, большого и маленького, в книге. Эта книга ходила по рукам. Я спустился, взял ее и взрослым принес, на сельсоветскую веранду. Тоже посмотрели. Наших кишлачных знакомых, некоторых, тоже назвал героями революции… Дети придут домой, по-новому на отцов посмотрят. Душа радуется! — Извините, что оторвать пришлось от школьных занятий! — вставил Трошин, и они втроем посмеялись — он за письменным столом, двое друзей — на скамейке у стены. — Как у вас дела? — спросил Исак. — Расскажите мне подробней об отце Нормата, что-то мне припоминается, будто слышал я об этом удалом коннике во время осиповского восстания… — Как же! — Конечно! И «аксакал» начал рассказывать. Когда генерал Осипов поднял восстание в Ташкенте, он расстрелял четырнадцать комиссаров, руководителей революционного правительства. Кровавые были дни… Девятнадцатый год… Разве можно это забыть? Сто лет пройдет — не забудешь. Красные отряды подавили восстание, как известно, а генерал Осипов с ближайшими офицерами сбежал. Куда? В Ходжикент, в этот самый кишлак. И кто их принял, как самых дорогих гостей? Нарходжабай! Он потом отговаривался, что кормил и поил белую банду под угрозой оружия, выставлял им от страха на столы все, что было, но… у Нарходжабая слово недорого стоит! Они, ходжикентские бедняки, тоже не сидели сложа руки. Сходились тайком и гадали-думали, как сообщить красным, что осиповцы прячутся у них? Ближе всего были части, которые добивали басмачей в горах. К ним и решили послать гонца. Не один снежный перевал должен был одолеть джигит, не по одной тропе над небесной пропастью пробраться вместе с конем. И выбрали для этого Халмата, которого ходжикентцы, да и не только они, звали Чавандозом, Всадником. И в праздники, на козлодраниях, и в будни, он был, что называется, в седле. Он ведь и выхаживал лошадей, и объезжал их, и состязался на них с другими джигитами. Решили доверить такое Халмату Чавандозу. И не обманулись. Ждали… Думали, что сорвался в бездонное ущелье Халмат. Что не вернется… Но он привел красных бойцов. — Я был в этом отряде, — сказал Трошин. — Вон как! — И Аскарали. — Знаю. — Да, этой дорогой я вернулся в родной кишлак, — вспомнил и Батыров. — Начали мы преследовать осиповцев, кинувшихся в Бричмуллу… Натерпелись тогда в снегу, в горах! — Значит, это и был Халмат Чавандоз? — спросил Трошин. — Я успел его увидеть до своего ранения, он храбр. А его сын… — Они с сыном не общаются! — Это всем известно! — Сын — байский холоп! — Нарходжа его выдрессировал и выучил. Маленьким мальчиком отдал Нормата Салахитдину-ишану — грамоте обучаться, — сказал Исак. — Зачем? — Себе готовил будущего приказчика. Салахитдин-ишан, тот самый, что и сейчас под чинарой сидит, четками играет, всему научил его. Все финансовые расчеты у бая Нормат вел. — Понятно. Нормат… Сам выучился, а зачем других учить? Это ему невыгодно. — У него уже байская душа! — Понятно, — повторил Трошин. — И надеяться, что он одумается, вспомнит об отце, о бедных земляках, нечего… Вы когда вчера в Богустан поехали, аксакал? — Солнце еще высоко было… — Угу, — Трошин сделал себе заметку в блокноте. — А что он говорит? — спросил Исак. — Одно твердит — приехал Кариму убить, за измену баю. — Вот бестия! У нас двое детей. Где же он шесть лет был? Чего шесть лет ждал? Все врет! — Да… Сшито крепко вроде бы, но белыми нитками. Скажите мне, бывают люди в саду Нарходжабая? — Дочка Дильдор… Жена Фатима-биби… — Нет, мужчины. — Мужчин сейчас там быть не должно. — А следы есть… И разные. У арыка, вроде там умывался кто… свежие следы. Натоптали. В другом месте, похоже, грызун холмик нарыл. На него наступил сапог. Земля сухая, следов не увидишь, а тут сапог хорошо отпечатался, я даже мерку снял… — Трошин раскрыл блокнот и показал отметки на развороте верхней и нижней страниц. — Мог и прохожий забрести на отдых. Случайный след, может быть. — Конечно, но проверить не грех… Я — дотошный, — Трошин улыбнулся и попросил привести Нормата в эту комнату, где все же было не так сумеречно и сыро, как в подвале. Уходя, Исак предупредил, что от Нормата всего ждать можно, с ним все время нужно быть наготове. — Я поставлю часового на улице, — сказал Батыров. А Масуд так и не пришел. Видно, был занят, увлекся. Масуд — с людьми, для которых старались все. Привели Нормата. Он надулся, сгорбился, Одним видом показывал, что ничего не намерен прибавлять к своему вранью. Где-то на дне души у Трошина таилась слабая, но все же надежда, что Нормат заговорит иначе. Свой же, бедняк… Запугали, пригрозили, обещали всякие блага и милости за верную службу, за послушание. Обманули. Рассказ об отце, о днях разгрома разбойничьего осиповского восстания должен бы развеять испуг, приоткрыть глаза, пробудить что-то живое, истинное… Надежда испарилась, оставив насмешку над собой и сожаление, едва на скамейке возник этот мешок, набитый злобой. Все же вырвалось: — Я предупреждал, что за ложные показания будете наказаны? Напоминаю еще раз. Нормат дернул краешком губ, как бы говоря: «Ну и предупреждай сколько хочешь, мое дело и так швах!» Усмешка его была не просто самоуверенной, а наглой. Трошин постарался не заметить этого, подумал: «Ладно, мы тебе подыграем…» — и сказал: — Если согласиться, что вы, побуждаемые законами шариата, решили смыть пятно позора с рода и убить Кариму, все равно надо кое-что уточнить… Нормат поднял на него глаза. — Вы направились к дому аксакала и сразу бросили нож, едва открылась калитка. Откуда вы знали, что ее откроет Карима? Ее мог и сам Исак открыть. — Так его не было дома. Он же уехал! — вскрикнул Нормат, навыброс взмахнув рукой. — Кто это вам сказал? — Кто? — еще больше наглея, сразу разбушевался Нормат. — Никто! — Значит, сами видели, как он уехал из кишлака? Так, что ли? — Ну, так… — Нормат начал настораживаться. — Когда видели? — спросил Алексей Петрович вовсе как бы между прочим и зашуршал страницами блокнота, ища нужную, чтобы записать ответ. — Ну? Нормат почесал свою короткую, неряшливую бородку, пытаясь увидеть глаза Трошина, поймать хитринку в них, но они были опущены безучастно. На всякий случай Нормат пробурчал: — У меня нет часов, так неплохо живем. — Я знаю. По солнцу. — Да, у нас одни часы для всех. Нам, крестьянам, на всю жизнь хватает этих часов, хозяин! — Я и не требую точного ответа, можно по солнцу, — сердясь поторопил Трошин. — Для протокола, — и стукнул костяшками пальцев по блокноту. — Солнце садилось… или уже село… На закате аксакал уехал. Я видел из чайханы. — На закате, значит? — спросил Трошин, записывая. — Ну да! Птицы раскричались, как всегда. Как раз в это время… Записывая, Алексей Петрович еще раз подумал, что не так уж глуп этот пройдоха. В девяносто девяти случаях из ста крестьянин или крестьянский председатель уедут из кишлака на закате, когда отработан день и совершена вечерняя молитва. — А вы дождались ночи и пошли во двор к аксакалу? — Ну да… — А не встречались перед этим с Шерходжой, сыном Нарходжабая? Трошин поднял глаза, и взгляды его и Нормата встретились в упор, столкнулись, сшиблись. На мгновенье темные, выпученные шары Нормата окатились волной испуга, только на мгновенье, он сейчас же овладел собой, и все затуманила, замазала фальшивая усмешка. — Шерходжой? Как я был бы рад его встретить! Бая обрадовал бы. Старую мать обрадовал бы. Все обрадовались бы! Да его давно уж, с полгода или даже больше, никто не видел и, я так думаю, не увидит, хозяин. Нет его не только в Ходжикенте, а вообще на нашей земле! По словам бая, Шерходжа давно уж в Синцзяне! Напряжение поединка нарастало. — Вы помните сына бая? — А как же! — обрадовался Нормат и захлопал себя ладонями по коленкам, — А-ха-ха! Еще бы! — Похоже, у вас были с ним добрые отношения? — А-ха-ха, — повторил Нормат, вздыхая о прошлых временах. — Щедрый был, компанейский парень. Не такой жадина, как отец. Если принесет из сада хум муссаласа, всем нальет и не остановится, пока не выпьет с друзьями до дна! — И показал, как разливалось из кувшина драгоценное вино, вызывающее сиянье на лицах. — Когда вы встречались с ним последний раз? Нормат похмыкал в свою небрежную бородку. — Хозяин! У меня календаря нет, как и часов. Не помню когда. Разве я знал, что меня будут об этом спрашивать? Да и знал — не запомнил бы! У меня память на это плохая. Но хороших людей не забываю. И, конечно, тут же рассказал, как однажды Шерходжа особенно щедро напоил его тремя-четырьмя разными винами и он, юный Нормат, обмяк, как воск, и уснул прямо на байской веранде. А утром проснулся там же, где и захрапел, со страшной головной болью, думал, ну, сейчас ему будет нахлобучка, а то и прогонят навсегда, как пропойцу, но сын бая налил большую пиалу красного, как кровь, вина и опять сам напоил. Вместо того чтобы поругать. Привел в чувство, пиалу поддерживал своей рукой. Вот какой он был, Шерходжа… Есть что вспомнить. Все было… Было, да прошло! Все вроде бы походило на правду. Вроде бы… — Чьи же следы в байском саду возле арыка? — спросил Трошин. — Какие следы? — забеспокоился Нормат. — Одни большие, другие поменьше, но тоже мужские, тоже от сапог, — говорил Трошин, как бы не распытывая, а размышляя, делясь. — Одни-то нам нетрудно проверить, а вот вторые… У старой Фатимы-биби никакой обуви Шерходжи не нашлось, я спрашивал. Ну ладно… Снимите-ка сапог. — Какой? — Любой. Живо! — повысил голос Трошин. Нормат сидел без движения, расставив ноги пошире и уперев руки в колени. — Зачем вам мои сапоги? А, хозяин? Я же сознался! Во всем сознался, что вам еще надо? Вы что, не верите мне? В его вопросах старая самоуверенная игра перемешалась с серьезным беспокойством, и Трошин ответил ему напористо и тоже очень серьезно: — Не верю. Ни одному слову не верю! — Почему? — Потому что Исак-аксакал уехал из кишлака днем, когда солнце еще сияло. И вы его на закате видеть в Ходжикенте не могли, никак не могли. Это раз. А во-вторых, снимайте сапог! — приказал он. Нормат нагнулся и начал стаскивать с ноги сапог, который долго ему не поддавался. Трошин наклонился над своим блокнотом, открывая страницы с меркой следа, и не видел, как взблеснули глаза Нормата, как он сдернул сапог и взмахнул им… А дальше, когда Алексей Петрович очнулся, в глазах его качнулось пустое распахнутое окно на улицу, за окном лежал на земле далекий и тихий солнечный свет, падавший сбоку, из-за дома. Была такая покойная тишина! Он выдернул пистолет и выстрелил в окно, вверх. И встал. Ему показалось, что прошло невозможно много времени… На его выстрел часовой открыл дверь, но сам не вошел почему-то. Почему? Это он понял, когда в дверь втолкнули Нормата. Сразу наступило успокоение и острая боль почувствовалась в голове, как будто только что нанесли удар. Оказалось, что и вообще-то пролетело несколько коротких минут с того момента, как Нормат взмахнул сапогом. Удар угодил Трошину, не успевшему до конца выпрямиться, в темя, лишил сознания, а Нормат сшиб кулаком оконный запор, распахнул створки и почти прыжком, со скамейки, выбрался на улицу. Но тут на него навалился часовой, поставленный Батыровым снаружи, а следом и сам Батыров. У двоих хватило силы скрутить руки Нормату. Они и ввели его к Трошину, в кабинет… Увидев сапог Нормата на полу, у стола, Батыров оставил Нормата и рванулся вперед: — Алексей, ну что? Живой? — Все в порядке. — Увести его? Отдохнешь? — Наоборот, — ответил Трошин, окончательно приходя в себя. — Теперь и поговорим. Ведите его вниз. По дороге еще раз упрекнул себя за непростительную беспечность. Она была позорной, сколько ни оправдывайся тем, что всегда, когда дело сталкивало его с простым человеком, как этот сын революционного бойца Халмата, ничто не могло истребить в нем веры в общий язык, в пусть крошечную, но все же возможность вернуть своего в свой лагерь. Эта вера, наверно, была детской, но все же была. Вот приедет в Ташкент а поговорит с Махсудовым, что надо гнать его из ЧК, то есть из ГПУ, на железную дорогу. Да и там нельзя доверять ответственной работы, тем более что на машиниста он выучиться опоздал, молодежи уже подросло вон сколько — не сосчитаешь, а его куда? Шпалы подметать! «Наша марка» лежала в подвальной комнате на столе с обклейкой, разрезанной ногтем. И уже вынутая папироска валялась в сторонке. Он сунул ее в рот, зажег спичку и проглотил горький дым. Нормату тоже захотелось курить, но теперь обращаться с просьбой к этому человеку бесполезно. Лучше откинуться назад, прислониться к стене холодным затылком и вспомнить… Никогда и никому не понять, что связало Нормата с Нарходжабаем неразрывно, до самой смерти, которая, похоже, уже недалека. Еще мальчишкой — то из-за дерева, то из-за угла дома, то из-за дувала — следил он за байской дочкой Дильдор. Тонкая, как хворостинка, девочка стала девушкой, стройной и большеглазой, и его мальчишеское чувство тоже выросло и окрепло. Может быть, сама Дильдор и не догадывалась, привыкнув ко всеобщему почитанию, но бай узнал, увидел. И пообещал Нормату сделать его зятем. По старым законам бай не очень-то должен был расспрашивать Дильдор о ее отношении к работнику, поэтому старые законы устраивали Нормата. А теперь… Да и теперь! На кого ему оставалось надеяться, от кого ждать помощи, ждать спасения? Если оно и могло откуда-то прийти, так только от бая. И еще, конечно, от Шерходжи, который… Чего это следователь так допытывался о Шерходже? Не дурак, видно. Молчать. Молчать, сколько бы еще ниприставали! Да, не удалось вырваться… А ведь был уже одной ногой на улице, на свободе. Видел ли его кто-нибудь из своих? Понял ли, что ни словом, ни звуком никого не выдал Нормат, раз пытался бежать? Два немых свидетеля было у этой злополучной и безуспешной попытки Нормата. Из темной глубины своей мельницы наблюдал, как связывали его, бывший караванщик Кабул. И Салахитдин-ишан, не поднимая глаз и перебирая четки, хорошо рассмотрел эту уличную сцену с высоты своего каменного тропа.ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Пятница! Сегодня — пятница! Нет ни одного мусульманского местечка, где в пятницу крестьянин не отложил бы в сторону своего кетменя, своей лопаты, столяр своего рубанка, а мастер-строитель — теши, ладного топорика, которым обтесывают бревна для дома, сарая или моста. Пятница — праздник, день отдыха в будничной неделе. А в таком кишлаке, как Ходжикент, это еще и базар. Многолюдный, шумный, веселый, задиристый, где и поторгуют, и поторгуются, и пошутят, и поспорят, и обсудят все на свете. Базар! Он гудит, он живет и вместе и по-разному, кусками, похожими то на сходку со своими ораторами, то на дружеский задушевный кружок, то на гулянье — не без удали, не без ухарства, то на театр, который только и знают люди, никогда не бывавшие в настоящих театрах. Здесь же всё: и дорбазы ходят над головами по канату — дору, балансируя длинными шестами, и кукольный петрушка кривляется над ширмой, и под гулы мужских голосов, выдыхаемых разом, как волна, разгорается борьба. Окруженные толпою зрителей, щедрых на многие рубли для победителей, топчутся на импровизированной арене знаменитые силачи. А бывает, что и какой-то неизвестный новичок вдруг повалит признанного борца на обе лопатки и надолго оставит о себе неутихающие разговоры и удивление. Редко, но бывает… Ходжикент — самый большой кишлак в округе, на его базар сходятся и съезжаются продавцы и покупатели из других селений, отстоящих на пять, а то и больше камней, которыми отмечали расстояния, укладывая на дорогах приметные камни через каждые восемь верст. До обеда базарничают, а в полдень идут к мечети, чтобы совершить намаз — полуденную молитву — и восславить господа, даровавшего людям все милости этой жизни. Сегодня и школа закрыта, ребят отпустили, не грех и Масуду отдохнуть от своего праведного труда, оказавшегося непосильным даже для молодого учителя, готового расходовать энергию без страха и всякого расчета. Всех ребят он разделил на две группы — до десятилетнего возраста в первый класс, после десяти лет — во второй. А вечерами приходили взрослые, хоть и мало, но кишлак-то большой, так что народу набиралось. И работа шла в три смены, при одном-единственном учителе! Уже через несколько дней он почувствовал, как ему приходится тяжко… Исак-аксакал забил тревогу перед районными просвещенцами, ему помог Саттаров в Газалкенте, но только и дела, что тревогу били, а просвещенцы не присылали ни учителей в помощь — хотя бы одного! — ни тетрадок, ни карандашей, ни мела. Вчера Масуд сгоряча написал письмо не кому-нибудь, а самому народному комиссару просвещения в Ташкент, не постеснялся хлестких слов. «Неужели на такое дело можно смотреть сквозь пальцы!» Нарком поймет, отзовется. Помимо всего, это ведь не какой-нибудь обычный кишлак, а Ходжикент, где два учителя сложили головы, чтобы школа работала и дети занимались. Надо помнить… Алексей Трошин так ничего и не добился от Нормата. Увез его в Ташкент — может, со временем этот байский прихвостень, уже изобличенный во лжи, заговорит, назовет того, с кем встречался у арыка в саду? Пока он все отрицал, уверял, что в саду не был, что это не его след — случайное совпадение размера… И настаивал на своем: приехал расплатиться с Каримой, ничего больше не знает и сказать не может, пусть хоть бьют, хоть убьют. Трошин предупредил, что каждый день, каждый миг перед Масудом может вырасти Шерходжа, но… каждый день, каждый миг мог вырасти и кто-то другой, кто пустил пулю в голову Абдуллы, ударил камнем Абида. Надо быть готовым — наган в кармане, а во время занятий — в приоткрытом ящике стола. Такое учительство… Дети этого не знают и не узнают, дети делают другие открытия — как написать «мама», рисуют солнце и птиц, ишаков и лошадей, кто что хочет, и ждут с нетерпеньем, чтобы учитель изобразил на доске буквы, которыми можно обозначить все — от солнца до самого ученика, от Москвы до Ходжикента. Дети слушают рассказы учителя о новой жизни. Мела не было, приходилось экономить, но учитель сказал, что он написал в Ташкент в письме и про мел, должны скоро прислать. Буквы помогут, вот какое это колдовство, какая сила! Вчера, когда Масуд писал письмо паркому просвещения, настроение у него было не из лучших, он нервничал и сдерживал себя, чтобы не взорваться, и письмо не вышло слишком вспыльчивым. А сегодня гораздо лучше на душе. И тому есть причина. К ночи приехала арба, а на этой арбе — он глазам не поверил — сидела с двумя узлами своих вещей Салима, та самая Салима, что приходила ночевать к маме в Ташкенте, соседка по махалле над Анхором! Жизнью повеяло от скрипа колес этой арбы, которая привезла Салиму и въехала в школьный двор, от голоса девушки. Это мама постаралась. Он звонил ей и, рассказывая о себе, как-то не удержался, пожаловался, что трудно, конечно, одному, не без этого, и мать ничего не пообещала, а сделала. Поговорила с заведующей своей школой, и послали Салиму в Ходжикент. Сейчас Салима спала, устав в дороге, ей отвели комнату в доме Кадыра-ака и Умринисо. Набиралась сил. А завтра она начнет занятия с первоклассниками. Два учителя в Ходжикенте. Это уже школа. Ура! Но «ура» кричать было не перед кем, Масуд сидел один на веранде пустой школы, в пустом дворе, протянул руку, снял дутар с гвоздя и стал наигрывать потихоньку. Во-первых, хорошо отдыхалось под музыку. Во-вторых, лучше думалось. А почему бы не организовать музыкальный кружок? Еще тебе одна нагрузка, заниматься с талантливыми ребятами! Но это — другая нагрузка, по характеру совсем другая. И наверняка в кишлаке есть свои музыканты, которых удастся привлечь для занятий в школе. Так? Так. Надо будет спросить у Кадыра-ака, он, должно быть, всех музыкантов знает. Масуд даже запел:ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Дильдор остановилась в самом дальнем углу сада и никак не могла ответить себе на вопрос, почему она так бежала, от кого? Все это утро маялась у забора, хотела увидеть учителя, ждала этого мига, как глотка воды в пустыне не ждут, наверно. Чтобы скоротать время, вспоминала песню, которую он сочинил для нее, а появился — и она убежала. Почему же? Чего она так испугалась? Тяжело, как загнанная, дыша, она присела на травянистую кочку и загадала, что если вспомнит без ошибок его песню про горы и камни и страдание влюбленного — конечно, влюбленного! — юноши, то все будет хорошо. Но песня не вспоминалась, какие-то строчки повторялись от волнения без конца, а какие-то исчезли вовсе. Ой, Дильдор, не будет у тебя счастья! Да и не может быть! Он — советский учитель, а ты… Поняв, от чего бежала, она поняла еще, что не может убежать от этого. Вот, сидела в саду одна, а это было с ней. Это было с ней и вчера, и позавчера. И будет завтра, всегда! Она любила. Назавтра, из проклятий матери, брызжущей слюной, Дильдор узнала, как Масуд прогнал со своего места ишана, а сам пел с каменной глыбы, где всегда молча сидел ишан, песни людям. Новые песни. «Молодец», — подумала она. Ей нравилось, что это сердило маму… Не старую женщину сердило, которую она любила и жалела, а старое время, которое проклинало Масуда голосом матери. Проклинало, потому что не понимало и не принимало. А ей нравилось, что Масуд поступал по-своему, назло старому времени. Какой девушке не понравится смелость джигита, да еще не пустая смелость, а в таком, можно сказать, умном и кровопролитном бою, в битве времен? Перед сном мать сказала: — Твой учитель уложил борца Аскара. Сельсоветчики, наверно, подкупили нашего палвана. — Почему — мой? — возмутилась Дильдор. — А как же! Чуть тебя заденешь, огрызаешься: «Вот пойду учиться!» А учить он будет. Кто же! — Хорош богатырь, если его подкупили, — усмехнулась Дильдор над Аскаром. — А-а, теперь все можно… А как же! Раз советский, должен победить. Мать поворчала, а Дильдор долго не могла уснуть. Ей не хотелось, чтобы сельсоветчики подкупали борца. Да и чем они могли подкупить? Сама же мать называет их голытьбой, несчастными и нечестивыми бедняками. Как чуть что: «Голытьба! Тьфу!» Масуд победил настоящего богатыря! И эта новость тоже была приятной и радостной. Какая же девушка не захочет, чтобы джигит, который нравится ей, был сильнее всех? Сильнее всех и смелее. Но почему же он, смелый, не приходит к ней, не ищет встречи? Уже другая у него на уме? Легкомысленный, изменчивый, как все красавцы? Ой, подумаешь, красавец. Не будет она по нему слезы лить! Дильдор и правда не плакала, но на душе сначала стало грустно, а потом страшно от этой грусти, которая не проходила, никогда еще такого не было с девушкой, и она не знала, как с этим справиться. Уснула она, успокоенная решением пойти учиться, не откладывая больше этого ни на один день. Ведь записалась же. И Шерходжа велел. Проснулась она с мыслью о школе и с таким ощущением, будто у нее начиналась новая жизнь. Сегодня она увидит учителя, увидит Масуда. Сегодня вечером. Вот только еще одно мучение родилось — как дождаться вечера, как дожить до него? Времени впереди было так много, целая вечность. Спрятаться от этой вечности, заняться чем-нибудь… Дильдор смела и сложила в кучу листья, которые за ночь обронил на дорожки сад. Ночи в предгорьях незаметно стали холодными, даже утром на земле держался легкий иней. До того, как солнце припекало. К этому часу Дильдор уже набила листьями три мешка и принялась собирать опавшие яблоки. Крупные и краснобокие, они напоминали то яблоко, которое она сорвала однажды для Масуда, да так и не отдала ему… Собрав яблоки, взяла плетеную корзину и побрела в виноградник. Листья его резные распылались разноцветно, как угли. Откуда этот жар? Точно они сгорали перед смертью, сами сжигали себя. А грозди побурели от солнца, многие ягоды, тронутые холодом, сжимались, увядали. Его прикосновение было губительным. Дильдор нарвала полную корзину, принесла на веранду и там перебрала грозди, от одного вида которых во рту становилось сладко, взяла ножницы и вырезала гнилые или подсохшие ягоды — все до одной. А теперь что? Мать похвалила ее за аккуратность, за старательность. Лучше бы подсказала, куда деть себя, чем заняться. Можно, например, думать, как сегодня пойдет в школу. Как? Вокруг пойдет по улице, ведь бессердечный учитель велел заложить калитку. Конечно же это он велел, будто сказал: «Я не хочу вас видеть!» Может, не идти? Нет, пойдет, назло ему! А почему он все же ничем не напоминал о себе? Захотел бы — придумал, как ей дать знать, и не испугался! Нет, тут все дело было в обыске, когда он пришел в их дом понятым. И еще этот пустой ящик, кажется, от патронов, который нашли в сундуке у матери. Кто его туда сунул? Отец? Шерходжа? Может быть… Но какое отношение к этому имеет она, Дильдор? Никакого! А Масуду что до этого? Он же был всего-навсего понятым. Пусть этим интересуется ГПУ. А он — учитель, его дело — дети, тетрадки, ну, дутар и, конечно, она, Дильдор… А так ли уж верно, что ты сама не имеешь никакого отношения к этому ящику? Она спрашивала себя и вздыхала. Ничего не сказала ни следователю, ни кому-нибудь другому о том, что приходил Шерходжа. Не сказала про одеяло в траве, за кустами, на котором спал кто-то. Ее угнетало, что она скрывала это, старалась забыть. Жутко становилось, но ведь она делала это, жалея мать. Мать просила. Мама… Это слово было первым, которое сложили губы. Как она могла не слушать маму? Дильдор смотрела на солнце. За дувалом звонила в колокольчик тетя Умринисо. Вздыхай не вздыхай, а сегодня и солнце двигалось медленней, чем всегда. Или небо стало больше, просторней? Скрипнула уличная калитка. Кто это? А вдруг — Масуд? Придет и спросит строго-настрого: почему это она, записавшись, до сих пор не показывается в школе? А она ответит: я сегодня прибегу на занятия, господин учитель! Нет, товарищ учитель. Так теперь нужно говорить, ведь господ убрали, их нет. Товарищ учитель, скажет она. Это не он. Это Замира пришла, дочь мельника, бывшего отцовского караванщика. Как живешь-поживаешь, тары-бары… Болтушка! — Ну ладно… Я пошла, мне твоя мать нужна, — сказала Замира. Дильдор всю ее окатила взглядом. Лицо как блин, нос крохотный, пуговкой, глаза живые, бойкие, но это пока молодая. Нарядилась, украшений понавешивала на себя, а… Не надо придираться, остановила себя Дильдор, совестно тебе, ты завидуешь. Нравится она брату, ну и хорошо, пусть будут счастливы. — Удачи! — улыбнулась Замире Дильдор. Конечно же Замира прилетела пошептаться с матерью о свадьбе. Влюбилась по уши. И славно! Это ведь так и должно быть, чтобы людям улыбалась судьба… Шептались они в комнате не так уж долго, а вышли вместе, мать оделась в теплое, как зимой. Судя по всему, Замира уводила ее. — Когда вернетесь, мама? — поучтивее и поласковее спросила Дильдор. — Может быть, заночую. И Дильдор подумалось дерзко: вот и мне судьба улыбнулась хоть чуточку. Он смелый? Пусть увидит, что и она смелая. Почему бы ей после занятий не пригласить Масуда в гости и не накормить пловом, который она своими руками приготовит? И как будто приглашение было уже сделано и принято, она вскочила и побежала в кухню — разделать мясо и нарезать морковь для плова. Времени, которого весь день было слишком много, теперь могло не хватить. Она спешила. Острый нож грозил оттяпать пальцы, но они ловко увертывались. Резать морковь — мужское дело, в доме этим всегда занимался Шерходжа, но и у нее неплохо получается. «Ой, правда, для любимого все сделаешь», — подумала Дильдор, и защемило в груди, а руки заработали еще проворнее: тонкие ломтикисочной моркови росли горой. А вдруг он откажется? А чего бы ему отказываться? Голодный небось. Учителей не очень обихаживают, и ничего у него тут нет — ни дома родного, ни запасов. Придет! Не она же сочинила ему песню, а он ей. Умывшись, она оделась в голубое платье, накинула наверх безрукавку из зеленого бархата, а какой платок на голову — золотистый, красный? Красный. Все. Когда она вошла в школьный двор, там уже толпилось довольно много кишлачных мужчин и женщин. Будущие грамотеи. Она даже и не думала, что у стольких найдутся желание и свободные вечера, и не знала, что сегодня людей на курсах ликбеза заметно прибавилось после пятничных успехов Масуда, после разговоров о нем, в основном добрых. Вот и он! Отомри же, сердце, и не стучи, ну что же ты, так ведь и упасть можно замертво… Ей и правда показалось, что голова закружилась или весь мир вдруг качнулся и поплыл в круговом движении. А это что за красавица? Вместе с Масудом вышла из школы на веранду, остановилась. Кто такая? Незнакомая! Улыбается, а глаза опустила, и щеки пунцовеют, как будто о ней сейчас заговорят. Масуд в самом деле подозвал к себе всех явившихся для занятий, порадовался, что их больше, чем всегда, и сказал: — А к нам в Ходжикент как раз приехала новая учительница, вот она. Ее зовут Салима, мы соседи с ней по Ташкенту, она хорошая. Дочь известного в нашей махалле печника Самандара. Значит, Салима Самандарова. С сегодняшнего вечера с мужчинами буду заниматься я, а женщин обучать — Салимахон. Согласны? — Очень хорошо! — А то мы сзади сидим, ничего не видим! — И муж ругается, боится, что уведут! Голоса были тем смешливей, чем радостней. — Тогда мужчины — сюда, а женщины — сюда, — Масуд показал в разные стороны от коридора. — Собрание окончено, начинаем урок! Тетя Умринисо, дождавшись конца его короткой речи, затрезвонила в свой колокольчик. И случилось то, чего Дильдор вовсе не ожидала. Не раз в течение дня она пыталась вообразить, как Масуд возьмет ее за руку, будет учить писать, а она даже виду не подаст, что знает многие буквы, удивит его потом, как быстро запомнила. Потом, когда-нибудь, скажет, что знала, и вместе посмеются… А очутилась в классе, где Масуда и не было. Видела его какие-то минуты, он же и не посмотрел на нее, и не заметил, даже не поинтересовался… — Здравствуйте, Дильдор, — удивился рядом женский голос. — Здравствуйте. Только сейчас Дильдор опомнилась и увидела, что сидит на первой парте, рядом с тетей Каримой, своей бывшей мачехой, можно сказать. А эта новая учительница, Салима, которую она уже успела возненавидеть за то, что она была соседкой Масуда по ташкентской махалле, и за то, что он похвалил ее, и за то, что эта ее ровесница, ну, может, чуть постарше — на годик-другой, уже была учительницей, а она еще не написала ни одного слова в жизни, хотя знала буквы, и за то, что ее можно было назвать если и не красивой, то смазливой, и за румянец на нежной коже, и за все остальное, — эта Салима прошла между партами, положила тетради перед новенькими, у кого их еще никогда не имелось, и перед ней, перед Дильдор, положила. И остановилась сама перед ней как раз. — Как меня зовут, вы уже знаете, — сказала она с перерывами, давая остыть интересу больших учениц к тетрадям и карандашам, отложить их окончательное рассматривание, — заведующий школой Масуд Махкамов представил. А я с вами постепенно познакомлюсь. Сделаем перекличку, и я посмотрю на каждую, а потом, в ближайшие дни, не раз буду вызывать всех по очереди, спрашивать. Сначала выберем классного старосту, энергичную курсантку, которая будет помогать мне следить за посещением и вести занятия. Я объясню обязанности старосты, но сразу хочу сказать, что это должен быть человек, который никому пощады не даст и которого вы все немножко боялись бы. Да, да! — она говорила с улыбкой, но даже пальцем погрозила. — Чтобы у нас и часа не пропадало! Кого выберем? Называйте сами. После маленького замешательства назвали несколько имен — одно, второе, третье, но все боязливо отказывались, ссылаясь на полное неумение и занятость домом и детьми. — А вы не хотите? — спросила Салима, и теперь Дильдор самой пришлось вспыхнуть — маковым цветом занялись щеки. — Вы молодая. Вероятно, у вас дома забот поменьше, чем у других, вам будет интересно и мне с вами легче. Как вас зовут? Дильдор молчала, будто лишившись голоса. За нее ответила соседка, тетя Карима: — Это Дильдор, дочка Нарходжабая. Не слышали еще про нашего бая? Был у нас такой в Ходжикенте, все держал в своих руках… Дильдор захотелось вскочить, убежать, но она только втянула голову в плечи. И словно заметили ее испуг, а возможно, и правда заметили, сзади ведь всем было видно, как она съежилась, будто бы ожидая, что ее сейчас начнут выгонять или даже бить. Но раздались голоса совсем о другом: — Она с матерью отказалась от бая. — Он с ними не живет давно. Гуляет где-то! — В Газалкенте. Там у него дом. — Давайте, правда, Дильдорхон выберем! И тетя Карима прибавила с неожиданной теплотой: — Она и буквы знает… И память у нее получше, чем у нас. Нет, на память тете Кариме самой жаловаться не приходилось. За неделю, прожитую в доме бая, она успела узнать не только горечь и унижение от придирок старшей жены, но и то, что Дильдор могла бы ее буквам научить. Девочка Дильдор показывала ей, как пишутся две или три буквы палочкой на земле… — Вы не возражаете, Дильдорхон? — это учительница, уже не казавшаяся такой ненавистной, спрашивала ее, и надо было ответить, но она молчала от пережитого испуга, от скованности, от смущения. — Считаем, что согласна. Ведь молчание — знак согласия… Сейчас я перепишу всех, отмечу на первый раз, а потом вы сами — научитесь, не робейте, будете отмечать, кто явился, кто нет, и почему не пришли, домой нужно зайти, проверить… Это первое. Второе — смотреть, чтобы всегда были на месте мел, тряпка, чтобы лампа — керосином заправлена. Понятно? У вас тоже будет помощница, Дежурная, которая будет приходить чуть-чуть пораньше и все подготавливать к уроку. Мы все должны делать для себя сами, слуг нет. И назначать, дежурных, на каждое занятие новую, по очереди, ваша третья обязанность, староста. Вот так. А теперь — за перекличку… Наш список, наверно, очень неполный, людей сегодня больше, сейчас допишем. — Салима открыла общую тетрадку на своем столике, снова встала и вывернула фитиль в лампе, отчего сразу посветлело в углах комнаты, на стенах, и лица озарились. Учительница записывала новеньких курсанток, они поднимались, называли свои имена и мужей, говорили, где живут. А затем «старенькие» вставали для знакомства, и только завершилась эта работа, именуемая перекличкой, как тетя Умринисо громко забрякала, задребезжала звонком за дверью. Время летело необыкновенно быстро, его, правду сказала Салимахон, надо было беречь… Женщины и во дворе, во время пятиминутного перерыва для отдыха, между уроками, держались обособленной кучкой, тихо обменивались первыми впечатлениями от учительницы, которая им очень понравилась совмещением серьезности и веселости, а мужчины толпились подальше от веранды, и Дильдор увидела там Масуда. Вокруг него одни мужчины жестами изображали борьбу, другие смотрели и слушали, кидая под язык насвай — жевательный табак — из маленьких табакерок, сделанных из тыковок. Спрашивали, слушали ответы Масуда, обсуждали. Борьба! Этого им на несколько дней хватит, до следующей пятницы. Звонок позвал в класс, и теперь учительница проверяла вслух домашние задания и поправляла ошибки, для всех показывая на доске, как следовало писать «конь», «корова», «хлеб», «чай», «молоко»… Буквы на глазах составлялись в слова, и Дильдор обо всем другом забыла… Старосте полагалось стараться. Однако в следующий перерыв, перед последним уроком, она первой выскочила в коридор и едва не столкнулась с Масудом, вышедшим из двери напротив. — Масуд-ака! Мне нужно с вами поговорить. — Говорите. Их обтекали с разных сторон мужчины и женщины. — Не здесь. Они тихонько спустились с веранды во двор и направились к воротам. Ей показалось, что на виду у всех он нехотя плелся с ней, и вспомнилось, как она называла его «бессердечным», не зря, наверно. Она подняла глаза и увидела его похудевшее, усталое лицо. — И не здесь, — сказала она, — я… Стало слышно, как скрипят его сапоги. — Что вы замолчали? — спросил он. — Я прошу вас сегодня после учебы зайти в наш сад. У меня серьезный разговор, товарищ учитель. Придете? Он подумал и обронил: — Приду. Да, да, приду. — Придете, правда? — воскликнула она, повернулась и убежала в класс, не ожидая звонка. Даже не сказала, что ее избрали старостой. И не надо. Ему учительница скажет. Не это же главное, не это! Она так вздрогнула, увидев его усталое лицо, что теперь могла бы перед всем миром без ошибки сказать, что́ главное в ее жизни. Чтобы у него было счастливое лицо! Могла, а боялась повторить даже самой себе. Дильдор села за парту, закрылась руками, даже локти крепче прижала к себе, чтобы унять сердце, колотившееся в груди. С толчками сердца билось в сознании одно слово: «Придет, придет, придет!» И захотелось скорее умчаться в сад, чтобы ждать там. Приготовиться к уроку, говорила учительница. А к приходу в дом того, кто важнее всех на свете, разве не надо приготовиться? Разве не надо зажечь свечи в серебряных и хрустальных люстрах, расстелить на веранде атласные одеяла, набросить наверх лучшую скатерть для угощения самого дорогого гостя — дастархан, положить пуховую подушку, чтобы он мог облокотиться? Едва дождалась конца занятий… Домой она бежала через темный, хоть глаз выколи, сад, но быстрые ноги сами несли ее по знакомым, привычным дорожкам, вон уже засветилась тусклым пятнышком и лампа, оставленная ею на веранде. Фитиль был прикручен, — значит, мать действительно не вернулась. Слава богу… Дильдор впервые почувствовала себя такой большой — ничего не боялась, ни темноты в саду, ни одиночества в доме, наоборот, радовалась ему. Она поднялась на веранду, отдышалась чуточку, прибавила свету, вошла в комнату с лампой в руке и вскрикнула. Даже вскинула руку и прижала ладонь ко рту. — Чего ты? — с хрипотцой спросил Шерходжа, сидевший в комнате, на полу, застеленном толстым ковром. — Не ждала? Он усмехался над тем, как она испугалась. Будто это доставляло брату удовольствие. Он и мальчишкой любил озоровать и пугал ее по-разному, то внезапно спрыгивая перед ней с крыши какого-нибудь сарая, то проскакивая перед самым ее носом верхом на карабаире, подаренном отцом. Вспомнилось, как с ходу остановленный жеребец бил копытом и ржал, а Шерходжа счастливо смеялся. Сейчас все было другим, не похожим на озорство. Брат… Масуд… Дильдор молчала, но мысли роем кружились и не находили ответов на такие жестокие и простые вопросы: надолго ли пришел брат, ведь сейчас может появиться «бессердечный учитель», что делать? — В школе была? — А где же? Конечно, в школе. — Чего так испугалась, золотко? — Не ждала, сам сказал. — Не забывай, что я живой еще. — Мама ушла к Кабулу-караванщику. Возможно, и ночевать там останется. Она надеялась — он, может быть, заинтересуется матерью и тоже отправится к Кабулу, где есть еда и водка, Будет пить чашками, как в последний год распивал с дружками. Но Шерходжу ее сообщение не заинтересовало. — Угу… А в школе какие новости? Если начать ему рассказывать, он захочет все выслушать, а так, может, все же уберется в дом мельника, вслед за матерью, к своей Замире. Зашевелился. Мятая подушка с краю ковра подсказала, что Шерходжа, вероятно, пришел в дом, когда стемнело, и спал тут, пока ее выбирали старостой… Был ли он в кухне? Видел ли припасы, разложенные там для плова? В кухне, занимавшей крохотную постройку-коробочку во дворе, темно. А лампа стоит на прежнем месте, где она зажгла ее, и горит точно так же. Похоже, Шерходжа не трогал лампы. Его устраивала темнота… — Какие новости! Я сегодня первый раз там была. Пока нечего сказать. — Как же! Говорят, новая учительница приехала! С утра занималась с малышами — ублюдками голытьбы… — Да… А вечером вела урок с нами, с женщинами… — Милашка? — Ничего, — Дильдор пожала одним плечом. — Новый учитель — сильный, большой… — Да, говорят, красавец! — Богатырь! Дильдор невольно хотелось внушить брату, что с ним, новым учителем, опасно связываться: — Аскара уложил на кураше. — Откуда ты знаешь? А, школа гудит? — Мама сказала мне еще раньше. — Значит, теперь их там пять человек, — задумчиво протянул Шерходжа, будто бы для себя, а не для нее. — Где? — В школе. — Он начал перечислять: — Учитель, новенькая, сволочь эта Кадыр со своей женой… — Четыре. — И сторож Ахмад. Старик, а тоже надо палец загнуть. Раньше его там не было, а теперь сидит рядышком — в сельсовете… Зачем он их пересчитывает? Почему это его волнует? Боже, задержи Масуда, не дай им встретиться. Пусть лучше он совсем не придет! Боже, милостивый, милосердный, помоги мне. Помоги! — А ты чего пришел? — Тебя повидать. Послушать. Давно не видел любимую сестренку. Соскучился. Чем угостишь? — Сейчас буду себе чего-нибудь готовить, вместе и поедим. — А выпить найдется? Поднесешь? — Смеешься надо мной? — она и сама засмеялась. Откуда силы брались, но она старалась раскрепоститься, освободить себя от этой леденящей парализованности, а его от настороженности, с которой он прислушивался к любому порыву ветра в саду, встряхивающему листву на деревьях, к глухим, случайным шлепкам яблок, упавших с веток, как будто он ждал, ловил и боялся прозевать чьи-то шаги. Дильдор тоже напрягала слух, и до нее иногда доносился далекий собачий лай. Больше, слава богу, ничего. Шерходжа поднялся: — Смеюсь, сестренка. — Замира сегодня приходила… Была последняя надежда, что он еще заинтересуется Замирой, но брат даже не услышал. — А вот это, слушай, серьезно… Про школу я все должен знать: где они снят, где едят и какой характер у этого самого Масуджана. Говорят, он веселый и петь любит… Ты мне будешь о нем рассказывать. Только для этого я тебе позволяю в школу ходить. В ликбез! — Я ничего не знаю. — Узнаешь. Я еще приду. — Когда? — Самому неизвестно. — Почему тебе надо… все это… про школьных учителей? — Потому что они живут в нашем доме. Понимаешь ты, в нашем с тобой! Мы их не звали, а они пришли! — Шерходжа, как всегда, быстро воспалялся и уже кричал, потрясая горстью, но потом сдержался, стиснул горсть в дрожащий кулак. — Я пошел. — Куда? — Не твое дело. Он как-то загнанно оглянулся на нее, и дверь качнулась, хлопнула и отошла со скрипом. За ней темнела пустота. Как будто и не было здесь брата, никого не было. С каким нетерпением и радостью час назад она ждала Масуда, а теперь радовалась, что он опаздывал, и благодарила бога: «Спасибо, что ты услышал мою просьбу и внял ей. Ты велик и всемилостив, я теперь сама убедилась в этом». Между тем Масуд, услышав, что Дильдор зовет его в свой сад, испытал в первую минуту что-то похожее на прикосновение счастья. Это не было ни ликованием, ни чувством победы, от которого хочется трубить во все карнаи и петь, это было что-то тихое, как движение воздуха от крыла невидимой птицы, — все ждут, что она пролетит над ними, да не все дожидаются, а он… И когда он ответил, что придет, он помедлил не потому, что раздумывал, а просто боязно было поверить в этот состоявшийся миг чуда. Он, наверно, даже показался ей бездушным, так невыразительно и скучно, так по-деловому он ответил: «Приду, да, приду…» А это было просто от растерянности. После занятий он сказал всем школьным работникам, в том числе и Салиме, что пойдет к Батырову или даже к Исаку-аксакалу, у него дела, и вышел на улицу, надвинув на затылок новую тюбетейку, выкопанную из чемодана. На улице остановился и подумал: а ведь и правда надо сходить к Батырову. Мысли его, остынув, стали выпрямляться: что ждет в этом доме, куда его позвали, ведь дом-то не простой, а бывший байский. Он боялся? Нет. Нет, он не боялся, не страх руководил им, а совсем другое чувство. Долг. И это было выше всего, выше любви, так неудержимо и незнакомо переполнившей все его существо. Ты не только учитель, Масуд, ты прежде всего чекист, сказал он себе, и тебя послали сюда как чекиста, для того чтобы работала кишлачная школа, это прежде всего. Не забывай, Масуд, есть вещи, которые для всех людей поважнее твоей любви, и, как бы ты ни был честен в этом чувстве, еще честнее и выше ты должен быть перед людьми в деле революции. Потому что это дело всеобщее, а не только твое. И ты не сможешь предать его, не сможешь, даже если ценой любви или самой жизни придется оплатить свою верность долгу… Ах, отец, как жаль, что нет тебя рядом, я пришел бы, все рассказал тебе и спросил, что делать, раз так случилось? Не придешь, не расскажешь, не спросишь… Алексей Трошин предупредил: помни о Шерходже, всегда, каждый миг. Такое ощущение, что он где-то здесь… Чего же ты молчишь, Алексей? Что там сказал тебе Нормат? Ничего, значит, не сказал… Сказал бы, сразу был бы звонок. Или появились бы здесь друзья чекисты, а то и сам отец. Где-то стоят для тебя капканы, влюбленный, если Трошин прав. Ты не веришь Дильдор? Чепуха! Она может и не знать. Не изувер же она! Не лукавая обманщица. Ты бы сразу это почувствовал. Правда, мало они поговорили… Сегодня первый раз она пришла на курсы, хотя записалась давно. Пришла и сразу пригласила к себе. Конечно, можно подозревать, и стало неприятно, что мысли легко покатились этой дорогой. Но можно и оправдать ее. Столько дней не решалась, ждала, а пришла и позвала, как только увидела. Она чиста! Это было удивительно. Он сам понимал и думал не без оснований, что все нити вели к этому саду, но сначала выводил из его тьмы Дильдор. Бесповоротно. Почему? Алексей Петрович в таких случаях, когда не было убедительного объяснения, говорил: «Потому, что оканчивается на «у». И все. Потому что ты, Масуд, любил эту девушку. Понимал, что нужно задавить эту любовь, вытоптать, вытряхнуть ее из головы и из сердца, и не хотел. А может быть, она значила для Дильдор больше, чем для него, потому что открывала ей двери в другую жизнь? Ладно, разнежился, а ведь все это под вопросом. На самом деле его лирика способна обернуться еще одной пулей. Все может быть и не так, как поется в газелях о любви. Батырова он застал на рабочем месте и коротко сказал, что идет в байский дом. — Э-э-э, завтра бы, Масуджан! Когда светло. — Завтра — некогда, с утра — занятия… Дильдор выбрали старостой, и он должен поддержать, поговорить с ней, обещал заглянуть после уроков. Вот и пойдет. — Заодно и проверим, насколько это опасно. Я решил специально вам сообщить, куда иду. Аскарали свел брови и покачал головой из стороны в сторону. Масуд весело козырнул. Через байский сад он шел с остановками. Дорога к дому Дильдор от уличной калитки была длинней, чем от дувала, через который можно было легко перемахнуть, но, может быть, там его и ждали? Ветер уснул, виноградники застыли. Тем легче было прислушиваться. Ничего… Из-под веток яблонь, раскинувших свои шатры неподалеку от дома, Масуд увидел яркий свет на веранде. Горели толстые свечи в огромных люстрах, пламя острыми лепестками торчало вверх, подтверждая безветренность этой ночи. Красный кашгарский ковер растекся от стены до стены. Стопы атласных одеял и подушек выросли в нишах. Все это не манило его, скорее — смешило и, честно говоря, немножко даже отталкивало, но если это для него появилось, то Дильдор постаралась. Из кухни доплыли жаркие запахи бараньего мяса, кипевшего в раскаленном котле. А вот и Дильдор пробежала по тропинке от кухонной коробочки к дому, остановилась на ступенях веранды, оглянулась, попыталась всмотреться в темный сад. Она ждала его. Когда она появилась из дома, поправляя другой, более праздничный и яркий платок на шее, Масуд уже стоял на веранде, и она вскрикнула и схватилась за грудь: — О боже, как вы меня напугали! Он не ответил ей ничего, весь, как говорят охотники, глаза и слух. — Проходите. Я сейчас… — сказала она и убежала, словно бы от стыда. Как будто и не собиралась возвращаться… А он старательно вытер сапоги о влажную тряпку у двери и вошел в комнату, держа руку на нагане, спрятанном в карман. Огляделся, прислушался к затаившейся в доме тишине и сел на новое одеяло, свернутое вчетверо и положенное посередине комнаты у низкого столика. Столик чеканной работы весь был заставлен угощениями — гостя хотели враз удивить и закормить: на редкость ароматный, пахнущий альпийскими лугами горный мед, в котором ложка могла держаться стоя, был налит в глубокую тарелку, на краях ее желтели цветы, напоминая об ушедшем лете. Тутовое и яблочное варенье перегруженно заполняло две вазы. На бледно-розовом подносе холмились миндаль в мягкой скорлупе, словно бы исколотой иголками, янтарный кишмиш, белые канделаты — рыночные конфеты, вкусней которых — спросите любого мальчишку или девчонку — нет ничего на целой земле! Высоким столбом тянулась вверх стопа пропеченных лепешек с пухлыми, сдобными краями. Было от чего глубоко вздохнуть, улыбнуться первой мысли: «Ах, черт, если бы друзей сюда, сутками качавшихся в седлах на дальних тропах, мерзнувших зимними ночами на караульных постах! Или других, незнакомых, одиноких учителей из безвестных школ…» Только два голубые — тонкой китайской работы — пиалы приткнулись к яствам на столике. Больше никого не ждали. — Вы чего вздыхаете? — спросила Дильдор, входя. Он пожал плечами. А она поставила чайник с горячим чаем, потеснив варенье и фрукты, опустилась напротив. — От работы устаете? — Это плохо разве? — Наверно, хорошо. Она вновь взяла чайник и налила ему чаю свежей и отменной заварки, и он протянул руки, отобрал у нее тяжелый чайник, и так вышло, что они налили чаю друг другу. Над пиалами поднялся и дымком закружил пахучий пар. — Пожалуйста, угощайтесь, Масуд-ака. — Рахмат, — поблагодарил он. — Я плов закрыла, пусть попарится, а пока — лепешки, чай… Может быть, хотите гранаты? Я… Масуд-ака! — Да, да… Он не видел, как улетучился, растаял пар над его чаем, не слышал, что говорила молодая хозяйка. Вскинув голову, он прислушивался к чему-то другому. А из другого мира сюда пока не долетало ни одного звука, кроме отдаленного и редкого лая собак. Масуд улыбнулся, посмотрел на девушку и увидел, что глаза ее переполнились слезами. Слезы сорвались с ресниц и покатились по щекам. Быстрые, копившиеся давно и лишившиеся вдруг выдержки… — Дильдорхон! Что с вами? — А с вами? — спросила она. — Я вас пригласила, потому что верю вам. А вы мне — нет. Все смотрите на дверь, все слушаете… нет ли кого за ней! Хотите — открою? Нараспашку! — Дильдорхон! — Нет! — она тоже пыталась улыбнуться. — Я не обижаюсь на вас. Рядом с этим домом убили двух учителей. Но я-то… я тут ни при чем! Я хочу, чтобы вы мне верили! — Дильдорхон, — повторил он ласковей. А она подумала: требую, чтобы он мне верил, а сама молчу о Шерходже, который был здесь. Да ведь каждое мгновенье может распахнуться дверь, и вернется Шерходжа, быть может не один, а со своими дружками, картежниками из чайханы? Что тогда? Ей стало страшно, так страшно, как еще никогда в жизни не было, и, прижав кулаки к груди, она потребовала каким-то пронзительным, властным шепотом: — Лучше уходите! Уходите из этого дома! Сейчас же уходите! Масуд разломал лепешку, захрустевшую в пальцах, положил перед Дильдор самые мягкие куски, а себе взял потоньше, прохваченные огнем, ломкие, любимые, они напомнили ему дом. Чай остыл, но был вкусен. Масуд хвалил лепешку, выщипывал ягоды, розовые, как утро, из горы винограда на втором подносе с краю стола, подлил себе горячего чаю, поинтересовался, не заменить ли чай девушке, и все это делал с легкой улыбкой, а Дильдор не унималась: — Правда, Масуджан! Уходите! Я буду счастливой оттого, что вы спите спокойно и сладко, как спит всякий уставший человек. Я же вижу, как вы устали! Я сейчас заверну вам в узел всяких вкусных вещей… И миску плова, который уже готов. Вы уйдете, а я буду радоваться. — Вы же хотели поговорить со мной. — О чем? — спросила она. — О чем мне говорить с вами? — Ее большие глаза остановились на его лице. — О том, что вы мне дороже отца и брата? Пусть он придет сюда и задушит меня своими косматыми волосами! Я его не боюсь! Масуд понимал, как это было неуместно, но все же усмехнулся, негромко и коротко. — Волосами? Вы о нем говорите, как о девушке с длинными косами, как о русалке! Почему это — волосами? Дильдор испуганно сжалась и пролепетала чуть внятно: — Вы мне дороже всех! Девушка открывалась ему, а он думал, почему это вдруг ей померещились длинные волосы брата? Как он проклинал себя в этот миг за согласие прийти сюда! Еще недавно это, казалось ему, было силой, характером, поступком, но сейчас Масуд не видел в своем поведении ничего, кроме жалкой слабости. Невозможно было все время жить в двух пластах, следить за собой, остужать себя и вежливо задавать плачущей девушке вопросы: — А где мать, Дильдорхон? — В гостях. У мельника Кабула. — Вы совсем одна в доме? — Я хочу быть одна! Сделайте мне подарок, если вы настоящий джигит, товарищ учитель. Уходите. Прошу вас! Она отшатнулась от столика, вскочила и выбежала вон. Масуд вышел за ней. Почему-то подумалось, что она уже скрылась в саду, таким скорым был ее неожиданный рывок, но Дильдор стояла на веранде, у стены, прислонив голову к поднятым рукам. Подойдя, он поправил красивый платок, свисавший с ее плеч. — Не плачьте. Никто не стоит ваших слез. Ни они все, ни я. Но я хотел бы заслужить хоть слезинку… Вот я с вами! И никто не посмеет обидеть вас, пока я здесь. Вытрите слезы. Оказывается, он совсем не умел говорить с девушками. Она не только не вытерла слез, но, повернувшись и прислонившись к его груди, вдруг припустилась рыдать в голос. — Ну вот… И под дождем моя рубаха так не намокала! Да вы плакса… просто плакса! — Он прижимал ее к себе, гладил плечи, пока рука не остановилась где-то в глубине ее косичек. — Человека с ума сведете! Теперь он отшагнул от нее, потряс головой, как будто выходил из сна, глубокого и плотного, как вода в омуте, и, не попрощавшись, бросился через сад к калитке. Ветки, на которые он натыкался, взмахивали на его пути темными крыльями или потрескивали, если были сухими… Дильдор не окликнула его, не остановила, не тронулась с места. Снова она подумала, что бог ее охраняет и поэтому бережет и его, вот он ушел, это бог опять услышал ее молитвы… Всегда была уверена в том, что как вкопанные стоят от страха, когда кровь леденеет в жилах, но, оказывается, можно так стоять и от радости, от облегчения, когда нет ни капельки сил, чтобы шевельнуться. Потом захотелось закричать на всю эту черную ночь от обиды, от боли, но радость сознания, что ее возлюбленный ушел, и будет жив, вот уже, наверно, закрыл за собой калитку школы, и ему ничего не угрожает, эта радость была сильнее. За ночью наступит утро. В прозрачном, звонком от птичьего крика небе она увидит свободных и беззаботных птах. Если бы, как они, подняться к солнцу, над землей, обремененной грехами…ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
От Масуда пришло письмо, и Трошин словно бы возвратился в Ходжикент. Кишлак и раньше часто вспоминался ему в эти дни… Сначала встреча с Батыровым заставила Алексея Петровича вспомнить далекие годы, дороги и тропы, по которым красные отряды преследовали осиповцев, горные кишлаки по пути к Бричмулле. В человеческую жизнь неистребимо входят разные места. С ними связаны самые памятные события, и ты как будто все еще живешь там, где был когда-то и оставил частицу самого себя. Где похоронил своих друзей. Тебя-то вряд ли кто узнает там, если даже появишься, но в тебе эти кишлаки, эти вечные могильные холмы, эти камни, положенные братскими руками в изголовье павших товарищей, в тебе они живут и живут… Вот и Ходжикент. Он уехал и словно бы остался там. Но раз, шагая по ташкентскому тротуару, Трошин вспоминал каменную мостовую вдоль парадного дувала ишана. Двор ишана захватил живописный кусок земли между кладбищем и чинаровой рощей. Но дорога к нему вела не с кладбищенской стороны, а вдоль рощи, незаметно переходившей в роскошный сад, отгороженный от людей добротным и солидным дувалом. Мостовая и тянулась тут. По ней, иной раз повизгивая плохо смазанными колесами, проезжали арбы, тяжелые, заваленные грузом — на базар, легкие и пустые — оттуда, топали, блея, бараны и овцы, на ней перекрикивались прохожие — улица была многолюдной. Едва закроешь глаза перед сном, вырастает Ходжикент — гузар, мечеть с прямым стволом минарета, мельница на реке, байские дома, где теперь сельсовет и школа, садовое убежище старшей жены бая Фатимы-биби с ее дочерью, надо сказать, поразительной по красоте девушкой, и дом ишана за чинаровой рощей… С чего бы ни начал он мысленный обход Ходжикента, все равно приходил к этому дому, к этому двору. Двустворчатые, резной работы, размашистые ворота, способные пропустить лихо катящий фаэтон. Не протискивались, а прокатывались сквозь них и арбы, вывозившие горы ящиков с яблоками и виноградом. Ворота всегда были открыты настежь, словно бы для нежданных путников. Или людям, проходившим мимо, показывали гостеприимство хозяина? Кто знает! Но вот что заметил Алексей Петрович, как-то, под видом прогулки, обойдя вокруг всего двора Салахитдина: в заднюю стену дувала, окружавшего большущий двор, в укромном месте, за садом, была врублена незаметная, узенькая калитка. Она выходила в сторону гор. Было похоже, что на всякий случай ишан приготовил себе лазейку. Алексей Петрович поднялся в горы, к арчовой роще, и отсюда как бы заглянул во двор ишана, который разлегся перед ним будто на ладони. Сад был тенист, и ветви его могучих деревьев щедро увешаны благословенными плодами природы и людского пота. Судя по всему, ишан заставлял своих работников орошать им землю не скупясь. В дальнем, внутреннем дворе лениво двигалась фигура женщины, разодетой на диво. Она пересекала солнечный разлив и клок тени. Без особой охоты, наверняка от скуки, одна жена святейшего шла в гости к другой, от дома к дому. Всех домов было четыре… В переднем, или так называемом внешнем, дворе движения было куда больше! Там работали вовсю. Если присмотреться, нетрудно было заметить, что те же дервиши, которые неистово молились и плясали в чинаровой роще вокруг каменного «трона» ишана, сейчас носили тяжелые корзины из сада, высыпали яблоки на брезент, сортировали, складывали в ящики, грузили на арбы — в общем, трудились. А вот и сам ишан… В бархатной куртке, затянутой в талии, в легких, быстроходных сапогах-ичигах, проворный, даже бравый, несмотря на свои шестьдесят три года — возраст пророка Магомета! — он и не напоминал того сидня, который неуклюже горбатился на камне, перебирая четки. Здесь он ходил, а то и бегал от одной кучки работавших к другой, покрикивал, о чем можно было догадаться по жестам, выхватывал из нагрудного кармана часы, взблескивающие золотой цепочкой, и работа набирала темп. Да, хлопотливое хозяйство было у Салахитдина-ишана. И в мечети он появлялся этой осенней порой только для пятничного моления или когда кто-то уходил в другой мир, и требовалось с печальным лицом отпеть несчастного. В те дни, что пробыл Трошин в Ходжикенте, его особенно интересовали гости ишана. Кто? Зачем? Многого не узнаешь по виду, но все же ясно стало, что приезжали они издалека — и верхом, и в фаэтонах, кое-кто оставался у него на два и три дня. По святым делам, наверно? Письмо, которое пришло вчера от Масуда, насторожило Трошина. Масуд рассказывал про песни, исполненные им с камня ишана в прошлую пятницу и так заинтересовавшие многих. Если бы только это! В новую пятницу ишан отозвался на случай, сразу пережитый им так сдержанно и терпимо. На молении в мечети, большом, как во всякий базарный день, он закатил речь о «прохвосте-учителе». Он сказал, что Ходжикент — не простой кишлак, это обиталище ходжи — племени Магомета, и здесь не должно быть неверных. А учитель — первый безбожник! Торжественно и свирепо ишан проклял Масуда, как в старой России сказали бы, предал анафеме. Масуд писал об этом весело и забиячливо, по молодости не отдавая себе отчета в том, что «анафема» ишана одних могла испугать, для других прозвучала повелением гнать неверного из обиталища ходжи, а для третьих и благословением убийства. Так или иначе, выступив открыто и бесстрашно против вековых служителей и хранителей мракобесия, Масуд приобрел себе в лице ишана не только опасного, но и влиятельного врага. Гости… Они привозили ишану новости и приказания свыше, не с небес, а из какого-то вполне земного места или получали их, быть может, у ишана сами? Утром Масуд позвонил и далеким голосом, пробивающимся сквозь расстояние с горами, долинами, рощами, садами, кишлаками, над которыми тянулись провода, повисшие на столбах, прибавил, что забыл сообщить про свое письмо в Наркомпрос. Он самому наркому пожаловался на возмутительно безразличное отношение к нуждам ходжикентской школы. Масуд кричал об этом в такой ярости, что Трошин пошутил: — Я не Наркомпрос, что ты на меня навалился? Про письмо я все понял, хорошо, что сказал. Поинтересуюсь. — Могут они отозваться побыстрей? — У них, наверно, много просьб и жалоб, не успевают. Но насчет Ходжикента… — Пусть проверят — прав я или нет! — перебил Масуд. — На их месте я давно прислал бы сюда представителя. Увидят все своими глазами и решат, черт возьми! Он нервничал, и Трошин сказал ему, как мог спокойнее: — Масуджан! Я думаю, они так и сделают. Это привычная штука… Но раньше их представителя приеду я. Мне хочется с тобой повидаться. — Приедешь? — обрадовался Масуд. — Когда? — Сейчас пойду к Махкаму Махсудовичу… Приехал Алексей Петрович быстрее, чем Масуд ждал и думал. Вечером, едва они закончили занятия своих курсов ликбеза и луна из бледного арбузного ломтя, проглядывающего сквозь редкое облако, похожее на рассеянный туман, превратилась в четкий оранжевый диск, в школу заглянул Исак-аксакал и пригласил Масуда: — Зашли бы в сельсовет, учитель. Есть дела, разговоры… И гость приехал, — улыбнулся он, и по этой улыбке Масуд понял, что гость хороший. — Уже? — воскликнул он. — Я сейчас… Через три минуты он был в сельсовете. Потолковали втроем обо всем, что случилось за эти дни в кишлаке, а потом Масуд и Трошин пошли прогуляться по уснувшему и опустевшему Ходжикенту. Они вошли в ивовую рощу и по каменным ступеням спустились к мельнице. Та была остановлена на ночь, но из труб с шумом лилась вода. Короткий арык, который она переполняла, впадал в речку, срываясь в нее со склона. И могучий, бурливый рокот сброса, где вода вырывалась наружу из нескольких трубных зевов, как узник на свободу, гул ретивого потока в арыке, водопада, вспененного радостью возвращения в реку, как домой, взахлест смыкался с шумом самой реки, особенно отчетливым ночью. Этот шум словно всплывал, тянулся к оранжевой луне, к небу, проколотому жгучими звездами тут и там. — Не замерз? — спросил Масуд. — Наверно, уже шинель пора надевать, начальник. С гор дует холодный ветер, все чаще. — Ничего, даже хорошо. Хочется водой подышать. Они остановились на деревянном мосту, переброшенном через арык, облокотились о перила. В воздухе держалась стойкая холодная влажность. — Слушай, Масуд, знаешь, я не умею ни лукавить, ни подбираться исподтишка… — Помолчи. — Я только хотел узнать… — Много будешь знать — скоро состаришься, — усмехнувшись, ответил Масуд любимой трошинской поговоркой. — Хоть немного помолчи. Прошу. Трошин послушался, длинный вздох заменил все его остальные слова. Молчал и Масуд, пока не повернулся спиной к реке, откинулся на перила и поднял к звездам свое обрисовавшееся вдруг лицо. — Ну, спрашивай… — Что у тебя с байской дочкой? — Люблю. — Извини. Но… — Кто тебе сказал? — В городе у каждого есть ограда прочнее любых других — незнакомство. А это кишлак, здесь ее нет. Быстро узнают всё и все. — Прямо уж — все! — Мне сказали Исак-аксакал и Батыров. Мялись, правда, так неловко им было, деликатничали… — Ну да… Очень тонкое воспитание! — Зачем ты их обижаешь? От природы они такие… — Я не хотел их обидеть, Алексей Петрович. Я сам хотел вам признаться. — Тебе, — поправил Трошин, как они говорили в минуты откровения, когда легче было и сердцу и голосу и короче была дорога от мысли до слова. — Тебе… Я понимаю, это тебя рассердит, возмутит, я сам сказал бы другому, что он — предатель, презревший классовые интересы. Но я люблю. — Первый раз в жизни? — А это бывает второй, третий? У меня не будет! Трошин не удержался от усмешки: — Все прямо как у Шекспира… — А что, — спросил Масуд, — люди, о которых он писал, были душою богаче нас? Крепче любили, глубже страдали, храбрее боролись? — Мальчишка! — Почему? — Ты мне не нравишься! — Да я, наверно, никому не нравлюсь. Ни первому начальству, ни второму. Ни чекистам, ни просвещенцам. Может быть, мама меня поймет. Одна мама. Трошин снова вздохнул и потряс головой, как лев в клетке. — Я ничего не могу прибавить к тому, что ты сам знаешь и сам уже сказал! Только повторю, что борьба за новую жизнь, за образование, за культуру — тоже классовая борьба, да, да! И ты ее участник, Масуд! Ты с ума спятил! Недоставало, чтобы из-за байской дочери сын Махкама провалил боевое задание! — Не провалю, — ответил Масуд, сжав кулаки и выпрямляясь. — Вот увидишь, Дильдор поможет мне! — Дильдор, Дильдор… — повторил Алексей Петрович ее имя, видно только для того, чтобы протянуть время. — Сколько я ни думаю, мысли сходятся на Шерходже… Мне кажется, что он здесь. А это ее брат. — Мало ли чего кажется! — Я уверен. И предупреждал тебя. А он — ее брат, — повторил Алексей Петрович. — Ну, тогда проще всего предположить, что Дильдор действует по указке своего брата. Почему ты уверен, что он здесь? — Потому что вряд ли другие державы подослали своих агентов, чтобы убить в Ходжикенте двух учителей! Это сделали здешние контрреволюционеры. Задыхаясь от злобы, они взводят и спускают курки… Пойми ты! — Трошин! Ты мне не веришь? — Спать пошли. Утро вечера мудренее. — Скажи, узнали, как реагируют в Наркомате просвещения на мое письмо? — Они действительно хотят послать сюда представителя. Разведя руки, Масуд начал поворачиваться к реке и замер. — В доме Кабула-караванщика зажгли лампу! — Пока мы беседовали. — Значит, хотя бы для того, чтобы увидеть этот свет среди ночи, наша беседа имела смысл. — Смотри-ка! Он еще и шутит. — По молодости. — Лампа неяркая, пугливая… — Не хотят, чтобы ее заметили. — Что там? — Давай обогнем двор караванщика, к дальнему дувалу окно ближе, а я длинный, увижу… — Ты, как истый ходжикентец, уже зовешь мельника караванщиком. — Да, его все так зовут здесь, потому что он когда-то был арбакешем у Нарходжабая, потом стал составлять караваны с его товарами и водить их через горы, через Бричмуллинский перевал, к Фергане… — Я это знаю. Дорога, по которой бежали осиповцы… Их провел кто-то, хорошо знающий тропы на перевале! — Может быть, Кабул-караванщик? — Может быть. Нехоженая тропа привела от мостика к дувалу мельника, затем свернула, а они по густой и сырой ночной траве обогнули сад и приблизились к дому с другой стороны. Садовый забор был ниже, Масуду хорошо виделись деревья, по одну руку становившиеся темными пятнами и совсем уходившие во тьму, а по другую топырившие ветки в пусть слабом, но все же свете, проникавшем в сад из окон приблизившегося дома. Окна глядели на пустую веранду. Свет не гас, и становилось понятней, что он был зажжен не на минуту-две. Выпрямившись над холодной стеной дувала, Масуд сказал почти сразу: — В доме люди! Стало ясно и то, что осенняя ночь загнала людей с веранды в комнату, а может быть, не только ночная стужа… — Ты угадываешь кого-нибудь? — Сейчас… Кажется, да… Один наверняка Халил-щеголь, который стал чайханщиком вместо Кадыра-ака. Э-э, да там вся его компания… И этот, в своих красных сапожках — должно быть, он их не снимает, и косой… — Что они делают? — Едят. Пьют. Вот заменили бутылку на столе, сняли пустую и поставили полную… — Ты уверен, что это они? — Да. Все ясно. — Что тебе ясно, Пинкертон? — спросил Трошин без насмешки, скорее даже злясь. — Выпьют, поедят, достанут карты… — А почему ночью? Ведь поздно уже! — А им что — в поле, на работу завтра? Они выспятся днем. Пошли? — Подождем. — Безобидные картежники. — Хозяин с ними? — Да. Вот отнял у Халила-щеголя бутылку и дал другую. А ту, похоже, пожалел. — Может быть, бережет для кого-то? — Он и так жадный. — А бутылка хорошего вина наготове… — Ты простудишься, Алексей. — Тише. — Да они все в комнате, не заметят нас. — По-моему, я слышу голоса. Притихли, Масуд вновь осторожно приподнялся и увидел, что с веранды сошли в сад Халил-щеголь и один из его дружков, выделившись по очереди на фоне окон. В саду они остановились под деревьями и занялись своей нуждой, переговариваясь. Всего не было слышно, долетали и с напряжением разбирались сквозь шорох травы отдельные слова: «Выехал…», «Представитель…», «Школа…» Когда, справившись, мужчины убрались в дом, Трошин сказал: — Они ждут кого-то. — Ночью? — Вот именно. — «Школа», «Представитель», — повторил Масуд. — О ком это? О чем? — Да уж конечно не о мельнице с чайханой. «Представитель» — слово это вертелось в голове Масуда. Он ждал его как спасителя, а ведь представитель тоже может быть разным. Хорошо, если это друг. Друг школы, кишлачных детей, да и не только детей. А если равнодушный или, как стали говорить недавно, чуждый элемент? Если враг? — Раз они собрались и сидят, приехать их гость, их знакомый, которого они заждались, может с минуты на минуту… Пошли к дороге. Минута оказалась не короткой. Где-то во дворе суматошным спросонья криком зашелся первый петух. Масуд подумал, что вся компания в доме Кабула-караванщика, должно быть, развернула руки для молитвы. Что за народ эти картежники? И как будто мысли его и Трошина развивались и беспокоились вместе, услышал: — Поимейв виду, что Халил-щеголь и его друзья не такие уж безобидные картежники. Устроились в береговом углублении, оставленном высохшим когда-то, может быть много лет назад, ручьем, который прыгал отсюда и здесь кончал свою жизнь, вливаясь в речку. Под ногами были острые, угловатые камни, а откосы русла, похожего на щель в крутом склоне речного берега, все обросли травой. Здесь было тише и теплее. А стоило сделать шаг вперед и вытянуться, открывался мост — серый и пустой покуда. Но вот по мосту зацокали копыта коня. Масуд выглянул и потеснился, давая место Трошину. Они увидели всадника, молодого и незнакомого, который ехал не спеша и, казалось, сдерживал коня на мосту, чтобы копыта стучали тише. На нем была шапка, отороченная пушистым мехом, та самая, какие называют киргизскими тельпеками и надевают на холодные ночи, в неблизкую дорогу. Съехав с моста, всадник остановил коня, огляделся и повернул его к мостовой, которая вела только в одно место, вверх, в знакомый двор Салахитдина-ишана. И когда он поворачивал и приподнял голову, глянув вверх, даже задрал тельпек, Масуд шепотом вскрикнул: — Обидий! — Какой Обидий? — спросил Алексей Петрович, когда всадник достаточно удалился. — Кто он? — Вот тебе на! — вместо ответа все тем же шепотом воскликнул Масуд и перевел глаза на Трошина. — Я с ним в педучилище был, в одной группе! Балда хорошая, тупица и наглый человек, но — племянник самого наркома просвещения! Талибджан… По-моему, после училища он устроился в Народный комиссариат, к дяде! — Ну вот… Значит, это и есть — представитель, которого ждали у мельника. И ты ждешь. — А он правит к ишану. — Да, к ишану, — подтвердил Трошин, поднявшись выше и не спуская глаз с мостовой. — Свернул в его открытые ворота. Так, так… — Но почему же… Ну и стервец! — Ждали у мельника, а свернул к ишану. Мог и туда свернуть, а возможно, там жгли лампу и делали вид, что ждут, для отвода глаз. Они тоже не дураки. Это ты поимей в виду во-вторых… — А теперь что? — А теперь? — спросил Трошин, и в свете робкого пока еще утра Масуд увидел его посеревшее и продрогшее, но улыбавшееся, довольное лицо. — А теперь пошли к тебе, согреем и напьемся вволю горячего чая! Ха-а! — Дрожь пробежала по всему трошинскому телу, и он сдавил кулаки и потряс ими. Наступал новый день.ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Пока арба везла Салиму по такой длинной, что она казалась ей бесконечной, дороге в Ходжикент, счастливая улыбка не сходила с лица девушки, не покидала ее. Горы замерцали вдали, как сказочные замки, как крепости, полные не оружия, не пушек и ядер, не бочек с черной кипящей смолой, чтобы защищаться от набегающих вандалов, а чудес. Она ехала в страну, манящую чудесами. И главным из них было осуществление мечты — Масуд, которого она любила, будет все время рядом. Она станет работать около него, уставать вместе с ним, накрывать ему стол и подавать свежий, крепко заваренный чай, какого никогда ни у кого не было, и пусть будет к чаю всего-навсего одна лепешка, но ведь это самая вкусная лепешка! И спать она будет за тонкой стенкой от Масуда, слыша его дыхание. А потом… Она не знала когда, было боязно об этом думать, но потом… она выйдет за него замуж. Вот так должна была исполниться ее мечта. Однако уже несколько дней прошло, как она в Ходжикенте, но почти не видит Масуда. С утра преподают в разных классах, а как кончатся занятия, Масуд уходит в сельсовет, где его ждут — ведь он активист, учитель — умная голова, да его просто любят, с ним всегда хотят посоветоваться по любому делу, не оставляя ей ни минуты для разговора с любимым. Ну, она ведь тоже не глупая, она сразу сделала поправки к своим сладким мечтам, к своим видениям, она поняла, что это все похоже на детские сны. Правда выглядела иначе. Только утром они собирались за едой, за завтраком, который готовила Умринисо, и было их четверо: два учителя, завхоз и уборщица. Но мог же Масуд посвящать ей хотя бы короткие осенние вечера! Каждый вечер в его комнате было темно. И все темнее становилось в ее душе… Нет, конечно, было и хорошее! Например, они с тетей Умринисо разрезали сверток красного сатина, который принес Масуд из сельсовета, на пионерские галстуки, аккуратно обшили все края, и было первое пионерское собрание, был настоящий праздник, у многих детей на глазах появлялись слезы радости, когда их принимали в пионеры. Они становились ленинцами. Какой гордостью светились детские лица после того, как Масуд объяснил, что галстук — это кусочек знамени на груди, это часть революционного огня, который нужно хранить и поддерживать в себе и других. А в конце этого первого сбора, на котором присутствовали и Исак-аксакал, и Батыров, и многие другие ветераны революционных боев, а теперь мирные крестьяне с ходжикентских полей, ее, Салиму, выбрали старшей вожатой дружины. Было чему радоваться. Но когда же она поделятся своей радостью с Масудом, когда они проведут вместе хоть полчаса, когда она услышит от него не служебные, а совсем другие слова и голос его зазвучит мягче и ласковей? Сегодня он совсем не ночевал дома. Где он был? Она словно следила за каждым его шагом и видела, когда он пришел, уже под утро, поспал часа полтора-два и вскочил. Умывался, напевая, как будто ничего и не было, а за завтраком хмурился и вздыхал. Ей все время хотелось спросить, как он себя чувствует, что его расстраивает, но душу грызло только одно: где он был этой, ночью? — Помните, Салимахон, — спросил он, принимаясь за чай, — в нашем училище был студент Талибджан Обидов? Гордо ходил! Так гордо, что его почтительно, великосветски, а мы и чуть насмешливо звали Обидий… — Да, да, кажется, помню… — Ну вот, — сказал Масуд, опуская пиалу и снова наливая в нее булькающего и парующего чая, — он приехал в Ходжикент представителем Наркомпроса. Сегодня в школу придет. — О, как хорошо, — пропел Кадыр-ака я молитвенно сложил руки. — Слава аллаху! — А зачем он приехал? — спросила Салима. — Познакомиться с нашими нуждами… нашей работой… Учтите это! Словно впервые, Салима заметила, какое у Масуда уставшее, осунувшееся от бессонницы лицо. Не гулял он этой ночью, а ходил встречать и устраивал ташкентского представителя. Зря ты так корила его, зря! Запомни это, придира. А Масуд, пока Салима ругала себя, думал: а вдруг Обидий и не представитель Наркомпроса, приехал к ишану по каким-то своим делам? А он уже объявил! Кому? Своим людям. Скажет — ошибся, в крайнем случае… — Тетя Умринисо, уберите, пожалуйста, все кругом особенно тщательно. Чтобы важному представителю не к чему было придраться. Такую чистоту наведите — хоть каплю масла, как раньше говорили, слизывай языком! — Да я уж поняла, сынок, — ответила, улыбаясь, Умринисо. — Вы, Кадыр-ака, завтрак для учащихся приготовьте повкусней. Придумайте что-нибудь. И представителя накормим. — Я тоже понял. — А вы, Салимахон, подготовьтесь к уроку получше. — Я готова. — И хорошо бы вывесить первый номер стенной газеты. О пионерском сборе. Сумеете? Салима помотала головой так, что косички заплясали вокруг струями черного дождя: — Не успею. К завтрашнему утру! — Хоп. — Как он мог на такую работу попасть? — удивилась Салима, окончательно вспомнив вдруг, кто такой этот Обидий. — Должность-то у него, скорее всего, и невеликая, но учреждение значительное. Постараемся, чтобы он удовлетворил все наши просьбы, — сказал Масуд. — Дай бог, — повторил Кадыр-ака. Обидий приехал через час, еще более важный, чем был всегда и запомнился соученикам по педучилищу. Появился он опять со стороны моста, проехал через гузар. Трошин и Исак-аксакал видели это с веранды второго этажа сельсоветского дома. Они успели обговорить, как надо встретить Обидия, виду не показав, что его ночной заезд к ишану известен. — А возможно, они родственники? Упросили кумушки-бабушки навестить, передать приветы и подарки… — Если так, чего тогда ему прятаться? Второй раз появляться со стороны моста. — Э-э, — сказал Исак-аксакал, — неудобно. Молодой человек, представитель новой власти, и вдруг… такое дело! Кому захочется, чтобы тебя видели, как ты с ишаном обнимаешься? А родственников обижать тоже не годится. Восток, вы не знаете, как это у нас расстраивает людей, на всю жизнь могут разойтись… — Знаю. Я эту землю давно знаю, вдоль и поперек ногами исходил, на коне изъездил. Я ее люблю. Все на ней должно быть по справедливости. Вот поэтому я прошу: не будем показывать Талибу, что знаем про его ночной поворот… — Это хорошо. В самый раз! Мне это по душе. — Но… вы не очень-то рассчитывайте на самое лучшее, аксакал. Разные бывают родственники. Одни — по крови, другие — по духу. — Да, да, понимаю, но думать не хочу. Молодой, уважаемый… — Встретить его и надо с уважением. — Найдем самый чистый дом, кормить вкусно будем, по-ходжикентски. Встретим, встретим! Как его зовут? — Талиб, сын Обида. — В Хумсане, тут, недалеко, я как раз туда ездил той ночью, когда Нормат чуть не убил мою Кариму, жил писарь, звали Обид. Кличку ему дали Обид-скандалист. Уж очень скандальный был, прямо не разговаривал с людьми, а грыз всех, чуть что. Не его ли это сын? — Мало ли на земле Обидов? — Нет, этот, говорят, в Ташкент уехал, где-то там работает секретарем, большим человеком стал. Доскандалился! — Может, Талиб и сын вашего знакомого. — Да он такой мой знакомый, как ваш родной брат! — У вас веселое настроение, аксакал, а вон и представитель едет… Трошин легко узнал в появившемся джигите коротенького и широкоплечего ночного всадника. Видно, отметил про себя Алексей Петрович, коня он вывел из двора ишана через укромную калиточку сзади, отъехал до висячего пешеходного мостика на краю кишлака, где речка сужалась, подмывая каменный крутой берег, а может быть, еще ниже спустился и где-то там нашел брод, надо выяснить… — Если он в отца… — покачал головой «аксакал». — Тогда напустите на этого паршивца меня! Может, чего-нибудь для наших детей все же выудим. Не забудьте. — Теперь вы лучше готовы к встрече, аксакал. Сам буду рад, если ошибаюсь, первый и больше всех, но рано нам от судьбы одних милостей ждать… — Понимаю. Не слепой. Убийством двух первых учителей, молодых, замечательных ребят, враги сами постарались, открыли нам глаза! В первый же день, едва начало вечереть, Масуд рассказал Трошину, что Обидий важничал необыкновенно, но это было не самое неожиданное. Среди его упреков — а он больше делал замечаний, чем смотрел и слушал, — прозвучало обвинение в том, что Масуд оскорбил чувство верующих, а это чревато… — Чем? — Многим! — сказал Обидий. — А что вы имеете в виду? То, что я пел с камня рядом с ишаном? — Ну да… Забрались на святое место со своим дутаром! — Так ведь это в роще, а не в мечети. Какое святое место, что вы?! И люди с радостью слушали поспи. Была пятница! — Хороша радость! Весь кишлак гудит против вас! — Что-то я не слышал. А вы когда успели услышать? Вы же утречком приехали — сразу в школу… Когда? — Я приехал вас ревизовать, а не вы меня! — ответил Обидий, мощно повысив голос, и Масуд внутренне улыбнулся: теряешься перед вопросами, которые ложатся поперек намеченной тобой дорожки. А намеченная дорожка была… Ночь Масуд провел беспокойно: да и что же это такое? Написал письмо наркому, ждал помощи, а приехал Обидий! А может быть, и этот Обидий поможет чем-то? С паршивой овцы хоть шерсти клок… Пойти потолковать с ним, все же вместе учились, он знал и Абдулладжана и Абиджана, должен постараться ради них. Кишлак большой, нужны еще учителя, нужны школьные принадлежности, нужны… Перечислять только начни — не кончишь. А почему он сказал — я приехал ревизовать? Какая ревизия? Пойду спрошу. Рано, но ведь занятий в школе не отменишь, потолкуем до занятий. Он постучался на рассвете в дом, где остановился Обидий, но хозяйка сказала, что гостя нет, должно быть, раньше всех встал и ушел куда-то. — Куда? — Не знаю. Масуд зашел к «аксакалу» и при нем подивился странному поведению представителя. — Ночью ушел к ишану, — уверенно решил «аксакал». — И сейчас его дома нет! — И сейчас там, у ишана. Это уже не похоже на то, что одни приветы привез… Трошину надо сказать. — А если просто не спится, погулять пошел? — Проверим сейчас. — Как? — Кого-нибудь пошлем в дом ишана. — С чем? Исак задумался, свел опущенные брови. — Эх, хорошо бы вашу учительницу послать, Салиму. К женам ишана. — Еще рано. Жены ишана дрыхнут, наверно. — В кишлаках все рано встают. Салима пойдет к ним от сельсовета, с поручением… Важное поручение, давно пора сходить. От меня! Она сама уже на ногах? — Конечно. Тетрадки проверяет. Помогает тете Умринисо в уборке. — Я научу ее, как вести себя, что говорить. Салиму они застали во дворе школы, с веником, оборвали ее работу, и за две минуты Исак-аксакал объяснил свой замысел. Во двор ишана пробраться не так просто. Его ворота — всегда настежь, но возле них сидят дервиши и сторожат вход день и ночь не хуже самой злой цепной стражи. Поэтому ишан и держит ворота нараспашку так безбоязненно. Лучше всего одеться в паранджу и выдать себя за родственницу кого-нибудь из жен ишана. Их четыре: Зебо — она старшая, хотя ей всего тридцать семь лет, Улфатхон, Иффатхон и Назика, самая младшенькая… Салима повторила имена, спросила: — Я же от сельсовета пойду, зачем мне паранджа? — Дервиши — народ первобытный, они плевали на сельсовет. А паранджа — другое дело. И голос женский… Они теперь внимательно смотрят, заставят лицо открыть — не спорь. К Назике пробрался однажды ее любимый, из родного кишлака, надел паранджу и… Никто не знает, сколько раз он так проходил! Пока не попался… Кажется, Маликджаном зовут. Дервиши его избили до полусмерти, потому что знали, что их ишан будет бить. И он бил. Палкой! Досталось. Ну ладно… Главное — во внутренний двор попасть. Вошла — победа за тобой! — А что мне там делать? — Поговоришь с женами ишана. Как живут, что думают? Слыхали они о новом законе, о свободе, которую женщинам новая власть дала? Закон всех касается, ишанов — тоже. — Хотите ишана прижать? — спросил Масуд. — А что? Будем ждать, пока они нас еще раз ударят? Нет, раньше мы их. Хватит! — Я поняла, — сказала Салима. — Но вдруг они со мной говорить не захотят? — Как так не захотят? У вас, у женщин, свой язык. Побеседуй с ними по душам, с каждой, если надо. Как птицы говорят! А чтобы дервиши покладистей были, вот, возьми… — Исак порылся в поясном платке и вынул аккуратно свернутую бумагу. — Это вызов ишану в сельсовет. Завяжи его в узелок, отдай и скажи — дедушке ишану. Дервиши подумают — подарок, а ишан прочтет, разберется. — Глаза «аксакала» засветились мальчишеской хитринкой. — Умринисо, паранджу — быстро — и чачван! Иди, доченька, не бойся, чего задумалась? — Боюсь, не сумею я… не найду общего языка с женами ишана, хотя вы и говорите, что у нас, женщин… — Да кто они — эти жены? — перебил «аксакал». — Слепые от суеверья кишлачные крестьяне отдавали ишану своих дочерей в дар, как жертву богу. Земные, простые бабы. Молодые! Одна Иффат — дочка судьи, полуграмотная, но все же — белая кость. Ее так и зовут. — Ладно. Я поняла. — Но это не главное, — сказал «аксакал». — О главном — вот, Масуджан прибавит. — Что? — Следите там во дворе, не попадется ли вам на глаза командированный к нам представитель Наркомпроса Обидий. Это не обязательно, но может быть. — Почему он там? — Я же сказал — может быть… Салима взяла у тети Умринисо узелок с паранджой и пошла, прислушиваясь к себе и гордясь поручением. Главное, как выяснилось, дано это поручение самим Масудом. Значит, если она все сделает — а она постарается, — то поднимется в его глазах на ступеньку выше. И вдруг остановилась: — А если я не успею возвратиться к занятиям? А Обидий сюда придет? Возможно, его там нет. Что тогда? Он мне… от имени Наркомпроса… — Во-первых, вас сюда не наркомпросовцы прислали. Вы сами приехали… — А во-вторых, — перехватил Исак, — он придет, мы его и заставим заниматься с детьми. Пусть покажет, как это надо делать. Вы его мне доверьте. Я таких не боюсь. Я — власть! На подходе к мостовой ишана Салима развернула свой узелок, достала и надела паранджу и накинула на лицо сетку из конских волос, такую густую, что в отверстия спички не просунешь, разве иголку. Она с девичьих лет не носила, совсем отвыкла. Мир потемнел, как в часы солнечного затмения, которое ей с жутким, признаться, испугом довелось наблюдать один раз. Она кричала тогда благим матом, уткнувшись в колени бабушки. Как это так — мир без света, птиц, яркой зелени, пестрых цветов, всего, что делает его радостным, юным, веселым? А многие женщины еще и сейчас сами себя лишали всего этого. Дальше она пошла тише, чтобы не споткнуться. И у самых ворот все же споткнулась, вздрогнула и остановилась. На утренней улице еще никого не было, кроме нее. А из ворот, бросив быстрые взгляды по сторонам, вышел сам ишан, а за ним, повторив его взгляды, — Обидий. Он! На пять минут, меньше, на минуту задержалась бы — прозевала бы их, не уследила бы, как они вместе выходили из ворот. Хорошо, что лицо ее закрыто. Еще лучше, что сердца никому углядеть нельзя. Оно запрыгало, как схваченная птицеловной сеткой птаха. Чего ты боишься, Салима? Ведь не тебя схватили, ты поймала… Ишан остановился и посмотрел на трепещущую женскую фигурку. Может быть, вспомнил о переодетом парне, пробиравшемся к его Назике? Может быть, ждал голоса, чтобы удостовериться, что это не так. И Салима быстро сказала: — Вот вам, дедушка ишан! — и протянула ему узелок в цветном платочке. Ишан принял приношение и сунул в глубокий карман своей бархатной куртки. От испуга вовсе утончившийся голос девушки успокоил его. Он догнал Обидия и еще немножко проводил по улице. Или не доверял этого никому, или о чем-то не договорил с ташкентцем. Они шли в трех шагах друг от друга и перекидывались фразами, пока улица была пуста. Обидий затопал вниз, а ишан свернул к мечети… Салима рванулась к воротам, но дервиши преградили ей дорогу. — Стой! — Кто ты? — Открой лицо! Этот был одноглазый, лица других искажены озлобленностью, которая, видно, стала для них всегдашней, привычной, и они показались Салиме страшными. Она приподняла чачван и услышала: — Ох, какой персик! Это сказал чей-то повеселевший голос вдалеке, а одноглазый подшагнул к ней и спросил: — К кому? — Я племянница жены ишана… — А-а-а… Приблизился пузатый коротышка в рваном халате с обвисшими, как сосульки с ташкентских крыш в редкие морозные дни, клочками грязной ваты, прохрипел: — И лица не прячет. Пер-сик! Салима вспомнила, что все еще держала чачван приподнятым, и теперь бросила его вниз и побежала к воротам внутреннего двора. И вот она здесь, в этой недоступной для посторонней ноги обители. Три женщины, одна такая толстая, что две соседки ее казались худощавыми, сидели на ближайшей веранде и вышивали одеяла — красным шелком по желтому атласу. Из кухонной постройки доносились голоса и стук жестяной посуды: работницы готовили завтрак. А это, значит, и есть жены ишана. Не очень-то ишан давал им нежиться, уже вышивали на голодный желудок… Салима сняла на руку паранджу и по кирпичным ступенькам поднялась на веранду. — Здравствуйте, матушки. — Еще раз оглядела женщин, замерших с иглами в руках, пересчитала — одной нет. — А где она? — Назика? — спросила толстая властным голосом, она была старшая. — Ты ее подруга, что ли? — Да. Ой, какой красивый узор! Как будто солнце у вас в руках. Похвала расположила к ней вышивальщиц, и одна наклонилась, сказала скороговоркой: — Сходи посиди с Назикой. В своем доме лежит она, не выглядывает… Плохо ей! — и махнула рукой. — Вы, как ангел, спустились с неба! — прибавила вторая. — Я и есть ангел, — развеселилась Салима от ощущения своей удачи. — Пришла, чтобы увести вас в рай! — Эй, не шути так! — крикнула Зебо. Две других жены ишана, помоложе, расхохотались — и над словами гостьи, и над испугом старшей жены. — Вон дом, — показала Зебо. — Иди, иди! И принялась за вышивку. В темной комнате, в самой глубине ее, на пестром одеяле лежала совсем ослабевшая юная женщина с темными, ввалившимися глазами. У нее даже не хватило сил приподняться, когда она увидела входившую к ней в свете, щедро хлынувшем сквозь открывшийся дверной проем, незнакомку в белом платье и такой бархатной безрукавке, словно белое платье было облито гранатовым соком. Назика заворочалась, пытаясь встать. — Лежите, не двигайтесь! Салима быстро подошла к ней, присела рядом, опустившись на одеяло, прижала ладонь к ее лбу. — Да у вас жар? Назика пугливо вцепилась в эту ладонь, не давая пошевелить ею, точно боялась, что в пальцах незнакомки сейчас появится нож или просто ее пришли задушить. Вот почему она так силилась встать — Салиме подумалось сначала, больная хотела поприветствовать гостью. Нет, она боялась. Кого? Наверно, ишана, который мог подослать кого угодно, чтобы расправиться за ее встречи с любимым. И Салима поняла, что ей надо быстрее представиться. — Я из сельсовета, дорогая, — ласково сказала она. — Не бойтесь меня. Председатель, Исак-аксакал, велел поговорить с вами. А сама я учительница школы. Салима почувствовала, как слабнут вцепившиеся в ее руку пальцы. — Я пришла узнать, как вам живется. — Спасибо, хорошо… — Да чего ж хорошего! — с болью удивилась Салима. — Я слышала о вашем горе! Расскажите. Я вам помогу. Она гладила волосы Назики и пальцы, ставшие совсем безвольными, а Назика смотрела в потолок, на который падало пятно яркого солнца, в комнату заглянул его луч. — Ну, что вы молчите? Вы боитесь? Чего вы боитесь? — Ишан меня заколдует. — Вот вздор! — Он так сказал. — Стращает! И все. Вы слышали, что новая власть запретила мужчинам иметь по нескольку жен? Закон такой принят! А кто нарушает закон, того не минует наказание. Закон устанавливает порядок жизни, это не пустяк… Назика долго молчала. — Ну, как хотите, — сказала Салима, шевельнувшись. — Я тогда пойду, меня дети ждут. И Назика снова вцепилась в ее руку, но теперь в этом не было испуга, была надежда, которую хотелось удержать. — Пусть заколдует, пусть сгорю! — зашептала больная. — Так даже лучше… Я все вам скажу! Она повернула лицо к Салиме, и из глаз ее выкатились и поспешили к подушке крупные горошины слез. Говорила она сбивчиво и быстро, не скупясь на лишние сведения, но как поток пробивает себе дорогу в камнях, так в сутолоке слов выстроился рассказ о ее короткой жизни, успевшей, однако, вобрать в себя столько горя. Ей семнадцать сейчас. В тринадцать отец отдал ее в дар ишану. Он садовник в кишлаке Богустане, не слышали про такой? Лучший в мире кишлак! Недалеко отсюда… Отец — благочестивый. Очень. Думал, и дочке повезло. Она стала четвертой женой ишана, когда у того умерла старшая жена. Старшая теперь тетушка Зебо, а она четвертая. Но ишан с женами не живет. Он на вид только молодцеватый, а на самом деле… Назика даже прыснула, на секунду прервав рассказ. — Я ничего не понимаю, но от него ребенка быть не может. И даже не в том дело, что старик, он чем-то болен. Поэтому — бездетный. И все его жены — бездетные. Последние слова Назика проронила с какой-то особой грустью. Дело в том, что у нее есть любимый, парень из Богустана, Маликджан, с которым она вместе выросла. Он сюда приходил несколько раз под паранджой. — Он мой настоящий муж, — твердо сказала Назика и вытянула руки по швам, словно приготовясь к казни: ведь и посланница из сельсовета могла запросто возненавидеть ее за такое. — Я от него беременна! — О боже, — с добротой, которой не от каждой сестры дождешься, вздохнула Салима. — Значит, ишан еще одну жизнь, кроме вашей, может погубить? Не дадим! Назика неверяще уставилась на нее. — Верьте мне. — Милая, милая! — вдруг закричала Назика. — Спасите меня из этого подземелья, вырвите моего ребенка из когтей ишана! Рабыней буду! Век буду благодарить! — Не я спасу, сестрица. Советская власть. — Все, что прикажете, буду делать! С утра до ночи! — Она поймала руку Салимы, оглаживающую ее волосы. — Прикажите! — Да нечего мне приказывать… — Прикажите! — требовала Назика. — Хорошо, хорошо, прикажу. Надо написать заявление в сельсовет. Письмо… Вы грамотная? Нет? Ну, я сейчас сама напишу. — Она вытащила из кармана блокнот и карандаш, которые всегда косила там как учительница, быстро настрочила несколько фраз на чистом листе и прочла Назике — о том, что отец подарил ее, малолетнюю, старику, женой которого она стала без ее согласия (никто и не спрашивал!), что она умоляет советскую власть быстрее освободить ее. Просьба так и адресовалась — всей советской власти. Назика слушала и согласно кивала. А Салима протянула блокнот и карандаш: — Подпишитесь. Ах, вы же неграмотная. Бедная! Даже подписаться не можете! — Могу! Назика привстала, взяла у нее карандаш, послюнила, потерла им большой палец и, собрав силы, припечатала к листу, под строками. — Вот! — она улыбалась тонкими губами, перемазанными химическим карандашом. — Будете жить со своим любимым Маликджаном счастливо. — Ой! — Назика вновь упала на одеяло. — Я пойду теперь. Вас вызовут в сельсовет. Ждите. Она наклонилась, чтобы поцеловать Назику, так ей было жалко оставлять страдающую в одиночестве, а Назика обхватила ее шею, как ребенок. — Не забуду вашу доброту ни на этом, ни на том свете! Выйдя из дома Назики, Салима неожиданно наткнулась на остальных жен ишана, всех трех сразу. Они, конечно, слышали, что происходило в комнате, дверь ведь была приотворена. — Иди-ка сюда, к нам, — не попросила, а велела Зебо и, покачиваясь, как тяжелая лодка на волнах, устремилась к веранде, где они с рассвета вышивали одеяло. Все опять расселись по своим местам, одна Салима еще стояла навытяжку, и Зебо показала и ей своей толстой рукой, перехваченной несколькими кольцами золота и морщин. — Садись… Мы теперь поняли, кто ты и откуда. Если сейчас кликнем дервишей, ох, будет тебе! Мокрого места не оставят. И никто тебя не сможет защитить. — Пусть попробуют. Милиция придет. — И что сделает? — Всех дервишей, которые будут терзать меня, посадят, в тюрьму. Зебо засмеялась жирно, с отрыжкой, как будто сытного плова только что переела, презрительно махнула рукой: — Пока твоя милиция придет, ты уже сама будешь в зиндане сидеть! И скажут — никого здесь не было. Ми-ли-ция! Ха-ха-ха! — И вы так скажете? — И мы скажем. Мы тебя не звали. Салима посидела молча и вдруг выдохнула чуть ли не во всю силу своего голоса: — Эх, и глупые вы, тетки! Может, мало я еще прожила, но таких глупых пока что не встречала. Простите меня, вы старше, однако я правду говорю. Ну, зовите ваших дервишей. Зовите! В вашем кишлаке убили двух учителей, а школа работает. Все равно — работает и будет работать! И дервиши могут насмерть меня забить, а жизни не повернут, не изменят. Всей травы на земле весной не вытоптать, всех цветов не сорвать. Новая жизнь пришла, как весна, а вы ничего не хотите для себя сделать. Вам нравится по-старому жить? И живите! Со своим любимым ишаном. Она попыталась подняться, но Зебо остановила ее: — Постой… — А что мы можем сделать? — перебила Улфат. — Как что? Вот Назика написала письмо в сельсовет. Оно у меня, и ваши дервиши не отнимут, и вы не отнимете, хоть убейте. — Пи-и-исьмо в сельсове-е-ет! — запела Зебо. — Да кто сильнее? Сельсовет или ишан? — Сами увидите. — Ишан сильней всех! — властно заявила Зебо. — Нет. — А почему ты тайком пришла? А? — Из-за дервишей. Пока им объяснишь… А так я уже здесь. Мне хотелось быстрей вам помочь. — Нам? — Да. — Вы пришли ради нас? — не поверила Улфат. — А ради кого? Я с больной поговорила, а потом с вами хотела, но вы встретили меня оскалив зубы. Ваше дело. Мне некогда… Надо было спешить, скорей рассказать Масуду про Обидия. — Я сказала тебе — постой! — прикрикнула Зебо. — Поговорите с нами, — попросила самая сдержанная и тонкая из них Иффатхон: ее тоскливые глаза давно уже словно бы прилипли к Салиме и довольствовались одним ее присутствием. Салима набралась терпения, растолковала: — Если раньше вы не слыхали, то сейчас услыхали, что мужчине нельзя иметь несколько жен одновременно. Новая власть запрещает. Кто из вас не хочет быть женой ишана, тот уйдет от него. Я пришла узнать… — А если ишан проклянет, что тогда будет? — спросила, дрожа, Улфат. — Разве можно против ишана? — Пусть проклятия ишана на него самого падают, — ответила Салима. — Обругай его как-нибудь, если не боишься, — предложила Зебо. — Как? — спросила Салима, а женщины молчали, боясь посмотреть друг на друга. — Ишан Салахитдин — обманщик. Подлый обманщик! Они все втянули головы в плечи, ожидая громов и молний на голову Салимы, но у ворот гнусаво и скучно пел дервиш, в небе, пролетая, крикнули раз-другой галки, а где-то за рекой на привязи проревел голодный ишак. И все. Больше ничего. — Вонючим стариком назови, — попросила Зебо. — Сами ругайте как хотите, — засмеялась Салима, — и ничего с вами не случится. Волк с выбитыми зубами, сколько бы ни рычал, только слюни будет распускать. Так и ваш ишан. Зубы у него выбили. Новая власть выбила! Улфат, как сидела, сжавшись, так и проговорила, еле слышно: — Я не хочу быть женой ишана. Напишите за меня письмо в сельсовет. Я приложу палец. — А вы, Иффатхон? — А чего ты меня не спрашиваешь? — грубо прорычала тетушка Зебо, не дав ответить хрупкой Иффат. — Меня первую спрашивай! Я старшая. — Я подумала, что вы желаете остаться единственной женой ишана. — Почему это я желаю? Что я видела от него? Моление и работа, моление и работа, с рассвета дотемна — моление и работа. А я еще вовсе не старуха! — Зебо отыскала в одеяле свою иголку, перекусила нитку белыми зубами, вдернула новую и принялась за вышивание, смутившись после того, как из нее выплеснулось откровенное признание, и желая спрятаться в дело. Но скоро остановилась. — Пиши. Пусть Советы спасут меня от вонючего старика, если смогут. Так и пиши. От вонючего старика! Пускай остается с ним Иффатхон. — Чем это я провинилась? — сдавленным и робким голосом спросила Иффатхон. — Ты — белая кость! — повернувшись, рявкнула на нее Зебо. Казалось, затрепетавшая Иффатхон умолкнет, не сможет больше и словечка выдавить, но она все же набралась духа: — А вы больше нас съели хлеба-соли в этом доме, матушка! — Вот-вот! Больше всех я намучилась. Меня надо освободить. Ты что, тоже хочешь бежать? — Куда глаза глядят! Зебо посмотрела в небо, где опять пролетали галки, на этот раз молчаливые, и спросила: — А нельзя всем уйти? — Почему? — ответила Салима. — Если никто не хочет оставаться с ишаном, уходите все! Мы за него бороться не будем, никого не станем отговаривать, а только порадуемся за вас. И Зебо и Улфат приложили свои пальцы к заявлениям, а Иффатхон подписалась прямо-таки изысканным, каллиграфическим почерком. Дервиши поразились, что молодая женщина, вышедшая из ворот, через несколько шагов сняла паранджу и понесла ее на руке, оставшись в белом платье и бархатной безрукавке гранатового цвета. Но улица уже наполнилась прохожими, и верные слуги ишана не смогли ни окликнуть, ни тем более задержать Салиму. А она шла и думала, что вон и школа видна, вон и сельсовет, вон мост и гузар, однако же в душе такое ощущение, что побывала далеко-далеко, за тридевять земель, на оторванном от мира клочке земли.ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Из мечети Салахитдин-ишан не пошел в чинаровую рощу, к каменной глыбе, на которой просиживал долгие дневные часы. Обычно ноги сами несли его туда. Словно конь, и в дремоте находящий свою дорогу, истоптанную его копытами за многие годы так, будто на ней и не было других следов, ишан мог бы с закрытыми глазами подняться по знакомой тропе. Не мозг, не душа, даже не ноги, а сами ичиги помнили все ее повороты. Однако сегодня он изменил своей привычке. Постояв секунду, чтобы передохнуть и приспособиться к тяжести переживаний, он свернул налево и стал спускаться к реке. Редкие в этот час прохожие, жители Ходжикента, в котором Салахитдин-ишан прослужил столько лет, приветствовали его, остановившись, смиренно сложив руки на животе и склонив голову. «Еще не отвыкли, — подумал ишан. — А навечно ли это?» В чайхане заняли те же позы Халил-щеголь и его помощники, бросил заливать водой самовар. «И эти дурни сохранят ли свое почтение навсегда?» Грустные мысли лезли в голову ишана… Он пересек ивовую рощу, где, увеличивая грусть в душе, старые деревья со всех сторон разевали напоказ свои черные, беззубые дупла, и вошел в темный дверной проем мельницы Кабула-караванщика. Было такое ощущение, будто нырнул в дупло. Еще не увидев хозяина, он услышал: — Здравствуйте, ваше преосвященство! — Здравствуйте, — ответил в темноту ишан. Кабул уже пустил воду на колеса, мельница подняла ежедневный рабочий шум и плеск, а вот и хозяин возник перед очами преосвященства — весь в муке и с улыбкой на жирном лице и с вопросом в пронырливых глазах: зачем ты здесь? Двое рабочих пронесли на плечах мешки с мукой, показав засеянные белым спины. Кабул продолжал спрашивать глазами, но не спешил беспокоить ишана вслух, а пригласил садиться. Они устроились на одеяле, постеленном на синюю, цветную кошму в отдаленном углу, куда как будто не залетала вездесущая мучная пыль. Ишан сразу поднял руки для благословения: — О-оминь! Пусть создатель спасет вас от дурного глаза, сохранит от врагов под своей сенью, не оставит без блага своего! Аллах акбар! Последние слова, означавшие, что бог велик, венчали любую молитву ишана и произносились иногда невнятной скороговоркой. Кабул похлопал в ладоши, но работники не спешили подносить чай, и он, матерно ругаясь, поднялся сам и вприпрыжку кинулся за чайником. Проводив его взглядом и прочистив пальцем оба уха, словно вытряхнув из них застрявшие слова мельника, ишан подумал, до чего мудры народ и время, недаром утверждающие от века: нет грязнее бая, чем бай из батрака! А где настоящие баи, где они? Перебиты, как дорогая фарфоровая посуда. Что же, будут пить и есть из глины… Вон как ты сам опустился, расселся в полутемном углу мельницы, дышишь мукой. Так что лучше помолчи, ишан. Он вспомнил о свертке, который сунула ему утром стройная, как угадывалось даже под паранджой, молодка у ворот, и запустил руку в глубокий карман своей куртки. Узелок не поддавался, пальцы срывались, как когти старой птицы. Наконец он развязал материю, увидел бумажку вместо денег, удивился, развернул и прочел: «Жителю Ходжикента Салахитдину, сыну Джамалитдина. Ходжикентский сельский Совет приглашает вас явиться…» У него зарябило в глазах. Что за чертовщина! Начал сначала. Да, его приглашали. Были указаны число и час. Время хорошо рассчитали, ничего не скажешь. После утренней молитвы. Его! Ишана! В сельсовет! Он прочел письмо в третий раз. Там еще стояла фраза о том, что он должен явиться обязательно и в указанный срок. Вот так. А кто же эта молодка? Отдала и пошла во двор — это он увидел, оглянувшись. Может быть, и не молодка, а какой-нибудь переодетый Малик из Богустана? Нет, она же сказала натуральным женским голоском, очень красивым кстати: «Вот вам, дедушка ишан!» Может, она и не знала, что передает. Сказали — отнеси, она и принесла. Но кто она такая? Отгадать это было невозможно, и ишан вернулся к вызову. Разве могли в благословенные прежние времена вызвать ишана? Куда? Только куда-нибудь высоко, в верховную улему, к духовным правителям, а здесь, в кишлаке?! И вот, вызвали. Все, казавшееся нерушимым, вечным, лопалось как мыльный пузырь. Перед глазами снова вырисовался образ этого избитого дервишами парня в парандже. От него понесла Назика! Работница говорила — просит то остренького, то соленого. Всех накажет господь! И Назику, и эту женщину, сунувшую ему сегодня сельсоветскую бумажку вместо обычного червонца, и богустанского Малика. Всех! Испепелит. Замучает в аду, где коптят и коптят горящие дрова над котлами с раскаленной смолой, где… Чем страшнее воображал ишан адские муки своих обидчиков, тем меньше верил, что это когда-нибудь сбудется. Ах, самому бы выстегать их кнутом, выколоть им глаза, рука не дрогнула бы. Перебирая короткими пальцами прядки своей бородки, стриженной клинышком, он припомнил, что такой же вызов из сельсовета пришел однажды Нарходжабаю, а потом самого уважаемого человека в округе пустили по миру, конфисковали все его земли и воды… Вот о чем надо думать! Неужели дошла очередь до него? До ишана? Обозлившись вдруг на эту бумажку, на эту женщину, которую он беспощадно накажет рано или поздно, отыщет и накажет, а если ошибется, если другую — то все равно, все они — гнусные, грешные, неблагодарные твари, невелика беда в такой ошибке, Салахитдин-ишан чуть не порвал казенный листок. Порвать, забыть, покончить с этим! Но, тотчас остыв, поусмехался над собой. Ну, и чего он добьется? Напишут еще одну такую бумажку и пришлют еще раз. И явится с ней не кто-нибудь, а милиционер. Возможно, сам Батыров, будь он проклят. Чем все кончится? Известный ишан Салахитдин будет опозорен. Нет, вера учит, жизнь учит, что от позора во всех случаях надо беречься. Работники Кабула, вероятно, даже не грели чая, мельник сам, ругаясь, раздувал самовар, а мысли ишана мчались быстро, молниеносно меняясь. Ишан о многом успел подумать, многое перебрать в уме и подольше остановился на Талибджане Обидии. Все время ему казалось, что этот человек привез из Ташкента важные новости. Важными же были только те новости, которые говорили о скором конце власти Советов. Но Талибджан, о приезде которого сообщил один человек, доставивший муку на мельницу, а ему передал кто-то другой — своя почта работала еще исправно, слава аллаху, так, например, они раньше других узнали об аресте Нарходжабая, — так вот, важный представитель наркомата Талибджан вежливо и спокойно предупредил, что надеяться на это глупо и бессмысленно. Ждать скорого конца, крушения беззаконной власти голытьбы глупо. Да, Советы держатся крепко, уходя корнями в народ, а это, как известно, глубокая и надежная толща. Может быть, бездонная. За нее и надо бороться. Надо умерять свое нетерпенье, быть добрее и покладистей с простыми людьми, завоевывать их симпатии. Если хотите, лаской. Справедливостью, которую люди ищут со времени сотворения мира. Помощью — и словом и делом. В общем-то, умные люди всегда так твердили. Неужели представитель прибыл из Ташкента, чтобы повторить это? Он сказал еще, что в Наркомате, просвещения и в других органах новой власти есть люди, думающие иначе, чем нынешние руководители. Например, они, эти люди, упорно и тонко ведут свою линию на отделение школы от политики. Детей надо учить грамоте. Народ надо образовывать. Но политика тут ни при чем. Она, политика, только мешает, потому что неграмотный не понимает политики. Политика — это философия! Сначала нужно обучить народ элементарным вещам, а потом… А потом и политика, может быть, изменится. Эти мысли, эти люди, приславшие к нему Талибджана Обидия, пришлись по душе ишану. Особенно потому, что они считались с религией, а религия — это основа всей людской жизни, полной страданий и надежд, пусть иногда неосуществимых надежд, но все же утешающих, поддерживающих саму жизнь. Умные люди! Если бы новые держатели власти были такими, они не стали бы ниспровергать религию, обижать и обделять ее служителей. В частности, его, ишана. Он нашел бы и с ними общий язык. Тот, кто не считается с религией, не считается с душой народа. Да! Тут наконец появился Кабул-караванщик — полный чайник и поднос с угощениями в руках. Может быть, показать ему бумажку из сельсовета? Да что он скажет, трусливая душа, что посоветует? Сам за себя дрожит… Вот кому надо показать — Талибджану Обидию. Он — крупный представитель новой власти и что-то придумает, сможет уладить дело. Должен суметь! Подумав об этом, ишан немного успокоился и начал подниматься. — Куда же вы, ваше преосвященство? — Чай сейчас не будем пить. Приходите вечером в мою халупу. — Одну пиалушку… Кабула заволновало, почему это ишан отказывается от угощения, куда спешит. — Я зашел предупредить вас. Жду вечером. — Конечно, приду, ваше преосвященство, приду! — Постараюсь, чтобы и ташкентский представитель был у нас. Соберемся, поговорим. О том о сем. Он гордо поднял голову и упрекнул себя в душе — чего это минуту назад он так растерялся, сник? Учитель, председатель сельсовета, все Советы действуют, не спят. Значит, нужно действовать и им. А не сдаваться, не киснуть! — Мои ребята готовы написать на учителя любую бумагу. — Принесите ее вечером с собой. — Они выполнят любое ваше поручение! — заверял юлящим голосом мельник, помогая ишану подняться, а сам не разгибался, застыл, опустив плечи и пригнув голову. — Воспитанные ребята. — Спасибо, что не побрезговали, заглянули, ваше преосвященство. — Да, чуть не забыл, мешок или два белой муки пришлите. Кажется, мои матушки просили. — Хорошо, ваше преосвященство, — еще ниже согнулся Кабул, пряча усмешку: «Никак не может не попрошайничать!» К себе ишан поднимался под нахальное треньканье школьного звонка и где-то посередине дороги заткнул пальцами уши, чтобы не слышать этого бессовестного звона. Двое встречных прохожих на мостовой повторили его жест, тоже заткнули пальцами уши. «А сами, наверно, с утра послали своих детей в школу», — подумал ишан. Да, Талибджан, возможно, и прав. Дураки, казалось, сидят в Советах, а не очень-то и дураки. Задумали бесплатно обучить весь народ грамоте. Кому не захочется? И все больше детей ходит в школу, где действительно учат грамоте, а не тратят времени на бога. Школа! Вот главный враг, с которым надо бороться. Убить и этого учителя, всех убить! Опять ты разгорячился, ишан, опять кипишь, как пылающий самовар, только булькаешь. И опять прав Обидий, зря ты утром так спорил с ним. Не учителей убивать, а взять школу в свои руки — это вернее. Вечером в доме ишана собрались гости. Тут и Кабул-караванщик, и Халил-щеголь, и Умматали — глава дервишей, нет до сих пор верного и богобоязненного тестя из Богустана,отца Назики, Мардонходжи, а главное — все еще нет и самого Обидия. Застрял в школе. Придется потерпеть. Если задуматься всерьез, он сейчас занят самым полезным трудом. Но нетерпенье, ужасный враг всякого дела, все же бередило, и через некоторое время, когда уже сумерки плотно одели горы и Ходжикент, ишан послал Умматали на дорогу, встретить гостя. И тот привел Обидия. Все вместе помолились перед едой, и гостям подали наваристый суп. У Талибджана было нервное лицо — устал за день, ишан заметил, как раздраженно он швырнул в нишу свой кожаный портфель, а теперь сидел молча на почетном месте рядом с хозяином, не начинал беседы. Ели в тишине… Ишан сам подлил ему: — Кушайте, суп удался на славу. Устали вы. Весь день трудились на ниве просвещения… Бог воздаст! За едой угрюмое лицо Обидия посветлело, а после чая он вытер платком со лба капельки пота и начал рассматривать гостей. — Занятия в школе, в общем, идут неплохо, — сказал он. — Учителей не хватает, я тоже преподавал. Ваш председатель, Исак-аксакал, попросил. Учеников много… Кто-то из гостей, кажется Умматали, заворчал на это, но Обидий перебил его: — Нет, зря сердитесь! До революции, при старом режиме, народ наш был угнетен, а теперь у него просыпается жажда к знаниям. Даже взрослых все больше приходит на курсы ликбеза. Ликвидировать свою неграмотность — естественное желание каждого человека, я так понимаю. Слова его прозвучали неожиданно и удивили гостей. Пиалушки задержались на весу, все сидевшие вокруг дастархана уставились на Обидия. А он посмотрел на ишана, и тот понял его взгляд: — Здесь все свои, за каждого могу поручиться, как за самого себя. Вот еще подъедет мой тесть из Богустана, Мардонходжа, а больше никого не будет. Обидий поставил свою пиалушку на дастархан и снова налил себе чаю. — По совести говоря, — продолжал ишан, решив, что ему первому надо сказать откровенные слова для того, чтобы снять скованность с Обидия, но еще и для того, чтобы сгладить следы своего утреннего несогласия с ним, смягчить отношения, даже повиниться, — по совести говоря, вы во всем правы, дорогой… Просвещаться — естественное желание человека и всего народа, да, да! Но при этом простой люд должен не забывать бога, исправно ходить в мечеть и совершать пятикратную молитву каждый день. В боге, в вере — сила жизни, у нее имеются нравственные нормы, без которых все разрушится. А зачем тогда образование? Чтобы лучше разрушать? Такая беда грозит всем. Надо ли ее вам растолковывать, когда вы сами — избранный богом раб, и это написано на вашем челе? Я… — Ваше преосвященство, — прервал ишана Обидий, — если вы согласны, что все имеют право учиться, зачем же вы на большом пятничном молении назвали нового учителя в Ходжикенте кяфыром и предали анафеме? — Я отвечу вам, дорогой… Не затем, что он приехал учить детей и взрослых. Чему учить? Он называет исламскую религию ядом, рассадником невежества, он опозорил дервишей. Мог ли я остаться равнодушным, не защитить слуг господа и паствы? — Убивать надо таких учителей! — вставил Умматали. — У вас, в Ходжикенте, уже убили двух учителей, — мрачнея усмехнулся Обидий, — а чего достигли? В кишлаке — люди из ГПУ, аресты, допросы… Этого вы хотели? Нет, ваше преосвященство, золотой век Тамерлана давно минул — безвозвратно, настал век победивших рабочих и крестьян. Об этом надо помнить, как и о боге. — К убийству учителей мы не имеем отношения, — глуховато обронил ишан. — Охотно верю… Не знаю, кто их убил, и знать не хочу! Но и не одобряю таких поступков. Если вам не нравится новый учитель — Масуд Махкамов, помогите мне, дайте основания, я его тихо уберу. Тихо и мирно. — Молодец! — воскликнул Кабул-караванщик и подмигнул Халилу-щеголю. — А ну-ка, давай свою бумагу! Вот… посмотрите, уважаемый, это жалоба на действия Масуда Махкамова. Он оскорбил всех, кто живет в кишлаке и кто пришел в наш святой кишлак на моленье в ту пятницу, проделав для этого дальний путь, чаще всего — пешком, потому что это люди бедные, те самые победившие крестьяне, чей век, как вы справедливо заметили, наступил. Они шли в Ходжикент, чтобы слушать ишана, а не песни учителя. Видите, здесь немало подписей… Обидий цепко схватил бумагу, пробежал по ней глазами и спрятал в чекмень, во внутренний карман. — Вот это — другое дело. Очень хорошо! — А вот еще! — поспешил Умматали. — Здесь жалоба на учителя от дервишей и еще одна жалоба, на Малика, секретаря сельского Совета в кишлаке Богустан, попытавшегося э… э… проникнуть под паранджой во внутренний двор ишана и затеявшего хулиганскую драку с дервишами, стоявшими на своем месте. — А почему он хотел проникнуть во внутренний двор его преосвященства? — заинтересовался Обидий. — Что он там потерял? А? — Э… э… э, — опять затянул Умматали, — это длинная история. Его поймали на месте. Он избил дервишей, несущих охрану. Разве новая власть дает ему на это право? — Нет, — удовлетворенно ответил Обидий, пробежав глазами по страницам и пряча их вслед за листом Халила-щеголя, — нет, конечно… Все это, друзья, сильнее пули. И этого Малика, и Масуда Махкамова накажет сама новая власть. Мне он тоже не нравится… И пока Обидий пил чай, все восхищенно смотрели на него и мысленно желали ему успеха и благодарили за науку. Между тем принесли плов с перепелками, наполнивший комнату неповторимыми, только плову присущими запахами, от которых, сколько ни съешь до этого, снова появляется аппетит и голова кружится, как в раю, полном радостей жизни, и все принялись за еду, закончив общий разговор. Да, собственно, главное уже было сказано. Все поняли, что им предстоит новая, возможно, долгая работа, таящая, однако, успехи в конце пути. Может быть, эти жалобы действительно сильнее, чем пули. После плова разошлись с добрыми пожеланиями мудрому гостю из самого Ташкента. В гостиной остались только Обидий и Салахитдин-ишан. И тогда он достал сегодняшний вызов в сельсовет и протянул Обидию. — Вы правы, тысячу раз я готов повторить. Я не причастен к убийству учителей, вот моя единственная выгода от него. Посмотрите. Обидий, рыгнув после сытной еды, прочел бумажку, а ишан пожелал ему здоровья и спросил: — Что посоветуете? — Нужно идти. — К Исаку-аксакалу? — Власть зовет, нужно обязательно идти, — повторил Обидий. — С властью нельзя шутить. Наоборот, нужно жить в мире и согласии с ней. Но по-своему. А теперь спасибо, ваше преосвященство, я тоже пойду… — Бросаете меня в беде? — не выдержал ишан. Обидий остановился. — Боюсь говорить, но на вашем месте я сам отдал бы Исаку-аксакалу лишнее богатство, а потом, потихоньку… Исака-аксакала я, кажется, понял. Киньте ему кость, не спорьте, он обрадуется. Пусть поторжествует, сам того не замечая, под вашу дудочку. А потом и до него доберемся! Сейчас уцелеть важно, вот что. Грустные вещи я вам говорю, ваше преосвященство, потому что грустное время. Его надо пережить. Пожалеете палец, отхватят голову. Салахитдин-ишан сидел и кивал, соглашаясь, а когда Обидий попрощался и ушел, он закрыл глаза и тихо застонал, как больной. Говорят же: «Один палец укусят, и то — больно». Проснулся рано, а может быть, и совсем не спал, задремывал ненадолго и вскидывался. Пережить… В этом была правда. Пережить — значило сохранить себя. Сохранив, снова можно было набрать силу. Совершив моление, ишан, как от века водилось, отправился в мечеть. Там, на веранде, его ждали прихожане. После утренней молитвы с ними он побрел на свое место в роще, под чинарой. Все было как всегда. Разве брел не так уверенно, медленней. И под сердцем болело… Уселся, задумался и опять согласился с тем, что Обидий прав. Пережить черные дни, как бы это ни было тягостно. На это направить все силы, всю хитрость… Народу подходило мало, не мешали думать. А почему мало? Будний день. Да, наверно, так… Ишан успокаивал себя. Успокаивать — это тоже требует ума и силы. Вот он нервничает, а ведь возможно, что его вызвали в сельсовет по сущему пустяку. И чего зря волноваться? Все эти Советы ниже его. Недостойней. Мельче его власти и мудрости. Лучше всего вообще не думать об этой бумажке и председателе сельсовета. Открыть глаза и посмотреть на улицу. Кто идет по ней, куда? В одиночку, кучками, а то и большими группами дети шли в школу, а то и бежали. Нет, лучше закрыть глаза! А вон показался сам Обидий. Шагает по-деловому, помахивая столичным портфелем. Повернул голову к ишану на миг, кивнул ему и прибавил шагу — в сторону школы. Хитрый парень, если свои слова говорит. А если не свои, то наставник у него хороший, дальновидный. Дальше видит, больше и лучше понимает, потому что ближе к нынешним руководителям, сам — в их числе. Так-то… Да, Талибджан, трудно старику менять привычки, но нужно. «Я это понял, я сумею, — сказал себе ишан, — не ты один, мальчишка, полакал змеиного яда!» Ишан вытащил из-под халата золотые часы и глянул на них. Было без пятнадцати девять. К девяти из школьного двора донесся звонок. Затем стих. Стихли и детские голоса, и шум. Дети есть дети, они играли, резвились, а теперь сели за парты. Через полчаса ишан чуть не уснул в одиночестве, но его словно подтолкнули: по улице, под уклон, семенили четыре женщины в паранджах и одна с открытым лицом. Та самая, вчерашняя, хоть лица и не видно отсюда, но он не ошибается — она, она! А это ведь его жены! Куда она их ведет? И Назика с ними. Встала! Ишан вытянул шею. Женщины пересекли гузар и повернули к школе. Тоже надумали учиться? Да нет, курсы ликбеза занимаются по вечерам. А может быть, в сельсовет? Да, да, вон они прошли новые школьные ворота и… В сельсовет! Сердце ишана, больное, старое сердце, дрогнуло. «О боже, — зашептал он, — сохрани и помилуй!» Но сам не двинулся с места. Что он может сделать? Затеять перебранку на улице? На позор себе? Так, почти задремавшим, досидел он до часа, на который его вызывали, до десяти, и двинулся к сельсовету, откуда еще не показались его жены. И чем ближе он подходил, тем громче скрипел зубами и клял бога. Вспоминалось ишану прошлое. Сколько раз он бывал в этом доме, и его с почетом встречали и сам прежний хозяин, единственный законный владелец этих строений Нарходжабай, и его гости. Ему кланялись, были счастливы, если касались его руки или полы халата. А сейчас? Как и чем встретят его сейчас в этом доме? И он должен смириться и терпеть? Разве он плохо служил богу? Плетется в сельсовет, и некому поддержать его. И некому даже пожаловаться на судьбу. Он — ишан, но ведь и он тоже человек со своими слабостями. Должен кто-то оказать ему внимание и милость? Ишан вспомнил тестя Мардонходжу из Богустана, который так и не приехал вчера. Почему? Может быть, заболел? Но гонец, посланный к нему утром, ничего не сказал про болезнь. Передал, что верный и послушный Мардон приедет. Чем я прогневал тебя, господи, спрашивал ишан и, поскольку не получал никакого ответа, отчаянно ругал того, кому посвятил всю жизнь и кто учил смирению. Его устами бог учил других. Терпи, боже, дошла очередь до самого тебя! С этой мыслью ишан поднялся по скрипящей лестнице. Он ждал, что увидит здесь своих жен, и заранее отвернулся от них, сидевших на веранде. Едва вошел в комнату, Исак-аксакал сразу встал из уважения к ишану, как только увидел его. И показал рукой на кресло у длинного стола, подставленного поперек к председательскому. — Садитесь, ваше преосвященство. Салахитдин-ишан сел. Голову он держал чуть приподнятой, горделиво и независимо. Но душа трепетала, и он снова обратился с просьбой к тому, кого только что поминал недобрыми словами: «О боже, не оставь меня без поддержки!» Исак-аксакал меж тем достал из ящика своего стола исписанный лист бумаги и сказал: — Хорошо, что пожаловали, уважаемый ишан. А то нам вот тут кое в чем надо обязательно разобраться… — В чем? — Во-первых, в этой бумаге. — А что это? — спросил ишан и тут же упрекнул себя: «Много спрашиваешь, помолчи, больше достоинства, поменьше слов». — Официальное сообщение, — ответил Исак-аксакал. — Из Богустана. Проводили там перепись скота, было такое дело, и ваш тесть Мардонходжа обнародовал, что триста баранов в отаре, которую он пасет, принадлежат вам. — Мардонходжа? — прошептал ишан. — Да, он. — Сказал? — И сказал, и подписью засвидетельствовал. Вот. Ишан покосился на бумагу и увидел отпечаток большого пальца. Вот почему не приехал «верный» Мардон. Такой верный, что убить мало! — А вот еще одно сообщение, из Хумсана, — продолжал Исак. — Оттуда извещают нас, что в их табунах гуляет тридцать ваших коней. Ишан начал меленько хихикать и вдруг рассмеялся, положив руки на живот: — В жизни не занимался разведением скота. Бог свидетель! — Значит, не ваши кони? И бараны не ваши? Взгляды Салахитдина-ишана и Исака-аксакала столкнулись. — Не мои, — твердо сказал ишан. — Это наговор. — Ай-яй-яй, — сказал председатель сельсовета, покачал головой и пододвинул ишану чистый лист, а сверху на него положил карандаш. — Пишите. — Что писать? — Заявление. Что это наговор. Что триста баранов и тридцать коней не ваши. Так и пишите: не мои! — А чьи? — Ничьи. Бесхозные. И советская власть раздаст их бедным, неимущим крестьянам. Правильно? Дрожащей рукой Салахитдин-ишан начал писать заявление, но подписался уже довольно твердо. Удовлетворенно крякнув, Исак-аксакал собрал и спрятал в свой стол бумаги, ради которых ездил к соседям той памятной ночью, когда Нормат чуть не убил Кариму. Ишан ждал. Это еще только во-первых… А что во-вторых? Им первого мало? Ну, Мардон, будь ты проклят! Ты становишься моим злейшим врагом, никогда не забуду. — Теперь второе… — рокотал Исак-аксакал. — Уважаемый ишан! Сюда смотрите, а не в окно. Вот бумаги от ваших жен. Почитайте. И он разложил перед ишаном четыре листка. Господи! Этого не может быть! Все четыре его жены заявляли, что не хотят больше жить с ним. И он так и сказал: — Этого не может быть! Их заставили… Это неправда! — Для этого мы и пригласили сюда ваших жен, чтобы все установить честь по чести. Пусть они сами скажут… Если согласны — подтвердят свои заявления. Если нет — могут забрать, — и он позвал с веранды сразу всех женщин. Может быть, лучше по одной, хотел предложить ишан, легче застращать каждую в отдельности, но Исак-аксакал — хитрый председатель, он понимал, что вместе женщины поддержат друг друга и постесняются идти на понятную. — Мои жены все законные, по шариату, — успел выдавить из себя ишан, пока они входили. И испугался: где его голос? Голос пропал, а сердце билось, как раненая перепелка. И глаза затуманились. Но все же он разглядел, что вошедшая с женами молодка действительно была той самой, что передала ему вчера сельсоветский вызов. А председатель представил ее: — Это наша новая учительница — Салимахон Самандарова. Вместо нее с детьми сейчас занимается Талибджан Обидов, приехавший из Ташкента, высокий чин. Помогает нам, спасибо ему. А Салимахон я попросил оказать вам, ваше преосвященство, должное внимание и побыть здесь. Возьмите заявления, Салимахон. Будем читать по очереди, вслух? Как желаете, ишан? — Съежившийся, постаревший человек, сидевший перед ним в кресле, молчал, и он обратился к самой маленькой женщине в парандже: — Как вы желаете, доченька Назикахон? Что скажете? Из-под черного чачвана послышались сначала плач, а потом и слова: — Что я могу сказать? — С вашего согласия написано это заявление? — Конечно! Спасите меня от этой муки, не хочу с ним жить! — О неблагодарная! — проговорил ишан, не глядя на нее. Так он повторял еще дважды, теряя голос, но, когда и старшая жена, Зебо, подтвердила заявление, воскликнул: — Столько пила-ела моего! — А сколько всякой работы вам переделала? — крикнула и она. — Я еще молодая. Тьфу! — Тихо! — остановил ее «аксакал» и, встав, объявил торжественно и поименно, что все они отныне считаются разведенными с Салахитдином, сыном Джамалитдина, и — свободны. — Пусть катятся куда хотят, — сказал ишан. — Нет, — возразил Исак-аксакал. — И по новому закону, и по старому, шариату, вы обязаны отдать им, бывшим женам, дома и разделить с ними имущество. Так? Так. Сегодня в ваш двор придет комиссия сельсовета, чтобы проследить за этим и проверить, все ли сделано по справедливости. Честь по чести, — повторил он, а когда ишан спросил, все ли это, может ли он уйти, добавил: — Есть еще у меня к вам личная просьба, уважаемый ишан. — Какая? — Большая. В ближайшую пятницу, перед всем обществом, на молении, — с остановками и все суровее говорил Исак-аксакал, — прошу вас отказаться от проклятия, которое вы обрушили на голову нашего учителя Масуда Махкамова… — Как? — неожиданно вернувшимся к нему голосом прорычал ишан. — Я сказал — перед людьми. Покайтесь. Ну, мало ли чего не сделаешь сгоряча! Погорячились — одумались. А то… — Что?! — Привлечем вас к ответственности за контрреволюционную вылазку, — холодным и беспощадным тоном предупредил Исак. — Поняли? Наш Масуд — замечательный человек. Дети его полюбили. Двух учителей мы похоронили в Ходжикенте, он — третий. Не испугался, приехал. И вашего проклятья не испугался. Школа работает… Так что я для вашего же блага это советую, уважаемый ишан. Председатель смягчил свой голос, и в глазах его запрыгали огоньки. А ишан вовсе согнулся и замер, не дыша.ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Никогда еще такой страх не разъедал душу Кабула-караванщика, как в эти дни. Тучи, казалось, сгущались и гремели над другими, но он поджимал голову. Беды, внезапно и так неудержимо свалившиеся на Салахитдина-ишана, его, шуточки сказать, преосвященство, породили в ушах мельника неумолкающее эхо. Сам ишан ничего не смог сделать! И никто не защитил его. Было от чего с ума сойти или руки на себя наложить. Господи! Жить ишан продолжал, но совсем не так, как прежде. Его скакуны из хумсанского табуна и бараны с богустанского джайлау приказали, как говорится, кланяться. Они ушли во дворы и сараи бедняков. Ну ладно, кони — это кони, а бараны — бараны. Так нет же! Жены ушли. Ушли от мужа, но остались в его домах. Прогнали ишана, И сельсовет дал им на это разрешение и справки. А сельсоветская комиссия разделила имущество. Вспомнили, что так и в коране записано. В самом деле, в той суре, которая читается при венчании, жениха спрашивают: «Согласны ли вы кормить и награждать жену заботой за кормление ваших детей, не обделить ее долей своего имущества в случае развода или наследства в случае смерти?» Сельсоветские хулиганы заявили, что они поступают по-божески. Может, это и так, да ведь вот чего нельзя забывать, о чем надо думать. Не случись революции, не было бы в кишлаке этого сельсовета, разместившегося в байском доме, и никогда не сел бы за председательский стол рваный Исак, которого теперь зовут аксакалом! А не случись этого, никогда проклятые жены ишана, все, кроме Иффатхон, дочери местных земледельцев, с утра до ночи махавших кетменями и больше не знавших ничего, благодарных господу и за это, не посмели бы не то что уйти от ишана, а и словечка молвить против него. Жен, конечно, растоптать и живыми в землю зарыть мало, но во всем виновата революция. И беды не кончатся, пока жизнь течет по ее законам. Страшно сказать, но эти новые законы, силу этой самой революции почувствовали не только бедняки, но и люди, неплохо существовавшие при старых порядках. Людишки, конечно… Исак-аксакал вместе с учителем явились в дом дервишей, где не так давно арестовали несчастного Нормата, и там повели, как они это называют, агитацию, свой разговор. А в результате что? Тринадцать дервишей бросили свои лохмотья и пошли работать в товарищество, на поля. Вот тебе и святой народ! Взяли в руки лопаты… Кабул размышлял обо всем этом, с самого раннего утра возясь на мельнице, таская мешки и пытаясь отвлечь себя от мрачных дум работой. И вдруг он остановился и стиснул без того маленькие глаза в тугие, черные капельки, как-то пронзительно, игольчато заострившиеся. Кабул понял, что центром всего, что происходило в Ходжикенте, был учитель. Этот самый Масуд, заменивший двух убитых грамотеев. Школа начала работать и работала — неделю за неделей, привлекая к себе все больше учеников. Но не только дети — все смотрели на школу. Она вернула веру в новую жизнь, хозяином которой стал чувствовать себя бывший бедняк. Она не закрывала двери за детьми, усевшимися за парты. Наоборот, она словно держала их открытыми, и из этих дверей тянулись невидимые лучи ее влияния на всю жизнь кишлака. Они тянулись в каждый дом… А кто ходил во двор ишана писать заявления о разводе от имени его жен? Учительница! Значит, прав был Шерходжа, что надо начинать с учителей. И не зря он с такой яростью говорит об этом новом учителе — Масуде. Голыми руками готов его задушить. Задушит — пришлют еще одного, четвертого, но вряд ли и четвертый будет опять таким, чтобы детей учить, песни петь, музыкальный кружок организовать — детишки бегают на дутарах бренчать, во флейту дуть, но и это еще не все — пришел на кураш и припечатал к земле Аскара. Все верно, дорогой Шерходжа, однако на этом Масуде можешь и ты споткнуться. Не дам я тебе заняться Масудом, как ты хочешь, к чему ты рвешься, потому что все может быть — он будет ходить на кураш и песни петь, а ты потеряешь голову. А твоя голова нужна не одному тебе, а еще и моей Замире. Уехать вам надо не после расправы с учителем, а немедленно, пока не попались… Сегодня! Сколько можно откладывать? Так думал Кабул. Вероятно, недалек был день, когда вслед за Нарходжабаем и Салахитдином-ишаном наступит его черед. Не сегодня-завтра пришлют и ему повестку. У него нет четырех жен, как было у бая с ишаном, но есть работники, есть мельница, есть чайхана, есть еще кое-что, спрятанное в кувшины и хурджуны, есть дела, о которых могут вспомнить. Есть за что упрятать тебя самого за решетку, Кабул-караванщик, но так уж устроен человек, что раньше думает не о себе, а о детях. Над его счастьем замахнулись топором новой жизни, вот-вот перерубят, пусть будет счастлива Замира, пусть уедут и спасутся от этого топора дети — дочка и Шерходжа. В детях продолжается наша жизнь, осуществляются наши мечты… С улицы донеслись призывные взревы могучих труб — карнаев, первыми на них торопливой дробью откликнулись барабаны «дум-дум» из самой звонкой бараньей кожи, а через секунду запели и сурнаи, как будто свадьба где-то началась. Но Кабул знал, что это не свадьба, это — хошар, или, как по-русски назвала голытьба свою сходку для общего труда, субботник. Сначала они устроили собрание в сельсовете. Демократичный человек, всем необходимый мельник, Кабул тоже был на этом собрании. И даже голосовал за хошар, хотя… люди не просто договаривались сообща убрать кишлачную улицу, отремонтировать крышу на каком-нибудь общественном доме или почистить арык, нет, они решили очистить чинаровую рощу, как выразился учитель, «от хлама суеверия». Кто-то сказал, что чинаровая роща святое место, там же могила святого, но другие засмеялись. Какого святого? Ишан и сам толком не знает. Придумали всё. Ни в каких святых книгах этой могилы нет, не названа, никому она не помогла ничем, только ишану помогает народ грабить, он ее и выдумал. Так, с могилой покончили, но и это не все. В чинаровой роще решили открыть «красную» чайхану. Тень, из-за которой рощу выбрал для себя ишан, пусть послужит теперь всем людям. Это их главный закон — раньше одному, теперь — всем. Будет в роще «красная» чайхана и столовая сельскохозяйственного товарищества. А это уже прямой удар по Кабулу, его маленькая чайхана у реки рядом с «красной» чайханой в чинаровой роще — пропащее дело. Но он поднял руку и проголосовал за решение собрания вместе со всеми. Бог велел терпеть и смиряться, и ташкентский гость Талибджан Обидий повторил это божье веление в доме ишана перед пловом с перепелками. Надо смиряться. Не всегда, а до поры… До лучшей поры! Будет ли она? Обидий сам показал, как это следует делать в наши тяжкие дни. На собрании говорили не только о предстоящем хошаре, о многом еще, иногда о многом сразу, и не раз собрание превращалось в базар, все галдели, шумели, а то и кричали, споря и веселясь. Сам Исак-аксакал вдруг повел речь о школе. Ей, мол, того не хватает, сего не хватает, заведующий школой и сельский Совет обращались к районным просвещенцам, но те ничего сделать не смогли. Тогда Масуд Махкамов обратился в высшие органы, оттуда прислали представителя, а у него странные замашки начали проявляться — вместо того, чтобы учесть и записать, сколько школе прислать инвентаря, школьно-письменных принадлежностей, он… Сначала, ничего не скажешь, помог, преподавал сам, поскольку не только инвентаря, а и учителей не хватает, а теперь исподтишка занялся ревизией. Ему не нравится, например, что дети слишком уж разных возрастов в одном классе занимаются? А как быть? Всего два учителя. — Дайте дружеский совет, примите к сердцу наши нехватки и недостатки. А вы заважничали! Не так детей распределили по классам? Мы и сами это видим, но пока нам важно, что все дети, присланные желающими родителями, занимаются. Вот что важно! Увеличьте штат учителей, дайте нам букварей побольше, а тогда уж занимайтесь ревизией. Ну и ну! На представителя высшего органа просвещения поднимал голос сельсоветский председатель Исак-аксакал. А может, такая она и есть, новая власть, новая жизнь? Талибджан Обидий после речи «аксакала» поднялся красный, на щеках его пылал огонь, и Кабул почуял: «Сейчас будет схватка, он им задаст!» Ему представились петушиные бои, часто проходившие возле мельницы. Владельцы боевых петухов выпускали их на траву, и те отчаянно наскакивали друг на друга в окружении заядлых крикунов, ждущих очереди на помол зерна. Петухи не смирялись, пока не пробьют черепа один другому или хотя бы не выклюют глаза. Обидий очень походил на такого петуха, но в ответ на обидную речь председателя сказал всего-навсего: — Требование примем во внимание. И сел. Кабул возмутился поначалу, в голове его промелькнуло: «Не петух, а мокрая курица ты!» — но тут же спохватился и острыми глазками своими оглядел все еще пылавшего Талибджана с восхищением. Вот как надо управлять собой, вот как надо держаться! Это не петушиный бой, а серьезная борьба не на жизнь, а на смерть. Тут другого выбора нет. Вздохнув, покончив с воспоминаниями и подойдя к двери мельницы, Кабул наклонился и прижался к самой широкой щели. В задрожавшем перед ним свете утра он увидел и карначей, задравших свои медные, почти трехметровые трубы к нему, и барабанщиков, и, конечно, Исака-аксакала, и Масуда в рубашке с засученными рукавами, и уважаемого Талибджана Обидия. Он тоже явился на хошар… Ага! И нам бы подумать, как поучаствовать в народном деле, не остаться в стороне. Чтобы заметили и сказали доброе слово. Да, не прятаться, а стараться на глазах у всех. Еще в старину учили: «Чем отлеживаться, лучше отстреливаться!» Кабул выпрямился и захлопал в ладони. Хоть и не любил этого отжившего способа подзывать подчиненных Халил-щеголь, который сам себя считал главарем своей шайки, однако все же явился, стукнув задней дверцей мельницы. Полоска света, бесшумно стрельнув, долетела до ног караванщика. Халил без ворчни приблизился и ожидал распоряжений. Видно, кишлачные события последних дней как-то подействовали на задиристый характер картежника. — А ну-ка, — сказал Кабул, придавая голосу праздничное звучание, — послужим и мы людям в меру своих слабых сил. Ставьте на очаг большой котел, заложим плов. Всех накормим, кому хватит! Скажи, пусть займутся самоваром. Чай будем на хошар носить. — Куда? — В рощу. Ты что, не слышал, для чего хошар, почему трубы играют? Рощу будут чистить. Вместо ишана поставят на тот камень самовар, прости меня господи! Халил вздохнул и промычал, как будто выругался. — Понял? — спросил хозяин мельницы и чайханы, доживающей дни. — Принесем в жертву обществу свои зерна и труды. — Будет сделано, хозяин. — Да постарайтесь, чтобы плов вышел вкусным. — Хорошо, хозяин. Халил-щеголь ушел, снова стрельнув светом в глубину мельницы, а Кабул подумал: «Уж делать так делать. А то голодранцы — придиры. Их угостишь плохо, они разругают, и только… Нет уж, ни баранины, ни масла не жалеть, пусть запомнят». Кабул вытянул из чекменя часы на крупной и длинной серебряной цепочке, машинально глянул на них и сплюнул. Часы давно не ходили, но он носил их и смотрел на них при людях, чтобы удивлять окружающих. Закрыв глаза, прикусив губу, Кабул припомнил вдруг Бричмуллинский перевал и генерала Осипова, который подарил ему эти часы за то, что он показал дорогу. Были времена, были дела. Никто не ждал, что испытания так затянутся… Кабул все еще держал часы в руке, спрятал их и проморгался. Он решил сам проверить через полчасика, как готовят плов, а пока опять наклонился к щели. Со всех сторон к гузару стекались люди с кетменями, лопатами, с метлами на плечах и в руках, с вениками, распустившими рыжие бороды, под мышками. Учитель со своими школьниками растянул между, двумя первыми деревьями красное полотнище со словами: «Своими руками наведем порядок в кишлаке!» К чему звали эти двусмысленные слова? Что понимать под словом «порядок»? А-ха-ха! Кабул хотел распрямиться, но в это время заметил Салиму, учительницу, приехавшую недавно из города, — видно, в самом деле не промах этот Масуд, славную помощницу себе выбрал и позвал сюда, чтобы шашни крутить, вон как разоделась — белое платье, как будто не на работу, а на праздник собралась. Рядом с ней шла, слушая что-то и смеясь, Карима, блудница, председателева жена. А это… Третья, догнавшая их и поздоровавшаяся с ними, показалась мельнику знакомой. Но он и вообразить не мог такого, прижался к щели плотней и пробормотал: «Сохрани меня бог!» Да, это была Дильдор, баловница Нарходжабая, пусть судьба его еще осветится радостями. Не очень щедрый был бай, но очень богатый, и немало, мягко говоря, «позаимствовал» у него Кабул-караванщик. Без этого не было бы ни мельницы, ни чайханы, ни кое-чего другого… Для одной Дильдор бай не был скупым, ничего не жалел, каждый раз из Ташкента — кучи подарков в дом, какие-то люстры с висюльками и завитушками, называются хрустальные, для толстых свечей, китайская посуда, а уж наряды — без конца, с детства — чего захочет, то и имела. И все возил он, Кабул-караванщик. «Не разбей!», «Не потеряй!» А теперь — вон где его дочка, с председательшей и учительницей, нашла компанию! И разодета — еще почище, чем эта самая Салима, зеленые шаровары, вишневая жилетка. А куда оделась-то? Тьфу! Рощу подметать. Кинулась, побежала к учителю. Нет, спряталась от него, пригнулась, веником заработала. Сурнаи пищали. Барабаны били. Учитель с мальчишками срывал с сохнущих веток чинар вылинявшие лоскутки, оставленные богомольцами, как расписки, осколки керамических кувшинов, привязанные к другим веткам, как будто чинары плодоносили ими, этими осколками. «Выметем из рощи хлам!» — говорил учитель Масуд на собрании. И вот — уже выметали, и он был первым… А это что? На маленьких арбах привезли два медных самовара — у ишана стояли, он сам покупал и привозил ишану в подарок от бая, а теперь, видно, жены получили их в свое пользование и расщедрились, отдали обществу в благодарность за свое освобождение, зачем им такие огромные самовары. Поставили на кирпичи, кто-то рядом чурки вывалил из мешка. А другой схватил приготовленные ведра и побежал за водой. Весело, резво! Кто это? Кадыр-чайханщик! Не узнал своего работника? Не узнаешь сразу — новая рубашка… Вокруг самовара расставляли сури — деревянные настилы на коротких ножках, для сидения. Успели сколотить, постарались. Народ! Нет, лучше не смотреть на это. Рождалась новая чайхана, залезали в карман среди бела дня… Делали что хотели! И ты еще иди и беспокойся, чтобы им и твой чай отнесли побыстрей. Ах, жизнь… Отправив чай в рощу, Кабул вернулся на мельницу, но пробыл здесь минуту, а потом снова выскользнул из нее через заднюю дверцу, пересек двор и вот уже оказался за кривым забором. Здесь была маленькая калитка, которую он закрыл за собой на засов. За калиткой огляделся и прислушался. Шумела река. Людей на мельнице не было, никто не следил за ним. Голоса из рощи сюда почти не долетали, река все заглушала. Трава под ногами была уже тронута увяданием — осенние холода, рассветный иней безжалостно умертвляли ее. Кабул остановился неподалеку от сухого куста и разгреб ногой кучу веток на земле. Обнажилась деревянная крышка, и Кабул поднял ее и начал спускаться вниз, в странное подземелье, куда вел ход с кирпичными ступеньками. Крышку он сначала поддерживал руками, а потом опустил и притянул за собой покрепче. Вскоре он оказался в подвальном коридоре, а пройдя по нему несколько шагов, остановился перед дверью, похожей на дверь в обыкновенную комнату. Слабый серый свет падал на нее из узких дыр, прорытых на длину руки в речном берегу. В крутом береговом отсеке эти дыры ничем не отличались от гнезд ласточек, селившихся здесь целой колонией. Еще в старое время Кабул придумал и сделал свой тайник, чтобы прятать в нем золото и другие ценности. От бая, от полиции, от жулья… А теперь вот и от новых начальников. Власть менялась, а золото оставалось в цене и тайник был нужен. Он так его придумывал и делал, чтобы при необходимости было где спрятаться и самому, да пришлось отдать комнату Шерходже с Замирой. Дети! Сквозь все заботы в мозг его, пульсируя в виске, стучалась главная мысль — дети должны бежать. Сегодня. Они не видят того, что делается наверху, и не понимают, что через день, через два может быть уже поздно. А он видит и чувствует это всем сердцем. Береженого бог бережет… Правда, сейчас он нарушил эту заповедь, которой всегда был верен, спустился в тайник, среди дня, чего никогда не делал, но кишлак был пуст, за рекой — никого, все в роще. А дело не терпело промедления… Нет, нет! Он рисковал, но рисковал для детей. Не раз он спускался сюда ночью, подходил к этой двери, стоял и слушал, как они воркуют голубками. Очень хотелось поговорить о жизни с Шерходжой, человеком напористого, решительного ума и сердца, но поворачивал и уходил тихонечко, чтобы не мешать. Дети! Нет ли там сейчас Замиры? Кабул прислушался. Тишина. Касаясь животом двери, он трижды постучал в нее. Грюкнула защелка, он отворил дверь, вошел и увидел Шерходжу с маузером в руке, у стенки, сбоку от двери. Всегда так, всегда одно и то же… Ничего не сделаешь, такова покуда судьба. В центре комнаты стоял низкий стол, на нем горела лампа. Пахло табаком, подушка, брошенная на красное бархатное одеяло, расстеленное на полу, была измята, горячий чилим необыкновенной красоты, похожий на медный кувшин с тонкой резьбой и купленный в давние дни у заядлых курильщиков Ташкента, стоял на одеяле, а синее облачко дыма спряталось в нише и таяло у дыры, тоже выводящей отсюда на волю, как глубокий лаз из норы. Все, все за долгие годы сделал здесь Кабул-караванщик своими руками, никто не знал об этом тайнике. — Ну как, барин, — по привычке так, как всегда, всю жизнь, обратился Кабул к Шерходже, — живы-здоровы? — С божьей помощью. Шерходжа бросил маузер на подушку, сел рядом и рукой потянулся к трубке чилима. Усы его разрослись, сила в нем — по виду — была еще заметная, хоть куда, но лицо побледнело. Еще бы! Столько дней без свежего воздуха, без неба, без солнца. За эти недели всего раз покидал он свое убежище, в темноте, ходил к Дильдор. Сказать бы ему, где она сейчас. На хошаре с голодранцами! А может, он сам ей так велел? Кто знает. Лучше не касаться этого. Не мое дело. А есть мое… Шерходжа густыми бровями показал Кабулу на одеяло. Караванщик опустился на колени и сказал: — Барин! — Почему вы днем пришли? — перебил Шерходжа. — Потому что надо торопиться. Они набирают силу. Если уж у нас, в Ходжикенте, это видно, то наверно, везде так или еще больше. Боюсь, закроют дорогу за кордон… И все пропало. Все пропало! — Ладно, не дрожите, как цыпленок под ножом. Срам! — Хорошо, — обиделся и отвернулся Кабул. — Я скажу другими словами. Стоят последние лунные ночи. Перевал открыт, вас встретят верные люди. Хотите, чтобы зима завалила тропы, темнота окружила их, а верных людей не было и в помине? Шерходжа подумал, затянувшись дымом. — Это слова мужчины, — сказал он, выпуская дым. — Но у меня и здесь незавершенные дела… — Барин, — караванщик приложил руку к груди, — поверьте человеку постарше! Вы же согласились уехать за границу с Замирой, вот и считайте это главным делом, самым главным, а всех задуманных дел никогда не переделаешь, на все дела не хватит самой длинной жизни. Богом клянусь! Кабул подождал, не ответит ли Шерходжа, и, поскольку тот молча курил, продолжил: — Я вам приготовил хум золота на дорогу и на жизнь. Хум, целый кувшин, шутка ли! В конюшне два откормленных коня лоснятся! Что вам еще надо? Чего хотите? Шерходжа встал, бросив наконечник чилима, отшагнул к нише, постоял спиной к караванщику и ответил: — Приведите мне мать этой ночью. Я с ней попрощаться хочу. А завтра — в дорогу. — Сегодня! — Приведите мать. Он все еще стоял спиной, однако плечи его распрямлялись, может просто оттого, что старался надышаться воздухом у дыры, а может, уже представлял себе горы, дорогу, сизые дали Синцзяна за перевалами, где его не достанут длинные руки новой власти и где власть есть только у золота, которым набит сильно потяжелевший кувшин. Караванщик, во всяком случае, думал о дороге. Он вырастил хорошую дочь, умевшую скакать на коне и метко стрелять — это не раз проверено на охоте в горах. И теперь может пригодиться. Но лучше без стрельбы. Чем раньше уедут — тем спокойней. Как им, так и ему. Впервые он подумал и об этом. Да, прости господи! Спокойней. Шерходжа наконец повернулся к нему. Лицо его было искажено, кончики губ дергались. — Уеду, как трус! — Вы — один, а их — тысяча! — возразил Кабул. — Отец в тюрьме. Нормат тоже. Каждую минуту он может вас выдать. Тогда и сто хумов золота не помогут. Слушая, Шерходжа все ниже опускал голову, а Кабул договаривал, смягчая голос: — О матери не беспокойтесь, сам о ней позабочусь. Пока я жив, и ей будет сладко… Родственниками становимся! — Хорошо! — Шерходжа сел и снова закурил, не глядя на караванщика. — Я согласен. Выйти караванщику днем было опасней, чем прийти. Не видно, что наверху. Кабул долго стоял на последней ступеньке, под крышкой, и слушал. Глаза ничем не могли помочь, только звериный слух. Откинув крышку, он выбрался быстро, как молодой, одним броском, захлопнул свой лаз, надвинул на него кучу веток и теперь огляделся. Никого… С легким, успокоенным сердцем шел он к старой ходжикентской чайхане за мельницей, на гузаре, к своей чайхане. Заменят ее новой? Майли, ладно… Под развесистыми чинарами и место лучше, тени больше. Советы! Что хотят, то и делают. Вчера захотели открыть в кишлачной роще «красную» чайхану, сегодня открывают. А его чайханному делу — крышка. Черт с ним! Ухитримся, как-нибудь переживем, найдем применение своим средствам и силам. Замира и Шерходжа уедут сегодня. Взяли Шерходжу Советы? Выкусили? То-то! Все остальное — мелочь. Наживное дело… Кабул устало забрался на сури, предвкушая глоток ароматного чая во рту, оглядел народ, сидевший вокруг небольшими группами, разный народ, частично — свой, частично — приезжий, порадовался, что есть еще посетители, и вдруг внутренне ахнул и обмер. Как будто его плеткой стегнули, неожиданно да еще изо всех сил. С другого конца той же сури, на которой сидел он, на него смотрел русский. Кабул все знал про него. Трошин. Алексей Петрович. Чекист. Из этого самого ГПУ. Он не прятался, этот русский, жил у Батырова, всем и сразу говорил, встречаясь, откуда и зачем прибыл в Ходжикент. Вел дело об убитых учителях… Знал Кабул и то, что сейчас ни под каким видом нельзя выдавать своего испуга, ни за что не надо смотреть на русского чекиста дольше, чем на самого обыкновенного посетителя, не надо, потому что подчеркнутое внимание тоже может разоблачить, выдать страх, однако пялил на Трошина глаза, не мог отвести. А сердце дергалось, как рыба на крючке. Э-э, стареешь, стареешь… Ну, выручай сам себя, раз уж так засмотрелся, не мечись, не сворачивай с пути, на который ступил. Ступил по-глупому, а выворачивайся умно… Кабул улыбнулся русскому самой жалкой улыбкой и показал на бархатную подстилку рядышком с собой. Почетному гостю — особое уважение. Вот что обозначали его улыбка и жест, а в мозгу кротовьими лапками скреблась слепая тревога: искал он меня, видел, как я лазил в тайник? Всего можно ждать… Русский почти уже выпил свой чайник — выходит, достаточно давно тут сидит. Кабул видел, как, глядя на него, Трошин налил в свою пиалу последние капли. От лепешки тоже осталось немного. Ел. Откажется? Подойдет? Если откажется — значит, зашел выпить чаю и напился. А почему сюда, а не в «красную» чайхану? По пути? Если подойдет — значит, к нему. А может быть, за ним? Русский поднялся и подошел, поблагодарив Кабула по-узбекски. Говорил он хорошо, знал язык до тонкостей, и это тоже пугало, а не радовало. Вот он сел, по-узбекски скрестив ноги, раскинув в стороны колени, округлившиеся над голенищами сапог, выслушал приветствия, в которых рассыпался Кабул, и спросил без улыбки, почесывая висок: — А чего вы так перепугались, хозяин? — Я? — Кабул повторил свою жалкую улыбку, и теперь, наверное, она выглядела еще жальче, самому стало противно. — Кто же вас не боится, уртак-товарищ? Самого честного человека ваш взгляд бросает в дрожь. Ваш взгляд — он как выстрел. Человек думает: может быть, меня в чем-то подозревают? И если даже душа чище снега в горах, все равно волнуешься: в чем подозревают? Почему подозревают? И всякое такое… — По горному снегу вы в своей жизни походили? — спросил Трошин. — Да, поработал на бая. — Сейчас бай сидит у нас в тюрьме, знаете? — Слышал что-то… Правильно посадили! Такой собаке только там и место! Если в зубы Кабула попадалась косточка, он вгрызался в нее, как шакал, все высасывал до последнего. Из «красной» чайханы долетела песня. Опять учитель, опять старались он и его дутар. Мотив был старым, народным, а слова новые — про то, как свободный джигит воспарил душой над горами, словно орел, а свободная горянка пошла в школу, только враг змеей прячется под камнем… Кабул сложил руки на животе и подумал, что с таким животом не под каждым камушком спрячешься, и еще подумал — раз к нему возвращается способностьшутить над самим собой в такие минуты, голова заработала и не все потеряно. — Товарищ, — сказал он, разливая по пиалушкам чай, который им подали, и показывая на поднос с изюмом, фисташками и халвой, — вы меня ждали? Мы не мальчишки, не будем играть в прятки. Если ждали, вот он я. — А где вы были? — спросил Трошин. — Домой ходил… Дочь проведал, жену. Спросил, почему они дома, а не на субботнике, когда весь народ там, чистит рощу, как правильно сказал наш учитель, «от хлама суеверия». Я плов приказал сварить для работающих на субботнике. — Он нарочно дважды произнес «субботник» по-русски, чтобы показать между прочим, что вовсе не чужд духу новой жизни. — Пойдут жена с дочерью на хошар? Кабул медленно поводил головой туда-сюда. — Жена больная, немолода уже, тридцать с лишним лет вместе прожили. А дочь капризная, скачки в голове, охота… Поругались, и все. Замуж ей надо! — доверительно, по-мужски, пожаловался Кабул, приклонившись чуточку к Трошину. — Жениха нет? Ага, и про это что-то знает чекист! — Был жених… Казался хорошим, даже завидным. Байский сын Шерходжа. Но, — Кабул развел руками, — жизнь повернулась, переменилась, что раньше было хорошо, теперь стало плохо, и мы это увидели и поняли, спасибо Советам, мне легче было понять, я за свою жизнь от Нарходжабая вдосталь натерпелся, а дочка… прямо скажу… нервничает, злится. Шерходжи уже полгода нет в Ходжикенте, где-нибудь разгуливает по Синцзяну, или Афганистану, или еще дальше, я так думаю, а она… — Ждет? — Нет, не ждет, — Кабул рассмеялся. — Она не дура. Я сказал, злится… на судьбу. Он говорил и одновременно терзался: сумеют ли его дети выбраться из Ходжикента этой ночью, проехать до перевала по крутым горным тропинкам или лучше проводить их самому? Не встретятся ли им недобрые люди по дороге, вроде разбойников? Ведь с ними будет целый хум золота. И уже совсем некстати сверлящая грусть добралась до самого дна души: вернутся ли они когда домой, даже если все обойдется благополучно; может быть, сегодня последний день они в родном Ходжикенте и последний раз наречено судьбой ему видеть свою дочь? — О чем задумались, Кабул-ака? — О дочери… О ее судьбе. У вас, у русских, хорошо говорят: большие дети — большие заботы! — Пейте чай, и прогуляемся вокруг мельницы. Я хочу, чтобы вы показали мне точно место, где увидели Абиджана Ахмедова. Ведь вы видели его убитым? — Первый — Кадыр-чайханщик. И позвал меня. Я как раз шел на мельницу. От Трошина не ускользнуло, как Кабул-караванщик, он же мельник, он же владелец чайханы, снова вздрогнул и побледнел. Он, собственно, и спросил для того, чтобы проверить его реакцию. К старанию Кабула выглядеть чистым и честным, очевидному при всей естественности поведения, эти реакции — первого и повторного испуга — добавлялись ощутимыми довесками. Кабул отставил свою пиалушку, отодвинул. — Какой чай! Ни глотка больше в горло не полезет. Я вспомнил и опять весь затрясся прямо. Это утро… рассвет… Я всегда на мельнице с рассвета, каждый день, кроме пятницы. Стараюсь для людей. Иду и вдруг… Кадыр-ака кричит! Вот дрожу, и все! Гнев, поверите, товарищ, гнев. Такой молодой был этот учитель, такой богатырь, как наш Масуджан. И — камнем. Идемте, я вам всем покажу, какой чай! При первых же шагах к мельнице Трошин одернул гимнастерку и поправил кобуру с наганом, висевшую на ремне. Может, просто так, а может… У Кабула еще раз сжалось сердце. Они осмотрели место, где лежал убитый учитель. Кабул показал отмель, где увидел его, ведомый бывшим чайханщиком Кадыром. — А это что за бугор? — спросил чекист, остановившись в кустах над самым тайником бывшего караванщика, когда они не торопясь обходили мельницу. Земля горбилась, в привядшей траве на ней попадалась речная галька, и Кабул вспомнил, как носил в ведрах песок и гальку с речного берега, когда ночами засыпал потолок над комнатой в подземелье. Сухой куст с запутавшимися в нем чужими листьями торчал на самом бугре, к которому присматривался чекист, обшаривая землю светлыми глазами. Один сухой куст среди всех. — Кто его знает! Всю мою жизнь здесь этот бугор, начальник. А может, и дольше, чем я живу. Может, и тысячу лет, и две тысячи… Мало ли на земле бугров? Трошин даже не покивал, а как-то потряс головой, молча и мелко. Вода с шумом летела на мельничное колесо, била в лопасти, клокотала под мостом… — Спасибо за угощение, — сказал Трошин, под ее неумолчный шум. Вот и все, что он сказал, уходя. Но Кабул как померк, так уж больше и не возгорался. Халил-щеголь встретил его в чайхане приглушенной фразой: — Бог вам помог, хозяин. А он сел на прежнее место и попросил: — Заварите свежий чай, Халилбай. В горле пересохло… И вдруг понял — не то что лишнего дня, а и часу нельзя оставаться Шерходже в тайнике. Сейчас сделает глоток чая, потому чтоы в горле действительно немыслимо пересохло, дышать нечем, пойдет и расскажет обо всем Замире. Не идти надо, а бежать!ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Никто не скажет, как они оказались рядом. Масуд выдергивал корявые сучья из кустов, срубал и подбирал сухие ветки, складывал хворост в кучи, обматывал веревкой и, легко вскидывая на плечо, относил в сторону. А она ловко подметала метлой дорожки и поляну, собирала листья, набивала ими мешок, чтобы оттащить к костру. И в какой-то миг они встретились. — Дильдор! — вскрикнул он, увидев ее. Честно говоря, он давно видел ее издалека, а если терял, то тут же начинал искать глазами и не успокаивался, пока не находил. А теперь увидел близко, перед собой, в полушаге. — О, учитель! — воскликнула она, краснея, улыбаясь и смотря на него во все глаза. Они были огромные, и он чувствовал особенную силу их взгляда. Они как бы обнимали. А она? Сколько дней она мечтала о повторении этого простого счастья — видеть его, вот так, перед собой, протяни руку — коснешься. Но даже на переменах боялась выходить из класса. Хотела видеть и боялась. Смешно и страшно. А теперь они стояли рядом. Никто не скажет, как это получилось, но, может быть, и не надо объяснять, может быть, всякий это поймет без слова? — А вы хорошо работаете метелкой! — похвалил Масуд. — Думаете, если я барыня, так ничего не умею? — спросила Дильдор и шмыгнула носом, браво и забиячливо. Лицо ее, влажное от долгой работы, от непритворной усталости, было еще прекраснее, потому что стало как-то понятнее и ближе. — Отойдите. А то я вас запылю! — Опять вы меня гоните. Она опустила метлу, которой уже замахнулась, и потупилась, а он подошел почти вплотную и спросил, вдыхая запахи, источаемые ароматическими травами, которыми пользовалась девушка, или самим ее телом: — Почему вы прогнали меня тогда? Из своего дома. Вы не хотите этого объяснить? Не можете? — Могу, — прошептала она. Верхняя губа ее приподнялась в этом шепоте, обнажила белые зубы, а глаза опять опахнули его, и он едва устоял, как будто ударила сильная волна. Волны, как известно, сначала толкают, потом притягивают… — Я жду. — А я вам все сказала уже. Тогда. В тот вечер. Неужели забыли? — Нет, ни слова я не забыл, — ответил он, качая головой. — Я хотел еще раз услышать. — Сейчас? — Всегда. — Пропустите меня. — Сегодня вечером, когда будет гулянье после хошара, мы увидимся? Скажите «да», и я вас пропущу. — Можете пропустить. — Мы найдем себе место… чтобы поговорить… или помолчать. — Где? — В вашем саду. Хорошо? Он хотел показать ей, что ничего не боится. Ответил и бегом отволок в общую гору свой хворост, а потом догнал Дильдор, поднял ее мешок с листьями и оттащил к костру. Девушки, которые ворошили палками листья, горящие в костре, видели это, но даже забыли перемолвиться шутками по этому поводу, только с завистью проводили взглядами молодых людей, направившихся рядышком к месту работы. Видел это и еще один человек. Приподняв со лба обмотку из белого платка, чтобы пот не тек на глаза, на них смотрел Талибджан Обидий, копавший на краю рощи с тремя-четырьмя другими мужчинами яму для негорящего мусора, вроде керамических осколков. Так вот оно в чем дело… — Это ведь, кажется, байская дочь? Не так ли, уважаемые? — спросил он у соседнего землекопа. — Вон та красавица? — Ну да… — С учителем? «Да, пока еще он учитель», — подумал Обидий. А в разговор втянулись все. — Байская, байская… Единственная дочь Нарходжи… Отец в тюрьме. Брат в бегах. Мать дома сидит… — Вот учитель ее и заарканил. — Он ее грамоте обучит! — пискливым голосом заметил один и засмеялся. — Нечего о нашем учителе пакости распускать! Ты любого грязью обмажешь! — А чего я? Хоть сейчас в дружки запишусь на свадьбу. — До свадьбы, может, и далеко, а похоже, дело у них ладится. — Оба молодые. — Учитель — такой джигит! — А Дильдор? Ходжикент красавицами славится, но давно уж не было такой, как она, а может, и никогда. — Ого! Ты скажешь. А Гюльназ, верная жена деда Мухсина? Он ее, конечно, сглазил, за долгие годы, такие долгие, что и не сосчитать, но когда-то… — А ты видал? Тебя тогда еще и в помине не было, когда бабка шастала молодой и обкручивала бедного Мухсина! Кишлачных говорунов только заведи — не остановятся, но Обидий даже и не слушал, о чем они заладили, он следил за Масудом и Дильдор и обдумывал свое, у него были свои заботы. Перед отъездом из Ташкента Обидию рисовалась совсем другая, гораздо более радужная картина предстоящей жизни в кишлаке. Сам сейчас над собой смеялся, наивно, конечно, но мерещились почитание и уважение — вся кишлачная знать ходит по пятам, в горах устраивают охоту на куропаток, каждый день режут барана и готовят плов, дарят на прощанье халат, как полагается дорогому гостю. Ну, это сны, сановные бредни, он не дурак, чтобы принимать за истину то, чем тешилось по молодости его сознание. Но и того, что вышло на самом деле, не ждал… Исак-аксакал издевательски заставил работать в школе. «Пусть на себе испытает, что такое нехватка рабочих кадров!» А теперь, накануне отъезда из кишлака, велел показать свой отчет, докладную, которую полагалось представить наркомату. Обидий попробовал огрызаться: — Она еще не написана! — Напишите. Если трудно, я помогу. — Не вы меня посылали. Почему это я должен вам показывать свою докладную. — Потому что я аксакал, — улыбнувшись, покладисто объяснил Исак. — Разве не слышали — все меня так зовут. Хоп, хорошо, он напишет здесь бумагу. И пока в ней не будет того, что будет написано и доложено в Ташкенте. Глупого «аксакала» легко провести. А доложить о Масуде Махкамове всерьез есть что. Утречком он перечитал жалобу, переданную Халилом-щеголем, и обратил внимание на то, что кроме оскорбления верующих там отмечены и другие «подвиги» нового учителя. Ходил на кураш, боролся под крики и улюлюканье зрителей, а потом собирал деньги… Ничего себе! И — еще: обольщает байскую дочь. Прочитал и прижмурил глаз, даже его это покоробило, такой неправдой показалось, такой выдумкой! А теперь сам увидел. Собственно, гораздо раньше он увидел одну Дильдор и залюбовался ею. Она собирала листья на лужайке, а он трусцой приблизился сзади и залопотал: — Разве может ангел заниматься этой черной работой? Ангел должен парить на облаках и есть райские яблоки! — Ой, посмотрите на него! — прыснула Дильдор. — Послушайте, я из Ташкента… Из важного учреждения. Верьте! — Не мешайте мне, а то я позову кишлачных джигитов. Это не сулило ничего хорошего, и он ретировался, отступил шаг за шагом. А девушка не только не выходила из головы — не исчезала с глаз. Работа, которой она была занята, казалась действительно безобразной для неземного существа, могущего украсить двор любого падишаха. Он не падишах, но и не простой кишлачный житель. Они способны найти общий язык. Ироническое отношение Дильдор обескуражило Талибджана, но ненадолго. Она набивала себе цену, ясно! Надо, значит, попытаться подойти к ней второй раз. — Как себя чувствуете? — спросил он, подкравшись с другой стороны. — Спасибо, хорошо, — ответила она, остановившись и перестав махать метлой. — А я плохо. — Почему? — Заболел. — Надо полечиться. — Где? — У деда Мухсина есть травки. Наш ишан может прочитать молитву. А можете съездить к лекарю в Газалкент, вы ведь важный человек, вам дадут арбу… — Нет, меня могут вылечить только ваши руки, дорогая. Я хотел бы испытать их силу. И тогда… Но Обидий не успел закончить и сказать, что будет тогда. Дильдор его перебила: — Вот как трахну метлой по башке, сразу испытаете. Пошли прочь! Так было с ним меньше часа назад, а теперь она ходила с учителем, с этим высоченным красавцем Масудом, и нежное лицо ее рассказывало обо всем, что связывало их, так откровенно, что можно было не просто догадаться, а за сто верст увидеть. «Ну, это уж выдумка! — подумал он утром, прочитав в жалобе Халила про Дильдор и учителя. — Беспардонная выдумка!» Плохо ты знаешь жизнь, Обидий, слишком веришь людям. Нет, тут все святая правда. Кураш, борьба за деньги… Байская дочь… Байская дочь выдвигается на первый план, на первое место. Связь с ней — это предательство пролетарского дела. Вот как мы расценим твои «подвиги», политический слепец, нравственно убогий пигмей. Да, ты пигмей, несмотря на твои двухметровый рост. Мы распишем и разберемся. Человек, потерявший политическую бдительность, не может учить детей да еще заведовать школой. Ты наносишь непоправимый вред делу образования, Масуд Махкамов, и за это… В разгоряченном мозгу Талибджана рождались живописные фразы, от которых росла приподнятость в душе, как у автора не одной докладной, а объемистой книги. Того автора, что строчит, не останавливаясь, страницу за страницей и по воле неудержимого вдохновения заранее парит в небесах. Так он сочинил две докладных — одну, главную для себя, в уме и одну на бумаге, сев после обеда за стол в школьном классе. Он считал, что утренним присутствием и участием в работе — яму копал, есть свидетели! — уже показал достаточно выразительный пример самоотдачи высокого ташкентского деятеля на кишлачном хошаре и теперь мог уединиться для служебных дел. Через час он показал мелко исписанную бумагу Исаку-аксакалу. Тот прочел, что учеба в ходжикентской школе идет все лучше, что на курсах по ликвидации неграмотности занимается более пятидесяти взрослых, что, к сожалению, школе не хватает… Уж Обидий постарался, чтобы Исак был доволен безупречностью его неравнодушной докладной. Но этот бородач, этот «аксакал», не проживший и трех десятков лет, все же придрался: — Нужно добавить, что вы просите… нет, что мы просим… нет, требуем, чтобы эти вопросы решились побыстрее. Скажем, пять дней хватит? — Я не могу! — Можете! — Но… — развел руками Обидий, тараща глаза. А Исак-аксакал опять улыбнулся и добавил: — А то я поеду к Ахунбабаеву. Я уже один раз был у него, по другому делу. Примет и по этому. Это еще важнее. — Ладно, допишу. — Хоп! Теперь полагалось тихонько пройти к Салахитдину-ишану и попрощаться с ним. В сегодняшней жизни имел вес Исак, этот самый «аксакал», председатель сельсовета. Для завтрашней — ишан. С этим приходилось считаться и держать между ними опасное равновесие, как канатоходцу на доре. Сравнение, которое привел дядя, когда наставлял его перед поездкой. Упал с дора, с каната, разбился, точка. Держать равновесие и помнить, что ишан нужен будущему, нужен делу, потому что он в силу вековых традиций владеет народом. Талибджан, слушая дядю, не сомневался, что так оно и есть. Никто не сомневается в этом вдали, не столько наблюдая за жизнью, сколько воображая ее. Здесь открылись такие неожиданности, он увидел такое, что поколебался в своей уверенности. Умные люди, пожалуй, слишком передоверяли традициям и ошибались. В том числе и дядя. Да, он ему так и скажет об этом — дяде, наркому… Пример? Вот, судите сами. Когда сельсоветский «аксакал» нашел коней ишана в хумсанском табуне и его баранов на богустанском джайлау, когда отнял их, а потом и жен отнял, как овечек, и отобрал у ишана для бывших жен больше половины имущества, Салахитдин посидел, теребя клинышек своей бородки, и решил — он отдаст все. Он потушит старый очаг и уедет из старого дома в новое убежище. Он поселится с дервишами в их хибаре. Для чего? Пусть все вокруг, весь народ пусть увидит, как его обидели, обделили, а он — смиренный и великий в этом смирении — не пал духом, продолжает нести святую службу, оставаясь одиноким и еле живым. Весь народ заговорит об этом. Весь народ его пожалеет. А Советы проклянет. Он многого добьется! Честно говоря, после ухода жен со двора ишана разбежались и работницы, жить одному там стало невозможно. Еще несколько дервишей ушло в товарищество, их манила забытая крестьянская работа, а тут и богатства ишана так оскудели, что не очень-то поживишься. Одни дервиши переметнулись от бога к земле, другие тронулись в путь, ведь дервиши по натуре и образу жизни — скитальцы. Ишан остался с Умматали, давно ставшим из главы дервишей его прислужником. Умматали собрал подушки, одеяла, покидал на арбу, поставил два ящика с посудой, положил охапку священных книг и — в путь. Ишан ждал, что с этого начнутся завывания верующих вокруг и взовьются к небу громкие проклятия Советам. Ничего подобного, дядя. Если бы вы сами видели! Умматали скорчился верхом на запряженной в арбу лошади, а ишан со скорбным лицом восседал на арбе, изображая несчастного. И что? Большинство встречных не обратило на них никакого внимания. Некоторые опускали голову и отворачивались. Может быть, боялись своего «аксакала» и поэтому не проявляли сочувствия ишану? Но зато некоторые просто смеялись и говорили: — Вот вам святой ишан, попрятал коней с баранами. — Жулик! — Сколько ему люди тащат отовсюду, а он таким скупердяем оказался, что даже жены от него сбежали. Ишан буркнул что-то своему кучеру, и тот погнал кобылку быстрее. Так-то, дядя. Но, верный вашим наставлениям, я, конечно, навещу ишана… Обидий пересек рощу, приблизился к кладбищу — в крайнем случае скажет, что ходит перед отъездом на могилы учителей, — и шмыгнул во двор дервишей. С уходом обитателей и дом как-то облез и постарел. Из стен торчали концы соломы, в пустом, безлюдном дворе — ни деревца, ни цветка, дувалы потрескались, и каждая трещина такая, что издалека видна. Хороши обитатели! При первой беде разбежались, как крысы с тонущего корабля… Окна в доме были занавешены, но, когда Обидий открыл дверь, стало видно, что в углу из многих одеял сооружена постель, и на ней лежит ишан, а Умматали сидит рядом и обмахивает его веером из птичьих перьев. Увидев дорогого гостя, он вскочил, и согнулся в поклоне, сложив руки на животе. Сначала Обидию показалось, что Салахитдин-ишан не узнал его. — Здравствуйте, ваше преосвященство, — сказал он, — это я… Наклонившись над ишаном, он заметил в лучеобразной полосе света от двери, что у того текут слезы по щекам, и острое чувство жалости, обиды, ненависти к виноватым в низвержении ишана пронзило душу. Как-никак, а этот человек был не просто человеком, бог с ним и со святостью, и с самим богом, но он был символом народного объединения вокруг веры, символом власти, да, власти, дядя прав. А теперь… — О боже, — прошептал ишан, — есть еще люди, желающие нас видеть! Спасибо вам. Жаль, я встать не могу. — У его преосвященства высокая температура. Всю ночь бредили. Дал ему травяной настой и аспирин. Слава богу, к утру стало легче. Ишан что-то шептал, и Обидий опустился на колени, чтобы услышать: — Улемы… Ходжикент… Паломничество осквернено и уничтожено… Ишан без дома, без имущества… Священная война… «По-моему, он опять бредит», — подумал Талибджан, но ничего не сказал. Ишан бормотал дальше, и Обидий закивал: — Хорошо, ваше преосвященство, я все передам. Есть ли у вас на что жить? — Слава богу, — сквозь стоны прошептал ишан довольно внятно, — доходы от мечети, от кладбища остались. — Кое-кто из паствы сюда приходит, — прибавил Умматали. «Все же приходят!» — успокаиваясь хоть немного, подумал Обидий. — Я уезжаю сегодня, ваше преосвященство. Пришел попрощаться и сказать — не падайте духом. Даст бог, наступит желанное время. Ишан молчал, а Умматали закланялся, повторяя: — Дай бог, дай бог… Уехать Обидий собирался завтра утречком, но вдруг захотелось скорее оставить этот кишлак, этих людей — Исака-аксакала, Масуда и всех других, и он, выскользнув из дома дервишей и скрывшись в роще, решил, что сейчас же оседлает своего коня и уедет сегодня же, как сказал ишану. В школе штукатурили, белили, красили. «И тут от них нет покоя!» Обидий отыскал в углу, на полу, свой портфель и спрятал в него докладную, которую носил в кармане. «Выеду за кишлак, порву и выброшу… А может, еще пригодится». С портфелем под мышкой он вышел на веранду и увидел Масуда, работавшего тут. Он стоял на лестнице и вколачивал в стену штырь для лампы, а внизу разводила в ведре известку для побелки… кто? Конечно, Дильдор! Они не разлучаются. «Ничего, я вас разлучу». Он окликнул Масуда: — Попрощаться хочу! Масуд быстро спустился с лестницы. — Чего так? — Дела! Нужно засветло добраться хотя бы до Газалкента, заглянуть к районным просвещенцам. — Мне рассказывал председатель, что вы хорошую докладную приготовили. Спасибо, товарищ Обидов, — улыбнулся Масуд и протянул руку: — Рахмат, Талибджан. Попрощались, как друзья. Похлопали друг друга по плечам и даже обнялись. Через полчаса смирный конь вывез его в еще зеленую пойму реки, оставив за спиной чинаровую рощу и кишлак. Река была здесь вдвое шире, чем у мельницы Кабула, солнечные лучи играли на ней, впереди зеленая долина расширялась от небосклона до небосклона, а сзади золотились и синели горы. «И все это отдать им, голодранцам? — подумал Обидий. — Никогда!»ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Есть дела, которые не обходятся без риска, даже без смертельного риска, и Кабулу-караванщику в один день пришлось второй раз засветло спуститься в свой тайник. Он предупредил Шерходжу об интересе чекиста к мельнице, а главное — к бугру, замеченному его зловредным глазом возле нее. О том, что надо уходить. Немедленно. Шерходжа не спорил на этот раз и никого не осуждал за робость, все было слишком серьезно. Камень, висевший над ними, сорвался с горы и подкатывался. Молча посидев в задумчивости минуты две, как сидел он всегда перед значительными решениями, покусывая усы, Шерходжа встал и начал переодеваться в паранджу, принесенную мельником. Договорились, что выйдет он в парандже. Темнота еще не наступила, а ждать было нельзя. Переодевшись, Шерходжа протянул свой маузер: — Замира принесет, если бог даст. — Может, лучше взять это с собой? — спросил караванщик. — Не лучше. Если попадусь без этого маузера, никогда не докажут, что я стрелял из него в их учителя, чтоб ему… — Шерходжа выругался. — А если с ним… Нож возьму! Он сунул нож за пояс, под рубаху, и закашлялся. Кабул ждал и думал: много времени провел здесь, курил, перекоптил себя, накопилось хрипа в легких. Ничего, горло молодое, выдержит… — Новый учитель их, Масуд, вооружен, — напомнил он. — Точно? — Я вам говорил — он Нормата вел из дома дервишей. А руку держал в кармане. И наган оттопыривался. Я сам видел. В щель. Мимо меня вели. А уж я поносил в карманах оружия. Знаю! — Чекист, наверно, этот учитель. Подлец! Больше Шерходжа не сказал ничего. Значит, пойдет без маузера. — Где вас искать Замире? — В моем саду. Кабул вытаращил испуганные глазенки, а Шерходжа еще раз кашлянул и сказал: — Прятаться лучше там, где они и не ждут — считают, опасно! Я же, мол, не дурак! А я дурак! Он коротко хохотнул, а Кабул в который раз поразился его смелости и самообладанию. Да, встречал он на своем веку настоящих храбрецов и рискованных людей, бесшабашных головорезов и отчаянных любителей походить на краю у пропасти, были такие, что сами называли себя романтиками смерти, но таких, как Шерходжа, холодных и невозмутимых, тяжелых на вид и моментальных на точные решения, кажется, не попадалось. Помоги ему бог! Шерходжа вышел из подземелья, постоял внутри мельницы, глядя сверкающим глазом в любимую щель Кабула, привыкая к дневному свету и к тому, что делается на улице, а потом хладнокровно вышел наружу и женской походкой засеменил мимо чайханы вверх по мостовой, к дому ишана, а там можно было среди кустов, по зеленой тропе, пробраться в байский сад, свой сад. Всюду следить за тем, кто куда движется, не могут, а если за мельницей уже установили слежку, то женщина, идущая по мостовой, меньше подвергается угрозе быть остановленной и схваченной, чем женщина, пробирающаяся задворками, лазейками, тропой у реки. Кабул, не услышавший ни выстрелов, ни криков, ни шума после того, как выбрался на волю Шерходжа, тоже оставил подземелье и даже успел увидеть в свою щель, как фигура «женщины», идущей не медленней и не быстрее, чем надо, фигура Шерходжи, скрылась за домом ишана. Бог помог! Если все обойдется, ночью Замира выведет его из сада. Кони уже будут приготовлены к отъезду. И тогда — ускачут, кажется, ускачут! Только бы дед Мухсин не попался им по дороге, не сглазил. Лучше сейчас не загадывать, не думать о том, что будет ночью. Но мысли возвращались к этому часу, торопили его. Хотелось скорее услышать топот конских ног. Замира — молодчина, не каждый джигит за ней угонится. Говорят, ищи ветра в поле. А в горах и вовсе не найдешь. Тьфу, тьфу, тьфу! Спаси, боже, от дурного глаза и слова. До вечера Кабул крутился в чайхане, весело разговаривал с людьми, но смертельная бледность не сходила с его одутловатого лица. Кажется, иногда он сам видел себя со стороны, поражался, как бел, и удивлялся, почему никто не спросит его об этом, не заинтересуется, отчего. Нет-нет да и кидал он взгляды на дом милиции, ждал, что вот появятся оттуда Трошин с Батыровым и направятся прямиком к мельнице быстрым и резким шагом. Не появлялись. День кончался, а люди все еще работали, спешили сделать побольше, готовились к веселью. Дети собирались посмотреть, как их старшие братья и сестры и родители, смыв с себя пыль и приодевшись, будут петь и плясать, радуясь успехам. «Ничего, мы тоже порадуемся, — думал Кабул, — и у нас будут свои успехи, этот день и нам на руку». И снова молился, искоса бросая взгляды на милицию и вздыхая с облегчением оттого, что русского чекиста не было видно. В это самое время Трошин сидел в комнате председателя сельсовета вместе с Масудом и делился своими соображениями. Масуд слушал, потирая высыхающий от пота лоб рукой, вымазанной красками и побелкой, потому что он со всеми работал, всем помогал, пока его не отозвал сюда Алексей Петрович. Масуд спросил, когда тот замолчал: — Считаешь, что Шерходжа на мельнице? — Может быть… Пока твердо уверен, что под этим бугром должен быть подвал. — Почему? — Потому что куст на нем — сухой. Отчего он засох возле реки? А? — Не знаю. — Оттого, что под ним нет земли. Пусто. — Ого! Прозорливец. Под землю смотришь. — Ты не смейся, это просто. В деревне, у бабушки, еще мальчишкой я видел — на всех дворовых погребах, на подвалах стоят деревца, маленькие и сухие. Под корнями — воздух. Воздух листьям нужен, а корням — земля. Запомнилось… — А с чего они растут на подвалах? Кто их сажает? — Никто, горожанин. По осени летят себе семена с деревьев, цепляются за бугры, застревают. И прорастают. Да ненадолго. Сама природа сажает… А этот куст мог высохнуть и оттого, что под его корнями яму вырыли. Недавний, похоже, подвал. Узнать, ходит ли в гости к мельнику мать Шерходжи, старшая жена бая Фатима-биби. Если он там, она может навещать его. — Ходит, — ответил Масуд решительно и определенно и добавил, замявшись: — Но, может быть, она просто в гости… — Наше дело проверить все. Никто сам в руки не пожалует из этих… Тем более Шерходжа. Ходит к мельнику Фатима-биби? — Да, — коротко ответил Масуд. — Знаешь? — Да. — Бываешь в доме у Дильдор, когда ее матери дома нет? Масуд молчал. Алексей Петрович встал и прошелся во комнате, заскрипев сапогами. — Слушай, ты, может быть, милуешься с ней, когда мать ее сидит с Шерходжой и кормит сына, убившего твоих предшественников. — Ты еще не установил этого! — Предполагаю. Есть на это резон. — Предположение еще не факт! — Я предполагаю с бо́льшим основанием и правом, гораздо большим, чем твое, с которым ты отвергаешь. — Прости. — Я ждал, что ты одумаешься, — сказал Трошин, остановившись. — Страсти тоже перекипают, как все на свете. Он смотрел на Масуда строго и даже недоброжелательно. Непримиримо смотрел. И Масуд тоже встал, поежился, выпрямился, вскинул голову. — Это не такая страсть — перекипело, забылось. Я люблю Дильдор. Трошин тяжело вздохнул, как будто ему что-то неподъемное положили на плечи. — Как хочешь, а я с тобой совсем здороваться перестану. — Ты? — Да. Я первый, если… — Если что? — Дильдор предаст тебя, меня, всех. Ты понимаешь свою ответственность? — Я верю ей. — Почему? — Потому что жизни верю. Иначе нечего жить. Трошин сел, посидел немножко, вынул папиросы, свою всегдашнюю «Нашу марку», закурил. — Едва стемнеет, мы должны начать. — Я понял, — сказал Масуд. — Операцию «Мельница». В роще жгли костры, при их свете по сури новой чайханы разносили посуду, принесенную людьми из домов. Дымились пары и ароматы над котлами с пловом. Закипали самовары. Звучала музыка. И всем верховодил неуемный и неустающий Исак-аксакал, привлекая к себе на помощь всех веселых и голосистых, которые сегодня как следует поработали на хошаре. А по мостику над арыком к мельнице подошли трое, — Трошин, Батыров и Масуд. Огибая мельницу, они проверили все ее двери — они были плотно закрыты на тугие засовы. — Там, где бугор, — тихо сказал Трошин, — есть калитка со двора. Перемахнув через дворовый дувал, они оказались в саду мельника. Дом светился одиноким окном в отдалении, а к ним, зарычав и залаяв, поднимая шелест листвы, засыпавшей землю, большими прыжками приближалась собака, огромная и легкая, подобно тигру. Масуд шагнул вперед, навстречу ей, сунул руку с наганом в шумно дышащую пасть и спустил курок раньше, чем собака сомкнула челюсти. Приглушенный выстрел прорвал ночную тишину. Собака опрокинулась. Там, где звучала музыка, вряд ли слышали этот выстрел из-за шума реки. К музыке там прибавились песни. А здесь, в доме, должны были бы слышать, однако из дома никто не вышел, не выглянул. — За мной! — скомандовал Трошин. Калитку к мельнице нашли быстро — она была приоткрыта. Зато, углубившись в гущу кустов, не сразу наткнулись на сухой, И едва Трошин коснулся его рукой, как Масуд, наступивший на деревянную крышку, шепотом вскрикнул: — Вот! С крышки были отгребены, откинуты ветки, в обилии валявшиеся на запущенном кусочке земли тут и там и все время ломко похрустывающие под ногами. Трошин махнул рукой с наганом — сойти с крышки на шаг-другой в сторону! — Раз она не замаскирована, там кто-то есть. — Что будем делать? — Ждать. Они говорили одним дыханием, прислоняя губы к ушам друг друга. Минуты тянулись долго… Но вот крышка откинулась, и показалась круглая голова мельника, а потом и его толстое тело высунулось из лаза по грудь, и Трошин приказал ему тихо и просто, как-то совсем по-будничному: — Руки вверх! Мельник даже не понял сначала, к нему ли это относится и не почудились ли эти слова, но руки медленно начал поднимать, так же медленно пытаясь попятиться назад. — Стойте, стойте, выстрелю, — тем же голосом предупредил его Трошин, подходя. — А теперь спускайтесь, мы пойдем за вами, в гости пойдем. При свете оплывшей свечи, коптящей в нише коридора, они увидели кирпичные ступеньки под собой, а потом и сам коридор и дверь. Кабул вел их, качаясь и ударяясь об одну и другую стенки, но не опуская рук. Перед дверью остановились. Батыров попробовал ее и показал руками и глазами: закрыта. — Скажите, чтобы открыли, — тихонько велел Трошин, приставляя наган к виску мельника. Тот повертел поднятыми руками и ответил еле слышно: — Стукните три раза. Но едва Батыров начал стучать, Кабул-караванщик крикнул: — Не открывай! ГПУ! Он и сам не смог бы объяснить себе, что заставило его закричать. Там была одна Замира. Правда, с маузером Шерходжи и хумом золота, но она одна. Несколько минут назад ему послышалось, будто в саду залаяла собака, он пошел проверить. И вот… Зачем он закричал? От отчаяния. Замире не выйти, не уйти, не увидеть синих далей Синцзяна. Все рухнуло. Крушение, в которое не хотелось верить, стало уже фактом. Но верить все равно не хотелось, и поэтому он закричал. Все, и он в том числе, сразу же отшатнулись от двери. — Еще слово, и голова вдребезги! — крикнул мельнику Трошин. Мельник кивнул. Сознание возвращалось к нему, он хотел даже сказать Замире, чтобы открыла дверь, но его опередил сам русский чекист. — Нас здесь больше, — сказал он. — Сопротивление бесполезно. Немедленно откройте дверь и сдавайтесь! — Там одна моя дочь, одна дочь, — хрипло заплакал Кабул, а из комнаты, сквозь дверь, началась беспорядочная стрельба. В первую же передышку Масуд подскочил к двери, ударил в нее ногой и выбил доску — пули теперь полетели в пробоину. Вторым ударом он высадил из стены комнаты кривой крюк, державший дверь на запоре, она распахнулась, и все увидели Замиру, сидевшую на полу. Она держала маузер двумя руками и стреляла наугад. Пули ранили в плечо вскрикнувшего отца и задели левую руку Трошина. Масуд в прыжке свалил дочь мельника, вырвал маузер. Замира кусала Масуда и пыталась отбиваться ногами. И пока он ее же платком связывал ей руки за спиной, ругалась самыми непристойными словами. — Ну вот, — сказал Трошин. — Остановите дочь, караванщик. Говорят же, что от таких слов и змея сбросила бы шкуру. Он повторял запомнившуюся пословицу, а Масуд, разорвав скатерть на полоски, перевязывал ему руку. Подозвал и караванщика: — Идите сюда! — И потуже перевязал ему плечо. — Не совестно? Отца ранила. — Всех бы вас убить! — крикнула Замира и заревела. — Хватит! — оборвал ее Трошин. — Где Шерходжа? Поскольку Замира затихла и молчала, он перевел глаза на мельника. — Какой… Шер… ходжа? — спросил тот запинаясь. — Которого вы здесь скрывали. — Здесь? Ха! Здесь его не было, начальник! Только дочь… Теперь усмехнулся Трошин и по-крестьянски, от плеча до плеча, с ребяческим удивлением покачал головой. — Кто у вас дома? — Мать… жена… Айпулат… Я ее матерью зову… Она старая… Мы женились, когда оба у Нарходжабая работали, надрывали свои… — Вы мне зубы не заговаривайте! — перебил Трошин и властно и грозно. — Что же дочь — не ужилась с матерью в доме? Под землю ей захотелось? — Да, она не ладит с матерью. Давно ругается. Слышали, как она ругается? Ничего не могу сделать! — Даже в другом доме не могли поселить? Спрятали от мамы в подземелье? — Алексей Петрович повернулся к Батырову, который осматривал комнату. — Надо допросить Айпулат. — Не спрашивайте ее, начальник! — закричал неожиданно визгливым, поросячьим голосом Кабул. — Она умрет от страха. Она ничего не знает… слабая женщина! — и повалился перед Трошиным на колени, а Батыров, закативший одеяла, тоже вскрикнул: — Сделали тайник в тайнике! Гады! Здесь была не деревянная крышка, как наверху, а небольшая каменная плита, которую он в остервенении попытался поднять один и уронил. Масуд помог ему. Замире, стоявшей рядом и смотревшей на Батырова так, как будто она и взглядом могла убить. Трошин приказал: — Отойдите. В яму был вколочен сундук. Откинули его крышку и начали доставать — ручной пулемет английского происхождения, два ящика с патронами для него и еще один с патронами для маузера, точно такой, как нашли в сундуке Фатимы-биби, только тот был пустой, четыре ножа исфаганской стали, шубу из куницы, а под ней два хурджуна, до половины заполненные золотыми и серебряными монетами, и кожаный мешочек с нитками жемчуга. — Все для дочери? — спросил Алексей Петрович у мельника. — Конечно! Ее приданое. — И ручной пулемет — в приданое? Хватит! Вы же сами предлагали мне не играть в прятки — взрослый человек. Где Шерходжа? — Не было его здесь! — закричал мельник. — Отвечайте. От этого зависит ваша жизнь. Кабул замычал, как немой. Замира смотрела на отца так, точно обещала задушить своими руками, загрызть, если он откроет рот. — Откуда это? — Трошин показал на оружие. — Не скажете? — Скажу. Басмачи оставили. Они сделали тайник. Давно хотел признаться, да боялся — не поверят. Вот и вы не верите. — А что вы здесь с дочкой делали? Сейчас. Басмачей вспоминали? Кабул молчал, и Замира перестала есть его глазами. В комнате становилось все более душно. Дыры наружу, для воздуха, хозяева заткнули на ночь, скрывая от людских глаз свет лампы. — Ясно, — сказал Трошин. — Пошли. Когда вывели арестованных из подземелья, Трошин еще раз проверил, как связаны их руки, и приказал Батырову отвести в милицейский участок. Время было дорого, и с Масудом он решил немедленно осмотреть и обыскать дом мельника, распорядившись, чтобы Батыров разделил арестованных и все время допрашивал Кабула. Была надежда, что его дрожащая душа рассыплется, хотя он пробормотал, уходя: — Шерходжи в Ходжикенте… нет! Но, похоже, это только для дочери. В доме ничего не обнаружили. Ничего и никого, кроме жены мельника, Айпулат, сморщенной, болезненного вида старухи, некогда, как можно было догадаться, видной собой. Она действительно ничего не знала, ахала, много плакала и на вопрос Трошина, приходила ли к ним Фатима-биби, искренне ответила: — Нет, нет… — Припомните, тетенька. — Накажи меня бог, ее у нас не было! Я не видела. А она ходила сюда. И, значит, ходила к Шерходже. — Не будем терять времени. Айпулат, перебирая слабыми ногами, выплыла за ними на темную веранду, протянула руки: — А где Замира? Где дочь? Отец где? Похоже, она ничего не знала и о тайнике. Два коня в конюшне, приготовленные седла не оставили сомнения в том, что Шерходжа с Замирой сегодня собирались бежать. — Он здесь! — сказал Трошин. — Он где-то здесь! Надо обыскать весь кишлак. Я, конечно, шляпа. Гнать меня из ЧК! Не установил наблюдения за мельницей. Шерходжа мог выйти после того, как я испугал Кабула дневным разговором. Гнать, гнать! По дороге к сельсовету он соображал вслух, что сейчас надо срочно позвонить Саттарову, чтобы постарались закрыть все дороги в горы, к перевалу. Если Шерходжа бежал из Ходжикента, то сегодня. Может быть, попросить Саттарова, чтобы прислал сюда людей на помощь, и сказать Исаку-аксакалу, чтобы мобилизовал всех надежных людей на поиск Шерходжи. — Надо перерыть кишлак. — Начиная с байского дома, — подсказал Масуд, все время чувствуя себя виноватым. — Беглец не прячется в своем доме, я думаю. — А может, потому и спрятался, что ты так думаешь. — Ты хорошо знаешь этот дом? Там есть где спрятаться? — Я был в нем всего два раза. Один раз вместе с тобой, когда ты взял меня понятым, и один раз в гостях. Масуд едва не прибавил, что сейчас в саду его ждет Дильдор, но Трошин без того был сердит, не стоило его раздражать, да и вряд ли Дильдор все еще ждет его у арыка, где они условились встретиться с началом гулянья. Оно кончалось. Люди расходились. Устали, а завтра — своя работа, поля. Три девушки двигались навстречу, щебеча о чем-то. Масуд с Трошиным отступили в тень от дерева, улицы в кишлаке не освещались, и легко было спрятаться. Стало слышно, как девушки переговаривались: — А учителя не было. — Так жалко! Я думала, он споет. — Он работал больше всех. Утомился. — Ну да! Укрылся где-то с Дильдор, ее тоже не было, — добавила самая смешливая. «Оборвать! — подумал Масуд. — Трошин прав: оборвать эту любовь. Нет Дильдор. Уже говорят о нас. Позор… Оборвать! — приказывал он себе. — Особенно после сегодняшнего… Смешно — любовь. Все ясно. Трошин прав!» — повторял он. — Может быть, у меня затмение… Может быть, он в своем доме… — проронил Трошин, когда они подходили к сельсовету. — Вряд ли. Слишком рискованно. Ты прав. А еще думалось: тогда Дильдор должна бы прибежать, прилететь, сказать, что брат появился… Прилететь? Выдать брата? Ты в самом деле с ума сошел, Масуд. Все! Он не пойдет к Дильдор даже для того, чтобы сказать одно это слово: все. Будет каждый день здороваться с ней, как с обыкновенной девушкой, курсанткой. Ничего объяснять не придется, потому что это само собой и означит конец. — Сходи в сад, осмотри на всякий случай. Только обязательно возьми с собой кого-нибудь, например Кадыра-ака. Пока я позвоню Саттарову и буду разговаривать с Исаком-аксакалом, ты сходи. — Хорошо.ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
У человека нет счастливее того дня, когда разрывается тяжкая цепь одиночества. Казалось, ты обречена на него, молодая, а живешь, как в могиле, без доброго людского слова и привета, даже взгляда, и вдруг… находишь друзей, работаешь вместе с ними, смеешься, слушаешь песни и даже сама… сама поешь! Столько дней, столько месяцев, столько лет носила камень на сердце, а вот — от него не осталось и следа. Когда Масуд во время хошара пел о горянке, которая гордо вырвалась из внутреннего двора, как из клетки, окруженной земляными дувалами, скинула с лица затемняющий мир чачван и пошла в школу, потянулась к знаниям. Дильдор казалось, что это он пел о ней, для нее сочинил эту песню. В эти годы она не раз думала о себе, о том, какую страшную, какую несправедливую жизнь уготовила ей судьба, предопределил бог. И только сейчас поняла, что твоя жизнь — это не судьба, не бог, это — ты, ты сама. После работы она нагрела воды, вымылась вся, оделась перед зеркалом, стоявшим в углу комнаты. И когда одевалась — пела… Она и не замечала этого, но мать крикнула с веранды: — Перестань, бесстыдница! Лишь тогда она заметила, что напевает, и умолкла. — Иди сюда, — позвала мать. — Ко мне. Мать смерила ее ненавистным взглядом, как чужая, а ведь это была мать. Ее взгляд подействовал на девушку хуже ведра ледяной воды, которая заливает и тушит самый жаркий огонь. И Дильдор вся сжалась в комок, похолодела. Как обычно, мать сидела на нескольких слоях одеял со своими четками в руках — у нее не было другого занятия. И дочери велела, тряхнув четками: — Садись! С угасающей душой Дильдор тихонько опустилась подальше от нее, а мать желчно сказала: — Отец в тюрьме — дочка поет. Брата нет — сестренка поет, — и замахнулась на нее четками, но не достала. — Куда разрядилась? Не пустит она ее сегодня из дома, ни на шаг. Сейчас прикинется умирающей. — За что вы меня клянете, мамочка? Мне жить хочется. Если отец не виноват — его отпустят. Если брат в бегах, наверно… От кого он прячется? Пусть придет. — На хошар? — ехидно спросила мать. — Что ты там делала? — Подметала в роще. Столько сору! Плечи и грудь матери задрожали, какие-то глухие звуки вырвались из нее. Она пыталась захохотать. — И Шерходже взять метлу? Улицу мести? Он еще не потерял чести и достоинства, не дождетесь. — А я потеряла? — Еще спрашивает… Неизвестно, что случилось, как будто резкий ветер дунул на последний уголек в душе, и он вспыхнул огнем. Дильдор взбунтовалась: — Не о чести, не о достоинстве вы жалеете! О потерянном богатстве, будь оно проклято. За богатство всех готовы удушить, отравить, убить. Даже меня! Но мать не изменилась в лице, ни одна складка на нем не дрогнула, она пропустила ее слова, точно и не слышала. — В школу ходишь… — Мне сам Шерходжа велел! — Зачем? — А зачем он мне велел? — За учителем следить! Он тебе приказал это… А ты? Учишься, пишешь, сияя от счастья, по домам бегаешь, если умные женщины пропускают занятия, других в школу гонишь. — Да! Все учатся, и я хочу учиться. Для этого и открыли школу. Бегаю — меня старостой выбрали! — Тварь! Дильдор вскочила. — Не боюсь я вас. — Шерходжа предупреждал тебя: пойдешь учиться — убью. — И Шерходжи не боюсь! Фатима-биби ударила четками по одеялу. — Вон! Сегодня же вон из дома! — И уйду. — Куда? — насмешливо спросила мать. — Буду учиться. Буду улицы подметать. — А есть что будешь? — Болтушка бедняков приятнее, чем ваш плов. — А жить где? — Мне помогут. — Кто? — Фатима-биби вновь задергалась в хриплом хохоте. — Еще наплачешься. Немедля вон! Дильдор бежала по саду, а в висках стучало все сильнее. Как молотками били. Каждый удар отдавался нестерпимой болью. Ничего… Сейчас увидит Масуда и все ему расскажет. Все. И про то, что Шерходжа приходил домой. И про то, что наказал ей следить за учителем. За Масудом. Смех, ей-богу! То, что она пошла учиться, — это грех, а это разве не грех? Давать такой наказ сестре — это не грех? Грозить — не грех? Сейчас увидит Масуда… Но Масуда не было там, где она должна была увидеть его. Время шло, а он все не приходил. Из рощи доносились музыка и песни. Люди веселились, и он, наверно, веселится с ними. Все веселятся. Дильдор прислушалась — она сразу услышала бы и узнала его голос, но не слышала, как ни напрягалась. Где же он? Она ходила взад-вперед у арыка, по которому едва текла слабая осенняя вода. Предзимняя. Скоро затихнет, замерзнет. Ноги устали. Дильдор остановилась и ждала. Не пришел. А ведь было… Было, что она плакала на его груди счастливыми слезами. Были взгляды сегодня… И слова, каждое из которых значило больше, чем сказано. А может быть, ты ничего не понимаешь в жизни, девочка? Вот стоишь, щупаешь в ушах свои любимые серьги с изумрудными камешками. Нацепила браслет с рубином. Все для него, для учителя. А его нет. И не видно и темноте твоего атласного платья, огненного при свете дня. Для него надела… А он не пришел. В темноте сада шевелились ветки, будто кто-то ходил. Дильдор оборачивалась на каждый шорох, но ничего не видела. В темноте сада увидеть трудно, все в нем сгустилось, и деревья, и ветки, и сам мрак. Мрак ночи. Снова ночь заполняла жизнь… — Дильдор! — Масуд! Она едва удержалась, чтобы не кинуться, не прильнуть к нему. Наверно, оттого, что, испугавшись, схватилась за сердце, и это остановило. — Вы всегда… так неожиданно… Ну вас! Вы пугаете меня. — Здесь больше никого нет? — Опять? — спросила она, и каждый звук сразу отяжелел, еле выговорила. — Вы были дома? Он не видел, что она переоделась. И голос его, без единой живой, теплой нотки, звучал откуда-то сверху. Когда она одевалась, то чаще видела в зеркале его, чем себя. А на себя смотрела разве только для того, чтобы вообразить, как едва дотянется ему до плеча, и смеялась. И пела. Это было давно, сто лет назад. Это было в другой жизни. — Да, была, конечно, — ответила она, пригнувшись и съеживаясь. — Шерходжа не приходил к вам? — Шерходжа? — Она распрямилась и как будто вытянулась, стала вровень с ним. — Приходил. Все равно она скажет ему все. Скажет и уйдет. Куда? Еще не знала. — Когда? — допрашивал он. — В тот раз… За несколько минут до вас, до того, как вы пришли. Я и прогнала вас, потому что боялась, что он вернется… У него — оружие. — Я знаю. — Незадолго до обыска… когда вы тоже были у нас… того самого обыска… Шерходжа унес из сундука матери тяжелый узел и такую же коробку, как вы нашли. Ваш русский… Только не пустую унес, а тяжелую… Это он убил первых учителей. — Вы знали? — Я так думаю сейчас… Потому что он велел мне следить за вами и обо всем рассказывать ему. — Почему вы мне не сказали раньше! Это было не вопросом и не упреком, это просто вырвалось у него как сожаление. — Не могла… Он мой брат. А сейчас говорю. — Вы знали, где он прячется? — Говорили, в горах. — Он жил у мельника. — А! — вскрикнула Дильдор. — Замира его невеста… И мать ходила туда… — Если бы раньше! Если бы раньше… — Масуд! Вы говорите со мной, как чекист, а не… — Она заплакала, но уже не решалась прислониться к нему. — Я? — Да! И тогда он сам шагнул к ней, и обнял, и прижал к себе, повторяя: — Дильдор, Дильдор… Верьте мне, верьте! Любимая моя… Я буду с вами, всегда, всю жизнь. Я хотел бы крикнуть об этом на весь мир. Чтобы горы затряслись, так громко я хотел бы об этом крикнуть. Вы смелая, самая смелая и чистая девушка в этом мире. Мы будем счастливы! А Дильдор плакала не затихая и спрашивала его: — Кто вы? Учитель или чекист? — Я ваш суженый. Я человек новой жизни… Мы будем вместе. Вы хотите этого? — Да. — Идемте со мной. — Зареванная? Вот такая? Вам надо идти? Бегите! Я знаю, вас ждут дела… что-то важное вас ждет. Бегите, — повторила она. — А я буду ждать вас еще. Здесь. Вы придете? — Через пять минут. Успокойтесь, родная, дорогая моя, самая лучшая на земле. — В Ходжикенте хотя бы, — перестав плакать, улыбнулась она. — Нет, на всей земле! Ей больше ничего не надо было, и она опять попросила: — Бегите. — Я сейчас… Вот когда он пожалел, что не послушался друга и не взял с собой никого. Он спешил, а Кадыр-ака убирал посуду с загроможденных ею сури «красной» чайханы. Сказать бы ему: «Потом уберете!» Сейчас бы оставил его с Дильдор. Но не надо обманывать себя. Он пошел один, потому что надеялся увидеть Дильдор. Конечно, она должна была давным-давно уйти от арыка, где они условились встретиться, но она ждала его. А в саду никого не было. Он осмотрел сад, дом, даже сундук приоткрыл под жуткий смех Фатимы-биби, и еще раз обошел весь сад. Никого… Сейчас передаст Трошину слова Дильдор и вернется. Из предположений преступления Шерходжи становились реальностями. И сам он — здесь, сколько бы ни мутил воду мельник. Скорей. Он снова пробежал мимо дома, на веранде которого горела лампа, зажженная старухой еще при нем, и перемахнул через дувал, сокращая путь. А Дильдор умылась из арыка, прислоняя к лицу холодные ладони, вытерлась подолом нарядного платья и подумала, что прогуляется и подышит. Ночь уже не казалась ей такой страшной. Она вошла в виноградный туннель. Лоза еще не обронила своей одежды, листья держались на ней дольше, чем на деревьях, и эта дорожка в винограднике чудилась защищенней других. Родные листья оберегали. И когда ее схватили за руку, первая мысль мелькнула — Масуд вернулся и опять решил напугать ее, пошутить. Но другой голос сказал: — Постой, красотка! И это был голос Шерходжи. Она опешила, но спросила вызывающе: — Чего тебе? — и дернула руку, однако он сдавил ее крепче, донельзя. — Да вот, пришел попрощаться с матерью… А придется с тобой, сестренка… Я все слышал. На плечах его была паранджа, а под нею — халат и рубаха, она разглядела это, когда он рывком задрал их и выдернул из-за поясного платка нож. Было темно, в виноградную аллею не проникали ни земные, ни небесные лучи, Дильдор не увидела ни лунного отблеска на лезвии, ни самого ножа, но догадалась, что это нож, по движению руки брата, по замаху. Он остановился с поднятой рукой и заговорил, словно оправдывался перед ней или хотел ее, еще живую, сначала исхлестать словами. — Я слышал, как вы тут изливались… с этим… с учителем… Ты неосторожна, сестрица! Жаль, что я без маузера, я бы укокошил его сначала. Я мог бы догнать его и с ножом, да предпочел тебя. Не мог тебя отпустить, предательница! Никогда не поверил бы, что любимая сестра предаст меня. О боже! — Бога не вспоминай, — попросила Дильдор. — Если он есть, то видит мою чистоту, а у тебя единственная профессия — убийца. Убийца! — крикнула она ему в лицо. Удар острого ножа не принес ей боли, она услышала только тепло от крови на плече и, боясь, что не успеет всего сказать, зачастила: — Твои безвинные жертвы потащат тебя в ад, братец! Не дадут спокойно лежать в могиле… А! А! Если бы он не держал ее, вцепившись рукой, Дильдор давно бы свалилась, но он не давал ей упасть и бил ножом то сверху, то снизу. — Вот тебе ад. Иди туда первая. Ты не будешь счастлива, сучка! — Я уже счастлива, — прошептала Дильдор, сползая по его телу ниже, ниже, к земле…ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Масуд нес ее на руках, прижав к себе, и рубаха его намокала, ему не хотелось в это верить, чувствовать это, но кровь уже стекала каплями по груди. Ее кровь. Едва он перемахнул через дувал, на донышке сердца начало биться беспокойство. Когда добежал до сельсовета, оно так выросло и сердце так заныло, что он свернул в школу и послал в сад, к Дильдор, Салиму и тетю Умринисо. И только рассказал Трошину о признании Дильдор, в комнату ворвалась Салима. Бледная как полотно. И вот он нес Дильдор. На своих руках. По всему саду, за его спиной, мелькали «летучие мыши», фонари, и пылали факелы. Люди искали Шерходжу. Там Трошин. Алексей. Он найдет. В этом не было сомнений, и об этом не думалось даже. Только о том, что она не может не жить. Так нужно было, чтобы она сказала ему хоть слово. Обвинения, проклятия, неважно какое. Простонала. Позвала мать, подругу, неважно кого. Показала, что она живая. Только это было нужно. Но она молчала, свесив одну руку, безвольную, бессильную, как подрубленная, сломленная ветка. Тонкая ветка. И сама — невесомая… А была ли у нее подруга? Может быть, у нее никого не было, кроме него? Она, кажется, говорила… Когда он ступил на веранду дома в саду, ее мать перестала перебрасывать по нитке бусины своих четок и спросила: — Кто это? — Ваша дочь. Фатима-биби поднялась, попятилась, прижалась к стене и застыла, как прибитая к ней. — Кто ее? — спросила она хрипло, почти без голоса. — Ваш сын. Масуд положил девушку на стопу материнских одеял, и в это время Дильдор открыла глаза, увидела его. Она увидела его, губы ее шевельнулись, сложили слово, которое он скорее угадал, чем услышал: — Масуд-акаджан… — Есть кошма? — громко спросила за его плечом Салима у неподвижной Фатимы-биби и повторила еще громче: — Кошма! Старуха качнула четками в угол веранды. Она не смотрела на Дильдор. Смотрела на Масуда, он не сразу понял почему. Она уставилась на его рубаху, на темное и большое пятно крови. Он хотел бы встать на колени перед Дильдор, подтвердить, что он здесь и будет с ней, что ее спасут, вылечат, но его оттеснили, и он только пробормотал: — Она пришла в себя, она… — Я слышала, — сказала Салима. Салима с тетей Умринисо все время шли за Масудом, несущим девушку, а теперь принялись за дело. Тетя Умринисо оторвала кусок кошмы, проворно сбегала, помыла ее в арычной воде, ножницами, схваченными с подоконника, быстро разрезала на мелкие части и, сняв стекло с лампы, начала обжигать кошму пламенем вывернутого фитиля. Салима налила большую миску, касу, кипяченой воды из чайника и обтирала тело Дильдор от крови своим платком. Масуд отвернулся и не смотрел. И только услышал, как Салима проронила голосом, испуганным до шепота: — Много ран. Ой! — Я пойду, — сказал он, прыгнул с веранды в темень и побежал. Умринисо посыпала теплый пепел кошмы на раны девушки, и кровь перестала сочиться из них. — Смочи ей губы водой. — Дайте чистое полотенце, — попросила Салима у старухи, и та принесла, ступая тяжело и тупо. Мокрым уголком полотенца Салима водила по губам израненной. — Чистую материю… Чистое платье… Старуха все приносила. Они перевязали раны. Раза два Дильдор слабо стонала при этом, но тут же замолкала. — Ты не вытирай, ей больно, ты капай, капай, — наставляла Умринисо, и Салима снова мочила полотенце. Быстрые капли падали на губы девушки, а Салима думала, что ей надо уехать из Ходжикента, чем быстрее, тем лучше. Она обрадовалась, когда, несколько минут назад, услышала слабый голос Дильдор, и вместе с тем болью тронули сердце Салимы слова девушки. А что она сказала, очнувшись на время, достаточное лишь для одного короткого вздоха? «Масуд-акаджан…» Мой милый Масуд… Только и всего. Но это было так много! Масуд вернулся, сообщив, что он дозвонился до Ташкента, до отца, и оттуда обещано прислать врача. Дильдор уже перенесли в комнату, на постель, старуха сидела в той же комнате, в другом углу, четки валялись на подоле, будто руки у нее отнялись. Она молчала, усевшись подальше от Дильдор, как виноватая. Может быть, она что-то знает о Шерходже, знает, где этот висельник мог скрыться? Масуд спросил — старуха не ответила и не шевельнулась, даже глаза ее были неподвижны. Он наклонился и коснулся руки Дильдор, и легкое, чуть заметное тепло, передавшееся ему, наполнило его надеждой. Он оглянулся, словно бы от другого прикосновения: старуха смотрела на него. Сухие глаза ее были так яро суровы и вместе с тем так жалобны, что он не удержался и сказал: — Ее увезут в Ташкент. Ей помогут. А… Но ничего не стал договаривать про Шерходжу, выскочил на веранду, попросил Салиму и Умринисо: — Идите к Дильдор. Сберегите мне ее! — и кинулся туда, где метались факелы и фонари — они разбрелись уже по всему кишлаку. «Сберегите мне ее!» — повторила про себя Салима и тут же постаралась отринуться от этой мысли, все забыть. Извозчичья пролетка подкатила к сельсовету назавтра. Добрый по виду старичок с золотым пенсне на прямом носу представился сбежавшим ему навстречу Исаку-аксакалу и Масуду: — Николай Сергеевич. В руке его был маленький, затрепанный чемоданчик, и Масуд подумал, что в нем привезли жизнь Дильдор, ее спасение. Врач просидел около Дильдор часа полтора, а может, больше. На спиртовой горелке кипятили металлическую коробку со шприцами. И теперь Масуду казалось, что спасение Дильдор в этой коробочке, блестящей сверху и обожженной, коричнево-желтой по углам. Врач вышел на веранду с грустными глазами, скрестил пальцы и обронил, глядя вниз: — Очень трудно… Опасное состояние… — Постарайтесь! — воскликнул Масуд, хлопнув ладонью по своей груди. Николай Сергеевич снял пенсне и поднял свои глаза, усталые и добрые. — Я всегда стараюсь. Масуд сам с двумя джигитами из товарищества дежурил ночь возле дома, охранял его. На рассвете подали сюда пролетку, уложили на нее Дильдор. Из-за ворота ее коричневого платья выглядывали полосы бинтов… Несколько человек провожало пролетку до гузара. Дильдор смотрела на всех — глаза ее были открыты и печальны и то и дело останавливались на Масуде, который шагал рядом, держась за угол пролетки. — Не бойтесь, — говорил он. — В Ташкенте вас встретят. Скоро выздоровеете… — И вернетесь в нашу школу, — прибавила тетя Умринисо. У моста Дильдор набралась силы и прошептала, глядя на Масуда: — А вы будете в Ташкенте? — Я приеду и загляну в госпиталь. Я для этого приеду! И остановился. Копыта пары послушных лошадей перебрали доски моста. Еще донесся голос кучера, покрутившего над лошадьми кнутом: — А ну, милашки! И пролетка резвее докатила до ровной дороге, удаляясь и увозя Дильдор. С одной стороны возле нее сидел Николай Сергеевич, с другой — Батыров, вызвавшийся сопровождать раненую до Газалкента. Трошин допрашивал Кабула-караванщика и Замиру, но они ни слова не прибавили к тому, что уже сказали. Допрашивал Халила-щеголя и всех его дружков — бесполезно, они клялись, что ничего не знают. Да, в ту ночь, когда приехал из Ташкента представитель просвещения, пили у Кабула, в карты резались, но никого не ждали — кто они такие, чтобы ждать, слишком много чести. О представителе слышали от Кабула, а он ссылался на ишана, это правда, сами говорили о нем, но ждать и не думали, им до него нет дела. Спросите, если что-то узнать требуется, у ишана. А возле школы в положенный час зазвенел звонок. И потянулись дни, наполняя Салиму новой тяжестью. Салима тоже провожала пролетку, слышала, о чем сказали друг другу на прощанье Дильдор и Масуд, видела, как он еще долго стоял у моста и смотрел на опустевшую дорогу так, будто потерял самое дорогое. Снова, прислушиваясь к себе, Салима понимала, что ей лучше всего уехать, чувствовала это. Она уедет в другой кишлак, подальше отсюда, к другим детям и женщинам. А сюда пришлют кого-то еще… Она полюбила эту ходжикентскую школу, привязалась ко многим ученикам, как маленьким, так и большим, но что же ей делать с собой? Это ведь нелегко! Уедет и, даст бог, забудет Масуда, а здесь забудут ее. С течением времени ее любовь к Масуду укреплялась, становилась сильнее. Она была счастлива, когда ехала к нему в Ходжикент. Среди ташкентских подруг и такие были, что удивлялись ей, пугали опасностями, а ей было все равно — горы там или пустыня, далеко это или близко, опасен путь, который Масуд избрал себе, или легок. Важно, что это был его путь. Значит, и ее. Она дойдет с ним, они пойдут вместе. Так ей мерещилось, да не так вышло. Иногда Салиме казалось, что она переживет этот удар, иногда же он мерещился страшнее землетрясения, разрушающего дома. И тогда она прониклась уверенностью, что сегодня же скажет Масуду о намерении уехать, найдет предлог, и эта уверенность выталкивала ее ранним утром на веранду, а Масуд уже прохаживался по двору или, стоя у дувала, глядел на дорогу, как в тот раз, когда уехала пролетка, такой потерянный, что она не решалась подойти. И вдруг сегодня, во время школьной перемены, неожиданно для себя самой сказала ему: — Масуд, мне надо с вами поговорить. Когда у вас будет время? — Сейчас, — ответил он. — Сейчас… мало… десять минут всего… Он улыбнулся, кажется впервые за эти дни: — За десять минут в Ташкенте рождается десять детей… — Нет, я потом скажу… — А я сейчас вам скажу о радостной новости. Сегодня звонили Исаку-аксакалу из района. К нам едут еще два учителя. Они окончили Ферганское педучилище. И — к нам! — Талибджан помог? — Вероятно. — Поздравляю вас. — А я вас. «И меня, — подумала Салима. — Они приедут сюда, а я…» — Вот видите, — говорил Масуд, — о каких важных вещах узнали, а пяти минут не прошло. Что у вас, Салимахон? Больше всего не терплю, когда человек тянет: «А ну, угадай, чего я желаю?» Говорите сразу, Салимахон, может, я и помогу. Честное слово, помогу, если сумею. Я постараюсь. Спрашивайте. — Я хочу узнать, можно ли… Разве можно полюбить дочь бая? Не так она хотела об этом… с ним… совсем не так. Под другим, каким-нибудь другим предлогом хотела попросить отпустить ее из Ходжикента. Но вот… Как он изменился в лице! Какая тень на него нашла. Как тихо ответил: — Дочери баев разные бывают. Одна как Замира, дочь Кабула-мельника. А другая… Почему родной брат Шерходжа пытался убить Дильдор? Почему? Мы — молодые люди — должны, наверно, смотреть на жизнь справедливей тех стариков, которые твердят: «Ты — дочь бая! Ты — сын бая!» И больше ничего видеть не хотят и слышать, закрывают глаза, затыкают уши. Как вы думаете? Как? Если бы это не касалось ее, она ответила бы так же. Да, так же. Но не так-то это все легко и просто. О, до чего вся жизнь, оказывается, непроста! Сколько ночей она пролежала с открытыми глазами, без сна, а не могла остановить этого мученья, не могла ответить себе на вопрос: что делать?ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Лил не переставая дождь… Хотя каждая осень неизбежно роняет свои дожди на землю, обезводевшую за лето до пепельной сухости, такие долгие и сильные ливни над Ташкентом поистине редки. Много месяцев горожане ждали, что тучи наконец-то остановятся над ними, над крышами их домов, над деревьями их улиц, обманывались и наконец дождались. Солнце скрылось в свинцовой черноте неба, и дождь хлестал все сильнее, все пуще. Так продолжалось уже третий день, дождь не собирался затихать. Улицы с небольшим наклоном, каких немало в городе, стали похожи на реки, через них перебирались, стаскивая обувь и поддергивая штаны и халаты. И смеясь, потому что все были рады бесплатной воде, затопившей арыки, этому небесному дару. Тамара, наверно, одна из немногих с утра разворчалась на непогоду, на темное небо, на то, что за весь день в ее галантерейный магазинчик заглянуло несколько случайных покупателей, а скорее просто прохожих, пожелавших хоть на пять минут укрыться от ливня. Они не столько покупали, сколько попусту интересовались ценами и рассматривали товар. К вечеру приказчик Закир доложил, что продал полдюжины платков, два-три куска мыла да катушек с нитками — меньше, чем пальцев на руке, и стал отпрашиваться домой. Она его отпустила. Он женился недавно и каждый день норовил уйти пораньше, спешил к своей молодой подруге. А Тамаре некуда было спешить, ее никто не ждал. Кроме одиночества, которого она боялась. Кроме тоски, в которой она жила свои лучшие годы. И не то что она тосковала по мужу, не показывавшемуся ей на глаза месяца три, если не больше. Широкое короткобородое лицо Нарходжабая, уже покрывшееся сединой, редкие волосы на крупной голове, толстые ноги не вселяли в нее симпатии, не радовали. Но хоть такой, а муж! Живи, если женился. Руки у него сильные, жилистые… Тамара поймала себя на том, что начала скучать об этих руках. Тоска, какая тоска, пошла бы на улицу, нарядившись, да куда пойдешь в этот ливень, заунывно играющий на водосточных трубах? За извозчиком не сбегаешь, чтобы съездить в кафе, где можно хоть часок на людей посмотреть и себя показать, увидеть кого-то, кроме старой прислуги, косолапой тети Олии, и заметить, как косятся на тебя мужчины то из-за одного столика, то из-за другого, забывая о своих спутницах, а ты тихонько ешь серебряной ложечкой холодное мороженое, а сама вся горишь. В этот вечер тоска стиснула ее крепче железных рук Нарходжабая, хоть выходи под дождь и кричи, зови кого угодно на помощь. Поднимаясь из магазинчика, который муж попросту называл лавкой, наверх, в жилые комнаты, она остановилась и подумала, что вновь начнет придираться ко все безропотно делающей и беспомощной в том, чтобы спасти ее от тоски, Олии, настроила себя на терпение, потому что и ворчня, непристойная для молодой женщины, и крики, сносимые Олией, все равно ничего не дадут. И вошла в первую, самую просторную комнату, разозлившись, что она такая страшно просторная для одной. Дверь длинно-длинно проскрипела, закрываясь за спиной. Завтра же отругает Закира. Он следит за домом, пусть смажет петли. И не отпустит из лавки так рано в наказание. Пусть сначала все сделает для хозяйки, а потом уж к жене убирается. Сейчас тетя Олия начнет смиренно расспрашивать, что приготовить и подать на ужин. Она ее помучает! Для чего? Три месяца назад Нарходжабай провел с ней всего одну ночь. Куда он делся? Где и чем занят? Вспомнились слова его перед уходом: — Будут спрашивать, скажи, что я дал тебе свободу. — А если я и правда стану свободной? — испугала она его. — Делай что хочешь. Вот и весь их разговор на прощанье. Не очень-то он испугался. Тамара приблизилась к стенному зеркалу. Никто на тебя не смотрит — любуйся сама. Когда-то было чем любоваться! Белое лицо, лукавые глаза, беззаботный смех. Высокая, горделивая. А теперь? Под глазами синяки. Не стройная, а худая, отощала от тоски, что делать? Круто повернувшись, она принялась сдергивать с себя одежду, покидала все на пол и вернулась к зеркалу нагая. Крепкие, как яблоки, круглые груди с темными шишечками сосков дрожали. Ноги, быстро утончавшиеся книзу, были гладкими, без единого бугорка, во всю длину. Олия вошла незаметно и удивилась, увидев хозяйку. Стояла с отвисшей челюстью и молчала, словно бы забыв, зачем пришла, пока Тамара, оставшаяся в общем довольной собой, не рассмеялась и не приказала: — Беляши! И баню! Олия не уходила. — Сначала баню! — Сдернув с вешалки, Тамара накинула на себя халат, а прислуга суетливо загремела на черной лестнице, может быть покатилась. Баня была построена еще при родном отце, разгуливавшем теперь по Турции. Соорудил ее молодой китаец, удивлявший тем, что всегда улыбался, когда появлялись люди, но не говорил ни слова. Пар по трубам проходил под софой, и она так нагревалась, что лежавшего на ней человека распаривало до костей. Она любила эту софу. Лежа на ней лицом вниз, она пыталась сейчас забыть обо всем, ни о чем не думать, но горячий пар обжигал дыхание, и Тамара чуть не вскочила, чтобы наорать на Олию, набросавшую слишком много дров под котел. Лень, однако, пересилила, пар расслабил. Постепенно и задышалось легче, свободнее. Легче стало и всему телу. Она села на край софы и начала выливать на себя воду из тазов, поставленных Олией в ряд. И когда опрокинула последний, третий таз, показалось, что родилась заново и еще ничего не потеряно. Она набрала воды, полоща в ней руку, и принялась намыливать свои длинные черные волосы и ворсинки под мышками. Круглое варшавское мыло таяло, пузырясь и незримо распуская вокруг ни на что не похожие, далекие, иноземные запахи. Из бани Тамара вернулась в теплом европейском платье и пуховом платке на расчесанных густых волосах. В светильниках на стенах столовой уже горели свечи, на столе ее ожидало блюдо, накрытое другим перевернутым блюдом и полотенцем, чтобы беляши не остыли, маленький никелированный самовар шипел на витой подставке, а из чайника с бледными розами по всей комнате разносился аромат цейлонского чая. Тамара подумала, что нэп давал людям жить, ташкентские улицы были забиты магазинчиками, кафе и кондитерскими, где можно купить и свои, и заморские вещи, были бы деньги… — Тетя, идите чай пить! — позвала она Олию, заранее потешаясь тому, как шумно будет дуть старуха в блюдечко с чаем, все-таки не так скучно. — Я уже пила чай, — ответила Олия из дверей, — лучше в баньку схожу. Ну что ж… Одна так одна. Не станет же она упрашивать прислугу. Тамара обошла стол, остановилась у тумбы с граммофоном, откинула крышку и поставила пластинку, присланную отцом из Стамбула. Томный голос запел о встрече влюбленных на берегу моря в лунную ночь. Где море? Лужи на улице, переполненные дождем. Даже лунной ночи нет… Как в колокол, забили часы на стене. Тамара съела беляш, расхаживая по комнате, потому что не тянуло, даже боязно было сидеть одной за столом, потом присела все же, налила себе чаю, откусила кусочек сахара и сделала всего один глоток, когда внизу, возле уличной двери, нежно задребезжал звоночек. И сердце у нее сразу ушло в пятки: «Кто это может быть?» Осторожный звонок повторился. «Неужели снова обыск?» Они, хмурые люди из ГПУ, были у нее около месяца назад. Все осматривали, записывали. Спрашивали о Нарходжабае. А что она могла сказать, когда сама не знала, жив он или мертв? Спрашивали о Шерходже. Она сказала правду. Видела Шерходжу, когда старшая жена Нарходжабая привозила к ней в гости своих детей. Сухощавый, красивый подросток, интересовался конкой и катался на ней, это было, а больше она его ни разу не видела. В третий раз позвонили… У Нарходжабая был свой ключ, он открывал эту дверь без звонка, он приезжал домой. Нет, это не обыскивающие, не ГПУ. Те после первого звонка начинают громко тарахтеть в дверь. Тамара с остановками, замирая, спустилась к двери и спросила: — Кто? Довольно грубый, но предупредительный голос ответил с той стороны двери: — Я… Откройте, Тамара… Я Шерходжа… Она не двигалась, а он просил: — Откройте скорее… Тогда она повернула ключ и сняла с двери крючок. Человек, который вошел в прихожую и захлопнул за собой дверь, был совсем не похож на Шерходжу, запомнившегося ей. Плечистый, даже громоздкий, будто разросшийся по сравнению с тем прямым, тонким, складным мальчиком вширь, а не только вверх, неряшливо заросший и грязный. Глаза его смотрели колюче и настороженно. И вдруг он улыбнулся, и эта улыбка при всей своей ядовитости и надменности напомнила ей того подростка. А он, словно догадавшись о ее сомнениях, повторил убедительно и резко: — Я — Шерходжа. О чем-то надо было спрашивать, и она поборола страх и растерянность, спросила: — Откуда вы? — Издалека. — Как приехали? — На вороном коне. Невозможно было угадать, смеется он или говорит правду. — А где же конь? — спросила Тамара. — Заехал к мяснику на базар и продал на колбасу, Хорошо, что застал, он уже закрывал свою вонючую лавку. Дождь! Но мне повезло! Я везучий, мадам. Не было ни рубля, а теперь — вот… — Шерходжа вынул из кармана несколько бумажек, смятых в кулаке. — Видите? Правда, мясник сначала отказывался: «Бесценный конь! Разве можно такого?» А потом только сказал: «Эх-ма!» И вот все, что осталось от коня. В руке он держал мокрую насквозь мешковидную сумку, перевернул, потряс, и на пол вывалилась и брякнула уздечка, отделанная серебряными бляшками. Под ней сразу же образовались мокрые пятна. И Тамара спохватилась: сын мужа после длинной дороги, грязный, ему надо отмыться и поесть. — Пойдемте, — позвала она, шагнула и остановилась. — А это спрячьте! Приходя в себя, она понимала, что Шерходжа не обычный гость, не прогулку совершал в Ташкент, как в тот раз, а может быть, бежал от кого-то, скрывается. И надо быть осторожной. А он подобрал уздечку, засунул в сумку, а сумку — под лестницу. — Ладно, — сказала она, — работница уберет. Я скажу. За вами не следят? — В такой дождь и полицейские хоронятся в своих пещерах. Я сказал — я везучий. Тамара вернулась, накинула крючок на дверь. — Не бойтесь, — ухмыльнулся гость. — Я не просто везучий — бог мне помогает. На улице — ни души. За столом, когда он проглатывал беляши, хватая их один за другим грязными руками, Тамара спросила: — Где отец? Он засмеялся, вытер руки о бока и ответил: — В тюрьме. Это не было такой неожиданностью, чтобы она схватилась за голову и запричитала, только облизала губы, сохнущие не меньше, чем от жара в бане на софе, и спросила, подавляя неприязнь к человеку, от которого отталкивающе разило по́том и который даже не отирал бородки, отекшей беляшиным жиром: — В баню хотите? Баня готова. Он распахнул свои руки: — Ну, в самом деле, я родился под счастливой звездой и живу под недремлющим, оберегающим меня оком аллаха! — и встал. — Спасибо, мадам, — и поклонился, не спуская с нее взгляда, показавшегося ей теперь невыразимо бесстыдным. — В ту дверь, — ткнула пальцем она, стягивая пуховый, платок с головы и запахивая им вырез на груди. Взгляд был таким, что даже шея и белый треугольник тела в этом вырезе платья покраснели. У двери Шерходжа встретился с тетей Олией, но не задержался и прошел, отстранив ее рукой, как вещь. Стало неудобно перед прислугой, будто и она заметила его взгляд, и Тамара сказала: — Это сын мужа… — А, радость! Какая радость! — замахала красными ладонями тетя Олия. — Чем помочь, барыня? Тамара тоже поднялась из-за стола: — Давайте одежду посмотрим, выберем что-нибудь для него. По пути в спальню, к шкафу, она подхватила из кресла у стены чапан Шерходжи и заметила расползшиеся швы. Олия спустилась в баню и принесла оттуда измазанные грязью, покривившиеся сапоги. — Давайте, барыня, я, — сказала она, увидев, что Тамара уже зашивала чапан. — Я сама, — ответила та, откусывая нитку. — Это ведь мой долг. — Конечно, добрая вы моя. Вместе они перерыли и перебросали остатки мужниной одежды, отобрали рубашку, кальсоны, брюки, другой халат. Даже новую тюбетейку она нашла. Попалась ей под руку коробка с бритвенным прибором, и она протянула Олии: — Отнеси ему в баню. Та опять ушла, а Тамара села и задумалась. Если ГПУ проследило за Шерходжой, то они придут сюда. Может быть, сейчас. Сердце ее похолодело. «Господи, за что ты меня караешь? Мне хватает хлопот из-за такого мужа, из-за отца этого Шерходжи, теперь еще и сам сыночек добавился. За что мне такое наказание?» Встав, она решительно прошла в гостиную и со стула загасила все стенные светильники, оставив только три свечи на столе. Может быть, самой улизнуть? Куда? Нет, нужно от него избавиться. Во что бы то ни стало. Пусть еще поест вволю и убирается! Затемно. Пока дождь. Ей стало чуточку спокойней от твердого решения. Ну, даст ему поспать два-три часа, нельзя же быть бессердечной, а потом разбудит. Сама. Она велела Олии вновь раздуть самовар, а сама уселась к столу и, вертя в пальцах витую, словно не из проволоки, а из скрученной шерстяной нитки связанную подставку, поразилась, неужели так может измениться подросток, виденный ею… сколько лет тому назад? Семь лет… Да, семь, она подсчитала по пальцам. Ему было тогда шестнадцать, ну семнадцать, не больше… Как и ей! Они — ровесники, может быть, она даже на год младше. Но она тогда стала из невесты женой Нарходжабая, а он… только теперь превратился в джигита. И какого! Она и не заметила, как Шерходжа вернулся. Вскинула голову и увидела, что он стоит в дверях. Плечи богатырской силы, чисто выбритое лицо, смоляные вихры, расчесанные и даже подкрученные усы. Однако он мужчина небывалого самообладания. Боже, какой завидный мужчина! Вот только этот бесстыдный взгляд… Подошел и спросил, как дома, как будто все эти семь лет прожил здесь, с ней: — У тебя водка есть? Может, его сразу выгнать? Может быть, сказать — нет. Вместо этого она встала, подошла к буфету и, взяв черную бутылку, несмело поставила ее на стол, поближе к нему, пододвинувшему к столу кресло. Пока он открывал бутылку и до самых краев наполнял водкой пиалу, было слышно, как за окнами шумит и шумит бесконечный дождь. Ничего не сказав, Шерходжа опрокинул злейшую жидкость в себя, вытер губы под усами и вздохнул: — Слава тебе, боже! Еще о боге вспоминает. А на отмытом лице — смертный грех. Жесткое лицо. — Ты не пьешь? — спросил Шерходжа, снова наполнив свою пиалу и собираясь налить ей. — Выпей со мной. — Вас ищут. Ко мне приходили из ГПУ. — Тише, — он поднял палец, выпил и стал закусывать беляшом. — Садись… Она присела, подставив руки под подбородок и оперевшись о край стола локтями. — Когда приходили? — Наверно, с месяц назад. — А! Значит, не нашли… Настанет время, мы их будем искать. Всех отыщем. — Могут прийти сегодня ночью. — Гонишь? — Не хочу, чтобы вы утонули, Шерходжа. По-моему, вода поднялась выше вашей головы, может быть, и на метр! Он усмехнулся, дожевывая еще один беляш. — Если вода поднялась выше головы, то уже неважно, на сколько. Мой отец всегда так говорил. Выплывем! — Он плеснул в пиалу еще немного водки, выпил, и она подумала, что сейчас его развезет, чего доброго, расшумится, разбуянится, но он спросил совершенно трезво: — У тебя есть вайвояк? — Что это такое? — Не знаешь? Это маузер. Очень мне нужен маузер… маузер, маузер, — стал повторять он, закрыв глаза кулаками, а когда отнял их, в глазах его стояли слезы. Он плакал. Да, он плакал, по-мужски, беззвучно, и слезы его разбудили в душе Тамары не жалость, а какое-то совсем другое чувство, исполненное уважения и даже гордости за такого человека. — Где его взять? — прошептала она. — Достань… С кем хочешь поговори. Отдай самую драгоценную свою вещь. Связку жемчуга, рубин, изумруд! Отец тебе вернет. — Он в тюрьме, сами сказали. Это правда?. — Я верну. Задарю! — Спрошу у Закира… — Какого Закира? — Моего приказчика. — Надежный человек? — Свой. За золото молодую жену продаст. — Тамара! Я тебя расцелую. Как самую любимую! — Он встал с трудом, то ли от усталости, то ли от выпитого, и двинулся к ней. Он подходил качаясь, она тут же вскочила и попятилась. — Ты меня боишься? — Он остановился, сжав кулаки. — У меня сильные руки. Видишь какие? Пока их скрутят, я всех застрелю, зарежу, огню предам! Хорошо, что не кричал, а шипел. — Вам надо спать, Шерходжа. Отдохните. — Да, — сразу согласился он. Его уложили в отдельной, тихой комнате с зашторенным окном, но сон не шел к нему, изможденному, будто отказался от него навсегда. В темноте он снова бил ножом Дильдор, ее воздушное тело улетучивалось из его рук, исчезало и оставалось, но уже неживое, бестрепетное. Снова шел каменистой тропой за кладбищем, на котором лежали ходжикентские предки. Чьи-то голоса долетали из темноты, которую рассекали и не могли развеять фонари и факелы. Еще немного, и все осталось сзади — и голоса, и огни… Он там родился и вырос, он знал все тропы вокруг, как они не знали, те, кто пытался найти его, настичь, и свои земляки, с детских лет прикованные к полям, к жалким клочкам земли, куда только и водила их данная им богом дорога, и чужие, приехавшие сюда, этот русский чекист, этот бравый учитель, совративший сестренку, погубивший ее. Учитель убил Дильдор, и это ему не забудется, не простится. Отчаянные, похожие на бред воспоминания обретали ясность и плоть. Далеко остались родной кишлак, глупая Замира со своим глупым отцом. А ему, Шерходже, судьба еще даровала жизнь. Для чего? Для отмщения. Тамара достанет маузер. Первая пуля Масуду. Он убьет Масуда, а тогда остальное… Тогда он сообразит, что дальше. Пока не надо ничем загромождать своих мыслей, не надо. Масуд! Если он не сделает этого, если промахнется, будет мучиться до конца своих дней, до последнего вздоха. Он не думал, не заботился о том, как сберечь свою собственную шкуру, выбираясь из кишлака. Только о Масуде. Часа два он шел не останавливаясь, пока не начал спотыкаться о камни. У подножья горы напился из родника, про который знал с поры счастливого детства, и лег прямо на холодную землю, вытянулся на спине. Давно утихло все, темень убрала кишлачные огни, расстояние отнесло в небытие лай растревоженных ходжикентских собак. Он лежал, отдыхал и думал: куда идти? Газалкент закрыт, там его уже ждут. Мардонходжа в Богустане — предал, как сказал караванщик, узнавший об этом от ишана. Все предатели. Верить можно одному себе. До конца. Больше никаких мыслей не рождалось, даже куцых. Все тяжелело — ноги, руки и веки, наползающие на глаза. Самой тяжелой ношей стало сердце — от боли и злобы, переполнивших его. От беспомощности, неожиданной, как нищета для богача. Еще вчера он был хозяином золота, коня, оружия, Замиры. А сейчас все потеряно, у него нет ничего, кроме исфаганского ножа, которым убита некогда действительно любимая сестра. Может быть, он все решит — этот нож? Вот сюда, между ребер, в тяжелый комок сердца, — и не думать, не искать выхода, даже не вставать. Но человек живуч и не просто расстается с собой. Шерходжа добрался до пещеры, где провел не один день, пока солнце грело родную землю лучше любой печи. Своей пещеры. Отыскал здесь, в еще одной железной коробке, когда-то плотно набитой иностранными патронами, забытый кусок казы — конской колбасы — и пересохшую лепешку. На день хватило. И сил прибавилось. Но на большее судьба не даровала ни крохи. А холод выгонял из пещеры. Нет, не протянуть одному. Требовалась не только еда. Требовались какие-то люди, не для спасения — для помощи, чтобы сделать задуманное. Куда же идти? Где могут появиться чекисты? Он все время опережал их, его мысль и ноги работали быстрее. А теперь? Новая ночь осела на горы, журчал исчезнувший с глаз ручей, звезды лучились в небе, помогая ориентироваться. К полночи он выбрался из придорожных кустов близ того кишлака, где жил Халмат Чавандоз, отец Нормата, разделявшего тюремную камеру с баем, которому так верно служил всю жизнь. Почему же так верно? Чекисты не знали этого. А он, Шерходжа, знал. С юности Нормат жил мечтой о Дильдор. Отец первым заметил это и обещал сделать Нормата зятем. Шерходжа долго смеялся, но отец рассердился: — Зря смеешься, дурак! Он получит Дильдор, как мы с тобой луну с неба. Но пусть пока верно служит, мне больше ничего от него не надо. Тогда Шерходжа подивился не коварству, а уму и властности отца, поучился у него. За плечами белели под лупой высокие вершины гор. Ровной походкой он дошел до двора Чавандоза, но стучаться не стал, чтобы не поднимать переполоха, а перемахнул через дувал и… почти столкнулся с Халматом, отиравшим коня в углу двора, возле конюшни. Похоже, он только что вернулся на нем откуда-то. Прятаться было поздно и ни к чему, Халмат в упор смотрел на него. — Байвача? — спросил он знакомым баском. — Что это вы в такое время, как вор, через дувал? — Э-э… Халмат ждал. — Думал, спите, не хотел беспокоить. — Ну ладно… И так сойдет. Как отец, здоров? — Привет передает. Халмат ногой подвинул приготовленную кучу люцерны под нос коню, показал на веранду: — Гостем будете. На веранде сели друг против друга, помолились. И Чавандоз спросил: — Откуда же ваш папаша привет передает? Из тюрьмы? Ведь он в тюрьме сидит. — Слышали? — От людей ничего не спрячешь, как из черствой лепешки волоска не вытащишь. А как Нормат? — Ваш сын? Ничего, здоров, работает. И Халмат усмехнулся: — Что случилось, байвача? Вас мать родила, чтобы врать? — Не трогайте мою мать! — Но ведь Нормат тоже в тюрьме. Что плохого сделал вам мой сын? Как только вылупился, с тех пор служит твоему отцу. Давно бы мог свой дом иметь,свое поле, теперь, слава богу, землю дают всем, кто работать хочет. За это кровь проливали… А он все крутится возле бая. Прожил свой век у него на побегушках. И даже за решеткой вместе с ним. — В земле ковыряться лучше? Свои мозоли лизать? — Лепешки с неба не падают. — Нормат женится на Дильдор. — Мертвой? — спросил Халмат Чавандоз. Кожей Шерходжа ощутил свой нож за пазухой, за поясным платком. Примерился, далеко ли от него Халмат, рослый и крепкий, верткий и ловкий, все свои годы проведший на коне. Недаром его назвали Чавандозом — Всадником. Надо было как-то выиграть время, хоть минуту, и Шерходжа спросил, стараясь казаться пораженным: — Мертвой? Дильдор? Что вы говорите?! Тогда Халмат предупредил его, вероятно потому, что он невольно пошевелился. — Сиди тихо. Я только сейчас из Газалкента. Ездил туда к Саттарову, чтобы справиться о судьбе своего сына. И все узнал. Я все знаю, — повторил он значительней. — Советую тебе явиться к Саттарову с повинной. Игра твоя кончена, байвача. Сейчас вместе поедем в Газалкент. Жена! Он оглянулся на темное окно в конце веранды. Нельзя было терять ни секунды, и Шерходжа с выхваченным ножом приподнялся и рухнул на Чавандоза. Эта секунда, а может быть, и меньшая долька времени спасла его. Он крутнул раз и другой нож, всаженный по рукоятку в грудь Халмата, а жена Чавандоза так и спала в темной комнате, ничего не зная о постигшем ее горе. Шерходжа действовал, как быстрая и точная машина. Схватил седло, замеченное на веранде сразу, едва повернул голову, донес до дувала и вскинул на спину коня, хрустевшего люцерной. Подпруги натянуты, стремя поймано. И вот — он в Ташкенте. Попробуй после этого не сказать, что ему помогает бог? Ах, если бы еще хоть каплю сна! Он ворочался под шум дождя, закрывал глаза, зажмуривал их что есть силы, но сна не было. Не удавалось забыться и отключиться от мира, от далеких и близких воспоминаний, и он встал, нащупал ногами чувяки на полу и пошел… Еще на пороге ее комнаты он понял, что Тамара тоже не спала! — Караул! — слабо прошептала она. Это придало ему смелости. Когда он прилег к ней и прижался, она повторила: — Караул! — и сделала попытку вскочить, но он обхватил ее и удержал. — Что вы делаете? Стыдитесь. Я жена вашего отца. — Он в тюрьме, — зашептал Шерходжа. — И не выйдет оттуда. А ты будешь моей. — Не трогайте! Я Олию позову! — Отца расстреляют, а мы обвенчаемся. Ладно, ладно, я уберу руки, лежи спокойно и слушай меня. Я давно люблю тебя. Помнишь, мы приезжали из Ходжикента, ели мороженое, катались на конке? С тех пор… Поэтому я приехал к тебе. С отцом кончено, а ты молодая. Времена такие, все переворачивается, рвется… Жизнь ломается, что же, нам пропадать? Ты молодая, как и я. Ты моя ровесница, — шептал он, часто дыша. — Ты моя… Запахи, окутавшие ее, разжигали страсть, но он удерживал себя и только гладил кончики ее волос на подушке. И Тамара повернулась, привстала и сама впилась в его губы. Руки его, скользя по шелковому белью, раздевали ее, а она спрашивала: — Не оставишь меня? Не оставишь? На рассвете, когда дождь утих и первые робкие лучи коснулись штор, он спал на ее плече, а она пыталась догадаться: что дальше, какая будет жизнь, что их ожидает? И не могла.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Ходжикентское дело, к которому за этот месяц Махкам Махсудов возвращался не раз, сдвинулось с места. Правда, оно пополнилось такими фактами, такими происшествиями, что и предположить нельзя было, но сдвинулось. Ночью, не щадя коня, прискакал из Ходжикента Трошин. И они раньше, чем Батыров привез Кабула-караванщика с его дочерью Замирой, еще раз допросили Нормата и Нарходжабая. Сначала по отдельности. Узнав, что Шерходжа ножом нанес опасные, может быть смертельные, раны Дильдор, Нормат застонал, застучал кулаками по своей голове, а потом унялся и стал давать новые, откровенные показания. Это он, Нормат, убил учителя Абиджана. Да. Вот этой рукой. У мельницы, камнем. Да, камнем, чтобы не было лишнего шума. Выследил, когда учитель зачем-то пошел к реке. Вечером. Солнце уже село, и птицы только что перестали щебетать. Всю ночь убитый, отнесенный водой, потому что Нормат скинул его в реку, но зацепившийся за берег неподалеку, пролежал на отмели. До рассвета, когда его обнаружили. А кто приказал убить Абиджана? Шерходжа, будь он трижды проклят! Сам он, байский сын, скрывался тогда в горах, в одной из пещер. Вокруг Ходжикента много пещер, легко укрыться, сам черт собьется с ног — не отыщет, не откопает. Стало холодно — байвача перебрался к Кабулу-мельнику. Через мельника держали с ним связь. Убить Исака-аксакала? Да, для этого его, Нормата, снова послали в Ходжикент. На этот раз сам бай послал. Он, конечно, все знал и про учителя, ведь первого застрелил сам Шерходжа. Бай его наставлял. Но этого кровавому баю казалось мало. Его бесила активность и безбоязненность Исака-аксакала, который у него, властителя ходжикентских полей и пастбищ, садов, виноградников и воды, все отобрал. Не для себя, понятно, для людей. Вот, перед смертью открылись глаза, да поздно! Лучше им закрыться навек! Да, ему велели убить «аксакала», теперь что уж скрывать. Он все скажет. Карима тут пригодилась для отвода глаз. А вы скажите, как себя чувствует Дильдор? Столько, сколько доведется ему дышать, он будет молиться, чтоб она осталась жива. В кишлаке говорили, ее любит учитель Масуд. И она его любит. Он удивительный парень, вы его знаете? Пусть аллах даст им счастья! Но берегите Масуда. Шерходжа поклялся его убить. Нет, где сейчас Шерходжа, где он может укрыться, Нормат не знает. Шерходжа молчаливый, никогда зря не делился ни одним словом. Он такой… Да, Нормат виделся с ним в ту ночь, когда по ошибке метнул свой нож в Кариму. В ту ночь Шерходжа ночевал в своем саду, там они встречались, там он его ждал после этого злополучного хождения ко двору Исака и налета на Кариму. Вы правильно угадали, следователь, это были наши следы у арыка. В точку попали… Нарходжабай, выслушав протокол с показаниями Нормата, нагло заявил, что презренный раб все врет. А может быть, чекисты научили его врать, пообещав свободу и желая запутать бая? Им устроили очную ставку. При Нормате Махсудов сообщил баю, что его сын пытался убить свою сестру, и Нормат вдруг вскочил и бросился на бая, достал его, тяжело ударил кулаком по голове, едва удержали, чтобы не расправился, и пригрозили надеть наручники. А бай все не верил, что Шерходжа поднял руку на его любимую дочь-баловницу, уверял, что не посылал Нормата в Ходжикент, и повторял, распаляясь, исходя пепелящей яростью: — Он все врет! Махсудов переждал его крики, глядя, как на темное окно садятся, прилипая к стеклу, робкие и редкие, первые в этом году снежинки. Свинцовые тучи принесли не только дождь, а и холод, который в их непроглядной толще был уже зимним, и вчерашний ливень сменился этой ночью ранним, рассеянным снегопадом. Не тая, снежинки испятнали все стекло белыми точками. Отвернувшись от окна, Махсудов сказал: — Нарходжа! Если уж кто прячется от правды, так это вы. А у лжи короткие ноги, как известно. Бесполезно участвовать в этих скачках. — Он врет! Он сам убил. По своей воле. Всех ревновал к Дильдор! — Двух учителей? Так? — Так, — буркнул бай, кутаясь в свою лисью шубу. — А за что вы обещали отдать Дильдор в жены Нормату? — Спутал меня, как коня. Стреножил! — крикнул Нормат. — Дурак, — брезгливо буркнул в его сторону бай. — Я жил одной надеждой, — он прикрыл глаза и посидел молча, — увезти мою Дильдор за границу и там выдать за богатого жениха. И Нормат опять рванулся к баю — черный чапан его с заплатками на боках распахнулся, показал грязную рубаху и волосатую грудь под ней. Пришлось надеть на него наручники, а он, не сопротивляясь, смеялся над собой: — Бай водил меня вокруг пальца. И сейчас вас хочет обвести. Не выйдет, Нарходжа! Все так, как я сказал. Все было так. Зазвонил телефон — Махсудов взял трубку. И сразу узнал голос Саттарова. Он сообщил новость. Среди ночи, заволновавшись, почему так долго нет мужа в комнате, жена Халмата Чавандоза вышла на веранду и увидела его труп. Кто его убил? Догадка одна: Шерходжа. Он увел и вороного коня со двора. Ускакал на нем. Куда? Ничего не удалось выяснить. В неизвестном направлении… — Вот, Нормат, — сказал Махсудов, повесив трубку на аппарат, — ваши потери не кончились на том, что вы знаете. Ваш отец, Чавандоз, знаменитый джигит и боец революции, убит этой ночью. — Отец? — Нормат весь подался вперед. — Кто… убил его? — Полагаем, что Шерходжа. — Откуда это известно? — волком прорычал Нарходжабай, свирепо пяля свои глаза из-под косматых седых бровей и переводя их с одного на другого. Арестованных увели. — Отец, отец, не успел попрощаться с тобой! — кричал, уходя, Нормат. — А как мать?! Мать! Одна! — Жалею, что ты жив, — прохрипел Нарходжабай. — Я тебя своей бы рукой прирезал! Ночь за окном стала предрассветной мглой, и она уже отступала, обещая рыхлый, сумрачный день, который быстро снимет все снежинки с окон, с крыш домов и ветвей деревьев. — Махкам Махсудович, вам не кажется, что надо осмотреть дом Тамары, бывшей жены Нарходжабая? — спросил Трошин. — Надо, но, по-моему, это потеря времени. — И по-моему, но я уже на стольком обжегся! — Я пошлю туда людей. — Я сам, если разрешите, съезжу. — Нет. Два часа спать. Привезут караванщика с его дочерью, может быть, они знают, где намеревался укрыться Шерходжа. У них обязательно должно быть назначено место встречи. Жених и невеста собирались вместе бежать за границу, как видно по запасам золота и драгоценностей. Невеста вряд ли задержит Шерходжу, но золото! А главное — оружие. Замира должна привезти ему оружие, это ясно как дважды два. Он не видел, как вы их выводили из тайника? Трошин еле пожал костлявыми плечами: — Это знает наверняка один Шерходжа. Было темно, однако… — Саттаров сказал, что оба перевала будут закрыты, меры приняты, бойцы уже в пути. — Дом Тамары, мне кажется, надо осмотреть так… Сначала двор и конюшню. Вороной Чавандоза! — Ну конечно, я скажу… Береги свои два часа, Алеша, а я пойду в госпиталь — предупредить Николая Сергеевича, чтобы никого не пускали к Дильдор. Шерходжа может пробраться к ней, если дознается, где она. У него звериная вспыльчивость… — Если бы только это. — И натиск, и нюх… Учти. Замиру и Кабула поручаю тебе. — Есть. Махсудов ушел из кабинета раньше, чем усталый Трошин поднялся на ноги… По всей дороге к госпиталю тополя еще блестели от утреннего света и снега. Первые арбы проезжали через мост над Анхором. Знакомой дорогой Махкам уже ходил к Дильдор со своей женой, но он и раньше знал этот госпиталь. После городского восстания генерала Осипова, которое так и называли осиповским, Махсудов сам лежал в этом, госпитале с пулевым ранением в плечо. И тот же хирург, Николай Сергеевич, делал ему операцию, вынимал пулю, щуря за пенсне добрые глаза. Именно его Махкамов попросил съездить в Ходжикент, именно ему доверил заботы о Дильдор, которую они встретили с Назокат и обласкали, как только могли. После дальнего пути из Ходжикента Сергей Николаевич сказал лишь одну фразу: — Она почти безнадежна… А была она совсем юной, и в глазах ее светилась ясная душа. В другое время и в других обстоятельствах можно было только порадоваться за сына, полюбившего такую девушку, ответившую к тому же на его любовь. А сейчас? Останется ли Дильдор жива? Всем сердцем Махсудов пожелал ей этого и опять услышал, как Сергей Николаевич с тревогой в слабом голосе говорит: «Она почти безнадежна… безнадежна…» ГПУ скоро закончит следствие, и, наверно, суд приговорит ее отца к расстрелу. Его расстреляют. Это не безжалостно, а справедливо. Смерть учителей, смерть Халмата — на совести Нарходжабая. И Нормат на его совести. И даже сын на его совести. Он, Нарходжабай, организатор всех этих преступлений. Было о чем задуматься Махкаму в тихий час, когда город еще только просыпался. Проводив соседскую девушку Салиму на работу в ходжикентскую школу, Назокат не сомневалась, что знакомство и дружба Салимы и Масуда перерастут в любовь, а любовь приведет к свадьбе, как полагается. Иной раз даже обменивались с женой короткими фразами и шутками об этой свадьбе, гадали, где ее сыграть — в Ташкенте или Ходжикенте, намечали срок — на осень. От этих планов не осталось ни следа… Сами собой воспоминания сменились мыслями о Дильдор. Девушка открыла лицо и пошла учиться. Не побоялась угрозы брата. Все сказала Масуду. Это верная любовь. Большая любовь. Дильдор… она не только красивая, она умная. В госпитале он отыскал Сергея Николаевича и сразу спросил: — Как она? Доктор ответил фразой, сразу снявшей и напряжение и груз: — В обиде на твоего сына. Сокол забыл свою любимую! Сам он улыбался, а глаза за стеклами пенсне играли. — Я извинюсь за сына! Такое… такие дела! Каждый час, каждая минута… Ты пустишь меня к ней? — Провожу. Она лежала на койке под окном и задумчиво смотрела в потолок, а повернув глаза и увидев отца Масуда, увидев, что это к ней пришли, порозовела. И услышала: — Здравствуйте, доченька. Принес вам привет от Масуджана. — Правда? — прошептала она. — Как я рада! — Он говорил со мной по телефону. Все время беспокоится, как вы. — Очень хорошо. Я — хорошо. Как у него дела? — И у него… И у него хорошо. — Правда? — переспросила она. — Трудные дела, но идут. — В школе? — В школе тоже. Два учителя приехали из Ферганы. — Ой, хоть капельку станет легче Масуджану. А то… Старостой выбрали, а я вон где… — Вы не говорите много, не утомляйтесь. Не забывайте, что вам надо лежать спокойно. — Отстану от учебы. Это будет неприятно Масуджану. — Догоните. Он сам поможет вам, Дильдор. Мама его поможет, ведь она учительница, Назокат-опа. Я ей прикажу, она начнет каждый день ходить к вам в госпиталь, заниматься. Ведь она и ваша мама, — прибавил он. В посветлевших глазах Дильдор, больших, как самые крупные черные сливы, сразу скопилось по слезе. — Ну вот, опач… Не надо, опач. Это значило — милая, и теперь слезы потекли по ее щекам, а он достал платок и промокнул их раньше, чем она вынула руку из-под одеяла. Другая рука у нее была прибинтована к телу. В палату вошел Сергей Николаевич: — Хватит, не утомляйте девочку, Махкам Махсудович. И Махсудов встал со стула, на котором придвинулся было к ее постели. — Когда разрешат, принесу вам книги для занятий. А сейчас… — У меня есть что делать. — Что же вы делаете? — поинтересовался Махсудов. — День и ночь молюсь богу, чтобы он сохранил Масуджана и помог ему. Они вышли в коридор вместе с Сергеем Николаевичем, и Махсудов рассказал о бегстве Шерходжи, попросив о том, чтобы к Дильдор не пускали никого, кроме него с женой. — Не волнуйся. Все это время, уже больше часа, Трошин допрашивал Кабула и его дочь. Мельник признал, что они с Нарходжабаем сговорились поженить детей и отправить их в Кашгарию, в Синцзян. Золото, которое взяли на мельнице, общее — запишите, они с будущим тестем вместе посылали Халила-щеголя в Ташкент, к индусу-меняле, который втридорога, но все же дает золото… Его адрес? Э-э… Ну конечно, вот его адрес. — Какой дорогой замышляли отправить деток? — Я знаю все дороги в горах. Сам хотел проводить их. — А не вы ли провели остатки осиповцев через перевал, к Бричмулле, караванщик? Кабул не стал спорить: — Может быть, я. Арба с конем были. Я перевозил много грузов, провожал людей. Давали деньги, я не спрашивал, как зовут. — Неправда, Кабул-караванщик. Выполняли приказ Нарходжабая. В этом мы еще разберемся. Где условились встретиться с Шерходжой? Где он ждет вас? — Клянусь богом, не знаю. Замира то рвала на себе волосы, как сумасшедшая, то визжала, проклиная всех, то молчала как каменная. И расхохоталась в конце концов: — Раз спрашиваете, где он, значит, не поймали! И хлопала в ладоши. Когда Махсудов вернулся, Трошин мрачно сидел в его кабинете один. — Как дела? — Плохо. — Подробней. От Тамары вернулись наши ребята? — Нет там ни коня, ни Шерходжи. — А ты не отдохнул, гляжу. — Это неважно. Тут вот еще одно… — Что? — Осложнение. — Что? — резче повторил Махсудов. Вместо ответа Алексей Петрович протянул ему газету из свежей стопки на углу стола. В ней была отчеркнута одна статья. В глаза сразу бросилось название: «Плут или учитель?», а в тексте — имя Масуда. Это была даже не статья, а фельетон… Легкомысленные песни с места, скромно выбранного себе в роще ишаном, а это оскорбляет пусть слепую, но искреннюю веру окрестных крестьян. Не так надо просветлять их мозги учителю! Это ведь не просветление, а затемнение, если вспомнить, что простые люди невольно озлобляются, а озлобление еще никого не просветило. Или учитель Масуд думает, что как раз так и надо действовать, коли бог, простите, природа дала ему певчий голос, хвалиться которым он готов там и тут? Бесплатно. Впрочем, и деньгами Масуд не брезгует, простите еще раз. Кураш… Борьба на базаре… Деньги в подол рубахи… Молодец наш учитель! Природа дала ему не только голос, но и незаурядную физическую силу. Почему бы и ее не показать? Учитель Масуд считает, что завоевал себе авторитет, победив кишлачного богатыря на кураше. Это победа? Нет, мы считаем, поражение! Но и это еще не все. Кроме дня есть, как известно, ночь. Что же делает наш Масуд ночью? В третий раз простите, крутит шашни с байской дочкой. Его не заботит классовая принадлежность красавицы, была бы хороша собой. Стыд и позор! Но ничто не проходит безнаказанно. На все есть жалобы простых крестьян. Они возмущены. Остается прибавить свое возмущение и нам. В школе дела из рук вон плохи. А ведь для этого, для того, чтобы учить детей и взрослых грамоте, послали Масуда Махкамова в Ходжикент, где злейшие враги советской власти убили до него двух прекрасных учителей. Разве не за это сложили головы молодые выпускники ташкентского педучилища, комсомольцы? Махкамов понимает, что ему предъявят счет, он не глуп, и поэтому сразу делает прыжок от грамоты к политграмоте. Учит школьников и курсантов ликбеза разбираться в политике, хотя они еще не разобрались в том, где «а», где «б». — Кто такой Т. Обидов? — спросил Махсудов, посмотрев на подпись. — Высокомерная гнида! — Без эмоций, товарищ Трошин. — Талибджан Обидов — племянник нашего наркома просвещения, который весь аппарат забил своими родственниками. Их там больше двадцати. Талибджана, или Обидия, как его зовут, направили представителем наркомата в Ходжикент в ответ на письмо Масуда наркому. — Ты его видел, Обидия? — Да. — Каков он? — Я сказал. — Ты знал об этих фактах? — Махсудов потряс газетой. — Я в них разобрался. В пятницу в роще, заполненной богомольцами, Масуд спел песню Хамзы «Да здравствуют Советы». Легкомысленная? И еще одну — по просьбе самих крестьян. На кураше он действительно боролся, а завхоз школы действительно собрал деньги, но все они, до копейки, пошли на жалованье служащим школы, которого до сих пор не удосужился выделить наркомат, и на ручки, карандаши, тетрадки для учащихся. Ну а про Дильдор вы сами все знаете, Махкам-ака! Махсудов опять отошел к окну, стекло которого вместо бывших снежинок усеяли капли, стекавшиеся в извилистые струйки. — О чем вы думаете, Махкам-ака? — О последнем. Грамота — политграмота… Мне кажется, тут собака и зарыта. — В Ходжикенте Обидий написал докладную для наркомата о своей поездке, ничего общего не имеющую с этим фельетоном! Совсем другую. — Откуда ты знаешь? — Он согласовывал ее с Исаком-аксакалом, председателем сельсовета, а тот рассказывал мне. Трошин снял трубку зазвонившего телефона. — Вас, Махкам Махсудович. Обменявшись двумя словами, Махсудов сказал: — Я в ЦК. Вызывают. А ты все же поспи часок, если сможешь. — Не смогу. — Тогда звони в Ходжикент. — Масуду? — Нет. Зови сюда Исака-аксакала. Немедленно. — Понял. — Ну, я пошел. — Ни пуха ни пера, как говорят у нас. Полагается послать к черту. — Не умею. В приемной Икрамова он встретил редактора газеты, потного толстяка, который сразу же начал уверять, что был в Хорезме, в командировке, фельетон напечатали без него. Вошел высокий и статный человек в хорошем европейском костюме, с маленькими усиками и седеющими висками. Нарком просвещения. Мягко улыбаясь, покивал всем. И Махсудов уже не сомневался, по какому поводу его вызвали.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Пятница оставалась пятницей, Ходжикент, как прежде, наполнялся людом, базар начинал разворачиваться и шуметь, по всем дорогам из окрестных кишлаков среди гор мюриды на лошадях, на осликах или на чем бог пошлет тянулись к Салахитдину-ишану. Жизнь шла и приносила не только радости. У каждого появлялись и накапливались свои невзгоды. У одного умер новорожденный сын, и жена через день сошла с ума — нужно прочитать молитву. У второго взрослый сын уехал и пропал — уже два года ни слуху ни духу, ни сам не появляется, ни с другими не присылает привета. Что такое? Ведь человек не иголка, чтобы пропасть. Каждый день они с женой ждут сына или вести о нем. Ждут, чтобы дал знать о себе. А вести нет как нет. Нужно прочитать молитву. У третьего все время кружится голова. Как встает, так и кружится. Нужно молитву и травяной настой. Может быть, помогут. У четвертого сноха не рожает, с сыном спит, а ребенка нет. Согласилась принять сорокадневное уединение. Нужно помолиться за нее. Жалобам нет конца. Если собрать по свету все людские жалобы да погрузить на арбы, наверно, колеса не выдержат, сломаются. Вот и везут их по отдельности — каждый свою. В пятницу ишан — и священник, и лекарь, и судья. Умматали встал пораньше, чуть ли не затемно, двор полил водой, подмел, на веранде расстелил паласы, на них сделал почетное возвышение из ящика и одеял — для его преосвященства. Какие бы беды ни обрушились на голову ишана, он должен оставаться полным достоинства, соответствующего его высокому сану. Особенно в пятничный день, когда вокруг — люди, и нездешних больше, чем здешних. С тазом и медным кувшином Умматали вошел в комнату, где еще блаженствовал на постели Салахитдин. В последние дни он чаще всего лежал здесь с закрытыми глазами, как будто вовсе не желал смотреть на мир. А как-то так и заметил: — Одно блаженство осталось — своя постель. Умматали покашлял и сказал: — Ваше преосвященство! Все приготовлено к омовению. Салахитдин открыл глаза и потянулся: — Спасибо, мой верблюжонок. Умывшись или, лучше сказать, закончив омовение, как приличествует для его преосвященства, ишан влез в новый чекмень. Правильнее — началось облачение. Закончилось оно, когда ишан надел на голову большую чалму — целое сооружение из длинных полотен, умело скрученных в кольца. Умматали открыл двери жалкой хибарки торжественно, как ворота дворца, и святой ишан показался пред очами ждущих. Пока он садился на свой новый трон, Умматали поклонился народу и сказал: — Ишан приветствует вас всех, люди, а я хочу прибавить, что его преосвященству нездоровится. И только для того, чтобы помочь вам в ваших бедах, они встали. Толпа загудела облегченно и благодарственно, и это раздуло раж Умматали. Выпрямившись, он повысил голос: — Все, а может, и не все знают, как много бед принесли его преосвященству Советы. Его дом, имущество отняли, и он, смирившись, отогнал обиды от сердца, полного любви к своей пастве, переселился в эту хибарку, чтобы остаться в Ходжикенте. Одна надежда — паства больше не даст в обиду своего ишана, к которому так несправедливы Со… Умматали вдруг осекся и потерял дар речи. Он увидел в толпе учителя. Масуда. Что бы ни делал в эти дни Масуд, он жил с мыслями о Дильдор. С ними засыпал, если удавалось заснуть, и просыпался, с ними вел уроки и, если объяснял что-то другим, представлял себе, как показал бы и объяснил это ей, иногда ему казалось, будто он сейчас увидит ее, будто она была здесь, неподалеку, с ним, но какая-то другая сторона сознания, холодная и беспощадная, как лезвием отрезала фантазии и возвращала к тому, что Дильдор в госпитале, в далеком Ташкенте, и неизвестно, когда вернется и как ей там, говорят, лучше, успокаивают, а может быть… Он сам видел ее раны, ее кровь. Его рубашка была в ее крови, и он не отмывал этой крови и не давал Умринисо постирать, как будто это был кусочек Дильдор, который нельзя было позволить растворить, унести воде. Вот вернется Дильдор, тогда он и выстирает рубашку в ночной реке. А пока снял и спрятал. И надел другую. Он не мог бы сказать, зачем в этот ранний час пустого дня пришел сюда, к ишану, стоял в толпе незнакомых мюридов, привезших свои жалобы и подношения. Вряд ли он хотел попросить ишана прочитать молитву за здоровье Дильдор. Он понимал, что это бесполезно. Но душевное состояние было таким, что заставило здесь остановиться. Сейчас же, когда он услышал речь Умматали, тиски словно разжались, выпустили душу и мозг, он раздвинул руками людей, стоявших впереди, приблизился к веранде и спросил: — Что такое, Умматали? Что вы говорите? Почему замолчали? Умматали молчал и пятился, а Масуд ступил на веранду, предлагая: — Договорите свои слова. Чего бояться, если они правдивы? Не хотите? Тогда я сам договорю за вас. Ишан смотрел на него и думал: «О боже! Опять учитель. Куда деться от него?» А Масуд повернулся к людям и сказал: — Одна надежда — паства защитит своего ишана, к которому так несправедливы Советы. Это вы хотели сказать, Умматали, правильно? К этому призываете людей? Встать против советской власти? — Не мешай человеку! — послышался зычный голос из толпы, недобро настроенной к Масуду. — Я и не мешаю. Я помогаю, — ответил Масуд. — Договорил за него то, что он сам не смог, как будто ему рот вдруг набили мякиной. — Нет, ты ему помешал! — послышалось с другой стороны. — Я предлагал ему договорить самому, но он испугался. Да, испугался продолжать ложь при мне. Почему? Потому что я знаю правду. — Ну, скажи нам! — донеслось через головы ближних. — Скажи! — С радостью скажу, — Масуд приложил руку к груди. — Хоп! — А кто ты такой? — Я учитель и заведующий ходжикентской школой. Зовут — Масуд Махкамов. А больше сказать нечего, еще молодой… Кому-то понравилось его простосердечие, кого-то разозлило, разные голоса перемешались: «Давай поучи нас!», «Интересно!», «Кати в свою школу!», «Кяфыр!», шум вспыхнул, как костер в порыве ветра, и затих, едва Масуд поднял руку. — Я скажу, а вы решайте сами. Ну, вот хотя бы… У каждого из вас есть овцы, у кого — две, у кого — пять, вы их ни от кого не прячете, ни от соседей, ни от случайных прохожих, ни от вовсе незнакомых людей. Ваша овца, ваш конь. Так? Зачем прятать? В Ходжикентский сельсовет поступили заявления из других кишлаков, из Хумсана, из Богустана, где писали, что на их пастбищах пасутся бараны и кони, якобы принадлежащие ишану Салахитдину. Я сам читал эти бумаги. — Сколько коней? — Тридцать. — А баранов? — В десять раз больше. Триста. Толпа погудела и затаилась, вся — внимание. И только один голос взвизгнул неожиданно: — А может, это и не ишана кони и овцы? Может, зря написали злые руки? Еще несколько голосов пробудилось в поддержку, и Масуд опять утихомирил их жестом. — В сельсовете тоже решили так — надо проверить. Пригласили его преосвященство, показали заявления, спросили: «Ваши?» Верно я рассказываю, ваше преосвященство? — спросил Масуд, полуобернувшись к ишану. — Так, да, — подтвердил ишан, проедая Масуда алчными глазами и с невиданной скоростью вертя в руках свои четки. — Ишан сказал: «Нет, не мои. Ни кони, ни овцы. Никогда не занимался скотоводством». Так, ваше преосвященство? — Так, так, так… — А потом письменно подтвердили это, правда? — Было… Правда… — Ну вот! А теперь этот прохвост и мошенник, — Масуд пальцем своей длинной руки, вытянутой к Умматали, показал на него, — утверждает, что Советы виноваты. При чем здесь Советы? В чем они виноваты? В том, что роздали беспризорных овечек бедным хумсанцам и богустанцам? В том, что кони, которые жирели без дела, пашут теперь крестьянские поля? — А почему его преосвященство живет в такой хибарке? — спросили из толпы. — У него узнайте. Дом его стоит пустой, даже под школу мы его не заняли, хотя нам тесно. Его преосвященство ушли оттуда добровольно. Не так ли? — Так, так, так… — Сами выбрали эту хибарку? — Хорошо, сам выбрал… Сам, сам… — Наверно, для того, чтобы паства вас пожалела? — Я пришел к Умматали, потому что — больной, — оправдываясь, сказал ишан. — Умматали помогает мне… — А при чем же здесь Советы? — обратился к Умматали Масуд. — В чем они виноваты, скажите, если вы не жулик? — Эй, учитель, ты все-таки выбирай слова! — взвился Умматали. Тонкий крик его прорезался сквозь смех, кое-где поднявшийся над толпой. — Осторожно, учитель, — зычно пригрозил прежний недоброжелатель. — Жулик — это доказать надо! — Сейчас… Одно доказал, докажу и другое. — Умматали служит при святом человеке, а не по карманам на базаре шарит! — прибавил защитник. — А ему и не надо в карманы лазить, — покривился Масуд, засмеявшись горько и невесело, — вы сами их выворачиваете, свои карманы. Вон опять сколько узелков принесли, овец пригнали, на веревочках привели за собой. Для его преосвященства, для Умматали. Люди заспорили, что это святое подношение, а Масуд крикнул громче: — В прошлую пятницу другие тоже приводили овец. Я не считал, но было не меньше, чем сегодня. Где они? В два живота столько овец не влезет, как бы вы оба ни старались. Где же овцы? Я отвечу. На базаре. Сам видел, как Умматали продавал их за червонцы. Червонцы за пазуху засунуть легче, чем овец в живот. Он не лазил по вашим карманам, нет, он складывал в свой карман червонцы, которые получил за овец, подаренных вами богу. По-вашему, это честный человек, а по-моему — жулик! Раньше общей реакции теперь прозвучали выкрики в поддержку Масуда: — Истину говорит! — Правильно, учитель! — Нет, неправильно! — к веранде пробился ветхий старичок, прижимая свой узел к груди. — Неправильно! Уходи, учитель, уходи отсюда, не отнимай последней надежды. Ишан перестал беспрерывно перебрасывать четки, покосился исподлобья на старика — кажется, он его уже видел, да, наверно, видел, мало ли к нему припадало стариков. — Вы откуда, ата? — спросил Масуд, глядя на старика, трясущего головой. — Из Юсупханы… Всю ночь шел пешком. Для чего? Чтобы ни с чем вернуться? — Что вы принесли его преосвященству, отец? — Масуд показал глазами на узел. — Скажите, если можно. — Мед и кишмиш. Была овца — раньше отдал, две недели назад, травяной настой получил… — У вас болен кто-то? — Сын. Единственный сын. Лежит и огнем горит… — Давно? — Скоро месяц уже, сынок, — смягчился старик, надломленный своей бедой и растроганный сочувственными вопросами учителя, на которого он только что кричал и гнал отсюда, а все их слушали, будто это разговор каждого касался. — Травяной настой не помог? Старик отрицательно поводил из стороны в сторону трясущейся головой. Она у него не от возмущения, не от гнева, а от собственной слабости все время тряслась. — Нет, травяной настой не помог. Вот принес, что сумел, может быть, прошлый раз мало дал. Этой осенью сына женить хотел, невеста есть, а он лежит как в огне… — Я уговорю доктора приехать к вам, в Юсупхану, посмотреть вашего сына. А пока лучше отдайте сыну мед и кишмиш. Больше поможет, чем травяной настой. — А дохтур — это кто? Он выше ишана, самого ишана? — залепетал старик, еще подавшись вперед. Масуд хотел ответить, но чья-то довольно крепкая рука отодвинула его сзади, оттолкнула. Масуд повернул голову и увидел — это был сам ишан. Он сошел со своего трона и размашисто подступил к ступеням веранды. — Люди! — возвысив голос, обратился он не к Масуду, а к ним. — Я — лекарь. Мой дед и мой отец были лекарями! Горло его пищало, глаза были выпучены, как у ящерицы, и Масуд понял, что ишан боялся потерять едва ли не самый важный доход, боролся за него. В несчастье люди отдавали последнее. Лишь бы помогли им или больным их детям, их близким. В наступление, сказал себе Масуд, в наступление! — Какое лекарство вы даете от трахомы, господин лекарь? — Касторку, — важно сказал ишан. — Но это слабительное! — крикнул Масуд над головами людей, и они рассмеялись, даже без язвительности, не стремясь унизить ишана, просто это было смешно. Умматали давно уже топтался, как петух, роющий мусор, а теперь прорвался и обвинил всех: — Грех поносить его преосвященство. Прогневается бог! Смех как рукой сняло, толпа притихла. А Масуд, воспользовавшись наступившей тишиной, сказал: — Это не ваша вина, ваше преосвященство, что вы не умеете лечить людей. И ваш дед с отцом, пусть они простят меня, что тревожу их память, были лекари самодеятельные. Ни они, ни вы этому не учились. Однако же вы — ученый в другой области, вы должны знать историю и литературу. Можно ли вас спросить? — Спрашивайте, — перебил ишан, радуясь, что оставили в стороне медицину, и не сомневаясь, что в литературе он легко забьет знаниями этого великорослого мальчишку, как и в истории, и прогонит отсюда под улюлюканье толпы, подвластной магии любого успеха. Мюриды держали узелки, кто меньше, кто крупнее, овцы блеяли сзади. — Спрашивайте! — Кто такой Алишер Навои? Ишан, сжимая пальцы в пучок, несколько раз огладил клинышек своей бороды. И ответил, не глядя на Масуда: — Его преосвященство Алишер — великий государственный деятель, — теперь он искоса и насмешливо глянул на учителя, как бы говоря: «Не тот вопрос задал, мальчик!» — Мудрый государственный деятель, ученый, поэт! — Похвально, — согласился Масуд, подтверждая, что ишан прав, а толпа зарокотала, в свою очередь подтверждая, что Салахитдин-ишан знал ее, она была падкой на успех. — Алишер беседовал с шейхами, ишанами, такими, как вы, ваше преосвященство, и писал об этом в своих стихах. — М-да, это и нам известно, — сказал ишан и шагнул вперед, чтобы его виднее было толпе. — А известна ли вам такая газель великого Алишера Навои из его книги «Сокровищница мыслей»? — Какая? — Я сейчас ее прочту, если позволите… — И пока ишан не опомнился и не возразил, Масуд сразу начал:ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дальше и дальше оставалось все, к чему Масуд уже привык, что каждый день и видел и слышал. Чинаровая роща, мельница, мост… Шум реки, зябкие ночи, в которые с векового ореха около дома Салахитдина-ишана, опустевшего теперь, ухает сова. Тетя Умринисо уже, наверно, звонит в свой колокольчик, зовет детей на первый урок. Справится ли с порядком в школе Салима, которую он оставил за себя? Школа, может быть, самый мирный дом на земле, но забот в ней — хоть отбавляй! В Ташкенте он обязательно улучит минуту, зайдет в Наркомат просвещения и поблагодарит, кого надо, хоть самого Обидия, за то, что прислали двух новых учителей — Салиджана и Ульмасхон, славные ребята. В самый раз приехали — как-никак у них, в Ходжикенте, теперь около трехсот учеников, не считая тех, кто ходит на курсы ликбеза. В дороге хорошо думается. Вспоминались день за днем, и он поразился, неужели все это произошло за такой недолгий срок? Были дни разрушительные, как горный обвал. Были и такие, когда казалось, что все вокруг перерождается, чтобы расти в цвету. Люди еще не понимали, сколько сил в руки дала им новая жизнь, а он сейчас думал, что не зря в народе исстари говорят: «Мир дунет — буря, мир плюнет — море!» Невозможно переоценить эту силу — миллионы рук, взявшихся вместе за одно дело. А как ты делаешь свое дело — чекист и учитель? В странном будто бы сочетании началась его работа в Ходжикенте, этом большом кишлаке, месте племени святого пророка, но, как нигде, своими глазами он увидел, на своейшкуре почувствовал, что учеба — это политика, сколько бы ни твердили обратное все Обидии, вместе взятые. Талибджан пытался вдолбить ему свои взгляды на это однажды ночью, когда они задержались в классе. Кажется, он легко переспорил и разубедил важного представителя на живых, еще не остывших ходжикентских примерах. Между прочим, в этом громком споре, таком, что оба задыхались, он сослался на статью Акмаля Икрамова, прочитанную недавно. Не кто-то, а ответственный секретарь Туркестанского ЦК спорил с белоручками, уверявшими, что в школе нет никакой необходимости заниматься политикой и преподавать ее. Среди языка, математики, естествознания, физики и других предметов, дескать, нет места политической дисциплине. «Я считаю это явление позорным!» — отвечал им Икрамов в своей статье «Партия и учитель». Он писал… Не вспомнишь всего, до словечка, в точности, но выглядело почти так: «Что такое политика в нашей стране? Это жизнь рабочих и крестьян, жизнь народа. Быть в стороне от политики партии — значит быть в стороне от жизненных интересов рабочих и крестьян, быть не с ними, а против них, с теми, кто желает, чтобы наш народ и дальше оставался в крайней бедности и нужде». Он напомнил эти слова Обидию, и тот заметил: — Крупные люди тоже ошибаются! — А ты? Ты не ошибаешься, как пророк? Смешной этот Обидий, настоящий индюк. Он кричал: — У тебя даже песни политические! Ладно, вернемся к тебе, Масуд. Как ты справился с задачами, возложенными на тебя? Какая польза от тебя людям? Что ты скажешь секретарю, к которому едешь, молодой чекист и молодой учитель? Не только твоя это заслуга, но преступники раскрыты, убийцы узнаны. Главный из них еще гуляет на свободе, но, наверно, слишком звучно сказано — гуляет. Скрывается. Наверняка найдут его. Найдем. А школа? О, об этом есть что рассказать. Занятия идут и пойдут еще лучше, потому что первый вопрос действительно связан со вторым, и раз убийцы пойманы или загнаны, в кишлаке станет спокойнее, товарищ Икрамов, прежде всего в школе, и учеба… Это ведь не просто убийцы, а убийцы учителей. Он как будто бы уже разговаривал с Икрамовым. В этом году он дежурил на первомайском празднике возле моста Урду, а руководители проехали на «форде» не здесь, и Масуду не довелось увидеть их. Он видел Акмаля Икрамова только на портретах — на праздничной демонстрации. Читал о его непростой жизни. Был Акмаль сыном муллы, но еще подростком порвал отношения с отцом, пошел в рабочие — своими руками зарабатывал на хлеб, половину тратил на книги, которые всегда тянули его к себе, увлекался поэзией, мог часами читать стихи на память. И сейчас иногда печатал в газете свои стихи, подписанные — Акмаль. Вот кто был настоящим интеллигентом, но от политики, от политической работы смолоду не отрывался. Она была его душой. Он окончил русско-туземную школу, как тогда, до революции, называли, пробился в нее, поразив всех своими способностями, а потом и сам работал учителем и в учреждениях просвещения. В 23 года его избрали секретарем ЦК, и вот уже третий год он возглавлял высший партийный орган Туркестана. Кто слушал его выступления, надолго запоминал. Талантливый оратор. А Масуду ни разу не довелось услышать, и вот теперь увидит и услышит с глазу на глаз. Масуд быстрей закрутил педали, а в голове стояло: «Икрамов был учителем, выходит, я — его коллега…» Мысль эта наполняла гордостью и чувством ответственности, перед которым можно было оробеть. Ведь учителя — первые помощники партии. Об этом и писал Икрамов в своей статье. Кадыр-ака, провожая, сказал, что в Байткургане у него знакомый чайханщик Джурабай-ака, можно остановиться и отдохнуть, но Масуд только поздоровался, передал чайханщику привет от его ходжикентского друга, купил горячую лепешку и — дальше, в путь. Пожевать можно и на ходу… Уже и Кибрай остался за спиной. Чем ближе подъезжал он к Ташкенту, тем сильней билось сердце. Здание ЦК находилось в зеленом районе города. Двухэтажное, кирпичное. Прислонил свой велосипед к акации у арыка, присел на корточки, умылся, отряхнув пыль с одежды и отерев сапоги пучками травы. Ну вот… Дежурному милиционеру он показал удостоверение работника ГПУ. Тот полистал толстую тетрадь, задержался на его фамилии, выписал пропуск и взял под козырек. Давно уже Масуд не видел этих жестов. Милиционер кивнул на лестницу, застланную красной дорожкой: — Второй этаж, третья дверь налево. В приемной, за маленьким столиком с двумя — ого! — телефонами сразу, сидела русская женщина и что-то писала, потряхивая коротко остриженной, мальчишеской головой. Подняла глаза на Масуда: — Вы откуда, товарищ? Масуд протянул ей пропуск. — Здравствуйте, — сказала она. — Акмаль Икрамович сначала велел узнать — вы читали газету? — Какую? — Значит, не читали? Он так и решил, что газета еще не дошла до кишлака. Вот эту, — секретарша вынула из своего столика газету и протянула Масуду. — Ознакомьтесь, подумайте, а я доложу. У стены, в ряд, стояли стулья, он опустился с газетой в руке на ближний, а секретарша встала, подошла к двери, обитой черным дерматином, и скрылась за ней. Масуд сразу нашел статью. «Плут или учитель?» Т. Обидов. Знак вопроса в заголовке был лишь условностью, лишь формальным предлогом, чтобы доказать, что он плут. Он, Масуд Махкамов… Легкомысленные песни со «святого» камня. Кураш — борьба за деньги. И еще — байская дочь… Дильдор! Какая гнусность, когда она… когда жизнь ее на волоске… Его Дильдор! Как ты посмел, Обидий? Лицо Масуда налилось кровью. А душа, в которой всю дорогу бушевали самые высокие мысли и страсти, не то что сложила крылья, а будто с лёта ударилась обо что-то острое, как гвоздь. Так вот зачем вызвал его Икрамов! От него ждут объяснений, а он-то! Он и не заметил, когда вышла и села за свой столик секретарша, потому что вчитывался в статью, в каждое ее слово, в каждую букву. Потом встал, вытянувшись: — Я готов! Секретарша посмотрела на сухощавого, длинного парня с горящим лицом и ответила: — Сейчас, — словно давала ему остыть. — Посидите еще минутку. Но он стоял навытяжку, как поднялся. Из кабинета вышел седой мужчина с сердитым лицом, кивнул секретарше: — До свиданья, — и ушел, размахивая портфелем, а она сказала Масуду: — Заходите. — Без вас, один? — Акмаль Икрамович ждет. Пожалуйста, — она показала на дверь и тихонечко улыбнулась, сочувствуя или ободряя его — было непонятно. В кабинете он застыл, обомлев, у самой двери, а Икрамов вышел из-за стола красного дерева и уже подходил к нему с протянутой рукой. Рука у него была крепкая, как у кузнеца. Задержав ее в рукопожатии, он сказал: — Я не думал, что вы так быстро приедете. Не отдыхали в дороге? Масуд напряг все свои силы для спокойствия и все познания из, как говорят старинные мудрецы, книги восточной вежливости: — А вы как, товарищ Икрамов? Как себя чувствуете? Не устаете? — Для уставания нет времени, — ответил Икрамов и жестом пригласил его сесть у стола, а сам приоткрыл дверь и попросил секретаршу, чтобы к нему никого не пускала, он будет занят, сколько потребуется. Масуд, словно бы забыв о своих тревогах, рассматривал его: ниже среднего роста, высоколобый, волосы, закинутые назад, топорщатся непокорно. И немного лопоухий. «Точь-в-точь как на портрете», — проскочила невольная мысль. Икрамов уже вернулся за стол и смотрел на него синевато-черными глазами, изучая. — Трудно вам в Ходжикенте? — спросил он наконец. Масуд подумал, и лицо его опять налилось кровью — он ощутил это, пламя забегало по щекам. — Трудно. Но хорошо. Я останусь там на всю жизнь, если не прогоните. Узкое, жилистое из-за худощавости лицо Икрамова тронула улыбка, а брови осели. — Статья несправедливая! — вскрикнул Масуд, не дожидаясь вопроса, а Икрамов пододвинул к нему, на край стола, у которого сидел Масуд, газету, свернутую так, что вся статья была видна, некоторые места в ней подчеркнуты карандашом и пронумерованы сбоку, она была изучена, эта статья, как важный труд. — Несправедливая! — повторил Масуд в отчаянной решимости. — Поговорим о ней не спеша, — попросил Икрамов, поднятой ладонью как бы останавливая его вспышку. — Время у нас есть. Постарайтесь мне ответить на все вопросы, — он кивнул на газету и, скрестив руки на столе, приготовился слушать. — Первое, — Масуд прочитал про себя строки, подчеркнутые у цифры один, и начал рассказ. Наверно, он говорил больше, чем надо, и подробнее, но Икрамов не перебивал его, а иногда что-то замечал, записывал, придвинув к себе лист бумаги. — Вы простите, Акмаль-ака, — сказал Масуд, — я не хочу прятаться за вашу спину, но ведь, позоря меня, эта статья, как я понимаю, подсовывает динамит под все ваши мысли о школе, о политике и учебе, которые неразрывны. Не потому, что вы так писали, я это говорю, а потому, что я это сам испытал в Ходжикенте. Вы писали правду! — Да, статья нацелена не в одного вас и не в одного меня, — взмахом руки и взглядом поддерживая Масуда, сказал Икрамов. — Это можно было бы пережить, не в нас дело. Я рассматриваю статью как политическую диверсию, и вы, молодой учитель, тоже правильно поняли ее, молодец! К Масуду возвращалась жизнь. Икрамов рассказал, что уже беседовал с Махсудовым и его помощником Трошиным, с наркомом просвещения, редактором газеты и Исаком-аксакалом — сильная, колоритная натура, и Масуд поразился, что у секретаря ЦК нашлось время и для него, но ведь правда, что вопрос был шире и глубже одной его судьбы. — Ясно, — говорил Икрамов. — Они использовали кое-какие моменты из вашей ходжикентской жизни, вывернули их наизнанку, чтобы в обобщении нанести удар по нашей учебной практике и политике. Но ведь и это не все. Даже это частность. Частность, из которой торчат уши пантюркизма и панисламизма! Подрывая нашу политику, они надеются протолкнуть и вести свою. Без политики жизни нет, учит Ленин. А политика у нас с ними разная. Они — националисты, а мы интернационалисты. Защищая так называемую «чистоту» образования, мнимую чистоту, они стараются закрыть в нашу школу двери другим культурам, и прежде всего русской, богатейшей в мире! Понимаете это? — Да. — Интернационализм — это простор, а они хотят предложить народу узкую, ограниченную национальными стенками тропу. И пугают народ, что у него отнимут все национальное. Какая чушь! Зловредная, узколобая чепуха! Икрамов припомнил вдруг, как в Намангане, где он преподавал, какой-то угрюмый курсант спросил его, можно ли будет при советской власти носить тюбетейку. «Почему же нельзя?» — «А интернационализм?» Пришлось отвлечься от урока и объяснять ему и всем, что тюбетейка, киргизский колпак, русская кепка — разные головные уборы, но все они служат одной цели — накрывать голову. Носите на здоровье, кто к чему привык! Важно не то, что на голове, а то, что в ней! Под тюбетейкой, под кепкой. И люди, и одежда выглядеть могут по-разному, была бы цель одна. Угрюмому это очень понравилось. «О-о, — сказал он, — тогда я интернационалист!» И сразу перестал быть угрюмым. — Знаете, про тюбетейки, будто их запретят носить, ему мог какой-нибудь ишан сказать, — и Масуд обрисовал все хитрости Салахитдина-ишана, к которому приходит столько людей. — Но ведь, простите, Акмаль-ака, люди к нему идут, потому что больше идти им еще некуда… И прибавил несколько слов, покороче, потому что волновался за время, отнимаемое у секретаря, о старичке, виденном сегодня на рассвете, трясущем своей седой головой в заботах о больном сыне. — Ходжикент — большой кишлак. Вот бы там открыть медицинский пункт. Такой бы это был удар по религии! — Да! — Икрамов сделал резкую заметку на листе и дважды подчеркнул ее. — Откроем. Это я вам обещаю лично. Обязательно откроем. Обязательно! Религия и национализм — они вместе, они союзники против нас. Два клыка одного зверя, жаждущего перекусить нам глотку. Две руки одного врага. — Я уверен, Шерходжу наставлял не только отец, разъяренный тем, что лишился власти и богатства, но мог и Салахитдин-ишан благословить его. — Шерходжу? — сузив усталые глаза, переспросил Икрамов, и вдруг лицо его оживилось человечной тревогой и вниманием. — Как Дильдор? — Еще не видел ее, — растерянно проронил Масуд. — Вот… Прямо от вас — к ней. — Мой привет ей, — не между прочим, а серьезно сказал Икрамов. — Мужественная девушка. Такое мужество джигита украсило бы! Масуд понял, что отец все рассказал про Дильдор и про него, во рту пересохло от волнения за нее, усиленного словами Икрамова, и он проронил: — Спасибо. Он подумал, что на этом окончится их беседа, которой не забыть, а Икрамов сказал: — Но сначала хоть чаю хорошо бы выпить и съесть чего-нибудь, а то ведь так и останетесь голодным! Масуд начал отказываться, уверять, что зайдет в чайхану, не пожалеет минуты, а Икрамов уже позвал секретаршу и попросил принести чаю с лепешками. За дверью, раскрытой секретаршей, Масуд увидел, что на стульях у стены сплошь сидят разные люди, набравшиеся в приемной, и заерзал, говоря, что ему неудобно, что он не голодный, у него лепешка была с собой, а Икрамов слабо махнул рукой: — Людей ко мне много ходит. Больше половины таких, что я и не звал… Стараюсь всех выслушать. Интересно, иногда значительно. Но бывает… Вот сейчас, вы видели, вышел от меня человек с тугим портфелем? Седой, неглупый, даже умный, можно сказать, но… уже оторвался от земли, а приходил спорить по самым жгучим вопросам земельной реформы. И так настойчиво, темпераментно, хотя — не прав. Странное дело! Пяти лет не прошло, как расселись новые люди по своим кабинетам, а кое-кто уже успел захлопнуться от рабочего и крестьянина, старается по своей прихоти двигать ими, как пешками на шахматной доске, и получает мат! Не знают жизни простых людей, а требуют к себе уважения, почтения, раз носят кожаный портфель! — У Обидия тоже тугой портфель, — вспомнив, сказал Масуд. — Только не известно, что он в нем носит. — Да, тут можно повторить: неважно, какой у тебя портфель, важно, что в нем… А вот и чай! Пожалуйста. Чай принесли в тонких стаканах с подстаканниками, которых Масуд до сих пор никогда не видел. Он положил в свой чай кусочек сахара и стал мешать осторожно, стараясь не задевать о стакан и не звякать ложечкой. А Икрамов стучал своей ложечкой быстро и отчаянно и остановился внезапно: — Знайте, у нас в наркомате будут перемены. Я имею в виду Наркомат просвещения. Думаю, они коснутся не только Обидия… — Разрешите мне доложить, товарищ Икрамов, — сказал Масуд, проглотив кусочек лепешки, — уже не как учителю, а как чекисту… Талиб Обидий тайно и по крайней мере дважды встречался с Салахитдином-ишаном. Первую ночь, приехав в Ходжикент, провел у него… Перед этим он старался не говорить об Обидий, считая неудобным самому касаться автора фельетона. Но теперь, в изменившейся ситуации, посчитал это неоправданно гордым и глупым мальчишеством, которого надо было стыдиться. Икрамов выслушал, откинувшись на спинку стула. — Знаю. От Трошина. Еще одно подтверждение, что национализм и религия находят друг друга и действуют рука об руку. И первые удары направляют против школы. Они боятся знаний. Больше огня! Невежество и предрассудки — незримые людские оковы — их друзья. А учитель — их первый враг! — Поэтому они и убили Абдулладжана и Абиджана. — Да, — задумчиво проговорил Икрамов, забыв о чае, — школа — наша мечеть. И Масуд понял, что унесет отсюда эту фразу, простую и глубокую, вобравшую в себя так много. — Порадую вас, — сказал, счастливо улыбаясь, Икрамов. — Подготовлено решение, и на днях правительство примет его — о строительстве в Ходжикенте нового здания большой, достойной этого кишлака школы. Можете привезти эту новость в Ходжикент… Масуд засиял и воздел к потолку обе длинных руки: — Рахмат! — И есть у меня такие мысли: нужно увековечить память двух погибших учителей… Новую школу мы назовем именем первого из них — Абдулладжана Алиева. — Да, он заслужил, он первый… — А вот с Абиджаном Ахмедовым? Как лучше? Не подскажете? Масуд подумал: — Пионерская дружина. — Она уже действует у вас? Молодцы! Как хорошо! Каждый день пионеры, выстроившись, на поверке будут первым называть имя Абиджана. Правильно. Пройдет много лет, а оно будет звучать. Всегда. Это — бессмертие! — А другие учителя будут стараться быть достойными первых, потому что… Икрамов снова наклонился к нему, даже стул пододвинул, чтобы быть поближе: — Потому что нам нужны образованные люди. Жизни нужны! Как полю — плодородные зерна для обильной жатвы. Математики, физики, гидротехники! Недалеко то время, когда весь Туркестан засияет электрическими огнями. В Москве, на съезде Советов, я видел Ленина, смотрел на карту с планом ГОЭЛРО, слушал выступавших и думал о наших темных кишлаках и о том, что дни этой темноты сочтены. У нас есть реки, есть невиданная природная сила, не хватает специалистов! Вот почему в каждом учителе живет наше будущее. Тебе ясно, братишка? — Да, Акмаль-ака. — Чувствуй себя не просто грамотным человеком с кусочком мела в руке, а создателем новой жизни, мечтай о ней. Едва проснулся, мечтай! — Да, Акмаль-ака. — А дети? Как они учатся? С интересом? — О! Я мог бы рассказывать до утра! — Скучаю о детях, о школе, — искренне сказал Икрамов. — Дам тебе совет. Береги у детей тягу к знаниям. Забудешь поругать — не беда. Всегда старайся вовремя похвалить. Мы еще не раскрыли наших детей. Они как клады. Может быть, в одном из них живет Бируни, в другом — Улугбек. А в третьем — Ломоносов! — Простите, Акмаль-ака, кто такой Ломоносов? Я еще не слышал. — Великий русский! — ответил Икрамов и повторил: — Великий! Из далекой северной деревни, мальчишкой, за санями с обмерзающей лошадью прибежал в Москву, чтобы учиться. Учился день и ночь. Сам стал писать учебники. И стихи писал, между прочим! Все ему было интересно: словесность и точные науки. Ученым стал, возглавил академию. Потянутся такие же мальчишки из наших кишлаков в Ташкент. Мы им оседланных лошадей дадим, не пожалеем. Садись, езжай в академики, служи народу! — Я понял, Акмаль-ака. — Что ты понял, братишка? — Чтобы учить, надо самому учиться. Мне иногда тоже снится, как я снова приехал в школу… Икрамов улыбался и помаргивал прищуренными глазами. — Учиться можно и надо каждый день. У народа — его знаниям, доброте, трудолюбию. У природы. Она много дает разуму, если наблюдать за ней, а не просто любоваться. У книг…ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
А ей становилось хуже. И его не пустили к ней в палату. Сначала он не мог даже поверить, что не увидит ее, прикладывал ладонь к груди и повторял всем, что он из Ходжикента, что люди будут спрашивать его о ней и он не сможет ответить, что не видел Дильдор. Люди станут презирать его и будут правы. Он не какой-нибудь посторонний. Он — учитель из школы, где она начала заниматься на курсах ликбеза. Как же он не проведает свою ученицу? Почему? — Потому что ей плохо. Для ее же спокойствия допуск к ней запрещен. Это понятно? — спросила его строгая и немолодая женщина в очках, глянув на него в стеклянное окошко терпеливо, но недобро. — Нет, — сказал он, — непонятно. — Жаль, что вы не понимаете, — сказала женщина, качая головой и вернувшись к своим записям в толстом журнале. — Ведь это для ее же пользы. Ее надо беречь. Приходите в другой раз. — Я не пришел, а приехал. Издалека. — Приедете снова. — Но сейчас, когда я уже здесь… — Вы что, не хотите поберечь ее? — спросила женщина, второй раз подняв на него неуступчивые глаза. — Жизнь готов отдать! Женщина что-то поняла, лицо ее смягчилось, глаза подобрели. «Пустит!» — подумал Масуд, и отлегло от души. А она посоветовала: — Подождите главного врача. Он сейчас на обходе. Я сама не могу. — А кто главный? — Сергей Николаевич. Как же это сразу не пришло тебе в голову? Слишком ты перевозбужден, Масуд. Надо сесть на скамейку и успокоиться. Придет Сергей Николаевич, тот самый, который приезжал за ней в Ходжикент, и сразу все изменится. И он пустит тебя к Дильдор, и она почувствует себя лучше. Зал регистратуры казался ему большим. У стеклянных окошек толпились люди. Иногда больные спускались сюда к своим родным, кто с перевязанной рукой, кто на костылях, все в халатах из полинявшей байки. Ну пусть его не пустят наверх, может быть, к нему вот так же спустится Дильдор, и он расскажет ей… Стали вспоминаться какие-то фразы и моменты недавней встречи с Икрамовым. Книги, которые ему пришлют, они будут читать вдвоем с Дильдор. Самые интересные книги на земле. Сколько их, еще не прочитанных книг. Ничего, они с Дильдор молодые, все успеют… Икрамов сказал: учиться надо каждый день — у людей, у природы… Они с Дильдор не потеряют ни дня, ни часа. Обрывки этих воспоминаний и раздумья вдруг рассекла острая, как бритва, догадка. Проклятый Шерходжа может быть в Ташкенте, и к Дильдор закрыли всякий доступ, кроме своих, знакомых и проверенных людей. Верно. Очень верно! Он подошел к овальной дырке в стекле, за которым сидела женщина, и сказал: — Я не Шерходжа. Меня зовут Масуд Махкамов. Она вздохнула, как видно сдерживая себя, чтобы вконец не рассердиться, почистила перо своей ручки промокашкой. — Неважно, как вас зовут. Вы не волнуйтесь. Вытрите хорошенько ноги и пройдите в конец этого коридора, там кабинет Сергея Николаевича, там его и подождите. Не прозеваете. То ли она действительно хотела ему помочь, то ли отправляла от себя, чтобы он больше не мешал. Он решил сидеть у кабинета главного врача С. Н. Орлова хоть целый день, хоть всю ночь, но дождаться. Не прозевает. Он сидел, опустив голову на руки, закрыв глаза ладонями, когда услышал над собой знакомый голос: — Вы ко мне? Масуд вскочил и сразу стал на голову длиннее старичка врача в золотом пенсне. — Здравствуйте, Сергей Николаевич! Я к вам. Можно? — А-а, — ответил он, разглядев Масуда, — ходжикентский знакомый, заходите. Усевшись перед маленьким столом в его кабинете, Масуд начал так: — Правильно! Это очень правильно, что вы к ней никого не пускаете. До сих пор не схвачен Шерходжа, он человек безумной жестокости, настоящий убийца, на его совести не одна жизнь. Он может под любым предлогом пробраться сюда и свое кровавое дело… — Да, Масуджан, — перебил Сергей Николаевич, — я все знаю от вашего отца, мы уже говорили об этом… Но, к сожалению, я никого не могу пустить к бедной Дильдор… — И меня? — И вас. И вас тоже. Скрестив пальцы, Масуд так сжал свои руки, что они хрустнули на всю комнату. — Вы похожи на своего отца, — сказал Сергей Николаевич, а Масуд молчал. — Я узнал вас еще там, в Ходжикенте. Махкам Махсудович сказал мне, что увижу вас, и я сразу узнал, хотя впервые видел давно, когда вы были еще подростком и приходили сюда с матерью… — Пустите меня! — поднял голову Масуд. — Я оперировал отца после осиповского восстания, и вы… — Пустите! — Я не зря говорю, как вы похожи на отца. Надеюсь, не только внешне. У вас, надеюсь, и выдержки не меньше, чем у Махкама. Масуд молчал, не разнимая рук и глядя на врача. — Вы уже назвали Шерходжу убийцей, и это может стать правдой по отношению к Дильдор. — Она умерла? — Она жива… Ей было капельку лучше в первые дни. Лекарства помогали. Но сейчас… Сергей Николаевич умолк, а он ждал и не вытерпел: — Что? — Сейчас ей хуже. Я звонил Махкаму Махсудовичу. Не знаю, как он не удержал, не предупредил вас. Не смог? — Я еще не видел отца. В одном месте был, по важному делу, меня вызвали. И сразу сюда. — Понятно. Мне все понятно, — грустным и добрым взглядом сопровождая свои слова, сказал Сергей Николаевич, — я понимаю… — И не пустите? — умоляюще спросил Масуд. Старик снял и повертел в руках пенсне. — Если она спит… Сейчас проверим. Если спит, я пущу вас на полминуты, взглянуть. Вы обещаете мне, что это — все? Что вы… — Обещаю. Но Сергей Николаевич продолжал: — Она много спит от крайней слабости, и это полезно. Берегите ее. Приоткрыв дверь, заглянула санитарка: — Сергей Николаевич… Он остановил женщину: — Халат, пожалуйста. И тапочки… Халат побольше, — посмотрев на Масуда, крикнул он вслед ей. — Вера Семеновна! Я уйду ненадолго, сейчас вернусь… Слышите? Шли по тихому коридору, и старый врач говорил: — Один удар… удар ножа… задел сердце. Тот, который в левый бок… Если даже, как я надеюсь, эта рана заживет, то ей придется долго лежать без движения. Без всякого… Понятно? Масуд кивал. — Но если она увидит… что я здесь, приехал, — спросил он, — ей не станет легче, Сергей Николаевич? — Да. Она может улыбнуться, повеселеть… — Вот! — Дорогой мой, — остановился Сергей Николаевич, — вы увидите лицо, что происходит на нем. А я вижу сердце… Оно заколотится, и это напряжение может быть последним. Теперь Масуд крепко замолчал и, шагая рядом с врачом, молился, чтобы Дильдор спала, крепко спала, не услышала ничего, не узнала его во сне. — Я расскажу ей, что вы приезжали, найду такую минуту, когда ей можно будет это сказать. И что вы приедете еще, и приедете к ней, как только я позволю. А сейчас передам… Что ей передать? — Далеко от меня светят звезды, их много! Но такой, как она, не найти среди звезд… Я люблю ее, Сергей Николаевич. Там дело, работа, без которой нет нас, мужчин, но каждую минуту я и здесь, с ней. Для меня нет никого дороже. — Я скажу ей это. …Масуд поел дома, проникаясь нежностью к хлопочущей матери, побеседовал с отцом, рассказав о встрече в ЦК и выслушав наставления, как все время нужно быть настороже, потому что Шерходжу не нашли в Ташкенте, перевалы закрыты, и он может появиться в кишлаке. — Не волнуйся, отец, — успокоил он, — я сейчас сильнее, чем раньше. Я ведь не один… Все понимающий отец положил руку на плечо ему: — Я говорю с Сергеем Николаевичем по телефону. И мы бываем с мамой в госпитале. Мы заходим. Мама чаще меня, конечно, но и я… Они обнялись, и вот он уже часа три опять крутил педали своего «аэроплана» и катил по дороге, ползущей вверх, вверх. А лицо Дильдор стояло перед ним, и ничто не могло заслонить его — ни встречные арбы, ни всадники, ни люди, шагающие с котомками на плечах. Дорога, как река, несла проезжих, прохожих, безымянные жизни, незнакомые судьбы. Осенние сумерки быстро сменились туманами, туманы — темнотой, кое-где пробитой одинокими огоньками. А лицо Дильдор маячило перед ним, как будто он ехал к ней. Дильдор спала у окна, на койке, разбросав черные волосы по белому квадрату подушки. Лицо ее было открыто, как будто для того, чтобы Масуд мог получше рассмотреть его от дверей. Никогда оно не было таким дорогим и близким… Бледное, сильно осунувшееся. Но, может быть, это казалось от хмурого света осеннего дня за окном? Лампа, подвешенная к потолку, еще не горела. Окно глядело во двор, и было тихо, городской шум не проникал сюда. Масуд стоял молча, хотя беспрерывно шептал в уме, про себя: «Спи, любимая, набирайся сил. Мы с тобой еще споем и станцуем на нашей свадьбе. Спи…» Он старался не замечать усталости, наливавшей своей тяжестью ноги, и стремился до полной темноты доехать хотя бы до Байткургана, чтобы переночевать у знакомого чайханщика Джурабая-ака. Лишь один раз он вздрогнул, когда его обогнал внушительный всадник на вороном коне. И понесся… Вороного угнал Шерходжа, убив Халмата. Шапка в меховой опушке, может быть, кунья, как у него, по описанию примет. Но этот, быстро скрывшийся в темноте, вроде бы долговязый, а Шерходжа… И не такая бестолочь Шерходжа, чтобы не сменить шапки. И конь мог показаться вороным в темноте, а на самом деле — серый или даже белый. Если это Шерходжа, почему не остановился? Не узнал его? Тоже ведь есть свои, сообщившие ему, что Масуд уехал на велосипеде, а это не такая уж частая штука на Газалкентской дороге. Крути педали, Масуд.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Шерходжа был еще в Ташкенте. В то первое утро, когда он спал на плече Тамары, ее сердце еще раз доказало всю оправданность странных женских предчувствий, иногда кажущихся дикими и бессмысленными. Но, может быть, женщиной руководят какие-то инстинкты любви и беспокойства, потому что нельзя же, в самом деле, приписать это высшей силе. Так или иначе, Тамара рано разбудила Шерходжу, еще в постели накормила его, ворчавшего и даже безжалостно ругавшего ее, а потом, едва явился на работу Закир, без лишних церемоний пообещала ему немалые деньги, если он найдет где спрятать дорогого ей человека. И насчет вайвояка, маузера. За особую плату, конечно. Разговор о маузере и суммы, названные Тамарой, без лишних слов дали понять Закиру, что человек не просто дорогой, а и вполне серьезный. — Не беспокойтесь, хозяйка, — ответил он. — Я постараюсь. Все можно. Это вернуло Тамаре силы и надежды, еще вчера казавшиеся не угасающими, а уже угасшими. Все утерянное безвозвратно вдруг вернулось вместе с Шерходжой. Жизнь обманчива. Нет, не жизнь, а представление о ней. В самые безрадостные минуты, когда нет просвета впереди, словно будущее — за черной стеной, вдруг проглядывает солнце и открываются дали, еще неясные, не освещенные безмятежно, но говорящие, что будущее есть и за него нужно бороться. Платой жизнью за жизнь? Может быть. Она была готова и на это. Неясные дали наполнились обещаниями, а жизнь не выполняет обещаний, если сидишь сложа руки. Те, кого она ждала и боялась, явились раньше, чем Закир увел Шерходжу, как обещал, куда-то в укромное место. Они уходили черным ходом уже при стуке в уличную дверь, и она думала, не спуская глаз со спины Шерходжи: «Неужели я больше никогда не увижу, не обниму этой спины? Пусть! Только бы он был жив!» В дверь стучали, грохоча. Тамара открыла, зевая. — Вы чего не отворяете? — Спала. — Долго проснуться, что ли? — Постель убирала. Вы же ходить будете по дому. Смотреть. — Могли и позже убрать. — Я молодая женщина. Неудобно. Вы хоть из ГПУ, а мужчины, будете пялиться. Убрала постель и оделась… — А откуда знаете, что мы из ГПУ? — Другие так не стучат. Хоть немного уважают хозяев. А вам плевать. — Потише, хозяюшка. Много вы знаете про ГПУ! — Ко мне уже приходили, вот и знаю. Идите куда хотите, ищите кого хотите. Ваше дело. В эту минуту вошел со двора еще один молодой, черноусенький джигит в форме, сопровождаемый тетей Олией, и доложил одному из двух, вошедших в дом с улицы: — Конюшня пустая. — Ах, вы уже ищете! — сказала, усмехаясь, Тамара, а в душе все сжалось: понятно, ради кого они пришли и кого ищут. — Хорошо посмотрели? — спросил тот, кому докладывали, вероятно главный. — Конечно. Конюшня и есть конюшня. Без подвалов. Да и был бы подвал, жеребца в него не опустишь. — Подвалы есть в доме? — спросил главный. — Покажите все до одного. Тамара взмахнула веками — пожалуйста. И подумала: «А где же спрятал его Закир? Надежно ли это? О господи!..» Трое из ГПУ дотошно перерыли все комнаты, спускались во все подвалы с запасами продовольствия и всяким, уже давно ненужным барахлом, осмотрели сарай с дровами и каменным углем, ковырялись там. Даже в баню заглянули, и главный спросил: — Когда здесь купались? — Вчера. — А кто? — и повертел в пальцах круглый обмылок, облепленный черными волосами, свернувшимися и засохшими. — Я! Не имею права в своей бане купаться? Спрашивать у вас позволения должна? Телефона нет. И номера ГПУ не знаю. Оставьте номер, буду спрашивать, в ресторан Якуба бегать каждый раз перед баней, у него телефон есть. Начальник хладнокровно переждал ее вспышку. — А еще кто купался? — Работница. И приказчик! — добавила она на всякий случай и тут же пожалела, об этом, вдруг они, пройдя в лавку, спросят об этом у Закира. Но он хитрый, он догадается… Господи! Круглый обмылок лег на полку, и Тамаре стало немного легче. Пошарив в лавке, гепеушный начальник действительно спросил у Закира о бане. Не сразу, а, как они говорят, с подходцем. — Вы вчера рано ушли? — Хозяйка отпустила, — настороженно ответил Закир, не называя времени. — Домой спешили? — У меня жена молодая. Недавно женился… — А в баньке все же попарились? Закир задержал ответ на самую крохотную долю времени. — Ну конечно! Я же сказал — жена молодая… Да и раньше всегда купался, когда хозяева топили баню. Люблю. И — бог велел. Так и ушли проклятые гепеушники ни с чем. Умница Закир! Прибавить ему денег не жаль… Правда, Шерходжа был о нем несколько иного мнения. Первое, что он сказал, вернувшись в спальню через час после ухода этих, из ГПУ: — Закир тебя обворовывает. — А как ты узнал? — Тамара удивилась и развела ладонями, как индийский болванчик. — У него из лавки есть ход в угольный сарай. А под углем — сундук в земле, куда он и откладывает… — Что? — Куски ханатласа, бархата, самого дорогого… — В этом сундуке ты и отлежался? — На бархате. — Хвала аллаху! — Я говорю — он воришка. — Зато тебя спас. Ничего ему. Ни слова. Не смей! — На это он и рассчитывал… — Мог сказать — негде мне вас спрятать. Не сказал же! — Ладно! Все воруют. Наш Кабул-караванщик у отца тоже потаскал. Других кормить — готовым быть, что половину присвоят! Никто себя не забудет. Такой была жизнь, Тамарочка, такой и останется… Человек такой — во веки веков! Спасенный, он ко всем и ко всему был настроен относительно благодушно и рокотал без злобы, без запала, всем и все прощая. Кроме, конечно, тех, кто был врагами до смерти, простить кого и означало убить себя, умереть. Но об этом сейчас не вспоминали, и Шерходжа был добр и ласков. Он, оказывается, умел быть и таким. Только иногда хмурость овладевала им, заботы стягивали лоб в морщины, и Тамара уже поняла, что в такие минуты его лучше не трогать и ни о чем не спрашивать, даже не предлагать своих способностей утешить, отключить от забот. Он огрызался и отталкивал. Он был настоящим мужчиной, озабоченным своей судьбой, а значит, и ее судьбой. Да, они спасены, но на время. Это и ей ясно… А что делать? В тот день настроение Шерходжи менялось много раз. После обеда он стал совсем мрачен и недоступен, и тут постучался и вошел Закир, уже знавший, кто именно скрывается в доме и кому нужен вайвояк. Но пока он принес не маузер, а газету. Лицо его, мелкое и какое-то бесформенное, мятое, улыбалось, изображая радость. — Барин, — проверещал он, обращаясь к Шерходже, валявшемуся на постели в одежде, лишь подставившему мягкий стул под сапоги. — Я принес газету, вот… — Зачем? — По-моему, интересно для вас. Шерходжа нехотя взял газету. — Что тут читать? — Вот это. Прочитав, Шерходжа вскочил и забегал по комнате. Плюхнулся в кресло и перечитал статью. Было от чего воспрянуть духом. Ай да Обидий! В подземелье ходжикентской мельницы несчастный Кабул рассказывал о нем, а Шерходжа слушал от скуки, потому что больше нечего было делать. Внутренне он издевательски смеялся над этими Обидиями. Из всех способов борьбы он верил только в пулю. Но вдруг и слово заставило его воскликнуть: ай да Обидий! Это было слово, не просто брошенное на перекрестке или на базаре. Это была газета, которую взяли сегодня в руки многие люди, грамотные, конечно, но, наверно, и безграмотным прочли вслух. Это было нечто крылатое, что полетит по другим городам и кишлакам и найдет многих и многих довольных сопереживателей. Статья напоминала выстрел, попавший в цель. Шерходжа откинулся в кресле и подумал: похоже, что этот выстрел готовился не одним Обидием. Тут и Салахитдин-ишан, и мельник Кабул. И еще кто-то… Строки про Дильдор, с одной стороны, разозлили Шерходжу, потому что касались его, выносили на позор перед всеми, к кому в руки могла попасть газета, имя Нарходжабая, отца, но с другой стороны… Он был прав, наказав предательницу. Не посчитался с тем, что она — сестра, и любимая, его не остановило это, наоборот… Жаль только, что в газете не написано про карающий нож. Шерходже подумалось, как он был бы рад, если бы в газете сообщили, что изменница убита родным братом. Это прославило бы его в глазах всех стариков, верных богу, и всех молодых, готовых сражаться за веру и свою жизнь, всего исламского воинства! Ну ладно, придет день, о нем еще сложат легенды. Все вернется в руки. И богатство и власть. Вот в эти руки… Они убили первого учителя. И второй отправлен на тот свет и выброшен в реку не без его участия. И сестра-изменница узнала их неотвратимую силу. И Халмат… А сам он жив. И на свободе! Вот. Бойтесь Шерходжу, враги. Через два дня, во время завтрака, Закир тихонько положил на стол новую газету и ушел, качая своей головкой и вздыхая. — Что такое? Быстро зашуршав газетой, Шерходжа нашел опровержение, которое давала редакция. Факты, изложенные в статье Обидия, оказывается, не подтвердились. Все в этом изложении было искажено, поставлено с ног на голову. И за злостную клевету Обидий снят со своей работы, а сотрудник газеты, пропустивший статью в набор, — со своей. Ага! Нет, все-таки слово — не пуля. Даже слово в газете. Так вам и надо, эфенди… Он тут же позвал Закира и напомнил ему о маузере. — Я занимаюсь, хозяин. Шерходжа постучал по краю стола кулаком: — Скорее! Сюда! Тамаре нравилось, как Шерходжа разговаривал со слугами, с Закиром и с тетей Олией. Он приказывал и не допускал иного тона. И они подчинялись беспрекословно. Может быть, поэтому Закир и спрятал Шерходжу в свое укромное место. Чувство преданности хозяину было у него, как у собаки, огромней страха. Когда ушел Закир, приложив руку к груди и пятясь к двери, как перед ханом, Тамара сказала: — Ах, был бы у меня такой муж, как ты, я ни о чем бы не жалела и ничего не боялась! Шерходжа промолчал, только огладил волосы на шее, остатки от косм, которые она сама отрезала ему своими ножницами. И его молчание ей тоже понравилось. Над такими вещами не шутят… Новый день принес новую газету и новые огорчения. В ней, газете этого дня, была помещена статья какого-то Салиджана Мамадалиева. О чем? Об опыте ходжикентской школы. И называлась — «Торжество нового». И Масуда хвалили за активность… А кто такой этот Салиджан Мамадалиев? Новый ходжикентский учитель. Еще один! Ну, подожди… Будет и тебе пуля. Сначала вашему Масуду, а потом и тебе. Ты в списке, и моя пуля не забудет и пересчитает всех, никто от нее не увернется. Он опять валялся на постели и смотрел в потолок, будто изучал на нем резную работу, но, может быть, и не видел ее. Иногда замечал, как бьют часы в столовой, и считал их удары, а иногда пропускал. Прислушивался к шагам прохожих на тротуаре. Хмурость, пугавшая Тамару, твердела в его душе. Он ничего не боялся. Чего ему бояться? Если его арестуют, посадят рядом с отцом и друзьями, его первого ждет пуля. Но он не позволит допрашивать себя, не доставит покровителям учителей такого удовольствия. Пуля для себя всегда будет. Скорее бы Закирджан принес вайвояк, и тогда он проведет в этом доме всего столько времени, сколько нужно, чтобы собраться в дорогу. Прежде чем выпущенная им пуля коснется его самого, она отыщет Масуда. Он снова перечислил: «Масуд… Исак-аксакал… ну, и этот Салиджан…» А потом? Ты сам, Шерходжа. Куда деваться? Такие мысли уже приходили к нему, когда он лежал ночью у родника, в диких и родных горах, после убийства Дильдор. И он уже сжимал рукоятку ножа… Если бы тогда он сделал это, не узнал бы счастливых дней в доме нежной Тамары. Значит, правильно он остановил себя? И сейчас он себе сказал: «Поживем — увидим!» Вошла Тамара и спросила: — Поешь, милый? — А время? — Спать пора! Она приблизилась, и он поймал ее руку и поцеловал пальцы. Ночью, вороша волосы на ее голове, прижавшейся к его груди, Шерходжа спросил: — Родишь мне сына, милочка? Она дышать перестала. — Если не родишь мне сына, объявлю три раза талак и брошу тебя! В мусульманских обычаях был и такой — муж, решивший бросить жену, объявлял ей тройной развод — три талака. — Какой развод? — спросила Тамара, зашептав. — Что ты болтаешь? Ты еще не женился на мне. — Мы сделаем это сегодня. — А… отец? — прошептала она еще тише и повторила: — А… Нарходжабай? — Я сказал тебе — мы оба его уже в глаза не увидим. Чего же зря спрашивать и страдать? Как придет Закир, вели ему привести муллу, и все. Верного муллу… Этот человек рожден для того, чтобы повелевать, думала Тамара, разглаживая его волосатую грудь щекой, он не сомневается, не мечется, не топчется на месте: решил — сделал. Как приятно быть женой такого человека! И как страшно. Он же всегда будет поступать по-своему. Решил — сделал. И ничто его не удержит. Глаза ее были обращены к окну, а за окном уже таяли ночные потемки, уже начинался рассвет… Мулла пришел после завтрака. Тете Олии Тамара успела объявить, что осталась вдовой, а Закир уходил, и она ему ничего не сказала, но и так он все принял молча и как должное. В их присутствии — Олии и Закира — мулла совершил бракосочетание. Расплачиваясь, Шерходжа спросил крепкого старичка: — Вы видели верблюда, ваше преосвященство? — Нет, не видел, ничего я не видел, — ответил понятливый старичок. — Помогай вам бог! Шерходжа постоял в трех шагах от окна, чтобы небыло видно с улицы. Посидел у стола, возле остывшего самовара. Но вчерашней мрачности уже не было на его лице, хотя и сейчас он думал о чем-то. Тамара, косясь на мужа, почти догадывалась — он успокаивался, он чувствовал себя прочнее, создавая вокруг себя этот иллюзорный мир прочности: дом, семью с ожиданием ребенка, оправданным пока еще только вечной людской мечтой… Это правда, ночной разговор и утренняя церемония словно бы укрепили Шерходжу, придали уверенности, Об одном еще не догадывалась Тамара — о тех мыслях, которые параллельно развивались и отстаивались в нем, Но и тут он не заставил долго ждать. Он сказал: — Я уеду, милая, надеюсь, ненадолго. — Куда? — Он молчал. — А когда? — Чем быстрей, тем лучше. Сегодня, в крайнем случае завтра. Не от меня одного зависит. Тамара брякнулась перед ним на пол, обхватила его колени: — Не пущу! — Глупая. Я не уеду далеко. Ты же здесь. Пройдет неделя, две, сегодня ничего нельзя сказать определенно, и я вернусь или дам знать о себе, пришлю человека. — Поедем вместе! Деньги, золото, драгоценности мои — все твое. Отдай их, кому надо, пусть помогут нам бежать в Турцию, там отец с матерью, найдем их. Не оставляй меня одну. Он встал, освободился от ее рук. Он все сказал. И она поднялась, как раздавленная. Ощущение беды отрезвляло Шерходжу, мобилизовывало, и он говорил еще меньше слов, еще короче. После двухминутной беседы с ним Закир закрыл лавку и ушел. Вечером, едва стала садиться тьма, принес маузер в одной из обувных коробок, из которых собрал в руке целую пачку, перехваченную шпагатом. Принес и рассказ о странном посетителе, только что побывавшем в лавке. Долго топтался, жалел, что нет в лавке кнута с перламутровой ручкой, который он мечтает купить, потом вдруг спросил, а нет ли голубого кашмирского бархата, и Закир провел рукой по полкам — и так видно, что нет, однако разговор затеялся, слово за слово, покупатель спросил, кто живет в маленьком доме, во дворе, и узнал, что там живет тетя Олия, тогда еще спросил: зачем приходил к Тамаре мулла? Закир ответил, что читать коран перед постом. Однако мулла ведь утром приходил, а покупатель спрашивал об этом вечером, и стало ясно, что за домом следят, а он, этот покупатель, и был одним из тех, кто следит. Шерходжа спрятал вайвояк и поднялся: — Проводишь меня сейчас же. Немедленно. Своим ходом. Задворками. — Я не знаю, что в соседнем дворе. — Взгляни. А ты, Тамара, дай денег в дорогу. — Сколько? — Хочешь видеть живым — побольше, жена. И Закир увел его, и все, что было за эти дни, показалось Тамаре сном, и оставалось надеяться лишь на то, что даже сны иногда повторяются, а то, что это было не сном, а правдой, еще через час доказал Тамаре чекист, который нагрянул в дом со своими молодцами, чтобы в третий раз произвести обыск. Чекист был русским, белобрысым мужичком, назвался Трошиным, присел и спросил: — Вы, значит, и есть Тамара, дочь Габдуллы, бывшего купца? — Да. — Жена Нарходжабая? — Да. Ее слова, бывшие после сегодняшнего венчанья бесстыдной ложью, Закир пропустил мимо ушей, а тетя Олия тут же начала молиться про себя, шевеля губами. Ей стало не по себе. Она и Закир стояли у стола по просьбе чекиста, и он сразу обратился к ней: — В доме больше никого нет, бабушка? — Если есть, найдите, — ответила дрожащая старуха работница. — Только иголка может в землю войти. — Это, конечно, правильно… Из спальни его окликнул помощник: — Товарищ Трошин! Он встал и пошел осматривать постель, на которую ему показывал другой чекист: — По-моему, тут хорошо валялись. Уж очень постель измята. — А это? — Трошин показал на чапан, черневший на измятом одеяле. — А это нашел за спинкой кровати, в головах, на полу. — Чей это халат? — спросил Алексей Петрович, ощупывая его. — Кто у вас был? Тамара села на стул, независимо закинула ногу на ногу, а сама думала: «Только что ушел Шерходжа, настоящий человек, и уже все кувырком! Не могла комнаты убрать, вместо того чтобы хныкать? Размазня!» Чекисты ждали ответа, и она сказала еще бесстыдней, чем признала себя женой Нарходжабая: — Любовник! Муж в тюрьме, к тому же какой он муж? Отец подарил меня ему. Что же я, по-вашему, должна сгубить свою молодость? Трошин Прокашлял горло, спросил: — А кто ваш любовник? И Тамара его спросила: — Вам не стыдно? Покараульте ночью у моего дома и узнаете, кто мой любовник. Он опять, замявшись, покашлял. И в это время, задев за стул, громко вошел молоденький, черноусенький, который участвовал и в первом после приезда Шерходжи обыске и еще сказал тогда: «Конь — не человек, в подвал не залезет» или что-то в этом роде. Он приподнял в руке уздечку, выделанную серебряными бляхами, и срывающимся голосом закричал: — Вот! Ее тогда не было. Не было, я помню! — А сейчас где нашли? — спросил Трошин. — В конюшне на гвозде висела, — смутился парень. — Я вошел, а она висит. — Чья? — спросил Трошин Тамару. — Я в конюшню, в отличие от ваших чекистов, не хожу, — ответила она. — Я не конюх. И ничего не знаю. Чья она? Конская! — А вы что скажете? — Трошин повернулся к тете Олии, показывая ей уздечку, болтавшуюся на его пальцах. — Тетя! — воскликнула Тамара. — Ты ее повесила? — Да, я, — сказала, как дура, та, едва разлепляя губы. — Наверно, я… «Дура, дура! — мысленно ругала ее Тамара. — Я же велела тебе спрятать эту уздечку в своей комнате, среди своих вещей, дура!» Откуда ей было знать, как боялась этой уздечки тетя Олия, как в один из первых же тихих дней в доме вынесла ее от себя и повесила в конюшне на гвоздь, прикрыв остатками другой сбруи. — Вы? — переспросил чекист тетю Олию. — А где взяли? — Где взяла? На полу, в темном углу… Убиралась и нашла. Чего, думаю, валяется в углу? Там грязно. А ее очень любил Нарходжабай. Хозяйское добро. Еще ругаться будут. Я взяла, вытерла и повесила. Этот Трошин свернул уздечку в комок и сказал: — На время заберем ее у вас. Отметим в акте… Посчитав, что тетя Олия вывернулась, отвечая, и не такой уж дурой показала себя, Тамара подарила ей после ухода чекистов отрез поплина, а Закирджану — сто рублей. Он сделал главное, он увел Шерходжу, ее Шерходжу. А по ночной дороге в сторону Ходжикента скакал молоденький чекист с уздечкой, отделанной серебром, в большом планшете на боку, чтобы по заданию Трошина показать ее вдове Халмата и узнать, не принадлежала ли эта уздечка Чавандозу и не было ли ее в ту ночь на морде вороного?ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Салахитдин-ишан любил эту предзимнюю пору за холодные рассветы, вселяющие бодрость не только в тело, но и в душу, а еще больше — за долгие и покойные вечера у сандала, древней узбекской «печки», вырытой в полу. В ней горят угольки из фисташкового дерева, а ты, накрыв и сандал и себя легким одеялом, сидишь и предаешься воспоминаниям и молитвам. Воспоминания обычно были приятны, молитвы проникнуты благодарением богу, угольки не только насыщали теплом, но и пахли им, как будто их жар таил в себе угасшие ароматы лета. Даже здесь, в хибаре Умматали, все было как будто так же — долго тянулся вечер, пылали угли, лежало одеяло на ногах, свисая с плеч, пахло фисташковым огнем, но все остальное изменилось — воспоминания недобрые, мысли тревожные, бога благодаришь меньше, чем взываешь к нему о помощи. Ох, было о чем беспокоиться! Учитель Масуд вернулся из Ташкента и рассказал, что скоро и непременно в Ходжикенте откроется медицинский пункт. Почти больница! Будут лекарства и «дохтур», три-четыре дня назад безнадежно-неопределенно обещанные учителем старику из Юсупханы, а теперь — сомнения не осталось, что будут! Честно говоря, ишана это интересовало, прежде всего, не как источник спасения больных от страданий, а как угроза. Угроза его, ишанским, доходам от «лечения». Когда-то он был единственным сборщиком урожая с этого поля, плодоносившего в любую погоду и в любое время. Иногда и днем, и ночью, если кто-то звал к умирающему. Люди были счастливы, что придет ишан. Теперь… медицинский пункт! Дожили! Больных собьет с толку то, что лекарства будут избавлять их от отдельных болезней, и они забудут, что попадают при этом в руки дьявола, отдают ему свою душу. Как их остановишь, когда лекарства действительно лечат, восстанавливают силы, когда… Ах, лучше было бы тебе не дожить до этих времен! Не испытывать на себе, как, например, помогает аспирин, убивший в тебе недавнюю простуду. Он убивает заодно и твои доходы… А-ха-ха! Но и это не главное. Умматали, несущий как мулла службу в кишлачной мечети, каждый день успевает по просьбе ишана, для него еще равносильной повелению, читать газеты, приходящие в сельсовет и в школу. Как была хороша статья Обидия! Может быть, это она исцелила, а не аспирин? А затем — опровержение, затем совсем другая статья об успехах Масуда Махкамова, с которым он, ишан, дважды встречался в схватке, словно с борцом на кураше, и ни разу не чувствовал, что выходил из поединка победителем. Школа наступала и теснила религию. Но и это, если признаться по совести, тоже не было тем главным, что волновало ишана в первую очередь. Нарходжабай. Где он и насколько окажется твердым, если ему приставят нож к горлу, образно говоря, эти чекисты из Советов? Из ГПУ. Для ишана Салахитдина все Советы были ГПУ… Кабул-караванщик. Хитрый, как крыса. И такой же пронырливый и живучий. Умеющий приспосабливаться ко всем режимам и всегда, при любой власти, снимать пенки с молока. Как ведет себя он? Тоже ведь знает слишком много. Знает, что ишан одобрил силу в борьбе со школой. Как не одобрить? Одного кивка головы Салахитдина-ишана было достаточно, чтобы считать, что он это благословляет. Эти убийства. А он знал, что они готовятся… Он знал, что Кабул-караванщик пригласил учителя Абиджана тем вечерком к себе на мельницу, показать, как постарался наладить ее для бедноты, посоветоваться, не надо ли еще чего сделать, а учитель ответил, что вряд ли сможет дать дельный совет, потому что не знает мельничного хозяйства, но зайдет обязательно — ему интересно посмотреть. Салахитдин-ишан не только знал об этом разговоре Кабула с учителем, но и подсказал, что можно пригласить его, якобы для совета. Подсказал, что не надо стрелять в учителя, как в первый раз было, лучше сделать это же самое потише. Кабул предложил поручить дело Нормату. Шерходжа уцепился… Вот — Шерходжа. Один он не попался. Недаром его имя начинается с такого слова — Лев. Да если бы он и попался, на него можно положиться, как на камень. Сцепит зубы и ничего не скажет… этим… из ГПУ. А Нормат? А караванщик? А Замира?! Нет, с ума сойдешь, если беспрерывно думать об этом. Не до запаха фисташковых угольков… Но ведь еще можно сказать, что все признания и показания арестованных, если они и выдадут его, клевета. А чтобы тебе поверили, очень важно сейчас зарекомендовать себя в глазах советской власти скромным и честным человеком. Все для этого использовать. И преклонный возраст. Как-никак тридцать лет потрудился в Ходжикенте не покладая рук, по велению его преосвященства ишана Акрамхана… И даже то, что открывается медицинский пункт. Так и написать — откроется, тогда ишан не нужен. Пусть удивляются и ставят его в пример другим ишанам, сейчас следует подготовиться как только можно к тому, что его не сегодня завтра назовут на допросах Кабул или Нормат… Салахитдин-ишан поправил одеяло на коленях и позвал: — Умматали! Дайте-ка чистый лист хорошей бумаги, чернила, ручку, возьмите с подоконника лампу и поставьте поближе ко мне. Он уже распоряжался в этом доме, как в своем. Умматали услужливо исполнил все и сам сел напротив, а ишан поманил его пальцами еще ближе. — Возьмите-ка лучше вы ручку, дружок мой, и пишите все, что я буду говорить. Чем потом показывать и советоваться, подумал ишан, лучше они сейчас же обсудят все, фраза за фразой, и вместе напишут это письмо. А кому? Кому его адресовать? Подумав и почесав клинышек бородки, Салахитдин-ишан пришел к выводу, что поступок его может иметь серьезные последствия и что лучше всего поэтому адресовать письмо как можно выше — Советскому правительству. Не спеша, обдумывая слова и причины, они с Умматали написали это письмо. Небывалый документ, в котором его преосвященство Салахитдин отказывался от высокого сана, от должности ишана и просил оставить его лишь муллой Ходжикентской мечети. Этого ему вполне достаточно. Во-первых, удовлетворит всецело его сердце, и раньше чуждавшееся известности и славы. Во-вторых, будет по силам. Они слабы, но мулла Салахитдин надеется на поддержку бога. Если Советы считают религию явлением даже отрицательным, то все равно им понятно, что еще немало верующих немалые годы будет ходить в мечеть, и этим верующим нужен бескорыстный мулла. Ишан взял свое письмо из рук Умматали, долго держал его на свету лампы, вчитывался, и бородка его дрожала. — Ваше преосвященство, — сказал Умматали, — не убивайтесь! Письмо очень хорошее и вас показывает с лучшей стороны, как самого благородного человека. А кроме того… Кроме того, паломники все равно почти перестали ходить в чинаровую рощу и на кладбище, одна надежда — доходы даст только мечеть. — Нельзя думать об одних доходах, Умматали! — оборвал ишан властно и строго. — Вам нельзя, а мне можно, — безбоязненно сказал Умматали. — Можно и надо, я о вас беспокоюсь, ваше преосвященство. И поэтому еще вот что скажу. В мечеть мусульмане будут долго ходить, это вы верно велели мне написать. Будут ругаться, как люди всегда ругались, а значит, и молиться. Почему люди так усердно молятся? Потому что много ругаются! — Что вы говорите, бесстыдный! — воскликнул ишан. — Умматали! — Разве я не так говорю? А как же? Люди сначала грешат, а потом замаливают грехи. Для этого им нужна мечеть. На том и держится вера. — Замолчи! — Так нас же никто не слышит, ваше преосвященство. — Грех так думать! — Грех? О, прости меня, боже, несмышленого раба своего, — начал молиться Умматали и молился долго, пока не заусмехался. — Вот видите, ваше преосвященство, чем больше мы грешим, тем преданней молимся. Это — в натуре человека. — Это все, что вы хотели сказать? — Нет, не все, ваше преосвященство. — А что еще? — Есть вам еще один совет, поверьте, добрый, не отчаивайтесь, — умолял Умматали, с горечью глядя на морщинистое, неравномерно обросшее там и тут лицо ишана. — Самое страшное — это быть одному, жить одному… — Да, это вы знаете, мой дружок, потому что вон уж сколько живете один, тоскуете. На себе испытали. — Это мы оба знаем. Одиночество заставляет человека падать духом, терять волю, особенно, простите, в ваши немолодые годы. — Вы правы, дружок мой. — Бывших жен своих вы прокляли, дали им тройной развод по шариату, верно сделали, но остались, не считая меня, совсем один. Я вовсе не хочу перестать служить вам, ваше преосвященство, и в мыслях не держу того, чтобы оставить вас, как я могу! Но на вашем месте взял бы себе в спутницы этих… ммм… нелегких и грустных лет тихую, благочестивую, религиозную женщину. Мягкую, как пери. Ишан вдруг рассмеялся: — Как пери! Тихую, благочестивую! Да где такую взять? Из рая, что ли, прямо оттуда? Только оттуда! — Нет, ваше преосвященство. — А где же? — перестал ишан хихикать и показывать при этом свои старческие желтые зубы. — Подскажите! — Я подскажу. Ишан заинтересованно уставился на Умматали, но тот начал издалека: — Вчера читал молитву во дворе Кабула-караванщика. Неутешная его Айпулат заказала. Потом вошел в дом, подсел к дастархану и смотрю на одну скромную женщину. А она сразу меня спрашивает, как вы живете. И так, знаете, искрение, от сердца, с такой заботой интересуется, я даже увидел слезы на глазах у нее, честное слово. Ну, отвечаю… Так и так… Про болезнь рассказываю… — А она что? — спросил ишан. — Проклинает ваших бывших жен и за вас возносит молитвы, ваше преосвященство! — Кто такая? — Сейчас скажу. Вы ее знаете. Это жена Нарходжабая, ваше преосвященство, старшая жена — Фатима-биби. Давно не видел такой благочестивой и скромной верноподданной нашего аллаха! — Э-э-э… — Что, она вам не по душе? — Да нет, я и в самом деле давно и неплохо знаю ее, но ведь Нарходжа еще жив. — Жив, так жив — все равно что мертв, — усмехнулся Умматали. — Она сама так сказала. Уже не надеется его увидеть. — Да, пожалуй… — Мне, говорит, тоже нелегко, но кто, говорит, возьмет под свое покровительство такую старую и бедную женщину, как я? — Сама так сказала? — Точно так… А ведь она… какая же она старая? Лет на пятнадцать, если не больше, Фатима-биби помладше вас будет, ваше преосвященство. — Да, пожалуй, — повторил ишан и задумчиво погладил клинышек своей бородки. — А домик ее в саду цел? — Цел, но живет она в доме мельника вместе с Айпулат. Муж известно где… Шерходжа все еще в бегах, такой молодец. Должно быть, не только мать, но и никто из нас тоже больше никогда не увидит Шерходжу, ваше преосвященство. Он не безмозглый парень, чтобы возвращаться в Ходжикент… Дочь… Дильдор… после того самого… в госпитале, в Ташкенте, но не такая у Шерходжи слабая рука… В общем, я думаю, можно сказать — мир праху ее! Фатиме-биби, конечно, страшно одной в садовом домике… А домик цел, цел! — Значит, она хочет духовного покровительства? — Она? Хочет… хочет… Еще как хочет! Ишан долго сидел и думал, а потом сказал: — Да, она святая женщина, а Нарходжабай — свинья, которая только и заботилась, как бы набить свое пузо. Мы возьмем эту мусульманку под свое покровительство. Передайте ей, а мне скажете, как она это воспримет. — Обрадуется! — Не сглазьте. — Тьфу, тьфу, тьфу! — поплевал Умматали на свою грудь, оттянув воротник рубашки. — Ну, а вы как? — спросил ишан, сузив глаза. — Когда женитесь? — Меня уже прихожане спрашивают о том же, — ответил Умматали, приложив ладонь к груди. — Когда, мол, женитесь, мулла? — Да, — важно одобрил это ишан, — мулла по шариату должен быть женат. Это — его долг и священное требование ислама. — Вот видите… Уже два месяца, как я — по вашему повелению и позволению — читаю молитвы в нашей мечети, а… — Кого выбрали? Кто на уме? — Если можно, я пока… помолчу, еще поломаю голову, ваше преосвященство? А ишан погрозил ему своим скрюченным пальцем: — Уж не моя ли это Иффатхон? А? Но Умматали опустил глаза и не видел ни его ребяческой угрозы, ни усмешливости на его сморщенных губах. — Ну ладно, — сказал ишан. — А мельница? Она стоит? Где наши бедные богомольцы будут теперь молоть свою пшеницу, где? Как добывать хоть горсть муки на хлеб свой? — Мельница работает. Перешла в руки товарищества. Один из мельничных рабочих Кабула-караванщика теперь ею заправляет! — Кто? — Э-э-э… Карим Рахманбердиев… Или Рахманберди Каримов… Точно не помню, ваше преосвященство. — Узнайте точно. Надо знать и запоминать имена таких… Ишан не договорил. Его перебил стук в дверь. Он согнулся, сжался в комок, чуть ли не с головой залез под одеяло и прошептал: — Может быть, лечь? Вернуться к болезни? — Не бойтесь, ваше преосвященство. Что могли, Советы у вас уже взяли, ночью не придут… Зачем? Днем виднее, что еще можно брать… Осторожный стук повторился. — Кто это может быть? Мне никто не нужен! — Тот, кто ищет ваше преосвященство в этот час, сам нуждается во встрече и разговоре с вами. Вы не бойтесь, спокойно сидите… Я выйду и посмотрю, узнаю, кто это. — Спасибо, дружок мой. Беспокойство, однако, не прошло, ишан прислушивался к голосам во дворе, скрипу ворот, перебору конских копыт. «Издалека приехали… — думал ишан. — По крайней мере двое…» Умматали открыл дверь и пропустил вперед гостей. Первого из них ишан сразу узнал — это был коротенький и не очень складный Талибджан Обидий, а второй — высокий, в халате, туго перетянутом поясным платком, с седыми висками, хотя на вид еще и моложавый. Приглядевшись, ишан и его узнал, встречался как-то, давно, правда, в святой ташкентской улеме, на тайном совещании, где будущий нарком просвещения говорил, что они, он и его единомышленники, сделают все, чтобы оторвать школу от политики. За это он ручается! Быстро летит время, оказавшееся коротким для таких людей. Вчера Умматали принес весть из газеты, что нарком просвещения уже не нарком. А нынче этот высокий по чину и по росту человек в гостях у Салахитдина-ишана! В знак глубокого уважения к нему ишан отбросил одеяло и поднялся на ноги. С каждым обнялся, здороваясь по очереди. Усадил у сандала и прочел длинную молитву. Справился о дороге: как перенесли ее и непогоду, пришедшую в этот мир, бросил ли Умматали сена лошадям? — Да, ваше преосвященство, — наклонил голову тот. Глаза ишана все рассматривали гостей, принявших из рук Умматали по пиалушке горячего чая — верный дружок наготове держал чайник, закутанный в кусок старого одеяла, словно всегда, как и раньше, ждал приезжих издалека. Оба гостя сняли халаты, остались в зеленых суконных кителях и брюках, но человек с седыми висками, бледный от волнения и гибкий от худобы и врожденной стати, казался царевичем, а Талибджан Обидий рядом с дядей выглядел недоноском. Коротышка с мелкими язвочками на щеках и подбородке — наверно, давит прыщи или волосы выдергивает щипцами… — Как жизнь, достопочтенный? — спросил у ишана бывший нарком Рахим Обидов и отставил пустую пиалушку. — Не тратьте времени, рассказывайте о главном. — Вы к нам богом посланы, — ответил ишан. — Умматали! Покажите уважаемому Рахимджану наше заявление… То, которое мы написали сегодня. Советскому правительству. Рахим Обидов прочитал заявление, нахмурился и протянул бумагу к лампе. Сначала бумага стала коричневой, потом почернела и вспыхнула. Он сжег всю ее до конца, поворачивая лист в длинных пальцах, и сдул с них остатки пепла. — Ох, как вы поддались агитации левых! — удивился он, отирая руки одну об другую. — Как вы могли? — Вот, ваш племянник, — ишан показал на Обилия маленькой рукой — он тоже проигрывал на фоне представительного бывшего наркома и сам чувствовал это, — ваш племянник учил… нужно набраться смирения, перетерпеть это время в тишине, сохранить свои силы… — Для чего? — вскрикнул Обидов. — Чтобы больнее локти кусать? Все равно не дотянешься!.. — Но он… — Нет, вы его не так поняли… Не так! Поражение войск ислама в Туркестане не должно никого из нас обескураживать и превращать в улиток. Наоборот! Именно сейчас мы должны стать активной опорой ислама. Активной! На нас, на нас будут смотреть из других государств бескрайнего Востока, а не на тех малодушных, кто смирился и сжался в тиши, как мышь, лишь бы выжить! Ишан думал — вон как ты заговорил, едва перестал быть наркомом, теперь станешь активным! А сам кивал головой, показывая, что слушает и понимает… — Вы, ваше преосвященство, все до ниточки, как мне известно, отдали Советам. За что же вы просите прощения у властей? Они у вас должны просить. Они у вас! — И ишан слушал и уже соглашался: да, они у меня. Он был не просто хорошим оратором, этот бывший нарком, он точные вещи говорил, без промаха. — А каково ваше сегодняшнее положение в глазах мирян? Оно особенно ценно! Вы отказались от всего мирского, сохранив в себе духовные богатства. Вам не нужны ни деньги, ни золото, ни кони, ни бараны, ни ласки женщин, ни иные наслаждения, вроде вина… Вы печетесь о совести мусульман, денно и нощно горюете о ней. Не так ли? — Истинно так. Точно так, как вы сказали! — А вы… Нельзя показывать, что вас убили духовно. Нет, вы не убиты. Ваша душа живет. И свет ее должен быть и будет виден далеко. Как свет луны ночью и свет солнца днем. Вот чего вы должны добиться. К вам же ходят тысячи паломников! — Вы осведомлены о том, что место паломничества у нас осквернено и закрыто? — потупившись, спросил, ишан. — К нам почти не ходят. — А к кому ходить, если вас нет на месте? — резко выговорил свой вопрос Обидов. — Это почти смешно! Однако он не смеялся, скорее был хмур и грозен. А Салахитдин-ишан ощутил в его голосе, в нем самом силу, которой невозможно было не подчиняться. — Что же делать? Научите. И Рахим Обидов ответил, точно отдал приказ: — Завтра же утром, ваше преосвященство, вы должны одеться в достойную вас одежду, явиться к усыпальнице, сесть рядом и принимать нуждающихся. — Там… чайхана… красная… — Пусть себе работает чайхана, не вы ее поставили в святом месте, и не вам ее стесняться. Она работает? А вы? И вы должны выполнять свою святую обязанность. Нация нуждается в вашем наставлении, раз в школах рассказывают про революцию, крейсер «Аврора», стрелявший по дворцу белого царя, и всякие расстрелы рабочих, которыми пытаются заменить вечно идущую вперед своими мощными шагами историю, предначертанную людям богом. Вы должны показать, что, охраняемый богом, не боитесь никого… Это ведь не просто какой-нибудь кишлак. Это Ходжикент, всегда притягивавший к себе поклонников мусульманских святых. — Всегда… — вздохнул ишан. — Пусть в первые дни вашего возвращения к усыпальнице не будет тысячи, даже ста человек… Пусть придет пять, всего-навсего пять, но они увидят вас на прежнем месте, и завтра будет десять, а послезавтра — больше… Снова — тысячи! Ваша слава поднимется до небес! — Хвала вам, — сказал Умматали первые два слова за добрый час. А Рахим Обидов повернулся к нему: смотрел, и все. — Это бывший глава дервишей, Умматали, — подсказал Обидий. — Вам, Умматали, — отдал и ему приказ Обидов, — тоже не к лицу сидеть сложа руки. Где ваши дервиши? — Одни — в товариществе… Работают на полях… Другие разбрелись, попрошайничают по кишлакам… — Ну вот… Какая бестолковщина, какая промашка! Какая жалость! Всех дервишей — вернуть к месту поклонения. Умматали перевел глаза на ишана, а тот спросил: — Как это лучше сделать? — Пошлите конников — из верных мусульман, крестьян, неужели нет таких? — Имеются. — Пусть ищут дервишей по кишлакам, возвращают в Ходжикент, заодно разнесется добрая весть, что вы опять на своем месте. А я в эти дни скажу всем муллам в окрестных мечетях, чтобы объявляли пастве о вашей неколебимой верности божьему призванию, посылали дервишей обратно, в Ходжикент. — Вы объедете всех мулл в окрестностях? — спросил Салахитдин-ишан, светлея лицом, и от этого света на его старческом лице даже морщин словно бы стало меньше. — Да, я должен передать всем привет от его преосвященства, ишана Акрамхана. И вам — тоже. Примите этот привет и пожелание здоровья, новых сил и успехов. — Благодаренье богу! Когда думаете в дорогу? — На рассвете. — Хотелось бы мне попросить вас остаться, хоть на денек еще, чтобы угостить как следует, но, наверно… — Да, нельзя терять времени… Я рад, что вы меня поняли. Я так и передам ишану Акрамхану. — Скажите, Рахимбай. Это ведь уже не просто разговоры, это, слава богу, уже дело? Берегите себя, прошу вас, — ишан приложил обе окрепшие ладони к груди, — вас могут задержать в пути. Арестовать. — Не бойтесь, ваше преосвященство. — Они могут. Обидов улыбнулся, и улыбка у него была такая же широкая, светская, как и вся натура. — Саранчи бояться — хлеб не сеять. — Так, так… — Мы с ними не помиримся, не сойдемся. Две ноги в один сапог не всунешь. Я живу надеждой, что с помощью бога мы их прижмем. Мы и ЦК, и Икрамова еще прижмем! Они увидят, что народ стягивается не к ним, а к мечетям! — К мечетям, — повторил ишан. — Формально Советы не идут против религии… — Формально! — подхватил Обидов. — Но мы не должны и этим пренебрегать. Вы знаете, что у Советов создан специальный орган по вопросам религии? — Да, знаем. — А зарегистрировали в нем свою мечеть? — Нет еще. Нам казалось, они к нам не имеют отношения… — Зря. Они скажут: не зарегистрированы — и закроют мечеть. Не давайте им такого повода. Умматали! Завтра же, немедленно зарегистрируйте мечеть, заплатите членские взносы… — Спасибо, уму-разуму научили, — сложив руки, наклонил голову ишан. Спали на одном полу, по четырем сторонам сандала. А едва засветало, гости были уже в седлах, Рахим Обидов приподнял руку: — Держим путь в Хумсан. — Бог вам в помощь!ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Никто не узнавал Салиму. Да она и сама себя не узнавала. Всегда веселая девушка, неутомимая работница, любопытный до неудержимости человек, она вдруг сникла. Почему? Если другие могли об этом только гадать, она-то понимала… Все знала, понимала, но ничего не могла с собой поделать. Ни-че-го! Как в грустных песнях поется — таяла свечой на глазах… После уроков стала жаловаться, что у нее болит то тут, то там, поскорее скрываться в комнате, которую делила с новой учительницей Ульмасхон, на ужин не выходила, избегала людей… Вот посмотрел бы на нее кто из прежних подружек! Салима — едва ли не самая общительная из всей их компании — сделалась нелюдимой. Она удивлялась Масуду. После ранения Дильдор Масуд тоже изменился, помрачнел, тени залегли под глазами, выдавая, как много мучительных ночных часов он проводит без сна, на многие вопросы чаще отвечал жестами, чем словами, но все же беспрерывно занимался работой. У него не опускались руки. Наоборот, кажется. А у нее опустились… Он, например, продолжал заниматься с детьми музыкой. А она перестала ходить в кружок. Смешно было думать, мечтала овладеть дутаром, и у нее уже неплохо получалось, мечтала играть вместе с Масудом… где? У себя дома! А теперь лежала в полутемной комнате и плакала: ничего у них не будет, ни общего дома, ни игры на дутаре, ни песен Масуда под ее игру… Ни-че-го! И жить не хотелось, не то что в музыкальный кружок ходить. В начале ноября усилились в горах морозы, полетели, закружились, заметались бураны. Ветры, как люди, имели свои часы сна и непокоя. Ночью стихали, а едва светало, поднимали снег, облепляли деревья и дома, слепили путников. На дорогах выросли сугробы, которых Салима никогда не видала в Ташкенте. Горы — это горы… Она увидела снег еще раньше, до его поездки в Ташкент. Его — Масуда. Оказывается, высоко, на перевалах, совсем близко к вершинам, снег уже лежал глубокими навалами, которые, казалось, никогда не растают и не освободят прикрытых ими камней, цветов, травы… Из Богустана прибыл верховой и рассказал, что Назика и Маликджан готовятся к свадьбе. Назика вот-вот родит ребенка, откладывать больше нельзя. Каждый будет по-своему судить-рядить, на чужой роток не накинешь платок. Казалось бы, все радостно — любовь свою они отстояли, выиграли в жестокой борьбе с таким всесильным врагом, как ишан, но с подготовкой к свадьбе начались осложнения. Выяснилось, что Мардонходжа не одобряет выбора дочери, а тем более ее поведения. На свадьбу отказался явиться. Он не примет в этой свадьбе никакого участия! Верховой рассказал, что знатоки богустанской жизни и характеров, так сказать, знатоки-языки потихоньку передавали, будто Мардон сначала собирался признать ребенка и гулять на свадьбе у дочери, но после ранения Дильдор, слух о котором докатился до Богустана, после убийства Халмата испугался, что его тоже ждут нож или пуля Шерходжи, и закрылся в своем дворе. Шерходжа не был пойман и еще влиял на людскую жизнь. — Значит, мы должны поехать, — сказал Масуд. Дело в том, что Маликджан звал на свадьбу всех ходжикентских учителей и передавал, что свадьба у него будет «красная», но он только не знает, как ее справлять. А без свадьбы вовсе неудобно… Все учителя собрались в одной комнате и обсуждали возможности поездки, Салима лежала на кошме, смотрела на своего любимого, и ей хотелось крикнуть: «Масуджан, что вы все время только о других беспокоитесь, вам надо подумать и о себе, вон как ввалились ваши глаза, самые прекрасные из всех мужских глаз, которые я видела в жизни!» Но, конечно, ничего подобного она не крикнула, а только проронила: — Я не поеду. — Почему? — Больна. Вы же знаете. — Жаль, — сказал Масуд в тишине. — Назика — ваша подопечная. Вы помогли ей вырваться из лап ишана, и теперь… Теперь мы не имеем права бросить ее на произвол судьбы! Он позвал Кадыра-ака и стал расспрашивать, проберется ли через Богустанский перевал арба. Кадыр-ака отвечал, что ничего не может сказать не видя, и так бывает, и так, а Масуд вдруг вскочил и оборвал доброго школьного завхоза раздраженной фразой: — Хорошо! Я один поеду верхом. И ушел во двор, а со двора — еще куда-то, бродить, он не мог найти себе места, найти покоя и бродил, пока, кажется, с ног не валился. После этого, конечно, рискнули ехать в Богустан все, на рассвете оделись потеплее, захватили подарки молодым и начали влезать на арбу, которую выделил сельсовет и привел во двор Кадыр-ака, усевшийся арбакешем на маленькую, но крепенькую лошаденку, запряженную в высокие оглобли. Масуд поддерживал ногой табуретку, пока все не забрались, а потом сел и сам. Раньше подтянулся бы на руках и вскочил, а сейчас тоже встал на табуретку… По дороге Салима начала понимать, почему у арбы такие огромные колеса. Маленькие колеса давно застряли бы в снегу, которого в те дни еще не было в Ходжикенте. А большие разрезали сугробы и выбирались из них, оставляя узкие и глубокие следы. Выехали рано, и чем дальше отступала мгла, тем ясней становились вершины и все изломаннее линии, разбегающиеся от них. Увидели не только снег. Увидели горного оленя, замершего невдалеке, на скале. Повернув голову с ветвистыми рогами, он смотрел на приближающуюся арбу. Кто-то, Ульмасхон, кажется, не выдержала и вскрикнула от восторга, и оленя не стало вмиг, будто ветром сдуло. А ветра не было. К счастью молодых и всех едущих на этой арбе к ним гостей и, конечно, к особой радости Кадыра-ака, день выдался безветренный и тихий, особенно здесь, в горах, где все было призрачно и напрочь лишено бытовых, кишлачных звуков. Было так пугающе тихо, что Ульмасхон даже предложила: — Давайте отрепетируем какую-нибудь свадебную песню? — Что? — переспросил Масуд, не расслышавший ее слов даже в этой тишине. Она смутилась и повторила. А он отрицательно покачал головой: — Я не смогу петь. — Вы и на свадьбе петь не будете? — спросила Салима. — Не знаю. — Тогда прочтите нам какие-нибудь стихи, — не умолкала Ульмасхон. — Чьи? — спросил Масуд. — Навои… Если, конечно, знаете. — Масуджан знает множество стихов, — сказала Салима. — Такое множество, что можно подумать — он знает все стихи, написанные всеми поэтами. Ей хотелось внести в разговор хоть капельку доброй шутки, отвлечь Масуда от его постоянной тревоги. А он опустил голову и, плотней подобрав под себя ноги на плетеной платформе катящейся арбы, начал читать:«Заявление. Я плохо переношу горный климат, особенно зиму в горах. Здоровье мое ухудшается с каждым днем. Не удивляйтесь, что я уехала. Никого не хочу беспокоить. К сему — Салима Самандарова. 1923 г., 7 ноября».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Снег доходил до колен. Масуд бежал через гузар к мосту и думал, что на велосипеде сейчас не поедешь, чтобы догнать Салиму. Да и не могла она уйти далеко. К тому же больная… Но еще с версту пробежал он за мостом, по дороге, а девушки нигде видно не было. Может быть, ее увезла какая-нибудь арба? Приезжали в Ходжикент гости из разных кишлаков, бездельничающие сейчас, могли на обратном пути и Салиму подхватить. Однако он не увидел ни одного следа от арбы на свежем снегу и опомнился. Приостановился отдышаться. Следов от ног с самого края дороги было достаточно, кишлак — не город, но все же в Ходжикенте живет не он один со своими учителями, и с рассвета вдоль дороги уже прошлись какие-то жители. А вот арба еще не проехала ни одна… Он сейчас не думал о том, что случилось с Салимой и удастся ли вернуть ее, важно было ее догнать. Постояв чуть-чуть и подышав морозным воздухом, таким, что, казалось, кинь камень — зазвенит, он повернул в кишлак. Стало понятно, что так он будет плестись по снегу за Салимой, а она уходить все дальше. Надо было попросить у Исака-аксакала коня. И скоро он отправился в путь уже на Сером. Объяснений с учителями особых не было. Все как будто бы понимали, в чем дело. А Кадыр-ака пожалел Салиму при всех: — Сколько ночей она не смыкала глаз… А-ха-ха! Жалко, хорошая девочка, а… бедняжка. Такую болезнь ничем не излечишь. Масуда спросил, помогая ему снаряжать в дорогу Серого: — Зачем вам догонять Салимуджан? Что вы сделаете? Пусть себе идет потихоньку, вволю поплачет дома, успокоится. — А школа? — спросил Масуд. Кадыр-ака ничего не ответил и, только когда Масуд уже вскочил в седло и собирался тронуть коня, пробормотал: — Сами говорили, у детей вот-вот каникулы, а учитель — тоже человек. Что вы ей скажете? В самом деле, что он мог ей сказать? Проще было думать, что все подозрения об отношении к нему соседской девушки Салимы, раньше, как он замечал, охватившие маму, а теперь открывшиеся и Кадыру-ака и остальным, чепуха и выдумка, а Салиму заставила предпринять такой неожиданный шаг какая-то другая причина. Если свернуть на эту горную трону, защищенную склонами и поэтому почти не засыпанную снегом, выбросишь хороший кусочек дороги и сократишь разделяющее их с Салимой расстояние версты на полторы. Так и сделаем. Ну, Серый! Салима ушла, наверно, рано, может быть еще до света… А что он ей скажет, в самом дело? Ничего у него не было для нее, кроме слов благодарности за ее дерзкий и радостный приезд в Ходжикент. Кажется, не назовешь светлее дня в ту пору, если вспомнить. Ну, он скажет ей об этом, а потом? Может быть, подчиниться воле случая или судьбы, как хотите толкуйте, и не мешать Салиме, пусть уходит в Ташкент? Тогда он посадит ее на Серого и довезет. У него тоже есть дела в Ташкенте, надо и ему побывать там. Конечно, прежде всего хотелось навестить Дильдор в госпитале, но об этом он не стал раздумывать, пока конь шагал по тропе. Подумать было и еще о чем… Дервиши опять начали наводнять мечеть и чинаровую рощу. Откуда они взялись? Салахитдин-ишан появился в месте паломничества. Почему такая перемена в поведении трусливого ишана? Земля живет слухами, пусть негромкими, но ходячими, людских глаз не закроешь, ртов не заткнешь, а люди передавали, что в Хумсане и Юсупхане, Богустане и Хандалыке, Чимгане и Бричмулле видели двух всадников, которые беседовали с муллами и возвращали дервишей. Что за всадники? По приметам это были Обидий с дядей, и надо было быстрее рассказать об их путешествии по горным кишлакам Трошину и отцу. Имело смысл заглянуть в проектный отдел стройорганизации, которой поручили разработку проекта и строительство новой школы в Ходжикенте. Сколько ни катайся господин Обидий со своими дядями по окрестным дорогам и тропам, а школу мы построим, школа будет! И не какая-нибудь, а новая, и не просто школа, а имени Абдулладжана Алиева… Ах, как нужна будет в этой школе Салима Самандарова! Масуд совсем ослабил поводья, конь сам выбирал, куда ступать, и ступал осторожно, иногда обходя подкинутый ветром снег, если позволяла тропа, иногда проваливаясь в него. Как бы это сокращение пути не обернулось задержкой, потому что по дороге можно было бы подгонять Серого, ехать быстрее! А тут оставалось подчиняться его природному здравомыслию и чутью. Внизу — нагромождения снежных лавин, белые пропасти… Тропа стала расширяться. Мерно покачиваясь в такт конским шагам, Масуд думал: да, они с Салимой вместе выросли, бегали по одной улице, играли в пыли. Как им все было весело тогда! Да, они ходили в одну школу, учились в одном педучилище, ну и что? Он всегда видел в Салиме самого верного и дорогого друга. Она приходила в их дом в Ташкенте и оставалась ночевать с мамой почти каждый вечер. Она выступала здесь на собрании кишлачного актива, собранного Исаком-аксакалом, чтобы обсудить фельетон Обидия в газете, и это не кто-то другой, а она защищала Дильдор, пылко говорила о том, как это непросто, а юная девушка сумела, порвала со своим классом, отказалась от богатств, запрятанных отцом-баем и братом-сыном, сбросила паранджу, пошла в школу. За все это ее чуть и не убил брат! Салима! Разве мы виноваты с Дильдор, что полюбили и любим друг друга? Нет, он не чувствовал себя виноватым, откуда же эта удрученность, эта неловкость, это чувство бессилия что-нибудь поправить? Оставались надежды на мать, Назокат, она — умная, она и его научит, и Салиме скажет какие-то нужные и сильные слова, полные надежд… Ветер не хотел утихать совсем, хотя сегодня дуло меньше, чем вчера. И снежинки носились по воздуху, перелетая со склона на склон и порой цепляясь за его плечи и шапку. Он писал Дильдор часто, посылал ей стихи — о том, как любит, как скучает. С тех минут, как он поговорил с Сергеем Николаевичем, его не оставляло беспокойство за жизнь Дильдор, но в письмах к ней он боялся задавать вопросы о ее самочувствии, выражал уверенность, что оно улучшается, и все. Неожиданно от нее тоже пришло письмо. Она написала его сама. Две-три неровных строки, полные бесконечных ошибок, но как они были дороги! И эти ошибки тоже… Ах, это письмо! Оно и сейчас было в кармане его куртки, на груди, и он помнил его на память. «Я счастлива… ваши письма… Нет такой другой счастливой, как я… Доктор сказал… вы были… Я тогда видела сон… вас… Берегите себя… Всегда ваша Дильдор». Вот и дорога. Направо — Ходжикент, налево — Ташкент. Кишлак — близко, город — далеко. А вот и сидит кто-то близ дороги под вековой ивой, обсыпанной снегом. — Салимахон! Салима вскочила с чемоданчика, попыталась спрятаться за иву, но не успела. Масуд уже подскакал к ней. И совсем растерялся, не зная, как вести себя, как заговорить с девушкой, строгим голосом заведующего школой, рассерженного ее уходом, или дружеским, или… — Почему уехали? — жалостливо спросил он. Салима молчала, подчеркивая своим молчанием бесполезность вопроса. — Не сердитесь, — сказал он, кашлянув в ладонь. — Давайте спокойно рассудим… Думаете, вы просто учительница? Нет, вы… солдат в бою! Как же… Салима подняла на него глаза, и он умолк. А глаза ее словно бы говорили: ну вот, сказал — спокойно, а сразу пошла агитация, пошли восклицательные знаки. Замолчите лучше, Масуджан. Я сама понимаю все, сама боролась с собой, пока хватало сил, а теперь… Она протянула руку к чемоданчику, но он поднял его раньше. — Отдайте мне, — попросила она, — и уезжайте. — Почему? — Все вы сами понимаете. — Нет, ничего не понимаю, — прикинулся он. — Что вы говорите со мной так, будто я в утробе матери был уже Аристотелем! А я ничего не понимаю! Объясните… — Не стоит, — она снова протянула руку и вырвала у него свой чемодан. — Разве не слыхали: «Говори тому, кто поймет, душой в душу войдет!» Масуд развел руками и признался: — Не знаю, что вам сказать. — Наверное, ни у кого нет на это ума, — девушка даже улыбнулась. — И у вас нет. — Ума у меня нет, — сказал он, потоптавшись, — но конь есть. Я вас отвезу в Ташкент. — Не надо, кто-нибудь меня подберет… — Не спорьте. Дорога дальняя, снег, холодно… — В долине снега не будет. — В долине солнце, — подхватил он. — И здесь пройдет зима и будет только солнце. Не уезжайте из Ходжикента, прошу вас. Не бросайте его совсем. Отдохните пять-шесть дней дома и возвращайтесь. Дети вас любят, а мы с вами всегда будем друзьями. Разве не так? Я вас прошу… Он взял в свои руки посиневшие от холода руки девушки и начал гладить. Они были такие беззащитные, такие мягкие, что у него в сердце заныло. И проснулось чувство, которого он не испытывал до сих пор, потому что у него не было сестры. — Вы будете моей сестрой, Салимахон, — сказал он. Она заплакала, без единого звука, только слезы потекли по ее округлым щекам, а он прыгнул к дороге, к коню, стоявшему на ней, сыромятным ремнем, выхваченным из хурджуна, прикрутил чемодан к луке седла и позвал Салиму. Легко приподняв девушку за талию, посадил ее в седло, а сам взял уздечку и повел коня в поводу. Так прошли немало, но, сколько бы ни прибавлять шагу, он подумал, что до города не скоро доберутся. Дойти бы к вечеру до Байткургана, переночевать у знакомого чайханщика, друга Кадыра-ака. Салима посмотрела на его могучую спину и вдруг велела: — Остановитесь! Садитесь на коня. В этом был смысл, и он закинул ногу в стремя и устроился на крупе Серого, сзади девушки. — Ой! — сказала она, когда он обхватил ее руками. — Если не держаться, упаду… — Я сяду сзади! — Замучаетесь на крупе… Он ослабил свои невольные объятия, и час ехали молча. Салима как будто привыкла к его рукам, немного словно говорили о зиме, о добродушном нраве Серого и о чем-то еще… К вечеру впереди показались домики кишлака, и Масуд с удовлетворением подумал: «Ну, вот и Байткурган…» Из трубы чайханы валил дым. Едва он соскочил с коня, Салима попросила: — Помогите и мне слезть. Джурабай-ака вышел встречать гостей в рыжем тулупе, в платке поверх тюбетейки. Масуд познакомился с ним, а он спросил: — Замерзли, доченька? — Только ноги… — Не время путешествовать в горах! Могут и волки встретиться, да, да! Хорошо, что добрались… У меня хоть и не дом, а лачуга, но сандал горячий. Как там Кадыр-ака, учитель? — В школе работает. Душа человек. — А Умринисо? — Помогает ему. Тетя Умринисо всем нам как мать. Кормит, поит, одежду штопает… Для Салимы эхо все были не простые слова, а теплое дыхание мира, который она оставляла. Неужели навсегда? — Спички есть, учитель? Заходите в лачугу, зажигайте лампу, а я коня под навес поставлю… — Заботливый человек, — сказала Салима про Джурабая-ака. А чайханщик скоро принес в домик, действительно похожий на лачугу, совок с углями, чайник чая и две лепешки под мышкой. Пока молодые люди ели, чайханщик спросил: — Нашли убийц? — Можно сказать, нашли… Но не всех еще поймали. Чайханщик рассказал, что в ту ночь, когда убили второго учителя, он как раз был в Ходжикенте, в гостях у Кадыра-ака. Ведь что случилось перед пятничным базаром. Приехал по базару побродить, пополнить свои запасы, а тут такое! Все переполошились. Салахитдин-ишан о том и в мечети речь держал. — Что сказал ишан? Про учителя Абиджана. — Про учителя Абиджана? Черти его одолели! И все. За грехи, мол, смертные. — Так и сказал? — Так, сынок. Своими ушами слышал. — Слышите, Салима? — Да… — А еще что, Джурабай-ака? — Ну, как всегда… У нас один учитель — бог. А неверных черти одолеют! Всех! — Мы с вами у него неверные, Салимахон. За разговором поели, выпили чаю, и Масуд пошел взглянуть на коня, а Джурабай-ака закрывать ворота двора. Салима же убрала скатерть, разворошила угли в сандале, натянула на себя одеяло по грудь и задумалась. Ночь впереди… Пусть Масуд ложится и посапывает, а она будет сидеть вот так и смотреть на его лицо. Спящий, он не заметит ничего. Как, впрочем, и бодрствующий не замечал. Она просидит всю ночь, любуясь им. Напоследок… …Проведав Серого и растерев его соломенным жгутом, Масуд зашел в чайхану. В длинном зале в ряд вытянулись деревянные сури под желтым светом лампы, подвешенной к потолку. На сури никого не было, чайхана пуста, но Джурабай-ака заваривал чай у самовара, поддерживая его горячим. — Ведь никого же нет! — Разве угадаешь? — Джурабай-ака выпрямился и вытер руки о полотенце. — Вот, вчера ночью… только хотел уйти домой, смотрю, вваливается один… Не знаю, как доехал, если и сидел в седле, то очень криво… Хотел его чаем отпоить, а он потребовал еще водки. Да так по-хозяйски. Кричал, деньгами швырялся! — Совсем незнакомый? Вы его не знаете, Джурабай-ака? Чайханщик помедлил и вздохнул. — По-моему, это Шерходжа. Баловник Нарходжабая… — Почему сразу не сказали?! — Не хотел девушку пугать… Да и не уверен я, что это он и есть. Ничего не могу сказать в точности, простите меня, учитель. Я ведь не видел Шерходжу вот так, как вас, в глаза. Только по рассказам сужу… А последнее время он скрывался, говорили, далеко, а оказалось… И Халмат, и сестренка… Ай-яй-яй! Одним ножом их убил. За что? Он и есть, черт! — Расскажите подробней, Джурабай-ака, что делал этот человек? — Я сказал, водки просил. Дал ему холодной воды из ведра пиалушку, вот, мол, тебе водка, он выпил половину, а половину выплеснул и давай еще хлеще ругать меня. Такой-сякой! Я тоже разозлился, кричу, здесь не кабак, а чайхана для людей, а он талдычит свое. Я взял, вышел. Вернулся через минуты три, а он — храпит. Вон на той сури. Так и прохрапел до рассвета. Ну, я дал корма его коню, сам остался на ночь, не бросать же его одного, кем бы ни был! — А на рассвете? — Быстро собрался. Дал целый червонец за ночлег и уехал. — Куда? — Ни слова не сказал. Сразу уехал. Даже чаю не выпил. — А вообще был какой-нибудь разговор? — Никакого. — Обычно рассказывают, откуда едут и куда… — Не рассказывал. — Скажите мне, есть где телефон в Байткургане? — У начальника милиции. — Там и дежурный должен быть сейчас… Я пошел. Прошу вас, Джурабай-ака, не оставляйте девушку одну, задержитесь тут. И не говорите ей ничего, пусть она отдыхает… Милицейский участок Байткургана он нашел за гузаром. Дежурный милиционер грел руки у открытой дверцы голландской печи, от души набитой каменным углем. Масуд показал свое удостоверение, открыли кабинет начальника, и вот уже он говорил по телефону с Газалкентом, с Саттаровым. Тот выслушал все и сказал: — Понятно. — И спросил: — А вы почему в Байткургане, Масуджан? В Ташкент едете? — Да, ехал… Но теперь поверну домой, останусь… Саттаров помолчал, похрипел в тихую ночную трубку. — Помните, Масуджан, отец велел вам слушаться меня? — Ну? — Приказываю ночью никуда не трогаться. На рассвете ехать не к себе в кишлак, а в Газалкент. Здесь все обдумаем и организуем поисковую группу. Я сейчас же перекрою дороги и… и… запрещаю вам действовать в одиночку! Слышите? — Слышу, Алимджан-ака… — Про Шерходжу известно, что это он убил Чавандоза. Это уже не догадка. Вдова сразу узнала уздечку, подтвердила… Как и следовало ожидать. — Какую уздечку? — Алексей нашел ее в доме Тамары. — Где?! — В Ташкенте. — Значит, Шерходжа был там? — И опять исчез. Зарубите себе на носу, что это сильный и хитрый враг. Это не мальчишка. Он все время ускользает чуть раньше, чем мы хватаемся за него! — Уздечка, — повторил Масуд. — Вороной конь. А Саттаров повторял свое: — Сильный и хитрый. Вам ясно? — Ясно, Алимджан-ака. На рассвете Салима, выспавшись у сандала, вышла умыться, увидела Масуда и спросила: — А где вы запропастились на всю ночь? — С Джурабаем-ака чаевничали. Простились с чайханщиком, повели Серого к дороге… Небо очистилось, снег не падал, белая даль открылась и просматривалась во все концы. И они увидели на дороге арбу, катящуюся к Ташкенту. — Не сердитесь, Салима, но если этот арбакеш согласится взять вас с собой, считайте, что я проводил вас. — Конечно. И одной на арбе получше, чем вдвоем на коне. — Как я обрадовался, когда вы приехали в Ходжикент! — сказал ей Масуд, задавливая вздох. — Всю жизнь я вам за это буду благодарен. А теперь… Не обижайтесь! — Я не обижаюсь, Масуджан. Я на вас не обижаюсь ни за что, — повторила она. Арба увезла ее, а Масуд тихим шагом пустил Серого в обратную сторону. Надо было обдумать все. До Газалкента времени хватит…ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Дом Тамары остался далеко. Уже в ту ночь, когда Шерходжа вышел из этого дома, ему показалось так. Несколько улиц, собственно, отделяло его от этого дома, ну, пусть несколько десятков улиц, так или иначе они находились в одном городе — этот дом, где осталась Тамара, и он, Шерходжа, а казалось, будто пустыни и горы, реки и моря пролегли между ними. Это потому, что сердце зацепилось за порог ее дома, а жизнь безжалостно отрывала… Неужели он так привязался к Тамаре, что через два-три часа после того, как простился, уже затосковал? Или просто такой неуютный, неприветливый, чужой раскинулся вокруг целый город по сравнению с ее домом, где были тепло и внимание, еда и женская ласка? И никаких вопросов… А здесь будто бы все спрашивали: кто ты такой? Интересовались глазами, если и держали за зубами свои поганые языки. Шерходжа очутился в одном из самых торговых районов города и понял, что больше, чем люди, которых он ненавидел сейчас, всех подряд, его пугало безлюдье. Наверно, поэтому, побродив по пустым и темным улочкам старого города, он выбрался сюда, оправдывая себя тем, что среди людей заметить и распознать путника труднее, чем на голом месте. А следили ли за ним? Вряд ли. Его давно бы уже могли взять, могли скрутить руки, несмотря на маузер на брюхе. Они ведь тоже не без вайвояков, и к тому же их много, а он — один. Темнота становилась все плотней над головой и внизу, многочисленные ларьки, в которых гасли фонари, закрывались один за другим. Сейчас разойдутся по домам и хозяева и покупатели. А ему — куда? Пробиваясь сквозь его усталые мысли, тупостью своей и однообразием заткнувшие уши как ватой, зацокали конские копыта. Шерходжа оглянулся и увидел старый фаэтон, кативший мимо вымирающих лавок. И был этот фаэтон пуст. — Эй! — крикнул Шерходжа кучеру-извозчику, закутанному в рыжий чекмень и перепоясанному сыромятным ремнем. — Подбросьте на Чорсу! Он решил вернуться в старый город, во всяком случае на ночь. Подальше от властей и немеркнущих глаз ГПУ… — Садитесь, — громадный кучер, вероятно разбуженный его окриком и отбросивший с головы дождевой колпак из серой бязи, натянул вожжи. Низенький, но крепкий конек остановился как вкопанный, перестали вертеться и колеса фаэтона. Шерходжа вскочил, плюхнулся на продавленное сиденье и похвалил коня за послушность. Кучер рад был встряхнуться и поговорить, особенно о конях, и сам принялся нахваливать своего, давно таскавшего фаэтон и действительно научившегося слушаться малейшего движения вожжей. — Умный конек. — Где можно приобрести хорошую лошадь? — спросил Шерходжа. — Люблю лошадей! — На базаре, — ответил, повернувшись, кучер, — где же! — А дорого? — За шестьдесят целковых скакуна купите. — Базар завтра… А я и сегодня хорошего коня купил бы. — Ехать надо? — Не поможете найти действительно стоящего скакуна? — Сегодня? — Сто целковых выложу! — О-хо-хо! Слишком щедро… Нет, сегодня даже не знаю, где искать… Вас куда подвезти, байвача? — К караван-сараю. — А вот! — воскликнул кучер, снова поворачиваясь. — Спросите у владельца караван-сарая — может, кто из игроков так продулся, начисто, что и коня продаст! Это часто бывает, мне рассказывали. Если игрок опустошил карманы, считай, уже и голову потерял, и своего коня не пожалеет. Тпрру! Хозяин караван-сарая на Чорсу кланялся у ворот. Вышел встретить, заприметив подъехавший фаэтон. Был хозяин долговяз и тощ, с ввалившимися глазами — конечно, от бессонницы, в его заведении гуляки резвились день и ночь. Триковая тужурка, в которой он остался, когда ввел Шерходжу в помещение и скинул с плеч чапан, обтягивала его ребра. Всякий хлеб непросто достается, требует своих жертв! — Что прикажете? — спросил он. — Комнату. Два дня у русских красоток кувыркался, голова трещит. Есть комната? — Комната готова! — Покажите. Комната была маленькая, с несвежими одеялами, и Шерходжа сразу пообещал заплатить больше и попросил заменить постель. Уж очень хотелось освободиться от всего гнетущего, напоминавшего о неустроенности. Хозяин принес стопу свежих одеял, получил червонец а спросил, оскалившись в довольной улыбке: — Может быть, поужинать хотите? Или сразу спать? — Шашлычник есть? Хозяин сделал такое движение бровями, за которым угадывался и отменный шашлычник, и вкуснейший шашлык. — Водку не забудьте! — приказал Шерходжа. Отпадала проблема ночлега, обещана хорошая еда, было за что выпить. — Пусть ваши болезни перейдут ко мне! — еще раз поклонился хозяин. И Шерходжа остался один. Сняв галоши, он походил по красноватой кошме, застилавшей пол, в новых мягких ичигах. Тамара позаботилась, чтобы получше одеть его в дорогу. И тепло, и красиво. Шуба синего сукна, чуть просторная, наверно отцовская, соболий воротник, соболья шапка. Доски пола пружинили под кошмой… Он прилег на подушку у холодного еще сандала, попытался успокоиться, но нервы были натянуты до предела. Еще раз он попытался, как говорится, в зеркале своего воображения воскресить все людские лица, попадавшиеся ему. Нет, никто за ним не следил, не следовал… Извозчик — случайно катил мимо. Каравансарайщик — не ждал и не мог ждать его, этому только деньги… Отдых! Он расслабился и чуть не заснул, когда хозяин принес совок с раскаленным углем и поднос с пахучим шашлыком. На подносе стояла, поблескивая, и бутылка. И две пиалушки — одна в другой. Хозяин, сам обслуживавший его, надеялся на приглашение, и Шерходжа показал напротив себя, пригласил присесть и налил водки в обе пиалы. Пил он немного, ел молча, хозяин понял, что гость устал, и быстро удалился, унеся посуду, но оставив в сандале добрый жар… Проснулся Шерходжа после полудня. В комнате — холодно. Угли в ямке сандала покрылись золой. Он подошел к маленькому окошку, удивился снегу, редкому, правда, но все равно необычно раннему в этом году, увидел на подоконнике бутылку с наполовину воткнутой в ее горлышко пробкой и пиалушку, предусмотрительно оставленную заботливым хозяином. Зубами выдернул пробку из длинной черной бутылки, плеснул водки, опрокинул в себя. И согрелся немного. А тут и тощая морда хозяина всунулась в щель из-за приоткрывшейся двери. — Прошла усталость, байвача? И чего они все, начиная с извозчика, называли его байвачой, сыном бая, человеком из байского рода? Одежда, конечно… И червонцы… Здесь они еще делали свое дело. Каравансарайщик старался. Опять ели шашлык из молодого барашка, хорошо обжаренные кусочки его сочились кровцой и были щедро засыпаны сочным луком. Да, червонцы делали свое дело. Любитель тостов, каравансарайщик, у которого начинался рабочий день, пил осторожно, охотней провозглашал: — Пусть ваше счастье распускается пышным цветком, байвача! — А в конце концов спросил: — Нам еще будет какое поручение? — Вчера коня проиграл, — осмотрительно начал Шерходжа издалека. — Перепил, загулял… — Не расстраивайтесь, со всеми бывает! — Коня жалко, себя ругаю. Да и стыдно без коня… — Это понимаю, — замахал руками хозяин. Прислонившись спиной к стене, Шерходжа дожевывал шашлык и следил испытующе за лицом содержателя караван-сарая. Холуйское было лицо, и только. — Один раз не повезло, другой раз повезет! Игра такое дело, — договаривал каравансарайщик. — Да мне сразу не повезло. Я отыгрался — откуда деньги-то? Но тот подлец коня не вернул, отказался. Вот и обидно! Хозяин покачал головой, склонив ее набок и призывая к смирению: — С джигитами чего не случается. — Хоть сейчас купил бы коня. Есть такая возможность? — Кроме смерти, у меня все возможно! — весело отозвался хозяин, допил каплю водки из своей пиалушки и поставил, опрокинув, на поднос. Шерходжа оторвался от стены, подался к нему: — Есть конь на примете? Хозяин пожевал губами, облизывая их. — Есть одна белая лошадь, но цена очень большая. — А хороший конь? — Равного дешевле не найти. — А чей? — Гости издалека… Пили, играли несколько дней… Ну, один и решил коня продать… Вроде… — хозяин не договорил, опять оскалился. — Можно посмотреть эту лошадку? — Зачем вам беспокоиться, байвача? Еще передумает протрезвевший гость, когда увидит вас… Хозяева всегда трезвеют, когда видят, кому их добро достанется. Я — посредник — такого чувства не вызываю. Доверьтесь мне… Не конь, а сокол! Правду говорю. Себе взял бы, да денег нет. И нужды нет, ехать некуда… Все понятно, думал Шерходжа, не хочет заработка терять, о себе он тоже не забудет, но, значит, и конь хорош, на плохом не заработаешь… А каравансарайщик все расписывал: — И сбруя подходящая, серебром прошитая… Сто пятьдесят на стол, и конь ваш! Шерходжа вынул шелковое портмоне — еще один подарок Тамары, без слова отсчитал пятнадцать красненьких и кинул на стол. — Здесь и возьмете коня? — забирая деньги, спросил каравансарайщик. — Нет… Хочу прислушаться к вам и выставить одно условие. Вечером, как только стемнеет, приведите коня к Салару, к мосту… — он уточнил, какой именно мост имеет в виду, и протянул руку. — Хоп? Каравансарайщик деликатно, больше ради условности, хлопнул его пальцами по протянутой ладони: сделка состоялась. А что теперь? Как протянуть время до ночи? Сначала Шерходжа подумал, что лучше всего никуда не выходить из караван-сарая, не показывать, что называется, носа, но тут же решил, что умнее проверить, не следят ли за ним, не тянется ли за ним хвост от дома Тамары. Если так, они легко возьмут его и вечером, и ночью когда захотят. И без коня, и с конем… Одевшись, он вышел на улицу и побрел на базар, то оглядываясь, то стремительно шаря глазами по сторонам. На базаре многолюдном и неумолчно говорливом базаре старого города, исчислявшего свой возраст веками, где торговали и покупали, жарили, пекли, ели, гадали, просили милостыню, Шерходжа побродил по разным рядам — рисовому, хлебному, овощному, посудному, ситцевому, все время проверяя, не шествует ли кто-нибудь сзади, меняя ряды вслед за ним. Повторяющихся лиц не было, и отлегло от сердца. Бог еще не забыл о нем, не оставил его. Если доведется увидеться с Салахитдином-ишаном, вспомнит и поблагодарит: видно, ишан молится за него. С базара он рискнул пойти в сторону площади и приблизился к ней. В центре площади сколачивали трибуны и обтягивали кумачом. Шерходжа поглазел на них среди других любопытных, спросил: — Что это? — Праздник! С луны упал, что ли, не знаешь? — засмеялся усач сосед то ли над ним, то ли над этими трибунами. Очень хотелось узнать — какой праздник, но лучше не тормошить людей, не приставать с вопросами, которые могут показаться им странными. Он тихонько, двинулся дальше и скоро увидел, как над улицей натягивали лозунг: «Да здравствует 6-я годовщина Октябрьской революции!» Вот какой праздник! У него в голове спутались и перемешались все дни, а эти голодранцы помнили. Это — их праздник… Шерходжа сдавил зубы, проглотил слюну, скопившуюся в горле, и хотел быстро уйти отсюда, но вскоре снова остановился. У ступеней большой мечети толпились женщины с открытыми лицами, больше — молодых, это было хорошо видно без чачванов, на ступенях стояли люди, несколько совершенно одинаковых, в кожаных пальто и кожаных фуражках на голове, один из них говорил речь, поздравляя женщин, что они перед славным праздником сбросили с себя паранджи и сейчас сожгут их, что это тоже — революция, а Шерходжа увидел, что у ног женщин валяются паранджи, мальчишки стаскивают их в кучи, обливают керосином… Вынуть бы маузер — и по этим кожанкам, по этим бесстыжим бабам с открытыми лицами… Нет, его пули все рассчитаны поименно. Он уходил, а за ним неслись клочки речи, слова: «кандалы», «цепи насилия», «товарищи женщины»… Вспоминался Ходжикент. Яблоневый сад. Дильдор. Маленькую, он любил катать на закорках, изображая своенравного коня, и ржал и брыкался, а она смеялась. Больше не засмеется… Почти дойдя до караван-сарая, он решил вдруг не возвращаться туда. А вдруг его там ждут? Все его с ним. Свернул за угол и прибавил шагу. Пообедал у нэпмана в ресторане с национальной кухней, покрепче, с запасом на дорогу, съел побольше конской колбасы и лагман — жирную, наваристую лапшу, наполнившую необъемную миску. Ну, так… Когда стемнело, он подошел к мосту через Салар. Долговязый каравансарайщик уже был здесь, стоял под тополем и держал в поводу белого красавца, прикрытого красным ковриком, оседланного и взнузданного, с удилами во рту. Садись и поезжай! — Вот и я, — сказал Шерходжа, приблизясь. — Полюбуйтесь! — каравансарайщик дернул уздечкой и заставил коня поднять голову. — Рахмат. Не подвели. — Мое слово — закон! — воскликнул каравансарайщик. Он получил две десятки и подержал щедрому гостю стремя. А потом дал ему в руки камчу и крикнул вслед: — Пусть будет ваш путь счастливым! И пожалел: не успел сказать, что в хурджунах — перекидных мешках за седлом — четыре лепешки и две бутылки водки на дорогу, да ну, найдет! Посмотрел на два червонца в пальцах и сунул в поясной платок… Шерходжа действительно нашел лепешки среди ночи, запустив руку в хурджун, чтобы проверить — нет ли там чем закусить хоть малость? И поблагодарил каравансарайщика, которого послала ему судьба. Но доесть лепешки, даже одной, не пришлось. В кишлаке Шуртепе, который он проезжал, открылась глазу чайхана, бросавшая свет прямо на дорогу. Он остановился от испуга. Что испугало? Свет? Сдвинув на затылок свою соболью шапку, он почесал, точнее говоря, поскреб голову надо лбом и обругал себя. Если боишься, убирайся прочь с этой дороги! Зачем едешь? Трусу тут нечего делать! Тронул коня и подъехал к чайхане. За спиной остался немалый кусок дороги. Устроившись здесь ночевать, Шерходжа решил — и правильно. Одинокий ночной путник скорее привлечет к себе внимание. Если дорога перекрыта каким-нибудь Саттаровым, не прозевают. Пусть они ночуют на дороге. Все идет пока что как надо… Он лежал на довольно мягкой подстилке из кошмы и одеяла за какой-то дощатой отгородкой от чайханы и время от времени слышал смех засидевшихся чаевников, занятых извечным спортом — состязанием в острословии, а потом еще какая-то группа людей, видно путников, возвращавшихся из Ташкента в свои места, расселась ближе к отгородке, и разговор их скоро заставил Шерходжу подползти на локтях к самым доскам… — Салахитдин-ишан перебрался в дом Кабула-караванщика… — А караванщик? — Там же, где и Нарходжабай! Без свиданий… — Ну-ну? — Переселился к мельнику, а жену бая, Фатиму-биби, взял к себе в услужение. Как вам это понравится? — Э, за стариком надо кому-то глядеть? Жены-то разбежались! — А как же после этого он тянул? Один? — Глава дервишей, Умматали, за ним присматривал, а теперь и о себе позаботился. Привел в дом одну какую-то из бывших жен ишана. — Ну да?! — Вот тебе и да! — Я вам скажу — эти двое и раньше были в связи. — Э-э-э… — опять протянул самый басовитый. — Шариат не имеет границ! Все дозволено… — Смотри, язык откусишь! — насмешливо заметил другой. — Не боишься аллаха? Он тебя за такие слова!.. — Не боюсь, разрази меня гром! Вот еще одно доказательство: все дозволено! Знаете о Суюн-беке? Уж как ее любил бай, холил, задаривал. До последнего оставался с ней. От всех отвернулся, а ее не бросил. И что? Плачет она сейчас, убивается? Держи карман! — А где она? — Уехала в горы, к чабану, с которым… — Может, просто от страха бежала в горы? — Как бы не так! Говорю вам, к чабану, с которым давно знакома… — Видно, говоривший сопроводил свои слова какими-то жестами или таким выражением лица, что остальные рассмеялись. — Этот чабан еще у ее отца работал, сарыбаевских овечек гонял! А сейчас живет возле самой Юсупханы… «Знаю я этого чабана, — подумал Шерходжа. — И кошару эту знаю. Большой овечий загон. Возили в детстве, показывали…» — А Шерходжу поймали? — Не поймали. Как убил Халмата, так и скрылся на его вороном, растаял в ночи. До сих пор не известно где. — А сестренка его, которую он пырнул ножом, в госпитале, говорят. — В каком? — В самом хорошем. На берегу Шерабадского арыка. Наша власть заботится о ней, помогает. «Наша, — мысленно повторил Шерходжа, — какие-то сволочи, волостные служащие домой едут…» — О ком же и заботиться, как не о ней? Она ведь убийцу помогла разоблачить. — Брата выдала. — А он и есть главный убийца! «Вернусь из Ходжикента живым-здоровым, доберусь до этого самого хорошего госпиталя. Пусть считает свои дни по пальцам, ученая…» Чайханщик занес на совке горячие угольки, ссыпал в ямку, поинтересовался, что скажет постоялец насчет ужина. — Занесите хурджун, ака, там все есть. — Коня вашего покормить? — Да, спасибо, надо бы… Я рано — в путь, — он в полутьме положил в руку чайханщика хрусткую бумажку, и тот тоже поблагодарил и вышел задом из комнаты, согнувшись в три погибели. «Деньги, деньги, — подумал Шерходжа, — всегда и везде — в них власть и сила, эх, вы!» Это последнее было адресовано в сторону занявшихся едой и поэтому приумолкших волостных служащих, а сам он повыше натянул одеяло и довольно быстро заснул. Но спал недолго. А едва очнулся, еще до рассвета, при первых его намеках, нашел своего коня под навесом, оседлал и — вперед, вперед! Чем ближе к родным горам, тем больше снега появлялось на дороге. Он грелся тем, что доставал водку из хурджуна и потягивал понемногу, глоток за глотком, прямо из горлышка черной бутылки. До Байткургана добрался, едва держась в седле. Но, впрочем, он не столько был пьян, сколько притворялся. На подъезде к Ходжикенту его мог опознать и случайный встречный, а скрываться легче было, играя пьяного, мертвецки пьяного, на которого и смотреть противно. Не смотрите! Чайханщика в Байткургане удалось провести, хотя и покричать пришлось, не жалея горла. Спал на сури, посредине чайханы, лицом в согнутые руки, не раздеваясь. Пьяный! И — пронесло… Однако счастье не может быть бесконечным. Он уже приближался к Газалкенту, когда конь его захромал, пошел тише и тише. Плетка, хлещущая по бокам, не помогала. Шерходжа слез и приподнял правую переднюю ногу коня: подкова стерлась, и гвозди все глубже влезали в копыто, отмечаясь кровью. Коню было невыносимо больно ступать. А что делать? Кузня — в Газалкенте. Кузнец — большевик, предаст, его еще отец боялся… Хоть стреляйся! Шерходжа тронул ладонями заросшие щеки и помолился, больше не на что было надеяться. И если бы довелось ему когда-либо рассказывать о чуде, приключившемся с ним, он не мог бы назвать другого. Но это было чудом! Через несколько сот шагов, едва перевалил за бугор, маленький кишлак у дороги начался домом, в которомразместилась кузня. Хочешь — верь глазам, хочешь — нет, но это было так. Никогда здесь не видали ни кузни, ни кузнеца, а теперь… Кузнеца и сейчас не было, но огонь в горне горел. И молоток лежал на наковальне, и щипцы — на полу рядом. «Если это не видение, — подумал Шерходжа, — если не дьявол потешается надо мной, то кузнец пошел домой обедать…» И крикнул мальчишке, катившему мимо большой снежный шар: — Эй, где тут дом кузнеца? Мальчишка показал — рядом с кузней. Так и должно быть. Шерходжа завел коня во двор, обмотал поводками уздечки бревно свежей коновязи и постучался в соседний дом. Прежде всего он спросил молодого кузнеца: — Откуда вы здесь взялись? — Я недавно приехал сюда, недели две, — ответил рукастый парень, — долго выбирал себе подходящее место для кузни, выбрал это. Дорога! Всегда работа есть. Вот вы, например, что у вашего коня? — Посмотрите, правая, передняя. Копыто растрескалось. — Ничего страшного. Сейчас подкуем, а через денек и рана заживет. «Денек!» — усмехнулся про себя Шерходжа. — Где же я перемаюсь этот денек? — В моем доме, если не побрезгуете, прошу. Мы с женой рады будем. — Деньги нужны? — Жена ребенка ждет… — Ну, зайду… Что поделаешь, некуда деваться! Пока парень подковывал его белого, как лебедь, коня, Шерходжа смотрел на изгиб дороги, видимый из узкого окна в глубине веранды. Дорога резко ныряла вниз, исчезала из глаз, а потом снова открывалась там, вдалеке, на повороте. Оттуда в окно ничего нельзя было разглядеть — оно было повернуто к дороге бочком, да и блеск стекла мешал, поэтому Шерходжа перед ним безбоязненно стоял во весь рост. Дорога жила обычной зимней жизнью, замедленной, полусонной. Редкий всадник. Еще более редкая арба. Ослик с дровами по бокам, перевязанными в охапки. День приготовился затянуться надолго, но сократился, когда все гуще повалил снег. Это внесло какое-то разнообразие в картину. После обеда, за которым угостили гороховой похлебкой, машкичири, стало быстро темнеть. А снег все валил… Он перестал на рассвете. Неясная тревога, одолевавшая Шерходжу всю ночь, рассеялась. Уже не казалось, что его заманили в этот дом, что сам дьявол потешается над ним, синяя шуба, кинутая на одеяло, согрела, и когда кузнец вошел в комнату и сказал, что посмотрел коня и думает — все в порядке, Шерходже не захотелось покидать случайную, но надежную обитель. — Ну, и верно, — сказал кузнец, послушав ворчню заворочавшегося с боку на бок Шерходжи, — поспите еще часок-другой. Снег кончился, даль откроется… Она и правда открылась, белая, немереная, даже из тесного окошка взгляд скользил дальше, чем вчера, и чувствовал, как велик мир. Вернувшийся на завтрак кузнец полил на руки Шерходже, помог умыться, дал полотенце и вдруг спросил: — Как зовут вас, уважаемый? — Ганибек, — спрятав лицо за полотенцем, ответил Шерходжа, — а что? — Ничего… Сейчас заезжал один в кузню, другого спрашивал… — Кого? — Какого-то своего дружка, Шерходжу. На вороном, говорит, коне. Должен был здесь проезжать. «Когда?» — говорю. «Может быть, и сегодня», — говорит. — А сам на каком коне? — На сером. — Потерялись дружки! — засмеялся Шерходжа. — Найдутся, если дружки! Уехать сразу — наведешь на себя подозрения кузнеца, которых у него сейчас и в помине нет. Шерходжа сдержал себя усилием воли, попил чай с молодым хозяином и поговорил о сказочной погоде. Есть и у зимы свои радости и красоты. Полная даль солнца!.. И только он собрался натянуть на себя шубу и выйти во двор, вслед за кузнецом, отправившемся из дома, чтобы вывести коня из конюшни, на дороге появились трое. И он узнал их. Это были Саттаров, Аскарали Батыров, по которому тоже плачет пуля, и он… Масуд Махкамов. Он и ехал на серой лошади. Торопились. Шли рысцой — от Газалкента к Байткургану. Если даже кузнец вывел во двор белого коня, вряд ли тот привлечет их внимание. Белый — не черный. Вороной Халмата Чавандоза, давно пущенный на колбасу мясником, все еще выручал его. Трое скрылись за поворотом… Жаль, далеко. Пуля достала бы, но скорее промахнешься, чем попадешь. А ему промахиваться нельзя. «Нельзя, — повторил Шерходжа, как клятву. — Мои выстрелы не останутся без эха, если будут точны. Есть я, есть и другие — такие, как я. Они узнают, услышат, и эхо будет!» Кузнец появился на пороге с улыбкой, приготовленной для расставания, и снова спросил: — А откуда вы будете, ака? — Я — ташкентец. — А куда едете? Далеко? — В горы. — А зачем? — Жениться. — Я правду спрашиваю, а вы смеетесь. — Правду говорю. Слыхал, что горянки удивительно как красивы. Может быть, мне счастье улыбнется! — Тогда дай бог, чтобы нашли достойную! — Держите деньги. — Много это, ака… — Ничего. Еще приеду на свадьбу приглашать. — Рахмат, ака. Вы — добрый человек. Будьте осторожны. Зима, снег. Такой ранний! Старики говорят, в это время никогда столько снегу не бывало. — До Юсупханы доберусь, как думаете? — Я там не был… Я не здешний, сказал же… Но зачем вам Юсупхана? Далеко! Красавицу и ближе найдете, например в Газалкенте. Сколько угодно! — Да я так, к примеру, спросил. — Осторожней… Зимой в горах дороги крутые — скользкие. — Если в горы не пойдешь, долины не найдешь! — ответил Шерходжа. Ему было весело — трое ускакали и не показывались, пора было выбираться на дорогу. Через минуту он прочней прижался к седлу и лихо стегнул своего скакуна камчой.ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Трое к полдню вернулись в Газалкент ни с чем. Все были сердиты на себя, на неудачу и помалкивали. Масуд, так и не отдохнувший после прошлой ночи, почувствовал крайнюю усталость и с позволения Саттарова забрался в укромный уголок районного помещения ГПУ вздремнуть. Часа через два его разбудили и сказали, что срочно зовет Саттаров. Он бросился к Алимджану-ака, на ходу одергивая рубаху и поправляя ремень, в полной уверенности, что сейчас они снова сядут на коней и помчатся, потому что получены какие-то известия о Шерходже. Но Саттаров встретил его в странно-спокойном состоянии. Поднялся из-за стола, помял кулаки, хрустнув косточками пальцев, и сказал: — Поедете в Ташкент. — Когда? — Немедля. — А Шерходжа? Саттаров вскинул голову, зачем-то посмотрел по углам комнаты, словно бы избегая встречаться глазами с ним, Масудом. Кажется, ему все больше становилось неловко оттого, что не могли напасть на след и схватить одного человека. — Вчера в горах сильно пуржило. Хоть глаз выколи. Похоже, преступник где-то нашел убежище и пересидел пургу. Сегодня — ясно кругом. Ему и это некстати. Может и сегодня просидеть в своей норе. Вылезет — поймаем. — Я в Ташкент не поеду, — мрачно сказал Масуд, уставившись в пол, — пока сам не свяжу ему руки. — Поедете. Срочный пакет. Делом Нарходжабая, Шерходжи и других интересуется высокое начальство. Вот… я подготовил донесение, — Саттаров достал из выдвинутого ящика и тихонько положил на стол пакет с сургучной печатью. — Сегодня это должно быть в Ташкенте. — А почему я? — спросил Масуд, переводя взгляд с Саттарова на пакет и обратно. — Приказ Махсудова. — Но вы-то как это понимаете, Алимджан-ака? — Ответственное дело, — проще и привычней сказал Саттаров, садясь. — По дороге могут быть всякие встречи. Даже с Шерходжой… Вы — не наш сотрудник, вы — учитель. Это несколько облегчает дело. А главное — отец доверяет вам. Приказ! — повторил он и развел руками. Масуд вздохнул — приказ надо было выполнять. Взял пакет и спрятал на груди. — Можно отправляться? — Нужно. Счастливый путь. Пакет передадите лично в руки отца! Саттаров снова встал и проводил его до дверей. Здесь прибавил: — Дорога сложная… Ночлег — в Байткургане, я об этом доложу. И не у знакомого чайханщика, а в милицейском участке. Всю эту байткурганскую ночь Масуд просидел на стуле у огня, у открытой печной дверцы, то задремывая, то вскидываясь и ощупывая пакет под рубахой. В путь выехал с началом рассвета. Кибрай, Дурмень, Шуртепе… Все гуще движение на дороге, все ближе и ощутимей Ташкент. Кто конкретно заинтересовался делом? Почему так срочно? Он не останавливался ни в одной чайхане даже для того, чтобы поесть, и сейчас от голода покруживалась голова. В Шуртепе задержал коня на минуту, купил лепешку, погрыз в седле. А скоро входил в кабинет отца, уже освещенный лампой. Отец обрадовался ему, но странно — без улыбки, подошел и крепко обнял, проговорив: — Сынок, богатырь мой! От полушубка, от шапки Масуда шел запах мокрой шерсти, рассказывая обо всем больше слов, и отец ни о чем не спрашивал, оглядел сросшиеся брови Масуда, коснулся пальцами черных его усов. — Мать соскучилась. Чудная она! Как только заскучает о тебе, сразу едет к Дильдор. И сейчас она там… — Взяли бы ее из госпиталя, перевезли домой и жили вместе! Дильдор и мама… — Масуд затих, что-то изменилось в его глазах, и он спросил: — Папа, это действительно важный пакет? Махсудов не ответил. Помолчал, потупившись, и обронил, так и не подняв голову до конца: — Сейчас поедешь в госпиталь. — К Дильдор? — Да. — Что с ней? — Машина уже ждет тебя, сынок. Поехать с тобой? Послать с тобой Алешу Трошина? Но Масуд уже бежал по коридору, бухая сапогами так, что в кабинетах люди пожимали плечами. То, что его ждала не легковая машина, которых было мало в ГПУ, но на которой ехать одному было приличней, а довольно большой автобус под брезентом, совсем сбило Масуда с толку и заставило дважды проглотить слюну, набегающую от волнения и беспокойства, страха, если не лукавить перед собой. Без всякого самообмана и сомнений он уже понимал, что пакет был тут ни при чем, ему просто не сказали о Дильдор заранее, а вызвали из-за нее. И он пожалел, что целую ночь по-дурацки просидел у печки в Байткургане, что останавливался у чайханы в Шуртепе, чтобы купить лепешку, пусть на минуту, но останавливался… Водителя этого наполовину брезентового автобуса он попросил ехать к Шерабадскому арыку как можно быстрее, а про себя подумал: «Человек умирает!» — и его охватил ужас, и сердце сдавила боль, голова затряслась, и он тут же отогнал от себя эту мысль, потому что она была случайной и невозможной. Проплывали редкие уличные фонари, оставались позади деревья, опустившие свои ветки под тяжестью раннего снега, отставали путники, закутавшиеся в чапаны… Выпрыгнув из автобуса, он пулей промчался мимо сторожа, не обратив внимания на его окрик, и пустился в сторону корпуса, где лежала Дильдор. Он уже знал это… Чуть не упав на скользких ступеньках одноэтажного дома, он рванул тяжелую входную дверь, вовремя уцепившись за массивную ручку. Его одели в белый халат, в тесные, маленькие шлепанцы со стоптанными задниками и повели к ее палате. А он считал двери, запомнив их в тот раз… И увидел мать, сидевшую в коридоре на скамейке, возле двери, за которой лежала Дильдор, и беседовавшую с медсестрой. И мать увидела его и встала, широко раскинув руки. Полные слез глаза все сказали сами раньше, чем он спросил, но все же не удержались и слова: — Есть надежда? Хоть маленькая? Или нет совсем? Мать ответила, вытирая слезы: — Иди к ней. Она все время зовет тебя. И он вошел — нерешительно и тихо — туда, приоткрыв дверь палаты, и остановился. Никогда он не видел таких бледных, совсем безжизненных лиц. Ему показалось, что… Но Дильдор, как ни были тихи звуки оттолкнувшейся и отплывшей двери и его шагов, услышала их и открыла глаза. И даже лицо ее изменилось, где-то в глубине, под кожей, побежала кровь, оно порозовело. Со стула, вплотную придвинутого к кровати, поднялся кто-то, и тогда Масуд увидел его и узнал — это был Сергей Николаевич. Он положил руку на высокое плечо Масуда, постоял и вышел, оставив их вдвоем. А Масуд сел на его место, еще ближе попытался пододвинуть стул и молвил про себя: «Вы ничего не понимаете! Она будет жить!» Он склонился над своей любимой, коснулся губами ее густых ресниц, погладил кончиками дрогнувших пальцев ее горящий лоб. — Дильдор! Она медленно набирала воздуха, собиралась с силами для ответа, но только слабо простонала. Но вдруг лицо ее опять порозовело, и рука поднялась и тронула его заросшую голову, и губы прошептали слово, которое он отчетливо услышал: — Соскучилась… — Скоро поправитесь, — сказал он. — Да… — И уедем в горы, где чистый воздух, и родниковые воды, и медовая трава — лучшее лекарство. — Да… Она отвечала с закрывшимися глазами, а теперь снова открыла их и даже улыбнулась — он угадывал все движения ее души по малейшим намекам. — Увидела вас. — Что вы хотите, Дильдор, любимая моя? Я все сделаю! — Песню… — едва услышал он. Девушка прикусила губу от боли и вытянулась, да, она как-то неестественно вытянулась, и он испугался и, наверное, крепче, чем можно, взял ее своими железными руками за худенькие плечи, но она опять прошептала еще тише: — Песню… Он покивал, сжав влажные веки и выдавив из-под них никчемные капли, нагнулся ниже, прислонил свои губы к ее уху и, обдавая его жарким дыханием, зашептал:ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
После того как Шерходжа увидел из окошка кузнеца конный разъезд на дороге — этих троих, разыскивающих его, — у него возникла перед глазами тюрьма. И Замира, и все. Отец, Кабул-караванщик, Нормат — они были такими же, как всегда, а Замира почему-то выглядела ведьмой с распущенными волосами… Он никогда не любил ее, но все же это видение было ужасающе неприятным. Его охватили одновременно невольная дрожь и смех, готовый прорваться наружу. В дороге он вспомнил об этом и, придавая себе силы, решил, что это был смех над ними, над чекистами, которые опять остались с пустыми руками. Он даже попытался рассмеяться сейчас, когда скакал один по белой полосе с редкими тоже белыми колеями от колес. Не вышло. Тревога была сильней. Куда теперь? Куда же ему? На всех путях мерещились засады. Да они и были… Неужели не пробраться? В такие критические минуты в мозгу решительных людей идет необычная работа, с быстротой молнии вспыхивают и меняются мысли, возникают давно забытые картины, вспоминаются случайные встречи, память выталкивает из своих глубин то, чего, кажется, и не было. Нет, было когда-то… Ходжикент… Сад отца с длиннющими виноградными туннелями… И он, еще безусый подросток, крадется по одному из них, выслеживая голенастую девочку. Не только голенастую, но и с припухлой, живой грудью, которая зазывно шевелилась под шелковым платьем, как только девочка пускалась бежать… Была ранняя весна — время первых весенних праздников, когда съезжаются гости, варят из муки и солода пьяную кашу — сумалак, жгут костры. Перед верандой их дома тогда разложили большущий костер, казалось — до неба, а вокруг бегали дети с веселым шумом и гамом. Отсюда, от костра, они и убежали с Акидой в сад, в виноградный туннель, по которому начала расползаться зелень. Акида — да, ее звали Акидой, как это вспомнилось, как сохранилось — одному богу известно, она заманила его за собой и где-то тут спряталась… Вот он и разыскивает ее. И вдруг она хватает его сзади, обнимает, душит и тискает так, что он и правда чуть не задыхается и чуть не кричит от страха, но какое-то незнакомое, тревожное и сладостное чувство удерживает его, и он начинает дышать, сам хватает ее руками, подставляет ей свое лицо, а она осыпает странными, оставляющими восторг и боль поцелуями его глаза и щеки. Она была старше на два или три года… Акида, дочка друга отца — Кудратуллы Ходжи, гостя из высокогорного Хандайлыка. Дорога в Хандайлык — налево, через несколько верст. В горы. Именно такая, от которой предостерегал кузнец, — крутая и, должно быть, скользкая. Но это и хорошо. Чекисты не полезут туда. Да и зачем им Хандайлык? Они обложили Ходжикент… На дальние подъезды к фамильному кишлаку Нарходжабая у Саттарова людей не хватило. Не все на свете люди, слава богу, служат в ГПУ… Он не поедет в Ходжикент сейчас. Он свернет в Хандайлык. Этот поворот будет скоро, до того, как покажется Газалкент. А может, не Хандайлык, а Юсупхана? Нет, пока нет… С Суюн-беке у него никогда не было хороших отношений. Третья жена отца больше других враждовала с Фатимой-биби и почему-то особенно не любила Шерходжу. Еще, чего доброго, испугается за своего чабана, сама и выдаст байского сына… В Хандайлык! А жив ли Кудратулла Ходжи? Не постигла ли его судьба отца? Может быть, в его хандайлыкском доме уже заседает сельский Совет? Кто знает! Здесь тебе никто не скажет этого, Шерходжа. Ты — один. Хандайлык далеко, вести из него и к нему спускаются и поднимаются с опозданием на месяцы, иногда на целый год. Может, там и советской власти еще нет? Нет, она есть. Она всюду. Как небо. Как воздух. И первый раз Шерходже на ум пришла простая и окончательная мысль, что здесь нельзя больше жить. В Кашгарию. В Турцию. Куда угодно, только не здесь! Вот сделает свои, богом начертанные и кровью предписанные дела, а тогда… Хорошо, он доберется до Хандайлыка, а если там нет ни Кудратуллы, ни Акиды, тогда куда он денется? Но ты же уже сказал, Шерходжа, что на это тебе сейчас никто не ответит, и даже сам себе ты не ответишь. Все, что у тебя, что с тобой, — маузер за пазухой и камча в руке. Действуй, подгоняй коня. Ведь и такое возможно, что Хандайлык не занесло без следа снегами, не смело ветром в пропасть, что он стоит себе на своем месте и живет в нем Кудратулла Ходжи со своей Акидой, которая поможет, не откажет ему в помощи, уж кто-кто, а женщины, поцеловавшие его один раз, не забывали этого и всегда ему помогали… Он свернул в сторону у водораздела Боз Су, переехал деревянный мост, заваленный и облепленный снегом, и направил коня вверх, по дороге, на которой не было ни следа. Никто не рисковал двигаться по ней в такую погодку… А у него ничего другого не осталось. Холодный ветер зло щипал лицо, рвал как будто, а не щипал, конь, проваливаясь в снег по колени, давно пошел трудным шагом, рука с камчой — тоже словно бы сама — спряталась в рукав шубы, а другая ослабила поводки уздечки. Довериться коню — и все, сам ты сделал, что мог, Шерходжа… После полудня он доехал до Хандайлыка и встретился на гузаре кишлака со стариками, бредущими из мечети. Старики были как старики, худые и толстые, с палками и без них, белобородые, с клочками седины на бровях… «Может быть, один из них — Кудратулла Ходжи? Кто же?» Видимо, он так всматривался в стариков, что они стали поднимать опущенные от смирения или слабосилия головы и вглядываться в него. Отвернув в сторону морду коня, Шерходжа поклонился им всем сразу, поздоровался как полагается. Тогда один из них, самый низенький, но зато и самый длиннобородый, в черном чапане до земли, до снега, остановился, ответил на приветствие и спросил, подходя поближе к остановившемуся всаднику: — Добро пожаловать, кого ищете? — Кудратуллу Ходжи-ака, — решился на прямой ответ Шерходжа. Руки и ноги его замерли, но он все же спрыгнул с коня и поздоровался за руку со стариком, борода которого напоминала о святых людях и обычаях. — Кудратуллу? — переспросил старик, шепелявя беззубым ртом, и покачал головой. — Ходжи болен… Давно… Но это не главное горе в его доме… — А что? — У него — поминки. Зятя бог забрал. Три дня, как зять скончался. — Какой зять? Старик с сомнением посмотрел на Шерходжу и ответил: — Какой! Ведь у него одна дочь, — значит, и зять один. Был. Латиф… Смирный джигит, никому не мешал, да вот… дни его… Идемте, я провожу вас, — смягчившись, сказал старик. Зеленые ворота были распахнуты. Перед домом в два ряда стояли скамейки, накрытые приснеженными одеялами. На них сидело несколько человек, перепоясанных поверх халатов платками. Увидев приезжего в такой знатной шубе и шапке, ведомого седым стариком, люди, пришедшие помянуть покойного, быстро встали — один за другим — и поникли головами, сложив руки на животах. Старик остался с ними, а Шерходжа поднялся на веранду во дворе и вошел в комнату, оставив у порога калоши. Он не любил покойников и редко ходил на такие церемонии, но все было как всегда и всюду. Дородный дядя читал коран у низкого столика, молился за упокой души незнакомого Латифа. Пол вдоль стены был застелен одеялами для всех приходящих. А рядом с чтецом согнулся с застывшими четками в руке человек, которого Шерходжа сразу узнал, — некогда веселый бай борцовского вида, а теперь совсем потерявший и этот вид, и прежнюю веселость на лице Кудратулла Ходжи. Согнув колени, Шерходжа опустился на одеяло поближе к хозяину. Тот глянул на него, задержал взгляд, и Шерходжа спросил, в почтении складывая руки: — Не узнаете, дядя Кудратулла? Старик напряг слезящиеся глаза: — Кто такой? — Я — сын вашего друга Нарходжабая, Шерходжа. — О-хо-хо! — завздыхал и задвигался Кудратулла Ходжи. — Неужели такой большой уже? — Последний раз вы меня видели, дядя Кудратулла… когда приезжали к нам вместе с дочерью Акидой, — добавил Шерходжа на всякий случай. — Это было на весеннем празднике у нас, в Ходжикенте. С тех пор прошло не меньше десяти лет, наверно… — Как быстротечна жизнь! — воскликнул, горюя, старик Кудратулла. — Вчерашние птенцы стали уже вон какими джигитами, а мы так же быстро движемся к полной немощности. Эх-ма! Это еще можно понять… Нагрешили… А вот молодые-то за что? Мой зять — Латиф, он за что? — Не убивайтесь, дядя Кудратулла, уже не поправите ничего. Видно, так угодно было господу. А как Акида? — исподволь спросил он, но старик не расслышал, потер глаза и сам спросил: — Как здоровье Нарходжи, где он, сыночек? «Слава тебе, — порадовался Шерходжа, — сюда действительно не доползли еще старые, уже двухмесячной давности, новости…» Но, подумав, что Ходжи мог и полюбопытствовать, не отпустили ли отца, просто так справиться о здоровье, решил, что лучше не врать, тем более что от этого — никакой выгоды. — Отец мой в тюрьме, разве не слышали? Советы посадили, богатства добиваются… Старый Кудратулла поцокал языком, отполз на несколько шагов на карачках, долго вставал, опираясь о пол руками… Куда? Оказывается, за чаем! Шерходжа помог ему, и беседу они продолжили в углу комнаты, отхлебывая горячий чай, который был как нельзя кстати. — Ах, учил я Нарходжабая, учил! Не послушался… Сам виноват… — Человека сразу не переделаешь, — обронил Шерходжа понимающе и сочувственно. — А разве заберешь свое с собой на тот свет? На каком верблюде увезешь? А-ха-ха! С чем ушел Искандер, богатейший царь Александр Македонский, как его европейцы зовут? Забрал с собой свои завоевания? Где и кому остались все богатства и сияние эмира Тимура? Кем стали они сами, где они, кто? — Кудратулла снова цокнул языком. — Не нужно противиться Советам, сдай золото, сдай все честно, подчинись… — Кому? — Народу. Ведь — народная власть. Шерходже хотелось засмеяться и сказать, что все равно, у кого власть, тот и выше, но он следил за собой, как никогда, и сдерживался, а старик прошамкал: — Если время на тебя не смотрит — ты на время смотри! Но Нарходжа дурак. Сколько раз увещевал этого дуралея… В другое время Шерходжа, конечно, вскочил бы и неудержимыми шагами вышел из гостиной, а сейчас перетерпел. Говорится же: «На чью арбу сел, того песни и пой!» Пора, однако, было менять пластинку на этом граммофоне… Шерходжа вздохнул притворно глубоко: — А я, как узнал о вашем горе, приехал выразить скорбь за отца и за себя… по этому поводу… Он испугался, что дотошный старик заинтересуется, как же он узнал о смерти несчастного Латифа, от кого, но Кудратулла Ходжи опять заплакал и пробормотал: — Спасибо, родич… «Родич» — это уже хорошо. — У меня, кроме единственной дочери, нет других детей, — продолжал старик, — а несчастный Латифхан три копытца оставил: двух сыновей и дочку. Если будет угодно господу, все остатки сил посвящу воспитанию этих птенцов… А в гостиной менялись люди, одни входили, другие уходили. Эти поминки — на третий день после погребения, — как обычно, притягивали весь кишлак. Басом толстяк читал коран, гудели шмелями никому не понятные и от этого еще более таинственные слова, из внутреннего двора слышался плач женщин, там где-то была и Акида, а Шерходжа приноровился до темноты встречать и провожать из дома поминальщиков, зарабатывая доверие и благодарность старика. После вечерней молитвы движение прекратилось, и он постелил в комнате на троих. А потом, под предлогом, что хочет на своего коня взглянуть, направился к конюшне, в глубину двора. Может быть, встретится с Акидой, бросит ей два слова, как приманку? Надо остаться здесь хоть ненадолго, на несколько дней, пока откроется дорога до Ходжикента. Если ехать через Хумсан, можно и незамеченным войти в кишлак. Ночью… Не торчат же караульные Саттарова без сна на каждой дороге, каждой ветке, как сычи. А к тому же его, Шерходжу, совсем не ждут с этой, хумсанской стороны… Огладив красивого, тонконогого коня с отметиной на лбу, который фыркал, отвечая на ласку, и хрустел клевером, Шерходжа выбрел из конюшни и стал наблюдать за домом. В женской половине, за окном, горела большая лампа, но к вечеру мороз усилился, и оконные стекла уже разрисовались узорами. Ничего не видно. Акида, наверно, устала от плача по мужу, взяла под крылышко своих деток и уснула. Но ведь лампа горит! И только он успел об этом подумать, как открылась дверь именно в той половине дома, к которой были прикованы его глаза, и кто-то вышел оттуда на веранду. Кровь прилила в голову Шерходже. Может быть, Акиде уже передали о его приезде и она специально выглянула? А может быть, просто вышла глотнуть свежего воздуха? Быстрее! Он сам не помнил, как оказался около женщины во внутреннем дворе. — Акида! Она была непомерно толстой, в пасмурном свете луны он разглядел отвисающие щеки, ноздрястый нос. Повернувшись, она в ужасе посмотрела на чужого парня: — О боже мой! — И хотела вбежать со двора на веранду, но при таком объеме и тяжести не смогла сделать этого быстро, и Шерходжа загородил ей дорогу: — Акида! То, что он знал ее имя, хоть чуточку, видимо, успокоило женщину. — Кто вы такой? — Шерходжа… Весна… Костер… Сад… В Ходжикенте, десять лет назад, помните? Она присматривалась. Покачала головой: — Нет, вы совсем другой мужчина… — Все тот же! Все тот же Шерходжа… Все десять лет, все это время, каждый день я помнил вас, Акида! Бог свидетель. — Она молчала, сдавив выпяченные толстые губы, и Шерходжа повторил: — Если вру, пусть бог накажет меня! Я приехал… выразить соболезнование… и сказать… Вон там, в конюшне, мой конь! И тут же он получил такой удар по лицу, какой можно получить не от каждой сильной и толстой женщины. Он схватился за щеку и отступил, а она, кряхтя, поднялась на веранду и оглянулась: — Сгиньте! Не успела похоронить мужа, бес свалил мне на голову такого негодяя! Сгиньте и никогда не показывайтесь на глаза! Она ушла, мощно хлопнув дверью, а Шерходжа еще раз потер щеку. Конечно, на коня бы и — вон! Жирная тварь. Но — куда? В конце концов, чего можно было ждать от женщины, три дня назад похоронившей мужа, от которого осталось трое детей? Все в порядке… Ничего другого на первый раз и быть не могло. Так или иначе — она слышала его признание, этого он хотел и это сделано. А дальше… Выгнать его — она не прикажет, а это уже отступление с ее стороны. Руку даю на отсечение — молчать будет, тоже добрый признак. А в крайнем случае… Сам же сказал: пока не откроется дорога. Старику объясню свою задержку этим — дорога закрыта, на дорогу сошлюсь, а там еще и Акиду увижу… Как быстро он научился успокаивать и обманывать себя! А что делать? Еще два дня он прожил в Хандайлыке, не привлекая внимания немногословных и нелюбопытных горцев, занятых лишь собой. Выспался под храп старика и чтеца корана. Наелся плова, который в честь Латифхана закатил Ходжи всему кишлаку на третий день поминок. Акида не показывалась. Она стала первой женщиной, в которой он, Шерходжа, ошибся. Она презрела его, Шерходжу. Ударила по той самой щеке, которую целовала когда-то… так же больно, впрочем. Ну и ладно! После поминального пира он сказал Кудратулле Ходжи, что поедет в Ходжикент повидаться с матерью, а через несколько дней, скорее всего, вернется, чтобы помогать «дяде» и дальше. Стоило зарезервировать за собой эту базу, эту точку. — Спасибо за бескорыстную помощь, Шерходжа, дорогой мой, — заплакал «дядя». — Если не я, то бог вас вознаградит! «Лучше, если ты», — с этой мыслью тронулся Шерходжа из Хандайлыка. На подъезде к Ходжикенту от его успокоенности ничего не осталось. Временной и обманчивой была она, эта успокоенность. Ей на смену пришла зато давняя, звериная настороженность Шерходжи. Конечно, его не ждут со стороны Хумсана, но это еще не значит, что все пройдет как по маслу… Думай, Шерходжа, думай! Тебя ждут на коне? Значит, пешком… ты должен войти в кишлак пешком… А где можно оставить коня? У своей пещеры в горах, где же… Там ущелье, тишь… И вода, если жив родник в горах… Снег, тяжело будет добираться оттуда пешком до кишлака, но зато — выгода, которой не грех подчиниться. Конного или пешего его ждут на дороге, а он сойдет с гор, как ангел. Этой тропой он уходил из Ходжикента, ею же и вернется. Она его уже спасла один раз, и даже мысль о ней принесла покой душе. — С богом, Шерходжа! Сказав это себе, он свернул в горы. Конь ему попался — лучшего не надо. Без боязни карабкался наверх, останавливался отдохнуть, когда уже становилось совсем невмоготу, и опять карабкался… А потом он пробирался по тропе, засыпанной напрочь белым снегом, закинутой белым покрывалом, к кишлаку. Примет было мало — таких, что подвластны глазу, да еще ночью. Двигался он, вынюхивая тропу сквозь снег, доверяя больше чувству и судьбе. То радуясь луне, яркой в эту морозную ночь, то кляня ее. Холод и бессилие начали одолевать его где-то на полпути. Но кого он мог позвать на помощь? Кого? Одну Тамару. О аллах! Если я останусь живой, позову ее, заберу и — в Фергану через Бричмуллинский перевал, а там — в Кашгарию. Подожди еще отпевать себя, Шерходжа, не сдавайся! Тусклый свет, жиденький и заглушенный занавеской, тлел в окошке дома Кабула-караванщика, обращенном к горам. Шерходжа увидел это тленье со склона, через заснеженные макушки деревьев байского, своего сада и сада Салахитдина-ишана, который зачем-то и жег эту лампаду в единственном окне кишлака, выдававшем жизнь. Еще через какое-то время, через час или меньше, Шерходжа стучался в это окно с предельной осторожностью, но больше — беспомощностью, потому что его замерзшие руки едва шевелились. Его спросили, он отозвался, и дверь отворилась. Его впустили в тепло. Ишан не спал, встал ему навстречу: — Сынок! Мы ждали вас! Вон как! Они ждали его… Поэтому и лампадка горела. Сердце Шерходжи сразу коснулись и тепло этой одинокой лампы, этого участия и недоверие. — Как вы могли меня ждать? Салахитдин-ишан опустил руки. — В кишлаке полно чекистов. У школы, у сельсовета. На мосту. И кто знает, где еще… Мы подумали — значит, вас не схватили, слава богу! Они вас ждут, а мы что же, не можем? Какую уж ночь жжем лампу. Ведь если придете, то ночью, днем не ждали… Вот и пришли! Не зря мы старались… — Не зря, — повторил Шерходжа, рушась на одеяло. Секунду он полежал с закрытыми глазами, а потом приоткрыл их. Ишан молился. Умматали, который тоже был здесь, стелил дастархан, ставил еду. И Шерходжа почувствовал, что жизнь еще была в его ослабевших руках. Они ослабели лишь на время, сейчас отойдут, согреются — теплом от сандала сверху, чаем и кровью изнутри. Сейчас… — А где Масуд? Я ведь из-за него добрался до Ходжикента! Что вы молчите? Шерходжа приподнялся, сел. Молчание ишана и дервиша накапливалось, словно готовя удар. — Он в Ташкенте, — ответил ишан. Вот этот удар и состоялся. Стоило барахтаться в снегу, чтобы услышать это… — Почему? — крикнул он на ишана, как будто тот был виноват. — Дильдор умерла. Еще один удар. Сам хотел убить ее, проникнуть в госпиталь после того, как шлепнет этого Масуда, но узнать, что сестренка умерла, было нелегко. Непросто. От чего умерла она? От ран, нанесенных его ножом. Та-ак… Не надо пробираться ни в какой госпиталь… — Откуда вы знаете? — Исак-аксакал рассказывал всем, — ответил за ишана Умматали, потому что имя «аксакала» у ишана, похоже, застревало в горле, не выговаривалось им. — Матери сказали? — Нет, еще не сказали. Бережем, — добавил ишан, не удержавшись. — Хотите увидеть ее? — Пусть спит. Лишние слезы — помеха делу. Ишан поклонился. За Фатиму-биби, которую он, оказывается, берег. Мать еще не знает… — А его, учителя, позвали в Ташкент? — спросил Шерходжа, думая, что Дильдор укрыли последним погребальным покрывалом и землей чужие руки, совсем стала чужая. — Ничего, вернется… — Проведут трехдневные поминки, и вернется, — подтвердил ишан. «Я только что с одних поминок, — иронически подумал Шерходжа. — Выходит, что Дильдор поминал…» А вслух сказал: — Подождем. — Нет, здесь мы не сможем спрятать вас, Шерходжа, верблюжонок мой, — зачастил ишан. — Лампу жгли, чтобы предупредить. Ждали, да… Но спрятать!.. Вчера Исак-аксакал приводил чекистов. Вдруг пришли и перерыли весь дом. А если найдут вас, и матери не поздоровится, никому! Вот зачем ишан жег лампу и ждал. От страха! Он-то посчитал — из-за заботы, а ишан сказал — предупредить, что не смогут прятать… Да и правда, где? На мельнице — товарищество. Тайник разгромлен. Где тебе прятаться, Шерходжа? Он подумал и принялся за еду. А сам все думал, все искал — где? И не было ответа. Все, конец… Доев и подобрав крошки, зверем посмотрел на ишана: — Не бойтесь. Я уйду до утра. — Куда? — На небо, — засмеялся Шерходжа. — С неба скалился и вернусь туда же! Отсмеявшись, он глянул пристальней на сморщенные, пришибленные лица ишана и дервиша и понял, что нужно держать их в руках, пока они во власти страха, нужно командовать, а не просить. И распорядился — тихо, но непоколебимо: — Вы поедете в Ташкент, Умматали. — Дервиш забегал глазами, ища спасения у ишана, но тот сидел как статуя, безмолвно и даже как будто бездыханно, а Шерходжа уже назвал адрес дома, в который должен постучаться Умматали. — Там живет одна женщина… татарка Тамара… — Жена вашего отца? — спросил Умматали. Шерходжа не стал объяснять и распространяться. — Возьмете у нее десять тысяч золотых. — А если… — Даст, даст, — предупредил его вопрос Шерходжа. — Скажите, что я еду в Кашгарию, а оттуда пришлю за ней верного человека. Чего так смотрите на меня? Глаза лопнут! Вам же спокойнее будет, если я уеду. — А она… — Если не поверит вам, пусть сама привезет мне деньги! — Куда? — В Хандайлык. К Кудратулле Ходжи. Я буду там ждать. Скажите, дальше вместе поедем… Вместе с ней… Умматали опять обвел глазами ишана, но тот смотрел на Шерходжу и проговорил: — Молодец, сынок. — А если обманете, — Шерходжа пригрозил Умматали отогревшимися пальцами. — Я вас разыщу… — Клянусь богом! — Умматали приложил ладонь к груди. — Ну вот… Бог один — слово одно!.. — Когда мне ехать? — На вашем месте я не стал бы ждать утра… И не ехал бы через мост, главной дорогой… Она не единственная… Седлайте и двигайтесь по берегу реки, в другую сторону, на дальний мост… Коня ведите в поводу сначала… Тише… Бог в помощь. Помолитесь, ваше преосвященство! Ишан приподнял дрожащие руки: — О-оминь! На дворе Шерходжа заглянул в темное окно, за которым спала мать. Мысленно попрощался с ней. Проверил на ощупь маузер. Перемахнул через дувал и глянул в сторону сельсовета. Там неожиданно вспыхнуло яркое окно, заставив на миг отшатнуться и зажмуриться. Взяв себя в руки, он оглянулся на мост. Свет карманных фонариков рассекал темноту на мосту. Два луча скрестились, как два клинка. Правду сказал ишан… Коня он нашел продрогшим. Подумал, что согреет на бегу, и залез в седло. Но бега не получилось… На Хумсанской дороге, к которой он почти спустился по старому следу, тоже заблестели клинки карманных фонарей. Может быть, его впустили в кишлак, как в ловушку? И эта дорога была закрыта… Куда?ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
А Умматали добрался до Ташкента и до Тамары. Спрыгнув у ее галантерейной лавки с коня, покрытого пеной, он дождался, пока останется в ней один, и сразу выпалил приказчику, что должен увидеть хозяйку. Немедленно. — Кто вы такой? Откуда вы? — Из Ходжикента. Приказчик закрыл лавку, подождал, прислушиваясь к улице, и позвал Умматали за собой. Красивая женщина в шерстяном платье и лакированных туфлях спросила ошалевшего дервиша: — Как чувствует себя Шерходжа? — Он здоров, госпожа. — Вы сами видели его? — Да… Вот как вас, госпожа. — Зачем он вас прислал? — За деньгами, госпожа. — Уже потратился! — Тамара усмехнулась. — Сколько ему нужно? — Десять тысяч золотых. — Что-о-о? Грабитель! Вы, конечно, а не он! Вы все выдумали! — Нет, моя госпожа. Успокойтесь. Если вы мне не доверяете, сами можете привезти ему эти золотые, — сказал Умматали, пользуясь случаем, чтобы отделаться от этих денег. — Он вас ждет… — Где? — Я скажу где… В надежном месте. Все дороги ему закрыты. За ним следят. И он попросил вас привезти ему деньги, чтобы уехать с вами, красавица. — Куда? — Далеко… Он сказал, в Кашгарию. — Слава богу, — выдохнула Тамара, отваливаясь на спинку кресла. Она менялась на глазах. Свет надежды появился во взоре, только что подозрительном и настороженном. И так потеплело все ее красивое лицо, что Умматали, тая перед ней душой, подумал: «Вот единственная верная жена старого бая и вот как за эту верность платит ей своим вниманием Шерходжа, настоящий сын и джигит. Берег с собой в Кашгарию…» — А за вами не следят? — спросила Тамара. — Бог его знает… Около Газалкента кто-то пристроился ко мне и долго шел сзади верхом, потом исчез… Не знаю, госпожа. — Газалкент далеко! — Тамара встала с кресла и походила по комнате, а Умматали разглядывал исподтишка роскошную скатерть на столе, шторы, диван, люстру с хрусталем, резьбу на потолке — куда ни поверни голову, он такого никогда не видел! Внезапно Тамара остановилась и тоже обвела комнату глазами. — Где Закир? Закир! Приказчик опять появился у входа, за которым спускалась лестница в лавку. Он застыл, как солдат наизготове, а Тамара хозяйским голосом сказала ему: — Слушайте меня и запоминайте. Поедете в Чорсу, к лучшим мастерам, закажите сани, крытые, одноконные. — Да, — кивая, подтвердил, что понял, приказчик. — Оттуда — к Арифходжабаю. Навестите его и скажете: Тамара продает дом. Со всем имуществом. Если он еще желает, пусть приезжает и привозит деньги. Деньги наличные, с собой. Срок — завтра до вечера. Хватит этого? — Да, — кивнул приказчик. — Хорошо, Закирджан, очень хорошо… Что же еще? — Она резко повернулась к Умматали. — Вы же голодный? Простите. Тетя Олия! Олия! Где вы? Накормить. И получше. Идите, уважаемый, ешьте, отдыхайте. Коня куда поставили? — Конь еще на улице! — вспомнил Умматали. — Уже во дворе, в конюшне, — усмехнулся приказчик. — Я завел. — Ах, Закирджан, что я буду делать без вас в Кашгарии? — весело спросила Тамара. — Когда этот чекист приставал ко мне с вопросами, кто ваш любовник, я думала назвать вас. Согласились бы? Закир потупился и вскинул бровки на лоб. Дескать, с одной стороны, куда мне, а с другой — рад был бы, всегда рад! Старая служанка, переваливаясь как утка, увела Умматали, ушел Закир, а Тамара принялась перебирать в уме, что взять с собой. Самое необходимое. Надо быть беспощадной и разумной. Самое необходимое — деньги. С ними все будет… Однако утром взволнованный Закир объявил, что с санями все в порядке, к вечеру приготовят, а вот Арифходжабая не нашел! После конфискации его гостиниц и магазинов бай где-то прячется, никто не знает где. Слыхом не слыхать. — Что же делать? — спросила Тамара. Закир не отвечал, потупившись, терпеливо молчал, и Тамара вдруг спросила его, прищурившись, хитровато: — Послушайте, Закирджан, а не купите ли вы мой дом сами? И лавку? Со всем товаром! Закир вспотел, даже волосы на лбу намокли. — Посоветуюсь с отцом… — Да бросьте вы! — махнула рукой Тамара. — Небось уже советовались всю ночь. До чего досоветовались? Ну? — Шутите, госпожа… А Тамара стала серьезной. — Некогда мне шутить. Знаю я вас, потому и не нашли Арифходжабая и не искали даже, что сами купить хотите! Сколько дадите? — Шесть тысяч, — пробормотал Закир. — Что-о?! Лисица вы, Закирджан, да ведь и я тоже дочка купца татарского, а не какая-нибудь безмозглая прачка! Не хотите — не берите. У меня есть покупатель на двадцать тысяч… — Госпожа! — выпрямился во всю свою возможную высоту маленький Закир. — Откуда у меня такие деньги? — Отец ваш — золотых дел мастер, брат — золотых дел мастер, да вы и сами тоже не промах. Наскребете! — Вы — ясновидица, госпожа… Ночью с отцом и братом говорили. Остановились на семи тысячах. — Бессовестный! — крикнула Тамара. — В одной лавке товаров — на семь тысяч. Низкий вы человечишка! — Девять, — сказал Закир. Тамара кинулась к вешалке и начала снимать с крючка пальто. — У меня правда есть покупатель. Давно уже говорили. Умолял! Я сама за ним схожу. — Девять с половиной, — прозвучало хрипло, как в испорченном граммофоне, за ее спиной. — Красным золотом… — Восемнадцать! — выпалила Тамара, повернувшись к приказчику, лицо которого побагровело, как спелый помидор. — Одиннадцать, — махнул ручкой Закир, — и дело с концом. — Уйдите с дороги! — Двенадцать, — Закир покрылся потом, как в парной, из-за ушей вытекли струйки. — Это только для вас. Если завтра Советы отберут у меня дом, останусь с носом. — Чего это Советы будут у вас отбирать? Проживете в своем доме до старости. У Советов есть совесть, у вас — нет. — Тринадцать тысяч… И… и… и… — Закир начал заикаться. — И любимый ваш ковер застелю в сани! — Шестнадцать, — сказала Тамара, надев пальто и застегивая пуговицы. — Служил вам, госпожа, честно, — бормотал Закир. — Голову готов и сейчас на плаху положить… Пятнадцать, и давайте — по рукам. — Ах, повезло вам, что мужа дома нет! — воскликнула Тамара, протягивая руку. — Повезло, берите! И они ударили по рукам. — Надо бы отметить такую сделку, — сказала, снимая пальто, Тамара. — Это горестная сделка, — ответил Закир, счастливо улыбаясь тем не менее. — Деньги — немедленно! Закир, стоявший еще в шубе, как приехал утречком, вытащил из ее внутреннего кармана тяжелый мешочек и протянул Тамаре. — Здесь пять тысяч. Задаток. Остальное — привезу вечером в санях! — сказал он довольно лихо, и в это время позвонили с улицы, застучали в нее, и раньше, чем они оба, Тамара и Закир, опомнились, в дверь со двора черноусенький боец ввел Умматали и крикнул: — Сейчас открою, товарищ Трошин. Сейчас! С черной лестницы доносились утиные шаги Олии и еще одни — стучали сапоги. Видимо, и прислугу сопровождал чекист. Трошин вошел, размашисто оглядел всех и сказал, усевшись у стола и выстроив перед собой обитателей и гостей квартиры: — Советую не тратить времени. Нам известно, что в этом доме несколько дней провел Шерходжа. Уздечку, которая осталась здесь от его коня, опознала вдова убитого им Халмата Чавандоза. На его вороном он и прибыл в Ташкент. Тогда мы его прошляпили, прямо скажем, но теперь… Где Шерходжа? Отвечайте, Тамара, дочь бывшего купца Габдуллы. Я слушаю вас. — Я ничего не знаю, — ответила Тамара, зажав руки между коленями и мотая головой из стороны в сторону, как лошадь, так что даже прическа, прибранная с утра, снова растрепалась. — Ничего! Первый раз слышу про какого-то Халмата Чавандоза… Кто он такой? Я ничего не знаю. — Но вы не отрицаете, что Шерходжа был здесь, у вас? — Я ничего не знаю! — повторила Тамара. И замолчала. Но головой еще поматывала иногда. — Куда он уехал отсюда? — спрашивал Трошин. — Я обращаюсь ко всем. Кто будет говорить? Этим, если показания будут правдивы, тот, конечно, облегчит свою судьбу. Куда уехал Шерходжа и на каком коне? На вороном? — Вороной пошел на колбасу, — сказал Закир, ухмыляясь уголком рта. — Вы будете говорить, приказчик Закир? — Да. Буду. Трошин положил перед собой белый лист, чтобы записывать показания. И хотя приказчик Закир недвусмысленно изъявил желание говорить и даже отошел на шаг ото всех, словно бы для безопасности, настроение у Трошина было неважным. Угрюмое лицо, брови потяжелели и наползли на светлые глаза… Он думал о Масуде, который не вытерпел и уехал в Ходжикент. Никто не смог задержать его — ни он, Трошин, ни сам Махкам Махсудов, его отец. Он привел Масуда к отцу и присутствовал при их разговоре. На правах и по правилам старой дружбы они его не стеснялись… — Вот, — сказал Махсудов, — Алеша сформирует спецотряд, соберет окончательные данные и поедет брать Шерходжу. Ему никуда не деться. — Я не стану ждать, — ответил Масуд. — Ты… — начал Махсудов и замолчал. Масуду увиделась в этом обидная жалость, и он потребовал: — Ну, говори, отец! — Ты… рвешься отомстить за Дильдор. Махкам-ака иногда мог быть дипломатом, но сейчас понимал, что только откровенный разговор, до дна души, может иметь какое-то значение, сыграть свою роль. Масуда надо было задержать! — Отомстить за Дильдор? — переспросил Масуд. — Да. Рвусь. А разве это плохо? — Я не отрицаю, что преступнику надо воздать должное. Но не только месть должна вести и ведет нас, не только она управляет нами… Шерходжа — опасность. Пока он на свободе, угроза гибели висит надо всеми советскими работниками в Ходжикенте, над Исаком-аксакалом, над старыми и новыми учителями… Прежде всего наша задача — обезопасить их. Чтобы больше не было жертв. — Почему ты думаешь, что я этого не понимаю? Я все понимаю. Я сам — советский работник из Ходжикента и все понимаю, — повторил Масуд. — Но ты… — Махкам-ака поискал слова, разведя руками, — очень разгорячен сейчас, ты не можешь… ты можешь… — Равнодушие — главный враг всякого дела, — оборвал его запутавшуюся речь Масуд. — Поэтому разгорячен — не беда! Даже наоборот… Я так думаю! — Я не спорю, — сказал, посмотрев на него, отец. — Но разгорячен… можешь сгоряча сделать что-то неосмотрительное, совершить сгоряча непоправимую ошибку… Я боюсь. — Понимаю, — сказал Масуд, опустив голову. — Но у других чекистов тоже есть отцы и матери… Кто-то всех нас родил на свет. Наше трудное дело… делают не механизмы, а люди… — Я боюсь не за тебя, — поправился Махсудов. — За ошибки. — И за меня. — И за тебя. — Я еще думаю… — сказал Масуд, — прости, я думаю, что кто-то из молодых чекистов… прости, я надеюсь, что не роняю этим чести нашего мундира… Кто-то из молодых боится Шерходжу… и может несознательно упустить его. А вот это не простится — ни тебе, ни мне… чекистам революции… — Ты уже не считаешь себя молодым? — Чекистом? Нет. — Видишь, Алеша… какой он! — Я обещаю тебе действовать как надо. — Как надо? — переспросил Махкам-ака. — Видишь, я не утратил еще… способности думать. — Прошу… Подожди, пока Алеша проведет допрос Тамары и всех в ее доме. Мы следили за Умматали, и этот допрос наверняка даст что-то важное! — За это время я доеду до Газалкента. Позвоните Саттарову, и я все узнаю. И буду уже на месте. — Хотелось бы, чтобы Алеша был с тобой. — Вы не удержите меня. — Мы позвоним Саттарову, и он немедленно приступит к действию. — Я должен быть там. — Хорошо. Я выеду с тобой. Сам. — Что ты говоришь со мной, как с грудным ребенком? Не стыдно тебе? Мне стыдно… за тебя. — Но… — Отец! Чем больше ты будешь задерживать меня, тем больше мне будет стыдно. Всю жизнь. Мне такая жизнь не нужна. — Я не могу, — сказал Махсудов и отошел к окну. И стоял так долго, спиной к ним, а потом повернулся к Трошину. — Дать ему автомобиль? — Махкам Махсудович! — взорвался Трошин. — Его не достанешь на автомобиле, — усмехнувшись, потряс головой Масуд — своей кудлатой, черной головой. — Он в горах, на коне… И мой конь отдохнул… Это было последнее, что он, Трошин, услышал от Масуда. Простились молча. Пожали друг другу руки. …Вечером этого дня Саттаров сообщил: Масуд получил последнюю информацию о том, что Шерходжа ушел из дома Тамары пешком, с деньгами и маузером, а куда — неизвестно. Масуд поехал в Байткурган, к чайханщику Джурабаю-ака… и еще говорил, что собирается заглянуть к какому-то кузнецу на дороге… «Ну, не потерял головы», — подумал Трошин и успокоился немного. А Масуд в это время действительно сидел у Джурабая-ака, попивал горячий чай и спрашивал: — Какой у него был конь, Джурабай-ака? Я тогда растерялся и не узнал… — Белый. — Белый? — Белый, — повторил Джурабай-ака. — Хороший конь. Я поил-кормил его, любовался. На лбу — отметина. Как лист. Как осенний лист. Цвета жженого сахара… Коричневая… — Понятно. Рахмат. Кузнец, к которому Масуд заглянул, потревожив в неурочный час — в кишлаках ложатся спать, как и встают, рано, — молодой кузнец подтвердил: — Да, у него был белый конь… Да, с отметиной… Тонкие ноги, я ковал — восхищался… — А куда он путь держал — не говорил? — Жениться! В горах, мол, красавицы бывают! — Да-да… — Постойте! Юсупхана! Он Юсупхану называл, спрашивал, доберется ли до нее? «Юсупхана, — пронзая мозг, замелькало в голове Масуда, — Суюн-беке… Чабанское пристанище… Кошара в горах!» Он поблагодарил кузнеца и, уходя, сказал непонятные для того слова: — Я сам виноват. Не узнал у Джурабая-ака… Белый! Вот она — непростительная ошибка! Он ехал по снежной дороге и шептал самому себе:ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
Хотелось бы поставить здесь точку, чтобы не расставаться с Масудом навсегда. Но из песни слова не выкинешь, и, наверно, лучше рассказать все до конца. Масуд, который с детства любил коней, не мог не заметить, как хорош был белый красавец, мимолетное чувство шевельнулось в его душе. На одно мгновение… И тут же заработали другие мысли: если Шерходжа был гостем этого небогатого дома, почему не расседлал коня, не ввел его хотя бы под навес, не дал корма? Небогатые хозяева любовней и бережней относились ко всем животным, тем более к коню, верному другу и помощнику… Либо Шерходжа только что появился здесь и сам был в домике за кошарой, либо его не приняли Суюн-беке с чабаном… Но конь? Почему он бросил коня, если ушел дальше? Шерходжа был здесь. И приехал только что. Масуд спешился и завел своего Серого в лощину, в затишек, похлопал по мокрой шее, обтер ее ладонями. Прости, Серый… Ты устал, постоишь, подождешь… А я… Оставляя за собой глубокие следы, а где и проваливаясь по пояс, он начал пробираться к кошаре. А если Шерходжа уже увидел его? Если прячется за дувалом? Он вытащил наган… Снег иногда попадал в дуло, и Масуд сдувал его через несколько шагов… Да, Шерходжа не мог уйти далеко, даже если ушел отсюда… Он стянул с себя, бросил на снег халат и засунул руку с наганом под кожаную тужурку. В горле пересохло. Спрятавшись за камнем, чтобы еще раз стремительно обдумать все, снял с камня горсть снега и подержал во рту. Потом вышел и остановился в рост, на виду. Выстрела не было, и Масуд быстрее зашагал к дувалу, к белому коню, к дому. На веранде вскинулся необыкновенно рослый пес, но его сейчас же унял женский голос: — Тихо! Сиди! Масуд никогда не видел и не слышал Суюн-беке, но подумал, что это ее голос. Собака замерла посреди двора, не зная, бросаться ли ей на незнакомца или послушаться хозяйку, кричавшую: — Вернись! Женщина была в красном платье и короткой шубе, наброшенной на плечи. Наспех. На голове — цветастая шаль… — Здравствуйте, Суюн-беке, — сказал Масуд. — Вы откуда? — спросила она, нерешительно ответив на приветствие. — Оттуда, — он махнул за плечо наганом, с которого она не сводила глаз. — Гость у вас? — Никакого гостя у нас нет! Голос ее прорезался и зазвенел. А за ней появился рослый, под стать Масуду, чабан с устрашающими усами и бородой — в горах некогда и не так уж обязательно заниматься стрижкой, — без верхней одежды — ему холода привычны. — Добро пожаловать, — поклонился он, механически, мимоходом приподняв руку к груди. — Старуха сделала бешбармак, как раз угадали. Как говорится, теща вас любит! — С удовольствием, — ответил Масуд, — я очень голоден. Но — потом. Сначала — где Шерходжа? Чабан качнул головой: — У нас нет. — А конь? — Шерходжа! — неестественно засмеялась Суюн-беке. — Очень он нам нужен! Мы его прогнали… — договорила она тише, боясь, что ей не поверят. — Сказали — уходи! И ты уходи… Уходи! — Давно это было? Чабан молчал. А Суюн-беке пролепетала: — Я вышла завести… коня… И тут… — Конь еще не остыл, — определенней добавил чабан, уступая хозяйке главное, чтобы его ни в чем не обвинили позже. — Шерходжа пешком ушел… Вон там его следы! — Там тропа, что ли? — Есть, конечно… — Не проводите? Суюн-беке вцепилась в руку чабана, схватила его за локоть: — Он не пойдет. Не пущу, хоть убейте! След, открывшийся за домом, довел Масуда до арчовой рощи и долго путался в ней. Здесь беглец провалился, а здесь отдыхал, лежа на снегу пластом, это отпечатки его спины, его раскинутых рук и каблуков узких сапог… Не для снега твои сапоги, Шерходжа, не уйдешь… Однако скоро неудержимо повалили крупные хлопья, и следы начали пропадать, пока не потерялись совсем. Иногда Масуд угадывал их, но это могли быть и старые следы, по которым он уже прошел… Да, вот отпечатки и его тяжелых и больших сапог, которых не спутаешь с другими. И тогда он сам прилег отдохнуть и подумать, что делать. Всем сердцем он чувствовал, что убийца где-то рядом, затаился, не мог уйти далеко, даже если чабан и показал ему тропу. Чего он так метался, так путался, как загнанный, Шерходжа? Не терять ни минуты! А день кончался… Привалившись к старой арче, издававшей елочный запах, Масуд вдруг увидел раннюю звезду над мрачнеющей снежной вершиной и вздрогнул. Быстро станет совсем темно, через полчаса! Он подул на свои окоченевшие руки, подышал, выгоняя последнее тепло из глубины тела, и поднялся. А поднявшись, огляделся. Вон поляна в горном лесу… А за ней — скалы… Грудами лежали вековечные камни, выставив из-под снега острые края и углы. Кое-где и там росла арча… Через полчаса, даже меньше, ничего уже будет не видно. А в кошаре — белый конь, а в лощинке рядом — Серый. Бери любого… Одного можно убить, чтобы не на чем было догонять. Чабан не даст своего… Да и его коня можно пристрелить, Шерходжа не останавливался и перед людьми. У него — маузер… Оставался один способ… Масуд вышел из-под арчи и, покачиваясь, в рост зашагал через поляну. Пуля вжикнула мимо уха, а потом звук выстрела раздался над скалами, и эхо повторило его в горах. «Все, — подумал Масуд, рухнув, лежа на снегу и вдавливаясь в него, — мы встретились! — Он не испытывал ничего, кроме радости. — Надо замереть, не шевелясь. Шерходжа уверен, что его пуля не пролетела мимо. Пусть так думает, боже, пусть он так думает, пусть так думает, — повторял Масуд и молился. — Я пролежу хоть до утра… Пусть он покажется!» И снова вжикнула пуля и раздался выстрел. Вторая, третья… Масуд считал. Шерходжа разряжал в него свой маузер, чтобы самому остаться живым и — в безопасности. Он боялся. Пусть беснуется! Масуд считал выстрелы… Спасибо матери, что она родила его таким тяжелым, почти зарылся в снег… Спасибо снегу, что валил непрестанно сверху и засыпал его… Спасибо сумеркам, которые сгущались быстро, точно были заодно с Масудом. Он теперь не упустит убийцу, заметит его черную тень на снегу, едва та выползет из-за скал… Одна пуля зажгла его плечо, но он не шевелился. И не застонал. В чистом и звонком горном воздухе далеко слышно… Стиснул зубы… И вот посыпался снег с арчовых веток, повисших над скалами. И показалась еще серая тень. Она приближалась. До Шерходжи метров пятьдесят, сорок… Пусть подойдет. Один выстрел, одна пуля все решит. Ближе, ближе… Когда он выстрелил из-под себя, Шерходжа взмахнул обеими руками, подержался чуть-чуть и повалился на спину, закричав во весь свой охрипший голос. Этот неожиданный предсмертный крик врезался в уши Масуда и застрял в них. Он словно бы продолжался, когда Масуд подошел к Шерходже, чтобы впервые заглянуть в его лицо. Но Шерходжа еще был жив. Если бы он мог и его попросили об этом, он рассказал бы, как замерзал под скалами, откапывал их старческие морщины, прикрытые снегом, чтобы посмотреть на них еще раз… Они не грели и грели. Больше не у чего было согреться… Рука его шевельнулась на глазах Масуда, маузер поднял свой зрачок, и последняя пуля нашла незащищенное сердце ходжикентского учителя и чекиста, сына Махкама… Так и обнаружили их утром Трошин и Саттаров, в двух шагах друг от друга. На арчовую поляну привел чабан, слышавший выстрелы, но испугавшийся прийти сюда сам. Тела, почти засыпанные снегом, откопали, положили на разные арбы и повезли в Газалкент, откуда ждал звонка Махкам Махсудов.САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
И было бы непростительно не сказать еще нескольких слов о нем. Остатки его волос на висках и даже усы стали подобны снегу, на котором лежал Масуд. За ночь после звонка из Газалкента он побелел как лунь. Люди в своей махалле не сразу узнавали его на улице. Ему звонили друзья. Ему позвонил Акмаль Икрамов. Но какие звонки могли его утешить? Он молчал, почти молчал. Разговаривал он довольно долго только с Исаком-аксакалом, далекий голос которого уговаривал его похоронить Масуда в Ходжикенте, около могил первых учителей. За ними всегда будут ухаживать кишлачные дети. На похороны приехало множество народа. Икрамов сказал прощальные слова над телом Масуда, лежащим в гробу, обитом красной материей, на столе посреди школьного двора. Здесь же Назокат получила разрешение партийного секретаря Туркестана на то, чтобы приехать в кишлак и работать в школе вместо сына. На кладбище собрались все жители Ходжикента, с детьми, которые уже ходили и еще не ходили в школу, но подрастут и пойдут в нее. Женщины едва оторвали Назокат от гроба, который она обхватила руками. А Махкам не плакал. С застывшими глазами он смотрел на три могилы молодых учителей и думал: в своей короткой жизни они не успели получить той любви, которой были достойны, как никто. Они учили детей летать, чтобы выпустить их в мир, как птиц… Люди! Их надо любить. А их убили. Но пройдут годы, и не останется к ним, учителям, ничего, кроме любви… За это они погибли, хотя не требовали никакой платы себе. В трех шагах от могилы, над которой вырастал холм, рыдала Салима, написавшая в комнате «аксакала» заявление о своем возвращении в Ходжикент… Он думал о том, что учителя погибли не зря, и соглашался с собой, а в самое сердце бились острые мысли, нанося удар за ударом: «Не ты должен был бы хоронить сына, а сын тебя. Это было бы по справедливости… Все в этом мире должно идти своим чередом. Разве ты должен прочесть книги, которых он не успел прочесть? Разве ты сможешь спеть песни, которых он не спел? А ведь ты… ты сам послал его сюда. Попросить за это прощения у аллаха?» Какого аллаха? Салахитдин-ишан, арестованный по показаниям Нормата и Кабула-караванщика, сказал на первом же допросе одну-единственную фразу: — Убивать неверных богоугодное дело! Вспомнилось Махкаму, как он нес сына на руках, когда Назокат встретила его у ворот тюрьмы… Как они с Масудом пускали бумажных голубей, сделанных из исписанных страниц старых, уже ненужных тетрадей, и как их уносила резвая вода, если они ненароком залетали в арык… Как сын радовался велосипеду, тут же назвав его «аэропланом», и как уехал на нем в горы… А если бы все повторилось сначала? Последние комья земли падали на высокий холм, выделявшийся среди снега. Махкам смотрел и думал, что ничего не изменилось бы. Он отпустил бы сына… Не отпустил, а послал бы его снова.Александр Долгирев Сокрытое в листве
Пролог
18-е мая 1931-го года.Над Москвой уже несколько часов властвовала ночь, а я все стоял на безлюдной Тверской и не мог оторвать взгляд от одного из темных окон. Старые дома нависали и давили на меня. Я слышал, что скоро все это уничтожат. Вместо узкой и извилистой улочки проложат по новой моде широченный проспект, а еще один осколок старого мира отправится на покой. Я оторвал взгляд от окна, которое на первый взгляд ничем не отличалось от прочих, и оглянулся вокруг. Крепкие, основательные здания будут упорно сопротивляться, хотя, конечно, никаких шансов перед человеческой махиной разрушения у них нет. Неожиданно для самого себя я улыбнулся старым домам – между нами оказалось немало общего. Предательская нервозность и смятение неопытности вдруг оставили меня. Дома будто бы улыбнулись мне в ответ, и в душе засиял огонек умиротворения, вскоре осветивший все мое естество. Нужно было сделать то, зачем я здесь. Сделать несмотря на весь мой страх и неопытность. Знаешь, я ведь понимаю, что от моего деяния никто не воскреснет и ничто не вернется. Можно сколько угодно разглядывать старые фотокарточки, но детство от этого не возвратится ни на секунду. Только червь ностальгии начнет грызть нутро. Но я оказался здесь не для того, чтобы кормить червя, а потому что попросту не могу иначе. Не теперь. Пробраться в нужную квартиру мне удалось удивительно легко и бесшумно. Хотя, даже шуми я, как разбушевавшийся пьяница, хозяин, скорее всего, не проснулся бы. Удивительно, как крепко спят мерзавцы! Безмятежно спавший жил в этой трехкомнатной квартире один. Днем в квартире была домработница, но вечером она уходила. Я завис над кроватью в нерешительности. «Бей сразу. Не думай ни о чем постороннем – лишние мысли вселяют в сердце смуту». Внутренний голос давал дельный совет, но я все же не спешил ему последовать. Я больше не испытывал волнения, скорее оцепенение. Бывает, идешь по мостовой и видишь какой-то темный предмет впереди. Мысли ленивы и расслабленны, и в разуме невольно возникает вопрос: «Что бы это могло быть?» Действительно, что? Кусок тряпки? Какой-то сверток? Через пару мгновений тебе в голову приходит правильный ответ, и все естество отчего-то передергивает – это раздавленный труп вороны. Если ускорить шаг и не смотреть на мертвую птицу, то эта встреча со смертью смоется из памяти уже к вечеру. Но если не успеть отвести взгляд, если начать разглядывать неприглядные детали, то тебя охватывает странное оцепенение, и ты пять минут стоишь над трупом вороны, будто бы не существуя, превратившись в созерцание. Я и сейчас смотрел на труп вороны. Только этот труп еще был живым. Причудливую игру преображающее время исполнило с его лицом. Когда мы виделись в прошлый раз, он выглядел, как мокрый пес, который никогда не ел досыта. С тех пор он привык наедаться, лицо приобрело матерость и даже благородную потертость, а мокрый пес так никуда и не делся. Я сам не заметил, как сел в кресло напротив кровати. Хотелось читать и смотреть на луну. Луны не было видно из-за туч, поэтому я включил лампу и углубился в свои сегодняшние записи. Не знаю, чего я ждал. Возможно, мне хотелось, чтобы ворона проснулась, хотелось увидеть цвет его глаз. Не могу сказать, сколько времени прошло. Записи увлекли меня очень сильно. В этот день я решил отвлечься и занялся давней и заброшенной работой над «Песнью о Роланде». Забавно, когда работаешь над текстом, он кажется тебя очень тяжелым, буквально тяжелым. Каждая буква ухает вниз и застревает где-то в районе печени, ложась грузным бременем на душу. Но читая эти же буквы спустя время, ты удивляешься, как они уподобились птицам. Голубям или воробьям… – Ты кто такой?! Я посмотрел на ворону поверх своих записей. Глаза были красные от утомления и недосыпа. Он полусидел в неудобной позе, скоро у него затекут руки и начнет ныть правое бедро. Скорее всего, он застыл в том же положении, в котором был, когда заметил меня. Я положил свою записную книжку на подлокотник кресла корешком кверху. – Не узнаешь меня? Ворона тщательно ощупывал мое лицо взглядом. Он переменил позу и завел руку под подушку, где у него почти наверняка было оружие – спокойный сон мерзавцев оплачивается необходимостью спать на стали. Я попросил: – Не делай этого. – Да кто ты, и как ты здесь оказался, черт тебя побери?! – Я проследил за тобой до твоего дома, дождался, когда ты уснешь, а потом вошел через дверь… – Она был заперта! – Да, я знаю. Не перебивай меня, пожалуйста – это невежливо. Так я оказался здесь, а что касается того, кто я… раз ты не узнал меня, значит, это не важно. Он неожиданно усмехнулся моим словам. Ему как будто почти не было страшно. Было на самом деле – он слишком часто облизывал губы. – Ты что, из мстителей каких-то? Я убил твою собаку сто пятьдесят лет назад? Чего тебе надо?! – Не забивай себе этим голову. Скажи-ка лучше, видел что-нибудь красивое сегодня? – Да ты просто умалишенный! Слушай, может быть, я смогу тебе помочь? Меня это развеселило. – Ты предлагаешь мне помощь? Мне от тебя ничего не нужно. – Всем что-нибудь нужно! Как тебя зовут? Мне стало интересно, почему ворона медлит и не пытается напасть. Неужели он действительно думает, что я просто так забрался к нему в дом и готов так легко его покинуть? – Никак меня не зовут. Что же – пожалуй, ты действительно можешь мне помочь. Я сегодня, точнее уже вчера, сделал несколько записей, пожалуй, мне интересно твое мнение. Ворона ожидал чего угодно, но только не этого. Впрочем, удивление вскоре сменилось яростью – он решил, что пришло время действовать. Не знаю уж, почему именно теперь – наверное, он понял, что уболтать безумца практически невозможно. Я увидел, как он напрягся всем телом, готовясь выхватывать свое оружие. Я, наверное, сотню раз отработал этот элемент, посвятил ему часы и часы, прокручивал его в уме раз за разом, но в бою еще не проводил. На два удара сердца моя рука оказалась на рукояти моего оружия, еще на два оно было направлено на врага. Как музыка в пустом концертном зале. В иной ситуации я бы улыбнулся и похвалил себя, но теперь было не до этого, кроме того, умение обнажить меч не стоит гордости. Ворона не был дураком – он расслабился и убрал руку от подушки. – Достань свой пистолет. – Какой пистолет? А вот в дурачка ему играть не стоило. Я сделал вид, что раздражаюсь: – Тот пистолет, который надежно бережет твой ночной отдых. Достань его из-под подушки. Он достал тяжелое оружие, которое требовало настоящего мастерства для эффективного использования. Я грустно улыбнулся – столь многие получили в руки оружие, которым не могут в полной мере овладеть, что теперь каждый второй выглядит, как мастер, на деле не являясь даже подмастерьем. Впрочем, ворона вполне мог быть настоящим мастером. Я не расслаблялся ни на секунду, глядя на оружие в руке противника, как заклинатель смотрит на змею. – Брось его на пол. Ворона посмотрел зло, но сделал, как я попросил. Когда его пистолет, издав тяжелый стук, столкнулся с полом, я подобрал его и положил в свой карман. Теперь мой противник был безоружен, но в его взгляде было столько расчетливой, коварной злобы, что я не сомневался в его опасности. Он бросил мне глухо: – Ты ведь знаешь, кто я? Знаешь, что я не простой человек! Тронешь меня, и за тобой полгорода начнет бегать. Они загонят тебя и спустят шкуру! – Конечно, я знаю кто ты. Послушай, мгновения, которые тебе осталось прожить в этом мире, уже посчитаны и скоро подойдут к своему завершению. Попробуй не тратить время на злобу. Попробуй увидеть что-нибудь красивое и наполнить свою беспутную жизнь хоть чем-то по-настоящему прекрасным в последние минуты. Мне давненько не доводилось читать вслух – будешь моим слушателем? – Чтобы ты потом убил меня? – Да. Я все равно это сделаю. А так ты окажешь мне любезность, а я дам тебе еще несколько минут. Ворона рассмеялся и пожал плечами: – У тебя пистолет – с пистолетом спорить трудно. – Нет, не трудно. Впрочем, тебе виднее. Итак… Я взял свою записную книжку левой рукой, разумеется, не убирая пистолет, и стал читать:
И к франкам обращается великолепный Шарль: «Люблю я вас и верю вам. Вам довелось сражаться за меня не раз, Немало вы мне покорили стран. В награду вам оставить я готов Сокровища, наделы, самого себя. За побратимов отплатите лишь сполна. За тех, кто пал вчера у Ронсеваля…»
Он бросился на меня, вложив всего себя. Это был его лучший шанс, и ворона это понимал. Я продолжал следить за ним краем глаза, поэтому заметил рывок. Не стоит обнажать меч, если не готов пустить его в дело – раздался неожиданно громкий звук. Как гром, который вдруг прогремел не за далеким лесом, а в ближайшем поле. Ворона дернулся в своем рывке и упал обратно на кровать, а потом начал сползать на пол. Он был уже мертв – я смог поразить его в самое сердце. Больные глаза были уставлены в потолок, а под трупом начинала растекаться кровавая лужа. Я отрешился от всего и прислушался к себе. Более всего я боялся, что не справлюсь, что не смогу. Но вот вторым в очередности моих страхов был страх не выдержать давление свершенного. Я часто прокручивал у себя в голове этот момент и размышлял, на что будут похожи мои чувства. Теперь ответ был мне известен – чувств не будет вовсе. Кроме одного. Я еще раз посмотрел на труп и не без досады произнес: – Не стал слушать!
1
Служебная машина заехала за Белкиным, когда солнце только начало разливать свой свет над крышами спящих домов. Стрельников разбудил его, когда Дмитрий почти выбрался из лабиринта. Во время сна воображение Белкина освобождалось из тисков реальности, и он не просто решал головоломку на бумаге, а буквально оказывался в запутанном лабиринте. Теперь, сидя в кузове служебного грузовичка, Дмитрий все пытался вернуться в свой сон и найти выход из лабиринта – решить головоломку. Стрельников между тем наклонился поближе к своему коллеге и начал говорить: – В доме на Тверской нашли труп. Наш клиент – пулевое ранение. Меня Вуль разбудил – сказал, что дело срочное и до утра не терпит. – Почему не терпит? – Он не сказал. Ну, тут вариантов немного – либо покойничек непростой, либо само убийство. Так или иначе, не серчайте, что я вас разбудил, голубчик. Меня самого подняли. – Конечно, не буду, Виктор Павлович. Мы там одни будем? – Нет. Вуль сказал, что всех на ноги поднял – даже специалист по отпечаткам пальцев и фотограф будут как только, так сразу. Видать, дело будет шумное… Дмитрий невольно скривился. Виктор Павлович заметил это и понимающе усмехнулся. Белкин относился к методу дактилоскопии со всем уважением, но вот толпа, суета и беготня его угнетали. Грузовичок выкатил на Тверскую. Улица была безлюдна – ночное убийство не потревожило ее покой. Водитель высадил их у нужного дома, а сам отправился петлять по дворам, чтобы встать поудобнее – ему предстояло провести у этого дома не меньше пары часов, а до того момента, как проснувшийся народ начнет потихоньку запруживать улицу, оставалось не так много времени. Этот дом выделялся на фоне соседей – здесь свет горел примерно в половине окон, а у парадного входа переминался высокий молодой парень в светлой форме. Завидев спешащих к нему штатских, парень остановился и заложил руки за спину, изображая незыблемого стража закона. Стрельников на ходу достал свое удостоверение, Дмитрий последовал его примеру. Поравнявшись с милиционером, Виктор Павлович заговорил: – Московский уголовный розыск. Оперуполномоченный Стрельников. – Оперуполномоченный Белкин. Дмитрий не отставал от старшего коллеги. Милиционер чуть расслабился и представился в ответ: – Милиционер Степанов. Проходите, товарищи, вас уже ждут. Степанов махнул рукой в сторону прикрытой парадной двери, Дмитрий шагнул было к ней, но Стрельников слегка придержал его и обратился к милиционеру: – Голубчик, а не вы ли первым прибыли на место? – Да, я и прибыл. – А расскажите-ка поподробнее об этом… Вы курите? Степанов кивнул, и Дмитрий угостил его папиросами, запасенными специально для таких случаев. Стрельников между тем начал спрашивать: – Вам позвонили или кто-то пришел в отделение? – Позвонили. Около трех ночи было. Позвонила гражданка… Хромова из двадцатой. У них как раз дверь напротив квартиры убитого. – И что же она сообщила по телефону? – Точно не знаю – не я разговаривал. Мне передали, мол поступил вызов, и на Тверской слышали стрельбу. – Понятно. А вы сами с ней общались? – Да, конечно. Первым делом постучал в двадцатую. Она сказала, что слышала выстрел из соседней квартиры. Причем, не только она, но и другие жильцы. – А через какое время после вызова вы были на месте? – Минут через двадцать, не больше. Мне тут недалеко дойти. – Пешком? – Ну да, я же говорю – тут недалеко. Чего бы и не дойти? Белкин посмотрел на своего старшего коллегу – на лице Стрельникова не промелькнуло ни тени раздражения, которое он в этот момент испытывал. Наоборот, Виктор Павлович сохранял свойственную ему доброжелательность. Степанов сделал глупость – двадцать минут приятной прогулки по ночному городу, это еще и двадцать минут форы для убийцы. Стрельников продолжил опрос: – Видели кого-нибудь странного, когда шли сюда или сейчас, пока ждали внизу? Может, ошивался кто или вопросы задавал? – Да нет. Не было такого. – Ясно. А как вы узнали о том, что произошло убийство? – Так я в квартиру зашел! – И как же? Дверь не была заперта? – Да, открыто было! – Вы не спрашивали у гражданки Хромовой, может, у нее был ключ, и она заходила в квартиру убитого, пока ждала вас? – Ну, я не спрашивал, но не думаю, что она бы стала. Она подойти-то к этой двери боялась, не то что в квартиру войти. Стрельников кивнул и решительно направился внутрь. Белкин чуть задержался, чтобы спросить: – У вас есть какой-нибудь транспорт при отделении? Степанов ответил не без гордости: – Ага, есть! Грузовик АМО, новехонький! – Как думаете, за сколько бы вы добрались сюда на грузовике? – Ну, минут за пять, наверное. Степанов как будто вовсе не понимал, к чему клонит его собеседник, поэтому Белкин спросил напрямую: – Тогда почему вы шли пешком, а не ехали? – Так как же я ночью поеду?! Михалыча ночью нет, а сам я в шоферы не обучен. Дмитрий тоже с легкостью спрятал свое раздражение – для него это умение было жизненно необходимым. Он распрощался с милиционером, для проформы попросив того посматривать в оба, хотя и не питал никаких сомнений относительно того, что убийца успел уйти уже очень далеко отсюда. После этого Белкин поспешил за Виктором Павловичем. Двадцать первая квартира была наполнена невыспавшимися людьми. А одна из трех комнат была забита сверх всякой меры. У Дмитрия предательски дернулась щека, когда он увидел такую толпу. Белкин узнал спину дактилоскописта Егорычева, который колдовал над настольной лампой возле кровати. Также здесь трудился со своим громоздким аппаратом фотограф – его имени Дмитрий не знал. Далеко не каждое место преступления удостаивалось того, чтобы быть запечатленным на пленке. Еще здесь был Стрельников, который, пока Белкин застрял внизу, успел без лишних церемоний взять стул и устроиться напротив кровати. Остальную квартиру с внимательной тщательностью осматривал Володя Хворостин – еще один следователь из МУРа. Двое милиционеров также были здесь на всякий случай, правда, они были не в квартире – один стоял у лестницы в коридоре, а второй напротив входной двери. Наконец, в комнате был сам хозяин квартиры – он полулежал на полу рядом с собственной кроватью. Под ним натекла лужица крови, которая уже начала засыхать по краям, превращаясь в стойкое пятно. Дмитрий кивнул Володе, вдохнул поглубже, собрался с духом и поздоровался с Егорычевым и фотографом за руку. Привычно подавил желание вымыть руки немедленно. Подошел к Стрельникову и посмотрел на труп через плечо старшего коллеги. Виктор Павлович начал глухо бубнить, ни к кому конкретно не обращаясь: – Один выстрел прямо в сердце – похоже на работу мастера. – Или везунчика. Дмитрий знал, что ни к кому не обращающийся Стрельников, в действительности обращается именно к нему. Так уж повелось в их совместной работе: один бьет – второй отбивает. Виктор Павлович не стал спорить: – Или везунчика. Есть выходное отверстие – пулю нужно найти. – Найду. – Хорошо. Поищите еще и гильзу – если профессионал, то гильзу не должен был оставить. – Но ведь он мог стрелять из револьвера – тогда гильзы тоже не останется. – Тем не менее, поискать стоит. Белкин пообещал поискать и гильзу, окинул взглядом помещение, прикидывая масштаб предстоящей работы. Комната была довольно просторной, кроме того, мебели здесь хватало – доказать, что здесь чего-то нет, было довольно трудной задачей. Стрельников крикнул, обращаясь к Хворостину, находившемуся в соседней комнате: – Пропало что-нибудь, Володя?! – Никак нет, Виктор Палыч! Хворостин не стал дальше кричать, вошел в спальню и произнес уже вполголоса: – Никак нет, Виктор Палыч. И не искали, судя по всему. Деньги на месте. Портсигар дорогой в сервизе на видном месте, Орден Красного Знамени там же и тоже на виду. Может что-то и взяли, но квартиру точно не обыскивали. Стрельников рассеянно поблагодарил Хворостина и вновь обратился к трупу на полу. Дмитрий тоже смотрел на убитого – Орден Красного Знамени – мертвец действительно был не из простых. Виктор Павлович вдруг встал и принялся ходить по комнате, неотрывно глядя на труп. Он чуть не запнулся о фотографа, но, быстро бросив извинения, продолжил свое странное движение. Дмитрий понял, что пытается делать коллега, и ответил на незаданный вопрос: – Кресло напротив кровати, Виктор Павлович. Все в положении тела говорило Белкину о том, что стреляли именно из кресла. Он даже сам не мог себе этого до конца объяснить, но и сам выстрел и полет пули и то, что случилось с телом после того, как пуля в него вошла – все это он мог восстановить в уме легко и отталкиваясь лишь от вещей косвенных, случайных. Стрельников умел разговаривать с людьми, а он – Белкин – умел замечать мелочи. В комнате царила идеальная чистота и прибранность, если не считать трех вещей. Пятно крови на полу, разобранная постель и примятая накидка на кресле. Ее мог примять и сам убитый, присев в кресло накануне вечером, и само по себе это обстоятельство ни о чем не говорило, однако ноги трупа были также направлены к креслу, как будто его какой-то силой толкнуло с той стороны и повалило. Собственно, так и было – этой силой была пуля. Виктор Павлович, спросил у Егорычева, теперь трудившегося с ручкой двери, и у фотографа, садился ли кто-нибудь из них в кресло, услышал отрицательные ответы, а после этого уселся сам и вновь глухо протянул: – Возможно. Очень даже возможно. Тогда точно не профессионал. – Профессионал войдет, выстрелит и уйдет. – Именно! А этот вошел и сел в кресло. Зачем? – Может, они говорили? – Может. Значит, они знакомы. – Не обязательно. Что если убийца хотел что-то сказать перед тем, как убить? – Ты приходишь ночью, прокрадываешься в квартиру… – А кто сказал, что он прокрался? Убитый мог сам его впустить. – Нет, не мог. Он в одном лишь исподнем – не принимают гостей в таком виде. Белкин был вынужден согласиться с этим выводом. Этот обмен остался за Стрельниковым. Виктор Павлович откинул голову на спинку кресла и неожиданно зевнул, едва успев закрыться рукой. Потом встал и направился к двери: – Так, голубчик, посмотрите здесь все, что высмотрите. Жду от вас пулю и, если повезет, гильзу… Александр Филиппович, есть что-нибудь? Неразговорчивый Егорычев отвлекся от ручки чулана и подслеповато посмотрел на Стрельникова: – Есть и даже в достатке, да только губу не выкатывай слишком сильно, Виктор Палыч – это спальня, а не операционная – здесь и должно быть много «пальчиков». Стрельников кивнул, но дактилоскопист даже не увидел этого, уже вернувшись к своей работе. – Товарищи, отойдите, пожалуйста, к двери – мне нужно сделать еще один общий план. Дмитрий убрал от трупа стул и встал рядом со Стрельниковым. Виктор Павлович спохватился и передал ему партбилет. – Вот, познакомьтесь с нашим убитым.2
Убитого звали Матвей Осипенко. И вскоре на основании партбилета и документов, которые удалось найти Хворостину, перед Белкиным начал выстраиваться образ этого человека. Осипенко Матвей Григорьевич 1894-го года рождения, уроженец села Ковяги Харьковской губернии, русский – это говорил паспорт. А партбилет говорил о том, что Матвей Григорьевич вступил в партию в сентябре 1920-го года. Документ был выдан ему Тамбовским губисполкомом. Годом рождения в партбилете был указан, кстати, 1893-й, а не 1894-й, впрочем, такие накладки случались. Еще из странного обратило на себя внимание то, что пометка об уплате членских взносов за 1920-й и первую половину 1921-го года была как будто поставлена задним числом – той же печатью, что и пометки за 25-й год. Наградной документ к Ордену Красного Знамени рассказывал о том, что товарищ Осипенко проявил мужество и героизм при разгроме контрреволюционных банд в Тамбовской губернии. Написано было как-то очень уж обще – без деталей, без указаний обстоятельств собственно подвига. Сам орден был начищенным и будто бы совсем новехоньким, словно Осипенко его почти не носил. В общем-то, на полу у собственной кровати лежало тело большевика из «сочувствующих» – не старого борца, который видел еще царские каторги и застенки, а одного из революционных солдат или рабочих, подхваченных революцией и Гражданской войной. Белкин неосознанно сравнил физиономию трупа с фотокарточкой в паспорте – привычка сработала. Информации о том, чем товарищ Осипенко занимался в последние годы, Володя при беглом осмотре квартиры не нашел, а углубляться не спешил. Дмитрий спросил его об этом – оказывается, Хворостину был дан прямой приказ не трогать рабочий стол убитого и провести лишь поверхностный осмотр. Белкин примерно понимал, что это значит. Что мертвец совсем непростой, а дело взято на контроль кем-то из весьма высокого начальства. Более высокого, чемначальство МУРа. Очень оперативно. В три часа ночи поступает сообщение о стрельбе в квартире Осипенко, а уже через два неполных часа у большого начальства все схвачено. В голове у Дмитрия вдруг возник вопрос: «Интересно, а Виктор Павлович уже понимает, что нам придется работать с тем, что нам разрешат узнать?» Фотограф собрал свой аппарат и удалился, Егорычев теперь возился в другой комнате, Володя Хворостин отправился помогать Стрельникову, и Белкин наконец-то остался один в комнате. Этим нужно было воспользоваться. Пуля нашлась довольно быстро. Пробив тело Осипенко, она пошла дальше, врезалась в стену, но не застряла, а срикошетила, оставив на стене очень малозаметную щербину. После этого она оказалась на полу и «упрыгала» под кровать. Белкин без труда дотянулся до смятого свинцового комочка с обрывками латунной оболочки. Дмитрий еще раз прикинул расстояние от кресла, из которого стреляли, до трупа, а потом от трупа до стены. Также он прикинул угол, под которым пуля должна была войти в стену – именно войти, а не отскочить, оставив лишь маленькую вмятину. Дмитрий сел в кресло, чтобы немного поразмыслить об этом. Разумеется, пуля потеряла часть силы, пройдя через человеческую ткань, но она прошла гладко и ровно – не разорвалась, не «запнулась» о кость, не завертелась. Аккуратное входное и аккуратное выходное отверстия тоже свидетельствовали, что ничто в теле Матвея Осипенко не помешало смертельному полету маленькой железной пчелы. Осипенко жил в большой и богатой квартире. Спальня в этой квартире тоже была просторной, но только не по меркам баллистического снаряда подобного пуле. И все же, покинув тело Матвея Григорьевича, пуля не понеслась, а «поползла» дальше и добралась до стены едва ли не на излете. Дмитрий поднял комочек на уровень глаз – это не был какой-то сверхмалый калибр. Да, пуля была небольшой, но все же вполне обычного для пистолета размера. Спустя минуту Белкин завернул находку в платок и убрал в нагрудный карман – были в ведомстве люди, для которых ответ на вопрос, почему пуля ведет себя так, а не иначе, был профессией – им и предстояло разгадывать загадку этого выстрела. А Дмитрию предстояло обползать на коленях всю комнату и заглянуть под всю мебель в поисках гильзы. Однако стоило Белкину расстроиться из-за нерадужных перспектив, как гильза нашлась. Она спряталась за ножкой кресла. Дмитрий аккуратно подцепил гильзу карандашом и вытащил на свет. А после этого позволил себе улыбку – с гильзой тоже было что-то странное. Впрочем, не настолько странное, как с пулей – просто Белкин никогда прежде не видел таких гильз. «Необычная пуля и необычная гильза, значит, необычный пистолет!» Дмитрий вновь устроился в кресло и обвел комнату взглядом, навалилась вдруг усталость и недосып, а в уме зашевелилась мысль: «Скорее всего, работал все же профессионал. Необычное оружие, которое всплыло лишь для этого выстрела, а теперь тяжело и неумолимо опускается на дно Москвы-реки. Четкое проникновение, четкий выстрел. А то, что в кресло садился… да мало ли по каким делам – может, ноги болят! А может, и действительно хотел сказать что-то этому Осипенко. Даже у профессионалов бывают личные счеты». Пока что все это напоминало «глухарь». Через несколько минут в комнату вошел криминалист Пиотровский. Грузный и невысокий, поразительно неловкий до той поры, пока не начиналась работа. Однако стоило Нестору Адриановичу оказаться в поле своей профессиональной деятельности, как он уподоблялся ловкостью и аккуратностью коту. Белкину нравился и сам криминалист, и его работа – он чувствовал в Пиотровском что-то вроде родственной души. Нестор Адрианович, разумеется, тоже был невыспавшимся, что, наложившись на его природную ворчливость, породило неиссякаемый источник желчи. Он даже вошел в комнату на середине очередной ворчливой фразы: – …шумят, носы в коридор кажут… нет бы, как покойничек – спокойно, смиренно и без единого звука! Доброе утро, Митя! – Доброе утро, Нестор Адрианович. – Хотя какое же доброе? Нет бы дать честному советскому криминалисту сон про пятно от томатного сока досмотреть… Что тут у нас, Митя? – Пулевое. Единственный выстрел в сердце. – Прошла? Дмитрий понял, что Пиотровский говорит о пуле, и полез в карман за платком. – Да, прошла. И гильзу я нашел. Белкин развернул платок, и криминалист тут же подхватил гильзу невесть откуда скользнувшим ему в руку пинцетом. Пиотровский буквально вцепился в гильзу внимательным взглядом. Примерно через минуту он проговорил, не отрывая взгляд от металлического цилиндрика: – Трогали пальцами? – Обижаете, Нестор Адрианович. – Вы правы – обижаю – простите, Митя. Егорычев здесь все уже обсмотрел? – Да, кроме гильзы. – Хорошо, конечно, что пальцами все подряд не лапаете, но на гильзе отпечатков нет, так что Егорычеву тут поживиться будет нечем. – Можете сказать, что за патрон? Пиотровский еще раз внимательно оглядел гильзу, на которой не было ни клейма, ни маркировки, а затем задумчиво протянул: – Могу, конечно, но потом… Так, а пуля? – Странная пуля, Нестор Адрианович, по всему должна была в стене застрять, а отскочила. – Странных пуль не бывает, Митя, только странное оружие. Теперь в пинцете была зажата смятая пуля, которую Пиотровский подверг не менее тщательному осмотру, чем гильзу. Белкин между тем ответил: – Я тоже так подумал. Причем, оружие редкое – я такого никогда не видел. – У вас слишком мало седых волос, чтобы говорить такие вещи, Митя. А вот у меня мерзкое чувство, что я такую гильзу уже видел, но вспомнить не могу – возможно, просто кажется. Следующие две минуты прошли в молчании. Пиотровский продолжал разглядывать то пулю, то гильзу, а Белкин старался ему не мешать. Наконец Нестор Адрианович шумно выдохнул и оставил улики в покое. Он достал небольшую коробочку с множеством отделов и переложил скромные находки Дмитрия с платка в эту коробочку. После этого обвел взглядом комнату, в которой ему предстояло провести немало времени. Неожиданно Нестор Адрианович усмехнулся и произнес: – Вот никак не могу понять, как и каким местом нужно служить советской власти, чтобы закончить жизнь в таких хоромах?3
Если товарищ Осипенко жил один в трех комнатах, то в соседней квартире аналогичного размера жило уже шесть человек. Одинокий старик, вдова и молодая семья с двумя маленькими детьми. Впрочем, условия были вполне достойные, даже имелся пусть и старенький, но все еще рабочий телефонный аппарат. Именно из этой квартиры поступил вызов. К тому моменту, когда Белкин оставил криминалиста работать, и присоединился к Виктору Павловичу, Стрельников уже пообщался с гражданкой Хромовой – вдовой комиссара, погибшего еще в Гражданскую. Именно она позвонила в милицию. Растрепанная стареющая женщина все еще пребывала в расстроенных чувствах. Дмитрий как раз столкнулся с ней, когда она выходила из общей кухоньки. Хромова громко всхлипнула и юркнула в одну из комнат, ничего не ответив на его извинения. Белкин остановился на мгновение, приходя в себя после неожиданного и слишком сильного сближения с другим человеком, но тряхнул головой, глубоко вздохнул и решительно прошел на кухню. Здесь были только Стрельников и хмурый мужчина лет тридцати, который отвечал на вопросы старого следователя и одновременно немного суетливо чистил отварную картошку себе на завтрак. Виктор Павлович не высказывал по этому поводу никаких возражений – смерть смертью, а смена сменой, и перед сменой нужно поесть. – Хорошо, Иван Сергеевич, а когда в таком случае вы видели товарища Осипенко в прошлый раз? – Позавчера. Утром. Я выходил на работу, за ним тоже заехали. – Он вел себя как обычно? Не был возбужден или встревожен чем-то? – Да нет, вроде. Только я его знал-то плохо. Мы поздоровались и все. – И с тех пор вы его не видели? – Ну да, я же говорю. Стрельников пометил что-то на исписанном листке, который лежал перед ним. После этого поднял голову и только теперь увидел вошедшего Дмитрия. – Ну что, голубчик, нашли пулю? – Да, Виктор Павлович. И пулю и гильзу. – Отлично! И что у нас по оружию? – Сразу понять не смог – никогда таких гильз раньше не видел. Отдал все Нестору Адриановичу. Стрельников хмыкнул и задумался, спустя минуту он едва заметно кивнул своим мыслям и произнес: – Ладно, будем надеяться, что Нестор Адрианович разгадает эту вашу странную гильзу. Я отправил Хворостина по соседним квартирам, можете ему в помощь поступить, а можете мне здесь помочь. Пока я с товарищем Петровым беседую, поговорите с гражданином Кауфманом – его комната в конце коридора. Стрельников вновь обратился к своему листку, а потом спросил у Петрова: – Я так толком и не смог добиться у Галины Михайловны – у убитого совсем никого не было? Никогда гости не приходили? Может, женщина? – Ну, я так-то не подсматривал, конечно, да и нету меня днями дома. Тут лучше у жены моей Вари спросите – она с малыми сидит, так что больше меня про домашние дела да про соседей знает. А по поводу женщин – да не было у него никого. Я имею в виду так, чтобы жена, чтобы хозяйка в доме. За порядком уборщица следила. Но вот просто девицы иногда были. Всегда разные, всегда не больше чем на ночь. Тут уж вы сами, товарищ следователь, думайте… Будете? Петров справился, наконец, с кожурой клубня и протянул картошку Стрельникову. Виктор Павлович не стал отказываться: – О, благодарствую! Нас сегодня в такую рань подняли, что иные и поужинать не успели! Дмитрий дошел до нужной двери в конце коридора, аккуратно переступая через разнообразные неприбранности. Зимняя одежда висела прямо на стене, дожидаясь своей нескорой очереди, под ней успокоились валенки и сапоги. Вдоль правой стены на полу выстроились четыре закатанные банки с соленьями, а два раза под ноги Дмитрию попались детские кубики, и он мог только вообразить, какая брань могла бы подняться ночью, если бы кто-нибудь на них наступил. Света было мало – единственная лампочка висела прямо над входной дверью, а Белкину нужно было в противоположный конец коридора. Дмитрий в очередной раз возблагодарил судьбу, что его комната самая ближняя к входной двери, и ему нечасто приходится разгуливать по коридору в своей коммуналке, мало чем отличающейся от этой. Дмитрий поравнялся с дверью гражданина Кауфмана и глубоко вдохнул – он не любил эту часть своей работы. Тонкими знаниями человеческой натуры Белкин не обладал, а само общение с малознакомыми людьми было ему в тягость. Он снова позавидовал Виктору Павловичу, который умел расположить к себе практический любого человека самой мелочью и замечал даже малейшие черты своего собеседника. Впрочем, вечно стоять перед закрытой дверью у Белкина не получилось бы – он негромко постучал: – Галя, это ты? Я завтракать не пойду! Слабый старческий голос показался Дмитрию умоляющим и плаксивым, однако это ощущение могло возникнуть из-за закрытой двери. – Гражданин Кауфман, это милиция. Позволите войти? Дмитрий ждал несколько минут, но ответа все не было, наконец, он попробовал толкнуть дверь, и та со скрипом отворилась. В комнате царил тихий одинокий вечер, несмотря на то, что в Москве было ясное солнечное утро. Плотные, полностью скрадывающие солнечный свет шторы были задернуты, зато настольная лампа рядом с узкой кроватью оказалась включена. На кровати сидел сутулый старик. Он уже успел убрать постель и полностью оделся. Теперь старик подслеповато смотрел на своего гостя, отвлекшись от чтения какой-то книги. Неожиданно Кауфман улыбнулся щербатым ртом: – Как будто вам нужно мое позволение, молодой человек! Дмитрия подмывало ответить: «А вы рассчитывали, что мне надоест ждать, и я уйду?», но он сдержал себя, вместо этого попытавшись ответить улыбкой на улыбку: – Простите, гражданин Кауфман… Старик неожиданно перебил Белкина: – Простите вы, молодой человек, но можно я не буду гражданином? Можно буду Абрамом Осиповичем, господином Кауфманом, стариком Абрамом на худой конец? Вот поэтому Дмитрий и не любил общаться с людьми – никогда не знаешь, чего от них ожидать и какие странности можно услышать. К счастью, вежливость Белкина нашлась быстрее, чем он сам: – Хорошо, Абрам Осипович. Московский уголовный розыск, оперуполномоченный Белкин. Так мне можно войти? – Вы уже вошли, молодой человек. – Да, но… – Но хватит мяться, молодой человек! Раз уж вошли, то садитесь. Чего вам нужно от жильца из самой дальней комнаты? Дмитрий чувствовал, что начинает краснеть – вот это было даже для него странновато. Старик отчего-то очень его смущал. Белкин устроился на табурете напротив Кауфмана и стал старательно разглядывать старую этажерку, которая служила старику и прикроватной тумбой, и местом для чтения, а иногда и трапезным столом, судя по нескольким застарелым пятнам. Этажерка была Белкину неинтересна, просто смотреть людям в глаза иногда очень нелегко. Наконец, Дмитрий справился с собой и посмотрел на старика – тот, казалось, так и провел все это время с ехидной улыбкой на лице. Кауфман произнес: – А я уж думал, что нынешние полицейские даже прожигать взглядом разучились. – Я не полицейский. – Да все едино, молодой человек! Ладно, чего вам? – Вы знаете, что вашего соседа из квартиры напротив убили? – Конечно, знаю. Галя тут ночью устроила концерт. Большую часть времени умная женщина, а иногда дура дурой – чего кричать-то?! Ну, услышала ты что-то, позвала городового, ну и сиди себе ровно – пусть люди работают. Но ведь нет, нужно всех перебудить! Нужно растолкать Ваню, который устает так, что заснуть иногда по два часа не может, нужно всполошить Варю, которая с дитятами издерганная, самих детей тоже, разумеется, нужно разбудить, чтобы орать в три горла, а не в одно… Дмитрий почувствовал подходящий момент и перебил ворчание старика: – А вас? – Чего меня? – Вас она тоже разбудила? – Нет, я не ложился еще. – То есть, вы тоже слышали выстрел? – Я слышал, как упало что-то вроде книги – это только потом по Галиным причитаниям я понял, что это была за книга. – А в каком часу это было? – Ууу, вы бы еще спросили, какая погода была в этот момент в Бобруйске, молодой человек! Я ночью время совсем не понимаю. Вроде и долго тянется, а протягивается быстро. По мне бы и сейчас ночь, может, и спать лягу, как вам со мной общаться надоест. – А что было потом, после падения книги? – Я же говорю – Галя переполох устроила, но мне то не очень интересно было. Мне больше вот. Старик перевернул книгу обложкой кверху – книга называлась «Дни» и принадлежала перу некоего В. Шульгина. В памяти Белкина зашевелилось что-то – осколок какого-то воспоминания, связанного с этой фамилией, но дальше зуда в разуме он продвинуться не смог. Старик снова положил книгу разворотом к себе и задумчиво произнес: – Где-то мы все ошиблись… Дмитрий, видя, что Кауфман стремительно теряет интерес к беседе, поспешил поменять тему: – А вы с убитым были знакомы лично? Теперь старик не смотрел в лицо своего собеседника – он вцепился взглядом в какую-то невидимую точку на шторах. Затем Абрам Осипович неожиданно резким движением захлопнул книгу и посмотрел на милиционера со странной злобой: – К глубокому стыду своему был! Но дружбы не водил – с палачами отродясь за панибрата не был! – Но вы виделись с ним иногда? Дмитрий постарался, чтобы его вопрос не спровоцировал новую вспышку гнева у старика, но тот, казалось, обессилел от прошлой своей вспышки и теперь отвечал спокойно: – Да, иногда виделся. Если он со мной здоровался, то я его приветствовал, если не здоровался, то не приветствовал. – То есть, вы не общались с ним и не можете сказать, что он был за человек? – О, милостивый государь, как раз это я могу сказать! Только он был не человек, а бешеный пес, которого не пристрелили по недосмотру. Хорошо, что нашлась твердая рука, которая это исправила! Когда ему только дали двадцать первую квартиру, он был весь начищенный, искрящийся, прямо блестящий армейский сапог! И пообщаться любил, и в гости захаживал, а как выпьет, вещи начинал рассказывать… – Какие вещи, Абрам Осипович? – Нехорошие, молодой человек! Нехорошие. Года три назад он отмечать Первомай начал, видимо, еще с утра, а к вечеру к нам в гости стал проситься. Ваня уже сам был хороший, поэтому впустил. А этот, как начал рассказывать про гранаты с газом, да про то, как он «антоновцев» по тамбовским лесам давил… Женщин перепугал, потом безобразничать начал, ну Ваня его с лестницы и спустил. Я по водке не любитель, молодой человек, но после того, что этот тут понарасказывал, захотелось очень сильно, причем не по одной, не по две и не по пять! На следующий день он протрезвел, пришел, извинился – все чин по чину. Только сидел с тех пор в своей трехкомнатной меблированной клетке и за общий стол не просился, а мы не звали. Старик замолчал, потом вдруг снова открыл книгу и принялся читать с произвольного места, будто бы вовсе забыв о присутствии гостя. Дмитрий окинул Кауфмана взглядом и мысленно помотал головой – быть не могло того, чтобы этот усталый старик вдруг превратил свою досаду на эпоху в план убийства, да еще такой четко исполненный. Впрочем, это еще стоило обсудить с Виктором Павловичем. Будто в ответ на мысли Белкина в дверь постучали. Абрам Осипович отвлекся от книги и снова крикнул: – Галя, к завтраку не ждите! Однако за дверью вновь была не Галя. – Митя, вы там? Это Стрельников. – Да, Виктор Павлович! – Выйдите на минутку, пожалуйста. Тут некоторые обстоятельства решили измениться.4
В двадцатой квартире многое переменилось за то время, пока Дмитрий общался с гражданином Кауфманом. На кухне больше не было рабочего Петрова, отправившегося, скорее всего, на смену. Зато здесь собрались все представители власти, которых Белкин успел повидать за это утро. Он увидел и грузную фигуру криминалиста Пиотровского, и задумчивое лицо Володи Хворостина, и отрешенного Егорычева. Здесь были даже двое милиционеров, стоявших на страже двадцатой квартиры. Стоял, обливаясь отчего-то потом, и милиционер Степанов, первым увидевший тело Осипенко. Не хватало только самого Дмитрия и Виктора Павловича, который сейчас шел следом за своим молодым коллегой. Однако были на кухне и новые лица. Одно из них Белкин узнал – это был начальник МУРа Леонид Давидович Вуль. Товарищ начальник был хмур и сосредоточен. Он явно чего-то ждал. Или кого-то. Дмитрий немного оцепенел, увидев высокое начальство, но Стрельников легко подтолкнул его в спину. Виктор Павлович сохранял, казалось, полную невозмутимость. Вторым же новоприбывшим был высокий темноволосый человек в форменной гимнастерке. Он стоял спиной к Белкину, поэтому Дмитрий не видел его петлицы. Темноволосый услышал их шаги и резко развернулся. На красных петлицах были две «шпалы». «Вот и тяжелая артиллерия подтянулась» – с долей разочарования подумал Белкин. Темноволосый был из ОГПУ, а это значило, что то самое начальство, которое запретило милиционерам приближаться к рабочему столу Осипенко, теперь бралось за дело само. В общем-то, это было ожидаемо. Темноволосый спросил: – Теперь все? Дмитрию потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что вопрос обращен не к нему. Стрельников ответил из-за спины: – Да, товарищ Владимиров. Виктор Павлович выскользнул из-за спины Дмитрия и устроился на облюбованном им еще во время опросов табурете. Белкин остался стоять в дверях. Товарищ начальник продолжал с молчаливой сосредоточенностью буравить взглядом немного грязноватое окно, а вот Владимиров убрал какую-то бумагу в нагрудный карман, обвел взглядом собравшихся милиционеров и заговорил: – Доброе утро, товарищи. Я оперативный уполномоченный Владимиров. В первую очередь благодарю всех вас за быструю и качественную реакцию на убийство товарища Осипенко. Однако это убийство – дело политической важности, поэтому заниматься его расследованием далее будет Политическое управление. Будет сформирована особая группа, которая в кратчайшие сроки найдет и придаст преступника правосудию. Таким образом, из ведения МУРа это дело изымается. Но это не значит, что мне, как старшему следователю этой группы не будет нужна ваша помощь. Сегодня вечером я жду от каждого из вас письменные отчеты о проделанной по этому делу работе. От того момента, как вы были вызваны на место убийства и до этой самой минуты. И еще, товарищи, о том, что вы увидели в квартире покойного, как и о прочих обстоятельствах этого дела не распространяйтесь даже коллегам. Это очень важно. Сказав это, Владимиров поочередно заглянул в глаза всем присутствующим, но его слова и без того все поняли правильно. После этого он обернулся к Степанову и двум милиционерам, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке: – Вас, товарищи, прошу принести свои отчеты на Петровку, 38 и передать через дежурного «для товарища Владимирова». Товарищ начальник, предупредите дежурного. Вуль кивнул, не произнеся ни слова. Владимиров продолжил: – Отчеты должны быть готовы сегодня к вечеру – это обязательно. Отложите все дела и обязанности, если потребуется. Все, товарищи, можете возвращаться к работе. Милиционеры заспешили к выходу так, что Белкин едва успел уступить им дорогу. Дмитрий с трудом сдержал неприязненное выражение – кухня была слишком тесной для них всех. Впрочем, теперь, в ней стало на три человека меньше. Владимиров вновь заговорил: – Так, товарищи, кто из вас прибыл на место преступления первым? – Я, товарищ Владимиров. Откликнулся Хворостин. – Вы читали бумаги покойного? Володя бросил взгляд на спину начальника и ответил: – Сделал все, как велел товарищ Вуль – провел лишь поверхностный осмотр, не подходил к рабочему столу убитого. Я нашел лишь партбилет и паспорт, но они были в одежде убитого, а также наградную бумагу, но она тоже была на видном месте. Владимиров кивнул: – Хорошо. С вами я хочу поговорить отдельно. Жду так же письменный отчет. Пришла очередь специалистов: – Товарищи, вы закончили свои изыскания? Ответы Егорычева и Пиотровского отличались. Нестор Адрианович только начал, а вот прибывший раньше дактилоскопист уже закончил. – В таком случае, товарищ Егорычев, жду от вас отчет и очень рассчитываю, что к вечеру уже будут определенные результаты. А вас, товарищ Пиотровский, прошу вернуться к работе. Теперь вы поступаете под мое руководство и входите в следственную группу. После ухода Пиотровского и Егорычева в кухне стало еще просторнее. Очередь, наконец, дошла до Белкина и Стрельникова. – Вы тоже не трогали документы убитого? Услышав утвердительные ответы, Владимиров удовлетворенно кивнул. – Хорошо. Тогда жду от вас отчеты и… не бойтесь отступить от сухой формулы: «был там-то – делал то-то». Свободно делитесь соображениями и идеями. Сами знаете – первый, кто был на месте, увидел больше всех. Работать следственная группа будет на Петровке, так что обращайтесь даже если что-то придет в голову уже после сдачи отчета. То же самое касается и вас, товарищ Хворостин. Самое главное, товарищи – вы не сняты с этого расследования. Я понимаю, что у вас и так много работы, поэтому постараюсь не дергать вас лишний раз, но если мне понадобится ваша помощь, вы незамедлительно должны ее оказать. Надеюсь на вас. Вопросы? Вопросы оказались лишь у Виктора Павловича: – Позвольте, товарищ Владимиров. Мы понимаем, что важные дела шума не любят, и это не исключение, но позволено ли нам будет узнать хотя бы, кем был товарищ Осипенко, раз его гибель стала делом политической важности? Дело ведь не в праздном любопытстве – вы сказали, что следственной группе может потребоваться наша помощь, но слепой зрячему помочь не может. Владимиров задумался на некоторое время, а после этого произнес: – Пожалуй, в ваших словах есть доля истины. Я не могу сказать вам о делах товарища Осипенко, скажу лишь, что он заведовал определенными научными изысканиями в области перспективного вооружения. Это все, чем я могу пока что с вами поделиться. – А большего и не нужно, товарищ Владимиров. Виктор Павлович произнес эти слова с вежливой улыбкой, на которую Владимиров ответил кивком. – Еще вопросы? Но больше вопросов не было, а если и были, то их предпочли не задавать. И с товарищем Осипенко, и со столь большой заинтересованностью ОГПУ поисками его убийцы все было понятно. Только с самим убийцей не было понятно ничего. В разуме Белкина закрутилась с новой силой мысль о необычной гильзе – необычное оружие и перспективные вооружения – казалось, что это были ягоды одного поля. Впрочем, в мире много странного оружия. Так или иначе, теперь это было не дело Белкина. Дмитрий отвлекся от своих размышлений – Владимиров оставил Хворостина, остался в квартире и Вуль, а вот Стрельникову и Белкину на Тверской больше делать было нечего. Теперь они тряслись в грузовике, направляясь к родному ведомству. Впереди был рабочий день. – Вот бы с них за переработку стрясти! Виктор Павлович дал волю чувствам после того, как в очередной раз широко зевнул. Дмитрий понимал коллегу и даже испытывал некоторую досаду от того, что их раннее пробуждение, по сути, оказалось бесполезным и бессмысленным. – Думаете, все дело в его работе? Виктор Павлович сразу понял, о чем идет речь, и наклонился ближе к Белкину: – Думаю, что теперь это не моя забота, голубчик. Пускай товарищи из Политического разбираются и с пулей, и с гильзой, и со связями Осипенко. – Неужели вам совсем неинтересно? – Совсем. После слов «перспективные вооружения» мне стало невыносимо скучно. Я даже благодарен этому Владимирову за то, что он их произнес. Да и признаться честно, Митя, за время знакомства с товарищем Осипенко я как-то не смог проникнуться к нему особой симпатией, поэтому я даже рад тому, что теперь он будет чужой головной болью.5
Следующие четыре дня прошли для Дмитрия в типичной рабочей рутине. Старые расследования, несколько вызовов, а под конец недели странная кража с проникновением за надежную дверь. Стрельников как будто бы узнал эту работу, во всяком случае, цокнул языком и покачал головой, увидев тяжеленную дверь, которую не каждая динамитная шашка возьмет, а после этого проговорил: «Сколько лет? Сколько зим?» Мысли о странном убийстве на Тверской не оставили разум Белкина – он мог держать головоломки в своей голове очень долго, решая их в свободные минуты. Однако нельзя решить головоломку, имея лишь обрывки ключа от нее, и не будучи уверенным, что этот ключ вообще от этой головоломки – Дмитрию нужна была информация. То, что нашел Егорычев, выводы Пиотровского, наблюдения Хворостина – ничего из этого у него не было и никто не собирался ему это давать, так что Дмитрий достаточно решительно отставил эту головоломку, надеясь лишь, что когда-нибудь увидит ее решенной. Теперь у Белкина был выходной. День не задался с самого утра – он проснулся от громкой ссоры соседей на кухне. Засунул голову под подушку – от звуков брани спрятаться получилось, но сон уже махнул ему на прощение рукой, поэтому пришлось вставать. После этого Дмитрий ждал, пока соседи позавтракают и уйдут с кухни. Белкин ругал себя и уговаривал, но просто не мог заставить себя выйти и погрузиться в ворчание, копошение и мельтешение человеческих душ. Ему стало жаль, что сегодня выходной – как ни странно, Дмитрию очень неплохо работалось в такие дни. Возможно, дело было в том, что на службе он был вынужден держать себя в руках, вынужден был сам себя трясти за плечи и самому себе давать отрезвляющие пощечины. Белкин затравленно оглядел свою комнату. Оглядел идеальную чистоту и прибранность, и карандаши на столе, разложенные по длине, красиво, один к одному. Так не хотелось сегодня выходить из этой комнаты, из этого стабильного и изученного места, из дома. Не хотелось никого видеть и слышать, не хотелось чувствовать ничей запах и шевеление чужих мыслей. И одновременно хотелось противоположного – чтобы сейчас кто-то возник в комнате и обругал, заставил быть нормальным, заставил быть приветливым и раскованным, и даже обаятельным. Белкин вновь обвел взглядом убежище – пустое и холодное, стабильное и привычное, но все равно неуютное. Два стула, стол, кушетка, комод. В этой комнате все было настолько на своих местах, что жилец был ей попросту не нужен. Дмитрий понял, что теперь его смущенные мысли пытались найти причину уйти отсюда. Он выбрался на улицу через двадцать минут, кое-как закусив вареным яйцом под тошнотворно-приторное сюсюканье соседней мамаши со своим двухлетним чадом. Это было тяжело для Дмитрия, но зато из коммуналки он после этого вылетел, как ужаленный. И окунулся в гвалт и шум, в говорение, тарахтение и стрекотание. До причины, подтолкнувшей его покинуть дом, идти было около часа – ехать на трамвае намного меньше. Мимо как раз проезжал один. Набитый до самых краев, с руками, ногами, головами и задами, торчащими из всех окон и дверей, с крикливыми мальчишками, облюбовавшими «колбасу», трамвай был похож на какое-то животное. Точнее, на насекомое. Шумное, большое и совершенно неразумное, живущее инстинктами, непрестанно жрущее и непрестанно испражняющееся. Насекомое, казалось, имело глаза со всех сторон, и Дмитрий каждым сантиметром кожи чувствовал его голодный взгляд. Белкин отвернулся от трамвая. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы забраться в его разгоряченные недра, в сочленения его пластин, в копошение мириадов лапок, усиков, жвал и иных отростков. На улице все же было полегче. В действительности, с каждым шагом в душе Белкина разливалась нормальность. Он больше не смотрел на весь мир с отвращением, а иногда даже заглядывал в лица спешащих прохожих. Порой привычная тяжесть уходила, и он начинал получать странное удовольствие, проходя мимо людей. Все куда-то шли, все существовали, а он будто бы нет. Белкин проходил мимо них, как какой-то призрак. Он прекрасно знал, что прохожие не запомнят, ни его лицо, ни его фигуру, ни его самого – он пройдет мимо, не оставив даже малейших следов. Что-то в этой мысли бодрило Дмитрия и вселяло в него могучую уверенность. Белкин завернул в нужный дворик, прошел мимо чинных старушек, ворчавших, как всегда, на молодежь, укрылся в темном подъезде и перевел дух. В начале мая Москву сжали вдруг в тиски холодные ветра, а по ночам даже подмораживало, но в последние дни лето напомнило о своем победном марше и укутало столицу теплом близким к духоте. Теперь Дмитрий наслаждался прохладой безлюдного подъезда. Спустя минуту он поднялся на второй этаж и позвонил в нужную дверь. Откуда-то вновь взялось задавленное вроде бы чувство удушья и собственной лишнести. И вообще, а кто сказал, что Георгий будет ему сегодня рад? Они не договаривались о встрече. Да, Георгий говорил, что по выходным обычно дома и всегда рад гостям, но ведь то была лишь вежливость, а сейчас его могло и вовсе не быть. Когда дверь отворилась, Белкин готов был уже развернуться и уйти. Дмитрий понял, что дверь ему открыл единственный человек, которого он мог считать другом, но не смог заставить себя посмотреть в лицо Георгия, блуждая взглядом. – Посмотри мне в глаза, Митя. Это прозвучало вместо приветствия. Голос Георгия был спокойным и уверенным, как и всегда. Но сейчас он был еще и требовательным, и Дмитрий легко подчинился, как будто лишь требовательного тона и ждал. – Тяжелый день? На лице Георгия застыла легкая улыбка, а в голосе было искреннее сочувствие. Белкин кивнул. Он смог держать контакт глаз, теперь нужно было сделать еще одну вещь, чтобы прийти в норму. Дмитрий три раза мысленно проговорил правильное построение фразы, которую планировал произнести, но с его губ сорвалось непроизвольно совсем не то, что нужно: – Доброе утро, Георгий Генрихович. Я не помешал вам? Дмитрий понял, что не справился, и тут же опять опустил глаза. Георгий положил руку на плечо другу: – Глаза. Белкин вновь восстановил контакт глаз. Георгий продолжил: – Обратись на «ты» и по имени, Митя. Улыбка не сходила с его лица, и Белкину, пусть и не без труда, удалось выдавить из себя правильную фразу: – Доброе утро, Георгий. Я не помешал тебе? Теперь Георгий улыбнулся уже широко, хлопнул друга по плечу и отступил от порога, пропуская гостя. – И тебе добрый день! Нет, не помешал. Наоборот, у меня кое-что для тебя есть! Дмитрий совсем пришел в себя и собрался – теперь он чувствовал себя вполне нормальным, а чувства удушья, как не бывало. – Новая головоломка? – Угадал. Проходи, я пока чай сделаю. Белкин прошел из тесной прихожей в просторную гостиную и устроился в кресле, в котором устраивался всегда, навещая Георгия Лангемарка. На стареньком столике, расположенном между двумя креслами, одно из которых занял Дмитрий, лежал расчерченный в клетку лист бумаги. Белкин бросил на него взгляд, да так и не смог отвести. На листе был очерчен квадрат тридцать пять клеток на тридцать пять. Сверху от каждого столбца и слева от каждой строки был написан числовой ряд. Дмитрий сам не заметил, как взял новую головоломку в руки. Он еще не видел таких. Белкин с трудом оторвался от квадрата и пошарил взглядом по комнате в поисках карандаша, но, ни на столике, ни вообще в приделах видимости ничего писчего не было. Дмитрий даже не расстроился этому, просто отметил и вернулся к клетчатому квадрату. Спустя несколько минут Белкину показалось, что он нашел ключ – напротив самой нижней строчки стояло только одно число – тридцать четыре. Сам ряд занимал тридцать пять клеток, и если догадка Дмитрия была верна, то тридцать четыре из этих тридцати пяти клеток нужно было заполнить или просто закрасить, а одну оставить пустой. Когда Белкин отвлекся от головоломки в следующий раз, он обнаружил, что на столике появилась чашка с остывшим чаем и несколько печений на блюдечке. Георгий сидел за своим рабочим столом спиной к гостю. Он склонился к столу так низко, что Дмитрий почти не видел его голову – только плечи. Белкин выпил едва теплый чай одним духом и покрутил затекшей шеей. Ему не хотелось отвлекать Георгия от работы, но любопытство насчет правильности придуманного им решения пересилило: – Там ведь должен получиться иероглиф? Лангемарк отвлекся от работы и развернулся на стуле. На его лице застыла легкая улыбка: – Да, все верно. Ты хоть бы карандаш взял, а то мне на тебя смотреть было жалко – столько мелочей в уме держать! Белкин смутился от этих слов – он еще раз посмотрел на клетчатый квадрат, внутри которого не было ни одной пометки. Дмитрий видел вписанный в квадрат иероглиф потому, что помнил, сколько заполненных и пустых клеток было в каждом ряду и столбце, помнил он и их взаимное расположение. Он посмотрел на Георгия с долей вины – Белкин знал, что его друг так не может. Он еще не встречал ни одного человека, который мог бы держать в памяти столько, сколько удавалось держать ему самому. Дмитрий познакомился с Георгием три года назад. Он тогда только недавно был переведен в Москву. В те дни Белкин решал головоломки каждую минуту, которая не была занята работой или сном, благо в Москве было намного проще достать журналы с «лабиринтами» и «переплетенными словами», которые, правда, Дмитрию не очень нравились. Лангемарк просто оказался на той же лавке на Патриарших, что и молодой милиционер. Заметив, чем с совершенной увлеченностью занимается Белкин, Георгий не удержался и завязал разговор. Сам он тоже обожал разнообразные задачки и головоломки, отдавая предпочтение тем, что были завязаны на математике. Более того, Лангемарк сам на досуге развлекался созданием магических квадратов и «лабиринтов» – в лице Дмитрия Георгий нашел того, кто с удовольствием решал его загадки. Собственно, создание головоломок было для Лангемарка лишь развлечением, а по профессии он был переводчиком с японского языка. Насколько Дмитрий знал, Георгий владел так же немецким и французским, но переводчиков с этих языков хватало, а вот японистов ценили. Впрочем, Белкин не очень вдавался в эту часть жизни своего друга. Именно друга, ведь за эти три года Лангемарк стал для Дмитрия самым близким человеком – единственным (за исключением, возможно, Стрельникова) человеком в Москве, общество которого его вовсе не тяготило. Дмитрий оторвал взгляд от решенной головоломки и спросил: – А что это за иероглиф? – Обычно он обозначает небо. Но может значить и пустоту. Дмитрий снова посмотрел на одному ему видный иероглиф – это было красиво. – А у тебя есть еще эти квадраты? – Извини, я не могу в твоем темпе работать, кроме того, я не был уверен, что тебе понравится. – Понравилось! – Хорошо, значит, постараюсь сделать еще. Ты не против, если я продолжу изображать иероглифы – я какое-то очень умиротворяющее ощущение испытал, пряча небо к клетку. Дмитрий улыбнулся этой шутке: – Да, конечно! Любые изображения, любые размеры! – Хорошо. Приходи через неделю, будут еще иероглифы. С этими словами Георгий встал из-за стола и подошел к Белкину. В руках он держал несколько свернутых листов. – На этой неделе много работы было, поэтому тут всего несколько. В основном магические квадраты, есть математические от одной моей хорошей подруги. Дмитрий взял листы и с трудом удержал себя от того, чтобы сразу же приняться за них. Он поднял взгляд на Лангемарка: – Спасибо большое в любом случае! А над чем ты сейчас работаешь? Георгий попросил подождать и отправился на кухню за новым чаем. Через несколько минут он устроился в свое кресло и проговорил с легкой грустью: – Занимаюсь очередным пересказом истории о сорока семи. – Расскажешь? – Нет, лучше дам почитать, когда закончу.6
Дмитрий выбрался из кузова грузовичка и оглянулся – вокруг была легендарная Хитровская площадь. За вполне пристойными, пусть и истертыми фасадами окружающих домов скрывалось городское дно. Скрывалось уже несколько десятилетий, вываливаясь иногда наружу разбоем и убийствами. В ветхих ночлежках, преобразованных ныне в жилтоварищества, бытовал такой дух человеческого падения, что даже на улице забивало нос. Стрельников спрыгнул на утрамбованную сотнями ног землю вслед за Дмитрием, без лишних церемоний достал свой револьвер, проверил, заряжено ли оружие и вложил его в карман своих светлых брюк. Ему доводилось бывать на Хитровке и при Старом режиме, когда полицейские сюда без веских причин старались не соваться, и после революции, когда хитровская голь, не чуя больше над собой надзора, распоясалась и разрослась даже за свои исторически обособленные пределы. В «зачистке» старого Хитровского рынка, которая обернулась перестрелками и облавами, Виктор Павлович, по его словам, участия не принимал – другой работы хватало. Рынка теперь на площади не было, а на его месте появился хмурый и немного диковатый (как и все на Хитровке) сквер. Поговаривали, что скоро здесь построят школу, но точно ничего известно не было. Спину навязчиво припекало закатное солнце, а к двум следователям направлялся невесть откуда возникший милиционер. Он двигался спокойным и размеренным шагом, уверенный в своем величии. Слепым глазницам окрестных домов милиционер показывал силу и непреклонность. – Вы из МУРа?! Между ними было еще метров пятнадцать расстояния, но милиционер решил не подходить ближе. Пришлось подойти следователям. – Оперуполномоченный Стрельников. – Оперуполномоченный Белкин. – Я Варламов. Старший милиционер. Вы по поводу убийства? Виктор Павлович не смог удержаться: – А что, у вас еще что-то успело произойти? Варламов усмехнулся, а после этого, не говоря ни слова, развернулся и сделал следователям знак следовать за ним. Вскоре они оказались в грязном дворике откуда солнце уже ушло. Дома зловеще нависали, грозя исторгнуть на незваных гостей свое содержимое. Стрельников нервничал – сошла с лица дружелюбная улыбка, а правая рука была заложена в оттопыренный карман брюк. Дмитрий оглянулся вокруг – он не видел явных причин для беспокойства. Это просто было городское дно. Сильно пахло перегаром, хотя непосредственно на улице ни одного пьяницы видно не было. Еще пахло рвотой и мочой. Жаркая погода не помогала. Откуда-то слева слышалась резкая брань и женский плач, впереди вдруг со стуком отворилось окно и чьи-то грубые руки выплеснули на улицу грязную воду. Владелец этих рук даже не удосужился посмотреть, не стоит ли кто-нибудь под его окном. Варламов был совершенно невозмутим – очевидно, он бывал в этом дворе не в первый раз. Милиционер с ноги открыл дверь подъезда. Дмитрий подошел ближе и увидел, что ручка была чем-то вымазана – не то ваксой, не то краской. Пришлось следовать примеру Варламова. Темное нутро подъезда пахло грязными носками и пропавшей пищей. – Аккуратнее, товарищи, лужа на полу на первом пролете! Варламов ориентировался здесь, как у себя дома, и уже поднялся на второй этаж, оставив оперуполномоченных внизу. Дмитрий смог перескочить через довольно большую лужу, а вот Виктор Павлович такой резвостью уже не мог похвастать и замочил свои легкие туфли. Наконец следователи поравнялись с Варламовым. Кроме него здесь стоял еще один милиционер. Он казался заспанным и разморенным. Милиционер выцепил взглядом Варламова, лениво прошелся по его спутникам и соизволил отлепиться от исписанной похабностями стены. – Все тихо? – Как на кладбище, Семен Архипыч. – Совался кто? – Пьянчуга один, да как меня увидал, жиманул во весь опор! – Не догнал? – Так это… вы же сказали, чтоб я от двери не отходил, Семен Архипыч. – Ну да, точно – сказал… Ладно, иди, перекури. Милиционер протиснулся мимо следователей и заспешил вниз. Варламов потянул на себя скрипучую дверь нужной квартиры. Изнутри пахнуло нездоровой сыростью. Дмитрий заглянул в прихожую и увидел, что квартира состояла из всего одной небольшой комнатки, доведенной до полного безобразия. Единственным источником света была запыленная и грязная электрическая лампочка, свисавшая с потолка. Но даже такого количества света хватало, чтобы увидеть нищету и разгром в квартире, а также лежавшего на узкой кровати мертвеца. Белкин шагнул за Варламовым и оказался вмире отвратительных запахов грязи, водки и начинающегося гниения. А еще духоты. Удушливой, мгновенно утомляющей влажной жары, из-за которой гимнастерка Дмитрия сразу же промокла на спине. Стрельников, ступая аккуратным шагом профессионала, прошел к единственному окну и открыл его настежь. Стало чуть легче. Варламов, впустив следователей, теперь отошел к дверям. Он заговорил: – Петр Иванович Родионов. Дворник. Также столяр. Также бродячих собак ловит… ловил. В общем, когда трезвый, на все руки мастер. – Выпивал? – Не то слово! Я такую ему приятную картинку нарисовал – «на все руки мастер, когда трезвый» – да только трезвым он почти что и не бывал. – Дебоширил? Бывало. Не самый гад из нашего района, но знакомец близкий. Виктор Павлович продолжал общаться с Варламовым, а Дмитрий в это время подошел поближе к трупу. Родионов лежал на спине с закрытыми глазами, но не было ни одного шанса на то, что он умер спокойной смертью во сне – кто-то выстрелил ему в голову. Причем, это была только одна из ран дворника. В него стреляли не один раз – в груди была еще одна рана. Кроме того, Родионову чем-то разбили голову. Вся кровать застеленная нечистым бельем пропиталась кровью. Красные капли пропитали ткань насквозь и натекли на пол, образовав лужицу под кроватью. Дмитрий нагнулся, силясь разглядеть что-нибудь под кроватью, но без света это было бесперспективно – добычей следователя стала лишь пустая водочная бутылка, задвинутая под кровать в незапамятные времена. Белкин выпрямился и прикрыл глаза – убийца выстрелил Родионову в грудь, затем ударил его по голове несколько раз, например, допрашивая, а затем добил выстрелом в голову. Это было складно. Дмитрий вновь посмотрел на залитое кровью неделю небритое лицо, на руки, почерневшие от злоупотреблений жизнью, на квартиру, лишенную не то что изысков, но даже просто намека на устроенность. «А зачем кому-то нужно было допрашивать этого человека?» – этот вопрос возник в разуме Белкина сам собой. Он снова прикрыл глаза – Родионов подрался с кем-то и получил несколько раз по голове, после этого его противник, не удовлетворившись результатом, убил его. Тоже складно. Дмитрий опять оглядел руки убитого – синяки и ссадины на костяшках нашлись, но по виду старые – недельные. Белкин почувствовал, что его мысли требуют проверки. Он повернулся к Виктору Павловичу, но Стрельников все еще был занят с Варламовым. – А кто сообщил? – Сосед. Рубанов. Тоже из моих знакомцев. С вечера собрался выбраться из своей берлоги, да увидел, что дверь Родионова открыта. Ну, он и зашел, благо, они знакомцы по водке были знатные. – И чего, он в милицию сам пришел? Недоверие Виктора Павловича можно было понять – лишний раз звать милиционера в этом районе никто не спешил. – Так вы понимаете, товарищ Стрельников, Родионов ведь не от печени загнулся и не в драке пьяной топором по темечку получил. У нас тут стреляют-то нечасто в последнее время, потому Рубанов и сообщил. Да и они все же приятели были, как ни крути. – Семен Архипыч! Миленький! Помоги, а! Он, гад, меня опять убить грозится! С лестницы донеслись плаксивые женские крики. Варламов выглянул на площадку, и в него тут же врезалась растрепанная женщина. Милиционер не растерялся даже на мгновение: – А ну, куда прешь, черт тебя побери?! Нельзя сюда! Чего голосишь на всю Хитровку? Варламов развернул женщину от себя и вытолкнул на площадку, а потом закрыл за собой дверь. Спустя минуту глухих женских стонов и резких ответов Варламова дверь вновь открылась, и старший милиционер просунул голову в проем: – Товарищ Стрельников, дайте мне минут десять – тут нужно воспитательную беседу о вреде пьянства провести! После этого Варламов вновь закрыл дверь, даже не дождавшись ответа Виктора Павловича. Стрельников повернулся и неприязненно оглядел тесную комнатушку. Белкин подумал вдруг, что не так часто бывают моменты, когда его старшему коллеге более неуютно, чем ему самому. – Митя, обрадуйте хоть чем-нибудь. – Два пулевых и разбитая голова. – Я же просил обрадовать. Вы хоть представляете себе примерную длину списка подозреваемых? – Половина района, Виктор Павлович – вечер будет долгий. – Вот-вот. Ладно, работа сама себя не сделает. Посмотрите, не пропало ли что, а я пока на нашего покойничка полюбуюсь. Белкин огляделся в нерешительности. В таком беспорядке очень трудно было понять, пропало ли что-нибудь. Да и нечему здесь было пропадать. Полупустой шкаф с тряпьем, сваленным в кучу. Что из этого Родионов еще планировал носить, а что просто забыл выкинуть, так и останется теперь загадкой. Дмитрий подумал немного и залез в карманы старой шубы, которая, судя по виду, уже несколько лет не видела никакой чистки, зато повидала много луж и грязи. В карманах оказались трофеи разной ценности: два сухаря, пробка от винной бутылки и аккуратно свернутая банкнота в три червонца. То, как была свернута купюра, натолкнуло Дмитрия на мысль, что она была не с зимы, а на зиму, впрочем, его это не очень интересовало. Рядом со шкафом бельевым стоял узенький книжный со стеклянными вставками. Не самая дешевая вещь. Дмитрий открыл шкаф и едва успел поймать вывалившиеся с забитой верхней полки валенки. Книг в книжном шкафу оказалось немного. Понять во всем этом кое-как запихнутом хламе, рылся в нем недавно кто-нибудь или нет, было невозможно. Дмитрий с трудом успокоил валенки на прежнем месте и закрыл шкаф. После этого он обратил внимание на несколько фотокарточек заткнутых между стеклом и деревом. Фотографий было довольно много, видимо Родионову нравилось их собирать. Дмитрий смог узнать хозяина квартиры только на одной старой фотокарточке, причем, Белкин не стал бы ручаться за то, что не ошибся. Это была потрепанная фотография, изображавшая нескольких молодых людей на фоне Малого Николаевского дворца побитого снарядами. Дворец разобрали пару лет назад, но Дмитрий все равно без труда его узнал – успел застать. Судя по избитому облику здания, фотокарточку сделали либо во время, либо вскоре после октября 17-го. Все запечатленные широко улыбались, у всех на рукавах или груди были повязаны банты, которые на черно-белой фотографии казались серыми. Человек, в котором Белкин опознал Родионова, держал в руках винтовку и смотрел на фотографа с ухмылкой и вызовом. Остальные фотокарточки несли на себе московские и ленинградские пейзажи, портреты Веры Холодной и Айседоры Дункан, лица нескольких случайных людей – казалось, что Родионов собирал все, что мог собрать, впрочем, возможно, так оно и было. – Митя… Белкин обернулся на растерянный голос Виктора Павловича. Стрельников стоял прямо под ламой, вытянув к ней руку и пытаясь рассмотреть какой-то предмет. Дмитрий присмотрелся к тому, что держал старый следователь, и брови его поползли вверх. Виктор Павлович опустил руку и теперь рассматривал предмет в упор. Этим предметом была гильза. Точная копия той гильзы, которую Белкин нашел в квартире Осипенко. Точная копия той гильзы, которую Стрельникову показал товарищ Владимиров, когда Виктор Павлович сдавал человеку из Политического свой отчет. Стрельников отвлекся от гильзы и посмотрел на изумленного Дмитрия, а после этого произнес: – И как это понимать?7
«Говорится, что воин должен избегать злоупотребления выпивкой, гордостью и роскошной жизнью. Лишь жизнь лишенного надежды лишена и всяческих тревог, но стоит только вновь начать лелеять надежды, как три порока обретают опасное могущество. Смотри на жизни людей. Если дела их благополучны, они уступают своей гордыне и совершают необдуманные самодурные поступки. Потому и нет ничего плохого, если к молодому человеку судьба немилосердна. Частая схватка с испытаниями жизни закаляет характер такого человека. Но если под тяжестью жизненных ситуаций человек впадает в уныние, то от него не будет никакого проку…» Я отвлекся от записей и оглянулся. Дешевая пивная неподалеку от Хитровской площади переживала даже по своим весьма скромным меркам не самые лучшие времена. Строго говоря, пивной здесь больше не было – пару лет назад во время очередной схватки за трезвость это место переделали в чайную. Собственно, в чайниках и самоварах теперь и подавали горячительное. Это было даже выгодно для заведения – чайники были покрепче бутылок и не так страдали от дебошей и драк. Контингент доходил до правильной кондиции после смены. Я нашел взглядом свою цель. Этот был здесь давно – у него сегодня смены не было. Как я успел понять, у него вообще со сменами было не очень. Он попытался подняться на ноги, но не смог. Меня поразил приступ жалости к этому человеку. Я стану избавлением для него, а не наказанием. Ворона хотя бы был сильным, ворона уважал себя, и ворона своей беспутной молодостью смог обеспечить себе достойное бытие. А этот? Он превратил свое сиюминутное могущество в реку алкоголя? Оставить бы его здесь, чтобы он утонул! Я одернул себя – месть, это не унижение и даже не способ наказания. Месть, это необходимость. Восстановление мировой гармонии. Это, кстати, справедливо и для тебя тоже, каким бы ни было твое отношение к нашему делу. Я должен исполнять месть без злорадства и низкого удовольствия – я не должен ни проявлять, ни даже подразумевать какого бы то ни было неуважения к тому, кому предстоит умереть от моих рук. Обнажать меч против того, кого не уважаешь, есть неуважение к себе. Он вновь попытался подняться на ноги. На этот раз это получилось. Я ведь не рассказывал тебе, как наткнулся на него? Мне просто странно повезло. Четыре дня назад единственный раз в год я оказался на Хитровке и смог распознать в перегарном пьянчуге того, кто должен умереть. Воистину причудлив зверь с миллиардом ртов, этот исполин столицы, огромный и крошечный одновременно! В тот раз этот пьянчуга пристал ко мне, клянча рубль, разумеется, «на трамвай». У бедняги так горел болезнью взгляд и так ходили руки – мне показалось, что он может сложиться от горячки прямо передо мной. Я дал ему рубль. Он, не поблагодарив, помчался в «чайную», а я стоял еще минуты три – я его узнал. Вспомнил его жесткую ухмылку и слова, которые он произносил. С тех пор я появлялся на Хитровке каждый вечер, и каждый вечер находил его в «чайной», где он оправлялся от прошлого вечера и начинал погружаться в вечер нынешний. Я проследил за ним до его убежища. Он жил один – для меня это было очень хорошо. Гром, убивший ворону, оказался слишком громким. Поэтому теперь я решил воспользоваться возможностью уменьшить этот шум, хотя, конечно, большого доверия к переусложнению не испытывал. Пьяница за эти дни так и не заметил меня, а если и заметил, то не вспомнил. Это не было удивительно – его разбитый годами злоупотребления разум больше напоминал кусок хозяйственного мыла, а не работающий механизм. Забавно, до какой же инстинктивности может опуститься несчастный человек! Этот пьяница жил, как зверь – почти не думая, не рассуждая, используя одни и те же решения и торные дорожки опыта. У него даже повадки стали звериные – он хохлился иногда над своим стаканом, как воробей по поздней осени. Я вышел из «чайной» следом за ним, выдержав небольшую паузу. Все должно было случиться сегодня – по-иному быть не могло. Нужна была лишь толика везения – траектория движения воробья могла пересечься с траекторией одного из его многочисленных приятелей. Тогда вечер мог получить нежелательное для меня продолжение. Вчера, собственно, так и произошло – я уже все спланировал, но один из собутыльников воробья увлек его за собой. По счастью, мы добрались до дома пьяницы, так никого и не встретив. Я держался теней, но он ни разу не оглянулся, а двор был поразительно пуст для майского вечера. До меня долетели слова воробья: «Смело мы в бой пойдем…» – смешанные с грязной бранью. Он наконец добрался до своего подъезда и скрылся в его темном чреве. Я скользнул к тяжелой двери. В подъезде воробей перешел с бормотания вполголоса на крик, раздававшийся по неосвещенным лестницам. Я не спешил входить в подъезд, ожидая пока моя цель окажется у себя в берлоге. Хлопнула дверь, пьяная песня стихла – можно было начинать. Я в считанные мгновения взлетел на второй этаж, остановился и прислушался. Воробей говорил что-то. Даже через дверь это было хорошо слышно. Меня охватило чувство досады – неужели он все же ухитрился найти себе компанию на этот вечер? Неужели все опять придется отложить? В глухом бубнеже пьяницы было что-то очень странное. Что-то, что я не мог себе сходу объяснить. Несмотря на очевидный провал сегодняшнего дела, я не мог сдвинуться с места – эта странность не отпускала меня. Через несколько минут я понял, в чем дело – я слышал лишь один причитающий, ругающийся и плачущий голос. Воробей разговаривал сам с собой, причем, очень содержательно, как будто действительно находил своим словам слушателя. Я достал свое оружие и проверил его. Новое устройство удлиняло пистолет и портило его простой и изящный облик, но меч и хват меча, и положение ног, и знание стоек совершенно не важны – важно лишь поразить врага. Я обратил свой взгляд на дверь. Еще позавчера я осмотрел дверь и понял, что легко смогу справиться с ней, однако это даже не потребовалось – дверь была приоткрыта. Потяни воробей ее за собой чуть сильнее, и дверь бы захлопнулась, но он по недосмотру не довел ее буквально миллиметра на три-четыре. Я взялся за ручку и резко дернул на себя, одновременно отступая чуть назад и беря воробья на прицел. Только теперь он поднял взгляд на открывшуюся дверь и увидел меня. А может быть, не увидел, потому что спросил: – Эй, кто это шуткануть решил?! Ко мне лучше не лезь, а то я… – Замолчи. Он осекся и пригляделся к моей фигуре внимательнее, а после этого неожиданно ухмыльнулся: – Это чой-то у тебя там? Ствол что-ли? Совсем от водки мозги скукожились – ко мне грабительствовать лезть?! У меня окромя старой шубы и нету ничего! Я вошел в комнату и оказался в круге тусклого света грязной лампы. – Эээ… да ты дядька серьезный! Точно номерочком не ошибся? Ты, видать, Госбанк брать собрался, только это не здесь. – Замолчи. – Ух ты, смелый какой! Я у себя дома, между прочим – хочу, говорю, хочу, молчу. Я не справился с собой. Не знаю, что именно меня так задело – его полное презрение к смерти или ухмылка, которая долго приходила ко мне в кошмарах. Не было никакой красной пелены и взрыва в груди – я просто подошел к нему и несколько раз ударил рукояткой пистолета по голове, совсем забыв, как пользоваться оружием правильно. Воробей застонал и откинулся на своей грязной кровати, а я отошел от него. Отчего-то тряслись руки, а сердце колотилось как бешеное, но более странным было то, что эта телесная смута душу отчего-то совсем не задевала. Я все четко видел, я все четко слышал, но не был уверен, что полностью себя контролирую. Я с запозданием спохватился и повернулся к двери, чтобы ее закрыть. Взгляд упал на фотокарточки, зажатые в дверце шкафа. Маяковский смотрел на меня, как на весь мир – осуждающе, а Шаляпин с добродушной улыбкой. А под ними… Я забыл и о двери, и о своей несдержанности, и даже об окровавленном воробье. Схватил фотографию, на которой узнал до боли знакомые лица. Шестеро позировали с наганами. Красивые и величавые, как стая бродячих собак и такие же самоуверенные. Лица обветренны беззаконием. Я видел прежде троих. Один из них теперь лежал с разбитой головой за моей спиной. Я подскочил к воробью. Он был в сознании и шевелился, но его движения были рассеянными и безвольными, как движения новорожденного младенца. Неожиданно воробей рассмеялся и произнес пугающе спокойным голосом: – Нет, ты не из Госбанка – ты собак душишь. Знаю вашу породу. Моя б воля, вас самих бы отлавливали и душили. – Эти двое. Знаешь, где их искать? Я ткнул ему фотографию в лицо и показал на тех, кто меня интересовал. Воробей даже не посмотрел на фотографию, продолжая смеяться. Я вновь ударил его рукоятью пистолета и сломал нос. Теперь он не смеялся. – Кто они и где?! – Да ты же из старых! Из недобитков буржуйских! То-то ведешь себя, как сволочь – нет бы нормально в гости зайти, беленькой взять, стол накрыть. Из-за разбитого носа его слова звучали гнусаво, но даже так в них явственно слышалась издевка. Я ударил его по уху, а затем еще раз по носу. Руки больше не дрожали, а сердце не летело вскачь – сейчас было не до гнева. Мне нужен был ответ от воробья, и я собирался получить его, несмотря ни на что. Теперь он стонал. – Кто они и где?! – Катись к черту! Я решил сменить подход. Поднялся и отошел от воробья, а после этого произнес: – Ты дашь мне ответ. Так или иначе. Либо я выбью его из тебя и затем убью, либо ты дашь мне его сам, и я убью тебя сразу. Он не смотрел на меня, продолжая лежать на кровати. Примерно через минуту он спросил: – А так, чтобы не умирать, можно? – Нет, прости. Твое время в любом случае вышло. – И что, легкая смерть, если я сдам тех двоих? – Да, обещаю. Он долго молчал. Я уже начал думать, что он предпочтет трудный путь. Неожиданно воробей произнес: – Светловолосый с папиросой – его фамилия Цветков. – Хорошо. Где он? – Не знаю. На Ваганьковском, может, на Сетуньском. Я легко справился с этой новостью. Досадно, что кого-то в любом случае уже не выйдет уничтожить, но этого стоило ожидать – все же много времени прошло и времени все больше лихого. – А второй? – Может, все же не будешь убивать меня? – Прости. Я должен это сделать. Воробей протяжно простонал, то ли, осознавая, наконец, скорую смерть, то ли просто от боли. – Расскажи мне про второго и все закончится. – Покажи фотографию еще раз. Я сделал, как он просил. Он долго всматривался в фотографию, потом провел по ней рукой и прошептал: – А ведь казалось, что все будет по-другому… а его ты тоже убьешь? – Да, и его тоже. – Ну и слава Богу, ну и хорошо… Воробей начал терять сознание. Я потряс его за плечи. – Что знаешь о втором?! Где его искать, черт тебя возьми?! Он с трудом открыл глаза и посмотрел на меня с удивлением человека, которого только что выдернули из прекрасного сновидения в неприглядную настоящесть. – Это Андрей. Андрей Овчинников. – Я знаю. Кто он и где? – На «Эйнеме» – конфеты делает. – Это точно? – Как будто у тебя есть выбор. Я встал и навел на воробья ствол пистолета. Прежде, чем я выстрелил ему в голову, он улыбнулся. Возможно, мне показалось, но в этой улыбке было облегчение. Я глубоко вздохнул – его убивать было тяжелее, чем ворону. Ворона сам нарвался на пулю, а воробей смог меня задеть. Неожиданно мертвец пошевелил рукой. Медленно провел по моей ноге. Я вздрогнул и отпрянул в сторону. Мне не показалось – воробей медленно двигал рукой. Я вновь подошел к нему и не удержал проклятия – он еще был жив. Моя пуля не убила его. Воробей смотрел на меня невидящим взглядом, в котором не было и следа разума, но он все еще был жив. Я исправил это, выстрелив ему в сердце. Только теперь я обратил внимание, что вместо грома слышал лишь хлесткий хлопок. Этот звук все равно заполнял собой всю комнатушку, но теперь он не был оглушающим. Я вновь посмотрел на воробья – он больше не двигался. Я прикрыл ему глаза и произнес: – Прости, что так получилось. Я не хотел проявлять такое неуважение.Интермедия №1
13-е марта 1928-го года.Ирина тревожно оглянулась вокруг и зябко поежилась. Ей было очень неуютно, и дело здесь было не только в мартовских сквозняках, бродивших по просторному залу. Само это место вселяло в нее тревогу. Ирина сидела за столиком в ресторане старого отеля «Метрополь». Точнее, нового отеля «Метрополь» – от старого отеля здесь осталось только здание. Ни стульев, ни столов, ни штор, ни, даже, пепельниц с чернильницами от старого «Метрополя» не осталось. Не осталось и людей. Старый отель отчаянно сопротивлялся красным. В дни боев в Москве он ощетинился ружьями юнкеров, да так, что сам товарищ Фрунзе приказал бить по фасаду из пушек, специально выведенных к Большому театру. Потом здесь был бардак с митингами и съездами, а потом общежитие для партработников среднего звена и их семей, которые за считанные годы довели одно из роскошнейших заведений Старой Москвы до вшей, клопов и муравьев. А потом, будто бы устав ломать несчастное здание, в него вернули гостиницу. Сожгли захваченное паразитами белье, свезли мебель и приборы, экспроприированные с барских усадеб, и сделали вид, что прошлого десятилетия и не было на самом деле никогда. Ирина тоже хотела бы сделать вид, хотела бы поверить собственному вранью о том, что прошлого в действительности не случилось, но у нее это никак не получалось. Она взяла ложечку, чтобы помешать чай, но увидела на приборе следы чьих-то пальцев и отложила его. Нет, этот «Метрополь» в подметки не годился тому – дрянная еда, нахально грубое обхождение и полное отсутствие чувства пышности. За те два раза, что она была здесь до революции, Ирина успела понять, что пышность и характерно московская помпезность были для этого места фундаментально важны, были его душой. Теперь души не было – теперь бархат был просто бархатом, а позолота просто позолотой. Ирина отвлеклась от своих невеселых мыслей и увидела у входа в ресторан знакомую фигуру Цветкова. Фаддей тоже увидел ее, приветственно кивнул и стал пробираться в ее сторону. Он даже не подумал снять верхнюю одежду – так и пошел через весь полупустой зал в бушлате и кепке. Лишь поравнявшись со столиком, за которым сидела Ирина, он разделся и повесил бушлат на спинку стула, а кепку бросил на стол. Судя по всему, Фаддей был не в настроении. Ирине почему-то захотелось улыбнуться от этого. Впрочем, поздоровался он вполне учтиво: – Добрый вечер. – И вам добрый вечер, товарищ Цветков. – Оставь – давай на «ты». – Но вы ведь сами просили… – А теперь прошу на «ты»! Ирина смутилась и опустила взгляд. Цветков это заметил, протянул руку и дотронулся до ее волос: – Прости. Выдался тяжелый день. – Работа? – И работа тоже. Фаддей ответил как-то очень уклончиво, и Ирина поняла, что настаивать не стоит. Работал товарищ Цветков на Белорусско-Балтийском вокзале по имущественной части. Подробнее Ирина не знала, а сам Фаддей не спешил рассказывать. Цветков заказал ужин, попросив перед подачей принести ему рюмку водки. Выпивка, еда и тепло вскоре растопили его настроение, и он стал посматривать на Ирину с желанием. Они оба не строили иллюзий по поводу собственных отношений – им просто нравилось друг с другом спать. По крайней мере, пока что нравилось – за полтора месяца они не успели друг другу надоесть. – Ты сняла номер? – Да, еще утром. Ты останешься на всю ночь? – Да. – А твоя жена не будет беспокоиться? Цветков неожиданно усмехнулся и отпил из бокала – теперь они пили вино. – У нас с ней что-то вроде негласного договора – я не спрашиваю, почему от нее пахнет мужскими сигаретами, а она не спрашивает, почему от меня пахнет женскими духами. – А дети есть? Ирина спохватилась, когда слова уже сорвались с ее губ. Не стоило задавать этот вопрос. Фаддей прежде столь неохотно говорил о семье, что теперь Ирина не знала, какой реакции ожидать, но Цветков вновь усмехнулся, хотя и не без доли грусти: – Есть. Четыре года парню. Темноволосый… – Пошел в твою жену? – Нет, в того, от кого она его прижила. Несмотря на то, что смысл его слов был тяжел, как камень, опускающийся на дно реки, произносил их Цветков легко и непринужденно. Ирине неожиданно пришла в голову мысль, что самоироничная грусть делает его красивым. Фаддей посмотрел красное вино на просвет, а затем залил его в себя, опустошив бокал. После этого он утер рот рукавом и произнес, взяв Ирину за руку: – Поднимайся и готовься. Надеюсь, ты взяла то, что я просил? Ирина кокетливо улыбнулась: – Взяла. И небольшой сюрприз для тебя приготовила. – Что за сюрприз? – Увидишь. Ирина загадочно подмигнула и встала из-за стола. Цветков остался сидеть. – Слушай, возьми вина – хочу выпить. – Хорошо, возьму бутылку. Жди меня. Ирина взяла недорогой номер на втором этаже подальше от элитных номеров уважаемых товарищей и интуристов. При прошлой встрече Фаддей дал ей денег под предлогом оплаты гостиницы для их встреч. Дал много – Ирина единовременно столько в руках не держала уже много лет. И вновь они оба понимали, чем это является и как в действительности зовется. Впрочем, Ирине эти деньги вскоре понадобились, и она была рада, что их удалось добыть, пусть и таким нежданным способом. Она скинула пальто на пол, избавилась от безбожно жавших сапожек и сразу же обулась в дорогие черные туфли – это был подарок Цветкова. Ирина подошла к зеркалу, с отвращением посмотрела на жирное пятно, оставленное то ли прошлым обитателем номера, то ли нерадивым уборщиком, но заставила себя сконцентрироваться. Она внимательно осмотрела свое лицо. «Меланхоличное, как у итальянской актрисы» – так однажды, давным-давно описал ее лицо один хороший человек. Сегодня лицу Ирины явно не хватало свежести, но она рассчитывала, что красиво раскраснеется, выпив вина. Она сняла юбку и бросила ее на стул, рядом с зеркалом – Цветков просил ее снимать юбку еще до его прихода. После этого Ирина надела светлый парик, который Фаддей дал ей еще при третьем их свидании. Качественный, пышный, из натурального волоса – он надежно скрывал шапку угольно черных волос Ирины. Она вновь посмотрела на себя в зеркало – захотелось заплакать. Одна слеза даже побежала по ее щеке, но Ирина быстро стерла ее и больно закусила губу, чтобы прийти в себя. Если нужно быть блондинкой, она побудет блондинкой – не развалится. Теперь она заставила себя улыбнуться своему отражению – хотела соблазнительно, но получилось озлобленно. Ирина тряхнула головой, потом, спохватившись, скинула блузу, чтобы избавиться от лифа, а затем накинула блузу на голое тело. Нужно было сделать еще одну вещь – в той же сумке, где лежали прежде туфли, бывшие теперь на ее ногах, и парик, бывший теперь на ее голове, Ирина принесла и новые наручники. Достать эту вещицу было тяжело и довольно дорого – тут и пригодились деньги Цветкова. Без наручников этот вечер для Ирины не мог удаться. Спинка кровати представляла собой крепкие вертикальные прутья, заканчивающиеся основательной железной рамой. Это был лучший вариант из всех – Ирина еще с утра проверила, что в снятом номере есть подходящая для ее целей кровать. Она пропустила наручники через один из прутьев и положила оба браслета в изголовье. Теперь Ирина снова посмотрела на себя в зеркало и попыталась соблазнительно улыбнуться – на этот раз получилось. Когда Цветков вошел, она все еще стояла перед зеркалом, делая вид, что занята со своим лицом. Это тоже была часть их игры – он входит в комнату, подходит к ней со спины, кладет одну руку ей на ягодицы, а второй проникает под блузку. Сегодня все было, как обычно. Через пару минут она откинула голову ему на плечо и прошептала: – Раздевайся, а я пока налью вина. – Не хочу вино – хочу тебя. – Получишь, но прежде мы выпьем вино – будь послушным и получишь все, о чем можешь мечтать. Он продолжил обнимать ее, но не стал противиться, когда Ирина выбралась из его рук. Откупоренную бутыль из темного стекла и два пустых бокала Цветков оставил прямо на полу рядом с дверью. Ирина прошла к ним и нагнулась, чтобы взять. – Замри. Ирина послушно замерла, и выпрямила спину только спустя минуту, добавив в свои движения неспешной томности. После этого она прошла к окну, поставила бокалы на подоконник и наполнила их. – Ну, чего ты там прячешься?! Плотная штора скрывала от взора Цветкова часть фигуры его любовницы. Ирине явственно слышалось нетерпение в его вопросе. Она надела улыбку и повернулась к Фаддею. Передала ему бокал красного вина, ловившего отблески света лампы своей кровавой поверхностью. Ирина подняла свой бокал и спросила: – За что хочешь выпить? – Не очень-то хочу, так что решай сама. – Хорошо. Тогда за благословенную судьбу, которая позволила двум странным людям найти друг друга! Ирина выпила вино несколькими большими глотками, в голове мгновенно зашумело, а лицо обожгло жаром. Цветков опустошил свой бокал на две трети, а после этого посмотрел краем глаза на фигуру любовницы. Он решительным жестом поставил бокал и протянул руку к ее колену. Ирина отпихнула его руку и отступила назад: – Ляг на спину – сегодня я оседлаю тебя! Он немного потерянно улыбнулся, но подчинился. Ирина мгновенно запрыгнула на него сверху и села Цветкову на грудь. Она взяла его за запястья и завела их за голову своему любовнику. – Что ты?.. Ирина не дала договорить, прижав указательный палец к его губам. – Тсс… Сегодня ты будешь послушным и доверишься мне. Помнишь, я говорила, что у меня для тебя сюрприз? Ирина защелкнула один из браслетов на запястье Цветкова – эти наручники новомодной конструкции запирались и без ключа, одним движением. Он резко задрал голову и увидел наручники, а после этого отдернул второе запястье. – Что за глупость?! – Был когда-нибудь обездвиженным под разгоряченной женщиной? Ирина попыталась сделать свой голос жестким, но сама не переставала улыбаться. Наконец, Фаддей переборол недоверие и ответил на ее улыбку, а затем сам протянул свободную руку к изголовью. Ирина закрыла второй браслет. В следующие десять минут она сделала с ним все, что обещала. Он даже несколько раз назвал ее Ириной, хотя обычно давал другое имя. Она чувствовала себя полностью раскрепощенной, даже более – свободной. Совершенно и целиком освободившейся от всех тяжестей жизни. – Что-то мне… Цветков не договорил. Он часто задышал, как будто начал задыхаться. Ирина мгновенно покинула своего любовника и отошла от кровати, а затем произнесла, трясущимся от напряжения голосом: – Ноябрь 1917-го. Александровский вокзал. Молодой юрист с женой, приехавшие в Москву после свадьбы, и пьяный ты с пистолетом. Помнишь это?! Цветков продолжал задыхаться и смог произнести лишь: – Что ты?.. Ирина испытала вдруг настоящее блаженство – она наконец-то видела Цветкова умирающим. Теперь в ее голосе не было напряжения: – Я убила тебя десять минут назад, Фаддей. Но я мертва из-за тебя уже целое десятилетие. Жаль, что ты умрешь так быстро! Жаль, что не успеешь измучиться, как я! Неожиданно Цветков посмотрел ей в глаза и прокричал через силу: – Да кто ты такая, черт возьми?! – Совсем не помнишь меня, Фаддей? Ирина сдернула с головы ненавистный парик и швырнула его на кровать к ногам Цветкова. – А без этой вонючей шапки тоже ничего не вспоминается? Я та, кого ты сделал вдовой! Я была женой того молодого человека, которого ты застрелил! Цветков ничего не ответил – почти все силы у него уходили на то, чтобы продолжать дышать. – Неужели ты действительно не помнишь? Неужели… неужели я не одна такая? Скольких ты убил Фаддей? – Так… было… нужно… – Скольких?! Он неожиданно резко дернулся, а после этого заговорил сквозь наступающий кашель: – Это… это ведь был… худший день… в твоей жизни… Отчего-то Ирина не смогла стоять на ногах после этих слов. Она оперлась рукой о стену и сползла по ней на пол. Из груди вырвался крик застарелой неутихающей боли. – Самый… худший… худший день твоей жизни… был для меня… всего лишь… четвергом… Кашель стал стихать, затем перешел в крип, а после этого все стихло. Через десять минут Ирина вышла из номера и закрыла его на ключ. Лицо ее было совершенно белым, она чувствовала, что может упасть в обморок в любой момент. Ресторан еще работал – вечер был не такой уж и поздний. Ирина попросила себе чай и села за тот столик, за которым не больше часа назад ужинала с Цветковым. Ей показалось, что здесь пахнет трупом, поэтому она пересела за соседний. С каждым мгновением стальная хватка истерики ослабевала, заменяясь покоем. Ирина отпила чай. Это было недурно, только чуть остыло. Она поставила чашку и забралась рукой в свою сумочку. Достала оттуда старую фотокарточку – молодой человек с серьезным лицом и девушка, которая не может сдержать рвущееся наружу счастье. Девушка одета в свадебное платье, а не в траур – она совсем не похожа на Ирину. Печальная женщина перевернула фотокарточку и написала на обороте карандашом: «Я сделала!» Она оставила фотокарточку на столе перед собой. Неспешно допила чай. Достала из сумочки карманный пистолет и взвела его. Она не знала, кому молиться о том, чтобы он сработал. Пистолет она достала сегодня же днем. Через размышление Ирина пришла к решению убить Цветкова более надежно – ядом. Но сама она так умирать не хотела. Не хотела задыхаться и кашлять. Не хотела даже в смерти уподобляться своему врагу. Ирина приставила пистолет к своему виску, посмотрела на фотокарточку в последний раз и нажала на спусковой крючок.
8
Дмитрий принял гильзу из рук Стрельникова и присмотрелся настолько внимательно, насколько был способен. Форма, именуемая оружейными людьми бутылочной, прямоугольная канавка фланца, небольшой калибр и полное отсутствие хотя бы одной циферки, хотя бы одного символа. Белкин убрал гильзу от лица и моргнул несколько раз, смачивая напряженные глаза – у него не оставалось ни малейших сомнений в том, что в квартире Осипенко он нашел такую же гильзу. Дмитрий вновь подошел к трупу и всмотрелся в раны Родионова. В его разуме начала рисоваться новая картина – первый выстрел мог быть в голову, но маломощная пуля не убила Родионова, поэтому убийце пришлось стрелять второй раз… – Товарищи следователи, ну что, будем опрашивать соседей или завтра уже? Варламов, по-видимому, провел свою воспитательную беседу, и теперь вернулся в квартиру Родионова. Дмитрий неприязненно поморщился – старший милиционер его отвлек. Стрельников поспешно ответил: – Никакого «завтра»! Верните вашего человека к этой двери, а сами следуйте за мной. Митя, вызывайте Пиотровского. Где здесь ближайший телефонный аппарат? Последний вопрос был обращен к изрядно поскучневшему Варламову. Очевидно, старшему милиционеру не улыбалось проводить сегодняшний вечер в опросах местных жильцов. Через пять минут Белкин выбрался из подъезда на сумрачную улицу и направился к выходу со двора. Хитровка продолжала жить своей жизнью, разумеется, не заметив потери одного из своих несчастных пассажиров. Раздавалась женская брань и пьяная песня, донесся из-за крыш громкий звук разбившегося стекла, всполошивший стайку воробьев. Дмитрий отчего-то остановился, увидев, как они вспорхнули в небо, и не мог отвести от маленьких птиц взгляд в течение целой минуты. Ближайший телефонный аппарат вполне ожидаемо находился в местном отделении милиции. Белкин не был уверен, что Пиотровский в этот час все еще был на месте, но дежурный с Петровки обнадежил Дмитрия, сказав, что криминалист еще не уходил. Исполнив поручение, Белкин поспешил вернуться к Стрельникову, однако ошибся в потемках поворотом и оказался не в том дворе. Поплутав по запущенным, грязным переулкам и так и не встретив никого, кроме одного единственного пьяницы, устроившегося на ночь на одной из скамеек, Дмитрий вышел, наконец, к нужному дому. Виктора Павловича Белкин нашел в комнате, соседней с комнатой Родионова. Здесь было так же бедно, но хотя бы чисто. Стрельников уже некоторое время общался с побитым жизнью маленьким человеком, одетым в костюм, который когда-то был вполне пристойным, но теперь представлял собой одни лишь бесчисленные заплатки. Очевидно, это и был нашедший тело Рубанов – приятель погибшего. Дмитрий, вспомнив брошенную между делом фразу Варламова о том, что Рубанов тоже порой привлекал к себе внимание милиции, не смог соотнести ее с человеком, в котором проглядывали то здесь, то там хорошие манеры и воспитание. – …А не появился ли в компании товарища Родионова какой-нибудь новый знакомец в последнее время? Может быть, кто-то преследовал его? – Про то знать не могу, товарищ следователь, мы с Петей… с убитым всегда вдвоем сидели. Так-то у него дружки были, конечно, но это не компания – так, водочная братия. Петя на самом деле человек-то некомпанейский был. Все больше один. Даже выпивал один обычно – меня звал, когда говорить с самим собой надоедало. – А что, имел такую привычку? – Еще как, товарищ следователь! Иногда целыми дням «бу-бу-бу» из-за стены. Поначалу, как его подселили, я раздражался сильно, а потом привык. Ну и во время посиделок тоже частенько, как выключался он. То взгляд в одну точку уставит, то вдруг, наоборот, встанет, забегает, руками махать начнет. И все говорит-говорит-говорит… Рубанов замолчал, а потом бросил взгляд на Варламова, имевшего скучающий вид, и обратился к нему: – Ты уж не серчай, Семен Архипыч, но Петины «безобразия», за которые ты его давил, все чаще вот такими вот разговорами с собой и были. И не трогал он никого, только шумел иногда. – Да ты уж на жалость то не жми, Рубанов! И буянил Родионов, и окна бил, и к женщинам приставал. – Да я и не жму, Семен Архипыч, все понимаю – работа у тебя такая. Виктор Павлович поспешил вернуться к более осмысленному ходу разговора: – Он все время так себя вел, Савелий Владимирович? – Нет, конечно. Вспышками. Мог всю неделю нормальный-нормальный ходить, а оба выходных «бу-бу-бу» за стенкой. – А вчера ночью вы слышали его через стену? – Я вчера вечером немного перестарался, так что часов с восьми уже ничего не слышал. Уж извиняйте, товарищ следователь. Виктор Павлович невозмутимо кивнул, делая пометку в своих записях, а вот Дмитрия начинала разбирать досада на этот мир алкоголиков, которые ничего не видят, не слышат и не запоминают. Пока что убийство Родионова выглядело «висяком» – одной гильзы мало, обязательно нужно было что-то еще. Чтобы убийцу кто-нибудь увидел или услышал, чтобы он оставил какой-нибудь осязаемый след. – Получается, звуки выстрелов вы тоже не слышали? – Получается, что так, товарищ следователь… только я вот тут понять не могу одного – даже сильно перебравший, я все равно должен был хотя бы проснуться от выстрелов. Тут стены-то нарошечные – я иногда даже то, о чем именно Петя болтал, мог услышать, а выстрелы должны были прозвучать так, как будто я в той же комнате нахожусь, но не было звуков таких. Простите еще раз, товарищ следователь, тут вам, наверное, соседи мои смогут помочь. – А о чем он обычно говорил, Савелий Владимирович? Белкин посмотрел на Виктора Павловича, но по его лицу нельзя было прочитать подоплеку этого вопроса. Дмитрий глянул на Варламова – тот тоже был немного удивлен. – Да разное самое. Про фотографии любил, про женщин, ругался много, ну и о себе тоже. – А что о себе? – Ну, много чего, товарищ следователь. Я, считайте, всю его судьбину из этих разговоров успел узнать. Про мать, про лапти, про семнадцатый год. – А скажите, Савелий Владимирович, он упоминал о чем-то необычном, каком-то событии в своей жизни, может в молодости, которое могло бы подтолкнуть кого-нибудь к тому, чтобы его убить? – Так вы думаете, что кто-то услышал слова Пети и решил его убить за прошлое? – А было в этом прошлом что-то такое… Виктор Павлович осекся внезапно и бросил быстрый взгляд на Варламова, а после этого закончил: – …что могло бы подтолкнуть кого-нибудь к убийству? Рубанов, казалось, был немного ошарашен тем, что его приятеля могли убить из-за глупой привычки болтать с самим собой. Потом ошарашенность прошла и сменилась испугом. Рубанов поочередно посмотрел на Стрельникова, на Варламова и, наконец, на Дмитрия, потом опустил взгляд и уставился на свои руки: – Да я и не помню уже толком, товарищ следователь. – Было или нет, Савелий Владимирович? Голос Стрельникова вдруг стал сухим и жестким, что очень контрастировало с его привычным добродушием. Через несколько секунд Рубанов глухо произнес: – Нелегкая у Пети жизнь была. И гадости человеческой в ней было много. Проблема в том, товарищ следователь, что если дело в прошлом, то слишком за многое его могли убить. – Например? Рубанов неожиданно поднял голову и посмотрел растерянно: – Например? Товарищ следователь, у вас не найдется папироски? Белкин полез в карман, но Варламов оказался быстрее. Рубанов долго прикуривал, будто откладывая свой ответ. Наконец, он заговорил: – Например, Петя и еще несколько с ним изнасиловали молодую женщину в начале 1919-го года. Он рассказал, что она вырвалась и убежала в зимнюю ночь в том, что успела схватить. Он рассказал, что жил потом в этой комнате и продавал книги, оставшиеся от несчастной женщины. Он даже запомнил, что там были почти одни лишь стихи. Еще, например, Петя служил в ЧК, правда, недолго – в 21-м или 22-м году. Говорил, что именно после этого начал пить, не останавливаясь. Например, Петя и те, кто был с ним, застрелили человека в январе 1918-го года. И еще одного чуть раньше. Товарищ следователь, с точки зрения любой морали Петя был плохим человеком и сам это осознавал. Но никто не наказал бы его сильнее, чем он наказывал себя сам, медленно убиваясь этой дрянью. В глухой тишине, воцарившейся в комнате, чрезвычайно громким показался звук карандаша, скребущего бумагу – Виктор Павлович сделал очередные записи, а потом неожиданно бросил: – А в подавлении Тамбовского мятежа он участвовал? Дмитрий вновь посмотрел на коллегу. Белкин прекрасно помнил об этой детали биографии первой жертвы странных маломощных пуль, но не ожидал, что Виктор Павлович решит так сразу потянуть за эту тонкую ниточку. Рубанов выпустил дым из легких и отрицательно помотал головой: – Вот об этом я никогда от Пети не слышал, товарищ следователь. Впрочем, я не могу ручаться, уж простите. Через два часа, когда до превращения сегодня в завтра оставалось около двадцати минут, Стрельников и Белкин смогли наконец покинуть Хитровку. За это время Виктор Павлович успел пообщаться с остальными соседями Родионова. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, Родионова никто добрыми словами не вспоминал, но и радости от его смерти никто не испытывал или, по крайней мере, не показывал. Дмитрий вместе с непрестанно ворчавшим Нестором Адриановичем поработал успешнее – им удалось найти вторую гильзу. Пиотровский тоже сразу вспомнил убийство на Тверской и стал от этого еще более ворчливым, хотя это казалось почтиневозможным. У криминалиста все еще не было ответа, из какого оружия были убиты Осипенко и Родионов. Все очевидные варианты он уже отмел и теперь собирался заняться неочевидными. Организовать вывоз тела вечером не получилось – в Боткинской сказали, что до утра труп принять не смогут, потому что не смогут. В другие больницы даже звонить не стали. Пришлось оставить труп до утра в опечатанной квартире в надежде на то, что за ночь к нему никто не сунется. От этого беспорядка даже всегда спокойный Стрельников в сердцах хлопнул рукой по столу. Стоило Пиотровскому спрыгнуть из кузова их грузовичка, как Виктор Павлович придвинулся к Белкину: – Не хотелось при Несторе Адриановиче, а то он еще не так что-нибудь поймет, и завтра на Хитровке уже не протолкнуться будет от Владимирова и его особой группы. Что же вы обо всем это думаете, Митя? – Думаю о том, насколько связаны эти два убийства. – И насколько связаны их жертвы. Мне кажется, найдя ответ на один вопрос, мы найдем ответ и на другой. – А если оба ответа будут отрицательными, Виктор Павлович? – Тогда дело Осипенко будет грызть ОГПУ, а дело Родионова мы. Не знаю, какие успехи у Владимирова, но в наши перспективы мне не очень верится. А еще мне не верится в то, что ответы будут отрицательными. – Может, в Москву просто завезли какое-то необычное оружие, и теперь оно будет ходить по рукам у разномастных мерзавцев? – Не любят разномастные мерзавцы необычное оружие – слишком легко отследить. Кроме того, представьте: ну вот берем мы такого субчика с редким пистолетом, а на столах у нас, например, пять дел с ранениями из таких пистолетов – соблазн завязать их на одном человеке ужасный, прямо-таки трудно устоять. И большинство заинтересованных лиц, и по ту, и по эту сторону уголовного кодекса это понимают. Здесь и прячется главная непонятность для меня, Митя. Вот я профессионал, которому поручают убить уважаемого товарища Осипенко. Я беру редкое оружие, которое никто никогда в Москве не видел. Разумнее всего для меня было бы оставить оружие рядом с трупом Осипенко или выбросить в ближайшую большую воду с течением или глубоким дном. Но вместо этого я убиваю хитровского алкоголика Родионова из этого же пистолета, прекрасно понимая, что теперь редкий пистолет, это почерк, а не способ запутать след. Не понимаю. – А может быть, он просто идиот? – Нет. Не похоже. Он качественно исполнил убийство Осипенко. Он прошел незамеченным к Родионову. Более того, смог сделать так, чтобы на этот раз даже выстрелы никто не услышал. И это отдельная загадка. – Послушайте, Виктор Павлович, а что если кто-то специально ведет нас по ложному следу? Профессионал, убивший Осипенко, действительно решил бросить оружие в большую воду – он нашел дурачка, который купил у него пистолет и пошел с этим пистолетом на убийство Родионова, отталкиваясь от мотивов, которые мы пока что не понимаем. То есть, это одно оружие, но два совершенно разных убийства. – Может быть, может быть… Стрельников замолчал, размышляя, потом хлопнул себя по колену: – Вилами по воде писано! Нужно больше! Нужны свидетели, нужен пистолет, нужно, чтобы он или они ошиблись, потому что пока мы торкаемся, как новорожденные щенки.9
Дмитрий застал Георгия Лангемарка, когда тот выходил из своего подъезда. Георгий был задумчив и сконцентрирован на чем-то, поэтому даже не сразу ответил на приветствие друга. – Добрый день, Митя. Слушай, у меня сейчас кое-какие дела – подходи завтра, если получится. У меня для тебя есть несколько новых «квадратов», которые тебе в прошлый раз понравились. Белкин расстроено кивнул, пообещал прийти завтра и уже собрался уходить, но Георгий окликнул его: – А поехали со мной! Возможно, тебе это тоже будет интересно. – А куда ты? – В «Восточку»… в Институт востоковедения. Меня пригласили там провести лекцию. – Там будет много людей? – Надеюсь! Георгий посмотрел в глаза Дмитрию и спокойным голосом добавил: – Да, там будет много людей, но мне будет приятно, если ты составишь мне компанию. Белкин подавил первый порыв и кивнул. – Хорошо. А меня вообще пустят? – Это не программная лекция, так что вход свободный. Через десять минут они забрались в трамвай. Белкин инстинктивно отшатнулся, увидев копошащегося шумного монстра из ночных кошмаров, но заставил себя пойти за Лангемарком. Отступать было поздно – он уже согласился поехать. Дмитрий попытался составить корректный магический квадрат в уме, но гомон был нестерпимым и разрушал его мысли. Чтобы хоть как-то спрятаться от человеческого шума Белкин решил породить свой шум: – А на какую тему будет лекция? – Помнишь, в прошлый раз я работал над очередным пересказом истории сорока семи ронинов? Дмитрий помнил лишь что-то очень расплывчатое с числом сорок семь, но все равно кивнул. Георгий продолжил: – В той книжке, которая попала ко мне в руки, действие было перенесено из среднего Эдо в ранний Тайсе – начало десятых годов. Работа сравнительно старая – для автора ранний Тайсе был современностью. Мне показалось забавным – если вдуматься, то период Тайсе был эпохой, вполне смахивавшей на Сегунат из-за расстройств императора… Ты ведь половину из того, что я сказал, не понял? Георгий оборвал себя на середине фразы и посмотрел на Дмитрия с улыбкой. Белкин улыбнулся в ответ и утвердительно кивнул. – Прости, увлекся. В общем, просто слушай. Все эти периоды на самом деле не очень важны – история вневременная. Надеюсь, тебе будет интересно. Георгий вдруг отвернулся и уставился в окно. Даже Дмитрий, при всех своих проблемах в чтении человеческих чувств, понял, что его друг просто волнуется. Чтобы немного растормошить Лангемарка он спросил: – Так о чем эта история? Георгий бросил, не отвлекаясь от созерцания заоконья: – О мести. Оставшаяся часть пути прошла в молчании. Людей вскоре стало чуть поменьше, и Дмитрий даже смог получить некоторое удовольствие от поездки. Московский институт востоковедения приютился в Большом Златоустинском переулке, неподалеку от Лубянской площади. Это был аккуратный двухэтажный особнячок. Несмотря на близость к шумным центральным улицам, в субботу здесь царила почти что тишина и безлюдье. У дверей курил представительного вида зрелый мужчина, у которого на лице было написано академическое звание. Неподалеку приткнулась стайка из трех молодых парней, оживленно споривших о том, куда им сейчас направиться. Лангемарк уверенно прошел к дверям. Дмитрий следовал за ним, наслаждаясь простором и прохладой после тесного трамвая. Георгий приветственно поднял руку: – Добрый день, Николай Михайлович! Куривший человек кивнул, но ничего не ответил. Георгий поравнялся с ним, поздоровался за руку, а после этого, не задерживаясь, прошел внутрь. Здесь народу было больше, хотя никакой толпы не было и в помине. Лангемарк ориентировался в этом здании, как у себя дома и, похоже, многих здесь знал, потому что, как со старым другом здоровался едва ли не с каждым вторым встречным. Вскоре они оказались в небольшой аудитории, в которой, несмотря на конец мая, было весьма прохладно. Георгий по-хозяйски уселся за преподавательский стол и углубился в записи. Дмитрий, не желая ему мешать, сел вплотную к стене и прижался к ней спиной, чувствуя приятный холодок. Через сорок минут, когда аудитория заполнилась примерно на половину, к Георгию подошел низенький, немного нескладный человек с толстыми стеклами в очках. Лангемарк тут же подскочил на ноги, возвысившись над подошедшим едва ли не на две головы. Человек заговорил неожиданно поставленным громким голосом, обращаясь к аудитории: – Добрый день, товарищи учащиеся и просто интересующиеся! Спасибо всем, кто пришел – могу вас заверить, что вы не потратите время впустую. Сегодня лекцию прочтет большой друг нашего института, выпускник Сан… Ленинградского государственного университета, переводчик и японовед товарищ Лангемарк. Георгий Генрихович, приступайте! Невысокий человек отошел от кафедры и занял место в первом ряду. Георгий обвел аудиторию взглядом, то же решил сделать и Дмитрий. В основном пришли студенты, но нашлось и несколько человек постарше. Кто-то скучал, кто-то был заинтересован, кто-то уже что-то записывал. Взгляд Белкина наткнулся на девушку, сидевшую через два ряда от него. Уже в мае у нее были выгоревшие на солнце волосы, при этом кожа оставалась бледной. Эта странность и привлекла внимание Белкина, но не более чем на несколько секунд, так как Георгий начал говорить: – Спасибо, Федор Ипполитович. Добрый день, товарищи слушатели! Тема у нас сегодня довольно специфическая, поэтому я хочу задать несколько вопросов, чтобы понять степень вашей осведомленности. Итак: кто такой самурай? На этот вопрос ответ нашелся довольно быстро, но вот, ни о ронинах, ни об «Инциденте Ако» никто из присутствующих не смог ничего сказать. – Хорошо. В первую очередь, следует разобраться с понятием «ронин». Фундаментальной особенностью самураев, как социального слоя, был профессионализм. Именно благодаря восприятию воинского искусства, как своей профессии самураи в ранние периоды и смогли отделиться от прочих вооруженных людей. Для самурая война – это работа, а за работу полагается награда. Тот, кто оплачивает самураю его службу, тот, кто дает ему возможность заниматься воинским ремеслом, является для самурая самым важным человеком. Весь корпус самурайской этики вертится вокруг верности работодателю. Смерть за своего работодателя – есть лучшая смерть. Его смерть – есть величайший позор. Месть за его смерть – есть абсолютная цель. Однако во все эпохи вплоть до отмены самурайства количество профессиональных воинов было намного больше необходимого. Отсюда берется ронин – самурай, у которого по какой-либо причине нет работодателя, нет господина. Этот человек может соответствовать всем самурайским добродетелям, но с точки зрения традиционной воинской этики он просто-напросто бесполезен. В то же время японское общество относилось к ронинам с определенным пониманием – их положение само по себе не считалось бесчестьем. Ведь причины, по которым самурай остался без господина, могли быть очень разнообразны и не обязательно являлись следствием ошибки или проступка самурая. Так, по завершении Гражданской войны XV-XVI веков, после объединения страны под властью сегунов Токугава, многие феодалы массово сократили свои личные самурайские армии, и в положении ронинов оказались тысячи воинов, которые не совершили ничего порочащего их честь. «Увольнение» самураев и после этого было главной причиной появления ронинов в обществе. Однако существовала и еще одна значительная причина появления ронинов – смерть господина. Если господин умирал от естественных причин, то обычно это не считалось позором для его самураев, поэтому они, либо становились ронинами до того момента, когда найдут себе нового господина, либо поступали в услужение к наследнику своего прошлого работодателя. Но если самурай не смог уберечь господина от насильственной смерти, он терял свою честь и получал очень весомую причину для самоубийства. Собственно, выбор для самурая в такой ситуации был прост – самоубийство или месть. Только так можно было восстановить свою честь. Георгий сделал паузу и глотнул воды. Дмитрий слушал с интересом, отложив все прочие мысли – ему нравилось слушать друга, когда тот говорил о том, что было таким чуждым для Белкина, но в то же время притягательным и отчего-то знакомым. Как будто он уже знал однажды все эти правила, видел настоящих самураев на улицах, общался с ними, но напрочь забыл об этом и теперь мог вспомнить лишь усилиями Георгия. – …Тут следует заметить, что часто отношения между самураем и господином выходили за рамки чисто деловых. Так, самурай мог считать себя слугой человека, который спас ему жизнь. Молодые люди, которые лишь учились воинскому ремеслу, часто воспринимали своих наставников как господ. Понимание связи между слугой и хозяином вообще является одной из основ японского мировоззрения. Самурай служит своему господину, но и сам господин – всего лишь слуга императора, который является абсолютным господином. Таким образом, преданность императору практически никогда в истории не конфликтовала с преданностью господину. Возвращаясь к ронинам – даже если самурай стал ронином, не допустив бесчестия, он все равно воспринимался властью и обществом с опаской, ведь самурай без хозяина подобен мечу в руках слепца. Итак, далее мы обратимся к одному из самых ярких проявлений природы самурайства на примере истории о сорока семи ронинах из Ако. В 1701-м году Асано Наганори, правитель княжества Ако, расположенного на юго-западе острова Хонсю, был призван в Эдо – это старое название современного Токио. Он был вызван для исполнения чиновничьей службы при дворе своего господина – сегуна Токугавы Цунаеси. В столице у него сложились плохие отношения с другим слугой сегуна Кирой Есинакой. Дошло до того, что в апреле того же года, после очередной ссоры Асано напал на Киру с обнаженным мечом. После этого сегун Цунаеси, который в течение всего своего правления боролся за порядок и неукоснительное соблюдение законов в стране, приказал Асано совершить самоубийство. Когда Асано исполнил приказ, земли его семьи были конфискованы государством, а все его самураи оказались ронинами. Перед ними встал выбор, о котором я рассказывал. Впрочем, формально эти самураи не допустили бесчестия – их господин погиб не в бою и сам совершил самоубийство лишь для того, чтобы избежать суда над собой. И казалось, что слуги Асано поняли ситуацию именно так – они не совершили самоубийство и не стали мстить Кире. Ронины Асано занялись отвлеченными делами. Стали торговцами, ремесленниками и монахами. Их лидер Оиси Кураносукэ перебрался из Ако во второй город государства Киото, где стал прожигать жизнь. Он развелся со своей женой и взял наложницу. Оиси предавался пьянству, разврату и увеселениям. С течением времени бдительность Киры, справедливо опасавшегося мести от слуг Асано, ослабла. Он видел вечно пьяного и расслабленного Оиси, торговцев рыбой, лысых священнослужителей и мастеров гравюры, но он не видел одержимых жаждой мщения воинов. В одну из ночей января 1703-го года полсотни воинов проникли в дом Киры в Эдо. Они прекрасно ориентировались внутри, ведь один из них сблизился с архитектором этого поместья, женившись на его дочери. Все воины были великолепно вооружены, ведь на протяжении почти двух лет они тайно провозили оружие в Эдо, где тогда действовало запрещение на ношение мечей. Вел отряд Оиси, который оставил свою разгульную жизнь так же легко, как принял. В поместье завязался жаркий бой, в котором ронины одержали победу, но среди убитых и раненых Киры не оказалось. Он скрылся в доме вместе с женщинами, и ронины долго искали его. Наконец, Оиси обнаружил тайный проход за стенным свитком. Проход вел во внутренний дворик, где Оиси поразил последних охранников Киры, а после этого объяснил ему, что все нападавшие были раньше слугами Асано и теперь мстят за него. Так как Кира сам был самураем, Оиси предложил ему совершить самоубийство, но Кира не нашел в себе смелость, которую проявил два года назад Асано, поэтому Оиси сам убил его. Отрубленную голову Киры ронины принесли на могилу своего господина, восстановив, таким образом, свою честь. За ношение оружия в Эдо и за убийство государственного служащего им не грозило ничего иного, кроме смерти. При этом мнение общества разделилось. С одной стороны, закон, без которого государство невозможно, требовал смерти для сорока семи, но с другой стороны, месть ронинов понималась многими, как верное следование пути воина. В итоге сегун отказался сохранить ронинам жизнь, но позволил им самим убить себя. А сразу после их смерти начали появляться работы, прославлявшие ронинов за их выступление. И государство не стало противиться этому. Из сорока семи был помилован лишь один – ему было приказано выжить и сообщить все подробности мести ронинов на родине их господина в Ако. С тех пор история сорока семи является одной из самых популярных в японской культуре. Театральные постановки, литературные произведения, живопись – ронины из Ако являются одним из внутренних символов Японии. Хотя стоит отметить, что далеко не все современники, даже из числа самураев, поддержали их выступление. Так, авторитетный самурай Ямамото Цунэтомо уже через несколько лет после гибели ронинов говорил, что те пошли против пути воина, когда решили выжидать, и что им нужно было ударить сразу, пусть даже их удар и не имел бы в таком случае шансов на успех. Мне, честно говоря, это кажется глупостью – еще Миямото Мусаси, умерший за полвека до выступления ронинов, писал, что цель воина – поразить врага любым способом, и средства совершенно не важны, как и время.10
Лангемарк перевел дух впервые за последние минут сорок. Похоже, он, наконец, закончил свой экскурс. Все эти сорок минут он говорил о том, как история сорока семи тесно вплетена в само мышление японцев. Говорил о преданности и иерархичности. Об абсолютной роли организаций в жизни любого общества. И о важности кодексов, уставов, философских трактатов и комментариев к ним, ведь именно из них складывается культурная часть тела нации. Он произнес слово «нация» и осекся, оглядев аудиторию, потом тряхнул головой и продолжил с того же места. Белкин слушал, теряя сложные термины по дороге, но не останавливаясь для того, чтобы их подобрать. Георгий говорил о чем-то странном, чем-то притягательном и манящем – о возможности быть преданным. Дмитрий не мог себе этого объяснить, но чувствовал, что прекрасно понимает этих странных самураев с их возведением преданности в абсолют и полным отречением от собственных душевных порывов. Он почувствовал вдруг, что замерзает, но вскоре понял, что это продолжает холодить спину белая стена аудитории. Георгий между тем упер взгляд в одну точку, приходя в себя после долгого выступления. Спустя минуту он тряхнул головой и спросил: – У кого-нибудь есть вопросы? Кто-то позади Дмитрия поднял руку. Лангемарк перевел туда взгляд и отчего-то улыбнулся. Белкин обернулся и увидел, что руку подняла та самая девушка с выгоревшими волосами. – Вы говорили об отмене самурайства. Это значит, что теперь их нет? – Совершенно верно. В конце прошлого века император отменил самурайство, как социальный класс. Однако невозможно ведь сказать целой социальной прослойке, что ее больше не существует – бывшие самураи стали государственными служащими. Армейскими офицерами, чиновниками, полицейскими. Многие из них передали свои традиции своим потомкам. Новый вопрос был от низенького человека, начинавшего лекцию: – Верно ли будет считать всех бывших самураев ронинами, Георгий Генрихович? – Нет, Федор Ипполитович, дело в том, что, как я уже сказал, подавляющее большинство самураев стало частью государственного механизма новой Японии, таким образом, правильно было бы считать их не ронинами, а самураями непосредственно на службе у императора. Низенький человек кивнул, а очередной вопрос вновь последовал от девушки с выгоревшими волосами: – А как вам кажется, уничтожение императором старой военщины в лице самураев могло быть одним из способов сдерживания империализмом воли японских рабочих масс к свободе? Белкину показалось, что Георгий сейчас рассмеется, но Лангемарк быстро справился с собой: – Простите, что отвечаю вопросом на вопрос, но каким же образом это могло помочь императору в подавлении народной воли? – Ну… крестьяне и рабочие веками были угнетены этими воинами, которые не выполняют никакой работы, лишь пользуясь трудами других. Император отменил их и таким образом сделал вид, что пролетарии теперь свободны. – Простите, как вас зовут? – Вольнова Александра. Учащаяся историко-философского отделения МГУ. – Даже так? А по отчеству? – А зачем вам? Георгий вновь отчего-то улыбнулся, а затем ответил: – Товарищ Вольнова, я понимаю ваше желание провести прямую связь между положением дел в нашей стране и в Японии, но боюсь, что это будет труднее, чем вам кажется. Начать стоит с того, что почти до самого конца прошлого века в Японии фактически не было тяжелой промышленности, так что не было и фабричных рабочих. Сам рабочий класс там был представлен почти исключительно крестьянством. Городских ремесленников правильнее было бы относить к буржуазии. По крайней мере, то, что у нас называют «буржуазным мышлением», им весьма свойственно до сих пор. Что касается угнетения крестьянства самураями – да, оно действительно имело место быть. Именно поэтому упразднение самурайского сословия, а также уничтожение всех феодальных владений императором Мэйдзи нашло огромную поддержку в широких слоях населения. Иными словами, император не подавлял народную волю, а наоборот, удовлетворил ее. Александра Вольнова торопливо записала что-то и вновь задала вопрос, уже даже не поднимая руку: – То есть, вы считаете, что император сам начал переход японского общества от феодализма к капитализму? Но зачем ему это потребовалось? – Для концентрации власти в своих руках, разумеется! Император уничтожил старые дворянские титулы и привилегии, уничтожил феодальную систему, уничтожил ее опору в виде самурайского сословия. Теперь Япония единая страна с развитыми органами местной власти, полностью подчиненная воле императора, поддерживаемого, в том числе, и бывшими самураями. – А вы говорите, что он не подавлял народную волю – да ведь все его действия направлены на создание жадной капиталистической системы, а не нормального общества! – Ну, с тем, что реформы Мэйдзи были направлены на создание капиталистического общества я и не спорил. А по поводу подавления народной воли хочется отметить, что к моменту воцарения Мэйдзи Япония была отсталой аграрной страной, почти полностью отрезанной от международного общения. Теперь это развитая промышленно и технологически страна. За прошедшие шестьдесят лет уровень жизни населения вырос на порядки. Были созданы десятки… да даже не десятки – сотни тысяч рабочих мест. Развитие здравоохранения и образования позволило повысить продолжительность и качество жизни. Разве это не есть удовлетворение народной воли? – Вы как будто защищаете японский империализм! Как ни странно, этот возглас раздался не от девушки, а от одного из молодых людей, сидевших на заднем ряду. – Позвольте, я просто отвечал на вопрос товарища Вольновой и констатировал факты. Я вовсе не утверждаю, что японский империализм – это положительное явление. В конце концов, именно из-за успешных реформ Мэйдзи Япония превратилась в угрозу России, а теперь является угрозой Советскому Союзу. – Ну, уж угрозой! Сейчас не царизм, чтобы каких-то самураев бояться! После этих слов, брошенных все тем же молодым человеком, Георгий отвернулся от аудитории и начал наливать себе воду из графина. Дмитрий по его фигуре видел, что с другом не все в порядке, но когда Лангемарк обернулся, на лице у него была спокойная улыбка. Он глотнул воды и спросил: – Еще вопросы? Больше вопросов не было. Дмитрию отчего-то показалось, что лекция о самураях перешла совсем не в то, во что хотелось бы его другу. У Белкина был по итогам услышанного один вопрос. Он хотел задать его после, когда они будут вдвоем, но теперь рука сама поднялась вверх. Георгий посмотрел на него не без удивления, но кивнул, давая слово. – А путь воина, о котором вы говорили прежде – им заинтересовался кто-нибудь за пределами Японии? – Конечно! Я, например! – Я имею в виду, пытался ли кто-нибудь из неяпонцев по нему идти? Георгий заглянул другу прямо в глаза, и Белкин не успел спрятаться. Это был жесткий и тяжелый взгляд, как будто Лангемарк увидел в Дмитрии что-то, чего раньше не видел. Наконец Георгий ответил: – Итальянский писатель Эмилио Сальгари в 1911-м году совершил самоубийство, вспоров себе живот и перерезав горло – традиционным для самураев способом. Но вообще, следование по пути самурая затруднено для европейцев тем, что мы не знаем этого пути – литературного перевода большинства трудов по этой теме до сих пор не существует, а если и существуют, то никогда не публиковались широко. Мы слишком мало понимаем этот путь, чтобы по нему идти. Впрочем, разве так уж он отличается от европейских рыцарских традиций, например? Конечно, есть в самурайстве свои характерные черты, но основные идеи верности, чести и готовности принести себя в жертву своему делу являются общими… На этом лекция была завершена. Вопросов больше не было, поэтому уже через десять минут Лангемарк вместе с Белкиным покинули институт. Георгий был молчалив, но Дмитрий списал это на усталость – в конце концов, его друг только что говорил больше полутора часов подряд. Неожиданно Георгий бросил через плечо: – Я не хочу домой. Здесь недалеко есть одно кафе – пойдем туда. Дмитрий не стал спорить. В действительности ему самому изрядно хотелось пить и пока что не хотелось вновь засовываться в трамвай. Они устроились в душном помещении и взяли себе по лимонаду. Георгий вдруг с озлоблением дернул верхнюю пуговицу на гимнастерке и бросил в пустоту: – Неужели трудно было на улице пару столов поставить?! Ему никто не ответил, и Лангемарк снова ушел в себя. Дмитрию подумалось, что в таком настроении Георгий был очень похож на него самого, находящегося в приступе человеконеприятия. – А почему ты стал милиционером? Этот вопрос прозвучал ни с того ни с сего. Белкину не нравилось делиться с другими подобными деталями, но он рассудил, что с Георгием все же можно общаться без стеснения: – Детская мечта, представь себе! Увидел мальчиком полицейского следователя и решил, что эта работа по мне. – Почему? Это одна из вещей, которые я не могу понять относительно тебя. – Не знаю точно. Сначала просто была мечта, а потом… я ведь с детства понимал, что отличаюсь. И родители разное пробовали, чтобы мне было легче сходиться с людьми, но сработало это плохо. А ведь если вдуматься, то работа следователя как раз для меня. Я наблюдательный, у меня хорошая память на детали, а еще у меня есть черта – мне всегда неудобно, когда я не один. Любое окружение мне кажется злым, причем забитый людьми трамвай мне кажется не менее злым, чем комната мертвеца. Может быть это странно прозвучит, но меня за то и ценят на службе, что я не стесняюсь мертвецов и людской грязи. А почему ты спросил? – Потому, что ты заинтересовался путем самурая. – А что в этом такого? – Да ничего… Они все свели к своим любимым разговорам, точнее, к единственным разговорам, на которые способны, а ты спросил о важном. Причем, именно о том, интереса к чему я от тебя не ожидал. Георгий приложился к холодному напитку. Белкин решил, что раз сегодня день разговоров о прошлом, то можно спросить и ему: – А ты почему заинтересовался Японией? – Отец там побывал однажды. Привез несколько книг и безделушек. Я заинтересовался этим всем, но тогда не смог ничего понять. Потом изучал нашу филологию, потом был 17-й… В общем, к 20-му году я уже выучил японский язык и перевел таки старые книжки, привезенные отцом. – И о чем они были? – Честно? В основном любовные романы, причем – как бы это сказать? – весьма свободной манеры повествования. Забавно – отец был инженером и вообще-то я в детстве мечтал пойти по его стопам. Сложись по иному, может быть, я сейчас бы проектировал что-нибудь. Ракеты, например. – Можно я к вам присоединюсь? Их разговор прервали самым неожиданным образом. Дмитрий поднял взгляд и увидел рядом с собой давешнюю девушку с выгоревшими волосами – Александру Вольнову. Георгий тут же подскочил, но она бросила на него немного раздосадованный взгляд. – Бросьте – это теперь не модно. Георгий легко улыбнулся этим словам и указал Вольновой на свободный стул. Дмитрию сразу стало неуютно рядом с ней. Он немного отодвинулся и уставился в окно. Вольнова, между тем, заговорила: – Простите, если была немного навязчивой на лекции. Мне нужно написать статью о том, какие перспективы есть у японских коммунистов скинуть империализм в течение ближайших десяти лет. Достать что-то из наших газет трудно, а совсем уж выдумывать не хотелось. Вот я и обратилась к лекции, которая хоть как-то тематически связана, но только вы все про каких-то воинов говорили, а мне нужно было про другое. – Ну, очень надеюсь, что смог помочь. – Не смогли. Если ваши слова верны, никаких перспектив у японских коммунистов нет. Причем, не только в ближайшие десять лет. – Уж простите. – Я не могу написать об этом. – Понимаю. Установилось молчание. Через минуту Вольнова обратилась вдруг к Дмитрию: – А вы тоже занимаетесь изучением Японии? Белкин отвернулся от окна и почти сразу смог заставить себя держать контакт глаз с девушкой. – Нет, я милиционер. – Хм, по вам не скажешь. Тоже пишете что-то? – Нет, а почему вы так решили? Девушка неожиданно смутилась, и Дмитрий почувствовал себя виноватым. – Не знаю. Просто… не по профессиональному же интересу вы пришли на эту лекцию? – Мы приятели с Георгием Генриховичем. Сегодня я планировал зайти к нему в гости, но он уже собирался на лекцию – так я на ней и оказался. – Вы этим увлекаетесь? – Чем? – Ну, самурайством, Японией. Вы просто спросили в конце так, как будто вам это все очень интересно. Дмитрий не нашелся что ответить. Скорее у него у самого возник вопрос: что такого странного он спросил у Лангемарка, что на это все обратили такое внимание? Так или иначе, девушка ждала ответа. – Георгий хороший рассказчик, а хорошего рассказчика всегда интересно слушать, но я бы не сказал, что интересуюсь этим. Мне больше головоломки нравятся. – Какие головоломки? Белкин уже хотел начать отвечать, но Георгий перебил его. Он посмотрел на часы, единым глотком допил лимонад и поднялся на ноги: – Извините, но я вынужден откланяться – дела не ждут. Дмитрию хотелось пойти с другом, но он больше не стал навязываться. Стоило Лангемарку выйти из кафе, как девушка закурила, будто бы при нем стеснялась. После этого она спросила: – Так какие головоломки?11
Я смог достаточно быстро отыскать Андрея Овчинникова. Воробей не соврал – его давний приятель действительно работал на старой кондитерской фабрике «Эйнем», которая уже почти десять лет называлась «Красный октябрь». А я ведь помню эйнемовские сладости, точнее их обертки – пухлощекие довольные дети всех сортов и расцветок. На пачке печенья гигантский карапуз перешагивал Москву-реку, направляясь к фабрике. Он чем-то был похож на большевика с известной картины. Как ни странно, на фабрике все еще делают сладости. Но фантики и обертки от «Красного октября» мне запомнились мало, кроме одной – на ней были стихи Маяковского и глупого вида красноармеец. Это было году в 25-м. Овчинников, в отличие от воробья, не терял время зря – на «Красном октябре» он работал главным технологом. Оказывается, именно его персоне сладкоежки всей страны должны быть благодарны за неизменность вкуса сливочной тянучки, помадок с цукатами и ирисок «Кис-кис». Следить за Овчинниковым было легко. Вся жизнь его перетекала от дома до работы и обратно. Все маршруты его были очевидны и прямы. Он не сворачивал в подворотни, не останавливался под негорящими фонарями, не ходил пешком, если мог проехать на трамвае. И он почти никогда не оставался один. У меня возникла проблема. Дома с Овчинниковым всегда оказывалась либо его жена, либо сын. А на фабрику проникнуть было не так уж легко, кроме того, я изрядно сомневался, что смогу улучить момент и застать его там одного. Планируя уничтожение Осипенко, я не думал, что удастся еще кого-то из их дикой банды выловить спустя столько лет. Потом мне повезло натолкнуться на воробья, а теперь мне не хотелось останавливаться. Трое уже были мертвы, я знал, где четвертый, но это ведь далеко не все из тех, кто должен умереть. У меня была ниточка к Овчинникову, но мне хотелось большего. Хотелось, чтобы от Овчинникова ниточки разошлись в разные стороны. Конечно, шанс на то, что он, спустя столько лет, знает, где искать своих дружков, был крайне мал, но он был, и я не собирался от него отказываться. Мне нужно было время наедине с Овчинниковым. Нужно было поговорить с ним, прежде чем убивать. Именно поэтому варианты с проникновением к нему в дом или на фабрику я отмел практически сразу. Но других шансов он мне не давал. Через три дня наблюдения я понял, что его придется выманивать. Это оказалось неожиданно легко. Я просто пришел к нему домой, когда его не было, и представился его жене подложным именем иностранца. Попросил передать мое предложение о встрече и оставил телефонный номер «Метрополя». На первом этаже дома Овчинникова была аптека с телефонным аппаратом, которым жильцы пользовались за небольшую плату (неофициально, разумеется), так что с телефонным вызовом заминки не должно было быть. Для гарантии пришлось зайти и на фабрику, и попросить о встрече с товарищем Овчинниковым. Я чуть было не попал в нелепую ситуацию – на проходной мне предложили пройти и поискать его самому. Я едва не рассмеялся в голос – если бы мне не нужно было общаться с Овчинниковым перед убийством, я мог бы зайти на фабрику прямо сейчас и никто не собирался мне мешать. По счастью, наш разговор со сторожем услышал кто-то из проходивших мимо начальников – сторожу досталась порция брани, а меня вежливо попросили не отвлекать товарища Овчинникова от работы. Так или иначе, теперь он знал об интересе к себе со стороны какого-то иностранца. Ближе к вечеру я отправился в «Метрополь» и попросил дежурного сообщить мне о звонке на имя Шарля Розье. Молодой человек хмурой наружности осведомился, а являюсь ли я постояльцем, но я сунул ему червонец и сообщил, что буду ждать в ресторане. Возражений у дежурного не нашлось. Как я и рассчитывал, долго ждать звонка не пришлось. Я назначил Овчинникову встречу и вернулся в ресторан. По моим прикидкам, у меня было еще минут сорок до прибытия цели. Я решил провести эти минуты в умиротворении: «Схватка с несправедливостью за правое дело, это тяжкая схватка. Если ты слишком большую часть своих сил потратишь на соблюдение праведности, то тебе не избежать ошибок. Твой путь выше праведности. В это трудно поверить, но в этом и заключается большая истина. Если смотреть со стороны этой истины, то такие понятия, как праведность, будут казаться совсем мелкими. Ты должен дойти до этого сам или ты не дойдешь до этого никогда. Но возможность следовать своему пути остается даже без понимания этой истины. Просто советуйся с другими. Даже те, кто не имеет пути, могут смотреть на других…» Я отвлекся от записей и потянул носом воздух. Какая-то странная тень запаха витала над столиком, за которым я устроился. Я заметил это сразу, но только теперь понял, что дело именно в запахе. Оглянулся в поисках источника, ничего не нашел и перебрался за соседний столик – здесь ничем не пахло. Овчинников вошел в зал ресторана через полчаса и немного потерянно оглянулся. Я улыбнулся и помахал ему рукой. Странно, но в тот момент я даже не подумал о том, что он может меня узнать. Овчинников подошел к моему столику и посмотрел с недоверием: – Вы искали встречи со мной? – О да, я! Шарль Розье к вашим услугам! Я решил не изображать сильный акцент, оставив лишь его отголоски – не хотелось бы сорваться с сильного акцента на чистый русский в самый неподходящий момент. Овчинников пожал протянутую руку и с прежним недоверием произнес: – Овчинников. Чем обязан? – Да вы садитесь, Андрей Семенович, желаете ужинать? – Вы платите? – Разумеется! Видимо, обещание бесплатного ужина в ресторане растопило сердце Овчинникова. Он сел напротив меня и очень по-голубиному нахохлился. Я не был голоден, но чтобы не вызывать вопросов, присоединился к нему. Сейчас я с трудом узнавал в нем того, кого видел много лет назад. Впрочем, ошибки быть не могло – в иной обстановке он был больше похож на себя. Я не мешал ему есть, а он не задавал вопросов. Когда с ужином было покончено, он закурил и неожиданно спросил: – Мы с вами не встречались раньше? Я не дал панике выбраться из ее мокрого убежища и спокойно ответил: – Может быть. Мир тьесен, камарад Овчинников. Но я давно не был в России, так что это могло случиться лишь давно. Овчинников задумчиво кивнул, не спуская с меня внимательный и жесткий взгляд. Вот теперь он был в точности таким, каким я его запомнил. Молчание затягивалось. Наконец голубь стряхнул пепел и спросил: – Так зачем вы хотели увидеться? – Вы веть занимаетесь на фабрике «Красный октябрь», бывшей «Эйнем»? – Да. И что с того? – Вы работаете там… технологом, значит, знаете все рецепты? – Знаю. – Очьень хорошо! Мне очьень нравятся ваши конфеты. Особенно… «Ми-шка косьолапи». – Поздравляю. – Спасибо! Вы знаете их рецепт? – Конечно. – Дос… досконально? – До буковки. А зачем вам? Я бросил на него быстрый взгляд, а после этого заговорщицки придвинулся поближе: – Видьите ли, я работаю на фабрик «Ду венже» в Реймсе. Мы тоже делаем сладости. Раньше у нас были договоры с «Эйнем» – они передали нам чьясть рецептов, но Реймс сильно пострадал от Гер мундиаль… эээ, Мировой войны, и все рецепты пропали. В том числе и рецепт «Мьишки». – И теперь вы хотите снова их получить? – О да! Очьень! Потому я и позвал вас. – А причем тут я? Обращайтесь к директору фабрики или в наркомат внешторга, а лучше и туда, и туда – не ошибетесь. Я разочарованно развел руками: – Боюсь, что наши дела идут плохо после Войны, а офьициальный договор будьет очень дорого стоить. Кроме того, власти Франции не очень хорошо относятся к договорам с Совьетской Россией. Так что… – Так что вы хотите украсть рецепты. В тоне Овчинникова не было, ни гнева, ни осуждения – он просто констатировал. Я испуганно оглянулся вокруг в поисках несуществующих шпионов, а потом торопливо зашептал: – Прошу вас, тише! Не украсть, а восстановить. Мы купить эти рецепты у «Эйнем». Если бы не случились обстоятельства в России, «Эйнем» передали бы нам этьи рецепты. – Но обстоятельства случились. Что же, пожалуй, я могу вам помочь. – О, это замьечательно! – Но это будет стоить. – Коньечно-коньечно! Мы понимаем! «Ду венже» готова сделать вам… подарок за ваши усилия. – Надеюсь, вы понимаете, что дело рискованное. Такие маленькие коммерческие дела дознаватели из ОГПУ очень быстро превращают в заговоры французских шпионов. Мне захотелось рассмеяться от этих слов – голубь сориентировался мгновенно и уже готовил почву для будущего шантажа, хотя мы еще даже не договорились ни о чем. Вместо смеха я изобразил испуг и вновь оглянулся. – Ньет-ньет, О-Г-П-У ни о чем не узнает, могу вам поклясться! О нашей встрече знаем только мы двое. – Не надо клясться. Скажите-ка лучше, товарищ Розье – мой подарок будет большим? – Да, очьень! Как и благодарность «Ду венже»! – Благодарность можете оставить себе – еще пригодится. Насколько большим? – Десьять тысяч рублей. – Двадцать пять тысяч. Французских франков. Я был удивлен по-настоящему и даже не пытался этого скрыть. – Но, кам… товарищ Овчинников, зачьем вам франки в Совьетской России? Он неожиданно рассмеялся этому вопросу: – Да мне и рубли в таком количестве в Советской России без надобности! Что я на них куплю? Десять шуб жене? А что я скажу ответственным органам, когда они меня спросят о происхождении этих шуб? Нет, товарищ Розье, рубли мне не нужны. Разве только до отъезда. – До отъезда? – Да, до отъезда, господин Розье. Вы правы, в России мне франки не нужны, а вот в Париже… – Но как вы собираетесь попасть в Париж?! – А вы меня туда вывезете. Знаешь, мне захотелось выхватить пистолет и убить его сразу же, не скрываясь, не таясь, не заботясь о шуме. Было чертовски трудно удержать себя от этого. Я справился, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза: – Ну, боюсь, что организовать это будет трудно – вывести троих человьек… десять тысяч франков и вы передадите мне часть рецептов до отъезда. – Одного человека. – Что? – Вывести одного человека. Двадцать тысяч франков, все рецептуры только по прибытии на место, тысяча рублей сейчас – в знак дружбы между заводом «Красный октябрь» и фабрикой «Ду венже»! А вот теперь мне пришлось всерьез постараться, чтобы не броситься на голубя и не свернуть ему шею голыми руками. Я шумно выдохнул и целую минуту собирался с мыслями. – Пятнадцать тысяч франков, товарищ Овчинников. Если хоть на франк больше, то выгоднее будет обратиться к вашему директору. – Ладно! Пятнадцать. Вы вывезете меня, передадите деньги, а я расскажу вам, как мы в России делаем конфеты. Да – тысяча рублей сейчас. – Но у меня нет такьих денег. – Вы врете. Вы же только что обещали мне десять тысяч рублей – тысяча у вас есть. И я хочу получить ее сегодня же, а то у меня появятся сомнения в вашей искренности, а у ОГПУ появится интерес к вашей персоне. Признаюсь – от срыва меня спасло только осознание того, что к утру этот человек будет мертв. Нужно было только доиграть партию до конца. В конце концов, я и так собирался выманить его из «Метрополя», пообещав задаток. – Но я ведь не ношу такие деньги с собой! – Разумно. Поднимемся к вам в номер? – Я жьиву не в «Метрополе». – Даже так? Дорого? – Не бьез этого. Я ведь не в первый раз в Москве. Мне повьезло и с моей квартирной хозяйкой не случилось ничего дурного за время революсьон. Там я и остановился. – А вы знаете, что это незаконно? – Почьему? – Не знаю. Так уж вышло. Ладно, далеко это отсюда? – Не меньше часа на авто. – Эк вас! А точный адрес не скажите? – Пока нет. – Я ведь все равно узнаю. – Когда вы узнаете, у вас на руках ужье будет тысяча рублей, и вы не сможете так легко меня предать О-Г-П-У. – Справедливо. Голубь тут же подскочил на ноги, показывая, что он готов выдвигаться. Я расплатился за ужин и вышел на улицу следом за ним. На наше счастье, рядом оказалась столь редкая в Москве машина такси. Впрочем, как раз у гостиницы ей и было самое место. Я кивнул водителю и устроился на заднемсиденье. Овчинников сел рядом со мной и неожиданно рассмеялся. – Вам все равно придется назвать ему адрес. Я упер дуло пистолета ему в бок и произнес: – Не придется. Он и сам его знает.12
– Не была уверена, что вы придете. – Мы ведь договорились. Дмитрий сел на скамейку рядом с Александрой Вольновой. С лекции Георгия прошло три дня, и теперь был вечер вторника. Тяжелого рабочего вторника. Белкин с самого утра пребывал в очень странном, несвойственном ему возбуждении духа. Привычное чувство неудобства смешивалось с горячностью и нестройностью мыслей. По убийствам Осипенко и Родионова ничего нового не было. Однако над ними больше болела голова у Стрельникова, а Дмитрий занимался текущими делами. Товарища Владимирова он за все это время видел лишь однажды вечером, когда тот уходил с работы. Разговаривать с ним у Белкина особого желания не было, да и не стоило лишний раз лезть к людям из Политического. Вольнова так забросала его вопросами в прошлый раз, что Дмитрий почти сбежал из кафе, выдумав несуществующие дела. Однако перед этим она предложила ему встретиться где-нибудь на неделе. Уклоняться было бы слишком невежливо, поэтому Белкин согласился. Договорились на сад «Эрмитаж». Для Дмитрия это было очень удобно – от Петровки до сада было рукой подать. Собственно, на этом Белкин Александру Вольнову из головы выкинул и занялся другими делами. Вспомнил он о назначенной встрече лишь утром оговоренного вторника и очень вовремя – девушка просила принести несколько задачек и головоломок, которые в прошлый раз ее очень заинтересовали. Александра фыркнула: – «Договорились…» Мало ли кто о чем договаривается! Вы в прошлый раз так удрали от моего общества – я уж решила, что вы ляпнули согласие просто, чтобы от меня отделаться. – А зачем же сами тогда пришли? – На случай если вы все же вновь решите обмануть мои ожидания. Вы торопитесь? Дмитрию было досадно, что она заметила его нервозность. Эта девушка его смущала. Сильно смущала – сильнее, чем забитый трамвай и шумные соседи. Он попытался принять расслабленную позу, откинулся на скамейку, стараясь не приближаться к Вольновой слишком сильно. – Да нет, совсем не тороплюсь. Просто устал сегодня. – Поймали кого-нибудь? – Нет. В основном пришлось делать записи, один раз выезжал на вызов, но там ошибка вышла – на пожар вызвали милицию, а не пожарную охрану. – Ясно. Вы принесли эти ваши мозголомки? Дмитрий достал из полупустого портфеля несколько бумажных листков. – Простите, они все решенные. У меня надолго без решения не залеживаются. Вольнова в ответ махнула рукой и схватила верхний листок. Повертела его в руках, сморщила нос, а потом почесала голову. Спустя минуту она произнесла: – Но это же просто набор чисел. Дмитрий придвинулся к девушке и увидел в ее руках магический квадрат. Белкин улыбнулся при виде этой изящной работы – он и не заметил, что взял ее с собой. – Нет, это не просто набор чисел. Вот смотрите: в верхнем ряду у нас числа шестнадцать, три, два и тринадцать. Сколько будет, если их проссумировать? Александра прикрыла глаза и ответила через несколько секунд с долей неуверенности: – Тридцать четыре? – Верно – тридцать четыре. А в диагонали с первой по шестнадцатую клетку у нас числа шестнадцать, десять, семь и один. Сложите и их. Девушка сделала, как он просил, и произнесла отчего-то почти шепотом: – Тоже тридцать четыре. – И нижний ряд даст тридцать четыре, и третий столбец, и вторая диагональ – любая линия этого квадрата даст нам в сумме одно и то же значение. – Прямо фокус какой-то! – Ну, потому такой квадрат и называется «магическим». Александра оторвалась от листка и посмотрела на Белкина. Он почувствовал ее дыхание на своей щеке и поспешил отодвинуться. Вольнова почему-то улыбнулась этому, вновь повернулась к квадрату и протянула: – А в чем здесь головоломка? Как вы его решили? – Я его не решал, я сам его составил. Александра всплеснула руками, а затем раздосадовано бросила в майское небо: – Черт возьми! Да вы хоть на один мой вопрос ответите утвердительно или нет?! Дмитрий смутился и опустил взгляд на свои руки. Ему захотелось оправдаться: – На два. – Что, на два?! – На два вопроса я ответил утвердительно. – Это на какие же? – На ваше предложение встретиться и на то, принес ли я головоломки. Александра развеселилась так же неожиданно, как и вышла из себя – она рассмеялась и взяла еще один листок. Белкин продолжал смотреть на свои руки. Наконец он заставил себя поднять взгляд и оглянулся вокруг – понемногу начинало вечереть, хотя даже до сумерек еще оставалось долго. В парке было довольно пусто, народ еще только заканчивал работать, да и вряд ли слишком уж многие собирались проводить вечер вторника в парке. Взгляд Дмитрия уловил синицу, которая сидела на ветке куста рядом со скамейкой. Белкин пригляделся и понял, что птица за каким-то птичьим интересом вцепилась в один из молодых листьев и пытается его оторвать. В итоге лист просто-напросто порвался, и часть его осталась у желтобрюхой птицы в клюве. – А это тоже магический квадрат? Дмитрий отвлекся от синицы и вновь повернулся к Александре. Она держала в руках очередной листок с изображенным на нем квадратом и водила пальцем по строчкам. – Нет, это один из друзей Георгия придумал. Он называет это «латинским квадратом». Это похоже на магический квадрат, но значения в диагоналях отличаются от значений в строках и столбцах. Здесь основная особенность в том, что каждое число в одном ряду или столбце может встретиться не более одного раза. Дмитрий посмотрел на лицо девушки и увидел, что она находится в затруднении. Белкин решил попробовать по-другому: – Ну вот, смотрите – видите, в верхней строчке встречаются все числа от одного до девяти, но ни одно не повторяется? То же самое и в девятом столбце. Понимаете? Александра задумчиво кивнула. Ее губы беззвучно шевелились – она зачем-то считала, хотя здесь это было не обязательно. Вольнова произнесла: – И в каждой строчке и столбце есть все числа от одного до девяти? – Да, верно! Более того, посмотрите на квадрат три на три клетки в верхнем левом углу. Александра произнесла с удивлением: – И здесь тоже?! – Да, большой квадрат разделен на малые и в каждом из них есть все числа от одного до девяти, причем встречаются они там не более одного раза. – Этот тоже вы сами составили? – Нет, хотя иногда я люблю покорпеть над ними, когда время свободное есть. – Тогда в чем здесь была задачка для вас? – В том, что больше половины клеток были пустыми, и я должен был найти для них верные числа. Александра оторвалась вдруг от листка и посмотрела перед собой. Дмитрий решил пока выбрать следующую головоломку. Девушка заговорила: – Знаете, я ведь тоже люблю забивать себе голову задачками. – Да? А какие вам нравятся? – Человеческие. Вы щелкаете эти ваши квадраты, как семечки, а я людей. Хотите, покажу? Дмитрий не до конца понимал, что она имеет в виду, поэтому кивнул не только из вежливости. – Вон, видите тех двоих? Она кивнула на молодых людей, неспешно шедших по противоположной стороне широкой аллеи. – Сегодня у них первое свидание. Парень очень старается ей понравиться, но у него уже не вышло. – А как вы… – Она смотрит в сторону. Улыбается, кивает, а думает о чем-то другом. Может быть, о ком-то другом, впрочем, тут судить не стану. А тех видите? Вольнова указывала на женщину и ребенка. Мальчик лет двух шел вперед со свойственным маленьким детям упорством, а за ним шла уставшая женщина. – Она почему-то не любит этого ребенка. Ей скучно и хочется быть в другом месте. Возможно, она не его мать, хотя они похожи… Вы ведь понимаете, что я предложила вам встретиться не только из-за ваших головоломок? – Догадываюсь. Но я не понимаю причину. – А причина очень проста. Вольнова повернулась к Дмитрию и поймала его взгляд до того, как он успел спрятаться. – Я не могу тебя решить. Какое бы предположение относительно тебя я не сделала, оно оказывается неверным. Я спрашиваю – ты говоришь, что я не права. Каждый раз. Для меня это вызов. Представь, что я, это ты, а ты, это огромный латинский квадрат, где почти все клетки пусты. Ты бы не смог пройти мимо. Думал бы все время, вертел в уме, представлял перед глазами, может быть, даже во сне бы видел – во всяком случае, я видела. Не думай, что это романтический бред, хотя я не уверена, что ты что-то об этом знаешь. Так или иначе – сейчас ты мне интересен. Дмитрий все же отвел взгляд и вновь уставился на свои руки: – Да нет во мне никакой загадки. Просто я плохо схожусь с людьми. – Это я заметила. Это, кстати, одна из самых интересных твоих особенностей – никогда еще не видела мужчину, который настолько бы игнорировал мое внимание, настолько старался бы сбежать и забиться в эти свои квадраты. Ты даже в глаза мне смотреть не можешь, а о том, что у меня под юбкой, вовсе не думаешь, хотя я чуть ли не колесом перед тобой кручусь уже второй раз! А ты вообще с женщиной был? – Я… – Нет, стой! Не время. Давай сделаем вид, что мы просто молодые люди, которые друг другу нравятся. Ну, или хотя бы девушке нравится молодой человек, если тебе слишком сложно будет изобразить влюбленность. – Я не умею ухаживать. – Ну и очень хорошо! Не люблю, когда за мной ухаживают. Так что, согласен побыть моей головоломкой?13
Стрельников подошел к мертвому телу и прищурился. Через несколько мгновений у него на лице появилась усмешка: – Ха, да это же господин Овчинников собственной неповторимой персоной! Дмитрий глубоко зевнул, а после этого произнес: – Ваш знакомый, Виктор Павлович? – Точно так, Митя! Андрей Степанович Овчинников, он же Чина – мелкая сволочь с Лефортово. А я так надеялся, что никогда с ним больше не увижусь. Вопреки собственным словам, Виктор Павлович не мог перестать улыбаться, глядя на труп Овчинникова. Было раннее утро среды, и Белкин чувствовал себя совершенно не выспавшимся. Странный вчерашний вечер и неожиданное предложение Александры Вольновой вызвали в нем сильное волнение, из-за которого вечером он промаялся без сна до полуночи. Дмитрий согласился на это предложение, не вполне понимая самого себя. Вольнова его пугала сама по себе, своей непредсказуемой резкостью, а то, что эта женщина еще и интерес к нему какой-то имела, было для Дмитрия вдвойне страшно. И все же он согласился. Ему даже не пришлось убеждать себя – он просто кивнул. Теперь в следующую субботу его ждала новая встреча с Александрой. Стрельников, который, казалось, никогда не уходит с работы, заехал за Дмитрием в половину седьмого утра. В старенькой покосившейся хибарке, затерянной среди дворов неподалеку от Спасопесковской площади нашли труп. В действительности Белкин был благодарен Виктору Павловичу за то, что тот с самого утра вовлек его в работу – так времени на размышления о вчерашнем будет меньше. В отличие от старшего коллеги Дмитрий видел убитого впервые. Он мельком глянул на его лицо, но большее внимание уделил тому, что обнаженный мертвец был связан по рукам и ногам и перед тем, как убить, его, очевидно, долго избивали. Лицо, то ли по совпадению, то ли по умыслу почти не пострадало, неся на себе следы лишь нескольких ударов, а вот все туловище превратилось в большой синяк. Впрочем, умер Овчинников не от побоев – его застрелили единственным выстрелом в сердце. Белкина охватило странное чувство, как будто что-то подобное он уже видел недавно. Дмитрий оглянулся вокруг, и ветхие стены стали превращаться в очертания грязной квартиры Родионова, а затем переливаться в черты спальни Осипенко. Дмитрий приказал себе не спешить – он узнавал работу человека со странным оружием, но выстрел в грудь не был чем-то совершенно уникальным и персональным… – Митя, посмотрите у его левой ноги – что это? Виктор Павлович отвлек Белкина от размышлений. Дмитрий перевел взгляд на ноги Овчинникова и увидел на полу маленький предмет, выглядывавший из-под левой голени мертвеца. Он присел на корточки и аккуратно подцепил предмет карандашом, уже догадываясь, что перед ним. Стрельников посмотрел на гильзу, бывшую сестрой-близняшкой тех гильз, которые остались рядом с трупами Осипенко и Родионова, потом перевел взгляд на лицо мертвеца и задумчиво протянул: – Чина-Чина, кому же ты ухитрился перейти дорогу? – Виктор Павлович, что-то здесь не так. Не может быть, чтобы это был тот же убийца. – Почему не может? – Потому что слишком странно это все! Как эти трое связаны друг с другом? Где хоть что-то, что их объединяет? – Если мы не видим черную кошку в темной комнате, это не значит, что ее там нет. Я верю месту – место никогда не врет. У нас снова труп с пулей в сердце. Убийцу снова тянуло поболтать перед выстрелом. Он как будто с каждым разом хочет знать все больше и больше. У нас снова странное оружие, которое больше никак себя не проявляет, кроме как в делах этих троих. Если в прошлый раз я допускал, что эти убийства могут быть связаны, то теперь я в этом почти уверен. Нужно найти связь, Митя. Белкин понуро кивнул, все еще держа в руке карандаш с надетой на острие гильзой. Стрельников снова посмотрел на лицо мертвеца, а затем произнес: – Сегодня буду лезть на рожон и навязываться к Владимирову. Нам нужно знать, как продвигается его расследование. Осипенко был первым – искать нужно в его окружении. – А если он не был первым? – Давайте не будем отвечать на вопросы, которых нам пока не задавали – у нас есть три трупа, сделанных сходными средствами в сходных обстоятельствах – от этого и отталкиваемся. Следующие три часа следователи потратили на то, чтобы разговорить сонных местных жителей. Дом, в котором Овчинников закончил свою жизнь, стоял заброшенный с 1925-го года. И в старые и в новые времена там были съемные комнаты. Шесть лет назад умерла последняя старуха, жившая там, и дом остался стоять, забытый и людьми, и городскими властями. Забирались окрестные ребятишки иногда, но пару лет назад в доме уже находили труп, поэтому даже дети совались нечасто. В этот раз тело нашел дворник, увидевший, что дверь подъезда открыта настежь, и решивший проверить. Шума из дома никто не слышал, света в мертвых окнах тоже не было. Новые лица не мелькали, а если и мелькали, то их никто не запомнил. Пока что все это напоминало убийство Родионова – никто ничего не увидел, никто ничего не услышал. Правда, Родионов погиб в своей комнате, а вот Овчинникова сюда явно доставили откуда-то еще. Наконец на исходе третьего часа бесконечных однотипных расспросов следователям повезло. Жизнь потрепанной и уставшей гражданки Карауловой скрашивали четыре кошки, портрет мужа с черным кантом и явственные признаки легкого помешательства. От крайней скуки память ее чрезвычайно обострилась, как и желание интересоваться всем, что происходит в ее маленьком дворовом мирке. Беседу, разумеется, вел Стрельников. Дмитрий стоял, прислонившись к стене, и успешно игнорировал сильный запах кошачьего туалета. – …Екатерина Михайловна, а как выглядел тот автомобиль? – Который? – Тот, что вы видели вчера вечером. – Это во дворе что ли, который? Караулов всегда говорил, что авто нельзя пускать во дворы! С этими словами Караулова показала пальцем на фотокарточку своего мужа. – Да, совершенно верно, Екатерина Михайловна, мы и хотим объяснить водителю, что не стоит ему беспокоить покой людей, особенно в вечер будней. – Да не надо ничего никому объяснять! Караулов всегда говорил, что объяснять бесполезно – нужно расстрелять парочку, и только тогда поймут! У Виктора Павловича дернулись плечи от этих слов, но по счастью заметил это только Белкин. Голос Стрельникова оставался спокойным и вкрадчивым: – Так что это было за авто? На колени Карауловой прыгнула одна из ее кошек и стала тереться о ладони хозяйки. Это будто бы вернуло Екатерине Михайловне разум, по крайней мере, она оторвала взгляд от фотографии и ответила вполне нормальным голосом: – Я не могу сказать точно. Я в них совсем не разбираюсь. – Понимаю, Екатерина Михайловна, но скажите хотя бы – это был грузовик или легковое авто? – Кажется, легковое… Женщина вдруг поманила Виктора Павловича к себе и сама наклонилась вперед. Дмитрию пришлось напрячься, чтобы расслышать ее шепот: – Вы знаете, я всегда хотела такое авто, но Караулов говорил, что это вздор. Стрельников ответил ей так же шепотом: – Отчего же вздор? А вы именно такое авто хотели, какое вчера видели? – Вздор! Вздор! Мне нельзя в авто – я больная, нервы у меня расшатанные. Мне даже Караулов всегда об этом говорил. – Ну отчего же нельзя? Вы ведь нормальный адекватный человек, никому не причините вреда. Что бы они понимали – эти врачи?! Вы бы хотели такое авто, какое видели вчера? Екатерина Михайловна бросила опасливый взгляд на фотокарточку, грозно озиравшую комнату, а после этого затараторила: – Да! Да! Да! Хотела бы! Именно такую! Чтобы уехать! Уехать! Уехать! Чтобы была только я и мое авто. И никого больше! – А что в том авто было необычного, Екатерина Михайловна? Почему именно на нем? – То было лучшее авто из всех! На нем можно ехать, даже если никогда не учился, даже если у тебя нет рук, даже если самого тебя нет. – А почему на нем не обязательно учиться? – Потому, что меня все равно не пустят за руль. – Отчего же не пустят? – Не пустят! Не пустят! Я их знаю! Я только подойду, чтобы сесть за руль, а он мне скажет назад садиться, да еще посмотрит так… Это он потому такой смелый, что со мной Караулова нет! А если бы был, то он бы поплясал, этот шофер! Дмитрия осенило: – Таксомотор? Вы говорите про таксомотор? Екатерина Михайловна не ответила ничего, вместо этого уставившись на фотокарточку. Виктор Павлович посмотрел на молодого коллегу с такой укоризной, что Дмитрию захотелось провалиться сквозь землю. Стрельников вновь повернулся к своей собеседнице: – Это был таксомотор, Екатерина Михайловна? Ответа не последовало. Спустя еще три неудачные попытки Виктор Павлович взял руки женщины в свои. Она тут же высвободила их, отвлеклась от фотографии и посмотрела на Стрельникова. Белкину показалось, что она сейчас же зарыдает, но пока что слез не было. Виктор Павлович вновь спросил: – Это был таксомотор? – Да, наверное. Простите меня, я никогда ни в чем не уверена, никогда ничего не знаю. Даже Караулов говорил, что… – Он ошибался. То ли Виктору Павловичу надоел товарищ Караулов персонально, то ли надоела сама эта игра. Теперь его тон был жестким: – Вы уверены в том, что видели. Вы знаете, что видели. Нам очень, очень нужна ваша помощь. Вчера вечером вы видели таксомотор рядом с заброшенным домом? Екатерина Михайловна вновь смотрела на фотографию. Дмитрию уже начало казаться, что они вообще от нее больше ни слова не услышат, однако спустя минуту она произнесла вдруг: – Да, это был таксомотор. Там желтая полоса была на кузове – такие на таксо делают. – Вам удалось увидеть номер? – Да, конечно. Белкин даже подскочил от ее слов – от «поста наблюдения» Екатерины Михайловны до подъезда заброшенного дома было приличное расстояние, не говоря уже о том, что на улице в тот момент уже вовсю властвовала ночная тьма. Виктор Павлович тоже был поражен, судя по паузе, последовавшей за словами Карауловой. Наконец Стрельников произнес: – Это же очень хорошо, Екатерина Михайловна. Вы молодец! Что это был за номер? – Очень странный – там кроме цифр буквы были. Неужели опять все поменялось? – Совсем недавно. А что там было написано? – Сверху «Такси», а снизу Г-26-19. Виктор Павлович откинулся на спинку старого кресла. Дмитрий не видел выражения его лица, впрочем, лицо Стрельникова, скорее всего, не выражало его настоящих чувств – они наконец-то имели ниточку! У них наконец-то было что-то еще, кроме гильз и догадок. – А вы видели лица тех, кто сидел внутри, Екатерина Михайловна? – Только шофера. – Сможете узнать его? – Не знаю. – Знаете. Все у вас получится. Женщина отвлеклась, наконец, от фотографии – одна из кошек запрыгнула на спинку ее кресла, и Екатерина Михайловна умиротворенно откинула на свою питомицу голову, как на подушку. Как ни странно, кошка никак не отреагировала на подобное вторжение в свою приватность. – А сколько всего человек было в авто? – Трое. Вернее, я не уверена… Трое. – Шофер и двое пассажиров? – Да. – Он высадил пассажиров и уехал? – Нет, он высадил пассажиров и остался. Он ждал. Долго. Потом из подъезда вышел только один. Он сел в таксо, и они уехали. – А вы смогли рассмотреть того пассажира, который вышел из дома? – Только спину, когда он заводил того, кого потом убил. – Но кто вам… – Спина большая, ровная, я уверена, что на ней почти нет волос. И в то же время она какая-то женская, мягкая. И вздымается. Он сделал дела и отвернулся к стене, а я вижу только эту спину. Спина того, кто убивает. Екатерина Михайловна долго говорила про спину. Перечисляла все ее черты. Она была спокойна, лишь поднимала порой голову с кошки и бросала взгляд на фотографию. Поняв, что вырвать ее из этого состояния не удастся, Стрельников просто встал и направился к выходу. – Может быть, позвать кого-нибудь? – Позовем. Я попрошу соседку навестить ее вечером. – Я имел в виду врача. Стрельников оглянулся на Екатерину Михайловну, подумал и помотал головой: – Не надо. Все с ней будет нормально. – Нет, не будет. Виктор Павлович посмотрел Дмитрию прямо в глаза: – А чего именно вы хотите, Митя? Чтобы приехали «белые халаты», дюжие санитары скрутили эту несчастную женщину по рукам и ногам, засунули в белую комнату с малюсеньким окошком и напичкали снотворным? А вы уверены, что ей от этого станет легче? Нет, пускай остается здесь. Вреда она никому не причиняет, а безобидное безумие, это все же личное дело.14
И настроение улучшилось. Дмитрий чувствовал настоящий подъем – наконец-то можно не топтаться на месте! Стрельников разделял воодушевление своего молодого коллеги. На губах Виктора Павловича заиграла какая-то хищная улыбка, когда они вышли из квартирки гражданки Карауловой. – Как думаете, это было просто такси или у нас уже двое преступников? – Думаю, что в данный конкретный момент это не важно – следующий шаг все равно один. Дмитрий сошел в Георгиевском переулке, махнул рукой Виктору Павловичу и осмотрелся в поисках нужного заведения. Его интересовал Первый таксомоторный парк. Можно было бы, конечно, устроить поиски нужного авто на стоянках у вокзалов и гостиниц, но намного проще было сразу обратиться в Первый таксопарк. Нужная машина, впрочем, могла быть приписана и к другому таксопарку, так что Дмитрий уже морально готовил себя к тому, что придется побегать. Первый был выбран за то, что был Первым, а за одно и крупнейшим в Москве. Дело было не самым простым, но не требовало усилий сразу двоих следователей – Виктор Павлович отправился на Петровку, где надеялся узнать о том, заявлял ли кто-нибудь об исчезновении Овчинникова. Белкин перешел дорогу и направился к ряду разнообразных таксомоторов. Французские «Рено», которых, по слухам, каталось в Париже в роли такси целых шестнадцать тысяч, американские «Форд» с красными флажком с надписью «Свободен» и даже один итальянский «Фиат». – Вам куда? От группки перекуривавших шоферов отделился самый невысокий и обратился к Белкину. – Пока никуда. Подскажите, товарищи, таксомотор с номерами Г-26-19 к вашему парку относится? – А вам зачем? Этот вопрос раздался от самого возрастного из таксистов. Дмитрий извлек документы и подошел к курившим. – Московский уголовный розыск, оперуполномоченный Белкин. Так вы знаете это авто? Возрастной, очевидно, пользовался авторитетом среди других шоферов, поэтому говорить стал он: – Знаю, конечно – это наш мотор. А вы не особенно торопитесь, как я смотрю! – Что вы имеете в виду? – Так угнали двадцать шестую! Вчера днем еще. – А почему не сообщили? – Так мы сообщили. Я потому и говорю, что вы как-то не особенно торопитесь. Дмитрий вспомнил, как ведет себя в такой ситуации Стрельников, и постарался улыбнуться максимально дружелюбно. – Ваша правда – не быстро получилось приехать. А как случилось-то? Возрастной, наткнувшись на вежливость, тут же смягчился и сам: – Вы уж простите – оно понятно, что не спроста задержались. Просто средь бела дня ведь увели таксомотор от Казанского вокзала! Я, как вечером узнал, не поверил даже. Это же грабеж какой-то! – Средь бела дня, говорите… А где шофер того авто? Возрастной оглянулся на компанию таксистов и бросил: – Братцы, а что Ибрагимов? На смене после вчерашнего? Ответил тот самый невысокий: – Ну да, только его сегодня Хвалынский на гараже оставил. Возрастной усмехнулся чему-то, а после этого вновь обратился к Дмитрию: – Вот что, товарищ милиционер, ступайте-ка вы к директору. Он вам и Ибрагимова позовет, если надо, и расскажет, как оно все было, а то вы сейчас от нас всяких басен наслушаетесь. Белкин поблагодарил за помощь и вошел в прохладное помещение администрации таксопарка. Его удостоверения вполне хватило, чтобы оказаться в кабинете директора уже через пять минут. Ему Белкин не стал недоговаривать о цели своего визита: – Дело в том, что я не по поводу угона, товарищ директор. – А зачем же еще? На слове «еще» голос директора странно пошел вверх, а глаза наоборот ушли вниз. Дмитрий отметил это, но не стал слишком заостряться – секреты директора таксопарка его пока что не интересовали. – Вчера вечером этот таксомотор был замечен рядом с домом, где сегодня с утра нашли труп. И есть показания о том, что и убитый, и его убийца приехали к этому дому именно на этом авто. Директор не без облегчения выдохнул, но тут же вновь собрался: – Что от нас требуется? – Мне сказали, что вы можете вызвать водителя этого авто – мне бы хотелось с ним переговорить как можно скорее. Кроме того, мне нужно подробное описание пропавшего мотора. Подробное, значит до мельчайших деталей – трещина на фаре, скол на бампере, пятно на заднем сиденье справа и все в таком духе. Кто может дать мне такое описание? – Шофер, конечно. Он постоянно был на этом моторе, так что никто не знает это авто лучше него. – Хорошо, зовите. – А вы не знаете, наш мотор уже нашли? – Не знаю, иначе не спрашивал бы о деталях. Надеюсь, что да. Однако, даже если так, до того, как его осмотрят наши специалисты, мы не сможем его вернуть. – Понимаю. По голосу директора было понятно, насколько он расстроен этой новостью, но Дмитрий ничем не мог ему помочь – когда машину найдут, Егорычев и Пиотровский ее по болтику разберут, чтобы найти хоть что-то, что может вести к убийце. Точнее, к убийцам – теперь сомнений в том, что водитель, которого видела Екатерина Михайловна Караулова, был соучастником убийства, не оставалось. Дмитрий спохватился и обратился к директору, как только тот вернулся в свой кабинет: – У вас есть фотокарточка шофера? Директор ответил утвердительно и погрузился в картотеку, стоявшую за его столом. Через несколько минут он выудил оттуда фотокарточку и передал ее Белкину. На Дмитрия исподлобья смотрел смуглый и темноволосый мужчина лет тридцати. – Я бы хотел взять ее пока что – верну до конца недели. – Забирайте-забир… вы думаете, что это он?! Директор испуганно глянул на закрытую дверь своего кабинета, будто ожидая увидеть на ее месте шофера Ибрагимова с оружием в руках. – Мы думаем, что нужно проверять все возможные варианты. Не беспокойтесь об этом раньше времени – вероятность того, что вечером за рулем вашего такси видели именно вашего водителя, крайне мала. Дмитрий произнес эти слова для того, чтобы успокоить директора – в действительности он даже надеялся, что Караулова узнает человека на фотокарточке. Шофер подошел спустя примерно десять минут. Он был спокоен и приветлив. Директор представил их с Белкиным друг другу, а после этого удалился. Дмитрий был этому рад – так шофер будет разговорчивее. После формальных вопросов Белкин, наконец, перешел к тому, что его интересовало: – Расскажите о том, что вчера случилось на Казанском. – Я стоял на вокзале с девяти утра. До обеда развез четверых. – Кого? Куда? Примерное время? Водитель поднял взгляд к потолку, вспоминая: – Так. Около половины десятого служащий, судя по одежде. А отвез его… на Воздвиженку. Затем в одиннадцать или чуть позже двое – муж с женой или просто пара. Туристы с гарантией. На лицах написано. Попросили на Красную площадь – я довез до Ильинки. А потом ближе к часу на пересадке командир – должность не могу сказать – не разбираюсь. Довез на Октябрьский. – Это же рядом. – Я знаю. Он не знал. – И долго возили? – Ну, с полчаса где-то. – Ладно. Что было дальше? – Вернулся на свое место. Решил пообедать, но перед этим отлучился. – Зачем? Ибрагимов вдруг замялся: – Ну… по нужде, товарищ милиционер. – Ясно. Вы заперли руль? Шофер покраснел и опустил голову. До Белкина донесся глухой ответ: – Нет. – А почему? – Да я же… я всего-то на десять минут отошел, товарищ милиционер! Ну зачем кому-то красть таксомотор?! Что с ним делать? Это же перекрашивать его надо, номера менять, таксометр убирать. Нам даже не выдают ничего для запирания! Это что же нам… – Подождите, товарищ Ибрагимов! Вы хотите сказать, что вам нечем было запереть руль авто? – Ну да! Я про то и говорю! Это что же, вообще ее оставить нельзя что ли? Или до вечера терпеть, если прижало? На водителя было жалко смотреть, хотя Белкин не очень понимал, чего именно ему стыдиться. У Ибрагимова не было нормального способа оставить машину, поэтому он просто ее бросил, вполне справедливо рассуждая, что она никому не понадобится. – Говорите, вас не было только десять минут – когда вы вернулись, автомобиля уже не было? – Да. – Вы поспрашивали у прохожих, может, кто-то что-то заметил? – Ну, я побегал, конечно, но он ведь просто дал зажигание, сел за руль и уехал. Ничего не взламывал, ничего не разбивал, по крайней мере, я так думаю. Вот все и решили, что раз делает, то значит можно, и никто не обратил на него внимания. – Что было дальше? – Я добрался до таксопарка и сообщил о пропаже. – Что сделал директор? – Ну, сперва, конечно, разнос мне учинил, а потом, делать нечего – сообщили в милицию. – А после смены? – Ну, я ведь сам не свой был – это же надо было так вляпаться, мотор потерять! Думал – все – попрут меня из таксопарка. А директор сказал приходить с утра, но за руль не пустил – сказал, чтобы я в гараже сидел. Дмитрий заметил, что его вопрос оставили без ответа. Из этого можно было начать делать выводы, но Белкин остановил себя – это для его расследования ответ на этот вопрос был одним из главных, а для Ибрагимова он мог быть совершенно незначительным. – Товарищ Ибрагимов, а вчера вечером после смены вы чем занимались? Шофер ответил без паузы, даже с некоторой досадой: – Как чем? Дома был. Не знал, что и думать, вроде и кошмар, а вроде и легко отделался, по крайней мере, пока. – А кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома? – Конечно, жена моя. Но вам-то это зачем? Дмитрий по-стрельниковски улыбнулся и легко соврал: – Это обычный вопрос. Мы тоже должны выполнять много всяких странных прихотей начальства, вот и задаем подобные вопросы. Ибрагимов понимающе усмехнулся, а потом спросил: – Товарищ милиционер, а есть шансы мотор-то мой… то есть, не мой, конечно… найти, в общем? – Есть. Будем искать. Вы нам в этом поможете, кстати. Остаток смены проведите за составлением описания вашего авто. Все от общего облика до последней гайки. Я ближе к вечеру заеду за ним. И еще – в ближайшие дни к вам придет еще один милиционер, расскажите ему то, что рассказали мне. Через десять минут Белкин вышел на воздух и сощурился от яркого солнца, бьющего в глаза. После этого он приметил давешнего невысокого таксиста и направился к нему. Таксист снова курил, правда, теперь в одиночестве. Автомобилей перед таксопарком сильно убавилось – рабочий день был в самом разгаре. Невысокий заметил его, но теперь не проявил интереса, поэтому Дмитрий сам подошел к нему и бросил: – Вот теперь поехали. Сначала на Спасопесковскую.15
«Белый халат» поднял простыню с тела Овчинникова и обнажил его до груди. Издерганная женщина с заплаканными глазами нашла в себе силы лишь на то, чтобы кивнуть, а после этого начала заваливаться назад. Стрельников подхватил ее в последний момент. Он заглянул в лицо женщины – как ни странно, она была в сознании. Подоспел патологоанатом, подсунувший Виктору Павловичу стакан с водой. Стрельников благодарно кивнул и приставил стакан к губам женщины. Через пару минут она уже пришла в себя настолько, чтобы стоять без посторонней помощи. В остальном же она была очень далека от нормы – лицо белее молока и пустой взгляд. Виктору Павловичу очень хотелось бы отпустить ее домой, да еще и проследить, чтобы все было хорошо, но он не мог себе этого позволить – гражданку Овчинникову ждал долгий и тяжелый вечер. Спустя сорок минут она сидела напротив Виктора Павловича на Петровке. За соседним столом сидел Володя Хворостин, погруженный в какие-то записи, а больше в просторном кабинете никого не было. Стрельников налил женщине воды из графина и начал не совсем с того, с чего начинают обычно: – Вера Васильевна, а как давно вы знали своего мужа? У нее задрожали губы от слова «знали», но она смогла взять себя в руки и удержала слезы. – С 1921-го года, товарищ следователь. – Чем он занимался, когда вы познакомились? – Я точно не знаю. Андрей был служащим, но я даже не знаю, по какому ведомству. На долю секунды на лице Стрельникова мелькнуло злое выражение – Чина неплохо устроился в новом мире! Выражение мелькнуло и тут же ушло – Вера Васильевна не была виновата в том, что ее муж был мерзавцем. Она, судя по всему, даже об этом не знала. – А где он служил в последние годы? – На «Красном октябре», что-то связанное с производством. Андрей рассказывал, что это именно благодаря ему у конфет такой вкус, а не иной. – Вы не знаете, у него были какие-нибудь проблемы на службе? Плохие отношения с кем-нибудь? – Андрей мне не рассказывал. Но он был добрейшим человеком, товарищ следователь! У него просто не могло быть ни с кем ссор. Вы знаете, когда мы познакомились, я была студенткой первого года и совсем без средств, а у него тогда средства были. И он очень помог мне в те времена… Как я теперь без него? На этот вопрос у Стрельникова не было ответа. Он решил немного отвлечь Веру Васильевну: – Позвольте полюбопытствовать, а на кого вы учились? – На врача во Втором МГУ, но я ушла оттуда по настоянию Андрея после первого года обучения. – А сейчас чем занимаетесь? – Слежу за домом, воспитываю сына. Виктор Павлович улыбнулся и кивнул. В действительности прошлые вопросы были совершенным проявлением любопытства, а не чем-то важным. – Вы начинали говорить про какого-то иностранца, Вера Васильевна. Расскажите о нем еще раз. Как можно подробнее. Не спешите и не волнуйтесь – мне нужны все детали. Овчинникова отпила воды, поправила зачем-то прическу, а после этого заговорила: – Вчера около трех часов… нет, в половину третьего – к нам домой заходил иностранец. Он назвался Шарлем Розье и дал номер телефона. – Розье? У него был акцент? – Кажется да, но не сильный. Он очень хорошо говорил по-русски. – А как он выглядел? Вера Васильевна уставилась перед собой, представляя иностранца. – Он выше меня, спина широкая, но большим он не кажется. Лицо круглое и улыбчивое. Он довольно красивый. На лбу залысина, а сами волосы русые. Виктор Павлович старательно записывал каждое слово этого описания, хотя и понимал, что по указанным признакам в одной только Москве можно опознать сотни мужчин. – Во что он был одет? – Простой пиджак, кажется, черный, и брюки. – Были какие-нибудь запоминающиеся черты? Может, приметы или жесты? Вера Васильевна задумалась на несколько секунд, но в итоге отрицательно помотала головой. – Не могу ничего такого вспомнить, товарищ следователь. Если бы он не назвался иностранцем, я бы и не отличила его. – А ваш сын видел его? – Нет, Рома был на кухне и ничего не видел. Виктор Павлович отчеркнул словесное описание и откинулся на спинку скрипучего стула. – Вы сказали, что этот Розье дал вам номер телефона – зачем? Овчинникова неожиданно всполошилась и сбивчиво заговорила: – Так в том и дело, товарищ следователь! Он Андрюшу искал! Он сказал, что ищет встречи с Андреем и сказал, что будет ждать звонка сегодня же вечером. Андрей спустился в аптеку, а после этого даже домой заходить не стал. – А зачем он зашел в аптеку? – Оттуда можно было позвонить. Я из окна видела, как он вышел из аптеки и пошел от дома, и… Овчинникова осеклась, но Виктор Павлович не дал ей времени впасть в истерику: – И больше не вернулся. Понимаю. Послушайте, Вера Васильевна, а вас не удивило, что кто-то хочет увидеться с вашим мужем? Да еще иностранец. – У Андрея много знакомых. Некоторые приходят, когда его нет, и просят перезвонить им. Он сам просил, даже требовал, чтобы я сообщала ему обо всех, кто приходил за день. Кроме того, это же все-таки иностранец – я и подумать не могла ни о чем дурном. – То есть, вас не удивило ни то, что вашего мужа кто-то хочет видеть, ни то, что он идет на встречу вечером после работы? – Нет, не удивило. Я о многих его делах не знаю, поэтому давно не удивляюсь таким вещам. Виктор Павлович увидел, точнее, почувствовал, что Овчинникова начинает раздражаться, и поспешил надеть улыбку: – Я понимаю. Он не хотел вам докучать своими делами, потому и не рассказывал о них. А часто он вот так срывался по вечерам? – Нет, в последние годы такое почти не происходило, а раньше да – Андрей мог уйти с рассветом и вернуться за полночь. Несколько раз даже не ночевал дома. – А как ваш муж повел себя, когда вы ему сказали об иностранце? Может, он узнал это имя или номер телефона? Он, кстати, у вас остался? – Нет, ту бумагу взял с собой Андрей, но я запомнила – там простой номер – 2-82-80. Виктору Павловичу захотелось смеяться – это был простой номер, настолько простой, что Стрельников и сам его знал. Это был номер приемной гостиницы «Метрополь». Виктор Павлович испытывал приятное, трудноопределимое чувство – это чувство он обычно испытывал, когда видел спину того за кем гнался. Стрельников вполне искренне улыбнулся и вернулся к разговору: – Вам не показалось, что ваш муж знает имя этого иностранца? – Нет, наоборот, Андрей очень удивился моим словам. Помню, он даже сказал что-то вроде: «Ну и зачем я понадобился этому интуристу?» – Вы сказали, что видели, как ваш муж отошел от дома. А как он сел в трамвай вы видели? Или, может быть, он взял таксомотор? – Нет, простите, товарищ следователь. Андрей просто завернул за угол, и в следующий раз я увидела его уже в морге. На этот раз Стрельников не успел помешать женским слезам. Вера Васильевна рыдала безутешно и безудержно. Виктор Павлович не пытался ее утешать – сейчас это было бесполезно. Кроме того, слезы, как бы много их не было, все же имеют свою меру, и лучше пусть эта мера исчерпается там, где ее сын не может их увидеть. Стрельникову было совершенно искренне жаль эту женщину. Он знал Чину. Знал человека, который начинал с карманных краж, а попался в итоге на сбыте фальшивых денег в апреле 17-го, имея за спиной год отсидки за уклонение от призыва. И то, что он услышал от Веры Васильевны, вовсе не изменило его мнения о Чине. Странные отлучки, странные друзья, странная скрытность – это был все тот же мошенник средне-мелкого пошиба. Виктору Павловичу оставалось лишь надеяться, что конфеты у «Красного октября» вкусные, хотя он готов был месячный оклад поставить на то, что заслуг Овчинникова в этом не было ни капли. Вот только Вера Васильевна теперь рыдала не по Чине, которого знал Стрельников, а по любимому мужу и отцу своего единственного сына. Через пять минут даже Володя Хворостин не выдержал и вышел из кабинета. Как будто только того и ждала, после этого Вера Васильевна начала успокаиваться. Виктор Павлович налил ей еще воды и продолжил задавать вопросы – у него они еще оставались. – А почему вы сообщили о пропаже мужа с утра? – В каком смысле? – Вы говорили, что он частенько отлучался по вечерам и иногда даже не ночевал дома, так отчего вы решили, что с ним что-то случилось? – Я не уверена… Сердце у меня было не на месте, понимаете? Трудно это объяснить, товарищ следователь, наверное, только женщина сможет меня понять – когда что-то не в порядке, это чувствуешь. Я почти не спала всю ночь. Только придремаюсь, и как кольнет что-то. А к утру я уже и не сомневалась, что что-то не так. Да и все-таки странного было много в этом во всем – он уже два года не пропадал вот так на ночь. Вера Васильевна возвращалась из страны печали просто гигантскими темпами, и теперь Стрельникову слышалась в ее голосе досада, и даже озлобленность. В общем-то, больше вопросов у Виктора Павловича не было, кроме одного: – Вера Васильевна, постарайтесь вспомнить, ваш муж не упоминал о неких Осипенко и Родионове? Может, мельком в разговоре с кем-нибудь? Овчинникова вновь уставила заплаканные глаза в невидимую точку перед собой. Спустя минуту она протянула: – Осипенко не помню, а вот с каким-то Родионовым мы с Андреем сталкивались пару лет назад. Это был кто-то из знакомых мужа по Гражданской или… не хочу врать, товарищ следователь, я не смогла точно понять, но говорили они про какие-то бурные времена. – И какой был из себя этот Родионов? – Мне показалось, что это опустившийся человек. Андрей даже не сразу его узнал. – А вы видели его еще? Может быть, ваш муж с ним встречался? – Нет, я точно не встречалась. Да и насчет Андрея не уверена – он на самом деле был не очень рад встретить этого Родионова.Интермедия №2
3-е августа 1918-го года.Это был последний двор на сегодня. На самом краю села, немного опричь от остальных. Тихий и подобравшийся дом, оскаливший на Юдина свои темные окна. Семен покрутил уставшей шеей и вытер лицо от пыли и пота. Еще один страшный день, еще одно село с не изъятым хлебом. Как же ему это все надоело. До горячности, до исступления надоело это бесконечное столкновение с русской провинцией. Юдин ощупал взглядом закрытые окна. Казалось, в избе никого не было, но это ощущение было обманом – Семен сам видел, как в избу кто-то юркнул, когда к ней стали приближаться продотрядовцы. Юдин обернулся к своим спутникам: – Овчинников, Зариньш со мной, Баранов – останешься у двери. И смотреть в оба! Зариньш криво ухмыльнулся и медленно вытащил револьвер. Юдин одернул его: – Смотреть в оба, а не нарываться на неприятности! Сделаем все чисто и спокойно, товарищи. Несмотря на отповедь ретивому латышу, сам Семен кобуру с Маузером расстегнул. После этого он глубоко вздохнул и дернул ворота участка. Сейчас нужно было продемонстрировать решимость и непреклонность тому, кто наверняка наблюдает из окон – Юдин широкими шагами прошел к двери в избу и громко постучал. Ничего не произошло. Семен постучал снова, добавив по двери ногой. – Открывайте! Не то мы вынесем дверь! Из избы донесся какой-то шум, будто забегал кто-то. Неожиданно прозвучал хриплый голос: – А вы кто такие есть, чтобы дверь мне выносить?! – Шестой продотряд Пензенского губкома, комиссар продотряда Юдин. Ответом Семену стала тишина. Спустя минуту, когда он уже собирался вновь постучать в дверь, она со скрипом отворилась. За дверью стоял невысокий мужик лет сорока, одетый почему-то в солдатскую рубаху. Причем, не просто одетый, а будто бы готовый к построению, перетянутый ремнем и с двумя Крестами на груди. – Покажи-ка документы свои, комиссар продотряда Юдин. Мужик смотрел на Семена с ухмылкой, от которой так и веяло угрозой, но ничего угрожающего пока что не делал. – Слышь, быдло, ты не городовой, чтобы мы тебе ксиву показывали! Юдин не обратил на грубый выкрик Зариньша никакого внимания. Мужик тоже. Семен достал удостоверение и передал потрепанный листок хозяину дома. Тот прищурил один глаз и начал читать, медленно водя пальцем по строчкам, и шепча себе под нос. Через пару минут он закончил, свернул листок и вернул его Юдину. – Ну что, за хлебом пришли, братцы? – Гражданин, это вызвано необходимостью. Мужик странно кхекнул, что, видимо, было у него вместо усмешки. – Ну да, необходимость. Ладно, заходи, комиссар. Мужик развернулся и направился прочь от двери. Семен прошел следом. В избе было прохладно, и Юдин искренне наслаждался этой свежестью после целого дня под палящим солнцем. Кроме самого хозяина Семен заметил в избе лишь еще одного человека. Это был молодой парень, почти мальчишка, который недобро поглядывал на Юдина и его спутников исподлобья. Он был сильно похож на хозяина, поэтому Семен решил, что это его сын. Если парень смотрел недобро, то мужик вовсе не смотрел. Он прошел сразу в красный угол и провел по одной из стареньких икон рукой, будто смахнул пыль. Семен пригляделся к потемневшей иконе – как он и ожидал, это была Богородица со своим ребенком. А вот чуть ниже нашлось изображение, которого Юдин не ожидал увидеть – под божницей к стене была на гвоздик прибита истрепанная открытка с портретом бывшего царя. Мужик резко развернулся и прошел к столу. Только теперь он увидел, что в избу прошел не только комиссар, но и двое из его людей. Впрочем, никакой реакции, кроме еще одного кхекания, это у него не вызвало. Мужик взял со стола большой кувшин и добро приложился к нему, а после этого протянул кувшин Семену: – Квасу будешь, комиссар? Холодный. Вы, видать, притомились за сегодня – холодное-то оно лучше всего после работы. Семен помотал головой, Зариньш тоже отказался, а вот Андрей Овчинников приложился не менее знатно, чем хозяин дома. Тот уже устроился за столом на лавке, привалившись спиной к стене. Парень, теперь оказавшийся с ним рядом, продолжал молча буравить гостей взглядом. – Да ты садись, комиссар – в ногах правды нет. Может, обедать хотите? Есть картошка вареная, грибы, яблоки… – Спасибо, но мы по делу. Мужик, казалось, не обратил внимания на то, что Семен его перебил. Его больше беспокоило то, что Овчинников и Зариньш остались стоять. – Братцы, и вы садитесь, места-то хватает, слава Богу. Оба остались стоять – так выхватывать оружие было проще. Мужик усмехнулся: – Ну, не хотите, как хотите. Так зачем пришел, комиссар? Семен собрался с мыслями и начал: – Согласно декрету ВЦИК от 13-го мая сего года мы проводим изъятие излишков хлеба и прочего продовольствия для нужд государства. – Это какого государства? – Советской республики. – А где это? – Слышь, не юродствуй тут! Юдин пожалел, что взял с собой Зариньша, а Баранова оставил у двери. Зариньш никогда не мог удержать язык за зубами, а вот из Баранова слова было не вытянуть. Мужик даже не глянул на крикливого продотрядовца, обратившись к Юдину: – Посади свою шавку на цепь, комиссар, или я вышвырну ее из моего дома. – Да ты вообще попутал… – Андрис, заткнись! Еще хоть одно слово, и мы с тобой так побеседуем, что небо с овчинку покажется! Зариньш шумно задышал, но рот закрыл. Семен вновь обернулся к мужику. Пока что все шло не лучшим образом, но мужик хотя бы был разговороспособен. Юдин решил немного охладить обстановку: – Вас как зовут? Мужик глянул на него с удивлением, как будто Семен только что возник перед ним из воздуха. – Платон Карпович Петров, фельдфебель 121-го пехотного Пензенского полка. Сын мой Василий. Мужик показал рукой на парня. – А что он немой у тебя что ли? Этот вопрос прозвучал от Овчинникова. – Да нет, почему немой? Стесняется просто. А тебя как величать, комиссар? – Юдин. А еще в избе есть кто? – Нет, только мы и вы. – Хорошо. Итак, мы здесь, чтобы изъять излишки продовольствия. – Это я понял. Я только не понял, для чего. И в обмен на что. – В обмен на рубли и товары первой необходимости. Петров даже не усмехнулся – он рассмеялся. – Рубли сейчас не стоят ничего, и ты это знаешь, комиссар. Что касается товаров первой необходимости – мне нужно керосину для ламп и хорошего льна. Есть у вас? У Семена не было керосина и льна – он не нашелся, что ответить, поэтому через паузу Петров продолжил: – Как я и думал. Получается, что я должен отдать вам свой хлеб в обмен на ничто. Что же, я согласен, но только, если вы объясните мне, зачем. – Города голодают. Дети в нехлебных губерниях пухнут с голода. Ваш хлеб для них! – Виноват, но как же так вышло, комиссар? – Война, разруха, интервенция, в конце концов – немцы занимают большую часть Украины! – А в феврале 17-го едва цеплялись лишь за ее запад. Зариньш не выдержал и выкрикнул, готовый выхватить оружие в любой момент: – Ты что хочешь сказать, контра?! Петров посмотрел на Юдина, и Семену почудилось в этом взгляде извинение. После этого хозяин дома впервые за все время разговора обратился напрямую к Зариньшу: – Я не хочу сказать – я говорю. Я говорю, что вы и ваш бардак довели нас до такого состояния. Я говорю, что мы оказались там, где оказались, из-за тебя и таких, как ты, морда невоспитанная. И если ты еще раз вмешаешься в наш с комиссаром разговор, то живым ты из моего дома уже не выйдешь. – Это мы еще посмотрим, кого отсюда вынесут! – Закончил? Юдин обратился к Зариньшу спокойно и коротко – каждая собака в продотряде знала, что такой тон комиссара не сулил ничего хорошего. Андрис не стал отвечать и вновь шумно задышал. Петров кивнул и продолжил: – Я, разумеется, готов пожертвовать частью своего хозяйства на благое дело. Но встань на мое место, комиссар – вы разгромили державу, ударили армию в спину, заключили предательский мир, убили моего государя, а теперь вы говорите, что я должен отдать вам то, что заработал своим трудом, и надеяться, что вы пустите мой хлеб на правое и благое дело, на спасение страны от голода. Прости, но я тебе не верю. Семен буквально чувствовал, как напряглись Зариньш с Овчинниковым, но он все еще надеялся, что все получится без кровопролития. – Что я могу сделать, чтобы убедить тебя? Показать подводы с хлебом, идущие в города? – Поклянись. – Что? – Поклянись, что все, что вы отнимите у меня, достанется тем, кто в этом нуждается, а не будет разменяно на водку сегодня же вечером тобой и твоими бандитами. Семен почувствовал, что заливается краской. Он не мог до конца понять себя, но под взглядом этого человека ему стало вдруг очень неуютно. И все же ему захотелось поклясться, захотелось не обмануть этот ненужный осколок старого мира. Тогда и только тогда все будет не зря. Тогда и только тогда то, что Семен здесь делает, будет не злодейством, не ограблением, а действительным благом. Юдин с трудом заставил себя посмотреть в глаза Петрову и произнес: – Чем мне поклясться? – У тебя есть совесть? – Не уверен. – Тогда клянись тем, во что веришь. Семен обратился к себе, но в итоге не нашел в душе ничего нового: – Счастье трудового народа подойдет? Петров снова рассмеялся, а отсмеявшись, бросил: – Жаль, что меня не будет рядом, когда ты повзрослеешь, комиссар! Ладно, братцы – берите столько, сколько сможете унести!
*** Семен посмотрел на загруженные в подводу мешки с зерном. Они взяли у Петрова один мешок. Не один мешок излишек, а просто один неполный мешок – больше у него ничего не нашлось. Лишь один приметный мешок с черным пятном. Юдин нервно хихикнул и обернулся на избу Петрова – фельдфебель так бился за свой хлеб, как будто был первым «кулаком» губернии. Вдруг над домом Петрова стал подниматься дым. Это не был печной дым – изба занималась пламенем пожара. Только теперь до Юдина донесся запах гари. Он отошел от подводы и направился к горящему дому. Никто не бегал и не суетился, как это обычно бывает при пожаре – всем было плевать. Петрова и его сына нигде не было видно. Огонь жадно вгрызался в деревянные стены, а Семен смотрел на его пиршество и не мог оторвать взгляд. Какое-то давно позабытое чувство нашлось у него в душе, но за последними годами он забыл не только это чувство, но даже слово, которым его обычно называли. Юдина терзала мысль, что это он виноват в пожаре, и он никак не мог отбросить эту мысль, несмотря на ее абсурдность. Неожиданно сквозь разум Юдина прорвалось лошадиное ржание. Негромкое, но достаточное для того, заставить Семена оторваться от огненного безумия. Он повернул голову и увидел двух всадников, уезжавших прочь из деревни. Они были спиной к Юдину, но он все равно без труда их узнал.
*** Семен проснулся от шума. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что шум происходит от громких разговоров и смеха. Юдин сел на койке, издав тихий стон – прошедший день чертовски его утомил. Как и все предыдущие, впрочем. Юдину снилась родная Москва, и от того пробуждение вышло еще болезненнее. Он поднялся на все еще больные после дневной беготни ноги, кое-как натянул сапоги и вышел на воздух. Смеялись и шумели рядом с одной из распряженных подвод. Семен смог рассмотреть троих, столпившихся вокруг старой лампы. Он зашел за подводу, оставаясь незамеченным, а потом возник в переменчивом круге света, будто из ниоткуда. Разговоры заглохли на полуфразах, и установилась полная тишина. Семен понимал, что за такие фокусы его могут просто-напросто пристрелить в темноте, но не смог удержаться. – Что, Пономарь, скучно одному в сторожах стоять? – Дык, оно ясно дело, комиссар – скучно! – А вам, значит, не спится после сегодняшнего? Овчинников и Баранов смотрели на него, не зная, чего ожидать. Наконец, Овчинников нашелся: – Так душно очень, комиссар. Да еще Зариньш храпит за весь отряд! Юдин понимающе усмехнулся, а затем без перехода спросил: – А где самогонку добыли? Характерный запах чувствовался вокруг подводы совершенно отчетливо, да и стеклянные глаза, ловящие на себе блики от ламы, говорили сами за себя. Вот теперь тишина была настолько абсолютной, что слышно было лишь комаров, вившихся в воздухе. Конечно, никакого сухого закона в продотряде не действовало и не могло действовать, только вот добыть самогонку можно было ограниченным количеством способов. И все эти способы комиссаром не приветствовались. – Ну, чего замолчали-то? Где взяли, спрашиваю? Ответа вновь не последовало. Семен резко ударил ближнего к себе коротким ударом в живот. Ближним оказался Овчинников. Он упал к ногам комиссара, но долго не пролежал – Юдин поднял его за грудки и прижал к подводе: – Ты у нас мастер по таким делам, Андрюха, так что спрашиваю с тебя – откуда взяли?! – Да выменял я! Один мешок отдал! И что?! Вон его сколько! Не обеднеем! Семен увидел перед собой лицо фельдфебеля Петрова. Увидел зарево над его домом. И услышал его злые слова: «жаль, что меня не будет рядом, когда ты повзрослеешь». – Какой мешок?! Какой мешок, скотина?! – С зерном… – Ясно, что не с дерьмом! Как выглядел? – Это мешок, комиссар – как он мог выглядеть?! Ну, с пятном, кажется. Юдин разжал захват, и Овчинников сполз на землю. Семен обернулся – на лице Пономаря был написан страх, а вот Баранов был спокоен. Юдин встретился с ним взглядом и увидел в этом взгляде вопрос: «А как ты хотел?» Семен усмехнулся этому вопросу и пошел прочь. Он шел и шел. Кажется, его окрикнули, но он не собирался оборачиваться. Село осталось позади, медленно проплыли мимо сады, начались поля. Широкие и темные. Юдин сошел с дороги и пошел прямо через поле. Ему так хотелось полностью потеряться в этом поле, хотелось стать им. Семен ушел настолько далеко, что даже звезды перестали светить ему. Лишь в этот момент он поддался безотчетному порыву и обернулся – позади, шагах в десяти лежал, уткнувшись ничком, человек. Юдин подошел к нему и увидел, что человек мертв. Мертвец имел определенные сходства с самим Юдиным. Они были одинаково одеты, имели одинаковый цвет волос, даже сапоги были совершенно одинаковыми. Семен заметил в правой руке мертвеца Маузер и понял, что мертвец застрелился. Странно, что он не слышал выстрела. Подул вдруг сильный ветер, и Юдину пришлось закрывать лицо он пыли, почвы и травы, поднятых его порывами. Семен решил пойти дальше в поле, причем так, чтобы ветер все время дул ему в спину. Больше он не оборачивался.
16
Гражданка Караулова не узнала в шофере Ибрагимове того, кого видела за рулем таксомотора в ночь убийства. Дмитрий был немного разочарован, впрочем, после разговора с шофером он был к этому готов. Пускай в чтении людской натуры Белкин радикально уступал Виктору Павловичу, даже его скромных талантов хватило на то, чтобы понять, что таксист в этом деле не причем. Просто так вышло, что именно его таксомотор можно было без проблем угнать. Изыскания Стрельникова были чуть более успешны – теперь у них было имя Шарля Розье. В «Метрополе», правда, никакой Розье никогда не останавливался, но дежурный смог вспомнить некоего Розье, который ожидал звонка в ресторане. Этот Розье по описанию был как две капли похож на того человека, который заходил к Овчинникову домой. Заходил он, как выяснилось, и на проходную «Красного октября», где тоже спрашивал об Овчинникове. Дежурный из «Метрополя» вспомнил даже, что к Розье в ресторане присоединился один человек, и покинули они гостиницу вместе. Виктор Павлович сунул хамоватому дежурному фотокарточку Чины и услышал то, что так хотел услышать. Итак, некий интурист или кто-то выдающий себя за интуриста искал Овчинникова и встретился с ним в вечер убийства. Теперь, кем бы ни был Розье, именно он являлся главной фигурой того, что уже смело можно было называть делом. Делом об убийстве Осипенко, Родионова и Овчинникова. Виктор Павлович подорвался было сообщить об этом Владимирову, но того всю пятницу не было на Петровке. В итоге этот день Стрельников с Белкиным потратили на то, чтобы объехать как можно большее количество московских гостиниц. К вечеру Розье оставался таким же призраком, как и прежде – ни в одной гостинице такой не числился. Нашлись Розовы, Розенберги, Росси и даже один Розенкранц, но ни следа Розье. На этот вечер у Белкина были еще определенные планы, хотя он не горел желанием их реализовывать – сегодня была встреча с Александрой Вольновой. Дмитрий раздумывал об этом с самого утра, но в итоге решил довериться судьбе. В конце концов, пускай эта девушка и пугала его до желудочных колик, он все же испытывал определенный интерес к предложенному ею приключению. Оставив умаянного разъездами по городу Виктора Павловича, Дмитрий вышел в напоенную жарой улицу и направился к месту встречи. Июнь вступил в свои права и сразу взялся выжигать мостовые и дворы своим немилосердным жаром. Дмитрий заставил себя проехаться на забитом трамвае – идти было довольно далеко, а запас времени был не очень большим. Соскочил на Красной Пресне и дальше прошел пешком до старой ограды запущенного сада. У обшарпанного входа в парк он увидел знакомую фигуру и ускорил шаг. Одной Александре было известно, чем она руководствовалась, назначая встречу в заброшенном Трехгорном. Старое поместье пытались пустить в какое-нибудь дело после революции, но как-то не задалось, поэтому сейчас оно медленно, но верно разрушалось от течения лет. Парк пришел в упадок вместе с поместьем, пруды понемногу зарастали, а плитка дорожек трескалась под напором солнцелюбивой травы и древесных корней. Дмитрий слышал что-то о том, что скоро парк планируют привести в порядок, но точно ничего не знал. Александра увидала его, улыбнулась и помахала рукой – Дмитрий отчего-то смутился и только еще больше прибавил шаг. Рубаха мерзко прилипла к мокрой спине, а глаза болели от соленых капель пота со лба. – Я снова думала, что ты не придешь! – Я не опоздал? – Может и опоздал. Какая разница? Белкин смутился еще сильнее и одновременно разозлился на себя – Александра не делала ничего такого, из-за чего ему стоило так себя грызть. – Разница в том, сколько вам пришлось ждать. – Слушай, я ведь сказала, что не нужно делать из меня барышню с возвышенными чувствами – подождала и не рассыпалась! И еще бы подождала. Все, не хочу об этом! Пошли за мной. Вольнова буквально схватила Дмитрия за руку – из-за этого он не смог вырваться первым же инстинктивным движением. Александра рассмеялась в голос этой наивной попытке и потащила его под кроны разросшихся парковых деревьев. Деревья давали благословенную защиту от беспощадных солнечных плетей, но этим убежищем пользовались комары и мошки, кишевшие целыми тучами. Пока двое людей почти бежали сквозь парк, насекомые не могли к ним подступиться, но люди в итоге остановятся, и тогда у комарья начнется кровавый пир. Они уходили все дальше от входа и центральных аллей. Эта часть сада была совсем темной и даже дремучей. – Может, не стоит нам так углубляться? – Стоит! Не бойся – с нами милиционер. Дмитрию потребовалась пара секунд, чтобы понять, кого девушка имеет в виду. Он невольно улыбнулся. И тут же запнулся за какой-то корень, полетел вперед, пролетел мимо Александры и потащил ее за собой. Лишь в последний момент ему удалось удержаться от падения. Девушка тут же врезалась Белкину в бок, но даже это его не опрокинуло. Александра снова чему-то рассмеялась и вновь схватила его за руку – ее ладонь была потной и горячей. – Смотри под ноги, товарищ милиционер! И повлекла его еще дальше, еще глубже в дебри разросшихся кустов и переплетенных ветвей. Вокруг мелькали разрушенные следы цивилизации, полускрытые подо мхом и кустарником. То возникнет вдруг где-то сбоку колонна под античность, то мелькнет чуть далее гипсовое лицо какой-то недостижимо красивой женщины со сколотым носом и похабной надписью на лбу. Шум города совсем утих. Дмитрию почудилось, что он и эта странная девушка были теперь последними людьми на Земле. Или наоборот, первыми – беззаботными мартышками на осколках древней культуры. Вдруг Александра остановилась на месте и обернулась к нему: – Еще хоть раз назовешь меня на вы, и я оставлю тебя здесь и никогда не покажу выход. Несмотря на всю смехотворность этой угрозы, лицо Александры было предельно серьезным, как и ее тон. Все слова куда-то потерялись, поэтому Белкин просто кивнул. Вольнова тут же снова оскалилась в ухмылке: – Пошли – тут уже недалеко. И вновь они пробирались над корнями, под ветками, мимо разрушенных скульптур и неработающих фонтанов. – А откуда… ты знаешь это место? – Я выросла неподалеку. Кучу времени здесь провела в детстве. «Недалеко», обещанное девушкой, находилось еще примерно в десяти минутах плутаний и перебежек. Это была высокая беседка, к которой деревья отчего-то боялись подступиться. Рядом с ней рос лишь один куст, который, казалось, все еще держал форму после стрижки. Александра устремилась в эту беседку. Она наконец отпустила руку Дмитрия, разулась и ступила на холодные плиты, которыми был вымощен пол беседки. Белкин поступил чуть по-другому – он прошел под высокий круглый свод и прижался разгоряченной спиной к белой прохладной колонне. – Тебе нравится? Дмитрий выбрался из блаженного несуществования, подаренного холодной колонной, и открыл глаза. Александра устроилась прямо на плитах, благо они были лишь немного пыльными. Она сидела в расслабленной позе, запрокинув голову и прикрыв глаза. – Ты про место? Девушка громко фыркнула и легла на плиты, так и не открыв глаза. Да что же с тобой такое?! Место, это просто место – я нравлюсь тебе сегодня? – Ну, да. – Перестань бояться всего! Особенно меня. Здесь нет правильного и неправильного ответа – я либо нравлюсь тебе сейчас, либо не нравлюсь. Дмитрий почувствовал, что хочет исчезнуть отсюда, куда угодно, хоть на кухню крикливой коммуналки, хоть на столпотворный первомайский митинг, хоть в самый эпицентр перегруженного вечернего трамвая. – Мне жестко голове – предоставь свое колено. Белкин замешкался, но все же сел на плиты рядом с девушкой. Александра тут же расплескала свои пожженные солнцем волосы по его коленям и положила на них голову. Глаза ее оставались закрыты. – Что с твоими волосами? – Ааа, так ты все же хоть на что-то во мне обратил внимание! У меня так с детства – только солнце пригреет, как у меня на голове соломенный стог с темным верхом. Нравится? – Да. Александра открыла глаза и внимательно посмотрела на Дмитрия. В ином случае он опустил бы глаза вниз, но теперь так он как раз натыкался на взгляд девушки. Пришлось оглядывать белые колонны. – Теперь ты специально отвечаешь то, чего я не ожидаю? – Ты сама сказала, что неправильных ответов нет – сейчас мне нравятся твои волосы. Следующие минуты прошли в тишине. Александра не двигалась, и Белкин решил, что она задремала. Это было немного некстати – у него ноги начинали затекать, а пошевелиться он не рискнул. Разморенную тишину разрушил вдруг крик кукушки. Дмитрий поднял взгляд и увидел прямо под сводом, устроившуюся на каком-то бортике небольшую птицу. Птица, казалось, сама испугалась громкости своего умноженного эхом крика и вжала голову в плечи. Возможно, этот крик разбудил Александру, а возможно, она вовсе не засыпала, так или иначе, девушка пошевелила ногами и проворчала: – Чертова неделя. Уработалась за десятерых. – Я думал, ты учишься. – Я тоже так думала, а потом мой живот сказал мне, что в него неплохо бы иногда закидывать еду. – А где ты работаешь? Александра зашевелилась, подняла голову с коленей Белкина и зарылась в свою сумку. Дмитрий вытянул ноги и едва не застонал от облегчения. Девушка извлекла из сумки тетрадь, полистала ее и, найдя нужное место, передала Белкину, а после этого снова улеглась и прикрыла глаза. Дмитрий начал читать с того места, на которое она указала. – Читай вслух. Белкин удивился этой просьбе и попытался вспомнить, когда ему в последний раз доводилось читать вслух – не смог. Он прочистил горло и начал: – «Красное зарево над Японией». Ты эту статью писала, когда приходила на лекцию Георгия? – Да, читай, не отвлекайся. – «Пламя Мировой революции, о которой говорил Великий Ленин, начинает разгораться даже в таких отдаленных от центров пролетарской мысли местах, как Япония. Рабочие и крестьяне этой несчастной отсталой страны веками страдали от произвола военщины и кровавой деспотии местного самодержца. И до последнего времени состояние рабоче-крестьянской мысли в Японии можно было охарактеризовать…» – Не отвлекайся. – «…охарактеризовать одним словом – «одураченность». Именно одураченность толкнула японских солдат, которые большинством своим происходят из крестьян и рабочих, на совершенные ими в последние годы преступления, такие как: вероломное нападение на безнадежно прогнившую николаевскую Россию и Интервенция на Дальнем Востоке юной Советской республики в самый тяжелый для нашего революционного дела момент. Хочется, тем не менее, убедить читателя…» – Читай. – «…Хочется убедить читателя, что наши японские братья были во всех этих империалистических кровопролитиях такими же жертвами, как и мы. Более того, их положение много хуже нашего, ведь даже теперь, когда Советская Россия строит счастливое будущее, лишенное какого бы то ни было угнетения и подавления, японские крестьяне и пролетарии становятся жертвой самоуправного насилия со стороны японской потомственной военщины – самураев. Это ярко демонстрирует, что офицерство и военщина по самой природе своей контрреволюционны, и очистительное пламя Революции должно уничтожить их в первую очередь, даже прежде буржуазии и крупного… капитала…» Больше Дмитрий читать не мог. Он закрыл тетрадь и отбросил ее от себя. Александра крепко прижимала его ладонь к своей обнаженной груди. Сердце Белкина колотилось, как бешеное, а перед глазами плыли круги. Он попытался отдернуть руку еще раз, но вновь неудачно. Разумеется, если бы он по-настоящему захотел убрать ладонь, Вольнова даже двумя руками не смогла бы ему помешать. Просто он не хотел. И хотел одновременно. Так или иначе, он был теперь не в состоянии что-либо читать. – Ууу, да ты действительно никогда не был с женщиной. И что мы будем с этим делать? – Не знаю. Белкин не узнал свой голос. Воздух вокруг до невозможного раскалился, и Дмитрию казалось, что его кожа горит огнем. – Посмотри на нее. Дмитрий крепко зажмурил глаза и помотал головой. – Тебе ведь хочется этого. Ты думаешь, я не чувствую? Открой глаза – в этом нет ничего страшного. Наоборот, страшно, что ты этого еще не видел. Как бы Белкин не сопротивлялся, в итоге желание пересилило. Глаза открылись сами собой, но Дмитрий готов был поклясться, что услышал их скрип. Это была грудь. Белая женская грудь. Вполне полная и красивая. Александра немного недооценила то, с чем Белкину приходилось сталкиваться на работе – разумеется, ему уже доводилось видеть и женскую грудь, и иные интимности. Только то, конечно, с этим не стояло рядом. Он сам не заметил, как сжал ладонь чуть сильнее, чувствуя под ней податливую теплую кожу. – А это тебе нравится? – Комар сел. Согнать его? На вторую грудь Александры, немного выше соска действительно сел большой и наглый комар. Он уже впился в кожу девушки своим хоботком, и Александра не могла этого не чувствовать. – Нет, пускай делает свое дело – всем нужно чем-то питаться.17
Виктор Павлович заметил на лестнице знакомую спину и прибавил шаг. – Товарищ Владимиров! Спина продолжила удаляться. Ее обладатель был занят беседой и, очевидно, не услышал окрик. – Товарищ Владимиров! На этот раз спина остановилась. Стрельникова догнал Владимирова и наткнулся на неожиданно тяжелый взгляд, тут же обернувшийся, впрочем, серой приветливостью. – Доброе утро, товарищ Стрельников. Виктор Павлович, если не ошибаюсь? – Точно так. Товарищ Владимиров, мне нужно с вами поговорить. – О чем же? – Это касается… Виктор Павлович бросил взгляд на спутника Владимирова. Тот тоже был из ОГПУ, но Стрельников не знал, насколько он осведомлен об убийстве Осипенко, и насколько его можно об этом осведомлять. Поэтому окончание фразы Виктор Павлович решил сгладить: – …вашего дела. Владимиров, казалось, совершенно не удивился, как будто уже давно ждал, когда милицейский следователь решит с ним поговорить о деле, взятом на контроль. Он попросил своего спутника подождать и отвел Стрельникова чуть в сторону. – Вы вспомнили что-то? – Нет, дело не в этом. Это касается похожих случаев. – Товарищ Владимиров! Окрик раздался со стороны просторного кабинета оккупированного следственной группой по делу Осипенко. Стрельников никак не мог взять в толк, отчего чекисты решили расположиться на Петровке, раз все равно почти не привлекали к расследованию милицию. Владимиров бросил в сторону кабинета: «Сейчас, товарищ Гендлер!» а после этого обратился к Стрельникову: – Виктор Павлович, сейчас никак не получится – начальство. Давайте позже. – Во сколько? – Ближе к вечеру – часов в пять. Стрельников едва успел согласиться, а Владимиров уже сорвался и широким быстрым шагом, но не переходя на бег, устремился к ожидавшим его людям. Виктор Павлович хмыкнул – «начальство?» Как бы теперь головы не полетели за безрезультатность. Причем, голова Владимирова может быть первой. Так или иначе, от дел Стрельникова это было пока что достаточно далеко. А вот необходимость отыскать неуловимого Розье была вполне насущной. Этим Виктор Павлович и занялся. Было утро понедельника, с момента убийства Овчинникова прошла уже почти неделя, и у Розье была масса времени на то, чтобы убраться настолько далеко, что до него не смогли бы дотянуться даже длинные руки МУРа. Но даже в таком случае поискать его следы стоило, тем более что фамилия «Розье», да угнанный таксомотор были пока что единственными ниточками расследования. День вновь прошел в разъездах. Государственные гостиницы кончились еще в пятницу, поэтому теперь Стрельников с Белкиным отрабатывали кооперативные, в которых увидеть иностранца было практически невозможно. Их вновь преследовали неудачи. Не было в Москве никакого интуриста Розье, и у Стрельникова уже почти не оставалось сомнений в том, что никакого Розье вовсе не существовало никогда, зато существовал человек, который прикрылся этой фамилией. С забитыми от беготни ногами, усталый и разочарованный Виктор Павлович в оговоренное с Владимировым время был на Петровке. Стрельников утер пот со лба и постучал в дверь «чекистского» кабинета. Он надеялся, что ребята из ОГПУ смогли накопать за эти недели хоть что-то. Владимиров был в кабинете один. Он склонился к столу и что-то писал. Его поза была напряженной, а сам он производил впечатление быстроногого скакуна, которого впрягли в подводу с дровами. Владимиров поставил точку и поднял безразличный взгляд на Виктора Павловича. – Товарищ Стрельников, с утра кое-что переменилось, так что вам лучше обратиться к товарищу Гендлеру – теперь он главный. – А вы? – А я больше нет. Сейчас закончу отчет о проделанной работе и поступлю к нему в распоряжение. Несмотря на слова Владимирова, Виктор Павлович не спешил уходить – ему был нужен следователь, работавший по делу в течение долгого времени, тот, кто знает детали досконально, а не тот, кого прикрепили к делу на ходу. – Хорошо, я поговорю с ним, но прежде хотел бы все же с вами. – Зачем? – Можно сесть? Владимиров так же безразлично кивнул на ближайший стул. Виктор Павлович не без облегчения сел и дал ногам отдых – все же такие забеги были ему уже немного не по возрасту. Вскоре он уже вполне пришел в себя и собрался с мыслями для того, чтобы начать разговор: – Восемнадцатого мая мы обнаружили труп Матвея Осипенко. Один выстрел в сердце. Редкая, я бы даже сказал «экзотическая» маломощная пуля, которую никто не смог сразу узнать. Ничего не пропало, ничего не разбито. Товарищ Осипенко занимался… делами государственной важности, именно поэтому в то же утро вы забрали у нас это расследование. Поправьте, если я что-то путаю. Стрельников прекрасно знал, что ничего не путает, но ему было нужно, чтобы Владимиров хотя бы поддакивал иногда, сохраняя какое-то участие в разговоре. – Нет, Виктор Павлович, все верно. – Хорошо. Двадцать пятого мая в районе Хитровки был обнаружен труп дворника Родионова. Два выстрела – в голову и в сердце. Маломощная пуля не пробила череп и не убила Родионова, поэтому убийца его добил в сердце. Это была такая же пуля, что и в деле Осипенко. – Я знаю. Лицо Владимирова оставалось бесстрастным, а вот Стрельников не смог скрыть удивления. Лишь спустя несколько секунд до него дошло, что о Родионове мог рассказать криминалист Пиотровский, работавший, и в квартире Осипенко, и в комнатке Родионова. Владимиров между тем продолжил: – Нам известно о том, что оружие или, по крайней мере, пули подобные той, которая убила Осипенко, стали появляться в Москве, как грибы после дождя. Но и что? – А вам не приходило в голову, что эти убийства могут быть связаны друг с другом? – Нет, а должно было? В городе оказалось несколько странных пистолетов и пара ящиков патронов к ним, в ближайшее время они будут всплывать тут и там. Тут стоит поискать того, кто может быть источником этого товара, но у нас на это времени не было, хотя, может быть, теперь займутся. Стрельникову показалось, что последнюю фразу Владимиров произнес с бледной тенью грусти в голосе – это была первая эмоция, которую Виктор Павлович увидел у этого чекиста. – Товарищ Владимиров, а что именно вам известно об убийстве Родионова? – Только то, что там было использовано такое же оружие. Ну, и еще то, что Родионов был опустившимся алкоголиком и не имел никаких связей с Осипенко. Виктор Павлович улыбнулся: – Имел. Просто давно. Во времена их бурной молодости. Дело в том, что первого июня некто, представившийся Шарлем Розье, выманил из дома гражданина Овчинникова. Позднее тело Овчинникова было обнаружено в заброшенном доме в районе Спасопесковской площади. Один выстрел в сердце из такого же оружия такой же пулей. Правда, Овчинникова перед смертью избивали, как будто пытаясь что-то выведать. Родионова, кстати, тоже били по лицу. Самое интересное заключается в другом – Овчинников и Родионов были друг с другом знакомы. Жена Овчинникова вспомнила Родионова, а после смогла узнать его на фотокарточке. Она вспомнила так же, что при встрече эти двое говорили о достаточно отдаленном прошлом. Примерно периода революции и Гражданской. Владимиров был задумчив. Наконец он спросил: – То есть, вы полагаете, что раз две жертвы странного оружия были знакомы, то и третью они знали? – Именно так. Только не третью, а первую – Осипенко был первой жертвой. Все началось с него. – А не многовато натяжек, Виктор Павлович? Стрельников понимал, что натяжек многовато, но вот сомнений у него было намного меньше: – Послушайте, голубчик, как давно вы занимаетесь сыском? – Уже десять лет. – А я занимался сыском еще до революции. Не бывает таких совпадений. Да, вы правы, в городе могло появиться редкое оружие – мы и сами так подумали, увидев труп Родионова. Но в таком случае меня смущает разброс в его применении. Допустим, Осипенко погиб от рук профессионала, а мы вполне можем это допустить. Профессионал взял бы оружие на единственное дело. Надежное и без «хвоста». А после дела избавился бы от запачканного пистолета без всяких сожалений и раздумий. Далее погибает Родионов. Пьяница без денег и связей – его не бьют топором по голове – его пристреливают из, я уверен, совершенно недешевого оружия. Далее это странное оружие снова проявляется, на этот раз в убийстве технолога с «Красного октября», до революции бывшего, кстати, мелким мошенником. Вроде никакой связи, но отчего тогда убийства однотипны? Это всегда очень качественная работа почти без следов и свидетелей с завершающим выстрелом в сердце. Именно поэтому, когда нам удалось точно выяснить, что Родионов и Овчинников были знакомы, для меня стало совершенно очевидным, что был знаком с ними и Осипенко. Возможно, я ошибаюсь, и мы действительно видим лишь поразительное совпадение. А возможно, кто-то убивает конкретных людей, которые когда-то были связаны друг с другом, но с течением времени их пути разошлись до того, что один спился, а другой стал жить один в трех комнатах. Вот теперь Владимиров крепко призадумался. Спустя около минуты он спросил: – И зачем он их убивает? – Ну, это отдельный вопрос, голубчик! Боюсь, пока что мы не сможем на него ответить. Упиться теориями, впрочем, можно – учитывая, что знакомство Родионова и Овчинникова относилось к бурным годкам, а также то, что я о них знаю, я бы предположил месть. – Месть? Почему сейчас? – А вот это самый важный вопрос и ответ на него находится в деле, которое ведете… вели вы. Именно Осипенко был первым, именно в его окружении и связях скрывается тот, кто нам нужен. Неожиданно Владимиров снова стал совершенно безразличен. Он открыл свой отчет и взялся за перьевую ручку. – Поговорите с товарищем Гендлером, Виктор Павлович. Теперь это его забота. – Конечно, я расскажу ему об этом, но я, честно говоря, рассчитывал на вашу помощь. – В чем же? – Дело в том, что вы ведете это дело с самого начала и в любом случае знаете больше, чем тот, кто пришел вам на смену. Мне нужно… – Я не могу. – Понимаю. Мне не нужны все детали и обстоятельства. Просто что-то… какая-то наводка! Какие-то результаты. Какие-то люди. Неужели вы ничего не нашли за эти три недели? Владимиров посмотрел на Стрельникова тем самым тяжелым взглядом, который Виктор Павлович увидел у него с утра. – Вы ведь понимаете, что если расскажите товарищу Гендлеру то, что рассказали мне, мы заберем у вас это расследование и сделаем вашу жизнь проще. Почему вы так этого не хотите, Виктор Павлович? Стрельников даже поежился – этот чекист прочитал его с легкостью. Виктор Павлович перестал улыбаться и ответил на тяжелый взгляд Владимирова. – Товарищ Владимиров, сколько человек вы задержали за время этого расследования? – Тридцать шесть. – Среди них нашлось место домработнице или рабочему – соседу Осипенко? – Разумеется, нашлось. Виктор Павлович, а вам не страшно задавать мне такие вопросы? – Страшно, голубчик. Очень страшно. Но куда деваться? Вы бьете по площадям, а здесь нужно точное попадание. Вы не нашли убийцу сразу, значит, скорее всего, вы его не найдете, но кого-то осудить надо, и вы осудите. Возможно, даже не одного человека. Именно поэтому я хочу найти виновного как можно скорее – чтобы вы не успели поломать судьбы слишком многим. Вы сразу показались мне человеком толковым и основательным, тем, кто думает о деле. Каким окажется тот, кто вас заменил, я пока не знаю, поэтому о помощи я прошу вас, а не его. Как ни странно, Владимиров почти не раздумывал: – Хорошо, я попытаюсь вам помочь. Вы правы – мы бьем по площадям. Понятно, что домработница и сосед не при чем. Их и взяли-то для проформы. Но вот один человек… Владимиров залез в стол и извлек оттуда несколько сшитых печатных листков. Он положил листки поверх своего недописанного отчета и произнес: – Я, пожалуй, выйду подышать минут на десять, Виктор Павлович. Кабинет запирать не буду – вы же последите, чтобы никто из посторонних не заходил? Стрельников кивнул, не говоря ни слова. Владимиров тоже кивнул, поднялся на ноги и направился к двери. Уже у самой двери он, спохватившись, бросил: – Кстати! Вы сказали о том, что Родионов и Овчинников могут быть связаны с Осипенко, а что насчет четвертого?18
«Часто можно услышать, что так называемое «дыхание эпохи» навсегда уходит. Медленное исчезновение этого дыхания, есть признак приближения конца мира. Но любой год состоит не только из весны и лета. Справедливо это и для каждого отдельного дня. Как бы яростно не стремился человек исполнить мир таким, каким он был век или больше века назад, это недостижимо. А значит, важно брать все, что можешь взять, от детей нынешнего века. Люди, отягощенные любовью к прошлому, часто ошибаются из-за непонимания этого. Однако, люди, помнящие лишь черты своей эпохи и отказывающие прошлому в уважении, лишены твердости принципов…» Я втянул жаркий воздух и едва не чихнул от тополиного пуха, попавшего в нос. Закрыл записи и поднял взгляд на тополиные снежинки, кружившиеся в подсвеченном сухом воздухе. Это был хороший день для того, чтобы умереть. Возможно, в подобный день это и случится. Я подошел к воротам старого Семеновского кладбища и купил втридорога букетик белых гвоздик. У меня сегодня были дела среди мертвецов. Прости, что не позвал тебя с собой. Овчинников рассказал мне о троих жителях прошлого. Один из них отчего-то застрелился в широком поле под Пензой летом 18-го года. Я не без труда смог вспомнить его лицо. Двое других здравствовали на тот момент, когда Овчинников с ними пересекался в последний раз, а в обоих случаях случилось это еще в середине прошлого десятилетия. У меня не было особого выбора, поэтому пришлось идти по старому следу. След Филиппа Ермакова вел на Семеновское кладбище, где тот на момент 1924-го года служил сторожем. Старое Семеновское переживало сейчас не самые лучшие деньки. Хоронили здесь все реже и реже, а церковь пару лет назад упразднили, отдав здание кладбищенской администрации. Я бывал несколько лет назад на этом кладбище и хорошо запомнил дух запустения и покинутости, поселившийся среди старых крестов и тумб. Даже сейчас, в первую половину дня субботы здесь было совсем мало народу. Имена мертвецов бесконечно тянулись мимо меня. Пахло камнем и жарой. В действительности, я не очень понимал, что мне делать и к кому обращаться в поисках Ермакова. Однако это был тот случай, когда любое действие лучше любого бездействия. Поэтому я просто шел вперед, направляясь к той части кладбища, где хоронили погибших в боях и ветеранов всех войн от 1812-го до 1917-го. Я уже давно не навещал старого друга. Я услышал громкую брань из-за рядов могил, посмотрел в ту сторону и увидел несколькихчеловек, столпившихся возле свежей ямы вырытой в неверную сторону. Ленная меланхолия оставила меня со стремительностью горного потока. Я собрался и вспомнил, зачем здесь. Пригляделся к лицам ругавшихся, но никого не узнал. Огляделся по сторонам – бросил взгляд на аллею, ведущую к воинским могилам, затем на громаду храма. Выбрал храм – если Ермаков все еще работал здесь, в администрации мне могли подсказать, где его сейчас искать, а если нет, то вполне могли указать на его след. Безлюдье и тишина вновь начали разливать по моей душе покой и умиротворение – мне было хорошо здесь. Храм приблизился, но вопреки всем законам, стал от этого будто бы меньше в размерах, а не увеличился. Теперь он не был никакой громадой – простая и изящная московская церковь, видевшая, конечно, много лучшие времена. В теньке на ступеньках перед входом сидел сильно загоревший светловолосый человек в рабочей одежде. Он сидел, прикрыв глаза и уперев в землю перед собой лопату, за черенок которой держался так крепко, как будто это была винтовка с последним патроном. Неожиданно человек открыл глаза и посмотрел на меня. Возможно, он услышал мои шаги, а может быть, так просто совпало. Стоило ему открыть глаза, как я его узнал – эти ярко-васильковые глаза врезались мне в память очень крепко. Ермаков тоже меня узнал – я понял это по его взгляду. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не двигаясь и не говоря ни слова. Он пришел в себя первым и устало улыбнулся: – Какие люди зашли! Да еще на своих двоих! Как живешь? Я был удивлен настолько, что едва не открыл рот – это было последнее, чего я ожидал. Когда мы виделись в последний раз, отношения наши были совершенно далеки от дружбы или хотя бы доброжелательности, но теперь он приветствовал меня, как старого приятеля. Мне не оставалось ничего иного, кроме как быть вежливым: – Жаловаться не на что. А у тебя как дела? Ермаков небыстро поднялся на ноги, отряхнул запыленный зад, затем обтер об себя правую руку и протянул ее мне – я пожал почти без колебаний. – Да как видишь, терпимо. Пристроился, притерпелся, даже успокоился. Ты здесь по делу или в гости? – В гости. – А, ну да – гвоздики же! Прости, с самого утра сегодня думать не получается. Пошли, что ли? Провожу тебя до места. Я не стал отказываться – пусть вокруг и так было немного глаз, нас все же могли увидеть, так что убить его в глубине кладбища было надежнее. Ермаков оставил лопату прямо на лестнице, да так легко, как будто и не вцеплялся в нее только что до белых костяшек. После этого Филипп сорвал какую-то травинку из поросли вдоль паперти и закусил ее – он был совершенно спокоен и прибывал в удобстве здесь. Впрочем, это не было странно – если он все эти годы проработал на этом кладбище, то компания могильных камней ему была ближе людского тепла. Он спросил неожиданно: – И чем ты пробыл в эти годы? – Всем подряд. Филипп грустно усмехнулся и выплюнул травинку. – А сейчас где? – В Моссельпроме на бумажках. Я соврал так легко и быстро, что даже не успел испугаться. – Ууу… Неплохо устроился! Сытно, наверное? – Не жалуюсь. – Ну и я жаловаться не буду. – Давно здесь? – Да уже лет восемь. Оно как отгремело все, как усадьбы все пожгли, да расстреляли всех, кого могли расстрелять, выяснилось, что жизнь-то не изменилась ничуть. Я, как был не нужен, так и остался не нужен. А ведь сколько сил потратил на вот это вот все! Ну да ладно, не ради меня ведь все делалось – кто мне виноват, что я квасил да безобразничал, пока остальные крутились? Вот и оказалось, что на кладбище-то оно мне лучше всего будет – хоть мертвым, хоть живым. Здесь я, кстати, преуспел – пришел ночным сторожем, чтобы покойники ночами по улицам не бродили, а теперь целый завхоз! Самодержец лопат! Ты уж извини, что я все треплюсь – в иной день ни с одной живой душой словом не перекинешься, а мертвые болтать не любят. Ты, кстати, один? Хотя, можешь не отвечать – по глазам вижу, что один. Я тоже один, да так, наверное, уже и останусь. О! Вон мой знакомец – Лешка Прокопец. Я с ним еще в 17-м полицейский участок брал – ух, натащили тогда! А погиб глупо – брат родной пристрелил. Вроде как случайно, но так кто же теперь разберет? А вон за той березкой Фаддей Цветков. Он был с нами в тот раз, когда… Ты представь, вроде как прямо на бабе кони двинул – то ли сердечко не выдержало, то ли еще чего. Помню, как хоронили. А березка-то разрослась – надобно убрать. Кстати, мы уж мимо прошли, но о таком парне не грех рассказать. Яшка Бережнов. Он при старом режиме вроде как поэтом был. Только писал под другой фамилией. У нас здесь рифмоплетного народу мало лежит – немодное местечко. Ну и ладно! Не жалко! Пусть Ваганьковку собою забивают! О чем бишь я? А, Яшка! Так вот, встречал я его как-то пару лет назад по лету. Кажется, июль был. Я тогда проигрался прилично… только это между нами, хорошо? Так вот, проигрался и в конурку свою не совался несколько дней, чтобы на мордоворотов не попасть. То здесь ночевал, то по знакомым. А тут зашел в рюмочную и вижу – Яшка. Мы с ним еще с довоенных деньков были знакомы. Уж в каком раздрае он был – писал и рвал, рвал и писал! На обрывках, клочках и грязных столах. И пил, не останавливаясь, не щадя, как в последний раз. И лицо его помню – белое, как мел и все в окопах, траншеях, рытвинах и воронках от размышлений и дум. Кто бы этих писунов понять мог – вот вроде при деньгах был, а все душа не на месте. А потом встал вдруг, как пыль всей жизни с себя стряхнул, и пошел ровно-ровно на выход. Ну, я окликнул, спросил о том, куда он дальше, а Яшка посмотрел на меня, как в первый раз увидел, потом взглядом то ли на потолок, то ли на небо указал и улыбнулся. А через пару дней повесился. А вот в ту сторону через пять участков Марфуша Ломовицкая успокоилась. Вот это девчонка была! Мы с ней погуливали в прошлой жизни. Причем, она-то погуливала, а я-то гулял. Хотел, чтобы как-то все сложилось. Не сложилось. Она сестрой милосердия пошла, да надорвалась – накрылась от тифа в 16-м. Хорошо хоть в Москву отпустили умирать, а не в этой ихней действующей армии. А вон, кстати, отец мой. Ух, и поколачивал он меня да младших! Мне, понятно, больше доставалось – а как иначе? На то старшие и нужны, чтобы вместо младших получать. Уж вроде года с 18-го с ним не общался, да и вообще думать забыл, а поди же ты – как плохеть ему стало, он сестру мою Настю за мной отправил. Знал, что ее я к черту ни за что не пошлю. А знаешь, зачем я ему понадобился? Оказывается, прознал старый, что я на кладбище устроился, и захотел через меня себе местечко подешевле выбить. Ну, я подсуетился, хотя это и не сложно совсем было – место-то у нас есть. Уважил старика. Он, конечно, мне добрых слов за жизнь сказал не больше десятка, но ведь и из меня сын никудышный! Если хочешь, и для тебя местечко придержу. Ты уж не серчай – живые о смерти совсем мало думают, а как окочурятся, так сразу родственники да ближние завывают: «Куда? Как? Почему так дорого?» Так что ты подумай – место хорошее подберу. Есть тут одно – там липа молоденькая рядом растет. Лет через тридцать-сорок разрастется да съест то, что от тебя останется. Если не выкорчуют, конечно. Но я уж напрягусь, чтобы не выкорчевали – я тоже там рядышком хочу устроиться. Чтобы и мне гробовые доски ее корнями поломало, чтобы и меня всего в свой рост пустила – вот уж действительно «Тлен к тлену…» Так ведь эти веруны говорят? Я, знаешь, раньше шумную компанию любил, а в последние годы живу и чувствую, как старею, и все больше тянет к земле. Но оно ведь и не плохо! У меня здесь друзей уже больше, чем там – за оградой. Теперь я больше люблю тихие вечера в кругу друзей, а не праздники в шумной толпе. Может, недолго осталось? Да ты и сам, я смотрю, думаешь об этом – о преждевременной старости и скорой смерти. Забавно разложилась жизнь на части – вот приходит человечек в мир. Ну, кто распорядился, чтобы человечку досталось лишь шумное веселье или темнейшая ночь? Найти бы этого распорядителя, да разбить ему морду, а потом за шкирку и носом, носом его об могильные плиты тех, кто был лучше нас! Вот бы он все делил поровну, и счастье, и несчастье. Чтобы всем доставалось и того и другого в равной мере. А то какая-то несправедливость получается – кто-то все копит и копит счастье, а кому-то одно несчастье достается! Только бы счастья хватило на всех. А то получится опять как с хлебом и деньгами. Ты извини, что меня так понесло – мертвые слушают хорошо, но отвечают редко. А живые наоборот. Как-то у тебя выходит посередке быть. Слушай, я не извинился за тот раз. Все мы тогда были… Я выстрелил ему в спину, надеясь, что пуля пройдет через лопатку и не получится, как с воробьем. Ермаков осекся на середине фразы, стал поворачиваться в мою сторону, но завалился на спину на полуобороте. Я нагнулся и заглянул в его исполненные из синего стекла зрачки. Филипп был уже мертв. Я опустился на колени, прикрыл ему глаза и произнес, с трудом узнав свой голос: – Я прощаю тебя. Неожиданный порыв ветра ударил в росший рядом куст, и тот склонился под напором воздуха вперед, как будто бы кивая мне. Теперь, умерев, расправив руки и изогнув шею, Ермаков напомнил мне гуся. Он был странно похож на меня в этот момент. Или точнее, это я был на него похож. Захотелось лечь рядом с гусем и уподобиться ему во всем, начиная с позы и заканчивая смертью, но я тряхнул головой – мое время еще не пришло. Пускай смерть давно была в числе моих возлюбленных друзей, в этот день нам все же было не по пути. Я поднялся на ноги и отряхнул колени. Провел по волосам рукой и подобрал с земли букетик белых гвоздик – они были не для Ермакова. Тот, кому они предназначались, лежал тут же рядом. Голова Филиппа почти касалась ограды подзапущенного участка. Я поправил немного покосившийся крест и в меру сил прибрался. После этого я положил цветы аккурат под старую табличку с именем. Немного посидел, дожидаясь, пока спине станет невыносимо под лучами забравшегося на вершину солнца. Прежде чем уйти, я бросил молчаливому кресту: – Скоро свидимся.19
Виктор Павлович слушал краткий и неполный рассказ Владимирова о четвертой жертве странных пуль, не перебивая и не отвлекаясь. С его губ не сходила улыбка. Не сходила, но становилась все более рассеянной. В том, что о новом убийстве Стрельников узнал лишь из уст чекиста, не было ничего странного. Просто на Семеновское кладбище выезжали другие оперуполномоченные. Немного странным было скорее то, что прошлые тела так удачно (или неудачно) выпадали на их с Белкиным долю. Владимиров знал не очень много. Только то, что на Семеновском нашли труп, из которого извлекли пулю-сестрицу той пули, которая поразила тело Осипенко. Он закончил свой рассказ и спросил: – Этот тоже, по-вашему, связан с Осипенко? – Пока неясно. А кем он был? – Завхоз. Работал давно. Не сидел. Задерживался, вроде как, несколько раз, но большего не знаю – не вдавался. Виктор Павлович задумчиво кивнул, а после этого развел руками: – Голубчик, по столь скудным сведениям я ничего сказать не могу. Впрочем, я поспрашиваю у тех, кто работал на месте – может быть, они что-нибудь подскажут. Владимиров кивнул и резко поднялся на ноги. Вскоре дверь за ним закрылась, и Стрельников остался в одиночестве примерно на десять минут. Он тут же отодвинул размышления о новом трупе и придвинул листки, оставленные Владимировым. Это была копия протокола допроса. Именно копия, потому что оформлено все было кое-как и наскоро, хотя штамп о секретности неизвестный составитель поставить не забыл. Виктор Павлович внимательно посмотрел на отпечатанную аббревиатуру «ОГПУ», потом на закрытую дверь в кабинет. По спине пробежал холодок, но Стрельников дернул плечами и больше не отвлекался на мелочи. Допрашиваемого звали Иваном Григорьевичем Митиным. 1901-го года рождения, русский. Митин служил в организации, о которой Стрельников никогда ничего не слышал и, видимо, не должен был услышать.– Опишите характер вашей работы. – Я инженер-конструктор. В последние годы занимаюсь разработкой систем глушения звука выстрела. – У вас найдена германская и американская литература, посвященная оружию. Как вы это объясните? – Я занимался исследованиями. Первый патент на устройство глушения звука выстрела был получен швейцарцем, затем изыскания в этой области проводились в США и Дании. Я вынужден обращаться к иностранной литературе, чтобы не повторять ошибки предшественников. – А отечественной литературы вам для этого недостаточно? – Нет. – Какими иностранными языками вы владеете? – Немного читаю по-немецки. – И каким же образом вы читаете, например, книги на английском? – Работаю со словарем. Некоторые места отдаю на перевод. – Кому?
Митин назвал сразу несколько имен. Стрельников пробежал их глазами, но не стал заостряться – на это попросту не было времени. А переписывать что-либо Виктор Павлович не рискнул.
– Что это за пометки? – Я подчеркнул те места, которые вызвали у меня интерес. – Здесь помечен целый абзац, а здесь только один символ – почему такой разброс? – Я не смог сам перевести этот абзац и планировал отдать его на перевод. Скорее всего, вместе со всей главой – там очень много непонятности. С этим символом тоже возникли проблемы. – Какие? – Он неверен. Скорее всего, это опечатка. В тексте имеется в виду сила, то есть большая латинская «эф», а здесь указана отчего-то большая «дубль-вэ». Что за «дубль-вэ» и откуда она взялась? Работа? Ни к селу, ни к городу. Что-то еще? Потому и пометил, что непонятно.
Виктор Павлович посмотрел в низ листа и увидел, что там все еще говорят об иностранной литературе. На это у него тоже не было времени. Стрельников перевернул листок и забегал глазами по строчкам, ища то самое, зачем Владимиров дал ему этот протокол. Виктора Павловича начинала брать досада – тот, кто вел допрос, все приставал к незначительнейшим мелочам, связанным с германскими книгами, все искал тайные смыслы в пометках Митина и не переходил к тому, из-за чего Митина собственно задержали. Наконец, продравшись через названия книг и инженерные рассуждения задержанного о глушении звука выстрела, Виктор Павлович нашел то, что искал.
– Вы были знакомы с товарищем Осипенко до его назначения начальником вашего отдела? – Я не был с ним знаком. – Товарищи Никаноров и Коган показывают, что вы ударили Осипенко по лицу сразу, как только вам его представили. Объясните это. – Я не был с ним знаком, но я его узнал. Из-за него погиб мой брат. – Расскажите об этом. – А смысл? Вы все равно мне не поверите, как не поверили тогда. – Товарищ Митин, не уклоняйтесь от ответа, а то это будет воспринято, как попытка запутать следствие. – Хорошо. Воля ваша. Брат мой Василий был инженером, как и я. Только много более лучшим инженером. Начиная с 1925-го года, он работал над новым самозарядным пистолетом. Пытался объединить достоинства американского Кольта «эм» 1911 и германского Люгер-Парабеллума. Можете мне поверить, товарищ следователь, это работа всей жизни для оружейника. Одна из тех вещей, за которые потом ставят памятники и дают ордена. Работа шла небыстро, и Василий позволял себе отвлекаться на другие идеи, например, помогал мне. – В чем? – В разном. – Отвечайте на вопрос, товарищ Митин. – Ладно. Например, он занимался разработкой пистолета с дозвуковой скоростью полета пули. Только при дозвуковой скорости возможно хорошее глушение звука выстрела – если больше, то образуется ударная волна, с которой ничего не сделать. Разумеется, нам пришлось думать и о специальном патроне с уменьшенным зарядом пороха. – Вы довели эти работы до конца? – Нет. – Почему? – Потому, что его арестовали. – По какому обвинению? – Антисоветская деятельность, создание контрреволюционной группы. При обыске у него нашли антисоветские листовки. Василий вел разработку своей системы не один, разумеется. Из всех, с кем он работал, на суде показания против него дал только один человек. Близкий друг и коллега. Именно с его слов было надежно установлено, что мой брат, оказывается, вел антисоветскую пропаганду среди своих коллег и друзей, что готовил покушения на выдающихся членов партии и имел контакты с белым зарубежьем, куда хотел бежать. Я не очень понял только, он сперва хотел бежать, а потом устроить покушение или наоборот. – Вы считаете обвинения ложными, товарищ Митин? – Разумеется, товарищ следователь.
Виктор Павлович почувствовал, что невольно улыбается этим словам – Иван Григорьевич Митин явно был не из робких. Впрочем, Стрельников тут же обругал себя и продолжил читать.
– Ваш брат был осужден? – Да. «Вышка» с заменой на десять лет лагерей – видимо, планировалось привлечь к какой-то инженерной работе. Не получилось – Василий умер на Соловках от воспаления легких меньше чем через год. У него всегда легкие были слабые. – В каком году это было? – В 1928-м. – И человеком, который давал показания против вашего брата, был Осипенко? – Да. Он на этом подрос изрядно. Даже что-то смог сваять в итоге, но в ход его оружие не пошло. Строчить, видать, оказалось проще, чем чертить. А потом я увидел его своим, с позволения сказать, начальником и не удержался – влепил по физиономии от всей души. А он, как на ноги вернулся, кулачонками потрясать начал, прыгать, кричал, что сгноит. – Тем не менее, никаких последствий не было. Осипенко не стал ничего сообщать руководству? – Не знаю, товарищ следователь. Может быть, не стал, а может быть, его наверху приструнили. Не для кого ведь из вовлеченных людей секретом не было, на чем Осипенко себе репутацию слепил – догадываюсь, что поклонников его инженерного таланта не так много найдется. – Как строилось ваше общение дальше? – Никак. Не было между нами никакого общения. Я занимался своей работой, он своей. Никто ни к кому не лез. Он вообще в эти наши конструкторские дела не любил вникать – ему больше нравилось в каби…
Тяжелая дверь заскрипела, и Стрельников тут же оторвался от чтива. К его облегчению за дверью оказался Владимиров. Он вернулся на свое место, по пути забрав протокол из рук Виктора Павловича. Стрельников невольно потер пальцами, желая вновь нащупать листки. Митин был зацепкой, даже зацепищей. Владимиров убрал протокол в стол и внимательно посмотрел на старого следователя: – Это может быть он? – Разумеется, голубчик! Пожалуй, теперь я понимаю ваше недоверие к моим словам – у вас есть такой хороший подозреваемый! Он у вас сейчас? Вы его держите? – Нет, он отпущен. – Но почему?! Виктор Павлович сам не заметил, как разгорячился. Ему хотелось переговорить с Митиным немедленно или, хотя бы, чтобы с ним переговорил Владимиров, задавая правильные вопросы. – Потому, что это совершенно точно не он. Стрельников откинулся на спинку стула и протянул: – Алиби? – Да, алиби, Виктор Павлович, причем такое, что даже мы с вами находимся под большим подозрением, чем Митин. – Вы смогли меня заинтриговать, товарищ Владимиров. Чекист кивнул, как будто создание интриги и было его целью, а потом произнес: – В вечер перед убийством Осипенко Митин был задержан на Сыромятнической набережной и приведен в отделение милиции, где и провел ночь. Действительно провел – мы проверили. – А за что задержан? – Хулиганство. Бузотерил и ругался пьяным. Утром отпущен. Его начальству было сообщено, но это было первое его задержание и вообще первый проступок, если не считать истории с ударом по лицу Осипенко, так что последствий, вроде, не было. – За что-то очень его начальство ценит. – Да, ценит – Митин характеризуется почти исключительно положительно. В отличие от Осипенко, кстати. В общем, никого лучше Митина на роль убийцы у меня нет, но Митин точно не мог быть убийцей Осипенко. Владимиров сделал ударение на фамилию первой жертвы, и Стрельников понял его намек. – Я могу поискать связь Митина с другими убийствами, товарищ Владимиров. Но мне нужно что-то еще, кроме его слов. Фотография хотя бы. – Простите, Виктор Павлович – фотокарточки, сделанные при задержании, подшиты к делу, и вы сами понимаете, что изымать я из дела ничего не буду. Виктор Павлович кивнул. – Но показать-то вы мне их можете? – Боюсь, что нет – дело сейчас у товарища Гендлера, поэтому вам все же придется обратиться к нему и рассказать то, что вы рассказали мне. – Хорошо. Стрельников не был до конца уверен в том, что не соврал только что. – Ну, хоть опишите мне его, голубчик. Владимиров ответил без всякой заминки, показывая в себе профессионала: – Среднего роста, круглое лицо, большие уши, глаза светлые, на лбу залысины, волосы тоже светлые. Весьма обаятельный при личном общении.
20
После случившегося в запущенном парке Дмитрий не хотел больше оказываться с Александрой один на один. Девушка что-то разбудила у него внутри. Что-то злое, агрессивное, рвущееся наружу. Белкину не хотелось касаться ее тела, даже случайно, даже легко – он боялся, что это новое чувство прорвется сквозь привычную маску отрешенности от мира. Новое свидание Александра назначила уже на понедельник, и Дмитрий все выходные потратил на решение головоломки о том, куда бы им сходить так, чтобы вокруг были люди, но не было ненавистной толпы, застарелое стеснение перед которой все еще перевешивало для Дмитрия новый страх перед этой девушкой. Наконец, Белкин пришел к немного странной идее разрушить вечерний отдых Георгия Лангемарка. Особых мыслей о том, чем они втроем займутся в усталый вечер понедельника, у него не было, однако Георгий восполнил этот пробел. Оказывается, в вечер понедельника у него намечались небольшие посиделки, на которых он был бы рад увидеть и Дмитрия с его новой подругой. Теперь, после очередного бегательного дня, который вовсе не приблизил их со Стрельниковым к неуловимому интуристу Розье, Дмитрий уже десять минут ждал, задерживавшуюся Александру. Он немного нервно одернул рубаху, обругал себя за нервозность и от того разнервничался еще больше. Белкину пришло вдруг в голову, что было бы в духе Александры сегодня не прийти. Он обвел взглядом серую людскую массу с вылезающими тут и там усталыми лицами и пришел к осознанию, которое тут же бросило его в жар – он хотел, чтобы она пришла. Более того, он хотел остаться с ней вдвоем, хотел снова прикоснуться к ее обнаженной груди и почувствовать как будто бы совершенно спокойный ход ее сердца… – Привет, Митя! Александра подошла к нему со спины и шепнула приветствие на ухо. Белкин дернулся и едва не оттолкнул ее на импульсе, но девушка уже сама сделала шаг назад и заливисто рассмеялась. – Ну, прямо дикий зверек! – Я, между прочим, вооружен. – А я, между прочим, ничего не нарушала и вообще со всех сторон добропорядочная. – Все равно, не стоит так подкрадываться. Александра махнула на него рукой и фыркнула. – Теперь ты не дикий зверек – теперь ты человек в футляре. Лицо ее на секунду выразило настоящее отвращение, но оно тут же стерлось веселой усмешкой, что окончательно смутило Дмитрия. Он и сам не заметил, как Александра накрепко взяла его за локоть, и они типичной парочкой прошагали по вечернему городу целый квартал. Собственно, к действительности его вернул вопрос Александры: – А куда мы идем? – В гости к моему хорошему другу Георгию Лангемарку… хотя, ты же его знаешь! – И как ты с такой внимательностью и памятью в милиции работаешь, Митя? Дмитрий не стал ничего отвечать на этот вопрос. Еще через квартал Александра вновь нарушила тишину: – И чем мы займемся в гостях у твоего хорошего друга Георгия Лангемарка? – Ну, у него сегодня собирается небольшая компания. – Ааа, так ты ведешь меня на пьянку! Ну, наконец-то – хоть что-то человеческое среди твоих интересов нашлось! Теперь будет о чем поговорить, кроме головоломок. Только не вздумай смущаться и замолкать, Митя – разговаривай со мной. Отпарируй мне – я это заслужила! Скажи, что хорошие институтки не ходят на пьянки или еще что-нибудь в этом роде. – Как день прошел? Дмитрий задал этот вопрос не без подросткового желания позлить Александру, однако она не разозлилась, скорее наоборот: – Ну, так тоже пойдет. Наконец-то с тобой стало можно общаться! Спустя несколько минут молчание нарушил уже Белкин: – Так как день-то прошел? – Нормально. День, как день. Статью о Японии отклонили, ну да не жалко. – А на учебе-то была? – А ты следишь за прогульщиками что ли? Была – будь спокоен. Могу конспект по основам марксизма-ленинизма показать, если хочешь. – Не хочу. – Похоже, я наконец-то научилась тебя предсказывать. Вскоре они нырнули в дворик, в котором был подъезд дома Георгия. Дмитрий вдруг остановился – это место вполне аккуратное и спокойное отчего-то показалось ему братом-близнецом темного, залитого людским отчаянием дворика на Хитровке, на который выходил дом Родионова. Белкин тряхнул головой и поддался Александре, тянувшей его вперед. Дверь им открыла незнакомая Дмитрию женщина. Ей было около сорока на вид, в волосах тут и там пробивались седые волосы, а лицо несло на себе тяжелые очки. Женщина оглядела Белкина, немного задержала взгляд на Александре, а затем улыбнулась: – Вы, наверное, Дмитрий? – Да, а это моя подруга Александра Вольнова. – Очень приятно. Зинаида Яковлевна Голышева. Проходите скорее, а то они такими темпами скоро драться начнут. На лице Зинаиды Яковлевны после этих слов отчего-то снова появилась улыбка. Дмитрий немного растерянно посмотрел на свою спутницу – та тоже улыбалась в ожидании новых приключений. Что-то странное почудилось Белкину в этих двух женских улыбках – как будто между их обладательницами была какая-то тайна, в которую он не был посвящен. Это ощущение ушло, когда из гостиной донеслись голоса двух мужчин. Один из этих голосов принадлежал Георгию: – Женя, ну ты ведь понимаешь, что в оригинале этот слог звучит иначе? – Понимаю, понимаю… Знаешь, чего я не понимаю? А как именно его записать кириллицей? На это Георгий ничего не ответил. Дмитрий прошел вслед за Зинаидой Яковлевной в гостиную. Александра шла за Белкиным и иногда зачем-то тыкала ему пальцем в разные части спины. Дмитрий неожиданно для самого себя усмехнулся этому: «И кто из нас больше похож на дикого зверька?» У раскрытого настежь окна гостиной стояли и курили двое. Георгий расслабленно полуприсел прямо на подоконник и тянул самокрутку. Белкин никогда прежде не видел друга курящим. Лицо Георгия было, вопреки позе, очень напряженным и задумчивым. На него смотрел с легкой усмешкой худющий человек с немного безумным взглядом. Он тоже курил, немного неловко заложив левую руку в карман своего старого пиджака. Георгий отвлекся от размышлений и поднял взгляд на Зинаиду Яковлевну – та молча кивнула ему и устроилась в кресле, которое обычно занимал хозяин квартиры. Она тут же склонилась к какому-то листку, лежавшему на рабочем столе. Дмитрия и Александру Лангемарк, казалось, вовсе не заметил. А вот его собеседник рассеяно кивнул новым людям. Александра, помявшись в новой обстановке не больше пяти секунд, уверенно прошла и села в кресло, в котором обычно сидел Дмитрий. Это был такой будничный жест, как будто она была в этом доме уже много раз. Впрочем, ни Георгий, ни кто-либо другой не собирались возражать ее самоуверенности. Дмитрий остался стоять в дверях – как и всегда в обществе, он чувствовал себя совсем чужим. Как ни странно, с этим чувством отчужденности помогла справиться странная игра в гляделки с Александрой. В один момент она внезапно показала ему язык – Дмитрий не удержался и усмехнулся. Это как будто вновь включило звуки в комнате – Зинаида Яковлевна зашелестела бумагой, Георгий загасил самокрутку и чертыхнулся, обжегшись, а его собеседника эта неприятность заставила рассмеяться. Георгий справился с самокруткой и отрицательно помотал головой, отвечая на давно заданный вопрос: – Не знаю. Ты прав – кириллицей, как не пробуй, выйдет плохо. Разве что через «шэ» попробовать. – А чем «эс» хуже, Георгий? И еще – тогда важно было предложить систему. Тогда, в 17-м важно было выработать какой-то универсальный подход, чтобы не перевирать одни и те же слова разными транскрипциями. Я это сделал. Хорошая или плохая система у меня вышла, нам уже увидеть не доведется – проверка временем штука злая и долгая. Зато я уже сейчас, как и в последние десять лет могу уверенно говорить: «Не нравится? Не пользуйтесь!» – Справедливо… Георгий отчего-то выглядел расстроенным. Он опустил взгляд и смотрел на пепельницу. Спустя примерно минуту Лангемарк оторвался от пепельницы и оглядел комнату – кажется, только теперь он заметил новых гостей. Лицо его тут же посветлело. – Митя! Я уж подумал, что не придешь – на тебя это не очень похоже. И вы… Александра, кажется? – Не кажется. Александра и есть. – Как ваша статья? – Все хорошо. Дмитрий бросил взгляд на лицо Александры – он не понял, зачем она солгала. Георгий продолжил ее расспрашивать об этой статье, а Белкин огляделся вокруг, только тут вспомнив о том, что ему уже можно сесть. Александра заняла самое лучшее и привычное ему место. Неуютность и не думала никуда пропадать, и Дмитрию очень бы хотелось занять именно это кресло. Пришлось довольствоваться стулом. Лангемарк, между тем, представлял своих гостей друг другу. Он указал на худого человека, который продолжал курить и держать руку в кармане: – Это Евгений Дмитриевич Поливанов. Лингвист, полиглот, переводчик, почетный… Кто ты там, Женя? – Я там опальный лингвист Поливанов. – …почетный опальный лингвист Поливанов Узбекского государственного научно-исследовательского института, что в древнем городе Самарканд… – Уже Ташкент – мы переехали. – …что в не таком древнем городе Ташкент. Ну и просто гений! – Клоун ты, Лангемарк… – Стараюсь! Кто, если не я? Дмитрий смотрел на своего друга со все возрастающим изумлением – собранный и спокойный Георгий представал вдруг балагуром и весельчаком. Как ни странно, ему это шло. Дмитрий забыл улыбнуться от удивления, а вот Александре, которая почти не знала Лангемарка, было откровенно весело. Впрочем, ее многое веселило. Георгий, оставив Поливанова в покое, продолжил: – А это Зинаида Яковлевна Голышева – яркий свет в кромешной тьме. Математик и автор мозголомных математических задач. Сотрудник Физико-математического института Академии наук и просто очень хороший человек. Зинаида Яковлевна слабо улыбнулась Георгию, а после вернулась к бумагам. Дмитрий услышал среди того, что сказал Лангемарк, очень важную и интересную вещь и намеревался немного поприставать к Голышевой с вопросами, когда представится возможность. Теперь внимание Георгия переместилось на них с Александрой: – А это мой друг Дмитрий Белкин, советский милиционер и по совместительству самый быстрый и объемный разум, который я видел – представляешь, Зина, этот молодой человек решил составленный мной по твоим указаниям квадрат с заполнением одним лишь умом, без карандаша! Белкин вспомнил иероглиф, который может значить, как небо, так и пустоту, запрятанный в клетчатый квадрат. Взгляд его уперся в немного перекошенную спину Зинаиды Яковлевны – значит, именно она придумала эту головоломку. – Милиционер? Поливанов протянул этот вопрос с какой-то недоброй интонацией. – Да, милиционер, но можешь быть спокоен, Женя – ты ведь в простом штатном отпуске. После этого Георгий повернулся к Белкину: – У товарища Поливанова имеется определенное… противоречие с государством. Ничего незаконного, просто споры лингвистов, но с некоторых пор в Москве он не самый желанный гость. Дмитрий заставил себя заглянуть в колючие глаза Поливанова и кивнул, показывая, что все понимает. Пытаясь представить Александру, Лангемарк все время натыкался на препятствия – она снова не сказал ему свое отчество, долго крутила насчет того, чем она занимается и где учится. Дмитрий снова ее не понимал – пока что она говорила удивительно мало правды в этой квартире, и Белкин не знал, очередная ли это забава для нее или у девушки есть причины для скрытности и лжи. Как ни странно, после этой неуклюжей формальной части вечер потек вполне приятно для Дмитрия. Никакой ожидаемой Александрой пьянки, разумеется, не было – одна бутылка вина на всех на вакханалию явно не тянула. Кроме того, Белкин сделал лишь пару глотков из вежливости. Георгий увлекся беседой с Поливановым, причем говорили они о чем-то настолько профессионально-дремучем, что Дмитрий даже некоторые слова не понимал. Он попытался завязать беседу с Зинаидой Яковлевной и вскоре преуспел в своем интересе – оказывается, она наклепала этих квадратов примерно три десятка, причем, взяла их с собой, предупрежденная Лангемарком о том, что придет их главный ценитель. Дмитрия интересовали головоломки, Зинаиду Яковлевну интересовал его разум, поэтому все пришло к спору на пять рублей о том, сможет ли Белкин вновь разгадать картинку без карандаша. Он взялся за это с полной уверенностью. Эта картинка была больше, труднее и полнее, чем твердо стоящий на основании квадрата иероглиф. Черной плиткой было выложено чье-то лицо – это он понял достаточно быстро. И тут же восхитился – столь малыми выразительными средствами об этом мужском лице пытались сказать столь многое. Голышева спрятала в цифровых рядах и морщинки, и тени на лице, и даже направление взгляда. Этот человек был в форме – уже выступили очертания форменной фуражки… – Проводи меня. Дмитрий с трудом оторвал свой взгляд от одинаковых белых клеток, тут же вновь посмотрел на них, но образ, на мгновение отпущенный, уже начал осыпаться в его разуме, как старая мозаика со стены. Александра стояла над ним и смотрела отчего-то печально, как будто ей тоже было жаль эту древнюю мозаику, погибшую от неумолимого времени. Белкин понял, что сейчас смотрит на девушку зло, тут же постарался смягчить взгляд и даже улыбнуться. Улыбнуться не получилось. – Это мужчина в фуражке. Сказав это, Дмитрий достал кошелек и положил свой проигрыш на стол. Голышева улыбнулась: – Все верно. Но отчего вы выкладываете деньги? – Я не до конца разгадал. Не сложил кокарду на фуражке, подбородок и часть фона сверху. Можно я возьму ее с собой? – Конечно, берите! Дмитрий аккуратными, почти нежными движениям свернул лист и убрал его в нагрудный карман. Прощание вышло скомканным, по крайней мере, Белкин его почти не запомнил. На улице уже совсем стемнело, значит, засиделись они прилично, и полночь была не далее, чем в паре часов. Александра повела его куда-то, ни о чем не говоря и не предупреждая. Она была непривычно тихой. – Ты был очень красивым. – Когда? – Когда смотрел на этот дурацкий листок. – Прости. – За то, что был красивым? – Нет, за то, что испортил тебе вечер. – Бывали вечера и похуже. Все твои друзья старше тебя, ты обратил внимание? – Поливанова и Зинаиду Яковлевну я видел впервые, так что они не мои друзья, а Георгий да, постарше. – Поэтому ты боишься меня? Александра остановилась вдруг и попыталась поймать взгляд Белкина. Он уставился в пустую ночную даль, оканчивающуюся старым домом. – Я вообще людей боюсь, а не только тебя. – Я не вообще люди. Да, я навязчивая и резкая, но я очень стараюсь, чтобы тебе не было страшно со мной. Пускай и резко, и больно, но иначе ты бы вообще не стал со мной сближаться. Вот и приходится сближаться мне. Посмотри мне в глаза, Митя. Белкин привычным напряжением заставил себя держать контакт глаз. Он ожидал увидеть в глазах Александры влагу грядущих слез, но этой влаги не было и тени. Девушка спросила: – Скажи, почему тебе так страшно со мной? Ты ведь специально повел меня в компанию, которая для тебя чужая. Готова спорить, что ты терпеть не можешь такие посиделки, но быть со мной наедине ты не хочешь еще больше. – Зачем же я тебе сдался?.. – Я уже говорила – я тебя не понимаю. Чувствую себя ученым, исследователем. Да, я специалист по Мите Белкину. Скажи, почему ты все никак не можешь расслабиться со мной, почему так боишься? Неожиданно Дмитрий понял, что больше не заставляет себя смотреть ей в глаза, отчего-то ему стало смешно: – Неужели ты, правда, не понимаешь, Саша? Я боюсь потому, что мне понравилось трогать твою грудь, понравилось держать твою голову у себя на коленях. И я хочу еще! Но чтобы получить еще, я должен отдать что-то взамен. Ты требуешь взамен самое важное, что у меня есть, то, что было со мной всегда с самого раннего детства – я должен сломать стену между собой и всеми остальными. А мне нравится эта стена! Нравится быть защищенным от человеческой переменчивости. Вот поэтому мне до одури страшно рядом с тобой! Она приблизилась так быстро, что Дмитрий не успел среагировать. Он увидел ее лицо совсем рядом, а потом почувствовал прикосновение чего-то мягкого и теплого к своим губам. В голове взорвалась бомба, и от этого взрыва Дмитрия ослепило. Он почувствовал под своими ладонями ткань и трепещущее тепло. Разум начал собираться из осколков, и Белкин понял, что эта причудливая женщина ответила на его тираду поцелуем. Лишь только это осознание пришло, как она отстранилась и даже отбежала от него на несколько шагов, высвобождаясь из его неловких объятий. На лице девушки снова была привычная усмешка: – Это тебе за то, что наконец-то назвал меня Сашей!21
Стрельников еще раз оглядел комнату убитого кладбищенского завхоза Ермакова. Что-то его смущало в этой комнате. Какое-то странное ощущение. Как от мытых с мылом рук. – Митя, а вам не кажется, что здесь слишком чисто и прибрано? Белкин отвлекся от ящичков старой рассохшейся конторки, служившей Ермакову единственным шкафом. На лице Дмитрия было написано недоумение. Виктор Павлович едва не усмехнулся – он вспомнил больничную отдраенность и устроенность комнаты своего молодого коллеги. Стрельников готов был поспорить, что с точки зрения Белкина здесь вовсе не чисто. Митя обвел комнату цепким взглядом, а затем произнес: – Ну, может быть, Ермаков был просто аккуратным человеком? – Может быть. Это объяснение Стрельникову не подходило – дело было не в чистоте самой по себе. Казалось, что здесь чисто не от человеческого внимания, а от того, что никогда не было грязно. Виктор Павлович подошел к единственному стулу, стоявшему у стены, и провел по сиденью пальцем – на сиденье был слой пыли. Причем такой слой, который не успел бы накопиться за те три дня, что прошли со смерти Ермакова.*** – Послушайте, Степа, это ведь вы выезжали на Семеновское? Виктор Павлович уже некоторое время беседовал со Степаном Архиповым – хмурым малым, переведенным в МУР из Смоленска пару лет назад. Был разгар дня вторника, но Архипов улучил момент, чтобы пообедать тормозком, взятым из дома. Стрельников тоже сделал перерыв, но не для еды, а для того, чтобы расспросить Архипова. Степан дожевал кусок бутерброда с солью и помидором, а после этого ответил: – Ага, Виктор Палыч, я выезжал. А что? – И что там было? – Да черт его знает! Служил себе служил на кладбище мужичок, а потом его кто-то стрельнул в спину. Да так стрельнул хорошо, что никто ничего не увидел, никто ничего не услышал. – Может, у него проблемы были какие-то? Выпивал? – Ну, выпивал-то само собой, но в гадостях замечен не был. Так чтобы его прям уж так сильно не любил кто-нибудь, чтобы стрелять, тоже не было такого. «Висяк» там, Виктор Палыч, вот чего. – А позволите глянуть? – Да хоть совсем забирайте! Только отчего такой интерес? – Понимаете, голубчик, птичка на хвосте принесла, что пуля странная в спине у вашего кладбищенского оказалась. Пуля такая у меня уже светилась, вот и хочу проверить, совпадение ли. – Ааа… Ну это, как пожелаете, Виктор Палыч. Вы только мне потом скажите, если найдете чего. – Всенепременно, друг мой, всенепременно.
*** Стрельников оставил Дмитрия копаться в немногих вещах Ермакова, а сам вышел в коридор. С кухни раздавался негромкий разговор. Виктор Павлович понимал, что в разгар рабочего дня в коммуналке могло не оказаться никого, поэтому сразу обратился к управдому, к счастью, застав того на рабочем месте. Тот, разумеется, поворчал, но спорить с МУРовскими удостоверениями не стал. В коммуналке все же оказалась пожилая женщина, возившаяся на кухне и, казалось, только обрадовавшаяся приходу нежданных гостей. Стрельникову с Белкиным насилу удалось отвертеться от предложенного ею чая, а вот управдом не без удовольствия поддался чайному соблазну. Теперь, выйдя из комнаты мертвеца, Виктор Павлович втянул носом воздух с кухни и учуял запах выпечки. Тут же захотелось не просто взять, а именно стащить горячий пирожок, пока мама не видит, прямо как в детстве. Стрельников стер с лица мечтательную улыбку и тряхнул головой – детство ушло уже очень давно. Он прошел в кухню и прервал беседовавших: – Алевтина Захаровна, а давно Ермаков появлялся в своей комнате в последний раз? – Филиппок здесь не просто появлялся, товарищ милиционер, он здесь жил постоянно. Но вы, я вижу, тоже заметили, что что-то с его комнаткой не так. Виктор Павлович улыбнулся не только из вежливости, но и от того, что вспомнил старую, еще дореволюционную присказку о том, что дворовые бабушки – лучшие друзья городовых. Алевтина Захаровна между тем предприняла еще одну попытку напоить гостя чаем и накормить пирожками: – Что же вы все на ногах, товарищ милиционер? Садитесь, я вам все расскажу про то, что странного с Филиппком и его комнатой было. Стрельников понял, что сопротивление бесполезно и отдался опеке этой изнывающей от скуки женщины. Чай был, как чай, пирожки были с картошкой. Через несколько минут Виктор Павлович вернулся к своему вопросу: – Так что не так с его комнатой? – Чистенько там очень, товарищ милиционер. Причем, не от того, что Филиппок таким уж чистюлей был. Просто у него одна дорожка была: дверь – кровать. И все. В комнате все стоит так, как было поставлено несколько лет назад. Филиппок не сидел на стуле, не менял лампочку, не чинил скрипучий пол, мнекажется, что он даже в свой шкафчик не лазил никогда. Один раз пустая бутылка из-под пива простояла у него рядом с кроватью целый месяц, причем, она не лежала, закатившись куда-то, где на нее глаз не падал, а все время должна была мешаться ему в ногах, но в итоге выбросила ее я. – А он сказал вам что-нибудь по этому поводу? – Ничего. Мне кажется, что он даже не заметил. – И часто вы к нему заходили? – Каждый день. Филиппок просил открывать окно в его комнате и проветривать. Мне это несложно. – Вы с ним хорошо общались? – Нет. Почти не общались. Он больше с Колькой Дягтеревым дружил – он из третьей комнаты слева. Вечером придет, если компанию какую-нибудь не встретит. – Злоупотребляет? – Есть такое. И шумит жутко, когда среди ночи приходит. Вы с ним, пожалуйста, поговорите об этом, товарищ милиционер, хорошо? – Хорошо.
*** – Что, жалобы опять что ли поступили? Теперь в МУР настучали… Дягтерев выглядел измотанным, впрочем, это не было удивительно после рабочей смены. Дмитрий вернулся в коммуналку Ермакова вечером специально, чтобы поговорить с этим человеком. – Да, жалобы тоже есть, но я не по этому делу. – А зачем тогда? – Вы ведь знаете, что вашего соседа убили. – Знаю, как не знать. Плохо работает, видать, московская милиция, раз нормальных людей средь бела дня стреляют! Белкин не стал отвечать на этот выпад, обрадовался только, что пришел один. Он вновь постарался вести себя, как Стрельников, и улыбнулся: – Вот поэтому нам и нужна ваша помощь, чтобы поскорее поймать того, кто это устроил. – А при чем здесь я? – Нам сказали, что вы были приятелями с Ермаковым – мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. – Это кто же, бабка растрепала? И так в прошлый раз едва на вашего брата не нарвался… Дмитрий посмотрел на искреннюю досаду на темном лице этого человека и едва не задал вслух вопрос: «Ты, правда, настолько тупой, что не понимаешь, какие вещи можно говорить милиции, а какие нельзя?» К счастью, вслух этот вопрос не прозвучал и даже на лице не отразился, за что Дмитрий себя отдельно похвалил. И все же усталость от этого дня нашла способ выбраться наружу: – Не «бабка», а Алевтина Захаровна. Не «растрепала», а помогла милиции. А отчего вы в прошлый раз не стали общаться с моими коллегами, товарищ Дягтерев? У вас есть, что скрывать? Дягтерев отчего-то начал белеть. Сперва Дмитрий решил, что это от злости и сейчас пойдет крик, но потом понял, что этот человек просто перепугался от его слов и от того, как спокойно и с улыбкой они были сказаны. Дягтерев пришел в себя через минуту и в первую очередь довольно грубо приказал выйти женщине, которая до того молча и безучастно сидела в комнате вместе с ними. Когда дверь за ней закрылась, Дягтерев сбивчиво затараторил: – Простите, товарищ милиционер, ничего я, конечно, не скрываю, и скрывать не собираюсь. Ну да, выпиваю иногда, да, шумлю, но я исправлюсь – честное слово! Квартира у нас славная, и соседи хорошие, просто я устаю… Дмитрия едва не передернуло от этой перемены в собеседнике. Он поспешил перебить Дягтерева, перешедшего к признаниям в горячей и трепетной любви к Алевтине Захаровне. – Просто ответьте на мои вопросы, и мы с вами расстанемся! – Да-да, конечно, товарищ милиционер! Все, что угодно. – Вы действительно были друзьями с Ермаковым? – Так точно – был. Вряд ли друзьями, скорее, просто выпивали вместе. – Понятно. Что можете сказать о нем? – Да не компанейский он был, зато при деньгах. Мало что про него знаю. Он все чаще молчал или о кладбищенских своих делах говорил. Ну а мне про кладбище зачем? Я перебивал – заговаривал о чем-нибудь более важном. – В комнате у него бывали? – Нет, ни разу. Он прямо запрещал – один раз чуть с кулаками на меня не полез! Ну а мне больно надо, что ли – нельзя, так нельзя. – Знаете что-нибудь о его прошлом? – Ну, знаю, что у него проблемы с деньгами были, когда он только сюда вселился несколько лет назад. А что до этого с ним было, понятия не имею. Да мне оно и не нужно было! – Фамилии Родионов, Осипенко или Овчинников вам что-нибудь говорят? Может быть, Ермаков упоминал кого-то из них или гости к нему приходили люди с такими фамилиями? Дмитрий задал этот вопрос без особой надежды на успех – он уже прекрасно понял, что Дягтерев не был для убитого даже приятелем. Дягтерев наморщил лоб, вспоминая, но ожидаемо отрицательно помотал головой: – Нет, никто не вспоминается. Вам по поводу его прошлого стоит у Семы Чернышева спросить! Они как-то вспоминали какие-то старые деньки при мне, причем, весьма отдаленные.
*** – Здесь живет Семен Чернышев? – Да, это я. А кто спрашивает? Дмитрий бросил взгляд на человека, открывшего ему дверь. Чернышеву было за сорок, судя по виду. У него было красивое, пусть и немного оплывшее лицо, а на висках появился благородный иней. Даже в полутьме коридора было видно, что Чернышев опирается на костыли, а правой ноги ниже колена у него нет. Белкин привычным жестом достал из нагрудного кармана листок удостоверения и показал его Чернышеву: – Московский уголовный розыск, оперуполномоченный Белкин. Чернышев подслеповато поглядел на удостоверение, а затем непонимающе уставился на его обладателя. – И по какому делу я понадобился милиции? – Вы знаете, что Филиппа Ермакова убили? – Ах, по этому… Проходите, товарищ милиционер, неподъездные разговоры. Белкин прошел в загроможденный коридор коммуналки и едва смог разобрать, где находится – единственным источником света была лампочка в распахнутой настежь туалетной комнате в противоположном конце коридора. – Вы уж извините, товарищ милиционер – лампочка перегорела пару дней назад, да все новую не можем договориться купить. Проходите в мою комнату – там посветлее. С этими словами, калека направился к приоткрытой двери в одну из комнат. Дмитрий пошел следом. Во всей квартире царила полная тишина. – Вы один? – Да, само собой один – день же! Все на службе. А я дома служу. Чернышев распахнул дверь своей комнаты, и взору Дмитрия открылось помещение, вдоль стен которого тянулись полки, уставленные обувью. Большую часть комнаты занимали разнообразные сапожные приспособления, оставляя место лишь для кровати и небольшой тумбочки рядом с ней. Род занятий товарища Чернышева был совершенно очевиден, но Дмитрия смутило одно обстоятельство: – И что, вам прямо сюда обувь и приносят для починки? Чернышев грузно опустился на стул возле массивной швейной машинки и усмехнулся: – Ну, что вы! Тогда соседи меня бы возненавидели за такой проходной двор. Нет, жена моя сидит в лавчонке на Семеновском Валу. Что-то сама починяет, но там до того тесно, что даже машинку не поставить, так что большую часть я здесь, в тишине и покое делаю. Да вы садитесь, товарищ милиционер, прямо на кровать. Хотя, если хотите, могу вам стул уступить. Чернышев начал подниматься, но Дмитрий остановил его и устроился на краешке узкой кровати. Запах обуви мгновенно забил нос, и Белкин опасался, что у него с непривычки заболит голова. Дмитрий собрался перейти к цели своего визита, но Чернышев опередил его на несколько секунд: – Хорошо, что Филиппа на кладбище смерть догнала. Для него лучше там и сразу, чем от какой-нибудь болячки в серых стенах. – Вы знаете, что случилось? – Да, конечно, знаю. Его кто-то застрелил. – У вас есть мысли о том, кто бы это мог быть? – Нет. Кто-то из прошлого. Кто-то из настоящего. Кто-то случайный. Филиппу в жизни везло на опасные связи. – Что вы имеете в виду? – Ну, три года назад он ухитрился проиграться в карты серьезным людям, да так, что мы его приютили на время, пока все не уляжется. – А вы сами его откуда знаете? – О, с давних-давних пор. Года с 18-го, где-то. Сейчас, подождите, пожалуйста… Чернышев вцепился в костыли и поднялся со стула, прошел к тумбочке и сел рядом с ней на кровать. Он рылся в этой маленькой тумбе с тремя ящиками так долго, что ее можно было бы целиком обыскать за это время. Наконец, Чернышев издал победное кхеканье и обернулся к Дмитрию, держа в руках фотокарточку. – Вот она! А уже испугался, что потерял. Вот, товарищ следователь, вот Филипп, а вот я – еще на своих двоих. Чернышев рассмеялся собственной грустной шутке, а Белкин принял фотокарточку из его рук. И тут же вцепился в нее мертвой хваткой – на старой потрепанной фотографии позировали целых десять человек. Позировали неумело – слишком напрягали руки с оружием, отчего выглядели неестественно. Дмитрий посмотрел на молодого Чернышева, который в то время был настоящим красавцем, увидел он и лицо Ермакова. А кроме них на Белкина с фотокарточки смотрел злым и голодным взглядом молодой Матвей Осипенко, справа от него не без труда узнавалось еще не обезображенное водкой лицо молодого Петра Родионова, а на переднем плане встал на одно колено задумчивый молодой Андрей Овчинников. Дмитрий моргнул несколько раз в надежде сбросить наваждение, но наваждения не было – на этой фотографии действительно были запечатлены все известные ему жертвы необычных пуль. Белкин с трудом оторвал взгляд от фотокарточки и дрожащим от напряжения голосом спросил: – Товарищ Чернышев, а вы знаете имена всех, кто есть на этой фотографии?
Интермедия №3
26-е марта 1918-го года.Антон поежился и еще раз окинул взглядом, раскинувшееся впереди широкое поле. Снег на Кубани уже почти сошел, поэтому теперь поле было грязно-серого цвета с выцветшими заплатками мертвой прошлогодней поросли. Идеально ровное поле обрамлялось двумя рощами, а посредине имело невысокий холм, который огибала единственная дурная дорога. На холме, ощетинившись ружейными и пулеметными дулами, окопался крупный отряд красных. Дорога, прикрытая этим холмом, шла на Екатеринодар, значит, холм нужно было взять. Погода в этом марте была совсем дурная – то потеплело, а то пошли дожди с ночными заморозками, да такими, что промокшие солдатские шинели леденели и схватывались мертвой коркой. Конники капитана Анохина ничем не отличались от того, что Антон видел в остальной части этого странного сборища отчаянных людей, которое смело называли «Добровольческой армией». Злые угрюмые лица, голодный блеск в глазах, метавших то и дело молнии в сторону занятого врагом холма. Антон открыл свой рабочий дневник и записал: «злые угрюмые лица», потом подумал немного, зачеркнул и написал рядом: «лица, сияющие праведным гневом» Тяжело было быть описателем того действа, в котором Антону пришлось участвовать. Нижайшее падение Родины обнажило в благородных низость, а в низких благородство. Верх стал дном, а белое почернело. Только кровь была неизменной, лишь разрослась из ручейка до речки. Больше ничего не имело смысла. Антону казалось, что он описывает в своем дневнике конец времен, после которого уже не будет ничего, ведь серое небо, грозящее противным снегом, ухнет, наконец, на землю и погребет под собой не только Россию, но и весь остальной мир. Антон отогнал дурные мысли – сейчас ему нужно было смотреть и слушать. И, по возможности, выжить. Впрочем, здесь, у пологого спуска в поле с вооруженным до зубов холмом, он был почти что в безопасности. Жара пойдет там впереди, и он будет созерцать ее с театрального балкона. Раздался отдаленный гул. Антон посмотрел на неодетые вершины деревьев леска по правую руку от себя, но ничего не увидел. Гул был слишком далеко. – Пушки заработали! Видать, наши ломят, а неприятель бьет. Антон посмотрел на крикнувшего эти слова Уховского. Тот тоже шел за писателя и был все время чем-то восхищен, чего Антон никак не мог понять. Им доводилось пару раз пересекаться за время Похода, довелось и теперь. Молодой подпоручик с первыми неловкими эскизами усиков на юношеском лице глянул в их сторону с плохо скрываемым раздражением. Антон его понимал – гражданские перед сечей только мешаются. Сам он старался ни к кому не лезть. Всадники готовились идти в атаку, которая для многих станет последней. Антон вновь обратился к дневнику: «Душа конника от пехотной души отлична. Ведь есть не только ты, но и твой верный друг, тот, кто не мыслит предательства, что в наши окаянные времена – редкость. Самое близкое существо во всем свете, когда ветер в лицо, и мимо ушей злые пули свищут. Потому перед боем всадник похлопывает коня по шее, да шепчет ему что-то, будто убеждая в том, что это нужно – идти им двоим под пулеметный треск и металлический дождь. Двоим против всего мира. Никогда ни от какого франтика даже самая миленькая столичная институтка не слышала таких нежных слов, какие шепчут эти суровые, измятые боями ветераны своим верным друзьям перед боем». Нестройно застрекотал винтовочный огонь – ударный отряд шел на штурм со стороны рощицы, похоже, им удалось подобраться незамеченными. Забегали маленькие точки по полю, взрываясь, порой, искорками и исторгая облачка дыма. А затем красные пошли по полю пулеметной косой. Точки, одна за одной, стали падать на землю и больше не вставали. Группка из пяти точек подобралась к самому холму, распалась и устремилась наверх. На холме пошли подряд два взрыва – ударники смогли швырнуть гранаты. Тут уже схватка смешалась – на склоне холма показались такие же точно точки и завязались с теми, кто шел на штурм. Антон отвлекся от кипевшей свалки и оглядел взведенных, как револьверный механизм, бойцов. Капитан, стоявший чуть в стороне от своей сотни, оторвал от глаз бинокль и бросил своему ординарцу: – Не пробьют – завязли. Сейчас надо бить. Проверьте все. Низенький ординарец со странно нежными чертами лица отошел от командира. На его пухлых губах играла веселая и теплая улыбка, как будто капитан приказал отдыхать. Ординарец подошел к совершенно огромному на его фоне черному коню и легко вспрыгнул на могучее животное, которое лишь доброжелательно фыркнуло от такого обращения. После этого молодой унтер-офицер стал объезжать отряд, перекидываясь тут и там шутками. По всадникам стали гулять смешки, заглушившие для Антона и слова ординарца, и словам сказанные ему в ответ. Капитан вновь оторвался от бинокля и решительно отправился к своему коню. Анохин все оценил правильно – атака захлебнулась. Еще вырывались из леса кое-где группки солдат, но обычно залегали там же, у крайних деревьев, прижатые плотным огнем. Капитан поставленным голосом приказал на весь отряд: – Коней беречь! Пуще шей своих беречь! Земля негодная, братцы, так что глядите, куда правите. Идем сразу быстро, чтобы сволочь опомниться не успела. Анохин развернул коня и стал спиной к своим солдатам. Настала краткая, но томительная пауза, когда атака неизбежна, но приказ о ней еще не поступил. Капитан коротко махнул рукой и двинул коня вперед, переходя сразу в рысцу. Сотня послушно пошла за ним и вскоре поравнялась, поднимая за собой и над собой снежно-ледяную взвесь. Вдруг влажный, подмороженный воздух пронзил звонкий девичий крик, перебивший на мгновение даже глухой грохот копыт: – Все, кто любит меня, за мной! Антон огляделся вокруг, потом вгляделся в удаляющиеся спины всадников, но нигде не увидел никаких женщин. Даже сестры милосердия сейчас были с основной армией при генерале Корнилове. Всадники ответили на крик нестройным, но воодушевленным «Ура», и отряд понесся. Кони, казалось, больше не касались ногами земли, а стремительно парили над ней. Расстояние между холмом и кавалерийской волной начало стремительно скрадываться. Антон не посмел отвлечься на дневник сейчас, но сделал пометку в уме: «Конечно, штурмовать холм, да еще обросший какой никакой фортификацией, одною лишь кавалерией – дело неблагодарное, но спешивать всадников и пускать их в пешую сабельную атаку – дело и вовсе нелепое…» Уховский что-то непрестанно говорил своим неискренним восторженным тоном, но Антон его попросту не слушал – теперь он смотрел только на то, как человеческая туча, сверкая молниями обнаженным сабель, приближается к врагу, желая изорвать, растоптать и поглотить его. Немного впереди, уйдя на несколько конских корпусов вперед, скакали двое. Один чуть впереди, второй чуть позади, то скрадывая расстояние до первого, то отставая сильнее. Разумеется, с такого расстояния Антон не мог толком рассмотреть всадников, но мог рассмотреть их коней. И он узнал большого черного коня юного ординарца – именно этот конь нес своего всадника впереди всего отряда. Этот смельчак в итоге достиг холма первым, в два прыжка взлетел на склон и врубился в самую человеческую суету. Второй всадник тут же влетел на вражескую позицию, отставая в этой безудержной гонке на доли секунд. Оба конника тут же приковали общее внимание, и вскоре ординарец прижался к конской шее так, что показалось, будто он убит. Антон в эту секунду перестал дышать, смиряясь с гибелью еще одного верного солдата, но храбрец вдруг воспрял, выпрямился и тут же совершенно слился со своими соратниками, навалившимися на холм кавалерийской мощью. Больше Антон его не видел.
*** Бой был кратким и жестоким. Сотня Анохина потеряла девять человек и пятнадцать коней. О потерях красных Антон сказать не мог ничего, кроме того, что они были значительными – на маленьком холме клочка земли свободного от трупов или крови было не найти. Зато писатель мог сказать о том, что пленных взяли лишь троих, причем одного с отсеченной ногой, и шансы его пережить этот день были невелики. После боя всадники приходили в себя по-разному. Кто-то едва сполз с коня, упер окровавленную саблю в землю и уставился куда-то вдаль немигающим взглядом. Кто-то напротив, лег в седле и прикрыл глаза в полнейшем умиротворении. Кажущемся, разумеется. Антон ходил между них аккуратно, как среди спящих, не желая бередить разгоряченных воинов. Впереди, за лошадиными крупами показалась фигура капитана Анохина – Антон заспешил к нему. Капитан будто вовсе не заметил прошедшего боя, как не заметил и пятен чужой крови на своем лице. Сейчас лицо это было деловитым и спокойным, а дело капитана непростым – он стоял рядом с пленными. – Этого к нашим на подводу и в лазарет. Эта фраза относилась к раненому, который был в сознании, но уже даже не кричал, тщетно пытаясь зажать окровавленный обрубок и глядя куда-то в землю перед собой. – Вашбродь, так не доедет же – может, лучше сразу того, чтобы не мучился лишнего. – Выполнять. Не доедет, значит, не доедет. Двое солдат не без труда подняли все такого же безучастного раненого и взяли его под руки. В этот момент совсем рядом послышался топот копыт, и перед ранеными выскочил ординарец на своем черном коне. Конь чуть не снес своей широкой грудью капитана, но тот ловко отпрыгнул и грозно рявкнул что-то куда-то за спину маленькому унтер-офицеру. Антон не слышал слов капитана – все его внимание было приковано к юному безусому лицу. Ординарец в пылу боя потерял свою папаху и теперь миру были явлены его черные кудри. Лицо, как и у капитана, перепачканное в крови больше не казалось Антону юношеским до мальчишества – оно просто было женским. Красивое круглое женское лицо, которому пошла бы улыбка. Она и улыбнулась, да так что у Антона мурашки по спине забегали. Улыбка расползлась по окровавленному лицу девушки, обнажив ее зубы и исказив черты. Лишь глаз эта улыбка не коснулась – два небольших серых озерца были пугающе спокойны. Антон возблагодарил Бога за то, что этот взгляд был направлен не на него. Он был направлен на двух оставшихся пленников. Прапорщик, точнее прапорщица (теперь Антон точно разглядел ее погоны) вдруг выхватила револьвер, уперла его об локоть своей левой руки и выстрелила прямо в грудь одному из пленников. Тот со стоном упал назад. Девушка уже целилась в перепуганного второго, сохраняя всю ту же совершенную сталь во взгляде и кровожадную улыбку на губах. За мгновение до второго выстрела ее дернули за ногу – пуля ушла в серое небо, а из нутра девушки вырвался вопль обиды. Она завалилась и упала с лошади прямо в грязь, тут же попыталась вскочить, но двое солдат скрутили ее, не без труда удерживая непрестанно бьющееся тело своей соратницы. – …мать! Велел же тебе следить за Софьей Николаевной, как за дочерью, ни на шаг от нее не отставать, особенно после боя! Совершенно грубое выражение из уст всегда собранного Анохина выдернуло писателя из того состояния полного созерцания, в которое он впал в то мгновение, когда увидел юную прапорщицу. Капитан отчитывал дюжего, как для кавалерии, вахмистра около сорока лет на вид. Антону пришло в голову, что этот унтер-офицер был самым старшим по возрасту в отряде, намного старше даже самого Анохина. Вахмистр виновато смотрел себе под ноги, отвечая на тираду Анохина неизменным: «виноват, вашбродь». А капитан, казалось, раскалился до того, что готов был сам взяться за оружие. Уже давно оттащили девушку, продолжавшую биться в руках соратников, и отвели ее коня, а капитан все повторял и повторял понурому вахмистру, что тот головой отвечает за Софью Николаевну и ни в коем случае не должен пускать ее к пленным. Анохин, казалось, забыл совершенно, что последний пленный все еще был здесь и смотрел на все происходящие с дерзкой усмешкой – страха перед смертью на его лице, как не бывало. Наконец Анохин то ли выговорился, то ли просто выдохся. Он устало положил руку на плечо вахмистру и с неожиданной мягкостью в голосе произнес: – Иди, Ефим Андреич, иди и глаз с нее не спускай. Вахмистр поспешил прочь, а капитан еще с минуту приходил в себя, уподобившись части своих солдат и уставившись в несуществующую даль. – Калеку спасли. Здорового расстреляли. А меня куда? Вопрос этот раздался совершенно неожиданно от пленного. Анохин развернулся к нему и посмотрел, как на досадливую муху, все не слетающую со страницы книги. – В комендантское управление, куда еще? – И чего ты тогда своей бабе помешал, капитан? Итог-то один. Анохин вновь был собранным и спокойным. Он присел перед пленным на корточки и негромко спросил: – Знаешь, за что она вас так ненавидит? – Найдется за что. Небось, имение пожгли, да из родных кого убили. – Нет. Такая у нас тоже была – погибла, забрав с собой столько вашего брата, сколько смогла. Софья Николаевна была в Москве, когда вы скинули временных. Билась с вами за каждую улицу, имея за спиной лишь безусых юнкеров и отставных офицеров, которых вы добивали раненых и расстреливали безоружных. Она видела, как дома проржавели насквозь вашим предательством и безобразностью, как вы громили нашу Москву не меньше поляков с французами. Поэтому и бьет теперь вас без пощады, как самых настоящих захватчиков. Пленный слушал Анохина, не переставая тянуть губы в ухмылке, а потом спросил: – Так чего не дал и меня убить? – У нее для ее лет грехов и так достаточно – пусть об вас комендантское управление руки пачкает. – Как милосердно! – Не тебе говорить со мной о милосердии. Как этого звали? Капитан кивнул головой на убитого девушкой пленного. – Кажись, Яшкой. – Знаешь о нем что-нибудь? – Вроде из Москвы. Капитан выпрямился и посмотрел на пленного сверху вниз: – Верующий? – Крещеный. – Помолись за него. За всех. Может, хоть тебя наверху услышат.
22
Автомобиль подпрыгнул на ухабе, и Гендлер неприязненно скривился – шофер гнал так, как будто за ними была погоня. На самом деле у них не было особенных причин спешить – на Сыромятниках уже было столько оперативников, что Митину было не уйти. Иосиф принял дело об убийстве Осипенко из рук Владимирова только в начале этой недели, а уже продвинулся дальше, чем этот чистоплюй. Еще только увидев Владимирова, Иосиф понял, что они не сработаются. Знал он таких – «холодная голова, чистые руки…» Вроде идейный, а сам из чиновных сынков с гарантией. Просто устроился потеплее при советской власти. К счастью, почти сразу подвернулась возможность от него избавиться – начальство Владимировым после отсутствия результатов, разумеется, было недовольно, поэтому просьбу Гендлера о снятии этого чистюли с расследования удовлетворило легко и быстро. Насколько Иосиф знал, ехал теперь Владимиров подальше от Москвы и поближе к Владивостоку недобитых казаков ловить. Ну и поделом! Гендлер выкинул Владимирова из головы и обратился к разговору, который некстати случился прямо перед тем, как Иосиф собирался ехать на задержание. Следак этот, Стрельников – тоже из старорежимных с гарантией. Вымести бы их всех, чтобы глаза не мозолили! Хотя доля смысла в его версии была – Осипенко действительно мог быть лишь одной из жертв. Все красиво складывалось у жандарма – и пули-то одинаковые, и оружие-то странное, и убитые-то все друг с другом знакомы. А вывод телячий – найти остальных с древней фотокарточки какого-то обувщика и следить за ними, ожидая покушения. Знал этот Стрельников многовато – видать, Владимиров еще и болтал налево-направо. Жандарм даже о Митине знал, а это ему было совсем не положено. Иосиф усмехнулся, вспомнив, как жандарма перекосило, когда он сказал, что нужно просто брать этого Митина и ломать, пока не выдаст остальных. Да глянул еще так, как будто Гендлеру стыдно должно быть за что-то. Не на того напал! Старая охранка тоже любила ломать до нужных ответов! И ведь действительно, чем растрачивать кадры на слежку за обувщиками, алкоголиками да кладбищенскими сторожами, достаточно было взять Митина и все из него добыть. Пока что рисовалась террористическая ячейка – минимум два мерзавца. А там уж чего Митин порасскажет – может, получится целую организацию раскрыть. И все же Гендлер не понимал, как Владимиров мог отпустить Митина – дураку ведь ясно было, что он здесь при чем. Да, из доказательств лишь мотив, но ведь мотив такой, что иных доказательств и не нужно. Да и все остальное прямо-таки кричало о причастности этого инженера – Иосиф совершенно не удивится, если они найдут в доме Митина те самые патроны, которые оставались для всех загадкой. А загадка, скорее всего, отгадывалась просто – Митин сам их и делал. Ну, может, не совсем сам – конечно, его коллег нужно будет почесать, как следует. Это и в целом полезно – мало ли что товарищи инженеры там у себя клепают в закрытых конторках! А вот со вторым были проблемы. Иосиф не сомневался, что второй был. Митин ведь не мог убить Осипенко – какими был растяпами не были нынешние милиционеры, упустить из изолятора человека посреди ночи они не могли. Тем более дважды, ведь Митин не только с вечера остался в изоляторе, но и к утру там находился. Стрельников этот тоже упоминал какую-то бабку, которая видела двоих рядом с одной из жертв. Гендлер выглянул в окно, увидел, что до места осталось недалеко, и выкинул все ненужные мысли из головы – теперь была работа. Иосиф в последние годы редко сам брал мерзавцев, а вот раньше приходилось. Он улыбнулся – вспомнились сразу октябрьские деньки – он тогда здесь же неподалеку стрелял. Тогда славно повоевали – у Гендлера с тех пор даже шрам на руке остался. – К дому не подъезжай. Вон в том дворике приткнись так, чтобы тебя не видно было особо. Шофер все исполнил, как нужно – из окон нужной квартиры автомобиль видно не было. Гендлер выбрался из авто, оперся на него спиной и закурил. Одуряющая жара только начинала ослабевать из-за наступающего вечера, но все еще беспощадно давила на Иосифа. Ему всегда жара давалась тяжело. Лучше уже февраль с его ветром, чем вот так вариться в собственном соку без всякого облегчения. Через пару минут к Иосифу подошел один из оперативников. Одетый в рабочего невысокий парень с лицом, которое совсем не запоминается – отличный соглядатай. Гендлер решил не привлекать для этого дела МУРовских – у тех твердости руки вечно не хватало, а дело могло обернуться круто – Митин все же был оружейником. Иосиф поделился с оперативником куревом и спросил: – Выходил он куда-нибудь? – Нет, как со службы пришел, так и сидит. – Ты у подъезда стоял? – Обижаете, Иосиф Давидыч… Пролетом выше устроился. Ручаюсь, что он в квартире. – Ручаешься-ручаешься, Беседин… Из соседей никто тебя не видел? Насчет того, что слежку мог заметить сам Митин, Иосиф был спокоен – Беседин был слишком опытным и тщательным оперативником для такого прокола. – Нет, Иосиф Давидыч. Меня из верхней квартиры бабка приметила, но там ничего серьезного – отбрехался электриком. – Ясно. Кто сейчас у дверей? – Оставил Казанцева. Чивадзе и Антонов у подъезда – корчат пьяных. – А остальные? – Еще трое перекрывают выходы со двора, один на крыше. Это же просто инженер, Иосиф Давидыч – не много сил на одного субчика? – Не много. Митин, если я все правильно понимаю, уже убил двоих или троих, кроме того, он знает, что мы можем нагрянуть. Мы его уже брали пару недель назад. – А чего отпустили? – А не твоего ума дело, Беседин. Так, ты и Чивадзе со мной пойдут в квартиру. Антонов у выхода из подъезда, Казанцев у чердака. Предупреди всех, и глядеть в оба – могут быть сюрпризы, как внутри, так и снаружи. – Снаружи? – Митин действовал не один, если его сообщники поблизости, они могут устроить нам пакость. Все – иди. Я через пять минут буду у подъезда. Беседин посмотрел на дом, в котором жил Митин, с легкой нервозностью – до него, наконец, дошло, что дело может быть не из простых. Он докурил, сплюнул себе под ноги и вразвалочку направился в нужный двор. Гендлер посмотрел на часы – была почти ровно половина седьмого. Часть от данных Беседину пяти минут Иосиф потратил на то, чтобы отряхнуться и оправить свой вид – закон должен быть представительным и красивым. Через три минуты он не спеша вышел во двор. На долю секунды столкнулся взглядом с маляром, красившим старый дырявый забор, и едва заметно кивнул – «маляр» занимал правильную позицию для того, чтобы накрыть того, кто будет выбегать из подъезда. У самого подъезда Беседин общался о чем-то с двумя небритыми мужиками весьма побитого вида. Гендлер отдал оперативникам должное – сейчас никто не узнал бы в Антонове семинариста недоучку, а в Чивадзе бывшего гребца. Оба исправно пошатывались, переходили порой с нормального человеческого голоса на пьяные взвизгивания и иногда вставляли цензурные словечки между матерных. Такое прикрытие оперативников позволяло и самому Гендлеру раскрыть себя чуть позже – он поравнялся с ними и грозно произнес: – Буяните, товарищи? Откликнулся Антонов: – Никак нет, гражданин начальник, отдыхаем просто после работы… – Ладно, пошли-ка со мной, чтобы народ не смущать. Все трое запротестовали для виду, но вскоре скрылись в прохладной темноте подъезда вслед за Иосифом. Тут же клоунада была отставлена. Антонов, уже получивший инструкции от Беседина, остался у лестницы, встав ровно так, чтобы его не было видно с улицы. Чивадзе встал за Гендлером, а Беседин шел первым. Оружие пока держали при себе. Иосиф запнулся в полутьме о чиненную деревяшкой ступеньку, едва не упал и не смог удержать себя от ехидного вопроса: – Электриком, говоришь, назвался? Беседин даже обернулся от неожиданности, но через секунду с улыбкой ответил полушепотом: – Ну да. Бабка обрадовалась так – отродясь, говорит, света в подъезде не было. Гендлер беззвучно усмехнулся и показал идти дальше. Вскоре они были у старой железной двери. Иосиф расстегнул кобуру и приготовил Маузер к работе, стараясь не шуметь. У оперативников все было давно готово. – Может, мы сами, Иосиф Давидыч? Беседин спросил это с легкой улыбкой, и Гендлеру захотелось дать ему по зубам – юнец даже примерно понятия не имел, в скольких переделках довелось побывать его обрюзгшему и отдувающемуся начальнику. Однако Иосиф легко подавил свой гнев и ответил спокойно: – Куда сами? Лжеэлектрик и алкаш – у вас перед носом дверь закроют, даже если вы покажете членские билеты Центрального комитета, не то что свои ксивы, а меня так легко не послать. Сколько человек внутри? Беседин замялся немного, но быстро нашелся: – Четверо, не считая его. По крайней мере, в течение дня больше никто не выходил и не входил. – Дети? Женщины? – Да, две женщины и малец школьник лет десяти. Это было не очень хорошо – мог подняться крик. Иосиф глубоко вздохнул и постучался в дверь. Открыли довольно скоро. Всклоченный мужчина лет тридцати, имевший на голом плече искусную и сложную татуировку с переплетенными змеями. Он оглядел их без особого удовольствия, как, впрочем, и без страха. Иосиф попросил его выйти на площадку, где и показал документы в довесок к своей форме. Лицо мужчины поменяло цвет, став слегка зеленоватым, однако в остальном он держался хорошо. – Сейчас мы войдем в квартиру вслед за вами. Пройдите к соседям и попросите их всех собраться на кухне. И сделайте это как можно тише. Разумеется, к Митину заходить не надо, как и предупреждать его каким-либо способом. Мы друг друга поняли? Мужчина уверил Иосифа, что они друг друга поняли. Все было сделано быстро и достаточно тихо. Пожилая женщина ударилась в слезы сразу, как увидела Гендлера с оперативниками, но хотя бы не стала кричать. Иосиф сделал знак Чивадзе, чтобы тот встал у двери в кухню и следил за соседями. После этого Гендлер постучал в дверь Митина, за которой все это время царила полная тишина. Довольно долгое время ничего не происходило. Иосиф постучал еще раз. Уже начал было костерить в уме Беседина, который прохлопал цель, но вспомнил слова соседа, подтвердившего, что Митин дома. Наконец, за дверью послышалось шевеление. – Кто там? – Товарищ Митин, откройте, пожалуйста! – А кто спрашивает? – Это по поводу работы. Соседи Митина не должны были ничего знать о его работе, поэтому такая расплывчатая формулировка не должна была смутить инженера. Расчет Иосифа оправдался – с той стороны зашуршал в замке ключ, и дверь медленно отворилась. Митин выглядел уставшим. Круги под глазами, растрепанность и горячечность – он казался больным. Разумеется, инженер сразу догадался, что его беспокоят не с работы. На случай, если он решит сразу же захлопнуть дверь, Беседин, как бы невзначай встал одной ногой на порог в упор к косяку. Митин не стал делать ничего подобного, лишь устало и как-то очень глубоко выдохнул – как будто делал это в последний раз. Иосиф решил перейти к делу сразу: – Товарищ Митин, вам придется проехать с нами. – Зачем? – Вы задержаны по подозрению в убийстве Матвея Осипенко. – Меня уже задерживали и отпустили. – Появились новые обстоятельства. – Какие? В голосе инженера не было вопроса, даже просто интереса не было – он был похож на очень плохого актера, который читает свои реплики с бумажки. Иосиф буквально спиной чувствовал приближение неприятностей и с трудом удерживал себя от того, чтобы выхватить оружие. – Вам придется проехать с нами, товарищ Митин. Мы все вам сообщим. Инженер понуро кивнул, а в следующее мгновение Беседин уже падал с простреленной головой. Иосиф действительно не уловил движения, которым Митин выхватил непонятно откуда пистолет. Еще через мгновение ствол этого пистолета был направлен уже на самого Гендлера. Иосиф отпрыгнул назад, одновременно пытаясь выхватить Маузер. Пуля, которая должна была пройти через его грудь, лишь задела левую руку. Иосиф как-то отрешенно подумал о том, что не смог удержать вскрик боли. В этот момент три выстрела подряд раздались из-за спины упавшего Гендлера – пришел в себя Чивадзе. В двери появились две пробоины, но вот третий выстрел поразил не дерево, а плоть. Иосиф заметил, как Митин покачнулся, а в следующий момент начал падать. Каким-то невероятным по ловкости жестом он успел дернуть на себя простреленную дверь. Чивадзе тут же выстрелил еще два раза, добавив в несчастной двери новых дырок. – Не стрелять!!! Неожиданно громкий рев напугал даже самого Гендлера – Митина непременно нужно было взять живым. Мир взорвался воем – закричали женщины на кухне. Иосиф мельком успел удивиться их медленной реакции, но потом понял, что с того момента, как Митин сделал первый выстрел, прошло не больше пяти секунд. Он вскочил на ноги, едва не завыв в тот момент, когда вес пришелся на левую руку – видимо, инженер все же хорошо попал. Так или иначе, у Иосифа не было на это времени – он перепрыгнул через тело Беседина и прижался к стене рядом с дверью, а после этого кивнул Чивадзе. Тот встал у стены напротив двери, уперев в нее спину и широко расставив ноги. Дуло его револьвера было направлено на закрытую дверь. – Только по конечностям! Живьем, понял меня?! Иосиф надеялся, что Митин не слышит его шепот-крик. Чивадзе сосредоточенно кивнул. Гендлер резко дернул ручку двери и тут же вновь прижался к стене. Дверь легко открылась, но о том, что за ней скрывается, Иосиф мог судить лишь по лицу оперативника. Тот не спешил стрелять. Гендлер дождался его кивка и рискнул заглянуть в комнату – Митин лежал ничком на полу и не двигался. На спине инженера растеклось красное пятно, а от двери тянулся кровавый след. Иосиф, проклиная всех и вся, вошел в комнату и тут же отошел с линии огня Чивадзе хотя в душе понимал, что это уже не нужно – Митин выглядел мертвым, Митин вел себя, как мертвый, Митин был мертвым. Гендлер подошел к его телу и аккуратно перевернул его на спину. И тут же отскочил – удивительным образом инженер все еще был жив. Он увидел Иосифа и слабо улыбнулся кровавой улыбкой. Только тут Гендлер заметил, что в руках инженера что-то было, какой-то продолговатый предмет, который он даже теперь крепко прижимал к груди, как младенца. Только этот предмет был поменьше. Иосиф заметил деревянную рукоятку, нагнулся, чтобы рассмотреть получше и увидел, что в руках инженер держал германскую гранату. Митин улыбнулся еще шире, и в это самое мгновение Иосиф все осознал. Он даже не дернулся перед взрывом, лишь произнес совершенно спокойным голосом: – Досадно…23
Странное предчувствие преследовало меня с самого утра. Предчувствие, что сегодня умрет не только тот, кто должен умереть. Наводки Овчинникова оказались удивительно точны – Ермаков действительно работал на Семеновском кладбище, а отдавший эпохе одну из своих ног Чернышев действительно починял обувь и почти не выходил из дома. Я и нашел-то его случайно – просто вчерашним вечером завернул в нужную подворотню и увидел привалившегося к стене калеку. Он стоял, опираясь на плечо невысокой, плотно сбитой женщины. Они оба закрыли глаза, и, казалось, просто наслаждались солнцем, играючи терпя его невыносимый жар, лишь только начинающий ослабевать с приближением вечера. Знаешь, я залюбовался ими. Просто стоял напротив и не мог оторвать взгляд – эти двое уставших людей были так совершенны рядом друг с другом, составляя что-то цельное, идеальное из увечного, прекрасное из обыденного. Мне захотелось подойти к ним, встать рядом, прижаться к нагретой стене, но я не позволил себе. Отошел в тень ближайшего дерева (кажется, это была яблоня) и стал ждать, глядя на этих двоих, не замечавших течения жизни. Чернышев изменился с тех пор, как мы виделись в прошлый раз. Тогда он был красивым, франтоватым, с полными штанами показушной удали. Теперь он был спокойным и умиротворенным. И очень слабым. Он безумно доверял этой женщине с немного мужицким лицом. Стоило ей сделать один шаг в сторону, и Чернышев упал бы лицом вниз, но она не собиралась делать резких шагов, а он оставался совершенно спокоен. Они наконец-то очнулись от своего странного стоячего сна – оба, как по команде, открыли глаза. Чернышев опирался на свою подругу, пока не подобрал, стоявшие у стены костыли, но даже после этого они не отдалились друг от друга даже на десять сантиметров – так и заковыляли причудливым трехногим зверем в сторону темного жерла подъезда. Потом был долгий, но совершенно тихий и неворчливый подъем на второй этаж, грохнула тяжелая дверь, и я остался в подъезде один. Я смотрел на дверь несколько секунд, а после этого попытался открыть старое, грязное окошко – мне было жарко и хотелось раздеться до мышц и нервной системы. Щеколда на давным-давно некрашеной раме приржавела к петле и слилась с ней в одно целое, так что открыть окно не вышло. Захотелось его разбить или прострелить. Я откинулся на исписанную стену и приказал себе успокоиться – мне не хотелось его убивать. Вернее, даже не так – смерть не важна, но вот ее окружение играет роль. Не хотелось проникать в эту квартиру тихим хищником, не хотелось играть в узнавайку с Чернышевым, не хотелось даже видеть его птицей, не хотелось бить его, вызнавая судьбы оставшихся. Не хотелось, наконец, оставлять его подругу без того, кому она не дает упасть. Ночью плохо спал – редко со мной такое в последнее время. Одиночество, совершенно привычное и верное для меня, в этот вечер отчего-то стало гнетущим и тянущим. Захотелось увидеться с тобой – только ты всегда умеешь вселить в меня покой и решимость. Захотелось почувствовать твое тепло – жутко разозлился на себя за это желание. Чтобы не крутиться в пропотевшей постели занялся работой. Тяжело было сосредоточиться, но судьба подготовила для меня очень хороший отрывок: «Богач или бедняк, юноша или старец, благородный или простолюдин – о любом человеке всегда совершенно точно известно лишь то, что в итоге он умрет. Мы и о себе точно знаем, что умрем, но все держимся за тонкую соломинку. Мы понимаем, что всем нашим дням дан точный учет, но продолжаем мнить, что все иные умрут прежде нас, и мы уйдем самыми последними. Смерть всегда мерещится нам чем-то очень далеким. Разве верно так рассуждать? Это рассуждение лишено всякого смысла и подобно шутке во сне. Дурно мыслить подобным образом и дозволять себе оставаться в небрежности. Из-за непрестанной близости смерти необходимо стараться действовать без всякого промедления…» Сон догнал меня и ударил теплым молотом по голове, оставив без сознания до самого утра. На следующий день я вновь был у нужного дома. Начиналась слежка, которая в этот раз была затруднена тем, что, судя по всему, Чернышев не часто покидал свое пристанище. Я видел, как люди выходили из подъезда по одному или группками, отправляясь на службу. Среди них была и подруга Чернышева – она почти вылетела на улицу, держа в каждой руке по холщевому мешку. Когда стало чуть спокойнее и место суетливых рабочих и служащих во дворе стали понемногу занимать ворчливые старушки и шумные дети, я прошел в подъезд и вновь оказался у старого окна. Приложил ухо к двери и не услышал ничего. Правда, это ничего и не значило – затакой массивной дверью мог происходить военный парад, а я все равно слышал бы лишь тишину и дыхание старого дома. Я отошел от двери и посмотрел на нее оценивающе. Потом достал свой пистолет и приладил к нему устройство для тихого выстрела – долгое планирование не всегда является путем к успеху, часто являясь лишь предвестником, а то и непосредственной причиной неудачи. Я решил действовать стремительно и просто – подошел и громко постучал в дверь, заведя пока что пистолет за спину. Должно было немного повезти – в квартире должен был оказаться только Чернышев. Опираться на везение опасно, но лучшего момента, чем будний день, для нападения не было. Не открывали долго. Наконец, зашумел тяжелый замок, дверь открылась, и я столкнулся с Чернышевым взглядом. Его лицо ничего не выражало, как будто он думал о чем-то другом. Потом он все же рассмотрел меня и грустно улыбнулся: – Так вот, почему приходил тот милиционер. Я немного опешил от такого поворота, но не дал растерянности завладеть собой: – Ты узнал меня? – Конечно, узнал. Я вынес руку с пистолетом из-за спины и направил оружие на него. – Не пытайся захлопнуть дверь – я успею выстрелить. – Понимаю. Иначе уже бы попытался… Я не хочу умирать. – Все умрут. Рано или поздно. В твоей смерти не будет унижения, я обещаю. – Унижения? Хм… Ладно, заходи. И он толкнул дверь от себя, открывая моему взору темное нутро коммунальной прихожей. Чернышев сразу определил на моем лице сомнения и произнес: – Извини, все никак не купим новую лампочку. Пойдем в мою комнату – там светлее. – Ты один? – Да, конечно. Чернышев неловко развернулся и двинулся к одной из дверей, подставляя свою незащищенную спину под выстрел. Я не воспользовался этой возможностью. Из его комнаты пахло обувью. Он оставил дверь открытой для меня, а сам сел на край кровати. Я оглядел полки, уставленные старой обувью, и остановился на пороге. Чернышев посмотрел на меня с нетерпением, а когда он заговорил, голос предательски соскочил наверх: – Чего ты ждешь? Умолять я не буду, так что не томи! – Мне нужны остальные. Все, о ком ты знаешь. Кто они и где? – А с чего ты взял, что я что-то знаю? – Ни с чего. Я просто цепляюсь за шансы. Чернышев посмотрел вдруг куда-то на свой рабочий стол. Я проследил за его взглядом, но увидел лишь старую изношенную до дыр пару башмаков. – Цепляешься за шансы, значит… Давай-ка мы с тобой немного поторгуемся! – Я все равно убью тебя. – Убьешь, убьешь – не торопись. Видишь вон те башмаки? Позволь-ка! Чернышев поднялся и пропрыгал к столу. Взял один из башмаков и посмотрел на меня через протертую в подошве дырку. – Филиппа ты уже убил, поэтому я могу сказать тебе только о четверых. За это ты позволишь мне починить эту рухлядь. Ты посмотри – это же настоящий вызов для обувщика! Замена обоих подошв, дыра на левом, которую сам черт не заштопает, да еще и на носке правом практически до дырки протерто. А ведь вещь годная – со шнуровкой даже! Просто старая очень. В общем так, я отвечу на все твои вопросы, а ты дашь мне их починить. Идет? Я посмотрел на него и едва не улыбнулся. Все же Чернышев чертовски изменился – в иной ситуации этот человек мог бы стать моим другом. Мне даже стало жаль, что ситуация не была иной. Теперь он был похож на птицу – разумеется, на горделивого журавля, смотрящего на меня даже с каким-то превосходством. Только идущий по пути ремесла может так смотреть на идущего по пути воина. – По рукам. Он протянул мне руку, и я без колебаний ее пожал. После этого Чернышев принялся за работу, не теряя времени. Он с удивительной ловкостью прыгал между швейной машинкой, полками и рабочим столом. Он, казалось, вовсе забыл обо мне и о том, что завершение его труда будет и завершением его жизни. Я сел на кровать и старался ему не мешать, что в тесной, да еще и заставленной комнатушке было нелегко. В один момент он утер пот со лба и запрокинул голову. – Пот в глаза затекает – ненавижу! – Понимаю. Не пробовал повязку на лоб? – Не помогает. Я очень сильно потею лицом. У меня сейчас и спина, и подмышки сухие, а лицо как болото. Повязка просто намокнет и с нее начнет течь… Подай, пожалуйста, вон ту пару – возьму шнурки оттуда. Я проследил за его рукой и увидел под самым потолком указанную пару. Для него там было слишком высоко, тем более, что он не мог спокойно опираться на вторую ногу. Я даже замешкался немного, пытаясь понять, как же Чернышев засунул эти башмаки так высоко. Но он дал мне ответ, будто спохватившись: – Возьми на окне вилы. Я удивился, но протиснулся к окну и увидел то, что он называл вилами – метровую палку с двузубым железным наконечником. Судя по виду, самоделку. Я усмехнулся и без труда достал нужную пару. Чернышев не стал благодарить, лишь кивнул, не отвлекаясь от работы. Я вернулся на кровать. – Как так вышло с ногой? Сам не знаю, зачем я это спросил. Возможно, мне просто не хотелось сидеть в тишине. Чернышев, ответил, не оборачиваясь: – В марте 18-го под Екатеринодаром саблей во время конной атаки отрубили. Тогда же, кстати, Яшку Матвейчука пристрелили. Он тогда тоже с нами был. Его тебе уже не убить, так что могу рассказать сейчас. Представь себе, женщина пристрелила! Маленькая, черноволосая, на огромном черном коне. – Представляю. Ты говорил, что милиция приходила. Что им было нужно? – Изначально пришли, как к другу Филиппа Ермакова. Мы с ним правда приятелями были – благо, недалеко живем… жили. А потом следователь этот… Белкин, Галкин? точно не помню – увидел фотографию, где я, Ермаков, Овчинников, Юдин… и как вцепился в нее! Видать, неплохо ты уже пострелял. Я не стал ничего отвечать, поэтому через минуту Чернышев вновь заговорил, по-прежнему не отвлекаясь от работы: – Ты ведь понимаешь, что тебе не выжить? Что рано или поздно они выйдут на тебя? – Все умрут. Послышался смешок, но я не был уверен в том, кто его издал – я или Чернышев. Больше разговоров не было. Чернышев еще несколько раз просил меня о помощи – я помогал. День перевалил за полдень, тяжелый запах в комнате мешался с жарой, и я понял, что понемногу дурею от этого. Нужно было срочно продышаться, но я все же не хотел оставлять Чернышева совсем одного. Наконец, когда стальное кольцо боли надежно впилось в виски, Чернышев откинулся на спинку стула и устало выплюнул из себя: – Готово!24
Александра снова подкралась к нему со спины. Дмитрий был настолько зажат и закрепощен, что она едва узнала его фигуру. Он будто пытался уткнуться сам в себя, перекосил плечи, склонил голову, глядя себе под ноги. Руки были скрещены на груди, как будто ему было зябко. Александра приблизилась к нему и шепнула на ухо: – Привет! Белкин отшатнулся от нее и едва не вылетел на пути, прямо по колеса трамвая. Трамвай дребезжащим тараканом прогромыхал мимо, одарив Дмитрия отборной бранью из кабины вагоновожатого. Он даже не поднял на трамвай взгляд, продолжая смотреть себе под ноги. Александра аккуратно подошла к нему и взяла его за руки. Она действовала спокойно и уверенно. – Митя, посмотри на меня. Белкин помотал головой, но через полминуты смог поднять взгляд на девушку. У нее по спине забегали мурашки, когда этот пронзительный, молящий, разрывающийся в немом крике взгляд прошел сквозь ее лицо, как будто не увидев ее. Белкин начал снова опускать голову, но Александра взяла его за виски и заставила смотреть на себя – Что случилось? – Дело в работе. – Какое дело? Рассказывай. Александра почувствовала, как он пытается отрицательно махать головой, но лишь крепче взяла его за виски: – Рассказывай, Митя. Он не мог больше смотреть на нее и закрыл глаза – этому Александра никак не могла помешать. Белкин заговорил: – Два дня назад я общался с человеком. Его могли убить. Я знал, понимаешь? Я точно знал, что его могут убить. Что за ним придут. Но я даже не предупредил его. А сегодня мне сказали, что его убили. Убили именно так, как и должны были убить. Я ничего не сделал… Дмитрий вдруг протянул руки и обнял Александру. Обнял так крепко, что ей стало больно. Белкин зарылся в ее волосы, и, казалось, готов был простоять так целую вечность. Наконец Александра не выдержала и стала понемногу отстранять его от себя – ребра молили о пощаде. Она не без труда выбралась из его объятий и снова посмотрела Белкину в глаза. Перемены к лучшему были на лицо – это снова был его обычный отстраненный и задумчивый взгляд, из-за которого ей все время казалось, что он думает о чем-то другом. Дмитрий еще с минуту постоял истуканом, а затем неожиданно тепло и живо улыбнулся девушке: – Спасибо за то, что пришла. Я весь день был не в себе. Только теперь полегчало. Прости, если напугал – иногда со мной такое бывает, что я ненавижу и боюсь весь мир. Жаль, что ты это увидела. Александра вновь взяла его за руку и резко бросила: – Нет, не жаль! Теперь я точно знаю, что у тебя и плохое настроение с паникой бывает, прямо как у обычного человека. А что до благодарности… Как ты мне сказал на нашем первом свидании: «Мы ведь договорились»? У Дмитрия отчего-то закололо в груди после этих слов, а перед глазами все ускорилось и смазалось, как во время быстрой езды. Мгновение спустя он обнаружил себя целующим Сашу. Белкин понял, что положил одну руку на ее спину, а вторую на плечо. Это он подошел к ней, а не она к нему. Это он чувствовал себя в полном праве, а не она. Стоило ему осознать это, как зашевелился в животе зверек дикой паники и испуга. Александра отвечала ему с охотой, да так, что ему казалось, будто он может целовать ее вечность, но зверек разогнался и толкнул его назад, прочь от девушки. – Прости. Я не сдержался. Просто, так много всего сразу… Ответом Дмитрию был заливистый смех. Он поднял взгляд на девушку и увидел, что она даже голову запрокинула, а на них уже начали обращать внимание прохожие. Отсмеявшись, Саша бросила: – До чего ты все-таки дикий! Прежде чем он смог что-нибудь ответить, она схватила его за руку и потащила за собой, прямо как в тот раз, когда они бежали неизвестно от кого по заброшенному парку. Дмитрий решил подчиниться – он чувствовал, что сегодня ему лучше быть с ней, иначе чувство полной отчужденности и бесполезности снова вырвется наружу и поглотит его с головой. Спустя пять минут странного бега по вечернему городу Александра все же перешла на шаг, как будто избавилась, наконец, от погони. Белкин тут же поравнялся с ней. Он уже даже не замечал, что девушка крепко держит его за руку. – Куда мы сегодня? – Пока что подальше от людей! Дмитрий почувствовал, что они будто бы поменялись местами – теперь Саша была загадкой, которую он хотел разгадать, и которая никак не хотела разгадываться, хотя у него были все необходимые ключи. Они бродили по бульварам и дворикам пока на город не начали медленно опускаться сумерки. Они даже почти не говорили, хотя у Дмитрия было стойкое ощущение общения – ему казалось, что он внимает Саше через ее потную ладонь. Он никогда не испытывал подобного чувства. Разумеется, оно его пугало, ведь если он так легко забрался в ее мысли и настроения, то и она читала его легко и без ограничений. Неожиданно Саша остановилась. Дмитрий, не успев среагировать, прошел чуть вперед, но почувствовав, что девушка осталась позади, обернулся к ней. Они были почти что одни во дворе. Лишь у ближнего подъезда кто-то курил в полутьме. Дмитрий неплохо знал эту часть города – до его коммуналки было рукой подать. Как будто услышав его мысли, Александра уверенно произнесла: – Ты не скоро попадешь домой сегодня. Может быть, вообще не попадешь. – Что ты имеешь в виду? Мне на службу завтра. – Значит, пойдешь больным и невыспавшимся. У меня большие планы на эту ночь. С этими словами Александра извлекла из своей сумки бутыль из темного стекла. – Не смотри так – это красное вино. Мы будем пить его и гулять. Дмитрий действительно смотрел на затею Александры с определенным скепсисом. – Неужели тебе так хочется напиться в моем обществе? – Скорее, мне хочется, чтобы ты напился в моем. Не ищи во всем смысл, Митя – мне удалось достать вина, я хочу выпить его с тобой – вот и весь хитрый план. – А в этом хитром плане есть место штопору? – Да, у меня с собой… С этими словами Александра зарылась в сумку, а Белкин понял, что сейчас рассмеется. Он предложил: – Может быть, пойдем куда-нибудь? Я живу здесь неподалеку. Александра фыркнула и с отвращением оглядела нависавшие со всех сторон старые дома. – Не хочу! У тебя ведь комната в коммуналке? Не отвечай – по всему вижу, что комната, как и у меня. Забиваться в тесную комнатушку и задыхаться от того, что не можешь говорить в полный голос. Ловить на себе взгляды соседей, чтобы потом слушать их завистливые шепотки… Не хочу! Сегодня нам принадлежит весь этот чертов город, Митя! Неужели мы сами отнимем его у себя? Дмитрий понял, что не имеет ни желания, ни аргументов, чтобы противостоять Саше. Этот неприятный день мог хотя бы закончиться хорошо. И их движение продолжилось. Улицы, бульвары, аллеи, проулки и дворы сменяли друг друга в каком-то хороводе. Временами Дмитрию казалось, что он не идет на своих двоих, а летит над крышами спящего города. Алкоголь пока не действовал – Дмитрий не был знатоком, но точно понимал свое тело и знал меру, за которой начинал делать глупости. Саша все вела и вела его куда-то, как будто желая показать самые потаенные и заповедные места города, до которых не долетали бури века. Дмитрий увидел слева от себя большую воду и понял, что они вышли на какую-то набережную. Вода в реке отчего-то была неспокойна – она накатывала на отвесные каменные берега и разбивалась о них. Хотя Белкин допускал, что это была лишь щекотка в его возбужденном разуме. Они остановились у реки. Саша взяла у него бутылку и приложилась к ней до того неаккуратно, что красная жидкость побежала по ее щеками и подбородку, стекая ниже на грудь. Дмитрий, чтобы хоть на мгновение оторваться от разглядывания девушки, поднял взгляд на небо, покрытое редкими звездами. Ему вдруг пришло в голову, что в Москве на небе очень мало звезд. Как будто кто-то их прибрал с неба метлой, оставив по неаккуратности лишь несколько, причем, не на тех местах, где они должны быть. Дмитрий почувствовал, что его разум начинает плыть. В чугунном парапете, мимо которого они только что прошли было сто шестьдесят четыре цветка. Не было никакой нужды считать их – Белкин сделал это, не задумавшись, задним умом. Саша остановилась вдруг и смело разулась, оставшись босиком на диковатой давно нечиненой дорожке. После этого она оперлась о парапет и стала смотреть на темную реку, ловившую на себе отсветы редких городских огней и белой луны. Дмитрий встал рядом с ней и выпил вина. Белкин понял, что не может оторваться от тока реки загнанной в каменные рамки. Что-то предопределенное и неизбежное, а оттого зловещее было в этом токе. Дмитрий почувствовал, что Александра прижалась к нему. Она была необычайно горячей. Он с огромным трудом оторвал взгляд от реки и оглянулся вокруг – они были совершенно одни. Казалось, что во всей Москве больше никого не было. – Не люблю этот город. Слова Саши отозвались у него прямо в голове с каким-то странным эхом. – Я думал, что ты отсюда. – Нет, хотя я здесь выросла. И ни одного дня я не любила этот город. Его огромность и набитость. Его нескончаемую деловитость и шумность. Его давящую представительность. А вот его заброшенность люблю. Пустые парки, старые дома, закрытые кладбища, разгромленные церкви. Он только в своей смерти мне кажется живым. Пойдем – похоже, я знаю, где хочу быть сейчас! Белкин не стал спорить. Он глотнул из медленно пустеющей бутыли и пошел за девушкой, бросив на реку последний взгляд. Местность начала дичать – река скрылась, сменилась домами, а потом пошел запущенный, совсем неосвещенный сад, который показался Белкину знакомым. Дмитрия охватило странное чувство – он чувствовал себя полностью в руках Александры, но отчего-то не боялся этого. Он больше не боялся ее. Более того, ему было с ней по себе. Течение жизни научило его терпеть человеческое общество, но никак не наслаждаться им. Теперь же Белкин наслаждался. Он испугался от этого, как и от всего нового, но вскоре понял, что просто не может сопротивляться. Мир становился все более темным и дремучим, но вопреки, а может быть и благодаря этому, Дмитрий узнал то место, куда они пришли – это был тот самый заброшенный парк неподалеку от Красной Пресни набитый старыми скульптурами и колоннами, как большой чулан старой летней одеждой. Саша шла легко, как будто все прекрасно видела, а вот Белкин прилагал серьезные усилия, чтобы не упасть. Девушка так и не обулась и ступала по коварной земле босиком. Скоро свет луны высветил давешнюю беседку. Они вновь устроились под ее высоким куполом. В ночи это место было столь же умиротворенным и тихим, как и днем. Белкин в безотчетном жесте поднял взгляд под купол, и ровно в этот момент из-под купола под свет луны вылетела ласточка. Дмитрий усмехнулся и выпил вина, прикрыв глаза. Когда он их открыл, то увидел у колонны полностью обнаженную девушку. Ее тело было совершенно белым или казалось таким в неверном свете луны. Белкин подошел ближе к девушке и увидел все вернее – руки от плеч, ноги ниже коленей и шея несли на себе след солнечного света. Дмитрий сам не заметил, как положил руки на плечи девушки. Она отчего-то часто дышала и мелко дрожала всем телом. Белкин поднял взгляд на ее лицо, и вспомнил, что не спит, что это не просто девушка, что он неуверенный ни в чем затворник, а она почему-то считает это интересным. Он отпустил ее плечи и отшагнул назад. Дмитрий отступал крошечными, сомневающимися шагами пока не перестал видеть даже тень Александры, отбрасываемую в свете луны. Он почувствовал спиной лед колонны и понял, что отступать некуда. Что-то внутри Белкина возмутилось его вечному страху, его трусливой нерешительности, его боязни себя в мире. Это что-то заставило его поднять взгляд. Саша смотрела на него с обидой. Дмитрий понял, что если он попросит ее одеться, она это сделает. Она оденется и уйдет из его жизни так же резко, как вошла в нее. – Ты хочешь сейчас? – Да, хочу. Не обижай меня, Митя. Не думала, что придется так выкладываться, так раздеваться всем нутром для тебя. Не отталкивай меня, пожалуйста. Неужели ты совсем не хочешь? Дмитрию захотелось отвести взгляд от лица Саши, но он запретил себе – все, что угодно, лишь бы не обидеть своей недужной закрытостью того, кто полностью открыт. Слова слетели с его губ, как птицы, и точно так же упорхнули в ночное небо: – Хочу… Очень хочу.25
Дмитрий пришел в себя и едва не застонал, открывая свинцовые веки – вчерашнее вино, а больше вина короткий сон на узкой для двоих кушетке отзывался тяжестью во всем теле. Они все же добрались до его комнатки, пройдя по ночной Москве несчитанное число шагов. Была уже совсем глубокая ночь, когда молодые люди аккуратно, чтобы никого не разбудить, проникли в мир идеальной чистоты, созданный Белкиным. Саша тут же поставила свою сумку на прибранный стол, бросила под него обувь и растянулась на неразобранной постели. Дмитрий простил ей эту бесцеремонность. Его воспаленные, взмыленные мысли были заняты совершенно другим. Белкин рывком сел на постели, так и не справившись с веками до конца. В ушах зашумело, но это чувство быстро прошло, оставив его один на один с обычной усталой разбитостью невыспавшегося человека. Еще только проснувшись, он понял, что Саши нет рядом. Выяснение этого обстоятельства Дмитрий решил отложить хотя бы до тех пор, когда сможет нормально видеть мир вокруг. Наконец пятна стали образами, обрели очертания и определенность. Белкин тут же увидел Александру, которая сидела за столом вполоборота к нему. Она снова была совершенно обнаженной, хотя Белкину помнилось, что уснула она в одежде. Он бросил опасливый взгляд на дверь, но тут же расслабился – он сам вчера, точнее уже сегодня несколько часов назад, запер дверь на ключ. Саша совершенно проигнорировала его пробуждение, что позволило Белкину немного распробовать это чувство – чувство пробуждения с кем-то, с кем у тебя есть общая интимная тайна. Оно было сухим на вкус, хотя возможно, тут дело снова было во вчерашнем вине. Дмитрий хрипло спросил: – Который час? Саша что-то увлеченно читала и ответила, не отрывая взгляд от своего чтива: – Когда я последний раз смотрела на часы, было без четверти шесть. Дмитрий бросил взгляд на наполовину занавешенное окно – утро было в самом разгаре. Мысль о том, что до самого вечера ему больше не удастся хотя бы на пять минут прилечь, вызвала у Белкина приступ черной меланхолии, но он тут же его беспощадно подавил. – Ты давно проснулась? – Где-то час назад. Александра продолжала увлеченно водить взглядом по строчкам. Казалось, что ей вчерашний вечер и сегодняшняя ночь дались очень легко. Дмитрий понял, что улыбается уголками рта, глядя на ее сосредоточенное лицо. Вчерашнее ожило и стало вдруг явственным и вещественным. На ее щеках вновь плясали лунные тени, а его спину холодила старая плитка пола беседки. Белкин задался вопросом: «Неужели теперь каждый раз при встрече с ней я буду вспоминать и чувствовать тот момент?» Ответом на этот вопрос могло быть только время, которому Белкин и решил довериться. – Что читаешь? Саша, наконец, оторвалась от листков и посмотрела на него рассеянным взглядом. – Да так… У тебя очень хорошо пишется. Попробуй сам как-нибудь, а пока послушай. Она взяла в руки тетрадку, которую Дмитрию прежде доводилось видеть, и уже набрала в легкие воздуха, чтобы начать читать вслух, но Белкин ее перебил: – Подожди! Может не стоит? У меня стены со смежной комнатой нарошечные, а там ребенок маленький. – Потерпят. Я уже минут сорок их копошение, вопли и сюсюканья терплю, кроме того, они, по-моему, ушли на кухню. Слушай! «Часто приходится видеть старорежимные проявления неуважения к товарищу-женщине, совершаемые кем по недомыслию и привычке, а кем и по злому умыслу. Например, мужчины до сих пор позволяют себе подниматься в присутствии женщины. Многим этот жест может показаться проявлением уважения, но это уважение насквозь лживое – в старом мире, где ни о каком равенстве между мужчинами и женщинами говорить не приходилось, этот жест был в действительности проявлением превосходства мужчин, ведь большинство мужчин выше ростом, чем женщины, и, вставая, они показывали, что всегда, в любом деле будут выше женщин. Или этот невинный жест, когда мужчина придерживает дверь, пропуская женщину. Мир институток и барышень, падающих в обморок от комариного писка, канул в прошлое. Настоящая советская женщина, труженица, служащая или крестьянка в состоянии и силах сама держать для себя дверь, а оттого такое поведение мужчин есть неуважение к ней. При этом обращает на себя внимание то, что чем больше в мужчине старорежимной «учтивости», тем хуже он относится к проявлениям женской сознательности, тем больше он отказывает женщине в истинно советском уважении к равному. Например, хорошее, правильное приветствие за руку эти мужчины оказывают только по отношению к другим мужчинам, отказывая в этом приветствии женщинам. С женщинами они обычно здороваются лишь словами, и это еще более-менее нормальный вариант. В иных случаях они исполняют что-то вроде невысокого поклона, а то и пытаются целовать руку женщины, демонстрируя вопиющее неуважение к самому нашему советскому обществу, где больше нет ни самих барских элементов, ни признаков раболепной почтительности перед ними. Мы, советские люди, должны сказать решительное «нет» всем подобным проявлениям! Ведь подобная буржуазно-барская «учтивость» контрреволюционна по самой своей сути! Она – есть проявление глубокой реакционности и ограниченности значительной части мужчин, живущих в нашей стране…» Александра прервала себя и посмотрела на Белкина с усталой улыбкой. Теперь он увидел следы прошлой ночи на ее лице – тени под глазами и обострившиеся черты, несобранные волосы и сухие губы. – Как тебе? По-моему неплохо написано! – Ты действительно думаешь так, как пишешь? – А какая разница? Дмитрий снова почувствовал, что пытается разгадать ее, но никак не может. Ему стало неуютно от этого. – Послушай, Саша, а что будет, когда ты разгадаешь меня до конца? Когда я перестану быть тебе интересным. Улыбка сошла с ее лица, а взгляд стал вдруг таким колючим, что Белкин не смог его выдерживать и уставился на свои руки. Спустя несколько мгновений, он, как через вату, услышал: – Скорее всего, я уйду. Как ни странно, от того, что она сказала правду, Дмитрию стало легче. Он снова смог смотреть на девушку: – Только предупреди меня, когда почувствуешь, что хочешь уйти, хорошо? Мне нужно будет подготовиться.26
Виктор Павлович вновь был у дверей «чекистского кабинета». Ему хотелось смеяться от этой ситуации – уже в третий раз, уже третьему человеку из ОГПУ ему предстояло рассказывать одно и то же. Что дело Осипенко, это дело не только Осипенко. Что количество жертв продолжает расти, а странности множатся. А еще, что для того, чтобы схватить безобразника достаточно просто выставить наблюдение за двумя людьми. За всего двумя отдельно взятыми людьми. Оба находятся в Москве, оба совершенно не скрываются. И если бы Гендлер занялся этим, а не поехал брать и бить, как это заведено в их милом заведении, то возможно, убийца – настоящий убийца – уже был бы найден, а сам Гендлер был бы жив. Виктор Павлович без всяких стеснений и угрызений широко улыбнулся, вспомнив заметку в «Вечерке» о взрыве примуса в одном из домов на Сыромятниках и некролог в том же номере о скоропостижной смерти при исполнении служебного долга уважаемого товарища Гендлера Иосифа Давидовича. Решить эту задачку для Стрельникова не составило труда. И если смерть Гендлера, у которого на лице была написана вся его революционно-уголовная биография, вызвала у Виктора Павловича грешное чувство удовлетворения, то несомненная смерть инженера Митина его расстроила – Митин был верной ниточкой к настоящему убийце. Ниточкой, которая обязательно привела бы к нужному человеку, но только за нее нужно было аккуратно тянуть, а не дергать со всей чекистской дури. От такого обращения ниточки чаще рвутся, чем вьются. Но два человека, указанных одноногим обувщиком, все еще могли и должны были в итоге вызвать интерес у убийцы. «Нужно будет сегодня посмотреть на Белкина повнимательнее – его весть о гибели этого Чернышева просто уничтожила. Может захандрить с его-то характером…» Виктор Павлович отвлекся от размышлений о Мите и еще раз посмотрел на дверь «чекистского кабинета» – не хотелось стучать в нее. Столкновение с Владимировым вселило в Стрельникова надежду, что некоторые вещи наконец-то начали меняться к лучшему, и ничтожность, в которую впало бытие, имеет свой конец, но потом Владимирова сменил этот. Пятнадцать лет назад Стрельников давил таких молодцев, как Гендлер. Причем, не за терроризм или политическую агитацию, а за разбой, грабеж и уклонение от военной службы. Возвышение бытия из ничтожности пока откладывалось. Виктор Павлович выгнал эти мысли из своей головы – нужно было работать. В любой день, в любой век нужно было делать свою работу. Стрельников потому и удержался на плаву – он с самой юности усвоил для себя, что самый тяжкий из всех грехов, это уныние, разрушающее человека вернее всего. Он собрался с духом, облачился в привычное благодушие и постучал в тяжелую дверь. Никто не ответил. Тогда Стрельников постучал еще раз – вновь безрезультатно. После третьей попытки он потянул ручку на себя – дверь была заперта. Из этого могло следовать огромное множество вещей, начиная с того, что товарищи чекисты что-то припозднились на службу и заканчивая тем, что теперь Петровка, 38 снова всецело принадлежала милиции. Стрельников, не спеша с выводами, спустился вниз и подошел к дежурному: – Еще раз доброго утра, Петр Архипыч, ты прости мне праздное любопытство, но ты товарищей из ОГПУ не видал? – И вам еще раз не хворать, Виктор Палыч, нет, не видал. Они еще вчерашним днем, как погрузились на грузовик все, так больше не появлялись. Я слышал, случилось с ними что-то – вроде взрыв какой-то на Сыромятниках. Может, после этого решили у себя там, на Лубянке окопаться и не соваться в город лишний раз? Виктор Павлович задумчиво кивнул, а после этого ответил: – Да, было бы неплохо… Ладно, Петр Архипыч, не скучай! Стрельников сам не заметил, как поднялся наверх и устроился за своим столом. По всему было похоже, что больше ему пересекаться с ОГПУ в расследовании этих убийств не доведется. Виктор Павлович ни на секунду не сомневался в том, что чекисты продолжат копать вокруг Осипенко дальше. Может быть, даже до чего-нибудь докопаются. Разгромят организацию, в которой работали Осипенко и Митин наверняка. Пропустят через допросную коллег Митина и обязательно кого-нибудь осудят. Найдут какой-нибудь троцкистско-американско-голландский заговор по подготовке не меньше, чем вооруженного восстания в Москве. А самое неприятное, что не станут даже слушать о том, что убийство Осипенко никак не связано с тем, над чем он работал. Просто так вышло, что он пересекся с Митиным именно по работе. Стрельников понял, что теперь они в этом расследовании одни с Митей Белкиным. Разве что родное ведомство решит немного помочь, но только доказательств связи между убитыми было маловато для того, чтобы начальство тратило людей на слежку. Это у ОГПУ сеть агентов по всей Москве, а у МУРа каждый человек был на счету.*** Белкин чувствовал, что начинает клевать носом даже в трясучем кузове грузовика. Стрельников смотрел на плывшие мимо них улицы и не обращал на молодого коллегу никакого внимания. День прошел в текущих делах, быстро заслонивших для следователей череду возможно связанных убийств. Для Стрельникова это было даже к лучшему – он смог немного обдумать, куда двигаться дальше. Теперь грузовик двигался в сторону Немецкой слободы, где в одном из приземистых старых домов, населенных фабричными и железнодорожными рабочими, скрывалось фотоателье Ивана Громова. Громов был одним из людей, запечатленных на фотокарточке, которую Белкин увидел у одноногого Чернышева. Виктор Павлович поглядывал на все менее устроенную округу с некоторым удивлением – в странном районе товарищу Громову довелось держать ателье. Немцы в Немецкой слободе давным-давно не были хоть сколько-то значительной частью населения, но после 17-года не стало и купцов с разночинцами, живших здесь в большом количестве. С тех пор Немецкая улица, которую Стрельников никак не мог приучиться называть Бауманской, и притекавшие к ней ближние кварталы постепенно превращались в трущобы, отдаленные от всей московской жизни. Шофер остановился у нужного дома, не став даже пытаться втиснуться в тесный, загаженный двор. Белкин спрыгнул на старую разбитую брусчатку и не удержал зевок. Стрельников спрыгнул следом и огляделся вокруг. Рабочий люд возвращался со смены. Кто-то еще шел прямо, кто-то заметно пошатывался, а кто-то уже упал. Хотя Виктор Павлович отметил, что его не схватило то самое чувство непрестанного напряжения и опасности, которое было в районе Хитровки. В отличие от злой и вечно подпольной Хитровки здесь была обычная рабочая окраина. В меру разбитая и в меру дикая, но не переходящая в откровенную запущенность и брошенность. Ателье Громова пришлось поискать. Маленькая и блеклая вывеска указывала стрелкой во двор, но в неосвещенном дворе ничего похожего на фотоателье не было. Стрельников посмотрел в темное нутро подъезда и бросил: – Там? – Больше негде. – Почему даже в двухэтажных домах подъезды похожи на провалы километровых пещер? Белкин поглядел на старшего коллегу непонимающе, но Виктор Павлович лишь усмехнулся и направился к подъезду. Дмитрий последовал за ним. Сразу направо от входа в подъезд была еще одна маленькая и блеклая вывеска – они пришли по адресу. Очевидно, Громов устроил ателье прямо там же, где и жил. Стрельников протянул руку к двери, но замер на полудвижении. – Митя, в окнах ведь не было света? Белкин отрицательно помотал головой, а затем выглянул на улицу и убедился, что окна ателье были темны. Когда он возвращался к Стрельникову, раздался странный хлопающий звук. Виктор Павлович тоже его услышал и к тому моменту, когда Белкин с ним поравнялся, в руках у Стрельникова уже поблескивал револьвер. Дмитрий немного замешкался со своим, но вскоре был готов. Стрельников показал, что пойдет первым. Дмитрий встал напротив двери и навел на нее револьвер. Виктор Павлович аккуратно потянул дверь на себя – она оказалась не заперта. Скрип был до того пронзительным, что его было слышно в любой части дома, но с этим ничего нельзя было поделать. Как будто одного скрипа было мало, звякнул колокольчик, висевший над дверью. А за дверью, в глубине комнаты виднелись очертания человеческого тела. Стрельников осторожно переступил через порог и прошел внутрь. Вскоре Дмитрий увидел его знак о том, что можно входить. Белкин, продолжая держать револьвер перед собой, прошел в комнату и поравнялся с закрытой дверью, на которой висела табличка с надписью «Проявочная – не входить!» Дмитрий даже отсюда видел, что они опоздали – человек на полу был уже мертв. Вдруг дверь проявочной будто испарилась, обнажая густую черноту этой комнаты. В следующее мгновение эта чернота обрушилась на Дмитрия сверху. В голове взорвалась граната, начиненная иголками, в глазах потемнело, но сознание Белкин не потерял. Он выпустил пистолет из рук, припал на одно колено, а затем опустился на четвереньки. Белкин с огромным трудом, пересиливая всю мощь столба воздуха, давившего ему на плечи, поднял голову и увидел, что Стрельников тоже оказался на полу, и на него был наведен ствол странного, никогда прежде невиданного Белкиным пистолета. Виктор Павлович был в сознании и смотрел куда-то вверх – туда, где должно было находиться лицо убийцы. Дмитрий тоже попытался поднять взгляд, но что-то горячее и липкое заливало ему глаза. Белкин почувствовал, что пол под ним пришел в движение – похоже, забытья все же было не избежать. Перед тем, как потерять сознание, Белкин из последних сил успел крикнуть самое простое и быстрое, что мог: – Нет!
27
Лицо Чернышева все еще стояло у меня перед глазами. Он преследовал меня во сне, прятался в углах моего дома и в изгибах начертанных мною букв. Я даже в зеркале его видел. Когда из небытия вынырнул Осипенко, появившись вдруг в жизни Вани Митина, я не испытывал ни малейших сомнений. Осипенко нужно было судить. И нужно было хотя бы на малую долю искупить свое собственное предательство. Наше общее желание отомстить стало настоящим топливом для моего духа. Потом я столкнулся с Родионовым, который будто все эти годы ждал момента, чтобы поклянчить у меня на выпивку. Мне стало это нравиться, я вошел во вкус. Мерзавец Овчинников утвердил меня в том, что путь мести правильный и более того – неизбежный для меня. Но потом были Ермаков и Чернышев. Оба меня узнали, оба меня не боялись, оба вели себя достойно. Первые трое показали мне столь низкое падение собственной личности, что я решил, будто и остальные ничем не лучше, будто и они не переменили свою натуру за прошедшие годы. Мне было больно убивать кладбищенского гуся и нестерпимо убивать ремесленника-журавля. Я чувствую себя злодеем, причем не просто тем, кто творит злодейство, но тем, кто нарушает законы мироздания. Тем, кто убивает из прихоти, а не из неизбежной необходимости. Ты не думай – я не отступлюсь. Я доберусь до последних осколков прошлого и разобьюсь вместе с ними в кварцевую пыль. Чернышев был прав – мне не выжить. Я как-то не подумал об этом, когда прокрался в дом спящего Осипенко. Они уже сжимают кольцо вокруг меня. Они уже настигли моего оружейника. Я вспомнил стыдливую, похожую на дымную завесу заметку о взрыве примуса в квартире, где жил Митин. Трое погибших и один раненый. Ха! Для того, чтобы взрыв примуса привел к таким жертвам, этим троим нужно было обнять его в момент взрыва и даже в этом случае, они, скорее всего, отделались бы увечьями. Нет, они настигли оружейника, и он дал им бой. Он говорил мне, что больше они его не увезут, что больше он не будет отвечать на их вопросы. Похоже, он исполнил свое намерение в полной мере. Лишь одно меня смущало в его акте – биться с чекистами, это одно, но от взрыва могли пострадать другие люди. Это было очень неаккуратно. Я не рискнул приходить к его дому – слишком много опасности и слишком мало смысла. Вместо этого я пришел к тебе. И ты исцелила мои сомнения, как и всегда. Знаешь, когда ты сказала, что я могу отступить в любой момент, и в том не будет ни малейшего позора, я окончательно понял, что не отступлю. Когда все только начиналось, ты так хотела мести, так жаждала, чтобы я уничтожил их всех без пощады, а в последнее время все больше беспокоишься обо мне. Я попытался объяснить тебе, что мне придется погибнуть. А ты только обняла меня крепко, как будто не хотела отдавать в лапы подкрадывающейся смерти. Все же очень много наивного в тебе, даже спустя все эти годы. В тот момент в твоих объятиях я почувствовал, что возможно вижу тебя в последний раз. Уходя, не оглянулся ни разу – нужно было завершить все. Я почти не запомнил Ивана Громова. Он был тихим и незаметным. Не лез в первые ряды. Старая Немецкая улица ожидаемо вызвала во мне целую бурю чувств – я здесь жил раньше. Тысячу лет назад или больше. Причудливо было вновь оказаться здесь теперь. Москва перетекала и непрестанно менялась, то полнея от жадного до преуспевания народа, то худея и усыхая через уходящих на войну. Каждый район тоже имел свое дыхание, то пополняясь новыми жильцами, а то пустея и ветшая. Сейчас бывшая Немецкая слобода «выдыхала». Правда, не столько людьми, сколько собственной культурностью, благополучностью и парадностью. Первое же, что я заметил на подходе, это старое разбитое окно. Дом не был заброшен – в некоторых окнах был свет. Но в этом окне не было ни света, ни нормальности. Забавно, окна бьются всегда, в любые времена – в том нет трагедии. Но мне очень четко вспомнился момент, когда все полетело под откос – вот в таком же среднем по всем своим чертам доме, не в глухом углу, но и не в центре улицы кто-то разбил одно из окон. И его никто не заменил. Никто даже досками его не заколотил. Это было не окно во двор, поэтому каждый, кто проходил по Немецкой улице, мог его увидеть. Люди проходили и проезжали мимо, заглядывая в это разбитое окно, и видели деревянные ящики без маркировки – их содержимое до сих пор было для меня загадкой. Тогда я появлялся дома не часто, поэтому для меня происходившее далее было не плавным и ползучим, а резким и галопирующим. Вскоре в этом же доме разбили еще одно окно. Его тоже никто не заменил. Через месяц в доме не было целых окон, а на стенах появились надписи. В основном матерная брань, но было что-то и про фабрики крестьянам. Их никто не стер и не закрасил. Когда я вернулся домой в следующий раз, окна соседних домов были разбиты. А еще через время разбитые окна и грубые надписи появились и в моем доме. Разруха, как эпидемия какой-то страшной болезни, захватывала дом за домом, вытесняя не самих людей, а их нормальность. Я остановился около того дома, с которого все началось много лет назад – в нем было одно неразбитое окно и в этом окне, несмотря на ранний вечер, уже горел тусклый свет. А в том самом черном оконном зеве никаких ящиков больше не было – я смог разглядеть лишь какое-то скомканное тряпье и бумагу. Мой старый дом остался за моей спиной легко и быстро – меня здесь больше не было. Я не оглянулся, не замедлил шаг, но и не ускорился, пытаясь убежать. В нем разбитых окон не было, по крайней мере, со стороны улицы. Я смог быстро найти ателье Громова. Когда Чернышев только рассказывал мне о рыжеволосом человеке с фотокарточки, бывшей теперь в руках у милиции, я удивился тому, куда жизнь определила Ивана Громова. Правда, тут же одернул себя – были истории и поудивительнее у тех, кого мне довелось убить. В действительности, самым странным совпадением или иронией судьбы мне виделось то, что все мои прежние цели все еще были в Москве, а не разбрелись по огромной стране. Вернее, некоторые из них разбрелись, но и Юдин, и Матвейчук уже давно погибли. Ателье было на первом этаже, и освещенное окно было надежно защищено большой изящной решеткой, странной до того, что я долго не мог отвести от нее взгляд. А потом едва не хлопнул себя по лбу, узнав в этой решетке кусок ограды Александровского сада с медальонами в виде львиных морд, с которых, разумеется, давно соскребли позолоту. Лишь разобравшись с этим, я заглянул в комнату, защищаемую этой решеткой – Громов сильно изменился за прошедшие годы. Я не очень хорошо помнил его лицо и не смог бы его узнать, если бы не описание Чернышева. Громов располнел, заматерел и начал лысеть – стал похож на сатирическое изображение нэпмана с какого-нибудь плаката. Он был занят работой – у стены стояли молодые люди, имевшие взволнованный вид. Громов довольно грубовато велел им встать свободнее и улыбнуться, а еще не моргать, пока он не разрешит. Он не разрешал примерно две минуты – у девушки даже слезы по щекам побежали, но она не моргнула и не стерла принужденную улыбку с лица. Можно было постучать в ателье и под видом клиента подождать, пока Громов закончит с этой парочкой, но я опасался, что он меня узнает. Поэтому я остался у подъезда и решил выждать, пока Иван останется один. То ли минуты тянулись слишком медленно, то ли Громов собирался выжать из несчастных ребят все соки, но они все не выходили. Я оставался спокоен – Громов был на виду и не собирался никуда деваться. Сейчас было не лучшее время для наблюдения за снегирями, но своей рыжиной и ворчливостью Громов напомнил мне эту птицу. Я улыбнулся этой мысли и достал свои записи. В последние дни я почти не работал над ними, затянутый в омут переживаний – это было неправильно, поэтому сегодня с утра я заставил себя потрудиться: «Ничто иное не подвергает нас таким страданиям, как наше сожаление. Каждый человек желает избавиться от своих сожалений. Но и приподнятость, и подавленность ведут нас к опрометчивости. Позже память о нашем безрассудстве приведет нас к раскаянию, а раскаяние к чувству сожаления.Потому верно сохранять стойкость духа перед любыми невзгодами и не давать себе упиваться радостью при любой удаче…» Молодые люди наконец ушли, почти выскочив из ателье. Из темноты я мог наблюдать, как они двумя бабочками закружились перед подъездом, как девушка рассмеялась, а парень закружил ее в воздухе. Неужели Громов своими придирками довел их до того, что теперь, получив свободу, они радовались, как дети. Я дождался пока они уйдут, прикрепил к своему пистолету последнюю большую работу Митина и зашел в ателье. Колокольчик оповестил хозяина о моем прибытии – откуда-то сбоку раздалось приглушенное: «Подождите! Я сейчас выйду!» Я оглядел комнату – усталые после целого дня солнечные лучи уже покинули небольшой двор, на который выходило зарешеченное окно. Для фотографирования было уже темновато. Впрочем, судя по всему, Громов умел создать в этой комнате искусственный день с помощью сразу нескольких ламп, расположенных тут и там. Я подошел к стене, у которой недавно стояли молодые люди. На всю стену раскидывалась картина, изображавшая веранду на приморской вилле. Далеко слева виднелось море с одинокой яхтой, а справа отвесный, но невысокий скалистый склон. Плющ обвивал старый мрамор, из которого была выстроена веранда. Меня вдруг обдало соленым ветром и запахом оливок. Это была старая веранда из иных времен. Из времен, греческого языка и латыни, из времен Сапфо и Катулла. На заднем фоне, на галечной дорожке, поднимавшейся к вилле, мне примерещился бюст Гомера. Я отошел чуть подальше, вернулся в вечеряющую Москву и окинул картину общим взглядом. На ней очень не хватало главного героя. Казалось, что он отошел ненадолго в сторону, чтобы налить себе вина, например, но без него все было мертвым и пустым. Разумеется, в том и был замысел – героями были люди, которых Громов фотографировал на фоне этой стены. Иван подошел ко мне бесшумно – я тут же обругал себя за расслабленность. – Нравится? – Да, хорошая работа. Ваша? – Нет, один знакомый сделал. Одна беда – выцветает, да обтирается быстро… Итак, вы один будете? Я заставил себя оторвать взгляд от фона и обернулся к нему. Заглянул в его глаза – он не узнал меня. – Один. Мне желательно побыстрее. – Проездом что ли в Москве? – Да. Я не видел необходимости придумывать более сложную ложь. Громов кивнул и задумчиво сощурился. – Раньше завтрашнего утра никак – проявка дело небыстрое. И это будет стоить… десять за три. Это если самые простые карточки, а не открытки. Это было наглостью, и Громов это знал. Признавшись в иногородности, я уже повысил нормальную цену раза в два, а потом еще и срочностью докинул. Я усмехнулся и ответил: – Грабите честной народ, товарищ фотограф! Громов начал наигранно возмущаться: – Да кто грабит?! Я?! Везде сейчас по Москве такие цены! Найдете дешевле, бесплатно сниму! – Поискал бы, да времени нет. Десятка, так десятка. Громов тут же успокоился совершенно и стал готовить оборудование. Он повернул несколько переключателей разбросанных по комнате, и все помещение осветилось электрическим светом. Я спокойно следил за его беготней. – Стоя будете или стул принести? – Стоя. – Влево два шага. В мое лево, а не в ваше! Так, у вас фуражки нету? – С собой нет. – Ладно. Голову чуть на меня. Еще чуть. Наклоните. Улыбнитесь. Все! Замрите! Громов нагнулся к фотоаппарату, заглянул в объектив и увидел, как я в него целюсь. Нужно отдать ему должное – первое, что он сделал, это поднял руки вверх. – Ты не узнаешь меня? Громов медленно выпрямился и забегал взглядом, даже не глядя на мое лицо. – Что вам нужно? Деньги? У меня есть! Все отдам, только не убивайте. Я повторил вопрос: – Ты не узнаешь меня? Громов меня не слушал. Он продолжал лепетать: – У меня и золото есть. Немного, но есть. Я все отдам! – Замолчи! Сам не знаю, чем именно, но он начал меня раздражать. Причем быстро и сильно. Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, а потом произнес: – Золото, говоришь? Ну, показывай. Громов часто закивал и пошел на меня, будто забыв о пистолете. Я тут же его одернул, но Иван будто сам хотел отдать мне свое золото: – Мне нужно пройти – это в той комнате. В спальне. Я кивнул, пропустил его мимо себя, но был предельно внимателен – все это было похоже на уловку. Громов отпер ключом дверь в спальню и прошел в тесное помещение. Вдруг на середине комнаты он присел и стал что-то делать с полом. – Эй, ты чего там?! – Да у меня тайник здесь! Не в буфете же такое добро держать. Я почувствовал, что спина взмокла – что-то было не так. Где-то совсем рядом крутилась опасность. – Давай быстрее! – Сейчас-сейчас… Громов поднялся на ноги и стал поворачиваться – я был почти уверен, что увижу у него в руках пистолет, но там был лишь тканевый сверток, который Громов немного поглаживал. Я сделал ему знак вернуться в большую комнату. Иван подошел к стулу, который использовался при съемках, и стал разворачивать сверток на сиденье. Я на долю секунды бросил взгляд в окно и понял, что меня очень хорошо видно с улицы. – Постой. Свет убери. Громов посмотрел на меня непонимающе, но поднялся на ноги и стал гасить лампы. Вскоре комната погрузилась в ранний вечерний сумрак. Впрочем, было все еще достаточно светло, чтобы я мог хорошо видеть свою цель. Он растерянно посмотрел на меня: – Но как же без света? – На ощупь. Показывай, а не болтай. Вскоре на стуле лежали несколько колец и сережек, пара серебряных ложек и портсигар из красного дерева. Я велел ему отойти к стене, а сам обратился к предметам, разумеется, не расслабляясь до конца. На одной из сережек застежка была испачкана чем-то бурым, у портсигара был сколот угол, а одно из колец имело посвящение некоей Инне. – А с того офицера ты ничего не снял? Ответа не последовало. На лице Громова страх мешался с непониманием. – Неужели совсем не помнишь? Ты, Осипенко, Чернышев, Родионов, Юдин… А, ну да, он же не первой жертвой вашей банды был и не последней. Ну, так я напомню – он смотрел на вас так, как вы заслуживали – как на стаю бешеных собак, которых забыли пристрелить. В глаза мне посмотри, Иван. Громов по-прежнему ничего не понимал. Или делал вид, что не понимает. Я резко поднялся на ноги и в третий раз спросил, чудом не перейдя в крик: – Ты не узнаешь меня?28
Чернота начала понемногу отступать. Дмитрий услышал чей-то слабый стон и попытался открыть глаза. Сейчас, в отличие от утра, ему это не удалось. Стон повторился, а потом Белкин почувствовал чью-то холодную ладонь на своем лбу. Вдруг мир дернулся, и в черноте перед глазами ослепительно взорвались искры. От искр было не только нестерпимо ярко, но и чертовски больно. Они заметались в голове Дмитрия, а потом ушли куда-то в район темечка и принялись мерно колоть его толстыми портняжными иглами боли. Белкин снова попытался открыть глаза – в черноте образовалась узенькая щелочка света, но большего он не достиг. Мир опять резко дернуло, и повторился слабый стон. Белкину пришло в голову, что это мог быть его стон. Створки, за которыми скрывался свет, продолжали открываться, оставляя черноте все меньше места. Через некоторое время Дмитрий смог различать то, что его окружало. Куда-то спешило вечернее московское небо, на котором так мало звезд и все не на своих местах. Деревья, казалось, парили в воздухе, как и крыши снятые с домов. Монотонно рычал какой-то зверь, иногда добавляя в свою заунывную песню визги, взрыкивания и шипения. – Ну, слава Богу, голубчик! Я уже беспокоиться начал. На лоб Дмитрий снова легла ладонь, а московское небо заслонило очень уставшее лицо Стрельникова. Виктор Павлович смотрел на Белкина как-то странно – с тревогой и тенями страха в глубине глаз. И все же нашел на лице место для дружелюбной улыбки. Прошлое стало склеиваться в памяти Дмитрия подобно разбитой вазе. Он входит вслед за Виктором Павловичем в фотоателье. Потом дверь проявочной исчезает и кто-то сильно бьет Белкина по голове. А в следующий момент этот кто-то уже наводит дуло пистолета на лежащего Стрельникова. И пустота. Схематичная картина мира начала обрастать деталями. Пистолет этого кого-то был странным, даже диковинным. И нелепая широкая труба, приделанная к стволу… Дмитрий остановил свои скрипучие мысли и заметался взглядом в поисках куда-то пропавшего Стрельникова: – Ви… Виктор Пав… – Не спешите болтать, голубчик. Болтать умеет каждый дурак, а вот молчание – золото. Особенно для вас. Крепко же он вас приложил – весь мой пиджак вашей кровью пропитался. – Прос… простите. – Ну что вы, Митя! Это мне у вас прощения просить пристало – не проверил проявочную старый дурак! Как зеленый новичок без усов, да без сапог. Белкин попытался приподнять голову, но искры тут же сорвались со своего места под темечком и начали разносить боль по всей голове. На плечах появился какой-то груз – Дмитрий понял, что Стрельников положил на них свои руки. – А вот шевелиться вам точно не стоит. А то голова вскрытая – никак мозги растрясутся? Дмитрий почувствовал, что улыбается. Виктор Павлович отчего-то просто-таки источал афоризмы разной степени остроумности. Белкин вдруг очень хорошо понял, что его старший коллега, всегда спокойный, невозмутимый и доброжелательный Виктор Павлович Стрельников всерьез взволнован и даже напуган. После этого стало по-настоящему страшно и самому Дмитрию. Чернота стала наваливаться с боков, и Белкин был даже рад ее возвращению – так хотя бы не будет больно. «Разговаривать мне запретили, двигаться тоже – буду спать». Как будто услышав эту ленивую мысль, Стрельников легко, но настойчиво потряс его за плечи. – А вот спать вам еще рано, Митя. Давайте уж тогда болтать. Виктор Павлович поднял голову и что-то спросил у человека, которого Белкин не видел и вообще не знал доселе о его существовании. Страх нарастал – Дмитрий понимал, что Стрельников выкрикнул свой вопрос, но до уха Белкина дошли лишь приглушенные отрывки. Он осознал вдруг, что все слова ему казались приглушенными. – Уже скоро, Митя! Скоро будем в гостях у белых архангелов – они вас живенько в порядок приведут. – Архангелов не… не бывает. – Бывают, голубчик. Еще как бывают. Только они без крыльев. У них бинты, ваты, иголки и стетоскопы вместо крыльев. – И очки… – Да, конечно, у настоящего архангела должны быть очки! И умный взгляд. И аккуратная бородка. И сострадание к ближнему своему. Вот к такому и едем. Дмитрий вновь почувствовал, что улыбается. Перед глазами всплыл огненными буквами вопрос. – Виктор Пав… Павлович, а вы сами? – Что я сам? Архангел? Нет, голубчик, мы с вами из божьих тварей попроще. – Я не то… хотел спросить. Вы в порядке? – Конечно! Шишка на голове, но на том все. Ловко он нас – вас одним ударом свалил с ног, а я начал оборачиваться, потому удар пришелся вскользь. Но сильный гад – у меня все равно перед глазами поплыло. А он еще ноги мне подбил, так что растянулся я – растяпа – на полу не хуже того трупа. – Почему… В этот раз Стрельников смог верно понять, о чем спрашивает молодой коллега: – Почему он нас не убил? Не знаю. Это самый важный вопрос на самом деле. За ним уже столько трупов, что для него одним больше, одним меньше погоды не сделают, но нас он не убил. Имел все шансы. Смотрел на меня, пистолет уже навел. А я уже с жизнью распрощался – понимал, что все. Но он не выстрелил. – Я… крикнул… – Да, крикнули. Прямо перед тем, как без сознания упасть. Думаете, это его остановило? В таком случае, я ваш должник! Но мне кажется, что он просто не хотел нас убивать. Впрочем, не знаю, не знаю… Главное, что мы живы, пусть и чудом. Будем думать о нем позже. Но Дмитрию не хотелось позже. Ему казалось, что он на пороге какого-то прозрения, какого-то понимания, после которого убийца будет для него открытой книгой, и ему останется лишь дать название этой книге. – А что… что было после того, как я… потерял сознание? – Он смотрел на меня. Я смотрел на него. Теперь я знаю его лицо. Как и описывала гос… гражданка Овчинникова – круглое лицо, светлые волосы с залысиной на лбу, внушительный и достаточно красивый – я думаю, женским вниманием не обделен. Митя, это Розье. Толку от этого знания ноль, но теперь мы хотя бы точно знаем, что к Овчинникову домой приходил именно он, а не этот оружейник… – Оруж…жейник. Митин… Вы видели оружие? Видели пистолет? – Не скажу, что смог так уж часто отвлекаться от черноты дула на прочие детали, но я понимаю, о чем вы. Чертовы чекисты! Я ведь самым нюхом чуял, что Митин причем! И Владимиров чуял. А сейчас ни Митина, ни его фотографии, ни даже Владимирова. – Так что… было потом? Он просто ушел? – Да. Постоял, посмотрел, а потом забрал наши револьверы и вышел. Я корчил из себя барышню кисейную, но на ногах уже вполне мог держаться к этому моменту – пошел бы за ним даже без револьвера, но на полу лежали вы в бесчувствии, и лужа вокруг вашей головы нехорошая начинала натекать, поэтому я выбрал вас, а не его. Мы со Степаном Савельичем вас в грузовик загрузили, да поехали. – Степан Савельич? – Нда, придется архангелам над вами поколдовать… Степан Савельевич Колокольников – шофер наш. Мы на нем и катаемся все это бесконечное расследование. Белкин рассмеялся этим словам. Даже боль и подступившая к самому горлу тошнота не мешали ему искренне веселиться – он отъездил в кузове этого грузовика не одну сотню, да даже не сотню – тысячу километров по столице, но шофер для него, как и в первый день, оставался просто шофером. Отсмеявшись, Дмитрий открыл глаза и снова увидел лицо Стрельникова. Тот больше не улыбался, а в глубине его глаз плескалась паника. Белкин перестал смеяться и постарался просто улыбнуться, однако лицо чувствовалось настолько чужим, что он был не уверен в том, что вышла улыбка, а не оскал. – Поблаго… поблагодарите потом Степана Савельевича за это. За все… Чернота вновь стала давить со всех сторон, и Дмитрий не видел причин с ней бороться. В конце концов, он не спал почти целую прошлую ночь, отработал целый утомительный день, а под вечер еще и получил по голове, да так, что мысли до сих пор путались и слова из себя выдавливать приходилось. И вновь нежные объятия сна разрушило вторжение Стрельникова. – Митя, не засыпайте. Нельзя. Подождите немного… Савельич, ну сколько там?! – Уже скоро, Палыч! Полкилометра – не больше! Стрельников встревожено кивнул и посмотрел на бледное лицо молодого коллеги, на губах которого так и осталась грустная улыбка. – Слышал, парень? Уже недолго. Ты только не теряй сознание. Белкин скривился, застонал, но заставил себя открыть глаза. – Да знаю я… Виктор Павлович, знаю, что в кому можно впасть, если там не просто… не просто сотрясение… Вчера допоздна… с девушкой по городу шатался – не выспался, вот и тянет теперь.29
Пиотровский ушел по колено в снег и едва не потерял равновесие. За спиной раздался стон. Нестор, не оборачиваясь, бросил через плечо: – Держись, браток! Уже недолго осталось. С трудом высвободив ногу из-под снега, Пиотровский сделал широкий шаг вперед и снова угодил в снег. Душу охватило желание сбросить ношу, освободиться, воспрянуть, полететь над снегом птицей, но Нестор его подавил. Не из великой любви даже к человеку, которого нес на плечах по зимнему лесу уже несколько верст, а из природного упрямства – он уже пронес раненого слишком долго, чтобы теперь бросать. Все произошло стремительно – японцы снежным комом обрушились на отряд, к которому Пиотровский примкнул каких-то три дня назад. Пленных они, как водится, не брали, всех убивая на месте. Нестор не был солдатом и никогда не участвовал в бою – разумеется, он запаниковал и растерялся. Только что совершенно тихий лес разразился вдруг винтовочным стрекотанием и железными лязгами. Пиотровский смотрел на крутившуюся в танце смерть и не мог пошевелиться. На него вдруг побежал с жутким криком один из этих маленьких мерзавцев, целя штыком прямо в лицо. До смерти оставались считанные мгновения, а Нестор все не мог понять, почему японец хочет его заколоть штыком, а не пытается стрелять. Когда между ними оставалось не больше пяти метров, японец вдруг дернулся всем телом, отклонился назад, но не остановился. – Да не стой столбом, лаборант! Пиотровского кто-то толкнул, да так сильно, что он едва не подлетел. Через секунду Нестор почувствовал лицом снег, мгновенно попавший в рот и в нос. Он поднялся на колени и стал отплевываться, не замечая, что вокруг продолжается бой. Произошедшее несколько секунд назад всплыло в уме Нестора, он обернулся и увидел того, кто спас ему жизнь. Штык, который должен был поразить Пиотровского, настиг того, кто его оттолкнул. Теперь этот человек привалился к заснеженному стволу и зажимал глубокую рану на животе, а японец лежал лицом вниз у его ног, все еще сжимая свою винтовку. Человек начал сползать вниз по стволу. Нестор тут же подскочил на ноги и подхватил своего спасителя. Тот был в сознании, поэтому Пиотровский прокричал ему прямо в лицо, едва слыша самого себя: – Выбираемся отсюда! Через двадцать шагов раненый все же упал, утянув за собой Нестора. Тот понял, что с таким ранением его спаситель больше никуда не пойдет. – Гордей… Ты же Гордей? Ответа не последовало – раненый неотрывно смотрел на вершины сосен и на бесцветное небо, но в его глазах все еще теплилась жизнь. – Гордей, сейчас я постараюсь тебя понести. Прижми это к ране, как можно крепче, и не отпускай. Нестор взял руку раненого, вложил в нее свой шарф и прижал ее к ране на животе. После этого он попытался взвалить Гордея на спину. Тот продолжал молчать, но оставался в сознании. Пока их никто не преследовал, но на счету была каждая секунда. Нестор сделал шаг, затем еще один. Ноша гнула к земле, как и холод, накопившаяся усталость и страх. Главная ирония любой смуты такова, что всякий может оказаться на каком угодно месте. Тот, кто прежде побирался, мог разбогатеть до безобразия. Тот, кто был рожден на юге, искал свое счастье в северных снегах. Тот, кто прежде был учен, теперь ничего не понимал и не знал. Полицейский чиновник из Справочного бюро, в прежние времена мерки с мерзавцев снимавший, да фотокарточки ведший, этой иронией был заброшен к партизанам непонятной политической ориентации, боровшимся с интервентами. Нестор решил не распространяться лишний раз о своей настоящей профессии и назвался химиком из Владивостока, получив отчего-то тут же прозвище «лаборант». Узнав об интервенции, Нестор, как и многие, решил, что под защитой иноземных штыков дожидаться восстановления нормальности будет лучше, чем в раздираемом всяческими силами Ново-Николаевске. И стал пробираться по Транссибу на восток. Не столкнувшись почти что ни с какими смертельными опасностями, Пиотровский добрался до Приамурья, где на одной из мелких станций иноземные штыки зачем-то сняли его и еще с десяток человек с поезда, потом отобрали саквояж и все наличное, а затем повели куда-то от станции. Если бы не внезапный налет партизан Нестора наверняка расстреляли бы в тот же вечер. Обругав себя за то, что не сиделось на месте, Пиотровский понял, что никто его ни от чего не защитит. Ни японские штыки, ни Чехословацкий легион, ни каппелевцы вместе с корниловцами, колчаковцами и прочими «старыми» армиями, ни красные с их советами и пьяными бандами. Во всей стране больше не было силы, которая желала бы и могла бы защищать, а не грабить и убивать. Вот и получалось, что маленький, собранный с бору по сосенке отряд, затерянный в лесах, и был последним нормальным местом на Земле. Правда, теперь не было уже и его. За спиной неожиданно раздался хриплый смех. Пиотровский, не переставая удивляться тому, что его спутник все еще жив, спросил: – Что смешного? – Ты, лаборант. Ты очень смешной. Нестор не стал ничего отвечать – это Гордей мог позволить себе тратить силы на шутки, лежа на чужом горбу, а Пиотровскому такая роскошь доступна не была. Впереди что-то громко хрустнуло, и Нестор тут же остановился, как вкопанный. Какие-то три дня в лесу, и он уже научился слушать его, понимать его язык и определять, какой звук нормален и естественен, а какой принадлежит двуногим гостям. Этот хруст был из таких. Пиотровский всматривался в заснеженные сосновые стволы, силясь разглядеть мелькание человеческих фигур в серых японских шинелях. Нестор почувствовал сильный удар в спину. Он вскрикнул от боли и неожиданности, потерял равновесие и упал, уронив свою ношу. Уже второй раз за день Пиотровский оказался лицом в снегу. Гордей неподвижно лежал сверху, и Пиотровскому показалось собственное нынешнее положение вполне пригодным. Да, снег обжигал лицо, но здесь было темно и пусто – где бы он не оказался после этого, там будет намного хуже. Там будет ругань, предательство и смерть. А еще боль. Хотя последняя догнала его и здесь – кто-то вновь ударил Нестора по спине, а потом несколько раз пнул. Пиотровский не удержал стон и выбрался из-под тела Гордея, от которого не было никаких признаков жизни. Нестор проморгался, избавляясь от снега в глазах, и осмотрелся. Вокруг стояли четверо до нелепости закутанных японцев. Их шинели от сибирской зимы спасали плохо, вот и приходилось утеплять свои щуплые тела всем, что подвернется под руку. Самый представительный из них сделал шаг к Пиотровскому и немного наклонился, опершись на меч, скрывавшийся в ножнах. Лицо его вовсе не казалось Нестору злым – напротив, казалось, что офицер смотрит на него с доброжелательной смешинкой. Почему-то Пиотровскому не захотелось улыбнуться в ответ. Офицер произнес что-то на своем странном языке, в котором все слова сплетались до неразличимости в одно большое слово. Нестору примерещилась вопросительная интонация в словах офицера, но так или иначе, он не мог ответить ни на один его вопрос. Офицер коротко бросил что-то одному из солдат – тот ответил. Вот в его словах уважительные нотки звучали явственно. Гордей слабо застонал. Пиотровский отвлекся от односторонней беседы с японскими солдатами и посмотрел на того, кто за последние пару часов успел стать для него ближе, чем все иные люди в мире. Гордей умирал. Это Нестору было понятно с самого начала, просто теперь долгий и мучительный процесс умирания подходил к своему единственному возможному итогу. Нестор перевернул раненного на спину и устроил голову Гордея к себе на колени. Глаза раненого были закрыты, а в руках не было шарфа – должно быть он лежал теперь где-то на снегу, рядом с оставленными Нестором глубокими следами. Какая-то тень приблизилась и нависла над ними двумя. Пиотровский поднял взгляд и вновь увидел офицера. Тот по-прежнему казался приветливым и дружелюбным. Он произнес что-то негромко, будто бы для самого себя, а после этого спокойно и деловито достал пистолет. Нестор безнадежно проговорил заплетающимся языком: – Нам бы к доктору. Раздался выстрел. Он прорвал тишину леса и ткань мира, перевернув все на изнанку, расположив небо внизу, а землю подвесив сверху для неминуемого падения. Нестор прислушался к своим чувствам – ничего не изменилось. Усталость и холод оставались усталостью и холодом, но нигде не взрывалась стальная боль, нигде не было чувства омертвения, и бешеный страх не растекался по нутру. Он опустил взгляд и увидел, что на груди и животе не появилось пулевых ранений. Неоткуда не течет кровь, а руки и ноги (кроме пальцев) вполне подвластны всем приказам разума. После этого взгляд Пиотровского скользнул чуть дальше, и он увидел, что Гордей опять уставился на небо и вершины сосен, только жизни в его взгляде больше не было. В груди Гордея была свежая маленькая рана, совсем не похожая на колотую рану от штыка. Нестор с трудом оторвал взгляд от трупа и тут же увидел черноту пистолетного дула, выпускавшего дымок после выстрела. Однако смерть его сейчас интересовала мало – он заглянул за эту черноту и увидел усатое лицо с дружелюбной смешинкой. Теперь Нестору захотелось улыбнуться в ответ. В следующее мгновение Пиотровский бросился прямо на пистолетную черноту, вложив всю свою жестокую обиду и остатки сил. Дружелюбие так и не оставило лица офицера, когда его пистолет пошел вверх, а затем предательски вылетел из рук. То ли бросок Нестора был настолько резким, то ли офицер просто совсем не ждал ничего подобного, но его реакции хватило лишь на удивленный вскрик, к которому добавились крики его людей. Нестор не слышал криков. Он не слышал ничего. Бросок опрокинул офицера в снег, оставив торчать воткнутые ножны с мечом. Помимо осознания, на чистом инстинкте Нестор отвел руку назад, взялся за плетеную рукоять и единым движением обнажил кривой клинок морозному воздуху для того лишь, чтобы с силой опустить его вниз и вогнать в живот офицера по самую рукоять. Офицер истошно закричал, и в то же самое мгновение мимо левого уха Пиотровского со свистом пронесся кто-то маленький и очень быстрый. Нестор тут же рухнул в противоположную сторону, пластаясь по снегу. Краем глаза заметил пистолет, вылетевший из рук офицера, протянул к нему руку, выстрелил в ту сторону, откуда только что пролетел еще один быстрейший зверь, не целясь, даже не глядя. Раздался вскрик боли. Следующий зверь укусил Нестора за левую руку, разозлив неимоверно. Пиотровский зарычал от нестерпимого, никогда прежде не испытываемого бешенства и швырнул себя к закутанной фигурке, выпустившей удачливого быстрого зверя. Фигурка оказалась в снегу, Нестор увидел искаженные ужасом черты и ударил по ним пистолетом, который все еще держал в руке. Послышался оглушительный хруст, вызвавший в Пиотровском то неповторимое ощущение, какое возникает от неожиданного прикосновения любимой женщины. Он начал бить раз за разом, желая повторить этот хруст и не слушая больше свищущих вокруг головы зверей и мух. Хруст сменился хлюпаньем – оно не было Нестору приятно. Он развернулся и увидел еще одно испуганное лицо. А лицо увидело его и его взгляд. После этого последний солдат просто развернулся и побежал прочь. Нестор перекосил лицо в ухмылке и перевел окровавленный пистолет на спину убегавшего. В голове выл ледяной ветер, даривший полный покой – Пиотровский выстрелил, и японец упал лицом в снег. Через мгновения Нестор стоял над ним и нажимал на спусковой крючок. Он нажимал и нажимал. Уже давно выстрелы сменились сухими щелчками, а Пиотровский все никак не мог перестать убивать того, кто уже был мертв. Наконец, сквозь оглушительный звук щелчков пробились мысли. За первыми мыслями навалилось осознание. Пиотровский судорожно оглянулся вокруг – увидел проткнутого мечом, забитого рукоятью пистолета, застреленного в спину, заколотого штыком и убитого выстрелом в лицо. И себя. Захотелось кричать и не существовать. Нестор в третий раз за день упал лицом в снег, надеясь зарыться в него целиком, спрятаться. Через время уколы холода стали нестерпимыми, и это привело Пиотровского в относительный порядок. Он сел и протер лицо от снега, запрокинул голову и увидел безразличное небо. Нестор все еще был жив. Все еще мог существовать в мире. Он понял вдруг, что безумно хочет пить. Чувство жажды быстро застило все остальные эмоции и мысли. Пиотровский сделал глупость – он зачерпнул ладонью снега и запихал его в рот. Стало легче. Снег растаял, стал водой. Жажда отпустила на время. Неожиданно к горьковатому вкусу талой воды добавился странный железный вкус. Нестор почувствовал, что вместе со снегом ему в рот попало что-то еще. Какой-то металлический предмет. Он тут же выплюнул его и отупело уставился на отстрелянную гильзу, выброшенную из офицерского пистолета, который он все еще сжимал в правой руке.*** – Нестор Адрианыч, просыпайтесь. Приехали. Пиотровский с трудом разлепил глаза, отрываясь от какого-то странного и неприятного сна. Сон смылся из его памяти, оставив во рту горьковато-железистый привкус. Нестору Адриановичу захотелось сплюнуть, но он, разумеется, не стал делать этого в кузове служебного грузовика. Володя Хворостин ободряюще улыбнулся криминалисту: – Не выспались, Нестор Адрианыч? – Выспишься с вами… Чего сразу-то не разбудил? С этими словами Пиотровский сел на узкой лавке, с которой только чудом не упал во время движения по утреннему городу, и огляделся вокруг – они были на Бауманской. Здесь вчерашним вечером кто-то пристрелил фотографа и съездил по голове Белкину и Стрельникову, причем Белкина решили оставить в больнице. Обо всем этом Пиотровскому поведал, заехавший за ним с утра Хворостин. Теперь была работа Нестора Адриановича – нужно было найти на Бауманской хоть что-то. – А чего будить? Вы носом клевали-клевали, а потом улеглись запросто, да уснули. Я только следил, чтобы с лавки не упали и все. – Спасибо, Володя. – Да не за что. Так-то оно понятно – с нашей службой на ходу засыпать будешь. Пиотровский кивнул и спрыгнул из кузова. Потянулся, разминая спину и плечи. Привкус сна все не уходил. Нестор никак не мог вспомнить, что же ему приснилось. У входа в подъезд Нестор Адрианович заметил знакомую фигуру Стрельникова. Палыч нетерпеливо мерил шагами площадку перед входом – это было на него не похоже. Пиотровский подошел и произнес: – Доброе утро, Виктор Палыч! Что, уже сбежал от советской медицины? Стрельников ожег его взглядом, но тут же надел свою улыбочку и подошел для рукопожатия. – Конечно, сбежал, Нестор Адрианыч, я еще пожить хочу. – Слышал, потрепали вас с Белкиным вчера. – Бывало и хуже… Ладно, чего языками зря чесать? Пошли внутрь. Пиотровский кивнул и последовал за Стрельниковым, не переставая дивиться необычной взволнованности старого, вечно спокойного сыщика. Виктор Павлович открыл перед Пиотровским дверь и пропустил криминалиста вперед. – Это тот самый со странными пулями, Нестор Адрианыч. – Это точно? – Точнее не бывает. Это именно он. Мне очень нужно, чтобы ты здесь что-нибудь нашел, Нестор Адрианыч. Пиотровский даже обернулся, чтобы посмотреть на лицо Стрельникова – он никогда не видел Палыча в таком настроении. – Ладно, Виктор Палыч – найду. Ты, главное, под руку не лезь. Стрельников кивнул и остался в подъезде, давая криминалисту нормально работать. Через десять минут Нестор Адрианович поднялся на ноги и посмотрел на просвет маленький металлический предмет, твердо удерживаемый пинцетом. Это была гильза. Пистолетного калибра, с прямоугольным фланцем и «бутылочным горлышком», без какой либо маркировки. Пиотровского обдуло зимним ветром, что неожиданно для него самого вызвало у него улыбку. Пиотровский оторвал взгляд от пули и крикнул: – Виктор Палыч, зайди-ка на минутку! Когда Стрельников поравнялся с ним, Нестор Адрианович произнес, едва сдерживая смех: – А я знаю, что это за патрон! Подумать только – столько времени глядеть на эти гильзы и не вспомнить! Я ведь знаю этот патрон до самого основания, даже лучше, чем человек, который его разработал. Я даже знаю, какая эта гильза на вкус!
30
Виктор Павлович устало вытер лоб платком и почувствовал, как сердце прихватило тисками, но тут же отпустило. Отчего-то этот день давался ему очень тяжело. Стрельникову пришло вдруг в голову, что уже скоро в один из подобных деньков его сердце окончательно взбунтуется против его неспокойного разума и объявит забастовку, а там, как повезет – может, на пенсию, а может, и в землю. Стрельников тряхнул головой, прогоняя дурные мысли – уже скоро, но не теперь, не сегодня. Виктор Павлович поднял взгляд на массивное и будто бы «придавленное» здание церкви. Оставив Пиотровского в фотоателье осознавать свое немного запоздалое откровение с японским патроном, Стрельников направился на Большую Никитскую, в Храм Вознесения Господня в Сторожах, который уже давным-давно прозывался просто Большим Вознесением. Беседу с Господом Стрельников на сегодня не планировал, но вот с одним из Его слуг поговорить стоило. Служивший при храме дьякон Варфоломей был одним из людей, запечатленных на фотокарточке одноногого обувщика Чернышева. Забавно распорядилась жизнь – Стрельников прекрасно понимал, что за люди были на той карточке и каким делом они были объединены, и, пожалуй, именно Михаил Меликов смог больше всех прочувствовать иронию бытия, оказавшись теперь Варфоломеем. Впрочем, Виктор Павлович не собирался спешить с выводами относительно дьякона – иногда люди, даже переменившись, вовсе не меняются. Теперь, после вчерашнего нападения дело принимало новый оборот. Теперь Стрельников намеревался требовать себе помощников, тем более, что Белкин выбывал из дела, по крайней мере, на некоторое время. После того, что произошло в ателье, у Виктора Павловича не оставалось ни малейших сомнений в том, что они идут по правильному следу и отстают даже не на шаг, а на полшага, наступая мерзавцу на пятки. Разумеется, вчерашняя встреча могла его спугнуть, но Стрельников вспомнил лицо убийцы, вспомнил его спокойный взгляд, лишь на самом дне которого ворочались червяки сомнений – этот человек ценил свой замысел дороже всего, дороже своей безопасности, дороже своей жизни. Значит, важно не упустить время, важно не сводить взгляд с последнего человека, который точно представлял для убийцы интерес. Но прежде с этим человеком нужно было пообщаться. Стрельников подошел к вратам и перекрестился, а после этого укрылся в прохладном помещении. Здесь царила седая сонность. Ныне церковь спала, пригнутая превратностями века. Небольшой участочек, укрытый от большой Москвы старой церковной оградой, нес на себе следы отсутствия ухода и легкого одичания. Лестница, ведшая к вратам, немного искрошилась, и никто не спешил ее лечить. Зато здесь было по-настоящему спокойно. Виктор Павлович вдохнул это спокойствие вместе с характерным для храма запахом свечей и вселенской печали. Он закрыл глаза и запрокинул голову, отдаваясь этому покою. Открыв глаза, Стрельников сразу почувствовал себя ребенком – потолок был расписан под небесный свод с Христом и его спутниками. Спаситель не смотрел вниз и был всецело занят собственным Вознесением, которому и был посвящен весь Храм. Виктор Павлович, глядя на фигуры, которые отчего-то были уместны среди облаков, улыбнулся – он не очень часто посещал церковь в последние годы, накопив в душе несколько вопросов к Господу, но, пожалуй, таких мощных образов человеческого духа ему немного не хватало. Христос не страдающий, не умирающий, и даже не поучающий, но величественный и повелевающий, вселяющий полную уверенность в своем конечном торжестве. Как ни странно, найти Меликова не составило никакого труда – он был в храме, правил ногу одного из массивных подсвечников, устроившись у окна. Он был поразительно похож на самого себя почти пятнадцатилетней давности, и это несмотря на погрузневшую фигуру и аккуратную черную бородку, сменившую усы. Стрельников подошел к нему и отвлек дьякона от работы: – Отец Варфоломей? Меликов поднял взгляд и неожиданно пристально посмотрел на Стрельникова. У него был тяжелый и пронзительный взгляд человека, который многое повидал. Впрочем, у Стрельникова он был не легче. Голос же отца Варфоломея оказался неожиданно мягким и легким: – Да, здравствуйте. Вы что-то хотели? – Поговорить с вами. – Вы хотите покаяться в грехах? Боюсь, что я не смогу вам помочь, но отец Никодим обещался скоро быть – можете его подождать. – Нет, я именно к вам. Дело в том, что я из милиции. Оперуполномоченный Стрельников. И мне очень нужно переговорить именно с вами. Стрельников достал свои документы и протянул их дьякону, но тот глянул на бумаги лишь мельком, продолжая буравить взглядом самого Виктора Павловича. Через несколько секунд он глубоко вздохнул и неожиданно резко поднялся на ноги, тут же возвысившись над Стрельниковым на добрую голову. – Вы по делу с этим молодым человеком? – С каким человеком? – В субботу приходил молодой человек, шумел на богослужении, пытался сорвать службу, хотел перевернуть купель – мне пришлось его выпроводить. Он в ответ грозился написать заявление в милицию. Но раз вы об этом не знаете, то, значит, не написал. Тогда зачем вы здесь? Виктор Павлович еще раз глянул на могучую фигуру дьякона и хмыкнул – «пришлось выпроводить…» – тяжеловато противостоять, когда такой малый просит тебя уйти. Стрельников вновь наткнулся на колючий взгляд и произнес: – Это связано с вашим прошлым, отец Варфоломей. С давним и не самым светлым. – Хм, тогда не будем смущать этим разговором Храм Божий – выйдем. Меликов прошел к выходу, не дожидаясь ответа Виктора Павловича, впрочем, тот не имел никаких возражений. Улица продолжала задыхаться в жаре, и Стрельников тут же с сожалением подумал о прохладе храма, но все же это было совершенной мелочью. Отец Варфоломей тоже не был вдохновлен разгаром июня – он прошел в тень деревьев и стал смотреть на них, заведя руки за спину. Когда Стрельников поравнялся с ним, дьякон начал: – Я уже давно оставил прошлую жизнь. Не имею, ни к ней, ни к ее обитателям никакого отношения. Признаться, я не уверен, что смогу вам помочь. – Боюсь, что прошлая жизнь вас не оставила, отец Варфоломей. С этими словами Виктор Павлович протянул дьякону старую фотокарточку, взятую у Чернышева. – Вы узнаете людей на этой фотографии? Отец Варфоломей взглянул на карточку лишь чуть внимательнее, чем на документы Стрельникова ранее, а после этого ответил: – Да, знаю. Всех до единого. Виктор Павлович кивнул, а затем задумался над тем, как же перейти к самому важному. Наконец, он решил действовать прямо: – Шестерых из запечатленных на этой карточке убили в течение последнего месяца. И это только те, о ком мы точно знаем. Убили однотипно из одного и того же оружия. На ней есть и вы, поэтому у нас есть основания считать, что и вас попытаются убить. Казалось, отец Варфоломей совсем не был удивлен. Он протянул руку к ближней ветке раскидистой яблони и нежно погладил один из листков. – Вы уверены, что они были связаны только этой фотографией? – Конечно, нет. Более того, я уверен в обратном, просто фотокарточка, это все, что у меня есть. Дьякон сорвал лист и сжал его в ладони, а после этого выбросил себе под ноги: – Если вы хотели предупредить меня, то теперь я предупрежден. Большое спасибо. Стрельников начинал раздражаться поведению отца Варфоломея – если бы он не видел лицо настоящего убийцы, то стал бы подозревать неразговорчивого дьякона. – Ваше преподобие, кто-то убивает людей. Вы знаете всех этих людей. – Знал. – Пускай так – вы знали всех этих людей. Простого «спасибо» недостаточно – нам нужна ваша помощь. Чем были связаны люди на фотографии? Чем вы все были связаны? Отец Варфоломей глубоко вздохнул и начал говорить. Было очень хорошо заметно, насколько ему неприятно вновь возвращаться в прошлое. – Ну, хорошо. Фотокарточка сделана в ателье на Немецкой в феврале 1918-го года. – Это ателье Громова? – Нет, тогда это не было ателье Громова. Я не помню, какая была фамилия у хозяина, но это был пожилой человек. Громов взял это место позже, когда уже никакого пожилого человека не было и следа. Главным среди нас был Матвей Осипенко. Он, вроде как, служил в армии и был демобилизованный по ранению. В Москве оказался во время боев в октябре 1917-го. Не знаю, чем он занимался до этого. После того, как взяли Москву, Осипенко стал собирать отряд «революционной милиции», как он это с подачи Юдина называл. Юдина, кстати, на этом фото нет – он к февралю уже сделал нам ручкой… Вы были тогда в Москве? – Да. Отец Варфоломей посмотрел на Стрельникова, будто ожидая продолжения, но Виктор Павлович не собирался рассказывать о том, что в октябре спасал уголовные дела из полицейских архивов от уничтожения бандами, подобными этой осипенковской «революционной милиции». Дьякон продолжил, вновь отвернувшись на яблоню: – Значит, вы помните, какой тогда творился кавардак. И как можно было называться кем угодно, лишь бы патроны были. Собственно, ничем удивительным мы не занимались – вымогательства и грабежи, если удавалось. Проверяли документы у людей, привязывались к чему-нибудь, ну а там – штык в ребро или золотишко вон. На случай вопросов о том, «по какому праву», у Осипенко была какая-то бумажка из Моссовета в том смысле, что мы все делаем по закону. А там и создание ВЧК подоспело, так что мы могли бандитствовать официально и на законных основаниях. Разумеется, долго так продолжаться не могло – после переезда столицы воздух нашему предприятию стали перекрывать. К тому же, тот же Юдин, например, идейный был – ему быстро надоело то, чем мы занимались. Из старожилов многие поотваливались. Овчинников – вот он на фото – насколько я знаю, уехал с Юдиными из Москвы. Чернышев и Матвейчук записались добровольцами в армию. Цветков устроился на железной дороге. А я просто ушел. – Почему? – Спать не мог нормально. К тому же, награбил, сколько хотел – думал, теперь заживу. Домик себе где-нибудь поближе к северу присмотрю, а может, в Петроград переберусь и там как-нибудь непыльно устроюсь. – Отчего же не устроились, отец Варфоломей? – Понимаете… так и не мог уснуть нормально. Год не мог. Два не мог. А раз не спишь, то и не бодрствуешь – все серое, пустое, невкусное. Все перепробовал – и к докторам ходил, и пилюли всяческие пил, и мозги лечил, и в санатории отлежался один раз, дошел уже и до гадалок, снимателей сглаза и прочих шарлатанов. Все думал, что в голове проблема, а проблема-то в душе. А душой в нашем отечестве отродясь только одна организация занималась – в ней и устроился. – Хорошенькое время вы для этого подобрали, отец Варфоломей. Дьякон вновь отвлекся от яблони и посмотрел на Виктора Павловича, а затем неожиданно широко улыбнулся и махнул рукой куда-то за ограду: – А мне-то что на них? Все чада Божии – пускай побеснуются, а потом постыдятся – хороший урок будет наперед. А я хоть немного себе душу облегчу. Сон, опять же, чуть-чуть крепче стал в последние годы. Установилась тишина. У Стрельникова оставался еще один вопрос, но теперь он понимал, что у дьякона ответа на этот вопрос, скорее всего, не окажется. Виктор Павлович почувствовал ласковую игру ветра в своих волосах и понял, что улыбается. С этой улыбкой он и спросил: – Отец Варфоломей, как вы думаете, кто именно убивает вас? Вопреки ожиданиям Стрельникова, дьякон спросил в ответ: – А можно еще разфотографию посмотреть? Виктор Павлович передал карточку и стал ждать, не желая даже мыслью спугнуть воспоминание, которое могло посетить голову отца Варфоломея. Тот долго рассматривал карточку, а затем протянул: – Хм, мы такие молодые… А кого конкретно убили? Если это не секрет, конечно. – Началось все с Матвея Осипенко. Затем Петр Родионов, Андрей Овчинников, Филипп Ермаков и Семен Чернышев. Вчера вечером погиб Иван Громов. – И что – одно оружие, один способ, все один к одному? – В общем и целом, да. Отец Варфоломей кивнул, не отрывая взгляд от фотокарточки. Спустя минуту он произнес: – А как вы на меня вышли? – Мы переговорили с Чернышевым за день до его гибели. Эта фотография была у него – он и навел нас. – Значит, навел и убийцу. – Да, скорее всего. И это одна из причин, по которым я здесь – вчера я видел его, он напал на меня и на моего коллегу сразу после убийства Громова – мы идем за ним по пятам. Мы уже понимаем его следующий шаг… – И его следующий шаг – это я. – Скорее всего. Разве что, Громов навел его на кого-то еще из вашей… вашей компании. Отец Варфоломей неожиданно развернулся и направился к церкви, Виктор Павлович поспешил за ним. Дьякон подождал пока Стрельников пойдет рядом и спросил чуть ли не шепотом: – А вы-то сами не хотите, чтобы он нас всех уничтожил? Закон не накажет нас, так почему бы не наказать ему? Стрельников остановился на месте и посмотрел на широкую спину дьякона – тот очень ловко сформулировал мысль, которая вертелась в голове Виктора Павловича еще с самого знакомства с Осипенко и его прошлым. Стрельников хотел хорошо выполнить свою работу, хотел решить это дело, хотел, наконец, поймать того, кто чуть не проломил череп Мите Белкину, но… Но еще он смотрел на Осипенко и Чину, на Родионова и Громова с его перепачканными в крови золотыми сережками и понимал, что вообще-то убийца делает его – Стрельникова – работу. Убийца предает суду преступников, которых государство отчего-то преступниками не считает. Виктор Павлович отвлекся от размышлений и увидел, что теперь отец Варфоломей развернулся к нему лицом и широко улыбается, ожидая ответа. – Я, ваше преподобие, хочу, чтобы по моему городу перестал бегать убийца, живущий какими-то там своими представлениями о справедливости. Я хочу, чтобы он перестал делать вдов и сирот. Я хочу, чтобы эта история уже, наконец, осталась в прошлом… Так вы подозреваете кого-нибудь конкретного? – Да, подозреваю. И сразу могу облегчить вам жизнь – двое слева в верхнем ряду на фото – он не будет их искать. Они были после него. – После кого? – Подождите немного. Он ведь знает обо мне, так? Значит, в итоге он придет ко мне, и вам достаточно просто следить за мной, чтобы его поймать. – А других дел у нас по-вашему нет, кроме как следить за вами? – После шести трупов? Вы отложите другие дела. Стрельников понял, что именно так и будет – он отложит другие дела, и не только он. У Виктора Павловича не было аргументов для того, чтобы убедить дьякона поделиться своими подозрениями. Он предпринял последнюю попытку: – А что если он придет сперва не к вам, а к другим? – На все воля Божья. – Вы же понимаете, что все это как-то не очень по-божески, отец Варфоломей? – Понимаю. Но если это тот, о ком я думаю, то мне бы хотелось с ним поговорить, даже если для меня этот разговор будет последним.31
Дмитрий проснулся от странного ощущения, что в его комнате кто-то есть. Он не хотел вставать. Белкину снилась только чернота и редкие всполохи искр в кромешной тьме, а еще муравей. Большой и одинокий муравей в трамвае. Они были в этом трамвае вдвоем с муравьем. Он щелкал жвалами, будто говорил что-то, но Белкин не мог его понять и просто кивал, глядя в черное, непроницаемое окно и думая о чем-то своем. Муравей не пугал его, напротив, Дмитрий был рад, что в этом трамвае без вагоновожатого он не совсем один. А потом пришло ощущение, что рядом есть кто-то еще. Зашелестела бумага, и Дмитрий резко сел на кровати. Перед глазами тут же помутнело, а голова отозвалась глухой болью. Белкин пришел в себя и увидел, что действительно не один в комнате – за столом сидела Саша и что-то увлеченно листала, одновременно делая пометки в своей тетради. – Как… как ты вошла? В горле совсем пересохло, а язык отчего-то плохо слушался Белкина. Саша обернулась к нему и улыбнулась. – Наконец-то проснулся. Я уже почти час тебя дожидаюсь. – А что ты вообще здесь делаешь? – Работаю! В подтверждение своих слов девушка ткнула в открытую книгу, лежавшую на столе. – Помнишь, я в прошлый раз говорила, что у тебя работается хорошо? – Ага, помню. И наработала на статью о том, что вежливость, это плохо. – Не ворчи! Лучше расскажи, что же с тобой приключилось? Отчего похож на египетскую мумию? Дмитрий позволил себе улыбнуться этому сравнению. Саша, задав свой вопрос, бросила работу и пересела на кровать рядом с Белкиным. Он был рад тому, что даже не попытался отодвинуться от нее. – Вчера получил по голове – всего и делов. Ночь провел в больнице, с утра отпустили домой, но оставили на больничном. Сегодня отлежусь, а завтра выйду. – Думаешь, стоит? Раз ты забинтованный, значит, голову разбили, а там и до сотрясения недалеко – побудь дома подольше. Дмитрий наткнулся на взгляд Александры и испытал странное чувство – на него никто, кроме матери, никогда не смотрел с такой заботой и тревогой. Почему-то ему стало неловко и даже стыдно за то, что девушка так на него смотрит. Белкин отвел глаза. – Посмотрим. Я, если долго дома сижу, начинаю с ума сходить, так что тут выбор не из лучших – бегать с сотрясением или сидеть с безумием. Неожиданно Саша положила руки ему на виски и повернула голову Дмитрия к себе. – Не подставляйся больше, хорошо? Не люблю волноваться. – Работа у меня такая, Саша. – Значит, плохая работа! Больше не рискуй так. Белкин почувствовал тепло ее плеч под своими ладонями – он снова не заметил, как прикоснулся к ней. Ему захотелось прямо сейчас повторить ночь в диком парке, захотелось, чтобы она открылась ему. На долю секунды в разуме Дмитрия пронеслась мысль о том, что какой-то месяц назад он бежал бы от нынешнего своего положения и отношения с этой девушкой, как от лесного пожара. Пронеслась и растаяла без следа, как и все прочие мысли – он чувствовал вкус ее губ, и этот вкус становился все более привычным. Спустя слишком короткое время Саша отстранилась и произнесла то, что его совсем не обрадовало: – Мне пора. Белкин непонимающе посмотрел на ее лицо, изрядно потемневшее под солнечным светом: – Куда пора? Саша усмехнулась, смыв остатки своей недавней тревоги и волнения: – Это ты у нас дрыхнешь без дела, а я только на часок вырвалась! В разуме Дмитрия вновь всплыл вопрос, который он задал, лишь увидев Александру в своей комнате: – А как ты вошла? – Тоже мне Госбанк нашелся! Расслабься – вскрывать двери я не умею – просто Маша меня запомнила с прошлого раза и впустила. – Кто такая Маша? Саша вновь бросила на него встревоженный взгляд: – Слушай, может не стоит тебе все-таки выходить так быстро? Маша, это твоя соседка, та, что с ребенком… Постой, да ты не забыл, как ее зовут – ты просто не знал! После этих слов Александра рассмеялась, запрокинув голову, а Белкин почувствовал, что краснеет. Он попытался оправдаться: – Я знал, просто мне было не нужно, потому и забылось. И что, она так легко тебя впустила? – Конечно. Ты, скорее всего, этого не заметил, но, если верить Маше, мое появление в твоей комнате в прошлый раз стало событием года для твоих соседей. Тебя здесь настоящим помешанным считали, а тут девушка, да еще вполне нормальная на вид. – Это ты-то нормальная? – Я же говорю – на вид. В общем, мне теперь здесь всегда рады, ждут дальнейшего развития событий и продолжения твоего превращения в нормального человека. – Их ждет разочарование. – Ну и пускай. Зато, какое представление, какая драма в коммунальной квартире! Белкин скривился от этих слов: – Человеки… Из всего бы сделать цирк! Постой – так ты знала, что я дома? – Нет, я же сказала, что у тебя работается хорошо. Ладно, до встречи! Саша резко поднялась на ноги и вылетела за дверь прежде, чем Дмитрий успел спросить: «А когда встретимся?» Через пару секунд он услышал, как она с кем-то прощается, потом хлопнула входная дверь, и настала объемная, душная тишина. Белкин посмотрел на беспорядок, который Саша оставила на его столе, на непонятно откуда взявшуюся пепельницу с одиноким окурком и на книгу, из которой девушка делала выписки, а после этого обессилено уронил голову на подушку.*** Виктор Павлович выглядел вымотанным. Он поставил стул спинкой к разгромленному Александрой столу и сел напротив Белкина. Дмитрий в последние два часа медленно приходил в себя и даже успел решить пару задачек, чтобы отвлечься от жуткой предвечерней духоты. – Ну, как вы себя чувствуете, голубчик? Стрельников попытался улыбнуться своей характерной улыбкой, но получилось грустно и очень устало. – Все хорошо, Виктор Павлович. Завтра планирую выйти на службу. – Не стоит. Поберегитесь – с головой шутки плохи. – Понимаю, но я только полдня дома, а уже на стены лезу. Стрельников усмехнулся и указал рукой себе за спину: – Да я уж заметил – никогда у вас такого беспорядка не видел. Обычно-то у вас, как в больнице. – А это не мое. Девушка приходила – говорит, что ей хорошо работается за моим столом. – А чем она занимается? – Вообще, учится в институте, но много пишет… Белкин замялся, поняв, что не знает, для чего и для кого Саша пишет свои статьи. Через пару мгновений он покачал головой: – Честно говоря, я не знаю, Виктор Павлович. Вроде, это журналистика, но большего не знаю. Стрельников обернулся к столу, но ничего трогать не стал. Он протянул, будто бы самому себе: – Видать, сильно вам эта девушка нравится, раз вы готовы с ней гулять всю ночь, но не знаете, кем она работает. Белкин отчего-то смутился этим словам и опустил взгляд на свои руки: – Я же… В общем, я, как всегда, Виктор Павлович – не умею общаться. Она сегодня меня пристыдила тем, что я не знаю, как зовут соседку. Я живу здесь уже четыре года и не знаю, а Саша приходила второй раз и знает. – Не расстраивайтесь, голубчик. Подумайте лучше о том, что ваша подруга вполне терпит ваши особенности, значит, вы ей тоже сильно нравитесь. – Ей нравятся загадки. – Загадки? – Она сказала, что я для нее головоломка, которую она хочет разгадать так же, как я разгадываю магические квадраты. Стрельников немного неожиданно для Белкина усмехнулся и хлопнул Дмитрия по плечу: – Друг мой, какими только глупостями люди порой не оправдывают свою влюбленность! Особенно, женщины. Все что угодно, лишь бы не признаться самому себе, что просто-напросто влюблен. Простите мне мое любопытство – вы с ней давно? – Около месяца. Она просто подошла, когда я общался с моим другом, мы разговорились… точнее, она закидала меня вопросами, а потом предложила встретиться. Улыбка на лице Стрельникова отчего-то стала пустой и искусственной. Он спросил: – Просто подошла, говорите? А вы ее прежде видели? – Да, она была на лекции моего друга – там была открытая лекция, и она закидала его вопросами. Она изначально хотела пообщаться с ним, но у Георгия были дела, поэтому он оставил нас. Саша стала спрашивать меня о разном, но ни одно из ее предположений не оправдалось – собственно, из-за этого она и предложила встретиться – не смогла меня раскусить. – И о работе спрашивала? Белкин посмотрел на Виктора Павловича и понял, что это уже не праздный интерес. Дмитрий начал прокручивать в уме все разговоры с Сашей, но не вспомнил, чтобы рассказывал ей что-то подробное о своей работе. – Самую малость. Она знает, что я милиционер. Пару раз спрашивала о том, чем я занимался в течение дня, но никогда не выспрашивала подробности. Виктор Павлович, вы думаете, что она не просто так подошла именно ко мне? Стрельников помотал головой, а после этого произнес: – Я думаю, что очень устал и теперь вижу то, чего нет! Не берите в голову, Митя. Уж не обижайтесь, но не такого мы полета птицы, чтобы к нам подсылали наушников. Просто по времени все совпало с этими смертями и с расследованием ОГПУ. Установилась тишина. Белкин продолжал вспоминать все свои слова, сказанные Саше, но по всему выходило, что он ничего не говорил ей ни об этом деле, ни о каком-либо другом. Наконец, Дмитрий поднял взгляд на Стрельникова, надеясь, что в этом взгляде нет той толики обиды, которую он испытывал к коллеге – почти наверняка Саша не была никакой наушницей, но теперь Белкин будет держать это подозрение в уме. Будет держать в уме, когда будет общаться с ней. Будет держать в уме, когда будет целовать ее. Будет держать в уме, когда будет засыпать рядом с ней. Как будто услышав эти размышления Дмитрия, Виктор Павлович виновато развел руками: – Простите за то, что поселил сомнения, Митя. Постарайтесь не брать дурного в голову. На самом деле, я очень рад, что у вас появилась подруга. Поверьте мне – человек, когда он один, это не полный, не до конца человек. Чтобы стать полноценным нужная вторая половина, а без нее чувство пустоты и бессмысленности, от которого не укрыться. Ваши проблемы в общении с миром отступят, если с вами будет ваша вторая половина – вот увидите. Дмитрий не знал, что на это ответить, поэтому Виктор Павлович заговорил вновь, сменив тему: – Но я ведь к вам с новостями! Есть хорошая новость и странная – какую рассказать первой? – Странную. – Я пообщался с этим дьяконом Варфоломеем, и он знает, кто убийца. Я уверен в этом. Он мне такого понарассказал про наших «жертв»… Я, в общем, понимал, что ничем хорошим они в поганые годы не занимались, но чтобы настолько… Он потому и оказался в церкви – от совести решил спрятаться! – Вы сказали, что он знает убийцу – так кого мы ищем? – В том-то и странность новости – он отказался называть имя или вообще что-либо говорить об убийце. Сказал, что хочет встретиться и поговорить с ним. Я хотел запросить людей для организации слежки, но начальства нет на месте, так что сегодняшней ночью придется самому за этим Варфоломеем следить. Последние слова Стрельников произнес с вполне понятной усталой обреченностью, но на эту обреченность у Белкина было облегчение: – Ну вот, а вы говорите, что мне не стоит выходить. Давайте так, Виктор Павлович – даже если слежку одобрят, раньше завтрашнего вечера мы ее организовать не сможем. Вы тоже не железный. Я, признаюсь честно, эту ночь не выстою, но вот завтра днем могу присмотреть за дьяконом. А так как у меня больничный, нам не придется никому ни о чем докладывать. Виктор Павлович задумался, но в итоге кивнул – реального выбора не было. – Хорошо, хоть мне это и не нравится. Вы легко узнаете этого дьякона – высокий и грузный, черноволосый – похож на свою фотокарточку. Дмитрий попытался припомнить нужное лицо на фотокарточке Чернышева, но это не потребовалось – у Стрельникова она была с собой, и он сам указал на Меликова. После этого Виктор Павлович произнес: – Ладно, с этим разобрались. Теперь хорошая новость. Нестор Адрианович смог-таки раскусить, что за патрон использует наш убийца. Причем, судя по его поведению, для него это было этаким озарением из прошлого. В общем, Пиотровский клянется, что ровно такие патроны используются в японских армейских пистолетах. Говорит, что все такое же – и гильза, и малая скорость пули. Ему, кстати, пришла в голову мысль, что неспроста именно такие патроны – помните, сосед Родионова не услышал выстрел? – Да, но он сам же тогда списал это на опьянение. – Никто не слышал выстрела и на кладбище, да и мы сами услышали лишь какой-то хлопок в фотоателье у Громова. Так вот, я описал Пиотровскому пистолет нашего убийцы – он, кстати, тоже считает, что это самоделка – а также толстый цилиндр на дуле, и Нестор Адрианович припомнил, что так могут выглядеть устройства для глушения выстрела. Их еще до Войны придумали. Пиотровский говорит, что такие устройства работают только для патронов с малым зарядом пороха и низкой скоростью полета пули. А теперь припомните-ка, голубчик, чем занимался безвременно взорвавшийся на примусе инженер Митин? – Системами глушения звука выстрела. А его брат занимался разработкой пистолета. – Именно так. Ах, если бы чекистам хватило терпения! Митин уже привел бы их к убийце. – Думаете, что это он сделал пистолет и это устройство для убийцы? – Конечно! А какие здесь могут быть сомнения? Более того, я почти уверен, что именно он был за рулем таксомотора, на котором катали по городу Чину. Кстати, об автомобиле так и ни слуху, ни духу – как в воду канул таксомотор. Дмитрий задумчиво кивнул, а после поднял взгляд на коллегу: – Новость, конечно, хорошая, но только пользы от нее маловато. – Не скажите, голубчик! Теперь мы знаем, куда смотреть – как вы полагаете, много в Москве мест, где можно достать патроны для японского офицерского оружия? – Очень мало. – Я тоже так думаю. Патроны сделал не Митин – Нестор Адрианович об заклад бьется, что это серийные гильзы вовсе не кустарного производства. Более того, судя по всему, пистолет сделан именно под этот патрон, значит, у кого-то есть их запас или источник пополнения. А это, в свою очередь, означает, что, либо убийца сам как-то связан с этими патронами, либо у него… Дмитрий сам не заметил, как перебил Стрельникова: – Либо у него есть еще один сообщник.
32
У меня перед глазами стояли лица мертвецов. Потертые временем, побитые жизнью, истерзанные смутой и излишеством, они безучастно смотрели на меня, выражая лишь одно чувство – ожидание. Они ждали меня, ведь я по праву должен был занять место рядом с ними. Громов дал мне последние ключи – теперь оставалось уничтожить лишь троих, и я знал их имена и жизни. Мне продолжало везти – все трое пребывали в Москве, хотя жизнь и раскидала их по разным частям и этажам общества. Нужно было спешить – милиция уже дышала мне в спину. Единственным моим преимуществом было то, что я не оставлял за собой тех, кто мог знать мое имя. Вспомнилось лицо того пожилого милиционера в ателье Громова – страсть к жизни мешалась в нем с болью от этой жизни, укрытой в глубине глаз. У меня мороз пробежал по разгоряченной коже – мой взгляд был таким же. Или мне так казалось. И даже в этот момент он старался запомнить мое лицо, и я совсем не сомневался в том, что он его запомнил. Громов сказал, что видел несколько раз, как Алфеев в одно и то же время проезжал на автомобиле по Покровской в сторону центра. Это всегда было в семь двадцать. Не в половину седьмого, не в четверть седьмого, а именно в семь двадцать. Громов говорил сбивчиво и все пытался убедить меня не убивать его, поэтому я с трудом вычленил из его слов полезное зерно. Уже на следующее утро я был на перекрестке Покровской и Немецкой улиц и ждал семи двадцати. Оглянулся на просыпавшуюся Немецкую и увидел угол дома, в котором жил Громов. Не знаю уж, зачем он выходил на улицу в такую рань, когда даже табачные лавки еще закрыты, но вид на перекресток у него был отличный. Отличным он был и для милицейской засады, которая наверняка теперь сидела в его ателье или рядом с ним. Они вполне могли мною заинтересоваться, поэтому я укрылся за углом ближайшего дома. Бросил взгляд на указатели и не удержал улыбку – не было больше Покровской улицы, как не было и Немецкой. Немецкая стала Бауманской, а Покровская Бакунинской. Мне стало интересно, а понравилось бы Михаилу Александровичу то, что он увидел бы на улице своего имени? Исчезала старая Москва под ураганом энергичных перемен. Поговаривали о гигантской перестройке, о домах до неба и титанических памятниках. А я стоял у старого одноэтажного дома Немецкой слободы и не хотел этого. Хотел остаться в городе своего детства навсегда. В душе зашевелилось беспокойство, как перед грозой, но рассеялось почти сразу – я погибну вместе со старой Москвой, не увидев ее нового лица. Я привалился спиной к стене прямо под табличкой с неправильным названием улицы и стал сквозь полузакрытые веки смотреть на утренний мир. Люди нравятся мне более всего такими, какими бывают по утрам – спешащими, задумчивыми, занятыми делом, а оттого красиво сосредоточенными и совсем не шумными. Больше всего шума всегда происходит от тех, у кого меньше всего дел. Я не пропустил нужное авто. Да и не смог бы пропустить это великолепие. Это было бежевое аккуратное авто с гордой надписью «SIX» на радиаторной решетке. Оно собиралось ворваться в центр Москвы и ослепить столицу своей подчеркнутой, непомпезной элегантностью. Это была одна из самых буржуазных вещей, которые я видел за свою жизнь. Где-то совсем рядом со старинной резной мебелью и неуместным для середины прошлого десятилетия междустрочным заветом старого горожанина Гиляровского – наслаждаться жизнью вопреки всему. Автомобиль замедлился на перекрестке, пропуская двух извозчиков, и я смог рассмотреть водителя. Это был Яшка Алфеев. Пожалуй, он изменился больше всех за эти годы – если бы не слова Громова, я бы не узнал его. Лицо не просто постарело, а будто бы переменило часть своих черт. Как театральная маска. И все же это был он – это были его поспешные и угловатые жесты, его дерганность. А еще это были его ОГПУшные петлицы на гимнастерке. Он вдруг отвлекся от легкого затора на перекрестке, возникшего из-за несмышленой заморенной кобылы, вставшей намертво прямо посреди дороги. Взгляд Алфеева уперся в меня. Колючий, резкий. Неужели он заметил, как я слежу за ним? Я изобразил свою увлеченность, начавшейся склокой на перекрестке. Похоже, показалось – Алфеев уже отвел взгляд от моей фигуры и смотрел вперед, ожидая, когда можно будет проехать. Наконец, ему надоело ждать, и он направил свой автомобиль в объезд свары, наехав на тротуар. Испуганно вскрикнула какая-то женщина, увидевшая вдруг перед собой махину автомобиля, но Яшка уже вывернул руль и снова был на дороге, оставив пробку позади. Лицо его, насколько я мог видеть, ничего не выражало. Уже давно укатил автомобиль, и даже пробка рассосалась сама собой, а я все еще стоял у стены и думал. Мне пришло в голову, что нужно было убить его сразу же, как только у меня появилась такая возможность. Нужно было подойти к авто и выстрелить в него, не тратя время. Разговаривать мне с ними теперь не было нужды, да и с Алфеевым не очень-то хотелось – я запомнил его алчным крохобором. Из той породы людей, которые обирают ближнего до нитки лишь для того, чтобы потом зашить натасканное в матрас и спать на нем до скончания своей весьма небогатой жизни. Я оглянулся вокруг – народу было слишком много. Если бы я напал сейчас, то не ушел бы, а мне нужно было прежде закончить свое дело. Проследить за Алфеевым на своих двоих я не мог. Я знал, где взять авто, но на том авто появляться в городе было опасно. Я посмотрел вдоль Покровской улицы в том направлении, в котором укатил Алфеев, потом оглядел перекресток и прошептал самому себе: «Значит, он последний».*** Я стоял на Большой Никитской напротив входа в Большое Вознесение. На Меликова, который устроился врачевать потерянные души, мне указал Чернышев. Я снова вспомнил запах обуви в его комнатушке и его последний труд. Великое делание, магнум опус, по завершении которого и жить больше незачем. Но ему хотелось. Хотелось продолжать существовать и идти по пути совершенства в своем ремесле. Я посмотрел на свои руки – привиделись пятна крови. Улыбнулся, подставляя лицо вечернему солнцу, и припомнил отрывок, который отпечатался в памяти до буквы: «О каком бы деянии не шла речь, всегда можно свершить желаемое. Если тебе достанет решимости, каждое твое слово будет способно сотрясти землю и небеса. Но человек с малой душой не может проявить решимость, а значит, даже всеми своими стараниями он не заставит землю и небеса подчиняться себе…» «Решимость» – похоже, у меня начинаются проблемы с решимостью, но, с другой стороны, важно ведь подчинить себя исполнению всего дела, а не только его отдельных частей. Сумерки накрывали город, но нужного человека все не было. Неужели я его упустил? Или слова Чернышева оказались ошибочными? Может, он решил сыграть со мной смешную шутку в конце своего бытия? В таком случае, шутка действительно получилась смешной. Появилось чувство тревоги. Не отдаленной и странной тревоги перед лицом грядущего, а очень определенной тревоги от того, что происходило на погружавшейся во тьму Большой Никитской. Мне казалось, что я не один, что кто-то еще оказался здесь с той же целью, что и я. Церковь уже давно была закрыта, но это чувство не ослабевало. Казалось, что в соседней подворотне кто-то стоит в темноте и ждет меня. Я обругал себя за разыгравшееся воображение, но не перестал оглядываться каждые пару минут. Бросил еще один взгляд на темную церковь, и понял, что не найду в ней нужного человека, по крайней мере, сегодня.
*** Ночь крепко схватила меня тисками. Чувство собственной нерешительности росло в душе, пока не поглотило меня целиком, и тебя не было рядом, чтобы его унять. Сон так и не пришел, как я ни старался. Утром я был в Столешниковом переулке и пытался унять нервную ухмылку. Здесь в здании упраздненного храма цвела незримо для большинства Библиотека иностранной литературы. Целая организация, копившая, систематизировавшая и сохранявшая знания, появлявшиеся в мире за пределами Советского Союза. Переводчики, библиотекари и архивисты бытовали здесь в окружении германских инженерных журналов, французских романов и английских пьес. След Фомы Краснова был старым и остывшим – несколько лет назад он приходил в ателье к Громову. Впрочем, он не знал, что это было ателье Громова. Так Иван выяснил, что Краснов служит переводчиком с немецкого при Библиотеке иностранной литературы. Внезапно захотелось, чтобы этот след был ложным. Чтобы Краснова больше не было при библиотеке или чтобы он просто соврал Громову в прошлый раз. Я понял, что червь нерешительности начинает терзать меня вновь. Если это все же был истинный след, если Фома находился сейчас в этом здании или просто продолжал оставаться штатным переводчиком, то для меня счет далее пойдет даже не на дни – на часы. Возможно, уже к вечеру я буду мертв. А все дело было в том, что меня в этом здании знали. И если я спрошу о Краснове, то провести связь между мной и его гибелью будет очень легко. Я смотрел на старое здание, служившее пусть и благородной, но все же не своей природной цели, как на саму свою смерть. Оно вдруг стало массивным и зловещим. Наконец, я улыбнулся и дернул ручку двери, успев прошептать: – Пусть случится.
Интермедия №4
21-е января 1918-го года.Я поежился и плотнее запахнул шинель. Не помогло – за день на улице я промерз, как собака. Хотелось в тепло, хотелось есть, хотелось лечь. Все дело было в ветре. Злой, резкий и очень сильный – он хлестал по людям снегом, тут же ослабевая для того, чтобы затем хлестануть вновь. Москва вся сжалась от этого ветра, как несчастная жена, которую рукоприкладствует нетрезвый муж. Подошел Юдин. Он был собран и сосредоточен, как всегда. А еще одет намного легче, чем я. Как ему это удается? В любую непогоду Семен был одет лишь в один бушлат с поддетой рубахой. Он кивнул мне и протянул руку: – Давно стоишь? – Уже минут пятнадцать. Какие планы на сегодня? – Понятия не имею – Матвей придет, скажет. Но вряд ли что-то новое – почистим пару буржуев, может, аптеку какую обнесем… Ты как сам? В прошлый раз лица на тебе не было. – Нормально. Я произнес одно лишь слово и замолчал. В прошлый раз я впервые стрелял в человека. Я вспомнил его лицо – это был старик с густыми усами и испуганным взглядом. И все цеплялся за мой рукав, все спрашивал, чего это я. А я ничего. Я хотел есть. Руки дрожали, пальцы не слушались – я ему попал в плечо. Чина подсобил – выстрелил старику в спину. Стоило мне вспомнить о нем, как Андрей вынырнул из особенно темной и зловещей подворотни. Он ухмыльнулся и поздоровался с Юдиным, а мне лишь кивнул. Насколько я успел понять, они были приятелями. Ребята продолжали подходить, а я продолжал удивляться – в прошлый раз нас было пятеро, но теперь под единственным горящим фонарем на улице собралось уже девять человек, причем Матвея среди них не было. Я не спешил знакомиться с теми, кого видел в первый раз. Они тоже не особенно интересовались моей персоной – лишь раз попросил курева растрепанный парень, от которого сильно пахло выпивкой. Курева у меня не было – он посмотрел на меня так, как будто это было моей виной, сплюнул под ноги и отошел. Наконец, показался Матвей в компании еще троих ребят. Этих не знал никто. – Здарова, братцы! Вот, нашел для нашей силы пополнение. Матвей указал рукой на троих, пришедших с ним. Я усмехнулся – меня Матвей нашел точно так же, за рюмкой и в полном непонимании, как жить. Раздался визгливый голос Яшки Алфеева: – А нахрена нам пополнение?! И без них хорошо справляемся – а теперь еще и на них придется делить добро. – Да катись ты к черту, Яшка! Добра на всех хватит – все, что захотим, будет наше! Матвей пребывал в крайне благодушном настроении, мне показалось, что он пьяный. Отбрехавшись от Алфеева, Матвей веселым взглядом обвел свое малое воинство и бросил: – Ну что, мужичье, подъели прошлое добро? Еще захотелось? Будет! Сегодня хочу взять доходный дом на Арбате. – Это девятый, что ли? Вопрос прозвучал от Юдина, стоявшего совсем рядом со мной. – Да, девятый. Давно руки чешутся посмотреть, что у тамошних буржуев в матрац зашито! – Оторвут тебе твои руки за такие выкрутасы, Матвей, и нам заодно – меру знать надо. – Сема, ну вот ты еще поучи меня, где мера находится! Не хочешь, не иди – не заставляю. План такой: входим, суем каждому любопытному бумажку от ЧК, если вопросы останутся, то суем кулак в морду. Сгребаем, что хотим, и уходим, пока настоящее ЧК не подкатило, а то они в последнее время бешеные стали. Юдин выругался себе под нос так, что услышал только я, а потом шепнул: – Хочешь выбраться, держись меня, братец – Матвей не на того наехать собрался. Квартирки на окраинах обносить, это одно, но тут Арбат, большой доходный дом… Не надо нам туда лезть. – Так может, и не полезем? Матвей сказал, что можем не идти. – Да нет – пойти все же стоит. Соскочить всегда успеем. Ты, главное, верти башкой почаще и следи, чтобы за спиной никто не оказался. Я кивнул и снова стал слушать Матвея. Он отчего-то говорил все тише, как будто начинал задремывать на ходу. Так или иначе, важных слов он почти не произносил. Наконец, Матвей тряхнул головой и громко спросил: – Стволы у всех есть или кому докинуть? Стволы были у всех. Даже у новоприбывших. Я залез в шинель и достал из-за пазухи Наган, который Матвей дал мне на первое дело. Патронов после старика было только пять, но я надеялся, что мы обойдемся без стрельбы. Мы потоптались еще минут пять без всякого смысла, а потом без команды двинулись в сторону Арбата. Матвей с новичками шел чуть впереди и громко обсуждал достоинства женщины, с которой провел ночь. Мимо торопливо прошли мать с дочерью. Я поймал взгляд девочки и состроил страшную рожицу – она отчего-то всерьез испугалась. Почти все ребята болтали и перешучивались друг с другом, убивая время в дороге. Я чувствовал себя чужим. Рядом со мной шел молчаливый Юдин – он, видимо, тоже чувствовал себя чужим. То ли он заметил мой взгляд, то ли просто захотелось поразмышлять вслух, но Семен вдруг спросил: – И что, мы вот ради этого все устроили? Чтобы бандитствовать без всякой меры? Как оказалось, слова Юдина слышал не только я. Ему ответил незнакомый мне парень, у которого из-под шапки выбивались светлые волосы: – Что поделаешь, Сема – разруха. – Вот это оправдание, Фаддей. Прямо камень с души снял. Парень развел руки в стороны и ухмыльнулся: – Какое есть. После этого он прошел вперед и поравнялся с Матвеем. Я повернул голову и едва не отскочил от неожиданности – совсем рядом шел высоченный Мишка Меликов. Он увидел, как я дернулся, и рассмеялся: – Да ты не боись! Если бы я хотел тебе голову открутить, то уже бы открутил. Я ответил улыбкой и совершенно не уверен, что она выглядела искренней. Неожиданно шедшие впереди остановились, а затем раздался грубый окрик: – Э, морда, а ну ходь сюда! Только теперь я увидел, что перед нами шел какой-то высокий человек в военной шинели. Человек даже не замедлил свой шаг после этого окрика, поэтому вскоре громкий возглас вновь разорвал тихий, засыпанный снегом переулок: – Ты че, глухой, что ли?! Слышь, че говорю, морда – сюда иди! Реакции вновь не было. Тогда мы ускорили шаг и вскоре обступили высокого человека со всех сторон. Я оказался у него за спиной, потому не смог рассмотреть лицо. Человек, увидев, что его окружили, замедлился, но не остановился. Прозвучал неожиданно звонкий голос: – В чем дело, граждане? Я спешу. Один из новеньких, приведенных Матвеем, подошел к нему и бросил: – Ты че не откликаешься, когда тебя зовут, морда?! – Потому, что морда у тебя в зеркале, а у меня лицо. В сторону отойди. Матвей встал рядом с новичком и сплюнул, попав на сапоги высокого человека: – Слышь, мил человек, ты бы не хамил… Покажи-ка документы лучше. – С какой стати? – С той самой, что мы народная милиция. Я все еще не видел лица человека, но мне и так было понятно, что сейчас он смерил Матвея таким взглядом, каких Матвей не любил. Намечалась свара. Однако после небольшой паузы человек засунул руку в карман и передал что-то Матвею. Тот, похоже, уже готовился схватиться за свой пистолет – он положил руку на кобуру и немного подсел, став перед высоким человеком совсем коротышкой. Он взял в руки какую-то бумагу и уставился на нее с недоумением. – Это чего такое? – Это читательский билет, уважаемый. – Читательский… а на черта мне твой читательский билет, контра?! Покажи удостоверение. – Это удостоверение. Там есть мое имя, отчество и фамилия. Теперь уже Матвей схватился за оружие, уронив читательский билет себе под ноги. – Ты чего, шутить, что ли вздумал?! Раз нет удостоверения, придется тебе, гражданин, пройти с нами. В голосе высокого человека появились нотки раздражения, когда он ответил: – Я дал тебе удостоверение. Твоих документов я, кстати, так и не увидел, так что никуда я с тобой не пройду. Матвей отшагнул назад и навел ствол пистолета на лицо высокого человека. – Не надо никуда проходить – я тебя прямо здесь положу! – В сторону отойди. – К черту катись, мил человек! Так легко ты от нас не отцепишься. Раз документов у тебя нет, теперь перейдем к досмотру – карманы выворачивай. – Нет. Человек был поразительно спокоен для его положения, а я все никак не мог избавиться от ощущения, что где-то уже слышал этот голос. Матвей, услышав, что ему что-то запрещают, кивнул Меликову – тот аккуратно, но уверенно приблизился к высокому человеку. Он был единственным из нас, рядом с кем высокий человек не казался высоким. Мишка без всяких экивоков влепил человеку в живот. Тот согнулся пополам, не издав ни звука. Мишка отошел на шаг назад и вновь послышался голос Матвея: – Выворачивай карманы по-хорошему, гражданин, а не то в следующий раз прилетит по лицу. Высокий человек ничего не ответил. Он все еще пытался вдохнуть после удара Меликова. Наконец, он выпрямился и оглянулся – пути к бегству не было. Его взгляд скользнул по моему лицу и вдруг замер. Через секунду высокий человек широко улыбнулся и бросил мне хриплым голосом: – А в чем дело, Георгий Генрихович? Ваша матушка знает? Мне захотелось провалиться сквозь Землю и выпасть где-то в южной части Тихого океана – я тоже узнал высокого человека. Это был мой университетский преподаватель, профессор Голышев. Человек, у которого я бывал дома и с супругой которого был знаком. А теперь я был в банде, окружившей его со всех сторон. Я отвел взгляд и ответил, будто позабыв, что мы не одни: – Матери больше нет. – И что, раз мамы нет, то все позволено?! Как ты связался с этим мужичьем? Ты же не дикарь, не варвар, не злодей. Каждое его слово вбивало меня в землю все глубже. Как из-под воды услышал я возмущенный возглас одного из моих спутников: – Ты кого мужичьем назвал, контра?! А ну-ка вали его, братцы! Спустя вечность я оторвал взгляд от снега и больше не увидел своего учителя. Стая ворон слетелась к павшему человеку. Падальщики налетали на него, клевали, рвали на части, перебивая друг друга и толпясь в кровожадной жажде. Чувство раздвоенности, разрозненности заполнило меня целиком и стало нестерпимым – нужно было выбрать. Выбрать раз и навсегда, кем быть – птицей или человеком. Поднявшийся ветер заметал поземку и растрепал полы штопаных шинелей. Я выхватил свой револьвер и ринулся вперед. Мне удалось растолкать их, отбросить от тела Голышева. Я переводил ствол револьвера с одного птичьего лица на другое, и где-то в затылке болезненно билась мысль о том, что я один против дюжины и что патронов не хватит на всех. Матвей вышел вперед и произнес тихим голосом, таящим в себе угрозу: – Жора, ты чего? Он кто тебе? – Профессор. Учитель японского. – Ммм… японского… А нахрена он нужен? Такие паразиты, как он, больше не нужны, и мы их чистим. – Нет, вы их грабите! – «Вы»… А ты не о чем не забыл? Ты ведь с нами. Ты такой же, как мы. Ты один из нас. Или в тебе возобладал героический порыв? А жрать захочется, ты чего делать с этим порывом будешь? Я ничего не ответил. Матвей сделал шаг вперед – он отчего-то был уверен, что я не выстрелю. Вслед за ним двинулись и остальные. Неожиданно на затылок обрушилась какая-то могучая сила. Сила, от которой потемнело в глазах, и подкосились ноги. В следующий момент я увидел беззвездную черноту вместо неба, а на ее фоне равнодушный взгляд Семена Юдина. А потом в глазах потемнело от боли. Кажется, они меня били. Я не уверен потому, что часто терял сознание. Всего на пару мгновений проваливался в небытие, а затем возвращался в мир для того лишь, чтобы тут же забыться от боли во всем теле. Но одно чувство продолжало преследовать меня и в сознании, и в забытьи – мне было холодно. Так холодно, как не было никогда. Сама возможность того, что в мире бывает лето, казалась мне нелепой. Лето, это просто миф. Предание, которое сложили, греясь у печки, бабушки лишь для того, чтобы уложить детей спать. Я пришел в себя в очередной раз. Все еще было очень больно, но теперь эта боль не отбрасывала меня во тьму – теперь она просто грызла меня заживо. Вновь чернота неба и лица. Три или четыре лица – не могу сказать точно. Ухмыляющееся лицо Матвея, красивое лицо Семы Чернышева, совсем расплывчатое равнодушное лицо Юдина и лицо, которое я увидел сегодня впервые. Это было лицо одного из новичков с красивыми васильковыми глазами. Лица стали вдруг отпадать одно за другим. Сначала отпал незаметно Юдин, затем исчез куда-то Чернышев, потом Матвей бросил кому-то: «заканчивай» и ушел за пределы поля зрения. Остались только васильковые глаза и ствол пистолета. Чернота вырвалась из пистолетного дула и поглотила все. Я вновь пришел в себя. Боль на мгновение одолела холод и вырвала меня из объятий забытья. Чернота неба осталась неизменна, а вот со мной что-то было не так. Как будто не было какой-то важной части. Я стал думать об этом, но меня отвлекли. Раздался совсем слабый голос: – Ты жив? Кто-то ответил голосом лишь отдаленно похожим на мой: – Да. – Возьми кольцо. Передай его Зине. Скажи, что я ее люблю. – Сейчас. Сейчас, Сергей Львович. Я попытался пошевелиться и тут же застонал от боли. Болело все, но боль в левом плече нельзя было сравнить ни с чем. Отчего-то перед глазами вновь предстал испуганный старик, который называл меня сынком и цеплялся за рукав. Через вечность я смог сесть. Голышев вновь заговорил: – Передай Зине. Скажи, что люблю. Это все. Он протянул мне окровавленное кольцо, которое почему-то не досталось Матвею и его людям. Я протянул руку, удивляясь непокорности своего тела. Чувствовал себя бессильным ребенком. Как и ребенку, захотелось заплакать от бессилия. Неожиданно профессор произнес: – Жора, они все-таки убили меня. Именно эти… Именно эти убили меня. В голосе профессора за болью и холодом мне послышалось искреннее удивление. Я увидел рану на животе Голышева, положил руку ему на грудь и неудачно попытался улыбнуться: – Да, Сергей Львович, меня тоже.
33
Белкин не удержал зевок. Это был не самый интересный день в его жизни. У старой церкви ничего не происходило. Утром заходило несколько бабушек, в обед на паперть умостился весьма раскормленный нищий. Отец Варфоломей за весь день не отлучался от храма дальше, чем до ограды. Днем он что-то записывал на скамейке в тени яблонь, но Дмитрий не стал пытаться подсмотреть в мысли дьякона – достаточно было и того, что Меликов был жив. Дмитрий чувствовал себя намного лучше, чем вчера. Рана на голове все еще напоминала о себе тянущей болью время от времени, но на ногах Белкин держался вполне уверенно. Его больше беспокоило не собственное сотрясение, а собственная безоружность – после нападения убийца прихватил их со Стрельниковым оружие с собой. Дмитрию еще предстояло написать объяснительную об утрате табельного оружия после выхода с больничного, но сейчас это было неважно. Гораздо важнее было то, что теперь Дмитрий во все глаза смотрел на будто бы придавленное к земле здание храма, понимая в то же время, что не сможет остановить убийцу, если тот решит действовать прямо сейчас. Белкин посмотрел на раскаленное небо и отчего-то подумал о Саше. Она пришла вчера же вечером и осталась на ночь. Она не спрашивала разрешения, как всегда делая то, что хочется. Но он был этому даже рад. Судя по всему, день дался девушке тяжело – она была необычно молчаливой и отстраненной. Какой-то похолодевшей. Читала очередную свою статью, на этот раз о том, что: «так называемая великорусскость, есть явление совершенно контрреволюционное и реакционное, и что именно на борьбу с ним должны быть направлены усилия партии и народа…» Дмитрий почти не слушал – он уже понял, что если будет задумываться о том, что она пишет, то ссор и недопонимания не избежать. А ссориться по таким пустякам ему нехотелось совершенно. Когда небо стало понемногу остывать, рядом с Белкиным возник Виктор Павлович. Совершенно серьезный и мрачный, как гранит. Дмитрий поздоровался с ним, но вместо ответа Стрельников зло посмотрел на храм и бросил: – Еще один труп. Фома Краснов застрелен на рабочем месте в Библиотеке иностранной литературы. Одним «глухим» выстрелом в спину. Гильза наша… Все из-за этого клятого попа! Он знает, точно знает, кто нам нужен – вытрясти бы из него! Дмитрий посмотрел на лицо старшего коллеги с настоящим испугом – таким он Виктора Павловича не видел никогда. Бывало, что Стрельникову отказывало и благодушие, и дружелюбие, и даже неутомимый оптимизм, но вот таким обостренно-злым он прежде не бывал. Белкин осторожно спросил: – Неужели никто не заметил ничего и никого подозрительного? Это все же библиотека. – Заметили. За полчаса до того, как нашли тело Краснова, о нем спрашивал один из бывших работников библиотеки. Сегодня вечером с Архиповым поедем на его адрес. – А почему не сейчас? – Потому, что я почти уверен, что это не он. До этого он почти никому себя не показывал, а тут вдруг пришел, да назвался, да его узнали – слишком глупо для «Розье». Кроме того, нужно же было предупредить вас. Стрельников посмотрел на Дмитрия и легко улыбнулся – похоже, он начинал становиться собой. Белкин ответил на улыбку, и Виктор Павлович продолжил: – Как чувствуете себя, Митя? – Намного лучше. Рвусь в бой. – Это хорошо. А то поработал я с Архиповым сегодня и как-то сразу соскучился по вам безмерно, голубчик. Да, еще неприятные новости – слежки раньше завтрашнего утра не будет. Дадут одного человека, так что кому-нибудь из нас придется все равно за Меликовым приглядывать в нерабочее время. Дмитрий кивнул, хотя слова Виктор Павловича дошли до него лишь частично. Рядом с входом в церковь будто из ниоткуда возникла фигура, показавшаяся Белкину знакомой. Он безотчетно сделал несколько шагов вперед, оставив за спиной удивленного Стрельникова. Присмотрелся еще внимательнее и едва не охнул от неожиданности – на ступенях храма рядом с нищим стоял Георгий Лангемарк. Виктор Павлович поравнялся с Белкиным: – Что, Митя? – Увидел знакомого. – Где? – Прямо у церкви. Стрельников посмотрел на вход в храм, но заметил лишь широкую спину человека, скрывшегося в церковной полутьме. Белкин выдохнул и расслабился: – Простите, что смутил, Виктор Павлович, просто не думал, что Георгий ходит в церковь. – Ну да, особенно в такое странное время – уже почти восемь. Ваш приятель? – Мой друг. Очень хороший. Удивительно, что он решил прийти именно в этот храм. – Да, Митя, удивительно… А чем занимается? Белкин бросил на Стрельникова укоризненный взгляд – Виктор Павлович уже во второй раз за последнее время в чем-то подозревал его близких людей. – Переводчик он с японского языка. Что, думаете, его тоже подослали шпионить за мной? Стрельников рванулся вперед, даже не дослушав молодого коллегу. Дмитрий увидел, что Виктор Павлович на ходу достает пистолет, и устремился за ним, совершенно не понимая происходящего. На Большую Никитскую вывернул грузовик и полетел прямо на них, обдавая истошным воплем клаксона. Виктор Павлович даже не глянул на махину, видя перед собой лишь врата храма, а Белкин едва успел проскочить, чудом не почувствовав железного зверя спиной. Стрельников на ходу обернулся и бросил: – Имя?! Как его имя?! – Георгий Лангемарк! Больше Стрельников не оборачивался.*** Я вновь был на Большой Никитской и вновь чувствовал себя здесь неуютно. Странное чувство, что наблюдаю за храмом не только я, не собиралось никуда уходить. Возник соблазн просто-напросто уйти – я пока что так и не получил ни одного подтверждения словам Чернышева о том, что ныне здоровяк Меликов служил в этом храме. Если Чернышев меня обманул, то у меня остается одна очевидная цель, и мне нужно во что бы то ни стало пережить эту ночь, чтобы завершить все. Но что-то мешало мне и уйти. Я чувствовал, что запутался в паутине этого места и не мог больше шевелиться ни телом, ни духом. Я рыскал взглядом по окнам окрестных домов, по провалам переулков, по теням деревьев и нигде не мог найти коварного паука. Душа продолжала трепыхаться в губительной для нее же нерешительности. Нужно было что-то делать. Вспомнились старые слова: «Если в битве ты будешь рваться вперед и стремиться лишь к тому, чтобы врезаться во вражеский строй, ты никогда не окажешься за спинами других, тебя охватит неистовство, и ты прославишься, как великий воин. Мы знаем это от наших предков. Кроме того, когда тебя, наконец, поразят на ратном поле, сделай так, чтобы тело твое пало замертво лицом к врагу…» Я открыл глаза и шагнул к храму, стремясь быть незаметным, но не допуская промедления. Я оказался уже у ступеней, но паук так и не явился проверить свою паутину. – Подай, мил человек… Я бросил взгляд на нищего, и увещевания в собственной убогости застряли у него в горле. Достал из кармана первую попавшуюся монету и бросил ему, а после этого устремился внутрь, не желая больше подставлять свою персону обозрению. Здесь уже были сумерки, и пахло свечами. Я огляделся, но не увидел вообще никого. Внутри был только я и печальные лики. Я приказал себе успокоиться – не могло быть такого, чтобы церковь стояла открытой, но внутри никого не было. – Проходи, я ждал тебя. Сильный голос разнесся по залу и ушел под потолок. Говоривший совсем не стеснялся собственной громогласности – он хотел, чтобы его было слышно в каждом углу и закутке. Я достал пистолет и шагнул вперед, но тут же наткнулся взглядом на лик Богоматери. Она смотрела на меня с печалью – я смотрел на нее с извинением – мне нужно было исполнить свое дело. – Чего ты тянешь? Я вздрогнул от нового раската голоса и больше не увидел Богоматерь – лишь старую икону. Прошел вперед и, наконец, заметил того, кого искал. Мишка Меликов сидел на лавке у окна и смотрел на роспись потолка. Я подошел и встал напротив него. Он оторвался от небесного свода и посмотрел мне в глаза. Я увидел все. Увидел, как кровавая пелена заслонила для него весь мир. Как жизнь потеряла вкус, как перестало пьянить вино, а женские объятия стали пахнуть гнилыми досками. Как спал угар, и откатилось море веры в собственное всесилие. Как головная боль стала вечным спутником, а в глазах поселилась пустыня. Как цвета стали исчезать по одному, пока не остался лишь черный, белый и серый. Как пустота быта стала тюрьмой, которую давно оставил тюремщик, захватив ключи с собой. Как десятки женских лиц, плеч, грудей, задов и ног сплелись в клубок пустого одиночества. Как появилась жажда смерти, заполнившая собою все естество. Как в полнейшем отчаянии он решил пройти проторенной дорожкой несчастных душ. Как он все эти годы ждал меня или еще кого-нибудь, кто на меня похож, и у кого есть повод для его убийства. Как прямо в этот миг он видит всего себя со всеми своими деяниями, мыслями и чаяниями на краю последнего обрыва. Меликов улыбнулся вдруг и заговорил тихим и спокойным голосом, который больше не смущал своей громогласностью покой храма: – Я знал, что моя совесть хранится в глубине твоих глаз. Теперь я выбрался из адской ямы – теперь я примирился с нею. Значит, мне наверх. Делай свое дело, дитя. – Прости меня, святой отец.
*** Дмитрий влетел в притвор храма следом за Стрельниковым. В тот же момент раздался глухой звук, в котором совсем не узнавался выстрел. Белкин уже слышал этот звук однажды – в ателье Громова. Душа Дмитрия металась между головой и пятками, пытаясь выбраться. Он не мог не то что поверить, но даже осознать того, что именно его друг – человек, благодаря которому Дмитрий научился хоть немного справляться с собственной нелюдимостью, и был тем самым убийцей, которого он уже месяц искал. Но Белкину пришлось в это поверить – когда он увидел Георгия, тот все еще продолжал наводить причудливый пистолет с длинной широкой трубкой на конце на оседавшее тело Меликова. И тут боль в голове услужливо напомнила Дмитрию, что именно Георгий напал на них в фотоателье, именно Георгий застрелил одноногого Чернышева, именно Георгий оставил вдовой жену Овчинникова. В висках стучало, боль пульсировала на темечке, летний воздух обжигал кожу зимним холодом. – Стой! Стрельников навел на Лангемарка ствол револьвера. Георгий медленно повернулся и увидел двоих. Тот, кто целился, интересовал его не очень сильно, хотя Георгий его узнал. Ему больше был интересен второй: – Прости за голову, Митя. Я рад, что ты уже на ногах. Белкин выдавил, не узнав, свой голос: – Зачем? – Ты узнаешь. Скоро. Я обещаю. Георгий сейчас совсем не казался угрожающим – он смотрел на Белкина так, как смотрел в самые тяжелые дни. Дмитрий понял, что больше на него так никто никогда смотреть не будет. – Подними руки! Повернись! Стрельников продолжал оставаться профессионалом, отчаянно надеясь, что Митя не будет делать глупостей. Убийца послушно поднял руки, продолжая держать пистолет, а после этого медленно развернулся. Он перевел взгляд с Белкина на Виктора Павловича и обратился к нему: – Вы очень смелый человек. Не уверен, что смог бы смотреть в глаза смерти так, как смотрели вы в прошлую нашу встречу. – Заткнись! Пистолет на пол! Георгий улыбнулся и вновь посмотрел на Белкина. Дмитрий понял, что сейчас случится что-то непоправимое, но смог лишь произнести беззвучно: – Не надо. Лангемарк дернулся с места, прыгнув в сторону не хуже кота. Стрельников выстрелил, но не попал. В следующее мгновение убийца швырнул ему в лицо свой пистолет. Виктор Павлович не смог отклониться и получил прямо по носу – в глазах на мгновение потемнело, а из разбитого носа брызнула кровь. Уже через секунду он снова выстрелил куда-то в сторону размытого движения, а затем почувствовал, как его толкнули. Пол ушел из под ног, но лишь для того, чтобы найти спину. Стрельников тут же перевернулся на живот и выстрелил по темной фигуре, исчезающей во вратах. Кто-то дернул его за плечи, пытаясь поднять на ноги – Виктор Павлович поднял взгляд и увидел лицо Белкина с разбитыми губами. Только теперь, с катастрофическим запозданием Стрельников понял, что все это время Дмитрий был совершенно безоружен. Несмотря на то, что погоня еще только начиналась, Виктору Павловичу стало смешно – этот убийца уже во второй раз за последние несколько дней оставил их с Белкиным в избитых дураках. И спасало их двоих лишь то, что он почему-то очень не хотел их убивать. Белкин не мог думать, поэтому действовал. Точнее, он не хотел думать – это было слишком больно. Дмитрий помог Стрельникову подняться на ноги и, не дожидаясь старшего коллеги, поспешил за своим другом. Нужно было поймать его, остановить, нужно было понять, зачем он все это устроил – дальнейшего Белкин не планировал. На улице посвежело или Дмитрию только так показалось. Он увидел знакомую спину – ту самую спину, которую запомнила помешанная на кошках и портрете мужа гражданка Караулова со Спасопесковской. Белкин в очередной раз за последние минуты пошарил рукой там, где обычно была кобура, но вновь ничего там не нашел. Не расстроился – не было времени – просто бросился вслед за Георгием. Лангемарк бежал не оглядываясь, перескочил через широкую улицу за какие-то доли секунды, нырнул во двор, затем в ближайший поворот, пробежал к забору, за которым можно было спрятаться, и прижался спиной к какому-то древнему сараю, переводя дух. Белкин вел спину друга до двора, затем до переулка, потом она мелькнула возле старого перекошенного забора, и на этом Лангемарк провалился сквозь землю. Дмитрий огляделся вокруг, даже на высокую крону ближнего дерева посмотрел – Георгия нигде не было. Через несколько секунд он пробежал к хибарке, которая была даже более перекошенной, чем забор, но и там Георгия не оказалось. Дмитрий огляделся теперь уже растерянно, а потом неожиданно для самого себя ударил в деревянную стену кулаком так сильно, что пробил старое дерево насквозь, разбив себе руку в кровь. Он не замечал этой боли. Она не могла сравниться с абсолютным непониманием. Непониманием друга, непониманием себя, непониманием мира, непониманием того, как дальше существовать. Когда Стрельников нашел его, Белкин бесцельно бил разбитой рукой в стену какого-то неказистого домишки. Виктор Павлович положил руку ему на спину, отчего Дмитрий дернулся всем естеством, отшатнулся и уставился взглядом загнанного зверя. Через секунды в этом взгляде появился разум, и Белкин почти выкрикнул: – Упустил, Виктор Павлович! Упустил, черт бы меня побрал!
34
Дмитрий, сжав зубы, снял наспех наложенную повязку с разбитой руки. В раковину закапала кровь. Слабая струя воды подхватывала капли и увлекала за собой, оставляя тонкие кровавые дорожки, которые закручивались вокруг слива. Дмитрий попытался усилить напор, но этот жиденький водопад и так был максимумом. Белкин подставил руку под холодную воду и чуть не застонал – боль была такой, как будто на кисти руки кто-то топчется. Он пересилил боль и вытащил из разбитых костяшек маленькую острую щепку. Так и оставив руку под струей воды, Дмитрий поднял взгляд на небольшое зеркало. Ему не понравилось собственное лицо в тусклом свете лампочки – взъерошенные волосы, больной взгляд красных глаз, жилка, бьющаяся на виске, и разбитые губы собственной волей сложившие неподвижную улыбку. Он, как всегда, не смог сразу удержать контакт глаз – опустил взор и наткнулся на бритву Георгия. Отчего-то возник в разуме вопрос, а был ли Лангемарк выбрит сегодня. В последний раз они встречались три дня назад, тогда, кажется, на лице Георгия была легка небритость – не больше двух дней. Три дня назад Георгий не был убийцей. Белкин, позабыв совершенно о разбитой руке, убрал ее из под благостной водной прохлады и взял бритву в руки. Это не было опасное лезвие, какими пользовались прежде, да и до сих пор брились многие мужчины – Лангемарк пользовался бритвой со сменным лезвием. Дмитрий попытался достать лезвие и тут же порезал палец, но не обратил на это внимания. Головоломка не решалась – лезвие оставалось в станке. Дмитрий безотчетно пробормотал: – Да как тебя выковырять? Как будто только того и ждало, лезвие вдруг легко поддалось и само прыгнуло в ладонь Дмитрия. Он уставился на тонкую острую грань, приблизил ее к глазам, чтобы лучше видеть. Неожиданно Белкин почувствовал головную боль. Непрестанные удары молоточка о разум. Бесконечные, монотонные, сводящие с ума. Он понял, что боль пришла не сейчас – сейчас он о ней вспомнил. Голова болела последние двадцать семь лет. Сейчас местом средоточения боли была жилка на виске. Пульсирующая, крупная и красная. Через нее по венам Белкина непрестанно бежала боль. Острая кромка лезвия была такой идеально ровной и прямой, что была подобна абсолютной единице. Дмитрию подумалось: «Интересно, а далеко ли будет бить фонтан боли, если я сейчас рассеку этот болепровод?» Раздался стук в дверь, и Белкин отвлекся от острия бритвы. Он шумно вдохнул воздух и растерянно огляделся вокруг – похоже, кто-то пытался его задушить только что. Стук повторился уже настойчивее. Раздался голос Стрельникова: – Митя, у вас там все хорошо? Белкин посмотрел на дверь и захотел ответить, но понял, что в какие-то минуты напрочь разучился разговаривать. Больше Стрельников не стучал и не спрашивал – он дернул дверь на себя, благо, Дмитрий забыл ее запереть. Белкин затравленно посмотрел на еще одного человека, который никак не может оставить его в одиночестве. В глубине души заволновался маленький, но очень цепкий червячок злобы. Белкин злился на Стрельникова, ненавидел Стрельникова, хотел уничтожить Стрельникова, хотел защититься от него, спрятаться. Виктор Павлович подошел к Дмитрию и без церемоний взял его за разбитую руку с зажатым в ней пустым бритвенным станком. Станок его, казалось, не заинтересовал – Стрельников оглядел костяшки пальцев молодого коллеги и цокнул языком: – Что же вам, голубчик, так не везет в последние дни – то по голове получаете, то руки разбиваете… – То друзей теряю. Белкин сам удивился возвращению дара речи – он думал, что они расстались надолго. Виктор Павлович рассеянно улыбнулся, сочтя слова молодого коллеги грустной шуткой. После этого он высвободил из разбитой руки Дмитрия станок, а из другой совершенно мимоходом забрал бритву с несколькими капельками крови на лезвии. И то и другое упало в раковину под слабую струю воды. Стрельников огляделся вокруг, но не увидел ничего похожего на бинты или медицинскую коробочку. Тогда он открыл ящик и взял оттуда небольшое полотенце, а после этого обвязал им руку безучастного Белкина. Когда с перевязкой было покончено, Виктор Павлович рывком поставил Дмитрия на ноги и произнес твердым голосом: – Вы мне нужны, Митя. Вы знаете этого человека. Знаете его привычки. Знаете, куда он мог пойти. Белкин неуверенно кивнул – теперь он совершенно не был уверен в своих знаниях о Георгии. Следователи направились домой к Лангемарку сразу после того, что произошло в церкви, оставив Архипова разбираться с трупом. Стрельников рассчитывал опередить убийцу и организовать засаду у него дома. Они двое остались в пустой квартире, а шофер поспешил на Петровку за подмогой и спецами. Именно на Петровку, а не в ближайшее отделение – Стрельникову нужны были в первую очередь специалисты, а не солдаты. В тревожном ожидании прошел час, потом еще один. Белкин устроился в том кресле, в котором устраивался обычно, когда приходил в гости к Лангемарку. Сейчас он был очень плохим помощником для Виктора Павловича. Дмитрий переводил взгляд с одного знакомого предмета на другой и все никак не мог до конца поверить в то, что видел своими глазами. Это казалось ему анекдотом, неудачной, зашедшей слишком далеко шуткой. Спустя два часа Георгий так и не появился, и стало понятно, что домой он возвращаться в этот вечер не планирует. Почти сразу после этого подоспели оперативники из МУРа. Забегали люди, полетели на пол вещи – кто-то что-то искал. Подъехал ворчливый Пиотровский, которому Стрельников показал неполную коробку с теми самыми странными патронам. Нестор Адрианович рассматривал их очень внимательно, вглядывался в каждый изгиб и угол, даже на зуб попробовал гильзу, а после этого отчего-то усмехнулся. Белкин все это время пробыл в «своем» кресле. Никто не трогал его, никто не спрашивал его ни о чем. Дмитрий попытался отпроситься домой, но Стрельников запретил ему уходить. Белкин вполне понимал Виктора Павловича – у того в руках был возможный ключ к нахождению убийцы, и он не собирался расставаться с этим ключом. Пиотровский, насмотревшись на патроны, подошел вдруг к Белкину и спросил возбужденно: – А пистолет, Митя? Позвольте посмотреть! Белкин безразлично протянул криминалисту пистолет Георгия. Возможно, это было не лучшее решение, но в тот момент времени на что-то другое не было, поэтому перед тем, как ехать к Георгию домой, Стрельников отдал безоружному Белкину оружие убийцы. В этот момент повязка из носового платка на руке Дмитрия пропиталась настолько, что кровь стала капать на пол. Виктор Павлович отправил Белкина в ванную комнату, чтобы тот перевязался, а сам в очередной раз стал прокручивать в уме варианты того, где мог быть убийца. Уже завтра Стрельников побывает и в университете у Лангемарка, и растрясет всех его коллег, знакомых и друзей, но это будет завтра. А сегодня убийца был один на один с ночным городом, и Виктору Павловичу нужна была хоть одна зацепка о том, где его искать. Дмитрий вышел из ванной комнаты вслед за Стрельниковым. Гостиная была полностью разгромлена – книги на русском, французском, немецком и японском лежали на полу. Ящики рабочего стола Георгия были перевернуты и выпотрошены. Записи, заметки, переводы, какие-то методички и тетрадки лежали на расстеленном на полу пледе. Теперь в кресле Дмитрия сидел другой человек – он безо всякого интереса просматривал небольшую кипу листков, отбрасывая просмотренные себе под ноги. Белкин увидел, что это головоломки – его любимые магические квадраты и квадраты с заполнением, какие-то уравнения и странные задачки, которые Дмитрию прежде не доводилось видеть. Белкин отвернулся от этого зрелища и наткнулся на совершенно серьезное лицо Стрельникова. Тот понял настроение коллеги, положил руку ему на плечо и вкрадчиво произнес: – Надо, Митя. Ничего не поделаешь. Белкин кивнул и заставил себя вновь посмотреть на бардак в комнате. Как бы он ни относился к Георгию, сейчас нужно было сделать свою работу. – Куда он мог направиться, Митя? Вы знаете кого-нибудь из его друзей? Может быть, у него есть подруга? Вопросы Стрельникова были похожи на звуки ручья, шумящего среди камней, и вселяли в Белкина спокойствие. Дмитрий заговорил: – Мы обычно общались с ним один на один. Из тех, кого он сам называл друзьями… Маргарита Ивановна Рудомино – она, как я понял, работает в Библиотеке иностранной литературы. Она однажды приходила к нему в то же время, что и я. Не знаю, мог ли он отправиться к ней в его нынешнем положении. Адрес ее тоже не знаю. Недавно у него в гостях был Евгений Поливанов – отчество не помню. Переводчик. Но, по словам Георгия, он приезжал в Москву ненадолго. Тогда же была Зинаида Яковлевна Голышева из Физико-математического института. Он называл ее светом в кромешной тьме – я не знаю, что за этим скрывалось. Ее адрес тоже не знаю. Один раз я пришел ровно в тот момент, когда от него выходил какой-то молодой человек, но я не знаю его имени. На этом все. Георгий несколько раз говорил о Чуковском и о Лидии Чарской, как о своих знакомых, но вскользь, и я не знаю, насколько эти слова верны… Белкин прервал себя и снова встретился взглядом со Стрельниковым: – Виктор Павлович, я не знаю, где мой друг Георгий Лангемарк может провести такую ночь, как эта. Как оказалось, я не знаю о нем ничего.*** Ваня Митин был прав – управлять автомобилем действительно совершенно не сложно. Нужно просто запомнить несколько простых «можно» и «нельзя». Я вспомнил, с каким страхом сел за руль в первый раз под его присмотром. Теперь я чувствовал себя спокойно – теперь я ничего не боялся. Было раннее утро, когда таксомоторы еще в парках. Кроме моего. Я ехал в сторону пересечения Немецкой и Покровской, подгадывая, чтобы успеть ровно к семи двадцати. Встреча с Митей вышла совсем неожиданной – жаль, что он узнал именно так. Я все равно хотел сообщить ему, особенно после того, как узнал от Чернышева о том, что меня разыскивает милиционер «не то Белкин, не то Галкин». А уж после того, как мне пришлось ударить Митю по голове, объяснение с ним стало важнейшим делом. Одним из самых важных дел, которые мне остались. Но я хотел сообщить ему позже, когда все будет исполнено. Не хочется оставлять Митю в одиночестве. С его недужной душой ему очень нужен тот, кто сможет заставлять его жить нормальной жизнью – я по мере сил пытался быть таким человеком, но теперь не смогу. Женщина, которая с ним теперь, подобна кукушке – на нее нельзя положиться в вопросах заботы. Впрочем, всем приходится взрослеть однажды – придется и ему. Тяжелая выдалась ночка. Летние ночи в Москве открывают город с совершенно новой стороны – показывают его нутро и его тревоги. Например, меня. Я, непрестанно ожидая увидеть за собой погоню, добрался до места, где мы с Митиным припрятали таксомотор на случай, если нам еще потребуется авто, а после этого не знал, куда себя деть. Думал, вспоминал что-то и совершенно не мог уснуть. При этом, я не могу назвать свою душу смущенной – просто хотелось надышаться жизнью напоследок. Можно было отправиться к тебе. Очень хотелось этого. Хотелось почувствовать твои прикосновения, хотелось увидеть твой ободряющий взгляд и услышать твой приказ, возвращающий слепому мечу зрение. Но именно из-за приказа я и не мог провести эту ночь с тобой. Потому что теперь ты приказала бы мне выжить. Я начал это для тебя, потому что ты попросила истребить этих людей из мира. Но в своей лютой ненависти к ним ты совсем позабыла, что я один из них. Если отодвинуть месть и говорить о справедливости, то наказание должно постигнуть и меня. Теперь, оставив за спиной так много прерванных жизней, я очень хорошо это осознаю. Вспомнился вопрос Чернышева: «Ты ведь понимаешь, что тебе не выжить?» Разумеется, я это понимаю. Мне не выжить. Причем, не оттого, что теперь где-то за спиной, отставая на полшага, были пожилой следователь и Митя Белкин, а оттого, что я не имею на это права. Матвей Осипенко не заставлял меня быть одним из них, Андрей Овчинников не тянул меня на ночные улицы на привязи – я сам это совершил, я сам был ими. Ты приказала мне отомстить этим людям, я сам хотел призвать их к ответу – теперь пришло мое время отвечать. Я уже подъезжал. Посмотрел на часы – нужно было еще подождать. Мне пришло вдруг в голову, что я погибну совсем рядом с домом, в котором прошло мое детство, в котором я вырос. Спустя все свои движения в мире, я возвращаюсь туда, где все для меня началось, чтобы все для себя завершить. Сердце отчего-то забилось чаще. Я попытался вспомнить какое-нибудь изречение господина Ямамото Цунэтомо – работа над переводом его мыслей замечательно умиротворяла меня в последний период моей жизни. Спустя мгновение я выкинул это из головы – все неважно и теперь не нужно мне, кроме решимости. Я увидел впереди бежевые очертания автомобиля Алфеева. Надавил на газ. Расстояние стало быстро сокращаться. Захотелось закрыть глаза, но я запретил себе. Нужно было следить за врагом неотрывно, видеть его всего целиком. Между нами осталось не больше тридцати метров. Он засигналил мне и попытался вильнуть, но у него уже не было шансов уйти от моей атаки. Я почувствовал, как скорость вокруг резко выросла. Причем, не моя скорость – весь мир ускорился в несколько тысяч раз. Мне отчего-то пришло в голову, что это похоже на кино – общий план вдруг надвинулся на меня, переходя в крупный и сталкивая меня со сценой. Между нами не больше трех метров. Я все еще не закрываю глаза. И не закрою ни за что. Я вижу его лицо в мельчайших деталях, вижу морщины и волоски в носу, и царапины от бритвы, и бешеный страх в глазах. Совершенно неожиданно все звуки исчезли, захватив с собой и чувство дороги подо мной – теперь я плыл по воздуху. Лишь чувство скорости осталось неизменным. Перед глазами вдруг возникло лицо моей матери. Просто лицо без радости или печали, но с живым взглядом. Я почувствовал, что улыбаюсь. Что я снова ребенок, который любит весь мир. Лицо мамы сменилось вдруг размытой от невероятной скорости чередой событий моего существования. Все мои годы до последней секунды мелькнули в неуловимый миг. Вдруг раздался единственный звук, похожий на звук бьющегося хрусталя. После этого меня уже не было.
35
– Я не знаю, не могу точно сказать. Белкин всматривался в разбитое мертвое лицо, на котором все еще можно было различить последнюю улыбку. Дмитрий немного кривил душой – он узнавал знакомые черты, просто не хотел признавать, что на холодном столе лежит тело его друга. Стрельников встал рядом и положил руку на плечо Белкину: – Митя, нужно ответить. Пока мы не установим личность, это просто безымянный труп, найденный за рулем украденного такси. Если вы его не опознаете, он так и будет висеть на нас нераскрытым делом. При этих словах Белкин посмотрел на Виктора Павловича так, как прежде не смотрел, но Стрельников ответил на гнев своей привычной улыбкой, которую подкрепил самым важным аргументом: – Если его не опознаете вы, мне придется вызвать в эту комнату госпожу Голышеву – неужели вы хотите, чтобы она видела вашего друга в таком виде, неужели хотите, чтобы эта картина осталась у нее в памяти? – А в моей? – А вам от этого уже никуда не деться, голубчик. Кроме того, вы все же мужчина, да еще и профессионал. Белкин обернулся на дверь, за которой ожидала Зинаида Яковлевна – молчаливая и напряженная, как тетива лука. Ее сдернули с работы специально, чтобы опознать тело Лангемарка. Белкин в последний момент узнал об этом от Виктора Павловича и тут же предложил свою кандидатуру вместо нее. А теперь он стоял над мертвым телом и никак не мог признать очевидное. Прошлый вечер был для Дмитрия бесконечным. Обыск все продолжался и продолжался. За ним потянулся опрос усталых и смущенных соседей. Потом Дмитрий был на Петровке и под запись отвечал на вопросы Виктора Павловича о Георгии. Потом они вместе со Стрельниковым писали отчет о произошедшем в «Большом Вознесении». Затем подтянулся Архипов с Большой Никитской и рассказал о том, что удалось найти там и в округе. Точнее, о том, чего найти не удалось – ничего важного. В определенный момент Дмитрий понял, что все его чувства будто дробят и рябят действительность. Звучавшие вокруг слова стали перебивать друг друга и наслаиваться, а иногда на середине обрываться тишиной. Перед глазами пошли полосы и круги, то вспыхивавшие вдруг ярко, то вытягивавшие весь цвет из мира. Стрельников потряс его за плечо, и Белкин понял, что просто задремал прямо за рабочим столом. Только теперь Виктор Павлович решил отпустить молодого коллегу домой, но теперь Дмитрий сам не хотел уходить. Ему очень не хотелось оставаться с собой наедине. Всю жизнь он боялся окружающих, но теперь ему было страшно даже от себя самого. Стрельников не стал спорить и вернулся к делам. Белкин устроился на узкой лавке, стоявшей тут же у стены, и уснул неожиданно крепким сном без всяких сновидений. Он не проснулся, ни в тот момент, когда отчитывались о результатах обыска в квартире Георгия, ни когда Пиотровский пришел сообщить, что ничего важного больше в квартире не смог найти, ни даже когда Стрельников уже глубоко за полночь ушел с работы, полностью неудовлетворенный проделанной работой. Дмитрий так и проспал до самого утра, когда совершенно не отдохнувший Виктор Павлович растряс его с новостями о том, что таксомотор, который фигурировал в убийстве Овчинникова, всплыл в аварии на пересечении Бауманской и Бакунинской. Теперь, несколько часов спустя, Белкин стоял над телом Георгия и никак не мог это признать. Наконец, он бросил еще один взгляд на обезображенное лицо и уверенно произнес: – Да, это он. После этих слов Белкин почувствовал полную, совершенную апатию. Пожалуй впервые в сознательной жизни он не испытывал абсолютно ничего. Даже привычного неудобства больше не было. Окажись Дмитрий сейчас в переполненном трамвае, в шумной рюмочной, в забитом кинозале, на затолпленной площади или на кухне коммуналки, он везде чувствовал бы себя равно одиноким, как если бы остался один во всем мире. Далее вокруг что-то происходило. Стрельников что-то говорил, Дмитрий подписал какую-то бумагу. После этого его, наконец, отпустили. За дверью ждала Зинаида Яковлевна, которая о чем-то его спросила. Он что-то ответил. Она была без очков и смотрела на него растерянным, но все же проникновенным взглядом, который он, разумеется, не смог выдержать. Город мерно проплывал мимо Белкина, пытаясь давить высотой и помпезностью зданий. Дмитрий понял, что так и не полюбил этот город за те годы, что прожил в нем. Что все эти Хитровки, Пречистенки, Арбаты и Кремли так и остались для него названиями на карте, которые можно усвоить и даже заучить, но нельзя понять. Рядом сидел понурый Стрельников. В один момент их взгляды встретились, и Дмитрий увидел, насколько же они похожи. Сколь многое роднило его с этим пережитком эпохи, по нелепости дожившим до нынешнего дня. Стрельников тоже задыхался от тесноты просторов московских площадей, тоже путался в переплетениях прямых улиц и бесчисленности тупиков, проулков, проездов и дворов. Все что их отличало, это причина неустроенности в мире – Стрельников был лишним в сегодняшнем дне, а Белкин был лишним по жизни. Через минуту Виктор Павлович медленно произнес: – Мы плохо сделали свою работу, Митя. Белкин кивнул – хорошей их работу назвать было никак нельзя. Больше молчание не нарушалось. Грузовик затормозил и остановился, продолжая ворчать в ожидании нового путешествия. Белкин спрыгнул на землю и, не оглядываясь, отправился к своему дому. Виктор Павлович вдруг окрикнул его: – Митя, постойте! Я совсем забыл – мы с супругой приглашаем вас в гости в эту субботу. Сможете? А то она давно хочет с вами познакомиться. Белкин развернулся на месте и удивленно уставился на человека, с которым проводил часы и часы своей жизни в последние несколько лет. – Я не знал, что вы женаты, Виктор Павлович. – А вы вообще не очень наблюдательны в том, что касается других людей, голубчик. – Простите… Конечно, я приду. Во сколько? – Завтра решим. Вас ведь ждать завтра на службе? – Да, я буду. – Ну, вот и хорошо. Тогда до завтра… Степан Савельич, давай на Петровку – работы еще до черта! Грузовик зарычал и дернулся. Белкин почувствовал, что улыбается, и крикнул Стрельникову: – Виктор Павлович, вы очень хороший человек! Стрельников рассмеялся и помахал рукой, удаляясь по улице, а затем крикнул в ответ: – Расскажите мне, чего я не знаю, Митя!*** Комната Белкина была идеально чистой и пустой – как всегда. Даже бардака на столе, который так любила разводить Александра, больше не было. Дмитрий растянулся на кровати и глубоко вздохнул. Его жизнь прилично изменилась за этот месяц, и он сомневался, что был похож на самого себя месячной давности. Раздался аккуратный стук в дверь, и Дмитрий отвлекся от созерцания солнечных зайчиков, плясавших на потертой стене. – Не заперто! Белкин сел на кровати и посмотрел на гостя. Это была соседка, сидевшая с маленьким ребенком. На ее вечно усталом лице застыл интерес – она никогда прежде не была в комнате Белкина, и теперь ей было любопытно, как здесь все. Выяснилось, что все примерно так же, как и в их с мужем комнате, только вылизано до блеска. – Добрый день… Маша, вам что-нибудь нужно? – Да, добрый день. Тут для вас… в общем, вот. С этими словами она протянула Дмитрию толстую тетрадь и запечатанный конверт. Белкин посмотрел на соседку непонимающе: – А что это? Маша отчего-то смутилась и опустила взгляд, когда ответила: – Это Саша. Подруга ваша, которая. Она заходила вчера вечером, даже ночью почти, но вас не было. Потом сегодня с утра, но вас опять не было. Поэтому она попросила меня передать вам это. Белкин взял из рук соседки тетрадь и конверт, посмотрел на них, ничего не понимая. – А что она сказала? Для чего это? Когда она планирует прийти? – Нет, она ничего не сказала… Можно мне идти? Дмитрий поднял взгляд на Машу и продолжил ничего не понимать – по всему было видно, что соседка его боится. Но это было совершенной глупостью – они мало друг друга знали, но Белкин не помнил случаев, после которых его можно было бы бояться. Он разрешил женщине идти и открыл тетрадь. Стоило ему прочитать первые же слова, как тетрадь упала на пол, а Дмитрий посмотрел на скрепленные листы с совершенным изумлением. Спустя минуту, когда изумление чуть отступило, он запер дверь на ключ и аккуратно поднял тетрадь. На первой же странице было написано знакомой рукой название: «Хагакурэ, или Сокрытое в листве». Несмотря на то, что это был черновик, в нижнем углу нашлось место дарственной, оставленной все тем же знакомым почерком – «Моему другу Дмитрию Белкину». Дмитрий прочитал дарственную несколько раз, все надеясь, что она расплывется и исчезнет, как и вся тетрадь целиком. Он листал тетрадь все быстрее, везде находя одно и то же – короткие или длинные афоризмы и истории на разные темы. То связанные друг с другом, а то случайные и независимые. Белкин не вчитывался в них – дело было не в них, а в том, что они были написаны рукой Георгия. Он узнавал почерк друга, узнавал его форму и его подход – эта тетрадь дышала Лангемарком, как будто была его частью. Во всей тетради не было больше ничего, кроме этих афоризмов. Белкин пролистал ее раз, затем в обратном порядке второй раз, но она не открыла ему свою тайну. Лишь в этот момент Дмитрий вспомнил о письме, которое попало к нему вместе с тетрадью. Он разорвал конверт и достал оттуда два листа бумаги. Один был исписан аккуратным и мелким почерком Георгия, а вот на втором была единственная размашистая строчка, оставленная Сашей. Дмитрий вцепился в записку Саши. Прочитал ее один раз. Потом еще один. Потом отбросил от себя лист, который, медленно виляя, опустился на пол. На листе было написано:
Прости, что не предупредила. Не жди.
Белкин смотрел на лист, как на ядовитую змею, подобравшуюся к самому сердцу. Мысли заметались в голове, крутясь вокруг значения слов: «Не жди». Такое не было возможно теперь – не ждать. Не теперь, когда он открылся и почувствовал что-то, чего прежде никогда не чувствовал. Затем разум сложил записку, написанную рукой Александры, и письмо, написанное рукой Георгия – Белкин тут же уставился на это письмо, лежавшее на кровати, и стал читать его, не спеша прикасаться к ядовитым буквам:
Доброго времени тебе, мой друг. Я пообещал тебе, что ты все поймешь, и я собираюсь исполнить это обещание. Начать следует с того, что в тот момент, когда ты читаешь это письмо, я либо уже мертв, либо погибну в течение нескольких часов. Возможно, что ты узнаешь об этом до того, как письмо попадет к тебе, но мне кажется важным предупредить тебя. Далее, понимая твое изумление от того, как к тебе попало это письмо, хочу прояснить кое-что. Прости меня, Митя – Саша устроила игру, о которой я не стал тебя предупреждать. Мы с ней были знакомы до моей лекции. Она моя старая подруга. Как ты успел понять, она очень любит устраивать неожиданности. Ее появление на лекции было для меня такой неожиданностью – игрой, в которую я включился, потому что привык к ее играм. Она сделала вид, что не знает меня – я сделал вид, что не знаю ее. А потом она заинтересовалась тобой, мой бедный друг. Не ненавидь ее сильно – у некоторых людей под масками нет лиц, лишь новые и новые маски. Я и сам такой. И еще – я просил ее не играть с тобой. Говорил, что ты не понимаешь этих игр, что если у нее получится сблизиться с тобой, для тебя это чувство будет столь сильным, что память о нем будет преследовать тебя всю жизнь. Но я не прервал ее. Потому что я тоже люблю игры. А еще потому, что теперь ты видел, каково там – в мире, где есть кто-то еще, кроме тебя. В мире, которого ты всегда страшился. Там не только толпы и крики, не только шум и хамство – там есть настоящее тепло. Теперь о моем деле. Я убил Матвея Осипенко, Петра Родионова, Андрея Овчинникова, Филиппа Ермакова, Семена Чернышева, Ивана Громова, Фому Краснова, Михаила Меликова и собираюсь убить Якова Алфеева. Фаддей Цветков, Яков Матвейчук и Семен Юдин погибли прежде от разных причин. Много лет назад я вместе со всеми этими людьми был в одной банде. Мы грабили и убивали, пользуясь гибелью старого мира. Однажды нам на пути попался мой учитель. Человек великого достоинства и внутренней силы, человек, давший мне профессию. Он погиб от нашего безобразия, успев перед смертью преподать мне последний урок. Жизнь моя с того дня переменилась и обрела новый смысл, далекий от мести, кстати. Примерно год назад я случайно наткнулся на Матвея Осипенко. Точнее, не я, а мой хороший друг Иван Митин – он уже погиб, поэтому я смело называю тебе его имя. У Ивана были личные причины для мести Осипенко, но не хватало решимости именно убить. Тогда у нас родился план нашего мщения. У меня была еще одна причина искать смерти для Осипенко и остальных, но о ней я умолчу даже в этом письме. Иван выковал для меня меч, а я поразил им нашего врага, когда обрел нужные навыки и подобрал удачный момент. Этим все и должно было ограничиться, но судьба почти сразу свела меня с Родионовым, и я наконец-то перестал быть мечом в руках слепца – теперь я разил их одного за другим, благо судьба все еще мне благоволила. Я не испытываю раскаяния или угрызений совести, но я понимаю, что убивая убийц, стал убийцей. Насилие должно иметь предел. Пределом станет моя смерть. Прости меня за все, мой друг. Прости за ложь и неискренность. Прости за то, что ударил тебя по голове и разбил тебе губу. Прости за то, что больше не буду поставлять тебе твои любимые головоломки и не смогу облегчить твой недуг в самые тяжелые дни. Я старался идти по единственному пути, но понял, что каждый человек идет по множеству путей сразу. Пока люди гибли от моей руки, от нее же рождались строки перевода – моего последнего перевода. Это единственное хорошее, что останется в мире после меня. Я долго думал, что делать с этой работой, но нет во всем мире человека более достойного, чем ты, для того, чтобы критически оценивать мой труд, поэтому теперь он принадлежит тебе. Только не относись к словам слишком серьезно, Митя – слова, это просто слова – не они руководят тобой или мной. Но они могут стать источником вдохновения. Желаю тебе достичь совершенства в твоем труде, мой друг, и не забыть о том, что ты тоже человек. Человек достойный жизни среди людей. У меня впереди целая ночь наедине с моим родным городом – надеюсь, он расскажет мне еще несколько своих историй, а я поделюсь своими. Красота порой ослепляет нас, не давая постичь природу вещей, но иногда природа вещей и заключается в их красоте. Прощай.
36
Небо, наконец, сжалилось над изнывающей от жары Москвой, и пошел дождь. Белкин стоял рядом с молоденькой липой на старом Семеновском кладбище и подставлял свою смущенную душу небесной влаге. Рядом с простым деревянным гробом стояли какие-то серые люди, которые говорили какие-то серые вещи. Дмитрий ни за что на свете не встал бы сейчас среди них, среди их печали и давящей молчаливости, среди их суетливых и трепещущих мыслей о смерти. Сегодня у Белкина был плохой день. Один из тех дней, когда не хочется покидать свое убежище, когда, выглянув на улицу, видишь лишь ходячие трупы. Вчера тоже был плохой день. И позавчера. Последние дни все были не очень. Дмитрию были отвратительны люди во всех их людских проявлениях. Но более всего он ненавидел весь род человеческий за то, что его лучший друг теперь лежал в гробу, а его подруга, закончив свою игру, растаяла в воздухе. Белкин привык к одиночеству, но теперь он был не просто одинок – он был неприкаян. Люди оставили его ровно в тот момент, когда оказались нужны ему более, чем когда-либо прежде. Это было по-детскиобидно. Белкин считал часы до утра понедельника, до того момента, когда он окажется на службе – сейчас до этого момента оставалось почти двадцать часов. Безумно долго. Он не знал, чем займется после того, как Георгий успокоится в земле. Скорее всего, пойдет к себе в комнату и постарается уснуть так, чтобы не проснуться. Взгляд Белкина упал на ближнюю к липе могилу. Свежий деревянный крест и табличка, на которой легко читалось имя Филиппа Ермакова. Мысли со скрежетом заработали, Дмитрий сравнил дату смерти на могиле с датой гибели того Ермакова, которого убил Георгий – совпало. Белкину не захотелось усмехнуться от изящной иронии, по которой Георгию предстояло делить соседство с одним из своих врагов. Не захотелось ему и злиться на судьбу, по которой все эти люди оказались на кладбище. Белкину ничего не хотелось. Он ничего не чувствовал, кроме въевшегося в самые кости нескончаемого испуга от мира. Серые люди стали расходиться, а Дмитрий никак не мог покинуть липу, охранявшую этих мертвецов. – Здравствуйте, Митя. Белкин дернулся инстинктивно, точнее, почувствовал, что дернулся, но на деле остался недвижим. Он обернулся и увидел рядом с собой печальное лицо Зинаиды Голышевой. Она, как и Белкин, была сегодня без зонта и промокла из-за этого до нитки. Волосы налипли на лоб, а очки поймали на себя столько капель дождя, что теперь в них было видно хуже, чем без них. – Добрый день, Зинаида Яковлевна. – Я не ожидала вас здесь увидеть. – Простите. – Что вы! Наоборот, очень хорошо, что вы пришли. Мне видеть вас сейчас приятнее, чем кого бы то ни было иного. Хорошее место, правда? Голышева повернула лицо к могиле Георгия, видя перед глазами лишь капли на стекле. Белкин тоже посмотрел на место, где теперь спал его друг. Отчего-то именно слово «спал» пришло в голову Дмитрию. Теперь Георгий спал. И ему еще всенепременно предстоит проснуться, пускай сам Белкин этого не увидит. Георгий проснется и вновь сразит своего врага или переведет какую-нибудь книгу. Дмитрий понял, что невежливо оставил вопрос Зинаиды Яковлевны без ответа, и поспешил исправиться: – Да, очень хорошее. Это вы выбрали? – Нет, он сам. Я лишь исполнила. Это оказалось неожиданно легко – как будто и нет других покойников для этого кладбища… Вы очень торопитесь, Митя? Простите, что я вас так фамильярно, мы ведь с вами мало знаем друг друга. – Ничего страшного. Меня все мало знают, а я мало знаю всех. Нет, Зинаида Яковлевна, я совсем не тороплюсь. Голышева неожиданно улыбнулась, став вдруг моложе лет на пятнадцать. – Тогда составьте мне компанию, пожалуйста – у меня на этом кладбище лежит еще один любимый человек. Я могла бы и сама… Просто очень не хочется одной. Дмитрий, не говоря ни слова, предоставил свое плечо и повел Голышеву прочь от липы и Георгия Лангемарка. Имена и годы медленно плыли мимо них. Зинаида Яковлевна вроде шла за Белкиным, но шли они туда, куда вела она. Голышева заговорила: – Вы помните головоломку, которую почти решили в вечер нашего знакомства? – Конечно, помню. Там был мужчина в фуражке. Вы в тот раз выиграли у меня пять рублей. – Исключительно вашим благородством, Митя – вы ведь разгадали картинку, просто не успели сложить несколько деталей – я проиграла вам. Белкину пришел вдруг в голову вопрос, который тут же слетел с губ: – А девушка, которая была со мной – вы знали ее? – Да. Я видела ее несколько раз прежде. Александра была ученицей Георгия. Насколько умная, настолько же и жестокая. Простите нас за это. Белкин остановился на месте. Голышева почувствовала, как он напряжен, как одеревенело вдруг его предплечье, за которое она держалась. Дмитрий прошептал так, что его слова почти растаяли среди шелеста дождя, но Зинаида Яковлевна легко прочитала по губам единственный вопрос: – Почему? – Потому, что меня попросил об этом Георгий – сделать вид, что я вижу Александру впервые. Не знаю, зачем была нужна эта игра. Не знаю, кто ее начал и зачем вел. Она ведь ушла, так? – Так. – Ну и дура. Пойдемте, здесь недалеко. Теперь уже Дмитрий шел за ней, став совершенно безразличным ко всему. Вода, попавшая в ухо, сейчас интересовала его больше, чем все дела людей. Голышева остановилась у старого креста и посмотрела на него с какой-то очень легкой улыбкой, как будто была не на кладбище, а у розового куста. Белкин все еще не понимал, как она что-то видит через свои слепые от дождя очки. Голышева отпустила Дмитрия, подошла к кресту, провела пальцами по имени и произнесла с настоящим торжеством в голосе: – Я сделала, Сережа! Мы все сделали! Дмитрий перевел взгляд с имени Сергея Львовича Голышева на женщину, которая не могла носить такую же фамилию по простому совпадению. Зинаида Яковлевна медленно повернула лицо к Белкину, сохраняя на нем всю ту же радостную торжественность. Она указала рукой вдоль аллеи и произнесла: – Там лежат русские солдаты, погибшие на поле битвы и умершие от ран. Мой муж лежит рядом с ними со всем правом, и Георгий лежал бы здесь, если бы решение принимала я! – Вы знаете, что он сделал? – Конечно, знаю. До последней детали. Он рассказал мне все. Я заставила его. Он рассказывал, как эти ублюдки умирали, а я радовалась! Радовалась, Митя, как не радовалась уже очень много лет! А теперь его нет. Улыбка сошла с губ Зинаиды Яковлевны, а сама она заметно покачнулась, но не упала. Она устояла на ногах, посмотрела на Дмитрия, сняла очки и прищурилась. – Я так плохо вижу ваше лицо, Митя – подойдите ближе. Белкин сделал, как она хотела, и Зинаида Яковлевна, наконец, смогла его рассмотреть. Почему-то смотреть ей в глаза Белкину было легко. Она положила ледяные руки ему на виски и оглядела его лицо так, как будто оно было какой-то ювелирной глупостью. Дмитрий не сопротивлялся – бесчувствие владело им целиком и полностью. Наконец, Голышева отпустила его и произнесла, надевая очки: – У вас очень хорошее лицо. Митя, пожалуйста, побудьте со мной сегодня. Мой дом теперь намного холоднее, чем земля, в которой спят мои любимые. Белкин кивнул. Он не хотел ничьей компании, но Зинаида Яковлевна просила его о помощи. Они взяли извозчика и поехали по адресу, названному Голышевой. Она прижалась к Дмитрию всем телом, и он понял, что это просто от холода – Зинаида Яковлевна крупно дрожала. Только голос оказался удивительно спокойным, когда она заговорила: – Сережа был намного старше меня. Я была восхищенной институткой, а он уже профессором, хотя был еще совсем не стар. Не знаю, за что уж он меня полюбил – запрятанная в цифирях сова очкастая… Только вместе мы пожили очень мало. Хотя мне и целый век, проведенный с ним, показался бы мгновением! Началась война, и его отправили на восток, в Японию – они теперь были нашими союзниками. Не знаю, чем именно он там занимался, знаю только, что мне его не хватало, как утопающему воздуха. А после февраля вернулся, и пока вокруг все рушилось, я снова была счастливейшим человеком на Земле. А потом… Голышева замолчала и молчала до самого конца пути. Она жила в небольшой квартирке на одну комнату. Зато одна. Белкин был этим полностью удовлетворен – больше он не хотел никого видеть. Зинаида Яковлевна так и откинулась в мокрой одежде в кресло, оставив Дмитрия в дверях. Почему-то он не мог заставить себя войти. Когда она заговорила, в голосе послышалась странная надменность: – И что, теперь, когда Георгия нет, дело закрыто? Вы ведь не нашли ответ на еще один важный вопрос? Или вы даже задать этот вопрос не смогли? Дмитрий попытался посмотреть ей в глаза, но увидел опущенные веки за грязными стеклами. Они действительно не ответили на один очень важный вопрос, но им со Стрельниковым казалось, что смерть Георгия навсегда закрывает дорогу к ответу. Белкин оглядел уставшую промокшую женщину, расслабленно раскинувшуюся в кресле, и почти выкрикнул: – Это вы?! Вы дали Георгию патроны! Зинаида Яковлевна открыла глаза и спокойно ответила: – Да, я. Сережа привез из Японии пистолет и патроны к нему. Пистолет мне пришлось продать в 20-м, кажется, но вот часть патронов осталась. Георгий убивал их с моей помощью, и каждый его выстрел отзывался в моей душе приятной болью. Потому, что именно из-за этих мерзавцев в моем сердце навсегда поселилась тьма. Из-за них мое счастье осталось лежать в окровавленном снегу. Георгий полуживой от побоев и ран нашел меня, передал мне обручальное кольцо моего мужа и сказал, что не хочет жить после всего этого. Но я приказала ему выжить, потому что мне нужен был хоть кто-то во всем мире. И пошли годы и годы бесцветного существования. Уже забылись черты моего погибшего мира, заменяясь новыми чертами. Уже начали появляться новые дела, новые интересы. А в сердце продолжала жить зима, дожидаясь своей поры. А потом Георгий сказал мне, что встретил одного из тех, кто убил моего мужа. Я сразу поняла, чего хочу. Я попросила его сказать, где живет этот ублюдок. Хотела задушить его, выцарапать ему глаза, разгрызть горло – уничтожить его полностью! И тогда Георгий сказал, что сделает это сам. Что это не только моя месть. Он был сильнее меня, у него вернее вышло бы справиться с мерзавцем, поэтому я согласилась. Он попросил от меня лишь две вещи – оставшиеся патроны моего мужа и чтобы я верила в него. Дальше ты знаешь. Ну, что теперь? Ты задержишь меня? Белкин переступил через несуществующую преграду и сделал шаг в комнату. Он подошел к Зинаиде Яковлевне и посмотрел на нее: – Ты поэтому подошла сегодня? Ты хотела признаться? – Да. Ты не только друг Георгия, ты еще и тот, кто шел по его следу. Он узнал об этом случайно от одного из мерзавцев. Знаешь, что он сказал мне, когда узнал об этом? Что это лучшее, что могло произойти. Что именно ты должен был настигнуть его. Теперь я спрашиваю тебя, что ты будешь делать? Доведешь ли работу до конца? Белкин понял, что в груди копится жар. Спустя несколько секунд жар стал нестерпимым – Дмитрий резко наклонился и прокричал прямо в лицо Голышевой, схватив ее за плечи: – Да не знаю я, что мне дальше делать! Вы со своими тайнами, играми, убийствами и местью с ума меня сводите! Как же вы понять не можете, что я не хочу, чтобы вы все исчезали из моей жизни! Не хочу, чтобы умирали и таяли в воздухе! Не хочу снова быть в одиночестве против всех. Не хочу вечно уходить один. Дмитрий обнаружил, что больше не нависает над Зинаидой Яковлевной, а смотрит на нее снизу, что он опустился прямо на пол перед креслом. К горлу подступили слезы бессилия, а губы все повторяли: – Я не знаю, что делать… не знаю… не знаю… не знаю… Голышева положила ладонь ему на лоб – Дмитрию показалось, что ко лбу прижали кусок льда. Он услышал спокойный голос Зинаиды Яковлевны: – Ты горячий, как печка, друг мой. Похоже, прогулки под дождем тебе вредят. – Пускай вредят! Пускай изведут меня насовсем! Не могу больше среди этого предательства… Лицо Зинаиды вдруг оказалось прямо напротив его лица. На ней не было очков, и Дмитрий снова без всякого труда заглядывал в глубину ее глаз. – Можешь, Митя. Ты будешь жить. Даже если ты последний настоящий человек, ты будешь жить. Я приказываю тебе выжить. – Ты и Георгию это сказала тогда, много лет назад… – Потому что, тогда он чувствовал то же, что чувствуешь ты. И, как и ты, он не должен был умереть от этого чувства. Он, черт возьми, и сейчас не должен был умереть! Он обманул меня – сказал, что выживет. Сказал, что выбирая между делом и выживанием, выберет выживание – лжец… Не обманывай меня, Митя. Выживи несмотря ни на что. – Хорошо, я обещаю… А ты? Что ты будешь делать дальше? – Не знаю. Все свои дела я завершила. Любить мне больше некого. Ненавидеть тоже. Что мне делать, Митя? Белкин протянул руку, пытаясь дотянуться до ее лица, но отчего-то не получилось. Наконец, он сдался и произнес единым выдохом: – И ты живи. – Зачем? – Потому, что я прошу тебя об этом.*** Дождь продолжится до самого вечера. Он проберется даже в самые темные и запрятанные уголки большого города. В небольшой квартирке будут двое. Дождь совсем не будет их интересовать. Мужчина в промокшей одежде будет крепко обнимать женщину в промокшей одежде. Мужчина станет молчать. Женщина станет плакать и шептать иногда на ухо мужчине одни и те же слова: – Я просто буду тебя тихонько любить.
Георгий Долгов. Тринадцатый маршрут Веденеев В. Комов К. После третьего звонка
Георгий Долгов ТРИНАДЦАТЫЙ МАРШРУТ Повесть
ВСЮ НОЧЬ шел снег. Длинными белыми жгутами вытянулся он на проводах, повис на ветках деревьев, мягко и пушисто укутал крыши домов, площади и улицы. Задолго до рассвета в город въехали колонны снегопогрузчиков, бульдозеров, самосвалов. Утро занималось в реве моторов и скрежете металла по асфальту. И только на окраине города, в бывшей слободе с некрасивым названием Старая Канава было тихо. Мощная техника доберется сюда попозже, а тротуары жители нынешней Староканавской улицы по старинке чистили сами. Здесь сохранились еще маленькие деревянные домишки, прячущиеся летом в густых зарослях сирени, а зимой утопающие в пышных сугробах. Старенькие, покосившиеся, с подслеповатыми оконцами, они доживали последние дни, дремотно вспоминая о буйных прекрасных днях своей молодости. Жителей на Староканавской осталось совсем немного. Со дня на день ждали они ордеров на новые квартиры. На месте бывшей слободы должен был подняться современный микрорайон. Но пока ордера получили еще не все, и оставшимся приходилось волей-неволей жить здесь, а значит и выполнять свои извечные обязанности по поддержанию чистоты на тротуаре у своего дома. Когда-то эта работа считалась легкой и приятной. Была даже своя гордость в том, чтобы раньше всех встать, убрать снег на своем участке, аккуратно присыпать тротуар золой. Но это было давно, когда в домах Старой Канавы полным полно было молодых, сильных и веселых мужчин. Сегодня здесь остались преимущественно старики. Для них каждый обильный снегопад превращался в трагедию. Полина Сергеевна Каргальцева начала волноваться еще с вечера. Несколько раз подходила к окну, смотрела на густую белую пелену и тяжело вздыхала. При одной мысли о предстоящей работе у нее начинало болеть сердце и отнимались ноги. Спала Полина Сергеевна плохо. Тяжело было дышать, болело сердце. Поднявшись в семь часов утра, первым делом бросилась к окну. — Батюшки-светы! — изумленно ахнула старушка. — Да мне же его до весны не перекидать! Нужно звонить Алешке, пусть с работы отпрашивается, а то помру я в этом сугробе. Полина Сергеевна накинула шубенку, повязалась платком и, подхватив хозяйственную сумку, вышла из дому. У калитки она остановилась и еще раз посмотрела на снежную гору. Вблизи оказалось — стоит машина-фургон, занесенная снегом. Очень обрадовалась Полина Сергеевна своему открытию. Машина занимала почти весь тротуар перед домом. И под ней снегу было немного. А как поедет она, так верхний слой и заберет с собой, сообразила старушка. Соседи уже не спеша приступали к исполнению своей коммунальной обязанности. Крепкий краснощекий старик Арсентий Фомич, живший напротив, успел расчистить почти весь свой участок. Широкая гладкоструганная лопата ловко ходила в его руках. — Не к вам гости? — спросила Каргальцева, поздоровавшись и показывая на машину. — Какие у меня гости, Сергеевна? — отмахнулся Арсентий Фомич. — Сама знаешь, что только почтальон и заходит. Это, поди, к Симаковым прибыли. Он оглянулся по сторонам и вдруг с необычным проворством начал орудовать лопатой. Каргальцева тоже посмотрела по сторонам и поняла причину усердия Арсентия Фомича: к ним приближался участковый инспектор милиции Сурин. Человек он был неплохой, давно работал в их районе, знал всех и каждого, и его знали. К жителям Староканавской Сурин относился благожелательнее, чем ко всем остальным: никаких неприятностей они ему не доставляли. Однако в бывшей слободе Сурин появлялся регулярно. Беседовал со стариками, узнавал последние новости, иногда помогал по мере сил и возможностей. Считался он здесь своим человеком и в то же время, по непоколебимому убеждению владельцев частной собственности, как представитель власти, заслуживал особого уважения. По этой самой причине Арсентий Фомич и демонстрировал сейчас перед участковым инспектором труд бодрый и радостный. Сурин подошел, поздоровался, неторопливо осмотрелся, пошаркал сапогом по мерзлому очищенному асфальту. — Ловко вы без скребка управляетесь. — Практика, — довольно хмыкнул Арсентий Фомич. — Пока снег не утоптан, его одной лопатой снять легко. Сурин посмотрел на засыпанный снегом автофургон и покачал головой. — Не к месту приткнулся. Придется наказывать. Сейчас я его покличу. Он неуклюже полез через сугроб, оставляя в снегу глубокие следы, подошел к машине, стряхнул снег с номерного знака, поднялся на подножку и через стекло заглянул внутрь. Что-то, видимо, он там не разглядел, потому что быстро обежал вокруг машины и заглянул в другое окно. — Сейчас гуданет на всю Ивановскую, — засмеялся Арсентий Фомич. Но сигналить Сурин не стал. Он вынырнул из-за машины и крикнул: — Вы, товарищи, стойте здесь и никого к автомобилю не подпускайте! Слышите, ни единого человека! Минут десять подежурьте, а я сейчас же вернусь, Я вернусь минут через десять, но до меня, чтобы ни души тут не было!НА РАБОТУ Садовников любил ходить пешком. Ровно тридцать пять минут требовалось ему, чтобы добраться от дома до горотдела. Это были, пожалуй, единственные спокойные минуты из всего напряженного и богатого событиями его рабочего дня. Алексей очень ценил свою утреннюю прогулку и пренебрегал ею только в случае самой крайней необходимости. Друзья посмеивались над ним и называли Афанасием Никитиным. Он отшучивался, говоря, что таким образом вносит свой вклад в улучшение транспортного обслуживания населения. Добравшись до горотдела, Садовников шумно отряхнул снег на крыльце и заглянул в комнату дежурного, узнал, нет ли каких новостей. Дежурный в ответ лишь молча пожал плечами. Алексей понимающе хмыкнул и поднялся к себе. Сегодня ему предстоял скучный день. Садовников дал себе слово, что нынче, в четвертый день нового года он обязательно разберется во всех накопившихся делах. Алексей вытащил из сейфа папки, разложил их на столе и искренне пожалел самого себя. К бумагам Алексей относился плохо. Свою работу старший оперуполномоченный уголовного розыска Садовников любил за то, что она постоянно требовала живого и непосредственного общения с людьми, требовала выдержки, изобретательности, напряжения, умения принимать мгновенные и точные решения в любой обстановке. Бумаги же, по его глубокому убеждению, требовали хорошего почерка. Садовников им не обладал со школьных лет и поэтому машинистки мрачнели, принимая его материалы. Алексей вздохнул и обреченно сел к столу. «Закончу сегодня и буду свободен», — подумал он, вытягивая из груды первую папку. Но тут раздался телефонный звонок. Вызывал к себе начальник уголовного розыска. Садовников быстро захлопнул папку и вышел в коридор. Подполковник Малов стоял в кабинете в шинели. Видимо, он только что вошел и еще не успел раздеться. — Вот что, Алеша, — сказал он поздоровавшись. — Звонил инспектор Сурин. На Старой Канаве обнаружен брошенный почтовый фургон, а в кабине вроде бы убитая женщина. Бери группу и выезжай. Я сейчас позвоню в прокуратуру и тотчас буду… Дежурный газик уже стоял у подъезда, пофыркивая голубым дымком. На заднем сиденье рядом с фотографом и кинологом расположился эксперт-криминалист Михаил Родионович Мураш. В дубленке, меховой шапке и модных очках он мало походил на работника милиции. Но внешний вид Мураша был обманчив. Он считался не только в городе, но и в области одним из самых опытных криминалистов. Когда газик проскочил центральную улицу, вслед за ним пристроилась машина, в которой ехали следователь прокуратуры Веретенников, врач и Малов. Выехали на Староканавскую, шофер присвистнул. На ее проезжей части снег лежал нетронутый. — Хорошо бы нам маленький вездеходик иметь, — пробормотал Мураш. — Ничего, прорвемся, — ответил Садовников. Газик, натруженно завывая двигателем, пробился почти к самому фургону, у которого стоял инспектор Сурин. Садовников подошел у фургону и открыл дверцу кабины. Внизу под сиденьем рядом с местом водителя в неестественной позе лежала молодая женщина. На голове ее зияла рана, лицо было залито кровью. Мураш быстро осмотрел убитую и попросил вызвать машину чтобы отправить труп в морг. Потом они с фотографом занялись кабиной. Кинолог оказался не у дел. Почтовый фургон был, видимо, оставлен с вечера, а за ночь навалило столько снегу, что собака проваливалась в нем по самую морду, беспомощно барахталась в сугробе и след, конечно, взять не могла. Пока осматривали кабину, Сурин рассказал Садовникову все, что знал сам. Подошел Мураш, отряхивая снег с дубленки, сказал: — Пойдемте, посмотрим кузов. Они открыли заднюю дверь. Садовников поднялся наверх и остановился. Почти у самого входа на груде бандеролей лежал молодой мужчина, опутанный веревками, голова его была прострелена. — Алексей Вячеславович, — позвал Мураш. — Смотрите. — Он показал на убитого. На кисти левой его руки было отчетливо написано шариковой ручкой: «КОТ-127». — Забавно, — сказал Алексей. — Да, редкое факсимиле — согласился Мураш. — Может быть, он и паспорт нам свой оставил для полного удовольствия? — пробормотал Садовников, осматривая внутренние стенки фургона. — Не думаю. Но кое-что здесь еще есть. Обратите внимание на веревку, которой связан убитый. — Мураш чуть приподнял ее пальцем. — Видите, как слабо она натянута и как ровно. Создается впечатление, что человека не связывали, а он сам как бы вращался вокруг своей оси, наматывая веревку. — Думаете, инсценировка? А зачем же тогда это? — Алексей показал на рану в голове убитого. — Я ничего не думаю. Просто обращаю ваше внимание на некоторые любопытные факты. Думать — это ваша обязанность. — Спасибо и на этом, Михаил Родионович. Садовников спустился вниз. Врач только что закончил осмотр убитых. — Ну и как? — спросил Алексей. — Смерть в обоих случаях наступила вчера примерно около шести вечера. Причины такие: у девушки — от ударов тяжелым и острым предметом по голове и выстрела в лицо; у парня — от двух выстрелов в височную область. Остальное покажет вскрытие. — Добро, — кивнул Садовников. Привычной толпы любопытных у фургона не было. Малочисленное население Староканавской улицы по приказу Сурина к машине не приближалось. Но у ближних домов люди стояли. С ними уже разговаривали следователь прокуратуры Веретенников и Малов. Прежде всего хотели они поговорить с Карагальцевой. Но тут сразу ждала неудача. — Глуховата я, — объяснила Полина Сергеевна. — Поэтому телевизор включаю на полную мощность… Не видел и не слышал ничего и Арсентий Фомич. Малов с Веретенниковым обходили жителей Старой Канавы, выслушивая неутешительные для себя ответы. Только один из них — Александр Михеевич Симаков — немного помог им. — Скучно мне одному по вечерам сидеть, — рассказывал он. — Вот и брожу иной раз по соседям. Вчера тоже заходил к Мастерковым. Со стариком-то их мы с мальчишек знакомы. Вон там они живут, — показал он в окно, — где улица поворачивает немного. Иду вечером, значит, не поздно еще было. Смотрю, машина по нашей улице едет. Потом остановилась, свет погас. Вышел человек из кабины. Я еще подумал: «К кому бы это гости пожаловали?» А он развернулся и в обратную сторону… — Как он выглядел-то? — спросил Малов. — Да обыкновенно, как все шоферы. В телогрейке, в шапке, сапогах. Росту не очень высокого. — А в руках у него ничего не было? — спросил Веретенников. — Сумки или мешка какого-нибудь… — Не видел, — сконфузился Александр Михеевич. — Машина его загораживала.
ПРИЕХАВ в отдел, Садовников сразу же поднялся к Малову. В кабинете, кроме подполковника, находились еще несколько сотрудников уголовного розыска. — Подобьем бабки, — сказал Малов, когда все расселись. — Значит, так, — Алексей достал блокнот, — фургон принадлежит автобазе управления связи. Убитыми, вероятно, являются водитель и оператор связи, которая обычно сопровождает груз. По предварительному заключению, у женщины смерть наступила в результате удара острым тяжелым предметом по голове и выстрела в лицо, а у мужчины только в результате выстрелов. — Личности убитых изучаются, — вставил капитан Гришин, оперуполномоченный уголовного розыска. — Похищена сумка с деньгами почтовых отправлений, пистолет, принадлежащий оператору связи. По мнению эксперта, смерть наступила вчера вечером. — Ко мне заходил Мураш, — перебил его Малов, — и рассказал, что веревка завязана каким-то уж очень диковинным узлом. Он такого за всю свою практику не встречал… — Нам бы этот узел развязать… — сказал Алексей. — Предполагаю, что преступление было совершено вчера вечером и не на Старой Канаве, а в каком-то другом районе города. Иначе жители окрестных домов что-нибудь да слышали бы. Улочка там тихая, и шум мотора, выстрелы, возня, борьба так или иначе привлекли бы внимание. Тем более, что живут там, в основном, старики, люди любопытные и бессонницей страдающие. Думаю, что захват машины был осуществлен не одним преступником. Расправиться с водителем и сопровождающим его оператором одному человеку просто невозможно. А после убийства, преступники, захватив деньги и, может быть, еще что-нибудь, что — пока выясняется, скрылись. Но, честно сказать, никаких сформулированных версий пока не имею. Думаю… — Будет лучше, если мы подумаем все вместе, — ответил подполковник. — Что еще? — Надпись на руке, — вступил Садовников. — Синей шариковой ручкой написано… — Интересно. Только почему «сто двадцать семь»? — Может быть, эта цифра как-то связывала преступника и убитого? Какие-то воспоминания, свои счеты… — Возможно, возможно… Если это кличка, то нам крупно не повезло. Очень уж она популярная. — Случай, конечно, редкий, когда убийца на месте преступления свою подпись оставляет, но, если учесть, что тут действительно может иметь место сведение счетов или какая-то старая связь, версию эту нужно отработать. Тем более, что ничего другого, более существенного у нас в руках пока нет. Может быть, что-то появится, когда закончатся все экспертизы. Пока же, давайте займемся «Котами». Вы, Алексей Вячеславович, проверьте, кто из «Котов» в данное время на свободе, чем занимается. Заодно запросите о самочувствии «Котов», находящихся в местах лишения свободы. Может, кто-то освободился досрочно или, не дай бог, самовольно, заявился в родные края. А вы, капитан, поезжайте на автобазу. Поговорите с народом, с начальником. Если выяснится что-то важное, докладывайте немедленно. Необходимо предупредить всех, кого следует: надо усилить внимание постов на вокзале, в аэропорту, на автобусных станциях. Максимум внимания ко всем подозрительным личностям. И еще. Нужно срочно сориентировать всех участковых инспекторов. Пусть проверят своих подопечных. В этом деле нельзя пренебрегать ни одним, даже малейшим шансом. Случай, как вы понимаете, не рядовой, потому и внимание к нему максимальное. Выйдя от подполковника, Садовников направился подбирать сведения по «Котам», а Гришин сразу же поехал на автобазу. Алексей подготовил телеграммы в колонии и занялся выяснением личности «Котов», пребывающих на свободе. Выяснилось, что один из них трудится агентом по снабжению в строительно-монтажном тресте, который ведет работы почти на всей территории Европейской части страны, и постоянно находится в разъездах. В отделе кадров треста сказали, что сейчас интересующий его работник пребывает в очередном отпуске и по профсоюзной путевке две недели отдыхает в санатории на Черноморском побережье Кавказа. Второй «Кот», он же Котищев Станислав Федорович — в городе, работает подсобником в «Гастрономе» и, как сообщила заместитель директора, сегодня — на своем рабочем месте. Садовников решил, не откладывая дела в долгий ящик, навестить Станислава Федоровича, тем более, что они с ним были старыми знакомыми. «Гастроном», расположенный на одной из центральных улиц города, был переполнен. Садовников обогнул здание и зашел во двор. Здесь было безлюдно, валялись какие-то старые ящики, бумага, солома. У высоких, обитых железом ворот стоял, прислонившись к стене, невысокий хилый мужчина в черном полушубке и лениво жевал соленый огурец. — Как бы тут Станислава Федоровича повидать? — спросил Алексей. — Кота, что ли? — Мужичок перестал жевать и глянул на Садовникова. Он нырнул в дверь и скрылся в катакомбах «Гастронома». Минут через пять из двери выглянул Котищев. — Вот уже не ожидал увидеть, — искренне удивился Станислав Федорович и без особой нужды поправил на себе серый рабочий халат. Чувствовалось, что он и удивлен, и немного испуган. — Сколько лет мы с вами не виделись, гражданин начальник?
 — Да, порядочно. Пожалуй, с тех пор, как я тебя в этом в этом самом «Гастрономе» и взял.
— Бежит время. А вы не очень изменились, вроде и не стареете.
— Где уж там! Времени не хватает, да и коллеги твои стареть не дают.
— Это вы бросьте, гражданин начальник. Мои коллеги нынче люди праведные. А что было, то быльем поросло…
— Что ты заладил: гражданин начальник, гражданин начальник! Ты не под следствием, я не на допросе. Зашел вот узнать, как живешь что поделываешь, все-таки, как ни говори, а крестник ты мне.
— Ну что ж, ежели вы ко мне, как крестный папаша пришли, почему и не потолковать. Только не здесь, пойдемте вниз, там комнатка у нас есть, вроде для отдыха.
Они спустились по темной лестнице в подвал. Прошли узким коридором мимо каких-то мешков, ящиков, пакетов и очутились в маленькой комнатке, где стоял стол, несколько табуреток, диван с выпирающими пружинами и шкаф. В комнатке было чисто.
— Садитесь, — пригласил Котищев. — Здесь и поговорим.
В бытность свою карманным вором Станислав Федорович славился фантазией, виртуозностью и дерзостью при выполнении своих «профессиональных» обязанностей. «Работал» он чаще всего в этом «Гастрономе». Но приходил сюда только раз в день: ко времени возвращения людей с работы. Тогда, да и теперь, здесь густо клубились очереди, вспыхивали короткие перепалки покупателей. Естественно, что в такой обстановке люди не так бдительно охраняли свои карманы и сумки. Этим и пользовался «Кот». Он занимал очередь в кассу, и пока она продвигалась, успевал потолкаться в двух, а то и в трех очередях. «Гастроном» хотя и был на самообслуживании, тем не менее товары повышенного спроса здесь отпускали продавцы и писали на маленьких бумажках записки для касс. Обшарив карманы нескольких посетителей, «Кот» брал любой подвернувшийся под руку товар, расплачивался и исчезал. Ограбленные им покупатели обнаруживали пропажу кошельков только возле касс. Они шумели, охали, ахали, но вскоре умолкали, кляня себя за беспечность. «Работал» Котищев и в некоторых других местах, но «Гастроном» был его любимой «грядкой», которая давала хоть и не очень богатый, но зато стабильный «урожай».
Возился с ним Алексей долго. Как любого карманника, «Кота» было брать трудно, и все-таки его взяли, когда он вынимал руку с кошельком из сумки элегантной дамы в модных вельветовых джинсах. Удивился тогда «Кот», никак не ожидавший подобного конфуза. Срок ему дали не очень большой, но и не маленький, учитывая, что это была уже вторая судимость. И вот они встретились снова.
— Сюда-то по старой памяти пошел работать? — спросил Алексей.
— Случайно получилось. Я, как вернулся, решил завязать. Вы же знаете, у меня две дочки. Они к тому времени подросли. Наташке — жене моей — одной с ними трудно. Она мне и говорит: «Стас, я тебя честно ждала. Сейчас мы вместе, работай как все люди, проживем без твоих шальных денег, зато у девчонок отец будет, да и я ведь еще не старуха». В общем, уговорила. Помыкался я туда, сюда… Чувствую, куда ни ткнусь, большой радости от знакомства со мной кадровики не испытывают…
— А чего ко мне не пришел? — спросил Алексей. — Помог бы я тебе.
— Не хотел. Это в книжках только воров на работу милиционеры устраивают. В жизни-то все не так просто. С месяц я покантовался, психовать начал. Гори, думаю, вся эта честная жизнь, если в нее никак не прорвешься. Наташка мое настроение почувствовала, начала сама суетиться. Она-то и нашла это место. Я сперва — ни в какую! К этому, говорю, «Гастроному» на километр не подойду. А она говорит, дурак, мол, ты, Стас. Иди поработай пока, осмотришься, а потом что-нибудь придумаем. В общем, уговорила. Устроился мешки таскать, разные ящики, понятно, в общем. Ну, конечно, продукты домой достаю какие надо. Не ворую, нет, все за деньги, за свои собственные. Но продукт отборный, любительский, что называется. Да и материально неплохо.
— Ох, сообразительный ты, Станислав Федорович! — засмеялся Садовников.
— Это с детства есть. Я вот чего сказать хочу. Поработал я здесь годик и думаю: на кой черт занимался я прежним ремеслом? Вам хлопот доставлял, да и для себя радости не было. А здесь я в полном порядке, в полнейшем! Мы когда с Наташкой и девчонками по улице идем, в гости или еще куда, нас провожают взглядами. Да и в доме все есть. А что подсобник я, так это плевать. У нас всякий труд почетен. Вот я и спрашиваю вас, зачем мне сызнова начинать? Какой смысл? Я когда воровал, столько не имел, сколько сейчас имею. Вот так, а вы говорите…
— Да ничего я не говорю, — отмахнулся Алексей. — И дела-то у меня к тебе особого нет. Так зашел. Не думал, что застану. Ты ведь по сменам работаешь?
— По сменам. Эту неделю в ночь ходил. Товар принимал. Прошлой ночью всего одна машина была, а нынешней шесть штук раскидали. Четыре с овощами. А утром директор попросил остаться до обеда. Сменщик заболел. Хожу вот, как осенняя муха. Зато, правда, апельсинов домой принесу.
— Что же, ты так один всю ночь и трудился?
— Зачем? Нас обычно двое, да еще кто-нибудь из продавцов или товаровед, кто товар принимает. Тут по ночам народу хватает.
— Послушал я тебя, Станислав Федорович, и не знаю, что сказать. Вроде бы радоваться должен за тебя, а радости нет. Был ты когда-то фрезеровщиком четвертого разряда, профессию имел солидную, а теперь не поймешь, кто есть…
— Пустое это все, Алексей Вячеславович, причем тут подачки?! Люди устраиваются как могут. У нас вон товароведом работает инженер бывший, химией занимался, да, видать, не очень-то его кормила эта волшебница. Плюнул на все, поступил в техникум, а потом к нам. Его бывший главный начальник сейчас рядом с ним бедным родственником смотрится. А у нашего инженера-товароведа и «Жигуленок», и все, что полагается. А вы говорите, фрезеровщик…
— Не чисто у вас тут, Котищев. Смотри, как бы снова встречаться не пришлось…
— Насчет встречи не волнуйтесь. Постараюсь избежать. Я ведь битый уже.
— Ну, будь здоров!
— Счастливо вам.
«Этот Кот совсем не тот, — вяло подумал Алексей, пробираясь сквозь толпу. — При нынешней квалификации воровство ему действительно ни к чему. Там постоянный риск, а добыча призрачна и непостоянна. Здесь же он имеет гарантированный куш и еще его фотография на Доске почета висит. Такой на разбой не пойдет».
В отделе Садовникова ждал Гришин. Он сидел в кресле, курил и сосредоточенно перелистывал свой блокнот.
— Судя по вашему оптимистическому виду, капитан, ничего хорошего вы рассказать не готовы, — сказал Садовников.
— Боюсь, что так.
— Ладно, что есть, то и рассказывай.
Алексей достал из стола кипятильник и начал заваривать чай.
— Хочешь, тебе заварю?
— Хочу, — признался Гришин.
— У меня еще и печенье есть. А обед все равно сегодня мимо проехал. Уже пятый час, в столовой только одни воспоминания о котлетах остались.
Садовников вскипятил еще один стакан, заварил покрепче и расположился за столом. Гришин аппетитно захрустел печеньем.
— Ну, выкладывай свои новости. Под сладкий чай они лучше пойдут.
— Значит, так, — капитан пригладил на коленке блокнот и, заглядывая в него, начал рассказывать: — Фургон принадлежит автобазе областного управления связи. Хозяйство это довольно большое. Работать они начинают в разное время. Одни машины доставляют корреспонденцию, другие собирают ее в отделениях связи. Убитый Анатолий Владимирович Березин трудился в бригаде, которая собирает почту. В тот день, четвертого января, он на работу опоздал. Причина пока не выяснена, но объяснил, что по семейным делам. Когда началась отправка машин на линию, забарахлил мотор на фургоне, который должен был идти по тринадцатому маршруту. У них весь город разбит на маршруты, каждый проходит через несколько отделений связи. Здесь собираются все посылки, бандероли, переводы, письма и отвозятся на главный почтамт. Так вот, забарахлил, значит, мотор. Водитель подошел к бригадиру и сказал ему об этом. Тот, естественно, больше всего озабочен количеством машин, выпущенных на линию, и обеспечением всех маршрутов. Зная, что Березин не вышел на работу, он распорядился ехать по седьмому маршруту.
— А почему не по своему, тринадцатому?
— На автобазе объясняют так: каждый маршрут обслуживает свой оператор связи. Это, как правило, девушки, причем вооруженные пистолетом, которого они, по-моему, как огня боятся. Менять операторов не принято. Поэтому водитель с «чертовой дюжины», так называют этот маршрут, сел в машину Березина и поехал объезжать его отделения связи. Бригадир тут же вызвал слесарей, чтобы устранить неисправность. Поломка оказалась пустячной, что-то там в карбюраторе засорилось. Слесари прочистили, и порядок. В это же время пришел на работу опоздавший Анатолий Березин. Поскольку его машина уже ушла на линию, он сел в фургон тринадцатого маршрута вместе с оператором Зуевой Светланой Николаевной и выехал на линию. Вечером машины стали возвращаться на базу. Никто не обращает внимания на время их прибытия. Бывает, что фургоны задерживаются, так что никаких подозрений отсутствие машины не вызывало. А когда водители пришли на работу на следующий день, то есть сегодня, я уже был там. Вот тут они все и узнали.
— Не густо, — сказал Алексей.
— Что еще? — Гришин снова перелистал блокнот. — О Березине на автобазе все в один голос говорят только хорошее. Работает он там больше пяти лет. Тихий, скромный парень. Характер покладистый, не задиристый. Со всеми товарищами ладил, четыре года подряд избирался в местком. В работе безотказный. Никогда за ним ничего не замечали. Пил очень умеренно. Не жадный был, шоферы его уважали. Теперь Зуева. Работает оператором связи восемь лет. Замужем, имеет ребенка. В коллективе базы — один из лучших операторов. С мужем живет хорошо, семья нормальная. Никаких подозрительных знакомых, вроде бы, не имеет.
— А что, этот тринадцатый маршрут проходит по окраине, по району Старой Канавы?
— В том-то и дело, что нет. На автобусе этот маршрут зовут еще и «золотым». Он обслуживает отделения связи центральной части города. Здесь, как правило, бывает больше всего переводов, ценных писем, бандеролей…
— «Золотым», говоришь? Забавно… А раньше были замены водителей на этой «чертовой дюжине»?
— Были. Я проверял по документам. Вот, например, двенадцатого декабря линию обслуживал водитель Сифоров. Второго декабря — водитель Никоненко. В ноябре было три замены. Причем, оператор — один и тот же, а менялись только шоферы.
— А Березин когда-нибудь работал на тринадцатом?
— Работал. Один раз в июне месяце.
— Забавно, — повторил Садовников и прошелся по комнате.
— Значит, преступники, напавшие на фургон, знали, что он ходит по «золотому» маршруту.
— Выходит, так, — согласился Гришин.
— Но ведь нужно еще точно вычислить время, когда машина обойдет все отделения связи, другими словами, когда корреспонденция полностью будет собрана. Это раз. И второе. По всему получается, что преступники были знакомы или с Березиным, или с Зуевой. Иначе, по-моему, у них ничего бы не вышло.
— Ну, а если они захватили его у последней почты? Предположим, сперва убрали водителя. Заговорили его, затащили в фургон, а тамсвязали и застрелили. Потом дождались Зуеву, впихнули ее в кабину и уехали. По дороге расправились и с ней. Такие машины обычно подъезжают к отделениям связи со двора, а дворы в центре города бывают малолюдными и темными.
— Логично, — согласился Гришин.
— Конечно. Если это было так, еще проще. Подошли к почте, поговорили, покурили, заглянули в фургон и привет. И сделать это можно в самый последний момент, когда вся корреспонденция уже принята, а оператор оформляет документы. Выходит она одна и садится в машину. Тут ее, наверное, и ждали уже. Могли сразу, кстати, оглушить под звук работающего мотора, а потом по пути совершить все остальное.
— А как «Коты»?
— Впустую. С этой надписью придется повозиться. Очень может быть, что появился в городе какой-то новый «Кот», с которым мы пока не знакомы. Такую возможность тоже нельзя упускать из виду.
— Как распределимся?
— Очень просто. Ты выпьешь еще чайку, а я доложу начальству о наших предположениях. Если новых указаний не будет, выясни, какое последнее отделение связи обслуживается тринадцатым маршрутом и поезжай туда. Поговори, обрати внимание на сам факт отъезда фургона. Так? А я поеду в семью Березиных. Хоть и не к месту там сегодня такой гость…
— Да, порядочно. Пожалуй, с тех пор, как я тебя в этом в этом самом «Гастрономе» и взял.
— Бежит время. А вы не очень изменились, вроде и не стареете.
— Где уж там! Времени не хватает, да и коллеги твои стареть не дают.
— Это вы бросьте, гражданин начальник. Мои коллеги нынче люди праведные. А что было, то быльем поросло…
— Что ты заладил: гражданин начальник, гражданин начальник! Ты не под следствием, я не на допросе. Зашел вот узнать, как живешь что поделываешь, все-таки, как ни говори, а крестник ты мне.
— Ну что ж, ежели вы ко мне, как крестный папаша пришли, почему и не потолковать. Только не здесь, пойдемте вниз, там комнатка у нас есть, вроде для отдыха.
Они спустились по темной лестнице в подвал. Прошли узким коридором мимо каких-то мешков, ящиков, пакетов и очутились в маленькой комнатке, где стоял стол, несколько табуреток, диван с выпирающими пружинами и шкаф. В комнатке было чисто.
— Садитесь, — пригласил Котищев. — Здесь и поговорим.
В бытность свою карманным вором Станислав Федорович славился фантазией, виртуозностью и дерзостью при выполнении своих «профессиональных» обязанностей. «Работал» он чаще всего в этом «Гастрономе». Но приходил сюда только раз в день: ко времени возвращения людей с работы. Тогда, да и теперь, здесь густо клубились очереди, вспыхивали короткие перепалки покупателей. Естественно, что в такой обстановке люди не так бдительно охраняли свои карманы и сумки. Этим и пользовался «Кот». Он занимал очередь в кассу, и пока она продвигалась, успевал потолкаться в двух, а то и в трех очередях. «Гастроном» хотя и был на самообслуживании, тем не менее товары повышенного спроса здесь отпускали продавцы и писали на маленьких бумажках записки для касс. Обшарив карманы нескольких посетителей, «Кот» брал любой подвернувшийся под руку товар, расплачивался и исчезал. Ограбленные им покупатели обнаруживали пропажу кошельков только возле касс. Они шумели, охали, ахали, но вскоре умолкали, кляня себя за беспечность. «Работал» Котищев и в некоторых других местах, но «Гастроном» был его любимой «грядкой», которая давала хоть и не очень богатый, но зато стабильный «урожай».
Возился с ним Алексей долго. Как любого карманника, «Кота» было брать трудно, и все-таки его взяли, когда он вынимал руку с кошельком из сумки элегантной дамы в модных вельветовых джинсах. Удивился тогда «Кот», никак не ожидавший подобного конфуза. Срок ему дали не очень большой, но и не маленький, учитывая, что это была уже вторая судимость. И вот они встретились снова.
— Сюда-то по старой памяти пошел работать? — спросил Алексей.
— Случайно получилось. Я, как вернулся, решил завязать. Вы же знаете, у меня две дочки. Они к тому времени подросли. Наташке — жене моей — одной с ними трудно. Она мне и говорит: «Стас, я тебя честно ждала. Сейчас мы вместе, работай как все люди, проживем без твоих шальных денег, зато у девчонок отец будет, да и я ведь еще не старуха». В общем, уговорила. Помыкался я туда, сюда… Чувствую, куда ни ткнусь, большой радости от знакомства со мной кадровики не испытывают…
— А чего ко мне не пришел? — спросил Алексей. — Помог бы я тебе.
— Не хотел. Это в книжках только воров на работу милиционеры устраивают. В жизни-то все не так просто. С месяц я покантовался, психовать начал. Гори, думаю, вся эта честная жизнь, если в нее никак не прорвешься. Наташка мое настроение почувствовала, начала сама суетиться. Она-то и нашла это место. Я сперва — ни в какую! К этому, говорю, «Гастроному» на километр не подойду. А она говорит, дурак, мол, ты, Стас. Иди поработай пока, осмотришься, а потом что-нибудь придумаем. В общем, уговорила. Устроился мешки таскать, разные ящики, понятно, в общем. Ну, конечно, продукты домой достаю какие надо. Не ворую, нет, все за деньги, за свои собственные. Но продукт отборный, любительский, что называется. Да и материально неплохо.
— Ох, сообразительный ты, Станислав Федорович! — засмеялся Садовников.
— Это с детства есть. Я вот чего сказать хочу. Поработал я здесь годик и думаю: на кой черт занимался я прежним ремеслом? Вам хлопот доставлял, да и для себя радости не было. А здесь я в полном порядке, в полнейшем! Мы когда с Наташкой и девчонками по улице идем, в гости или еще куда, нас провожают взглядами. Да и в доме все есть. А что подсобник я, так это плевать. У нас всякий труд почетен. Вот я и спрашиваю вас, зачем мне сызнова начинать? Какой смысл? Я когда воровал, столько не имел, сколько сейчас имею. Вот так, а вы говорите…
— Да ничего я не говорю, — отмахнулся Алексей. — И дела-то у меня к тебе особого нет. Так зашел. Не думал, что застану. Ты ведь по сменам работаешь?
— По сменам. Эту неделю в ночь ходил. Товар принимал. Прошлой ночью всего одна машина была, а нынешней шесть штук раскидали. Четыре с овощами. А утром директор попросил остаться до обеда. Сменщик заболел. Хожу вот, как осенняя муха. Зато, правда, апельсинов домой принесу.
— Что же, ты так один всю ночь и трудился?
— Зачем? Нас обычно двое, да еще кто-нибудь из продавцов или товаровед, кто товар принимает. Тут по ночам народу хватает.
— Послушал я тебя, Станислав Федорович, и не знаю, что сказать. Вроде бы радоваться должен за тебя, а радости нет. Был ты когда-то фрезеровщиком четвертого разряда, профессию имел солидную, а теперь не поймешь, кто есть…
— Пустое это все, Алексей Вячеславович, причем тут подачки?! Люди устраиваются как могут. У нас вон товароведом работает инженер бывший, химией занимался, да, видать, не очень-то его кормила эта волшебница. Плюнул на все, поступил в техникум, а потом к нам. Его бывший главный начальник сейчас рядом с ним бедным родственником смотрится. А у нашего инженера-товароведа и «Жигуленок», и все, что полагается. А вы говорите, фрезеровщик…
— Не чисто у вас тут, Котищев. Смотри, как бы снова встречаться не пришлось…
— Насчет встречи не волнуйтесь. Постараюсь избежать. Я ведь битый уже.
— Ну, будь здоров!
— Счастливо вам.
«Этот Кот совсем не тот, — вяло подумал Алексей, пробираясь сквозь толпу. — При нынешней квалификации воровство ему действительно ни к чему. Там постоянный риск, а добыча призрачна и непостоянна. Здесь же он имеет гарантированный куш и еще его фотография на Доске почета висит. Такой на разбой не пойдет».
В отделе Садовникова ждал Гришин. Он сидел в кресле, курил и сосредоточенно перелистывал свой блокнот.
— Судя по вашему оптимистическому виду, капитан, ничего хорошего вы рассказать не готовы, — сказал Садовников.
— Боюсь, что так.
— Ладно, что есть, то и рассказывай.
Алексей достал из стола кипятильник и начал заваривать чай.
— Хочешь, тебе заварю?
— Хочу, — признался Гришин.
— У меня еще и печенье есть. А обед все равно сегодня мимо проехал. Уже пятый час, в столовой только одни воспоминания о котлетах остались.
Садовников вскипятил еще один стакан, заварил покрепче и расположился за столом. Гришин аппетитно захрустел печеньем.
— Ну, выкладывай свои новости. Под сладкий чай они лучше пойдут.
— Значит, так, — капитан пригладил на коленке блокнот и, заглядывая в него, начал рассказывать: — Фургон принадлежит автобазе областного управления связи. Хозяйство это довольно большое. Работать они начинают в разное время. Одни машины доставляют корреспонденцию, другие собирают ее в отделениях связи. Убитый Анатолий Владимирович Березин трудился в бригаде, которая собирает почту. В тот день, четвертого января, он на работу опоздал. Причина пока не выяснена, но объяснил, что по семейным делам. Когда началась отправка машин на линию, забарахлил мотор на фургоне, который должен был идти по тринадцатому маршруту. У них весь город разбит на маршруты, каждый проходит через несколько отделений связи. Здесь собираются все посылки, бандероли, переводы, письма и отвозятся на главный почтамт. Так вот, забарахлил, значит, мотор. Водитель подошел к бригадиру и сказал ему об этом. Тот, естественно, больше всего озабочен количеством машин, выпущенных на линию, и обеспечением всех маршрутов. Зная, что Березин не вышел на работу, он распорядился ехать по седьмому маршруту.
— А почему не по своему, тринадцатому?
— На автобазе объясняют так: каждый маршрут обслуживает свой оператор связи. Это, как правило, девушки, причем вооруженные пистолетом, которого они, по-моему, как огня боятся. Менять операторов не принято. Поэтому водитель с «чертовой дюжины», так называют этот маршрут, сел в машину Березина и поехал объезжать его отделения связи. Бригадир тут же вызвал слесарей, чтобы устранить неисправность. Поломка оказалась пустячной, что-то там в карбюраторе засорилось. Слесари прочистили, и порядок. В это же время пришел на работу опоздавший Анатолий Березин. Поскольку его машина уже ушла на линию, он сел в фургон тринадцатого маршрута вместе с оператором Зуевой Светланой Николаевной и выехал на линию. Вечером машины стали возвращаться на базу. Никто не обращает внимания на время их прибытия. Бывает, что фургоны задерживаются, так что никаких подозрений отсутствие машины не вызывало. А когда водители пришли на работу на следующий день, то есть сегодня, я уже был там. Вот тут они все и узнали.
— Не густо, — сказал Алексей.
— Что еще? — Гришин снова перелистал блокнот. — О Березине на автобазе все в один голос говорят только хорошее. Работает он там больше пяти лет. Тихий, скромный парень. Характер покладистый, не задиристый. Со всеми товарищами ладил, четыре года подряд избирался в местком. В работе безотказный. Никогда за ним ничего не замечали. Пил очень умеренно. Не жадный был, шоферы его уважали. Теперь Зуева. Работает оператором связи восемь лет. Замужем, имеет ребенка. В коллективе базы — один из лучших операторов. С мужем живет хорошо, семья нормальная. Никаких подозрительных знакомых, вроде бы, не имеет.
— А что, этот тринадцатый маршрут проходит по окраине, по району Старой Канавы?
— В том-то и дело, что нет. На автобусе этот маршрут зовут еще и «золотым». Он обслуживает отделения связи центральной части города. Здесь, как правило, бывает больше всего переводов, ценных писем, бандеролей…
— «Золотым», говоришь? Забавно… А раньше были замены водителей на этой «чертовой дюжине»?
— Были. Я проверял по документам. Вот, например, двенадцатого декабря линию обслуживал водитель Сифоров. Второго декабря — водитель Никоненко. В ноябре было три замены. Причем, оператор — один и тот же, а менялись только шоферы.
— А Березин когда-нибудь работал на тринадцатом?
— Работал. Один раз в июне месяце.
— Забавно, — повторил Садовников и прошелся по комнате.
— Значит, преступники, напавшие на фургон, знали, что он ходит по «золотому» маршруту.
— Выходит, так, — согласился Гришин.
— Но ведь нужно еще точно вычислить время, когда машина обойдет все отделения связи, другими словами, когда корреспонденция полностью будет собрана. Это раз. И второе. По всему получается, что преступники были знакомы или с Березиным, или с Зуевой. Иначе, по-моему, у них ничего бы не вышло.
— Ну, а если они захватили его у последней почты? Предположим, сперва убрали водителя. Заговорили его, затащили в фургон, а тамсвязали и застрелили. Потом дождались Зуеву, впихнули ее в кабину и уехали. По дороге расправились и с ней. Такие машины обычно подъезжают к отделениям связи со двора, а дворы в центре города бывают малолюдными и темными.
— Логично, — согласился Гришин.
— Конечно. Если это было так, еще проще. Подошли к почте, поговорили, покурили, заглянули в фургон и привет. И сделать это можно в самый последний момент, когда вся корреспонденция уже принята, а оператор оформляет документы. Выходит она одна и садится в машину. Тут ее, наверное, и ждали уже. Могли сразу, кстати, оглушить под звук работающего мотора, а потом по пути совершить все остальное.
— А как «Коты»?
— Впустую. С этой надписью придется повозиться. Очень может быть, что появился в городе какой-то новый «Кот», с которым мы пока не знакомы. Такую возможность тоже нельзя упускать из виду.
— Как распределимся?
— Очень просто. Ты выпьешь еще чайку, а я доложу начальству о наших предположениях. Если новых указаний не будет, выясни, какое последнее отделение связи обслуживается тринадцатым маршрутом и поезжай туда. Поговори, обрати внимание на сам факт отъезда фургона. Так? А я поеду в семью Березиных. Хоть и не к месту там сегодня такой гость…
МАЛЬЧИШКИ гоняли шайбу прямо на дороге. Правда, здесь, во внутренней части микрорайона, автомобили появлялись редко. Мальчишки это знали и потому не смущаясь ставили ворота на проезжей части. Увернувшись от пролетевшей мимо шайбы, Алексей подумал, что неплохо было бы позвонить домой и выяснить, что в настоящее время делает Михаил. По здравому рассуждению он должен заниматься: десятый класс, дело не шуточное. Весной предстоят обычные родительские хлопоты с определением дальнейшей судьбы сына. Жена, Мариша, уже сейчас бьет тревогу, пытаясь заранее выбрать институт, нанять репетиторов оттуда, чтобы обеспечить сдачу экзаменов. Но беда в том, что сам Мишка не знает, кем он хочет стать. Алексей к этой проблеме относился спокойнее, считая, что, если не поступит сын в институт, никакой беды не произойдет, пойдет работать. Еще неизвестно, что лучше. Мариша эту идею отвергла начисто. Она видела сына только студентом. Сам Михаил, пожалуй, с большей симпатией относился к позиции отца. В общем, с каждой неделей, приближавшей окончание учебного года, страсти в семье Садовниковых накалялись, и Алексей чувствовал, что не угаснуть им до самой осени, когда так или иначе все определится. В глубине души Алексей надеялся, что все будет хорошо. Мишка был парень не глупый и учился неплохо. Правда, в последнее время чрезмерно стал увлекаться гитарой, магнитофоном, часами висел на телефоне и возвращался поздно. Несколько раз Алексей видел его с высокой девушкой в короткой дубленой куртке и лохматой мужской шапке. «Не ко времени сейчас все эти дела, — думал Алексей. — Но с другой стороны, семнадцать лет, ничего уж тут не поделаешь…» Он вздохнул и, проверив по блокноту номер дома, свернул к подъезду. На звонок дверь ему открыла молодая женщина с измученным и заостренным лицом. — Здравствуйте, — сказал Садовников, — я из уголовного розыска. Понимаю, что не вовремя, извините, пожалуйста, но поговорить нам нужно. Женщина молча повернулась и пошла вглубь квартиры. Алексей последовал за ней. Квартира была самая обычная: маленькая передняя, узенький коридорчик, кухня, две комнаты. В меньшей, он увидел в открытую дверь, сидели на полу, прикрытом ковром, двое мальчуганов. Сидели тихо, положив на сдвинутые колени книжку. Садовников прошел в большую комнату. Жена Березина села у стола и уставила взор в темное окно. — Меня зовут Алексей Вячеславович, — представился Садовников. — А вас? — Тамара. Тамара меня зовут, — ответила она раздраженно, не отрываясь от окна. — Да что же это такое? — неожиданно начала она, недоуменно глядя на Алексея. — Это беда, Тамара. — Ведь только все начали, только начали… Квартиру вот получили, — она осмотрела комнату, как будто видела ее впервые. Петька с Васькой растут. Ведь хорошо же все было, замечательно просто. — Она замолчала и в упор посмотрела на Садовникова: — Почему? Ну, почему именно он? — Не знаю, — сказал Алексей. — Очень хочу узнать. Надеюсь, что вы поможете. — Каким образом? — Вы знаете своего мужа лучше других. А это уже много. Тамара провела рукой по волосам: «Ладно, спрашивайте». — Вчера он опоздал на работу, как говорят, по семейным обстоятельствам. Что у вас случилось? — Дела, дела, провались они пропадом. Знать бы наперед, все бы я бросила. У нас перед Новым годом Васька заболел и в садик не ходил. За праздники пришел в себя, поправился. А чтобы в сад вести, нужно справку взять в поликлинике. Наш участковый врач принимала с обеда. Утром с ним Толик был. Он же и повел сына к врачу. Вот и задержался. Знала бы я, с работы отпросилась, сама бы пошла. Да, что там говорить… — А каким он вообще был, ваш муж? Расскажите немного о нем. — Толик… Каким был Толик… Был… — она помолчала, снова глядя в окно. — Он был хорошим. Добрым был, веселым, заботливым, ласковым. Знаете, как мы познакомились? Весна была. Я однажды с работы возвращалась, хороший такой вечер стоял. Вдруг у тротуара синий фургон с белой полосой останавливается и вылезает оттуда парень, а в руках у него огромный, ну, прямо, огромный букет сирени. Отдал он мне его и сказал: «У вас, девушка, лицо очень хорошее. Хочу, чтобы оно всегда было таким». Я опомниться не успела, а он прыгнул в кабину и уехал. На следующий день снова встречает и снова — сирень. Потом я узнала, что Толик на четвертом маршруте работает, на самой окраине, где когда-то частные домики стояли. Их сломали, а палисадники остались и сирени там было видимо-невидимо. Вот он каждый день ее для меня и обламывал. У нас с ним все хорошо было, по-честному. Он мне не врал никогда, даже если выпьет где-то с ребятами или задержится. Да я никогда и не думала ничего про него такого. Он ясный был весь. Мы после свадьбы комнату снимали, так хозяйка все удивлялась, сколько он мне по дому помогает. И в магазин ходил, и обед готовил, и уборку делал. Не то, чтоб за меня, а как-то поровну мы с ним все делили. А потом мне на работе эту квартиру дали. У них-то на базе с жильем туго. В это время Петька родился. Приехали мы сюда, Толик все в квартире наладил. Он очень любил это дело. Бывало, все выходные возится. Я уж и ругаюсь: плюнь, говорю, ты на нее, отдохни лучше. А он говорит, что наш дом должен быть самым уютным на свете, потому что в нем живет самая красивая женщина. Это я, значит… Тамара замолчала, отвернувшись к окну. Алексей тоже молчал. — Ну вот. А потом Васька появился. Хлопот прибавилось, но Толик их вроде и не замечал. После родов я болела, Толик сам с обоими мальчишками управлялся. Помогать-то нам было некому. Мои родители далеко отсюда живут, в Казахстане, а он вообще детдомовский. Только на себя и надеялись. Так и жили, не тужили. — Не совсем же одни вы были? Друзья, наверное, как-то помогали, товарищи по работе. — Друзья, конечно, помогали. У Толика приятелей было много, в основном с базы, кое с кем из детдома переписывался. А по-настоящему дружил, пожалуй, только с Сережкой Поляковым. Они работают вместе. Сережка — бригадир Толика. И жену его, Ларису, я хорошо знаю. Праздники обычно вместе встречали, летом отдыхали тоже вместе. Да и так частенько друг к другу забегали, они не очень далеко живут. Вот и Новый год нынешний у Поляковых отмечали. Даже снимки остались. Тамара достала из тумбочки из-под телевизора альбом и протянула его Садовникову. — Вот снимки. Их позавчера Толик сделал. Мы в воскресенье на лыжах собирались покататься, хотели там Поляковым и отдать. Алексей рассматривал новогодние снимки Толика. — Вы вчетвером встречали? — спросил Садовников. — Вчетвером. Традиция у нас такая, какой год уж так встречаем… — Тамара, постарайтесь вспомнить, с кем еще поддерживал Толик близкие отношения? Может быть, в последнее время он с кем-то встречался, может быть, какие-то новые знакомые у него появились. Ничего он не рассказывал? — Да нет, вроде. Он от меня ничего не скрывал, я же говорила. Знакомые? Что-то не припомню таких разговоров. Вот незадолго до Нового года с Гришей Бромбергом они встречались, так он не новый, а старый знакомый. С Сережкой Поляковым, с тем в школе вместе учился. Да с Гришей-то они по делу виделись. Вон, карнизы у нас над окнами висят, это Гриша делал, причем бесплатно. Он в какой-то мастерской работает и все на свете умеет. Сережка про него говорит, что Гриша умеет жить на полную катушку. А мне он понравился, вежливый такой, представительный, и не подумаешь никогда, что в какой-то шарашкиной конторе обитает. — А раньше у вас этот Гриша бывал? — Заходил. У Поляковых несколько раз с ним встречались. Однажды в гостях у него были. Посмотрела я и подумала: «Умеют жить люди». Такие квартиры я только в журналах иностранных видела. Даже завидно стало. Сказала я об этом Толику, когда домой возвращались. Он тоже согласился, что квартира у Гриши — игрушка. А потом сказал, что и мы свою можем не хуже отделать, надо только захотеть и постараться немного. Вот эти закрытые карнизы они с Гришей придумали. Кому они нужны теперь? Тамара упала на стол и зарыдала в голос. Алексей встал, налил воды, поставил стакан возле нее и тихонько направился к двери. По дороге заглянул в соседнюю комнату. Там сидели притихшие мальчики и испуганно прислушивались к рыданиям матери, доносившимся из-за стены. Садовников оделся и, стараясь не хлопать дверью, вышел на лестничную клетку. Домой он ехал в сравнительно пустом автобусе. Час «пик» уже миновал. К великому его удивлению, Михаил оказался дома и, что уж совсем поразило Алексея, сидел за книгами. — Что это с наследником-то? — спросил он у жены, усаживаясь за стол. — Остепенился, что ли? — Не думаю. Судя по телефонным разговорам, Люда заболела. — Кто это, Люда? — Ну, Люда. — Понятно, — сказал Алексей, принимаясь за жареную картошку. — Грех, конечно, чужой болезни радоваться, но в нашей ситуации не радоваться нельзя. Вот жизнь закручивает. Вечером позвонил Малов. — Что у тебя там, Алеша? — Серьезного пока ничего. Был у Березиных, говорил с вдовой. Проявился некий Бромберг, с которым Березин в последнее время встречался. Работает в какой-то артели, живет, по словам Березиной как бог. — Ты, Алеша, посмотри на этого бога. Может быть, он сатана переодетый. И не тяни, пожалуйста. — Понимаю, Юра. Делаем пока, вроде, все, что надо. — Это я так, для порядка. Как Маришка-то? — Нормально, суп варит. — Вот золотая женщина! Занимается тем, что ей и положено по природе, домашним очагом. А у моей сегодня ученый совет, придет неизвестно когда. Я, Алеша, понял, что все наши беды проистекают только от эмансипации. Честное слово! Не будь ее, порядку было бы больше, согласен? — Да как сказать… — промямлил Алексей. Он-то знал причину такого заявления своего друга. С Маловым Садовников дружил второй десяток лет. Вместе начинали они работу в органах, вместе потом учились в Академии МВД, вместе работали в уголовном розыске. Должность Юрия никак не повлияла на их отношения. Единственно, что на службе перестали называть друг друга по имени, особенно при посторонних. Дружили они семьями, много лет, и никогда а служебные отношения не подмешивали личные. Так было легче. Все перипетии семьи Маловых Садовников знал, как свои собственные. Знал, что в свое время Юрий настоял на том, чтобы его жена Зинаида закончила институт, хотя у них уже родилась дочка и молодым родителям приходилось круто, особенно с учетом специфики профессии отца. Знал он, что потом Малов чуть ли не силой заставил жену работать над диссертацией. А когда она стала сперва кандидатом, а потом и доктором наук, страшно гордился этим. Он и сейчас гордился тем, что Зинаида — видный ученый, что ее приглашают на разные международные симпозиумы, что ее статьи печатают в толстых научных журналах. Малов, при всей его занятости, как-то умудрялся выкраивать время, чтобы помогать жене, хотя бы по дому. Но иногда, раз в полгода, его вдруг начинало заносить и он впадал в мужскую амбицию. Тогда он всячески ругал эмансипацию и свою загубленную бытом жизнь. Как правило, периоды эти бывали кратковременными и заканчивались с появлением Зинаиды в доме. Сейчас, видимо, настал один из них. Заранее зная, чем все это кончается, Алексей никогда не высказывал своего мнения по женскому вопросу. К тому же разговаривал он из кухни, а рядом у плиты возилась Маришка и было бы неразумным поддерживать категоричную позицию старого приятеля. Садовников передал трубку жене и с первых же ее слов понял, что все защитные позиции Малова будут сейчас разрушены железной женской логикой и тот сдастся на милость победителя.
СЛЕДУЮЩИЙ день начался у Алексея с доклада Гришина. Ничего утешительного капитан не сказал. Машина в отделение связи пришла в обычное время. Как всегда загрузилась. Все девушки, принимавшие участие в этой операции, в один голос утверждали, что никаких подозрительных людей рядом не было. Тем более, что шофер все время находился в фургоне, помогая раскладывать корреспонденцию. И уезжали они спокойно. Когда оператор уже вышла из почты, одна из девушек заметила вдруг на столе забытую ею шариковую ручку, решила вернуть, подбежала к машине. У фургона никого не было, оператор Света сидела в кабине, разговаривала с водителем. Они оба смеялись. Девушка отдала ручку, Света поблагодарила ее, и машина уехала. Вот, собственно, и все. — Этого достаточно, чтобы признать наш вариант с нападением у почты несостоятельным, — сказал Садовников. — Я подумал, что преступники могли остановить машину при выезде на улицу, но этот вариант тоже отпадает, потому что выезд расположен прямо у трамвайной остановки. В это время народу на ней более, чем достаточно. Если бы преступники решились на захват фургона именно здесь, им пришлось бы действовать прямо в толпе. — Пожалуй, вы правы, — согласился Алексей. — Вчера вдова Березина тоже не смогла назвать мне ни одного нового, подозрительного, знакомого мужа. Одна личность, правда, мелькнула в разговоре. Но она считает его человеком положительным во всех отношениях. — А вы? — Я пока никак не считаю. К Григорию Бромбергу нужно внимательно присмотреться. По словам Тамары Березиной, это человек, который умеет жить на полную катушку. Умение жить… Алексея прервал телефонный звонок. Он снял трубку и, выслушав первую фразу, махнул рукой Гришину, чтобы тот одевался. — Да, понял, — говорил Садовников. — Машина есть? Сейчас выезжаем. Алексей положил трубку и, на ходу застегивая пальто, побежал в коридор. — Позвонил какой-то парень дежурному, — рассказывал он Гришину, — и сообщил забавную историю. Парень занимается на курсах водителей в школе ДОСААФ. У них на окраине, но довольно далеко от Старой Канавы, есть своя площадка, где учатся вождению. Сегодня утром он нашел там в снегу удостоверение Светланы Зуевой. Площадка для обучения будущих водителей находилась у самой границы города. С одной стороны ее вдалеке виднелись многоэтажные дома, с другой — поле и за ним темная полоска леса. В ожидании милиции занятия не начинались. Курсанты и инструкторы стояли плотной кучкой у выстроившихся в одну линию автомобилей и горячо обсуждали случившееся. — Кто нашел-то? — спросил Садовников, поздоровавшись. — Я обнаружил, — сказал невысокий плотный паренек в зимнем солдатском бушлате. — Ну и как же это было? — Я сегодня первый сюда пришел. Пока ждал, начал расчищать площадку от снега — смотрю лежит, — парень протянул Садовникову маленькую книжечку в твердом переплете. На обложке ее виднелись бурые пятна. — Потом рассказал ребятам, в Александр Александрович велел вам позвонить. — Все правильно вы сделали, спасибо, — сказал Садовников и, обернувшись к пареньку в бушлате, попросил: «Покажи, где оно лежало». Паренек подвел его к краю площадки и показал на сугроб, окаймляющий ее. — Все ясно, — сказал Алексей. — Спасибо, иди занимайся своим делом, дальше мы сами разберемся. Паренек побежал к машине. Садовников и Гришин свернули на тропинку, ведущую к площадке из города, и не спеша пошли по ней. После прошедшего снегопада, тропинка еще не была протоптана, она скорее угадывалась в пухлых сугробах. Поэтому единственные следы, которые были на ней, хорошо просматривались. — Забавно, — сказал Алексей, изучая след. — Какой-то высокий спортсмен здесь проходил. На снегу ясно виднелись следы спортивных кед. Гришин вытащил из кармана маленькую рулетку, замерил. — Примерно, сорок второй размер и ростом чуть ниже вас. Немного косолапит, видите? — Скорее всего, шел на электричку. Нужно выяснить, какие поезда идут отсюда вечером в сторону города. Но, чтобы от Старой Канавы добраться сюда пешком, часа три нужно потратить. — Можно и не пешком. Транспорта в городе хватает. К тому же, если иметь в кармане четырнадцать тысяч, не грех и такси воспользоваться. Утопая в снегу, но не ступая на тропинку, двигались они к домам. Первые строения, которые попались им на пути, стояли отдельно от всего остального массива. Выглядели они несколько уныло и как-то обособленно. — Это что же такое будет? — спросил Садовников и посмотрел на Гришина. Тот хлопнул себя по лбу. — Ох, и мудрецы же мы! Это ведь общежитие. Вот тебе и спортсмен в белых тапочках. Не сговариваясь, они повернули к домам и пошли искать коменданта. Им оказался невысокий плотный человек, совершенно лысый, с жесткой щеточкой усов на верхней губе. На стареньком пиджаке его в несколько рядов поблескивали орденские планки. Разговор сперва не клеился. Комендант все пытался поведать о собственных нуждах и заботах и никак не хотел вникнуть в просьбу Садовникова. А просил Алексей рассказать о жильцах общежития, о молодых шоферах, строителях, монтажниках. Потом разговор переключился на спорт. — А у вас занимаются? — спросил Гришин. — Чем? — искренне удивился комендант. — Ни инвентаря, ни оборудования, какой уж там спорт. — Не обязательно верховой ездой увлекаться, — сказал Садовников, — можно, например, просто бегать. Для этого ничего не требуется, кроме кед, например. — Бегать… — помрачнел комендант. — Наши бегают, это точно. Только на одну и ту же дистанцию: до магазина и обратно. — А вчера кто-нибудь бегал? — Вчера у них общекомнатный сбор был. Начальство наше профсоюзное приезжало. Собрание устроило. Ребята и давай им все рассказывать. Те красные сидели, не успевали пот вытирать. Проговорили часов до десяти. Да толку-то от этих разговоров?! Не первый раз беседовали. — И все жильцы были на собрании? — Как один. Такое развлечение у нас никто не пропускает. В кои-то веки можно начальству в глаза все высказать! Это у нас любят. — А «Кот» тоже был? — неожиданно даже для Гришина спросил Алексей. — Селиванов-то? Конечно, куда ему деться? Тем более, что из наших горлодеров он, считай, первый. — Повидать его нельзя? — Отчего же? Пашка день в первую, день во вторую работает. Вчера был с утра, значит, сегодня вечером, — комендант посмотрел на часы. — Зайдите к нему, не должен еще уйти-то. — Где он обитает? — На первом этаже, в двадцать седьмой комнате. Они вышли от коменданта и направились по пустому коридору в самый его конец. — Неужели… — тихонько спросил Гришин. — Посмотрим, — так же тихо ответил Алексей. — Что-то уж больно легко все получилось. У последней перед умывальником двери они остановились. На серой ее скучной поверхности была прибита синяя табличка — «127». Видимо, по принятой здесь системе нумерации это обозначало и этаж и номер комнаты. Садовников постучал. — Войдите! — раздалось из-за двери. Обитель новоиспеченного «Кота» не поражала убранством. Три кровати, шкаф, тумбочки, стол в центре. За столом сидел плотный парень в синем спортивном свитере и брился перед маленьким зеркалом. Чувствовалось, что к этому занятию относится он с большим прилежанием и отдает ему немало времени. Доказательством тому служили роскошные, украшавшие круглое курносое лицо Селиванова усы. Алексей представился. Неожиданным гостям Селиванов страшно удивился и испугался. Пышные усы его сразу как-то сникли, и на лице застыло выражение обреченности. Он суетливо пододвинул им стулья, сел сам, потом встал, походил по комнате, снова сел, ерзая и пряча под столом руки. Садовников молча и с интересом наблюдал за всеми его переменами. Потом спросил: — Скажите, Селиванов, почему вас зовут котом? — Что? Ах, котом… Да, пустяки. Это из-за усов. Отрастил я их, вот ребята и прозвали. — Все так и кличут? — Так и кличут. — Где вы были вчера вечером? — Дома. То есть здесь, в общежитии. Собрание у нас происходило в красном уголке. Сразу после работы там сидел. Спросите, хоть у кого… — Спрашивали уже, — Алексей вздохнул. — Скажите лучше, кто из ваших знакомых решил вас в тюрьму посадить? — Меня? В тюрьму? — Селиванов совсем смешался. — За что? Я же ничего такого не сделал! — И тем не менее, — жестко сказал Садовников. — В городе совершено преступление, и преступник указал на вас. Давайте вместе подумаем, кто бы это мог быть. — Да что вы! Нет у меня таких знакомых! — Есть, Селиванов, есть. Давайте вспоминать, с кем вы знакомы, с кем дружите. — Ну с кем? С нашими ребятами, больше из общаги. Или с шоферами из своей колонны. Я их знаю много лет. Хорошие ребята… — Кроме… — Селиванов задумался. — Надо посмотреть. Знаю одного парня, неподалеку тут живет. Я ему машину торфа как-то подбросил. Потом еще один деятель есть. В мастерской по ремонту квартир работает. Мы с ним в пивбаре познакомились, несколько раз там и встречались. Еще знаю одного, токарем на механическом вкалывает. В одном доме со знакомой девушкой живет. Вот, вроде, и все, — заключил Селиванов. — Может быть, среди шоферов других организаций есть друзья? — попытался помочь ему Гришин. — Откуда? — отмахнулся Селиванов, потом после долгой паузы вдруг сказал: — А может, и есть, как считать… Меня раз остановил водитель почтового фургона, попросил бензинчика. У них с этим делом туго, поскольку на маршрутах работают, а у него какое-то свое дело было, калым, одним словом. Я помог, конечно. — Бесплатно? — спросил Алексей. — Не совсем, — смутился Селиванов. — И что дальше? — Потом еще несколько раз мы с ним встречались по этому же поводу. — Сюда он заходил? — спросил Алексей. — Был однажды. Я ему рассказал, как найти, если приспичит. Да, господи, бензина-то я продал каплю, честное слово. И когда это было! — Когда? — Летом еще. С тех пор ни разу не продавал, вот честное слово! — Потом будешь оправдываться. Как звали-то этого шофера? — Михаил. Он у них начальник какой-то, так я понял. Небольшой, но начальник, шишка на ровном месте. — А номер машины его не запомнил? — Зачем? Дважды на трассе встречались, кстати, по-моему, он оба раза был на разных машинах. — Понятно. Ничего больше про этого Михаила не помнишь? — Нет. Знакомы-то шапочно. А бензин я, правда, больше не продавал, хоть у кого спросите. — Надо будет, спросим. Спасибо и на этом. До свидания, Селиванов, Выбирай себе знакомых осторожнее, понял? — Как не понять. Да разве каждому в душу заглянешь? С виду-то ведь все хорошие люди. Алексей с Гришиным вышли на улицу и молча направились к машине. — Вот тебе и «Кот», — сказал Садовников. — Опять кот, да не тот, — откликнулся Гришин. — Не скажи. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что преступление совершил скорее всего кто-то из работников базы. Или из знакомых. И на Селиванова преступник вывел точно. Удостоверение на площадке, рядом с общежитием. Правда, толку от всего этого немного. Может быть, просто рассчитывал выиграть время? Надо заниматься окружением убитых. Фургон-то ведь все-таки знакомые остановили, это бесспорно…
ВЕРЕНИЦА скорбных машин медленно двигалась по городу. Люди на тротуарах останавливались. Водители встречных автомобилей провожали процессию длинными гудками. Такова давняя традиция шоферов. Алексей ехал в автобусе с работниками автобазы и, покачиваясь на сиденье, прислушивался к разговорам в салоне. Атмосфера здесь, как подобает случаю, царила скорбная. Но потом люди разговорились. Кто-то вспомнил, как Толик помог ему отремонтироваться на морозе. Кто-то рассказал, как они вместе ездили на рыбалку, и Березин наловил больше всех окуней, а жена его, Тамара, сварила очень вкусную уху. О Светлане Зуевой говорили меньше, может быть, потому, что в автобусе ехали, в основном, мужчины, водители, которые вместе с Толиком были связаны по работе общими шоферскими заботами. — Я как раз из диспетчерской выходил, когда он к воротам поехал, — рассказывал высокий сухощавый парень в овчинном тулупчике. — Помахали друг другу рукой. А оказалось, в последний раз помахали. — Так ведь кто же знал? — поддержал разговор его сосед. — Я-то его машину на линии видел. Удивился тогда, чего это, думаю, Толян туда забрался? По Красногвардейской еду, вижу, впереди наша машина, нагнал — Толя. А маршрут вроде и не его. На перекрестке он свернул в сторону, на Колхозную. Через нее вообще-то можно и к его объектам проехать, только крутиться дольше. Может, я его последним и видел. Алексей осторожно оглянулся на рассказчика. То была скорее чисто профессиональная привычка, чем осознанная необходимость. Показания водителя могли пригодиться в ходе расследования, а могли и не представлять никакой ценности, мало ли кто в этот день видел Березина. Но, руководствуясь своим старым правилом — не пренебрегать никакими мелочами, Садовников решил запомнить шофера. — Плохо, когда люди гибнут, — тяжело произнес здоровенный парень в лохматой синтетической шубе. — Ведь только жить начал. Квартиру обставил, детьми обзавелся, жена ему хорошая попалась… Трудно теперь Тамарке-то с двумя будет. — Пенсию, чай, платить станут, — откликнулся кто-то. — Пенсию-то дадут, это закон. Да разве сравнишь ее с заработком мужика. Толик-то ведь зарабатывал неплохо. У него и премии, и сверхурочные были. Толикин кореш-то вон, Серега, аж заболел с расстройства. И это тоже понятно. Дружили они крепко. Только ведь и он отойдет со временем. Свои дела закрутят. — Серега-то раньше заболел, он и не знал, что случилось такое, — снова вступил в разговор кто-то невидимый Алексею. — Как это раньше? Его на следующий день уже на работе не было, бюллетенил он. — Ну и что? А заболел он в тот же самый день, когда Толика не стало. Я тогда на мойке был, не выезжал на линию. Аккурат, как Березин выехал, так примерно через час смотрю, Серега идет и за живот держится. Я его спрашиваю, что, мол, с тобой? А он рукой махнул, прихватило, дескать, как всегда не вовремя. Отпросился у начальства и пошел домой. — Это не факт, — продолжал здоровенный. — Он мог отлежаться за вечер и назавтра выйти, а тут узнал, наверное, и совсем слег, потому как перенервничал…
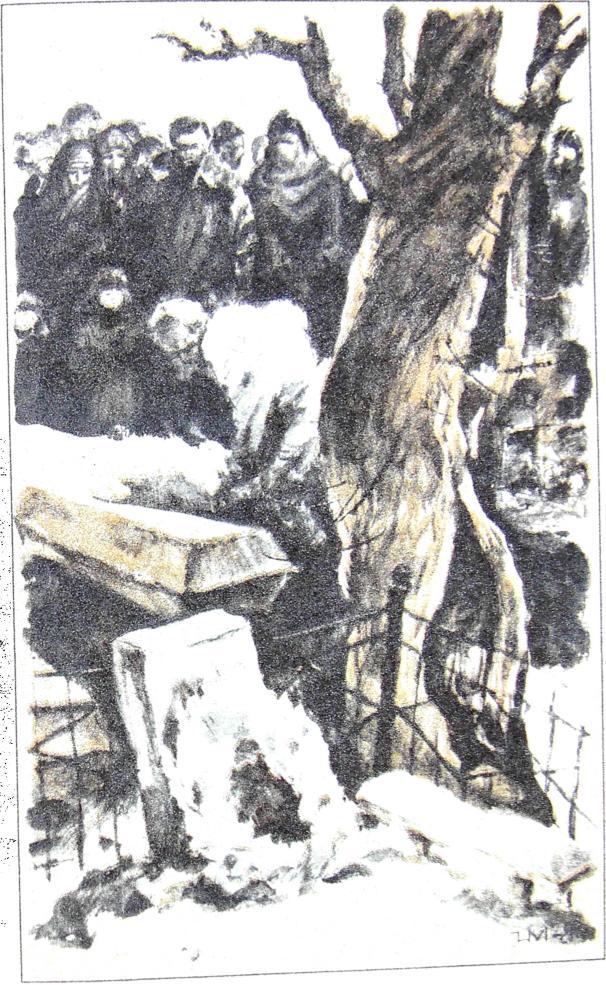 Автобусы подъехали к кладбищу, и в салоне установилась тишина. Вместе со всеми из салона вышел и Алексей. По узкой, протоптанной в глубоком снегу, тропинке он пошел к месту захоронения. На коротком прощальном митинге он почти ничего не видел. Его оттолкали в сторону. Садовников взобрался на железную ограду. Отсюда было видно только темную толпу людей, два ярко-красных гроба на голубовато-белом снегу, две горки рыжей смерзшейся земли. Выступали какие-то люди, говорили о Березине и Зуевой. Рядом с выступавшими стоял муж Светланы Зуевой с ребенком, Тамара с сыновьями. Их поддерживал за плечи Сергей. Алексею было видно его заострившееся лицо с проступившими жесткими складками у рта. Весь он был натянутым, как струна, которая готова была вот-вот лопнуть.
Автобусы подъехали к кладбищу, и в салоне установилась тишина. Вместе со всеми из салона вышел и Алексей. По узкой, протоптанной в глубоком снегу, тропинке он пошел к месту захоронения. На коротком прощальном митинге он почти ничего не видел. Его оттолкали в сторону. Садовников взобрался на железную ограду. Отсюда было видно только темную толпу людей, два ярко-красных гроба на голубовато-белом снегу, две горки рыжей смерзшейся земли. Выступали какие-то люди, говорили о Березине и Зуевой. Рядом с выступавшими стоял муж Светланы Зуевой с ребенком, Тамара с сыновьями. Их поддерживал за плечи Сергей. Алексею было видно его заострившееся лицо с проступившими жесткими складками у рта. Весь он был натянутым, как струна, которая готова была вот-вот лопнуть.
ПРИЕХАВ к себе в отдел, Алексей выяснил, что Гришин еще не вернулся. Дежурный передал ему телеграммы из различных исправительно-трудовых учреждений, где пребывали когда-то проживавшие в городе люди по кличке «Кот». Следовательно, ни один из них к совершенному преступлению отношения иметь не мог. Алексей аккуратно сложил телеграммы и пошел к Малову. — Успехами порадуешь или какие новые мысли посетили? — спросил Юрий Александрович. — Никаких особенных успехов, да и мыслей тоже нет. — Может быть, у Веретенникова что-либо прояснилось? Давай потолкуем с ним. — Малов набрал номер. Веретенников пришел быстро, положил тоненькую папочку на стол, уселся в глубокое кресло. — Нам, к сожалению, хвастать нечем, — сказал Малов. — К розыску подключены едва ли не все силы. Но результатов пока нет. Такие вот дела. Найденное удостоверение Зуевой, конечно, говорит кое о чем, но при этом ваш с Гришиным визит в общежитие дал немного. Можно, конечно, предположить, что преступник или преступники уехали из нашего города, — продолжал Малов. — Вряд ли они уехали, — предположил Веретенников. — Я думаю, что преступник пытался запутать следы. Как думаешь, Алексей Вячеславович? — Вполне возможная вещь, — согласился Садовников. — Тогда тем более, нужно искать у нас, — подтвердил Малов. — Надо, пожалуй, проверить все отделения связи, в которых они побывали в этот день и сопоставить по времени, — сказал Веретенников. — Может оказаться разрыв, и тогда хоть приблизительно установим место преступления. — Проверяли. Фургон своевременно прибывал на объекты. Да и смысла не было нападать на него, пока «урожай» не собрали. С последней почты они уехали в срок. После этого все и началось. Неясно только, где их остановили. До почтамта, куда сдается корреспонденция, путь проходит через самую оживленную часть города. — Считаешь все-таки, остановили? — переспросил Малов. — Уверен. Не с вертолета же налет совершали. — Надо еще раз тщательно проверить все связи Березина и Зуевой. Мне кажется, что именно здесь мы найдем зацепку. Если они остановились, то только потому, что их просил об этом какой-то знакомый, причем, не вызывающий подозрения. Как считаете? — спросил Малов. — Пожалуй, — согласился Веретенников. Алексей молча кивнул. — Все остальные версии пока отложим в сторону, тем более, что никаких других вариантов вы предложить не можете. И давайте четко отработаем эту версию. Товарищ майор, вы предварительно ознакомились с людьми, окружающими Березина? — Так точно. — Есть что-нибудь? — Пока ничего… А впрочем, Бромберг… — Займитесь им, Алексей Вячеславович. Он ведь где-то в сфере обслуживания работает? — В мастерской «Металлоремонт». — У таких людей круг связей обширен. Мало ли кто в нем может оказаться. Посмотрите сами, ладно? Малов поднялся, давая понять, что разговор окончен. Встали и Садовников с Веретенниковым. В кабинете маялся Гришин. По его насупленному и отрешенному лицу чувствовалось, что сидит он здесь уже давно, что ему это надоело и что никаких обнадеживающих новостей у него нет. — И что? — предельно бодро спросил Садовников. — И ничего, — ответил Гришин. — Хоть бы один человек что худое сказал про Зуеву. Не только на работе, но и соседки все в один голос ее хвалят. — Чем же ты недоволен? — Как-то неестественно это. — Неестественно, что она была хорошим человеком? Тебя, Андрей, профессия портит. Это-то как раз нормально. Такими люди и должны быть. Неестественно, что она погибла, это факт. — Просто ни одной зацепки нет. Была отличной матерью, замечательной женой, великолепным работником, дружила с хорошими людьми, была приветливой, веселой, доброй. Людям помогала, как могла. Уважали ее все. Вот такие дела. — А знакомые, подруги? Приятели? — Проверял. Такая же картина. — Может быть, мужчина? — осторожно спросил Алексей. — Мало ли что в жизни бывает… — Эта мысль и мне приходила. Ничего не было. — Тогда давай подумаем, может быть, кто-то воспользовался ее добротой, ее отзывчивостью? — Я подготовил список знакомых. Вот он. — Давай его мне, я завтра с утра начну его отрабатывать. А для тебя есть одно маленькое дельце, чисто формальное, по-моему, но нужно сделать, чтобы душа потом не болела. Сегодня на похоронах шоферы говорили, что дружок Березина бригадир Сергей Поляков ушел в тот злополучный день с работы почти сразу же после выезда Березина на линию. Сказал, что заболел живот, и ушел. Выясни, пожалуйста, как там все было на самом деле. На похоронах я его видел, на вид он действительно нездоров.
С УТРА Садовников был в отделе. Знакомых, друзей у Березина и Зуевой оказалось предостаточно. Алексей звонил, расспрашивал, записывал, снова звонил, в общем, дел хватало. Чем больше он занимался людьми, окружающими Светлану и Анатолия, тем яснее становилось, что среди них вряд ли удастся отыскать преступников или хотя бы тех, кто бы их знал. Перед обедом позвонил Гришин. — Факт ухода Сергея Полякова с работы в тот день действительно имел место, — сообщил он. — А как это выглядело? — Обыкновенно. Начальство говорит, что у него частенько бывают приступы. Желудком страдает. К этому здесь уже привыкли. В тот день его вроде тоже прихватило. Он пришел к заместителю начальника базы и попросил его отпустить. Тот, как обычно, посочувствовал и отпустил. Вот, собственно, и все. — А в поликлинику он обращался? — Видимо, да, поскольку сейчас он находится на бюллетене. — Понятно. — Мне возвращаться в отдел? — Возвращайся. Только одна просьба есть. По дороге зайди в поликлинику, где состоит на учете Поляков, и поговори с медиками, чем он страдает, давно ли, и что с ним случилось в интересующий нас день. Хорошо? — Будет сделано. Алексей повесил трубку и задумался. Если Поляков ушел по болезни с работы, значит в тот день он должен был прийти домой около семнадцати часов. Скорее всего так оно и было. Однако проверить, пожалуй, не мешало бы, чтобы потом уже не возвращаться к этой версии. Он снова набрал номер участкового инспектора, обслуживающего микрорайон, где жил Поляков, пригласил старшего лейтенанта зайти к нему. Поскольку у самого Садовникова дел сегодня было невпроворот, он попросил инспектора сходить к Полякову домой и осторожно выяснить, когда он вернулся с работы четвертого января. Дом, где жил Поляков, инспектор Стефанов знал хорошо. В этом подъезде проживал гражданин Дробот, домашний хулиган. В повседневной, трезвой жизни был Дробот человеком скромным, если не сказать незаметным. Трудился он в каком-то заштатном конструкторском бюро, с осени до весны ходил в плащевой куртке на искусственном меху и когда возвращался со службы, нагруженный продуктами, норовил через двор проскочить быстрой тенью. Таким он был до тех пор, пока не выпивал. Выпив, Дробот преображался. Правда, на улице он и тогда опасался вести себя вызывающе, но дома характер показывал. Причем самовыражался Дробот весьма оригинально. Явившись домой и взяв молоток, он начинал методически крушить стулья, столы, книжные полки… Нанося сокрушительные удары, он всегда произносил одну и ту же замысловатую фразу: «Примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении». На Доброта жаловались соседи, жаловалась жена, хотя и говорила при этом, что ни на нее, ни на детей, а их было двое, глава семьи руки никогда не поднимал. Да и к остальным домашним вещам он относился вполне терпимо. Посуду, например, никогда не бил. Напротив, разгромив стол на кухне, любил попить чайку на полу и потом аккуратно мыл чашку и блюдце. Стефанов несколько раз беседовал с гражданином Дроботом. Тот, сгорая от стыда и смущения, пряча лицо в выцветший зеленый шарф, каждый раз искренне осуждал себя и клятвенно обещал исправиться. Однако первая же выпивка все возвращала на круги своя. Когда в очередной раз в милицию позвонили соседи и пожаловались на традиционное крушение мебели, Стефанов решил применить к дебоширу крутые меры. В квартиру он вошел в тот момент, когда гражданин Дробот разделывался с пластмассовой кухонной табуреткой. Работа, видимо, не очень ладилась. Пластмасса на удары молотка реагировала слабо. — Примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении, — сказал Стефанов и натужно кряхтя пододвинул к Дроботу здоровенный посудный шкаф. Хулиган долго и внимательно осматривал его как столяр перед ремонтом, потом поднялся, убрал молоток, остатки табуретки и, просветленно глянув на Стефанова, ответил: — Спасибо, но за эту вещь я не возьмусь. Извините, пожалуйста. — Валяйте, — настаивал Стефанов. — Дерева в нем много. Лупите себе на здоровье. Не стесняйтесь. — Нет, нет, — горячо отозвался Дробот. — Ни в коем случае, ни в коем случае. Позвольте, я провожу вас. Он надел свою знаменитую куртку и вместе с участковым инспектором вышел из подъезда. По дороге они немного поговорили о всякой всячине. Потом Дробот вернулся домой и спокойно сел пить чай за столом. С тех пор в его сознании что-то перевернулось. К мебели он стал относиться с уважением. Во всяком случае жалоб на него больше не поступало. Обо всем этом вспоминал Стефанов, шагая к дому Полякова и соображая, как бы ему, не привлекая внимания, выполнить задание Садовникова. Заодно не мешало бы зайти и к Дроботу, узнать, как живет, не появилось ли у него новое хобби. Стефанову повезло. У Поляковых, кроме престарелой мамаши, Полины Владимировны, никого дома не было. Участковый поздоровался и, пройдя в тесную кухоньку, присел на стул. Следом, подозрительно поглядывая на него, села хозяйка. — Хочу спросить у вас, Полина Владимировна, — начал Стефанов. — Рассказывают, будто Дробот опять бушевал вечером четвертого числа, не слышали? — Только мне и делов, что этого психа слушать, — ответила Полина Владимировна. — Какой же он псих? — удивился Стефанов. — Нормальный человек, только пить не умеет. — Нормальный человек свое добро портить не станет. Он в дом будет нести, а не из дому, так-то, сынок. — Это уж у кого как. Так, говорите, не слышали ничего четвертого-то? — Ничего не слышала. Да и некогда мне. — Может, из ваших кто слышал? Сергей или Лариса? Они-то дома были в это время? — Были, как не быть. Конечно, дома были. Лариса-то на работе сейчас, вот придет, ты ее и спроси. А Сережа к врачу пошел в поликлинику, болеет он. — Что с ним? — Да живот, будь он неладен. Молодой мужик, а мается, хуже деда старого, глядеть не хочется. — Когда же это он заболел-то? — А вот четвертого числа аккурат и заболел. Четвертого как раз и прихватило его. Прибежал с работы белый как мел, упал на диван, так и пролежал весь вечер. Лариска-то ему уж и капли давала, и порошки, да не очень они помогают нынче. Всю ночь, говорит, маялся, а утром врач пришел, бюллетень ему выписал. — Болезнь — дело худое, конечно, — поддержал разговор Стефанов. — Что же, его прямо на работе скрутило? — На работе, сынок, на работе. Пришел он рано. Я аккурат на часы взглянула, а тут звонок, Сережка, значит, пришел. А на часах-то без пятнадцати пять как раз было, я и запомнила. — Понятно. А про Дробота, значит, ничего не слышали. — Ничего не слышала. А Сережка как пришел, так и лег сразу, и лежал весь вечер. — Спасибо, Полина Владимировна, пойду еще у кого-нибудь порасспрашиваю. Полина Владимировна проводила Стефанова до двери и долго потом щелкала за его спиной замками. По соседям участковый инспектор не пошел, поскольку ответ на свой вопрос получил и необходимо было об этом доложить товарищу Садовникову. Однако, выйдя из подъезда, он вынужден был задержаться. На лавочке, несмотря на январскую стужу, сидела бабушка Никитина. Она жила на первом этаже, и окно ее комнаты выходило прямо к подъезду. Целыми днями просиживала старушка или у окна, или на лавочке. Бабушка Никитина точно знала, кто и когда пришел с работы, в каком виде, что купил, у кого были гости, в каком часу разошлись, кто чем болен, к кому приходил доктор, что прописал. Одним словом, она являлась источником самой различной информации о соседях, их делах. — Здравствуйте, бабушка, — вежливо поздоровался Стефанов. — Здравствуйте, здравствуйте! — охотно откликнулась старушка. Чувствовалось, что, сидя в полном одиночестве на холодной лавочке, она очень тосковала по собеседнику. — Чего это к нам в гости пожаловал? Чай, провинился кто или ребятишки набедокурили? Эти-то могут… Раньше за малые провинности родители ох как наказывали. Боялись мы их. А теперича старшие сами вытворяют невесть что, и дети в них идут… — Это кто же вытворяет? — Да есть у нас тут… С виду-то вроде порядочные, одеты прилично, а на самом деле… — В вашем подъезде, бабушка, люди неплохие живут. — Я разве хаю их? — вскинулась Никитина. — Конечно, люди у нас хорошие… Только не все. Взять Сережку Полякова. Ничего не скажу, справный мужик. И дом у него обихожен, и жена видная, а за дитем присмотру нет. Мать-то его, Полина, разве может с внуком управиться? Где ей, старухе! Тут стражник с ружьем и тот отступится. — А что Поляков? — насторожился Стефанов. — Парень действительно неплохой. Работящий, трезвый, болеет вот только. — Это кто, Сережка трезвый? Да я намедни видела его пьянее вина, домой еле пробирался. — Когда же это было? — А вот третьего дня и было. Идет, лыка не вяжет, ноженьки одна за другую заплетаются, сообразить ничего не может, а насмешки строить пытается. Я ему говорю, мол, вечер добрый, Сережа. А он отвечает: «Здравия желаю, товарищ часовой!» — Постой, постой, бабушка, — перебил ее Стефанов. — Когда, говоришь, ты его видела-то? — А вот третьего дня и видела. Да что он, первый раз, что ли? Каждую неделю пьян бывает. — Третьего дня, это значит четвертого января? — Может, и четвертого. Я в численник не смотрю, чтобы каждого алкаша отмечать. — Вы говорите, он не один был? — Не один, с дружком своим закадычным, таким же выпивохой. — А во сколько примерно вы их встретили-то? — Да вечером уже. Чайку я попила и вышла перед сном воздухом подышать. Тут они и заявились. — Ну, а во сколько вы, бабушка, чайку-то попили? — взмолился Стефанов. — Сколько примерно время-то было? — Точно не скажу, а только когда я чай пила, по телевизору малышам спокойной ночи говорили. — То есть вы их встретили около половины девятого вечера, причем Поляков был с товарищем и оба нетрезвые так? — Пьянущие оба и безобразные, — с удовольствием согласилась Никитина. — Ну, вот что. — Стефанов выпрямился и принял сугубо официальный вид. — Гражданка Никитина, вы приглашаетесь для дачи свидетельских показаний.Сейчас поедете со мной. — Да ты что?! — испугалась старушка. — Куда это я поеду? У меня дел-то еще невпроворот. Да и в чем это я провинилась-то? Никого не трогаю, живу тихо, спокойно, люди от меня одно добро видят, хоть кого спроси… — Не волнуйтесь, гражданка Никитина. — Стефанов уж и сам не рад был, что так официально повел разговор. — Ни в чем вы не виноваты. Наоборот, ваш рассказ очень поможет одному хорошему человеку. Мы только к нему съездим, а обратно я вас на машине подвезу. Времени на это уйдет немного, а дело важное сделаете, государственное. — Ишь ты, государственное, — недоверчиво протянула бабушка Никитина. По ее тону чувствовалось, что такая перспектива ее устраивает. — Именно государственное, — поддержал идею Стефанов. — Наше руководство вам спасибо скажет, а может, даже и грамотой наградит. Против грамоты бабушка Никитина устоять не могла. Она небрежно бросила участковому инспектору: — Коли уж без меня нельзя, вези. Стефанов боялся только одного, что Садовникова не окажется в горотделе. Он позвонил, и на его счастье Алексей снял трубку. — Товарищ майор, — прикрывая рукой трубку, докладывал Стефанов, — обнаружил очень ценного свидетеля. Говорит, что Поляков четвертого января пришел домой в половине девятого и в нетрезвом виде. — Что? — Алексей на другом конце провода даже растерялся поначалу, никак не ожидая такого развития событий. — Немедленно вези сюда. Я на месте. Понял? — Так точно. Понял.
ЗВОНОК Стефанова был действительно неожиданным для Садовникова. В кабинете у него в это время сидел Гришин, который вернулся несколько минут назад из поликлиники и рассказывал о своем визите к медикам. В поликлинике все оказалось примерно так, как и ожидал Алексей. Лечащий врач Полякова рассказала, что у Полякова язвенная болезнь. Страдает он этим давно, несколько раз лечился в стационаре, в санатории. Обострения случаются, чаще всего это происходит весной и осенью, как у большинства язвенников. Причиной приступа может явиться нервное потрясение. В случае приступа врач рекомендовал Сергею отпрашиваться с работы. Примерно так, по словам врача, все происходило и на этот раз. Пятого января утром Поляков вызвал доктора на дом. Он констатировал обычный приступ язвенной болезни, назначил лечение. Считает, что через пару дней Поляков сможет выйти на работу. Гришин попросил показать ему карточку больного. Ему принесли весьма увесистый фолиант, в котором были записаны все случаи обострения язвенной болезни. Выслушав Гришина, Алексей в душе обрадовался, что эта версия отпала. Вначале, узнав, что Сергей в тот день ушел с работы раньше, у него шевельнулось подозрение и он решил его проверить. Теперь, когда вроде бы все было закончено с Поляковым, он уже было собрался посвятить капитана в свои дальнейшие планы, обсудить их наметить совместные действия, как вдруг позвонил Стефанов. До приезда участкового инспектора ничего нельзя было ни выяснить, ни предпринимать. Анализируя полученную от Стефанова информацию, он пытался увязать ее со всеми остальными фактами, имеющимися в его распоряжении. Согласно поддакивая Гришину, Алексей просчитывал время от предполагаемого момента совершения преступления до появления Полякова дома и приходил к выводу, что как раз к началу девятого он и должен был оказаться у себя. Наконец снизу позвонил дежурный, доложив, что участковый инспектор прибыл. Вместе со старшим лейтенантом в комнату вошла невысокая старушка, повязанная платком, с глазами, выцветшими от возраста, но живыми и бойкими. — Вот, товарищ майор, гражданка Никитина, — сказал Стефанов. — Здравствуйте, — приветливо поклонился Садовников. — Раздевайтесь, садитесь, пожалуйста. Старушка раздеваться не стала, только размотала платок на голове и присела к столу. — Он говорил, — она показала на участкового инспектора, — дело у вас ко мне важное. — Правильно. Дело действительно важное. Нас интересует, в какое время вы видели Сергея Полякова четвертого января. — Так я же про это уже рассказывала. — Если не трудно, повторите еще раз. Скажите, пожалуйста, что вы делали в тот вечер? — Обыкновенно, что. Значит, так. Дома была, чайку попила с джемом, потом решила на улицу выйти, а то что-то спать стала плохо, все прямо ночи напролет мучилась. — А сколько времени было, когда вы на улицу вышли? — Да, кто ж его знает?! Уж «спокойной ночи» прошло по телевизору. У меня в соседках маленькая девочка живет, так ей каждый вечер эту передачу показывают. А через стенку-то все слыхать. — Значит, вышли вы из дома, а тут и… — вернул старушку к теме Алексей. — Вышла. Постояла немного, смотрю, нет никого, не гуляет, значит, никто. У нас вечерами-то много народу выходит воздухом подышать, пенсионеры все больше. Теперь ведь как старики-то живут? Никаких забот не знают, только о своем здоровье и беспокоятся. — Вы, гражданка Никитина, расскажите товарищу про Полякова, — вмешался в разговор Стефанов, — все расскажите, как мне докладывали. — А что Поляков? Ну, идут они, двое, пьяным пьяные, мотает их, сердечных, со стороны на сторону и выражаются, конечно, безобразно при этом. — А с кем шел Поляков? — Да с дружком своим закадычным, с которым они и хулиганят всегда. И дети их тоже вместе безобразничают. Мало нам своих разбойников, так еще чужих привозят. — Подождите, бабушка, — остановил ее Алексей. — О каких детях вы говорите? — О таких. О детях Сережкиного дружка. Вместе они хулиганства творят. — Гражданка Никитина, вы смогли бы узнать человека, с которым пришел Поляков а тот вечер? — Хоть с закрытыми глазами. Я его рожу нахальную из мильона людей узнаю. — Тогда подождите секунду. Алексей быстро достал из стола с десяток фотографий, на которых были запечатлены мужчины, и разложил их на столе. — Пожалуйста, посмотрите сюда. Если вам кто-то из них покажется знакомым, объясните, где вы его видели. Бабушка Никитина склонилась над фотографиями, стала подслеповато их рассматривать, Алексей стоял рядом, затаив дыхание. — Вот он! — сказала старушка, ткнув пальцем в один из снимков. Садовников нагнулся над столом и присвистнул. У Гришина, наблюдавшего всю эту сцену, поползли вверх брови. Алексей помолчал, прошелся по кабинету, сел напротив Никитиной и спросил: — Вы уверены в этом? — Завсегда уверена, — ответила Никитина. — Теперь скажите, действительно ли шел мимо вас пьяный Поляков четвертого января около половины девятого вечера и действительно ли он был не один? — Как же не шел? Шел с дружком своим. А может, и не четвертого, точно не скажу. Может, запамятовала я. Но пьяного его с этим, который у вас на фотографии, я видела. И выражались они обидно, неуважительно. Часовым меня назвали. — Послушайте, гражданка Никитина, от ваших показаний зависит судьба многих людей. Постарайтесь совершенно точно вспомнить, видели ли вы Полякова четвертого января вечером? Подумайте, прежде чем отвечать. Бабушка Никитина посидела, помолчала, потом зашмыгала носом и, просительно заглядывая Алексею в глаза, заголосила: — Уж ты, сынок, прости меня старую, неразумную. Не могу я такой грех на душу брать! Не помню я в точности, в какой день они веселые-то приходили. — Успокойтесь, бабушка, — Алексей подал ей стакан с водой. — Ведь вы же рассказывали что-то старшему лейтенанту, постарайтесь все вспомнить и повторить. — Говорила-то я неподумавши, сынок! Сережка меня обидел. Да ребятишки ихние под новый год такую снежную бабу выкатали под моим окном. Я как утром встала, глянула в окно, сердце так и зашлось. Это малых-то Сережка надоумил, я знаю. И участковому-то я рассказала про него пьяного, думала, вызовет он Сережку-то да вразумит, чтобы неповадно было над старыми людьми измываться. А дело-то, вишь, куда поворачивает. За чужую-то судьбу не могу я ручаться и грех на душу брать не хочу. Сболтну чего, не подумавши, а какому безвинному человеку беду принесу. Не неволь ты меня, гражданин хороший, не помню я в точности, когда я его, поганца, видела. Старая стала, не та уж сила в голове, да и глаза подводят. — Не неволим мы вас, бабушка, — улыбнулся Садовников. — Как было, то и скажите. Если не помните, значит, не помните. Вот и все. — Вы уж не серчайте на меня, товарищи дорогие, не по злому я умыслу… — Никто не серчает на вас, бабушка. Наоборот, сейчас вызовем машину и отправим домой. — Не надо никакой машины! Невестка у меня тут неподалеку проживает, давно в гости собиралась, да все случая не было. Вот сейчас пойду и внучонка повидаю, кстати. Так уж, извините меня, не хлопочите зря. Старушка резво вскочила со стула, повязала платок и мигом оказалась за дверью. Гришин вышел за ней, чтобы проводить к выходу. Алексей молча смотрел в окно. — Товарищ майор, — нарушил молчание Стефанов. — А кого узнала-то эта старушка на фотографии? Может, у дружка Полякова поинтересоваться, когда они пришли в тот день? — У дружка? — Алексей повернулся к столу. — Вряд ли. Гражданка Никитина утверждает, что в половине девятого четвертого января Поляков пришел домой вместе с Анатолием Березиным. А к тому времени, по заключению экспертов, этот друг Полякова примерно около трех часов как уже был мертв. Вернулся Гришин, молча присел к столу. — Вы сделали все правильно, товарищ Стефанов, — сказал Алексей. — Спасибо вам, можете идти. Стефанов вышел, осторожно притворив за собой дверь. Алексей закурил и с удовольствием затянулся. — А счастье было так близко… — неопределенно сказал Гришин после паузы. — Когда оно близко, оно не всегда возможно, — тут же откликнулся Садовников. — Бабка, конечно, великая сплетница и характер имеет зловредный. — Путает она все на свете. — Путает, да неизвестно что. Может, и действительно видела она кого-то в тот вечер, да теперь в голове у нее все перемешалось: пьяные, снеговики, юные хулиганы. — Бог с ней, с бабкой-то, Алексей Вячеславович! Давайте займемся делами более существенными. — Пожалуй, Андрюша. Сейчас начало пятого, я, наверное, еще Бромберга застану на работе. Очень хочу с ним встретиться.
МАСТЕРСКУЮ, где трудился Григорий Бромберг, Алексей нашел быстро. Она помещалась в центре города, на одной из сохранившихся древних улочек, в старинном особняке. Садовников толкнул обитую дерматином дверь, ожидая попасть в холодную и грязную «лавочку», и на пороге остановился пораженный. Приемная мастерской была оборудована руками искусного мастера. Деревянные панели до половины закрывали стены. Их украшали кованые светильники оригинальной формы. Удобная мягкая мебель дополняла интерьер. Сидя в креслах за низким столиком, вполголоса беседовали двое пожилых мужчин. Алексей прошел мимо них к стойке приемщицы. В окошечке он увидел очаровательную девушку в джинсовой куртке с вышитым на кармане фирменным знаком «СБ», что, по-видимому, означало «Служба быта». Не успел Садовников подойти, как она тут же внимательно посмотрела на него. — Что бы вы хотели? — спросила она мягким грудным голосом. — Мне бы это… — Алексей невольно смутился от увиденного и ласковой доброжелательности красивой приемщицы. Правда он успел заметить, что в ушах сотрудницы этого керогазного салона висят золотые сережки с бриллиантиками. — Так что? — снова спросила девушка, и сережки в ее ушах чуть качнулись. — Мне бы, знаете, товарища Бромберга повидать нужно. — Григория Михайловича? Пожалуйста. — Девушка встала и скрылась в глубине мастерской. Через минуту она вышла вместе с высоким, подтянутым молодым человеком, одетым в такую же куртку. Резко очерченные, броские черты лица его говорили о характере сильном, волевом, целеустремленном. Сейчас же, на его лице присутствовало выражение участливого внимания и готовности помочь. В то же время от всей фигуры Бромберга на версту веяло тщательно охраняемым и взлелеянным чувством собственного достоинства. Он походил скорее на именитого профессора, направляющегося к пациенту, чем на скромного работника мастерской «Металлоремонт». Алексей представился, показал удостоверение. Бромберг его внимательно прочитал, минуту помолчал и сказал: — Знаете, Алексей Вячеславович, мне почему-то кажется, что разговор у нас с вами будет долгим, правда? — Возможно, — согласился Садовников. — Тогда, если не возражаете, давайте поговорим в более приличной обстановке. Подождите меня минуточку, я сейчас. Он скрылся за шторой. Алексей остался ждать в салоне. Девушка-приемщица поглядывала на него из окошечка с интересом, но без всякого кокетства. Вскоре вышел Бромберг, махнул рукой девушке и пригласил с собой Алексея. — Поедемте ко мне домой? — предложил он. — Там спокойно поговорим, а потом я вас отвезу, куда потребуется. Они прошли к стоявшему неподалеку «Жигуленку». Бромберг начал прогревать двигатель. — Скажите, как вам все это удалось сделать? — спросил Алексей. — Что это? — Ну, интерьер в мастерской, и вообще… — Произвело на вас впечатление? — Бромберг внимательно посмотрел на Садовникова. — Не скрою, произвело. — Значит, не зря старались. Вообще-то, сделано все это из хлама. Основным нашим материалом был мусор, который выбрасывается обычно на свалку. Бромберг тронул машину с места и выехал на магистраль. — Вы обратили внимание на Лену, приемщицу нашу? Очень хорошая девушка. На втором курсе филологического факультета учится, на вечернем отделении. — Что она симпатичная, это я заметил, — ответил Алексей. Бромберг промолчал. Накатанная зимняя дорога требовала внимания. Так в молчании они и добрались до его дома. Войдя в квартиру и раздевшись, Бромберг сказал: — Я знаю, что вы на службе, сам я пью мало, поэтому коньяк не предлагаю, хотя в доме он есть и очень неплохой. А вот горячий крепкий кофе я сейчас приготовлю. Бромберг скрылся на кухне и загремел посудой. Алексей прошел в комнату. В эту однокомнатную квартиру можно было водить экскурсии. Здесь было все. И старинная медная люстра, и мебель, которую Садовников видел только в журналах, и масса антикварных вещиц начиная от фарфоровых и кончая замысловатой формы пепельницей чугунного литья, которую украшали юные красавицы, представленные в весьма легкомысленных позах. Бромберг вошел в комнату с подносом, на котором дымились чашки с кофе и стопкой лежали золотистые поджаренные кусочки хлеба с ветчиной, колбасой, сыром. Увидев это, Алексей вспомнил, что он сегодня не обедал, и решил от угощения не отказываться, да и повода для этого не было. Бромберг сел в кресло напротив, аппетитно похрустел тостом, выпил кофе, закурил и спросил: — Нашей встрече я обязан, наверное, тому печальному событию, которое произошло с Толей Березиным? — Почему вы так думаете? — В городе об этом много говорят, я хоть и шапочно, но был с ним знаком. Вероятно, вы проверяете всех его знакомых, как пишут в детективах. — Что-то в этом роде, — неопределенно ответил Алексей. — Тогда, чтобы облегчить вашу участь, скажу сразу. Четвертого января с семнадцати до двадцати трех часов я находился в квартире профессора истории нашего университета, доктора наук Фадеева Алексея Никифоровича. Кроме самого профессора, в это время дома были его жена, дочь и ее муж. Около девяти вечера к нему зашли двое его сотрудников. Фамилии я их не знаю, но помню, что одного из них звали Лешей, а второго Романом Сергеевичем. Вот телефон профессора, а вот его адрес. — Вы что, готовили себе алиби? — Нет, я просто думал по дороге, зачем вам понадобился. Вы же уголовный розыск, а не ОБХСС. Сопоставив ваш визит с разговорами об убийстве Толика Березина, я пришел к выводу, что вас должно интересовать именно это. Других поводов для знакомства я найти не смог. — Вы, что же, увлекаетесь историей? — Нет, я увлекаюсь поделками из дерева. Алексею Никифоровичу делал закрытые книжные стеллажи. У него огромная библиотека, есть много редких, уникальных изданий, а книги на открытых полках, как вы знаете, быстро портятся от воздействия влаги, света, воздуха, пыли. — Скажите, почему вы так четко очертили рамки своего алиби. С семнадцати до двадцати трех? Что произошло в это время четвертого января? Что вы об этом знаете? — Ничего не знаю. Все говорят, что несчастье случилось в этот день. Утром оно произойти не могло, поскольку, как мне известно, Толик и Сергей работают всегда после обеда. Впрочем, если вы хотите узнать дальнейшее мое времяпрепровождение, извольте. От профессора я заехал к одной знакомой. Дверь открыла ее мать. Если вы будете настаивать, я дам вам ее адрес, хотя и не люблю вмешивать женщин в мужские дела. Потом мы поехали ко мне. У подъезда, это было уже около полуночи, встретился с дворником. Он меня хорошо знает, поскольку иногда наши профессиональные интересы совладают. Дворника зовут Розалия Робертовна. С ней вы можете познакомиться в любое удобное для вас время. — Два ноль в вашу пользу, Григорий Михайлович! — Алексей откинулся в кресле и засмеялся. Бромберг в ответ вежливо улыбнулся и отхлебнул кофе. — Вы всегда такой предусмотрительный? — К сожалению, не всегда. Но к этому стремлюсь. — Похвально. Честно говоря, я приехал именно за тем, чтобы выяснить кое-какие детали вашей дружбы с Березиным. Не скрою, меня интересовало и то, чем вы занимались четвертого января. И поскольку с главным вопросом мы покончили, давайте перейдем к второстепенным. Расскажите о Березине. Что это был за человек? — Толик? Я, к сожалению, знал его мало. Несколько раз виделись у Полякова, как-то они заходили ко мне, вот, пожалуй, и все. — Но у вас была возможность познакомиться с ним ближе. Например, когда вы помогали ему делать деревянные карнизы? — Вы знаете об этом? Действительно, помогал, однако эта работа не сблизила нас. Толик — он, как бы это сказать, не рукастый, многого не умеет делать и поэтому его присутствие меня раздражало. Я уже пожалел, что связался с этим делом. — Тем не менее, вы с ним встречались, беседовали. Не может быть, чтобы у такого наблюдательного, мыслящего человека не было совсем никакого мнения о своем знакомом. — Алексей льстил, не стесняясь, понимая, что Бромберга, обладающего обостренным чувством собственного достоинства, можно только так вызвать на разговор. И не ошибся. — Мнение, конечно, есть, — сказал Григорий. — Толик был парнем добрым, веселым, отзывчивым, но каким-то пластилиновым. Его можно было уговорить на что угодно, он не умел сопротивляться, отстаивать собственное мнение, уважать собственные желания. Как-то при мне Сережа уговаривал его отправиться в лес за грибами. Я видел, как Толику этого не хотелось, у него тогда болел ребенок. И все-таки он согласился и поехал, хотя и через силу. Мне тогда было жаль его. — Скажите, а какие-нибудь цели у него в жизни были? Причем, в данном случае я имею в виду не столько моральные, что ли, идеалы, сколько меркантильные, понимаете? — Понимаю. Какие у него были желания? Пустяковые, честно говоря. В них за версту угадывался эдакий современный Манилов с почтовой автобазы. Он мечтал, например, купить цветной телевизор, чтобы дети могли смотреть мультфильмы в цвете. Или еще ему хотелось приобрести машину, посадить летом в нее всю семью и поехать к морю. Однако я не помню случая, чтобы он что-то предпринял для их осуществления. — Насколько я понимаю, в этом вы были с ним диаметрально противоположны, — Алексей обвел глазами комнату. — Если хотите, да. — Бромберг тоже осмотрел свое жилище. — Но ведь мастерская — не Эльдорадо, где вы просто нагибаетесь за деньгами. Как мне известно, не так уж и много зарабатывают мастера в подобных заведениях. — Все зависит от того, как работать. — Вы, что же, работаете без квитанций? — Упаси бог, Алексей Вячеславович! Разве можно? Да и зачем? — Значит, берете сверх квитанции? — Беру. И не считаю это преступлением. В нашем постоянном стремлении все, что можно регламентировать и подвести под различные нормативы, мы почему-то забываем, что качество является составной частью цены любого товара. И это при том, что о качестве мы говорить не устаем уже много лет подряд. Так вот. В нашем прейскуранте обозначены все виды работ и цены на них, но не обозначено и не оценено качество исполнения. Я могу выполнить все точно по технологии, по нормам и получить за это определенную сумму. Но я могу сделать чуть лучше, больше постараться, проявить вкус, индивидуальность. Это не поддается нормированию, но за это люди платят. И не скупятся. — Другими словами, вы занимаетесь вымогательством, используя свое служебное положение? — Зачем же? Я получаю дополнительную оплату за высокое качество работы. В этом вы можете убедиться, опросив моих клиентов. Я говорю об этом в открытую потому, что мы беседуем без протокола. Да и не считаю свои деяния преступными. Приведу вам для наглядности такой пример. Приходит ко мне человек с деревянной подставкой для цветка. Кипарис, очень старой работы, примерно, конца восемнадцатого века, но, конечно, в совершенно запущенном состоянии. Лак ободрался, трещины, резьба забита и так далее. Я показываю ему прейскурант, рассказываю о технологии. По нашим правилам я должен эту штуку ошкурить, залить трещины какой-то химической дрянью и получить с клиента семь рублей с копейками. После такой реставрации он через год выбросит подставку на помойку и уже ни один мастер ее не восстановит. Есть и другой путь — реставрировать ее по всем правилам. Клиент, как разумный и понимающий человек, избирает именно последний. Правда, это обходится ему в сто сорок рублей. Я сижу с подставкой пять вечеров, вручную привожу ее, заметьте, в первоначальное состояние. Хотя, чтобы достичь этого, пришлось и литературку кое-какую почитать, и некоторые материалы раздобыть. Но зато я сохранил вещь и не просто вещь, а произведение искусства. Кто знает, скольких людей оно будет еще радовать? И вы считаете, что я поступил преступно? — Я могу считать как угодно. Но закон ваши действия трактует однозначно. Даже статья есть в уголовном кодексе, под которую вы подпадаете. — Сто пятьдесят восьмая, часть вторая? На вашем месте я бы не утверждал так категорично. Прежде всего я не материально ответственное лицо, а если даже и подпаду, то меня оштрафуют, например, на сто рублей! При моей частной практике я верну их за два вечера или раньше. Эта статья, мне кажется, не эффективна. Вы оштрафуете кассира на вокзале или администратора в гостинице, а они, так же, как я, возместят эту потерю в минимальный срок. — И сколько же вам дает в месяц такой высококачественный уголовно наказуемый труд? — Немало, честно говоря. — А как Березин и Поляков относились к вашему ремеслу и образу жизни? — Толик у меня был один раз, поэтому не могу сказать, как он к этому относился. А вот Сергей… — Бромберг на минуту задумался. — Сергей завидовал и, по-моему, очень сильно. — Почему вы так думаете? — Не думаю, знаю наверняка. У Сергея эта черта проявлялась еще в детстве. Он остро завидовал ребятам, которые лучше его одевались, имели магнитофоны… С нами учился один парень, родители которого тогда работали по контракту в Индии. Естественно, ему присылали разные импортные вещи. Сергей ненавидел его просто лютой ненавистью. Он старался как-то навредить ему: испачкать джинсы, будто бы нечаянно порвать нейлоновую куртку и тому подобное. — А почему вы думаете, что он и вам завидовал? — Да Сергей не скрывал этого. Ему казалось, что он работает не там, где нужно. Несколько раз просил устроить его к нам в мастерскую. Ему казалось, что тогда он сможет жить так же, как я. Я говорил, что для этого нужно иметь еще кое-что, кроме желания, руки, например. Только он, по-моему, в это не очень верил, думал, что в мастерской сразу разбогатеет. Вообще он любит поговорить о деньгах, о том, что бы он сделал, если бы их у него было много. — Интересно, что? — Стандартный набор желаний! Машина, дача, дубленка и все в этом роде. — Как же он себе представлял эту возможность внезапного обогащения? — Никак, естественно. Это был просто бесконечный, надоедливый треп, который в последнее время действовал мне на нервы. — Надоел я вам, наверное, — неожиданно сказал Алексей. — Спасибо за кофе. И он поднялся, собираясь уходить. — Я отвезу вас, как и обещал, — поспешно ответил Бромберг. Вместе они спустились к машине. Алексей назвал свой домашний адрес, и Гриша начал выруливать на шоссе. Проехав примерно с километр, Алексей попросил Бромберга притормозить. — Знаете, мне пришла в голову одна хорошая мысль. Поляков ведь здесь недалеко живет? — В двух шагах. — Подбросьте меня к нему, если не трудно. Думаю, еще не так поздно для визита. Показания нужно у Сергея взять, а то завтра придется сюда через весь город тащиться. Бромберг развернул машину, и вскоре они были у подъезда, где жил Поляков. Лифт поднял Алексея на девятый этаж. Дверь открыла молодая женщина в домашнем халате. Увидев незнакомого мужчину, она смутилась. Садовников догадался, что это жена Сергея — Лариса, и сразу представился. — Вы к Сереже? Проходите, пожалуйста. — Лариса посторонилась, и Алексей оказался в тесной передней. — Раздевайтесь. Он с дочкой занимается. Услышав разговор, Поляков вышел в переднюю и, сдержанно поздоровавшись, молча смотрел, как раздевается Алексей. Из кухни выглядывала пожилая женщина, по-деревенски повязанная платком. Раздевшись, Садовников прошел в комнату. Когда они остались вдвоем с Поляковым, Алексей спросил: — Как здоровье? — Ничего. Врачи обещают послезавтра на работу выписать. — Не рано? — Им виднее. Разговаривая, Сергей смотрел куда-то в сторону, под стол. И взгляд у него был тяжелый, неподвижный. — Я вообще-то ненадолго, — сказал Алексей. — Тут с кое-какими формальностями надо закончить. — Понимаю, — без всяких эмоций ответил Сергей. — Вы дружили с Березиным не один год. И меня сейчас интересует такой вопрос: кто из его знакомых мог пойти на преступление? — Боюсь, что на этот вопрос я не смогу вам ответить, — помолчав сказал Сергей. — Знакомые Толика — мои знакомые. Но думать на кого-то из них… Нет, не могу. — Значит, никаких отношений с прежними соседями или одноклассниками он не поддерживал? — По-моему, нет. — Теперь вот что. Напишите, что было четвертого января. Как пришел на работу, как сломалась машина с тринадцатого, как появился Березин… Изложите только факты, а я подожду. Сергей присел к столу, положил перед собой лист бумаги, достал ручку, повздыхал немного, устраиваясь поудобнее, и начал писать. В комнату бесшумно вошла Лариса, присела на тахту, молча и скорбно глядя на Сергея. Алексей подсел к ней и тихонько, чтобы не отвлекать Полякова, спросил: — Вы у Березиных-то бываете? Лариса утвердительно кивнула. Потом помолчала и добавила: — Тяжело сейчас Тамаре, никак в себя не придет. — Еще бы, — согласился Садовников, — такое горе. Вы часто у нее бываете? — Нет. Своих забот хватает. Дом, работа, то да се. Пару раз заходила, посидели, поплакали. Я к Толику очень хорошо относилась. Он славный был: веселый, добрый. Тамаре с ним легко было. Они почти и не ругались друг с другом… Просто ума не приложу, как это могло случиться. В большом людном городе, чуть ли не среди белого дня… В комнату осторожно вошла Полина Владимировна и тоже присела на тахту. — Пишет, — сказала она, показав головой на сидящего за столом Сергея. — Извелся прямо за эти дни. Как прибежал четвертого-то без четверти пять, как залег, так до сих пор отойти не может. Сергей кончил писать, он поднялся из-за стола и передал Алексею два листа бумаги. Садовников пробежал их глазами и, не найдя для себя ничего нового, засунул их в карман. Уже в коридоре, не рассчитав движения, Алексей шагнул чуть вправо от двери и с грохотом повалил санки. «Поляковой дочки, наверное, имущество», — подумал Садовников и решил поставить санки к двери. И тут ощутил в руке веревочный узел. Не особенно раздумывая, Алексей вытащил из кармана перочинный нож, отрезал кусок веревки с узлом, положил его в карман и вышел на улицу. По дороге к автобусной остановке он подумал, что неплохо бы сейчас же отдать веревку на экспертизу, но, посмотрев на часы, понял, что уже вряд ли кого удастся застать. И все же решил попытать счастья, зашел в отдел. Не поднимаясь к себе, Садовников прошел к экспертам. К его удивлению, в лаборатории горел свет, настольная лампа освещала склоненную шевелюру Мураша. — Здравствуйте, Михаил Родионович! Не думал вас застать. Но вижу, свет горит, дай, думаю, загляну, — фальшиво произнес Алексей. — А вы меня и не застали, — буркнул Мураш. — Меня здесь нет, я давно ушел домой и в настоящее время отдыхаю перед телевизором. — Действительно, — подхватил Садовников. — Вы так уютно устроились в кресле и с таким вниманием смотрите детектив, что как-то я сразу и не сообразил. — Я не смотрю детективов, — снова проворчал Мураш, не поднимаясь из-за стола. — Мне на работе их хватает с избытком. Сейчас я смотрю передачу о балете. — Замечательная вещь балет, Я и сам являюсь большим поклонником этого вида искусства. Вот, обратите внимание, как великолепно, просто мастерски выполнила балерина сложнейшее па-де-де. — Алексей Вячеславович, вы ничего не понимаете в балете. — Мураш засмеялся. — Па-де-де танцуют вдвоем и только вдвоем. Ни одной на свете балерине еще не удавалось мастерски станцевать па-де-де. И поскольку вы себя полностью изобличили, я вам разрешаю сказать: зачем пожаловали. — Да пустяковое дело, Михаил Родионович. Иду по улице, вижу, веревка валяется, а на ней узел. Вспомнил, что один мой знакомый узлы собирает, такое у него хобби, вот и решил его порадовать. — Алексей достал из кармана веревку и протянул Мурашу. — Забавно, — сказал тот, внимательно осмотрев узел. — Очень даже забавно. — Да, чуть не забыл, — спохватился Алексей, — у меня совершенно случайно имеется еще и текст, написанный одним молодым человеком. Очень бы хотелось знать, не встречались ли вы когда-нибудь с подобной манерой написания каких-либо слов или цифр. — И Садовников передал Мурашу листы бумаги, исписанные Поляковым. Михаил Родионович положил их на стол, снял очки и посмотрел на Алексея. — Знаете что, Садовников? — сказал он. — Сейчас уже половина десятого, в лаборатории, кроме меня, никого нет, а вы предлагаете мне работу на несколько часов. Где раньше-то были? Знаю, знаю, что ответите, лучше уж молчите. — Михаил Родионович, хотите я останусь с вами? Буду варить вам кофе, готовить бутерброды… — Нужны вы мне здесь! Только мешать будете. Шагайте-ка лучше домой. Честное слово, если бы не это сумасшедшее дело, которое вы сейчас расследуете, я бы ни за что не остался, всему же есть предел, во всем должен быть порядок. — Конечно, Михаил Родионович. Я и сам в душе всегда за порядок и очень почитаю его. — Ладно, исчезайте отсюда. Постараюсь что-нибудь сделать.
НА СЛЕДУЮЩИЙ день Садовников прибыл на службу чуть свет. В лабораторию к Мурашу он не пошел. Было бы неловко, подкинув ему работы чуть ли не на всю ночь, утром еще и торопить его. Впрочем, Алексей знал, что как только первые результаты будут готовы, Михаил Родионович тут же непременно позвонит. В ожидании звонка Садовников курил, перебирал какие-то ненужные бумаги и с надеждой смотрел на черный телефонный аппарат. Прошло около двух часов, прежде чем тот наконец зазвонил. — Это вы, Алексей Вячеславович? — Голос Мураша в трубке был каким-то бесцветным. — Так точно, я. — Так вот, есть кое-какие новости. Подняться к вам или встретимся прямо у Малова? Он просил немедленно его информировать. — В таком случае, у Малова. В коридоре, по пути к подполковнику, Алексей встретил Гришина и велел идти с ним. Вместе с ними в кабинет начальника вошел и следователь прокуратуры Веретенников. Видимо, Малов уже информировал его о новостях, и тот решил получить их из первых рук. Мураш уже что-то рассказывал Юрию Александровичу. Все молча расселись. Мураш подошел к столу и положил перед собой несколько листов бумаги. — Есть небольшое сообщение, представляющее, на мой взгляд, интерес для всех присутствующих, — начал он. — Первое. Узел на веревке, которую майор Садовников передал на экспертизу вчера поздним вечером, идентичен узлу на веревке, которой был связан гражданин Березин, труп которого был обнаружен в почтовом автофургоне четвертого января сего года. — Где взял? — быстро спросил Малов. — У Полякова. — Вот это да! — Малов даже присвистнул. Гришин шумно выдохнул, Веретенников закрутил головой. — Ай да Сережка, лучший друг! Ай да молодец! — сказал Гришин. — Я еще не кончил, — прервал их Мураш сухим и строгим голосом. Все замолчали. — Так вот. Что касается экспертизы почерка… Если идентичность узлов мы уверенно подтверждаем на все сто процентов, то с почерком экспертизе не все ясно. Честно говоря, установить почерк по шести знакам, которые были написаны на руке убитого, очень трудно. До сих пор за решение подобных задач мы не брались. Однако в последнее время была разработана новая методика для исследований подобного рода, применение которой позволяет нам надеяться на успех. Но… — Мураш сделал паузу, — для этого необходимо иметь совершенно точный образец почерка, так сказать, клиента. — Я же зам передал. — Передали. Но у меня есть серьезные основания думать о том, что ваш подопечный, когда писал, старался почерк свой изменить. Это ему не очень удалось, и тем не менее ваш вариант не является абсолютно истинным образцом почерка. Алексей перегнулся через стол и пошептался с Маловым. Тот набрал номер телефона и отдал несколько коротких распоряжений. — Правильно, — сказал Мураш. — Нужен текст автобиографии, которую он писал несколько лет назад, поступая на работу в автобазу. Имея его, мы сможем решить вопрос с почерком. — Ситуация начинает проясняться, — сказал Малов после небольшой паузы. — По-моему, сегодня после обеда все решится и, если предположения Садовникова и экспертов оправдаются, к вечеру можно будет арестовать убийцу, — сказал Гришин. — Не уверен, что нужно так спешить, — покачал головой Алексей. — Улики против Полякова у нас появились, но доказательств, мне кажется, пока маловато. — Куда уж больше! — повернулся к Веретенникову Гришин. — Чем больше, тем лучше, — ответил следователь. — А преступник пусть в это время гуляет? — Пусть гуляет, но под нашим наблюдением. — У вас, Алексей Вячеславович, есть конкретный план действий? — вступил в разговор Малов. — Более или менее конкретный. — Сколько времени нужно для его выполнения? — спросил Веретенников. — Постараюсь управиться за день. — Что ж, товарищи, давайте подведем итоги, — сказал Малов. — Я думаю, что группа майора Садовникова поработала хорошо. Предполагаемый преступник практически обнаружен на пятый день. Я думаю, что форсировать события сейчас нет смысла, тем более, что у Алексея Вячеславовича есть свой план действий и нужно предоставить ему возможность осуществить его. Но наблюдение за Поляковым установим немедленно. Это не помешает вам? — Ни в коем случае, — ответил Садовников. — Тогда все свободны. Придя к себе в кабинет, Садовников сделал несколько телефонных звонков, внес новые записи в рабочую карточку, договорился о машине. Позвонил Гришин и сообщил, что текст автобиографии Полякова уже у Мураша. — Добро. Пока они исследуют, мы займемся своими делами. Вот тебе, Андрей, список отделений связи с адресами. Все они расположены в той части города, где Старая Канава. Установи, кто видел машину тринадцатого маршрута и кто был за рулем. Возьми фотографии и отправляйся. Я займусь другими делами. Связь держим через дежурного… Алексей поехал на Старую Канаву к бодрому старичку Симакову. Александр Михайлович был дома. На предложение Садовникова поехать на автобазу посмотреть на народ, может, кого узнает, он откликнулся сразу и охотно. Чувствовалось, что ему льстит внимание милиции. Он засуетился, начал одеваться. Садовников знал, что с сегодняшнего дня Сергей Поляков должен выйти на работу. Разъезд машин начинался позднее, но бригадиры и механики приходили на предприятие раньше всех. По его расчетам выходило, что Поляков должен быть уже на месте. Так оно и оказалось. — Александр Михайлович, вы оставайтесь здесь и ждите меня, — обратился Садовников к Симакову. — Внимательно присмотритесь к людям, которые здесь работают. Если кто-то покажется вам знакомым, о себе не напоминайте, вспомните, где вы этого человека видели, а потом расскажете об этом мне. Не стойте на одном месте во дворе. Я же не на пост вас ставлю. Походите, посмотрите, здесь интересно. — Алексей оставил Симакова, а сам пошел в отдел кадров. Дел у него там никаких не было. Он предоставлял возможность Симакову побыть одному, присмотреться к окружающим. Полякова Садовников видел издалека, но подходить к нему не стал. Алексей лениво листал личные дела, которые передала ему немолодая уже женщина-кадровик, и время от времени посматривал в окно. Он видел, как Симаков сперва неуверенно прохаживался по двору, заглядывая в лица проходивших мимо рабочих, потом старик освоился и начал расхаживать с независимым и гордым видом. Стопка непросмотренных дел на столе у Алексея уменьшалась. Взглянув в очередной раз в окно, Симакова он не увидел. Алексей встал из-за стола, прошелся по комнате, заглянул в другое окно выходящее к мастерским, но и там старика не было. Садовников забеспокоился. Прошло минут двадцать, прежде чем Симаков появился в поле зрения. Выглядел он чрезвычайно озабоченным. Алексей понял, что Симаков ищет его. Он оделся, поблагодарил кадровика и вышел во двор. Увидев Садовникова, Симаков бросился ему навстречу. — Вы только не волнуйтесь, Александр Михайлович. Рассказывайте все подробно и по порядку, — предупредил старика Алексей. — Натурально так. Хожу, значит, я здесь по двору и никак в толк не возьму, чего я увидеть должен. Однако, думаю, вам лучше знать, иначе не повезли бы такой старый пень за тридевять земель. Да, хожу, значит, смотрю и ничегошеньки не вижу. А морозец сегодня знатный. Потоптался я, потоптался, чувствую, ноги стыть начали. Кровь стариковская не греет уж больше. Да. Натурально решил куда-нибудь сходить погреться, потому как не знаю, когда вы явитесь. Посмотрел по сторонам, вижу, какой-то длинный дом, гараж, наверное. Пойду, думаю, туда, тем более, что товарищ майор рекомендовал на одном месте не стоять. Захожу. Машин там стоит сотня, наверное. Людей не видать, хоть голоса откуда-то и слышно. И тепло. Хожу, значит, между машинами, отогреваюсь и натурально по сторонам посматриваю. Только нет там никого. Вдруг вижу, из кабинки человек вылезает. Я так и замер. Вылез он, дверцей хлопнул и пошел себе по проходу. А я стою и дух не могу перевести. Сразу я его узнал. Ведь это тот самый парень, который из фургона на нашей улице тогда вечером вылез. Он и вылезал-то так же. Дверь открыл, согнулся и вроде выпал из кабины, а потом, не оглядываясь, дверью хлопнул и пошел. Лицо я его сейчас не очень рассмотрел, а вот одежонку запомнил. В курточке он в такой темной, а на голове шапка мохнатая и брюки навыпуск. Бросился я сразу вас искать, а вас и нету. Извелся прямо. — Извините, Александр Михайлович, что заставил вас поволноваться. Где, говорите, своего знакомого-то встретили, вон в том гараже? — Вон он стоит, мой знакомец-то, — зашептал он. Впереди, у машины с открытым капотом, стояли трое, о чем-то переговаривались. — Который? — Боком стоит, крайний. Он, он самый! — Спасибо, Алексей Михайлович. Вы нам очень помогли. Вместе с Симаковым Алексей заехал в горотдел. Там старик письменно подтвердил все свои наблюдения и очень довольный тем, что оказал милиции услугу, отправился на служебной машине домой. Алексей спустился к дежурному и поинтересовался, не звонил ли Гришин. Оказалось, что звонил и просил выйти с ним на связь. Обещал вскоре перезвонить. Алексей попросил дежурного переключить Гришина, как только тот позвонит, на свой кабинет, и поднялся к себе. Гришин не заставил себя долго ждать. — Чувствую, что новости просто переполняют тебя, — сказал Алексей, услышав в трубке взволнованный голос коллеги. — Через край выливаются. — Давай выплескивай. — Отделения связи я проверил. Очень хорошие девушки в них работают. Но самой лучшей из них оказалась начальник восемьдесят седьмого отделения связи Нина Сергеевна Агеева. — Это чем же она тебя привлекла? — Искренностью. Рассказала мне Нина Сергеевна такую историю. Четвертого января пришла к ним машина, отгрузили они корреспонденцию и отправились по домам. Со службы она уходила последней. И когда закрывала дверь, вдруг услышала, как подъехала к почте машина. Оглянулась. Смотрит, их фургон. Очень удивилась Нина Сергеевна такому явлению и решила, что оператор что-нибудь забыла, поэтому и пришлось им возвращаться. Она даже дверь перестала закрывать, подумав, что сейчас ей все равно отпирать придется. Но надежды эти не оправдались. Подъехала машина, остановилась на минуту. Шофер с чем-то повозился в кабине, закурил и, развернувшись, поехал обратно. — И что? — А то, что у почты фонарь горит, и фургон прямо под ним остановился, да еще шофер закурил, поэтому она и успела его рассмотреть. — Фотографию показывал? — Показывал. Она его опознала. — Спасибо, Андрей. — Какие будут распоряжения? — Никаких. Возвращайся сюда. Все пока складывается отлично. Осталось только одно дело. Пока! Алексей повесил трубку, посмотрел на часы и заторопился. Оказавшись в районе новостроек, Садовников не спеша пошел по улице, застроенной одинаковыми современными домами. Время приближалось к восемнадцати часам. Народу на улице прибавлялось. Садовников просеивал взглядом толпу. Вдруг один человек привлек его внимание. Он резко прибавил шаг и через несколько минут нагнал молодую женщину с тяжелой сумкой в руках. Осторожно подойдя сзади, Алексей взял сумку. Женщина испуганно обернулась. — Вы?! — Не бойтесь, Лариса, я просто хотел помочь вам, извините, что так неловко. — Да что вы! Вы опять к нам? Что-нибудь случилось? — В ее голосе прозвучала тревога. — И не собираюсь. Я вообще здесь не по службе, а по своим личным делам. — Вон что, — откровенно обрадоваласьЛариса. — В гости ходили? — Можно сказать, что в гости. Товарищ у меня здесь недалеко живет. В школе вместе учились. Вчера жена его позвонила, сказала, что Андрей тяжело болен. Вот и вырвался. — А что с ним? — участливо спросила Лариса. — Сердце. Мужик-то вроде здоровый был, никогда ни на что не жаловался, и на тебе. — Алексей помолчал. — Но, что интересно. Несколько дней назад у меня на душе так тяжело было, словно какую беду чувствовал. В мистику я не верю, но предчувствие у человека бывает. Это уж точно. — И я замечала, что беду чувствую. Вот недавно такое же состояние было, просто места себе на работе не находила. Пришла в детский сад за дочкой, а мне говорят, у нее высокая температура. Оказалось, корь. — А вот тогда, четвертого, вы не ощущали никакой тревоги? — Четвертого? Что-то даже и не помню. — Давайте вспомним весь ваш вечер? — Попробуем. После работы, значит, заскочила я в магазин. Постояла в двух очередях, купила продукты, помчалась в детский сад, взяла дочку, поговорила с воспитательницей. Возле дома мы немного погуляли, потом домой пришли. Пока разделись, то да се, время ужинать. Тут Сережка заявился и сразу лег, заболел он. С дочкой еще позанималась немного, книжку ей почитала, потом спать ее уложила и сама легла. Но уснуть никак не могла. Вот, пожалуй, тут-то я и почувствовала тревогу. Ночь кое-как промучилась. Утром встала разбитая… Ой, я уже и пришла. Давайте сумку. Лариса взяла сумку, нырнула в калитку детсадовского дворика. Прошла по дорожке, обернулась и помахала рукой: — Счастливо вам! Алексей тоже махнул ей рукой и медленно пошел по улице. «Кончает работу в пять часов, — размышляет он. — Потом сразу идет в магазин. Сегодня я встретил ее без пяти минут шесть. Значит, на покупки она затрачивает примерно час. Не ровно час, а плюс-минус десять минут. Возьмем за основу минус, получится пять пятьдесят. До детского сада идти десять минут. Поговорить с воспитательницей, одеть дочку, дойти до дома, погулять у подъезда, пожалуй, тоже минут пятьдесят. Что же дальше? Дальше у Ларисы то да се до ужина. Ужинают примерно около восьми, чтобы ребенок успел посмотреть детскую передачу и вовремя лечь спать. Перед ужином пришел Сергей. Следовательно, он появился дома не около пяти, а около восьми вечера. Значит, после визита на Старую Канаву в распоряжении Полякова было еще почти три часа или даже чуть больше. За это время можно успеть многое… Не доходя до автобусной остановки, Алексей зашел в телефонную будку и набрал номер.
СЕРГЕЯ Полякова арестовали утром следующего дня. Дома в это время была только Полина Владимировна. Алексей постарался провести эту процедуру в отсутствии Ларисы и, самое главное, дочки Сергея. Арест, казалось, не столько испугал его, сколько удивил. Вел он себя нервно. То возмущался, протестовал, кричал, то замолкал, неподвижно застывая на стуле. Когда ему сообщили причину ареста, Поляков немного помолчал, потом сказал без всякого выражения в голосе: — Вы ошибаетесь. И скоро сами убедитесь в этом. Обыск в квартире не дал никаких результатов. Не было там ни денег, ни пистолета. Полякова попросили указать место, где он спрятал похищенное. В ответ он удивленно поднял брови. Алексея не смутили результаты обыска и нежелание Полякова отвечать на вопросы. На иное течение событий он и не рассчитывал. Он предчувствовал, что Поляков будет защищаться до последней возможности, и был готов к этому. Договорились с Веретенниковым, что первый допрос поведет он. Поляков держался спокойно и все отрицал. Линия защиты у него была предельно проста. Четвертого января ушел с работы по случаю болезни в четыре часа и поехал прямо домой. Поэтому нигде не был, никого не встречал, ничего не совершал и вообще ничего не знает. Промучавшись с ним больше двух часов, так ничего и не добившись, Веретенников отправил Полякова в изолятор временного содержания, а сам пошел к Садовникову. — Молчит ваш подопечный, Алексей Вячеславович, — сказал он, усаживаясь в кресло. — Правильно делает. Соображает, чего ему признание будет стоить. — Лучше бы он раньше соображал. — Раньше он о другом думал. А когда настанет пора отвечать любой человек начинает думать только о себе. В первый раз, что ли, сталкиваемся с подобным явлением. — В том-то и дело, что не в первый. — Пока трогать его не будем, путь посидит, подумает. Иногда это полезно бывает. А завтра, как договорились, я попробую с ним потолковать. — Чего мы так все усложняем? Ведь доказательств его вины более, чем достаточно, а я сегодня практически ни одного не предъявил. Все душеспасительные беседы вел. Надо было припереть его к стенке — и делу конец. — Боюсь, что это был бы не конец. Поляков — парень не слабый, и трудно заранее предсказать, как бы он повел себя в случае, если бы мы сразу раскрыли ему карты. Сейчас нам известна его линия защиты и это дает возможность контролировать ситуацию, что очень важно. Постараемся сохранить это преимущество и в дальнейшем…
НА СЛЕДУЮЩИЙ день Садовников вызвал Полякова на допрос не утром, а в середине дня. Сергей вошел в кабинет с застывшим, измученным лицом, потемневшими глазами. — Как чувствуете себя? Язва не беспокоит? — Пока нет. — Вот и хорошо. Теперь перейдем к делу. Вам известно, конечно, по какому поводу вы оказались здесь? — Да, мне сказали. — Раз все известно, тогда, будьте добры, расскажите подробно о том, как вы провели вечер четвертого января. Даже не вечер, а вторую половину дня. — Я вам уже рассказывал. Добавить нечего. — Понятно. — Алексей помолчал. — А может быть, в этот день еще что-то было? Вспомните, пожалуйста. Я скажу сейчас фразу, которую вы наверняка много раз слышали в кино или читали в книжках. К сожалению, она отражает истинное положение вещей и воспринять ее нужно с полной ответственностью и серьезностью. Я говорю о добровольном и чистосердечном признании. Только оно, я хочу это подчеркнуть, только оно может хоть в какой-то мере облегчить вашу участь, Сергей. — Мне не в чем признаваться, Алексей Вячеславович. Садовников ничего не ответил. Он молча разглядывал какие-то бумаги на столе, потом достал папку, раскрыл ее и начал читать. Так прошло минут пятнадцать. В кабинете стояла тишина. Наконец Алексей оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на Полякова. Тот сидел, опустив плечи, тяжело глядя в пол. — Ладно, — негромко сказал Садовников, и Сергей вздрогнул от его голоса. — Ладно. Не хотите говорить, не надо. Только учтите, что это была моя единственная и, наверное, последняя попытка помочь вам, хотя бы ради вашей дочки. Алексей снова сделал паузу и посмотрел на Полякова. Тот сидел, все так же потупив взгляд. — Теперь давайте разбираться в том, что же все-таки произошло четвертого января. В тот день вы действительно были на работе и отправляли, как вы говорите, машины на линию. Около четырех часов вы подошли к начальству и отпросились домой. Я, правда сильно подозреваю, что никакого приступа в то время и в помине не было. Он мог начаться значительно позже, на нервной почве. Но это так, к слову. Отпросившись, вы пошли не домой, а поехали в город, где встретили машину Березина. Уговорили его подъехать на автоплощадку ДОСААФ, где и совершили заранее обдуманное преступление. Загнали фургон на Старую Канаву и окружным путем отправились домой, спрятав по дороге деньги и пистолет, принадлежавший оператору. Причем, на автоплощадку поехали не зря. Вы ее давно присмотрели. Там, во-первых, тихо в это время, а во-вторых, рядом расположено общежитие, где в 127 комнате проживает Селиванов, по кличке «Кот», на которого вы и решили повесить преступление. Так? — Не так. Ничего этого не было. Я ничего не совершал и Березина не видел, — сказал Поляков еле слышно. — Не видели, не совершали? Хорошо. Пойдемте дальше и проверим, как стыкуется ваш рассказ с нашими данными. Смотрите. Вас видели за рулем автофургона у 87 отделения связи. Это недалеко от Старой Канавы. Дальше, на самой Староканавской улице вас видел, как вы выходили из автомобиля, местный житель Симаков, впоследствии опознавший вас. И еще. Домой вы заявились примерно в восемь часов. В это время вся семья уже была в сборе. Притворились больным, легли на диван и строго-настрого предупредили домочадцев, чтобы они всем говорили, будто домой вы пришли без пятнадцати пять. Так? Вот показания свидетелей. — Алексей передал Полякову несколько исписанных листов. Пока Поляков читал, Алексей внимательно следил за ним, стараясь угадать реакцию на прочитанное. Поляков читал медленно, перечитывая каждую строчку по нескольку раз. Наконец он закончил и положил листки на стол. — Это какое-то недоразумение, — сказал он осипшим голосом, не поднимая головы. — Недоразумение? Для того, чтобы рассеять его, я дам вам прочитать еще пару документов. Заключение экспертов. Узлы на веревке, которой был связан Березин, и тот, который был на веревке, срезанной с санок вашей дочери, — совпадают. Вот протокол изъятия санок, опознания их свидетелями. Вот подписи понятых. А это заключение экспертизы о том, что кусок веревки с узлом был срезан именно с ваших санок. Дальше. Надпись на руке Березина сделана вашей рукой. Это тоже установлено доподлинно. У нас недоразумений не бывает. Возьмите вот, почитайте. Заключения экспертизы Сергей прочитал быстро. Положил их на край стола, молчал. Алексей не торопил его. После минутной паузы, он поднял голову, провел рукой по лицу, шумно выдохнув, сказал: — За глупость и невыдержанность собственную — нужно расплачиваться. Действительно, это я застрелил Березина, — он говорил, вернее, старался говорить спокойно. — Вообще-то обо всем мы договорились с Толиком… В ночь под Новый год он предложил мне ограбить фургон. Мы знали, перед праздником бывает очень много денежных переводов на немалые суммы. До праздника отделения связи не успевают все отправить. Сперва Толик предложил взять его маршрут, потом передумал. Лучшим у нас считается тринадцатый. Его называют «золотым». У Березина все было заранее подготовлено. Он попросил меня вывести из строя фургон «чертовой дюжины». Мне это сделать было несложно. — Почему вы так легко согласились на предложение Березина? — спросил Алексей. — Да все потому же, жадность обуяла, желание красиво жить. План у Толика, как мне казалось, был безупречен. В случае успеха, мы получили бы тысяч по десять. Заманчиво. В общем, все обсудили и решили сразу после Нового года это дело провернуть. Назначили день, Березин поехал по тринадцатому маршруту, я отпросился у начальника и ушел с базы. Встретил машину Толика на улице Ворошилова, остановил ее и сказал, что с другим фургоном произошла авария, нужно помочь. Сели, поехали, добрались до площадки ДОСААФ. Людей в это время там действительно не бывает. Остановились. — Поляков замолчал, перевел дыхание. — Тут-то все и началось. Ни о каком убийстве мы, конечно, не замышляли. Березин должен был обухом топорика оглушить Зуеву и только. Потом я должен был связать ее и Березина и положить в фургон. А Толик вытащил топорик, ударил им Свету по голове, но не рассчитал силу удара… Когда я оценил случившееся, закричал на Березина: «Что ты наделал!» Он выскочил из кабины и сказал, чтобы я заткнулся. Он был какой-то неестественно оживленный. Суетился, стаскивал Свету с сиденья на пол. Потом сказал, чтобы я его связал и положил в фургон, а сам взял у Светы пистолет. Мы открыли дверь и полезли вовнутрь. Толик набрал бандеролей и разложил их у входа. Я наблюдал за его действиями, ничего не соображая. В голове стоял какой-то туман. Березин велел мне связать его. Но руки меня не слушались. Тогда он сам обмотался веревкой, а меня попросил завязать ее. Я с трудом затянул узел. Когда Толик улегся на бандероли, он вдруг неестественно как-то засмеялся и стал рассказывать с жуткими подробностями, как он расправился со Светой. Я крикнул, чтобы он замолчал. Толик не обратил на это внимания. Меня всего било. Я увидел рядом с Березиным пистолет. Не знаю, как он оказался у меня в руке, и я выстрелил в Толика. Выбрался из фургона, сел в кабину, включил мотор и поехал, не знаю куда. Рядом, на полу кабины, лежала Света. Несколько раз я проехал по городу, потом очнулся, доехал до Староканавской, бросил там машину и пошел домой. Вот и все. Остальное вы знаете. — Поляков замолчал, уронив голову на руки. — Где деньги и пистолет? — резко спросил Алексей. — Не знаю. Когда выбирался из фургона, они лежали рядом с Березиным. Больше я туда не заглядывал, страшно было. — Когда была сделана надпись на руке Березина и зачем? — Надпись? «Не помню… Узнал о ней только из заключения экспертизы. Я вообще плохо помню, как все случилось. То есть, деталей не могу вспомнить, как вы просили. Может, тогда же и написал. А вот зачем, не могу сказать. Даже объяснить не могу. Уж больно надпись-то идиотская, действительно. — Значит, деньги и пистолет вы с собой не забрали? — Нет. — А если подумать? Постарайтесь вспомнить, где они спрятаны. — Нет не брал и не прятал. Я все сказал, Алексей Вячеславович. Чего же скрывать? И так уж дальше некуда, он ведь моим самым близким другом был, Толик-то. — Ладно, на сегодня хватит. Распишитесь вот здесь. Отдыхайте пока. Если что вспомните, попроситесь сразу ко мне.
ЮРИЙ Александрович Малов внимательно читал протокол допроса Полякова, иногда возвращаясь к уже прочитанным страницам, что-то помечал для себя на листочке бумаги. Был вечер. Свет настольной лампы освещал небольшую часть стола, оставляя весь кабинет в мягком уютном полумраке. Алексей сидел рядом и наблюдал за реакцией Малова на прочитанное. Однако по лицу начальника трудно было узнать, как он относится к показаниям Сергея. Наконец Малов перевернул последнюю страницу и закрыл папку. — Лихие, видать, ребятишки-то были, Березин с Поляковым, — сказал он. — Ишь, как все придумали! Один рейс — и сразу в богачах! Шустрые молодые люди, ничего не скажешь. Я тебя поздравляю, Алеша. Честно сказать, большое и серьезное дело ты распутал. Да другого я от тебя и не ожидал… — Так-то оно так, — согласился Садовников, — только не все ясно мне пока в этом деле. Во-первых, Поляков все свалил на Березина, во всяком случае, что мог свалить. И во-вторых, нет ни денег, ни пистолета. Они где-то «гуляют». — С первым вопросом, я думаю, Веретенников сам разберется и выяснит истинные роли обоих молодцов. А вот второй — сложнее. Не допускаешь мысли, что Поляков в состоянии аффекта мог уйти и не взять ни того, ни другого?
ДВА ДНЯ Веретенников работал с Поляковым. Два долгих дня вели они бесконечные беседы. Вернее, говорил больше Веретенников, а Поляков молчал или вставлял два-три слова. После того, как он дал показания Садовникову, он снова замкнулся. На все вопросы о деньгах и пистолете либо отмалчивался, либо ограничивался короткой фразой в том смысле, что, дескать, об этом он уже говорил и добавить ему нечего. Веретенников был опытным следователем и упорным человеком. Но добиться от Полякова новых фактов не удавалось. Как только вопросы касались денег и оружия, тот замолкал и уходил в себя. На третий день с результатами допросов Веретенников зашел к Малову. Юрий Александрович тут же вызвал Садовникова. — Не густо, — заметил Малов после рассказа Веретенникова. — Чем богаты… — раздраженно ответил следователь. Он и сам понимал, что в вопросе следствия, касающегося денег и оружия, он, практически, не продвинулся ни на шаг. И оттого, что не сумел добыть этих ожидаемых сведений, чувствовал себя прескверно. Человеком он был достаточно самолюбивым и работал обычно без замечаний и нареканий. Наоборот, в городской прокуратуре его часто ставили в пример и отмечали, надо сказать, заслуженно. Поэтому сейчас он воспринимал свою неудачу особенно болезненно. — Подобного развития событий можно было ожидать, — сказал Алексей. — Поляков рассчитывает, что мы не найдем фактов, которыми его можно припереть к стенке. Парень он с головой, и мог заранее просчитать кое-какие варианты. — Какие же? — Хотя бы такой, как нынешний. Организатором преступления, по его словам, был не он, убийство совершил в состоянии аффекта и как бы мстя за гибель ни в чем не повинной женщины. Деньги не взял, оружие не взял, так что корысти никакой. Что ему присудят? Максимально — десять лет. А если учесть, что в местах лишения свободы он будет работать и вести себя примерно, может рассчитывать, что лет через семь будет на свободе. Если же он выдаст нам деньги и пистолет, дело его будет выглядеть прескверно. — Убедительно вы нам все разъяснили насчет Полякова, — сказал Веретенников. — Только что-то я практических выводов не услышал. Что делать-то думаете? — Вы считаете, Алексей Вячеславович, что деньги и оружие спрятаны Поляковым, а не были изъяты из фургона посторонними лицами? — Убежден. Но убежден также и в том, что сам Поляков будет эту тайну хранить изо всех оставшихся сил. — Предложения? — Никаких глубоких разработок у меня нет. В сложившейся ситуации, думаю, может оказаться полезным следственный эксперимент. — Ваше мнение? — обратился Малов к Веретенникову. Тот ответил, что других предложений у него нет. — Хорошо, — подвел итог разговора Малов. — На этом пока и остановимся. Действуйте, Алексей Вячеславович. Из показаний Полякова, на Староканавской улице он был в тот злополучный момент около половины седьмого вечера. Милицейская машина с сотрудниками, принимавшими участие в проведении следственного эксперимента, с Садовниковым и Поляковым прибыла сюда в такое же время. Выбравшись на улицу, Алексей отпустил машину, сообщив шоферу домашний адрес Полякова, где эксперимент должен был закончиться. — Готовы? — спросил он у Сергея. Тот кивнул. — Тогда пошли. Идем строго тем путем, каким вы шли четвертого января. Нигде не срезая углы, ничего не укорачивая. И они двинулись. Алексей думал, что они сразу выйдут к автобусу, конечная остановка которого находилась неподалеку. Но Сергей повел его к берегу реки, пересекавшей город, затем они прошли под мостом и только минут через двадцать выбрались на шоссе к автобусу.
 — А чего сразу не на автобус? — спросил Садовников.
— В это время на конечной народу почти не бывает.
— Разумно, — согласился Алексей. А про себя подумал, что не в таком уж шоковом состоянии находился в тот вечер Поляков, если учел такую немаловажную деталь. Действительно, в полупустом автобусе его легко мог заметить, а потом и опознать водитель или кто-то из немногих пассажиров, в большинстве своем местных жителей, хорошо знающих друг друга.
Зато когда они в автобус сели, тут было уже не до запоминаний. Битком набитый возвращающимися с работы людьми, он, казалось, трещал по швам. Садовникову и его сотрудникам большого труда стоило удержаться вместе. Поляков эту трудность понимал и старался усложнить ситуацию.
Все время он был спокоен. Пожалуй, только в самом начале эксперимента в его поведении ощущалась некоторая нервозность. По мере же того, как группа удалялась от Староканавской улицы, Сергей вел себя все более и более спокойно.
Алексей не сомневался, что Поляков ведет их действительно той дорогой, по которой тот добирался домой четвертого января. Ему не было смысла запутывать сотрудников милиции на маршруте. Наоборот, это скорее помогало ему, поскольку лишний раз подтверждало его искренность на допросе.
Как и предполагал Садовников, на всю дорогу им потребовалось немногим больше часа. У дома Сергея группу ждала машина. Вечером, сидя в кабинете, Алексей тщательно проанализировал весь маршрут, подсчитал время, затраченное на отдельные участки, общее время эксперимента. Полученные данные не совсем совпадали с хронометражем Полякова со Староканавской до дома. Алексей поделился своими сомнениями с Маловым. Тот молча выслушал и спросил:
— Что ты еще хочешь?
— Повторить эксперимент, но немного изменить его условия. Что-то здесь не стыкуется. Особенно в первой части. Поэтому и хочу попробовать еще раз.
— Когда?
— Завтра.
— Хорошо.
На следующий день Садовников назначил проведение эксперимента с утра. Полякову он сказал, что вчера было слишком темно, не успели зафиксировать все детали и работу придется повторить. Тот равнодушно кивнул.
Начинали опять со Староканавской. Но сегодня группу сопровождал кинооператор. Как и накануне, Поляков в начале эксперимента вел себя отрывисто, односложно. У автобусной остановки он несколько успокоился, а когда добрались до центра города, полностью пришел в норму.
Алексей внимательно посмотрел на него, остановился и неожиданно крикнул: «Все! Работа закончена. Спасибо, товарищи, возвращаемся».
Сотрудники посмотрели на него с удивлением. Они-то знали, что работа должна была закончиться не здесь.
К утру следующего дня пленка была готова к просмотру. Алексей сидел в маленьком темном зале и наблюдал за тем, как он сам пробирается через сугробы, оступается на тропинке. Впрочем, на себя он смотрел мельком и без интереса. Все его внимание было сосредоточено на Полякове. Как он идет, ведет себя на дороге. Когда пленка кончилась, Алексей посидел, подумал и попросил прокрутить снова, но замедленно. С напряженным вниманием смотрел Садовников, стараясь не упустить ни одной малейшей детали, ни одного едва заметного движения Полякова.
— Стоп! — вдруг крикнул он. — Спасибо.
Он еще несколько минут смотрел на экран, потом быстро поднялся и вышел из зала. А еще через некоторое время от здания городского отдела отъехала машина с группой сотрудников и на предельно допустимой скорости помчалась по городу.
— А чего сразу не на автобус? — спросил Садовников.
— В это время на конечной народу почти не бывает.
— Разумно, — согласился Алексей. А про себя подумал, что не в таком уж шоковом состоянии находился в тот вечер Поляков, если учел такую немаловажную деталь. Действительно, в полупустом автобусе его легко мог заметить, а потом и опознать водитель или кто-то из немногих пассажиров, в большинстве своем местных жителей, хорошо знающих друг друга.
Зато когда они в автобус сели, тут было уже не до запоминаний. Битком набитый возвращающимися с работы людьми, он, казалось, трещал по швам. Садовникову и его сотрудникам большого труда стоило удержаться вместе. Поляков эту трудность понимал и старался усложнить ситуацию.
Все время он был спокоен. Пожалуй, только в самом начале эксперимента в его поведении ощущалась некоторая нервозность. По мере же того, как группа удалялась от Староканавской улицы, Сергей вел себя все более и более спокойно.
Алексей не сомневался, что Поляков ведет их действительно той дорогой, по которой тот добирался домой четвертого января. Ему не было смысла запутывать сотрудников милиции на маршруте. Наоборот, это скорее помогало ему, поскольку лишний раз подтверждало его искренность на допросе.
Как и предполагал Садовников, на всю дорогу им потребовалось немногим больше часа. У дома Сергея группу ждала машина. Вечером, сидя в кабинете, Алексей тщательно проанализировал весь маршрут, подсчитал время, затраченное на отдельные участки, общее время эксперимента. Полученные данные не совсем совпадали с хронометражем Полякова со Староканавской до дома. Алексей поделился своими сомнениями с Маловым. Тот молча выслушал и спросил:
— Что ты еще хочешь?
— Повторить эксперимент, но немного изменить его условия. Что-то здесь не стыкуется. Особенно в первой части. Поэтому и хочу попробовать еще раз.
— Когда?
— Завтра.
— Хорошо.
На следующий день Садовников назначил проведение эксперимента с утра. Полякову он сказал, что вчера было слишком темно, не успели зафиксировать все детали и работу придется повторить. Тот равнодушно кивнул.
Начинали опять со Староканавской. Но сегодня группу сопровождал кинооператор. Как и накануне, Поляков в начале эксперимента вел себя отрывисто, односложно. У автобусной остановки он несколько успокоился, а когда добрались до центра города, полностью пришел в норму.
Алексей внимательно посмотрел на него, остановился и неожиданно крикнул: «Все! Работа закончена. Спасибо, товарищи, возвращаемся».
Сотрудники посмотрели на него с удивлением. Они-то знали, что работа должна была закончиться не здесь.
К утру следующего дня пленка была готова к просмотру. Алексей сидел в маленьком темном зале и наблюдал за тем, как он сам пробирается через сугробы, оступается на тропинке. Впрочем, на себя он смотрел мельком и без интереса. Все его внимание было сосредоточено на Полякове. Как он идет, ведет себя на дороге. Когда пленка кончилась, Алексей посидел, подумал и попросил прокрутить снова, но замедленно. С напряженным вниманием смотрел Садовников, стараясь не упустить ни одной малейшей детали, ни одного едва заметного движения Полякова.
— Стоп! — вдруг крикнул он. — Спасибо.
Он еще несколько минут смотрел на экран, потом быстро поднялся и вышел из зала. А еще через некоторое время от здания городского отдела отъехала машина с группой сотрудников и на предельно допустимой скорости помчалась по городу.
К КОНЦУ дня Садовников вызвал Полякова на допрос. Почти два десятка людей, отложив на время свои дела, готовили для него материалы к этой встрече. Казалось, что времени на эти хлопоты было отпущено слишком мало. Но люди успели сделать все необходимое. И теперь Алексей ждал Полякова, посматривая на заметно разбухшую папку от материалов следствия. Поляков вошел в кабинет все такой же понурый, замкнутый. Осторожно сел на стул, сложил на коленях руки, опустил голову. — Послушайте, Поляков, — обратился к нему Алексей. — Мировую скорбь разыгрывать передо мной не имеет смысла. Постарайтесь хотя бы изобразить из себя мужчину. Я хочу задать вам несколько вопросов и услышать прямые и точные ответы. Отвечать не торопитесь. Подумайте, прежде чем произнести первое слово. Думайте, я подчеркиваю это. У вас остался последний шанс. Итак, первое. Что вам известно об инкассаторской сумке с деньгами и пистолете, принадлежавшем оператору связи Зуевой? — И то, и другое я видел в фургоне. — Вы их брали? — Нет. — Поляков чуть замедлил с ответом, но все-таки выдавил из себя это слово. — Не брали? И не прикасались к ним? — Нет, — каждый раз он давился этим словом, с трудом его выговаривая. — Хорошо. — Алексей откинулся в кресле и минуту помолчал. — Хорошо. Сейчас я вам кое-что покажу. — Он достал из папки несколько фотографий и пододвинул их к краю стола. Поляков осторожно взял снимки и начал их рассматривать. На первом был изображен мост через городскую реку, тот самый, под которым они проходили вместе во время следственного эксперимента. Увидев его, Поляков вздрогнул и на его лбу выступили бисеринки пота. Он взял второй снимок. На нем был запечатлен угол между верхним покрытием моста и крайней фермой. На третьем тот же угол, но уже освещенный. В нем лежали какие-то предметы. На четвертом сами предметы — инкассаторская сумка, пистолет и топорик. Поляков бросил снимки на стол. — Не знаю! Ничего я не знаю! — крикнул он сдавленно. — Не знаю, кто туда положил эти вещи! Не знаю! — Не знаете? Зато мы знаем! Вот заключение экспертов. На сумке и пистолете — отпечатки ваших рук и рук Зуевой, на топорике — только ваших. Поляков поднял на Садовникова остановившиеся глаза и из его горла вырвался стон. Алексей вызвал конвой и отправил преступника в камеру. Оставшись один, майор закурил и позвонил Малову. Тот ответил и сразу же повесил трубку. Алексей озадаченно посмотрел на телефон, соображая, позвонить еще раз или подождать, поскольку, видимо, подполковник был сильно занят. Неожиданно дверь отворилась, Юрий Алексеевич вошел в кабинет, сел в кресло и задал вопрос: — А как ты вычислил этот мост? — Не сложно. Обратил внимание, что Поляков нервничал во время проведения обоих экспериментов только в районе Старой Канавы. Уже в автобусе он, как правило, успокаивался. Это, кстати, особенно хорошо было заметно на кинопленке. Она-то мне и помогла. Я вдруг увидел взгляд Полякова, который он бросил вверх, когда мы проходили под мостом. Мгновенный, но острый и четко направленный. Проверил на максимальном замедлении — подтвердилось. Ну, а остальное уже, как понимаешь, дело техники. — Так что же там произошло, четвертого? Теперь-то есть ясность? — Более или менее. Я думаю, что организатором налета на фургон был Поляков. Он уговорил Березина, что, как показывают свидетели, сделать было нетрудно, совершить кражу денег. Дальше все шло примерно так, как он и рассказывал. Есть, правда, единственная поправка. Все, что Поляков говорил о Березине, относится к нему. Думаю, что, когда это произошло, Березин, как человек более мягкий и совестливый, перепугался содеянного. Поляков побоялся оставить такого свидетеля. По предварительной договоренности он связал Березина и тогда, наверное, пришла к нему мысль избавиться от такого ненадежного партнера. Да и денег он в этом случае получал больше. Там же, в фургоне, он и осуществил задуманное… — Да… — протянул Малов и, помолчав, продолжил: — Свою задачу мы решили. Но как ответить на первый вопрос? Почему эти, в общем-то, неплохие парни, семейные, работящие, пошли на такое дело? Ведь тот же Поляков был нормальным человеком, не замеченным ни в одном нарушении? Мозги, что ли, у них перевернулись? — Я думаю, жадность их толкнула на это. Березин, правда, работал много. Но только из-за денег. Их ему все время не хватало. Он и не скрывал этого. У него просто подходящего случая не было. И тогда он решил искусственно создать выгодную для себя ситуацию. Березину в этом смысле не повезло с другом. Хотя морально был готов к преступлению и он. Может быть, не к такому жестокому, но к преступлению… — В принципе, ты прав, Алеша. Но хватит об этом. Пора расходиться. Домой подвезти? — Спасибо. Голова что-то гудит, пройдусь пешком, проветрюсь. — Давай, пешеход, укрепляй здоровье!
Василий Веденеев, Алексей Комов ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЗВОНКА Повесть
1.
…ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ женский крик ударился о толстые стены темных домов, заполняя старый московский переулок. — Ро-о-дненький! Как же это?! Боже мой, ну хоть кто-нибудь, помогите! Люди отодвигали плотные занавески на окнах. Но увидеть, что произошло, было невозможно — мешала еще не опавшая листва. — Господи, за что? Как дальше-то жить?! — несчастная уже задыхалась в рыданиях. Захлопали двери подъездов, подходили и останавливались прохожие. Свет фонарей едва пробивался сквозь густые кроны деревьев. И сейчас, в этой полутьме, трудно было разобраться, из-за чего шум. В первые мгновенья каждый невольно искал глазами распростертое тело. Тела не было. Женщина средних лет прислонилась к радиатору «Жигуленка», горестно уронив руки на капот. Временами она, не прекращая причитать, нежно поглаживала его, как родное существо. Автомобиль печально скрипел покореженной передней дверцей. Стекол — лобового и заднего — не было вообще. Их мелкие осколки густой льдистой россыпью лежали внутри салона и на мостовой. В тусклом свете фонарей они отливали голубым. — Кто же это так?.. — судорожно всхлипывала женщина в дорогом платье. — Изверги… — От ить… — растерянно говорил лысоватый мужчина в сером костюме с очень ярким галстуком. Он топтался у растерзанного автомобиля, хватаясь то за одно, то за другое. Потом остановился, жалобно глядя на людей, собравшихся вокруг. — От ить как, — кроме этой бестолковой фразы, он ничего выдавить из себя не мог. — От ить… Мы на спектакле были. Выходим, а тут… А ведь всего неделя, как систему поставили. Колонки. Две штуки. «Саней»! Четыреста пятьдесят восемь рубчиков! Нету… Меховые чехлы под медвежью шкуру… По три сотни каждый… Зачем он говорил все это молчаливо окружавшим его людям? — …Японская противоугонная система. Приятель привез. Пятьсот выложил. Нету! Приемник в комиссионке по случаю взял, «Грюндик». Тоже нету! Покачивалась на петлях измятая дверца. Люди тихо обсуждали происшествие. Мертвенно-белый свет фонаря путался в желтых листьях, которые никак не хотели опадать. — …Щетка-сметка — пять тридцать две. Нету!!!2.
ГЕОРГИЙ быстро шел по тротуару, временами почти бежал. Прохожие удивленно оглядывались. Но Литвину было не до приличий. Он бы и вовсе побежал, только сил не было. Кружилась голова и тяжело ухало сердце. Сейчас бы лучше всего — поспать. Только часы показывали уже девять сорок три. В девять сорок пять начинается пятиминутка. А пятиминутка в МУРе священна. Так сложилось десятилетия назад. Если ты не на задании или не тяжело болен — ровно в девять сорок пять должен быть в кабинете начальника. Опаздывать не рекомендовалось. …Литвин влетел на Петровку, 38 с Колобовского переулка, на ходу махнул постовому удостоверением и помчался вверх по лестнице на четвертый этаж. Лифт, как всегда, был занят. Не входя в свою комнату, скинул плащ, через открытую дверь бросил его на стул и помчался к кабинету начальника, где уже начиналась пятиминутка. Он тихо вошел в кабинет и успел усесться в уголке, около сейфа, спрятавшись за спинами ребят. Сводка происшествий была обычной. Трубников читал каждое сообщение, попутно давая распоряжения сотрудникам. В конце пятиминутки Борис Николаевич снял солидные очки в роговой оправе и обвел собравшихся внимательным взглядом. — А почему я не вижу капитана Литвина? Он что, опять опаздывает? — Я здесь! — Литвин приподнялся со стула. — Все свободны. Работайте. А вы, Литвин, спуститесь, пожалуйста, в приемную. У Антонины Ивановны кое-что есть для вас. Это «кое-что» Георгия совсем не обрадовало. Не заходя к себе, он пошел бесконечно длинным коридором к внутренней лестнице спустился на третий этаж. Подошел к двери приемной и, осторожно приоткрыв ее, заглянул. Тоня, как звали между собой вечно молодую Антонину Ивановну, секретаршу начальника МУРа, работавшую на Петровке с незапамятных времен, — в одиночестве печатала на машинке. — Здравствуйте, Антонина Ивановна. — Он постарался улыбнуться мило и жизнерадостно. — Ах, Георгий, — укоризненно покачала головой Антонина Ивановна, — совсем ты себя не бережешь. А пора за ум браться. Женился бы. — Не могу. Целибат у меня. Обет безбрачия. Как у католического священника. Женюсь — какой сыск? О другом думать буду Зачем вызывали, не знаете? Может, премия? — Премию заслужить надо, — наставительно сказала она. — Пока только шанс получить ее. — У меня и так восемь шансов в производстве. Не знаю, куда деться. С премиями — хуже. — Расписывайся… Литвин открыл журнал, поставил подпись, вышел из кабинета и на ходу стал изучать листок. Это было заявление от гражданина Минова В. П., где он писал о «возмутительном бездействии районной милиции по факту ограбления автомобиля «Жигули». Литвин хмыкнул. Ограбить можно человека, а не автомобиль. Или гражданин Минов свою машину одушевляет, как живое существо? К заявлению прилагался длинный список похищенных вещей: «Магнитофон «Саней» (Япония) — пятьсот двадцать рублей, меховые чехлы (2 шт.) — по четыреста рублей, приемник «Грюндик» — четыреста сорок…» Список замыкала щетка-сметка за семь рублей тридцать две копейки.3.
НАСТРОЕНИЕ испортилось окончательно. Сейчас и без того достаточно дел. Не таких уж простых. А еще автомобили… В отделе все знали, что он считает их создание «отрыжкой цивилизации», за которую человечеству еще долго придется расплачиваться. Нет, не от рождения он стал автофобом. Более того, уже в девятнадцать он лихо носился на отцовском «Москвиче», катая замиравших от его удалой езды симпатичных и пугливых подружек. Копил на собственные «колеса», подрабатывая вместе с друзьями-студентами на тяжелых, но хорошо оплачиваемых работах. И все бы нормально, не попади он в начале своей службы в отдел розыска ГАИ. Вид разбитых машин и печальные судьбы их хозяев стали постепенно подтачивать убежденность в абсолютной полезности личных «стальных коней». Когда же в аварии погиб его друг, у Георгия окончательно сформировалась новая точка зрения на автомобилизацию. Перевод из ГАИ на Петровку воспринял как дар судьбы. Всем видам транспорта предпочитал метро. В машину садился только в тех случаях, когда дело не ждало. Нет, он не страдал манией. Просто не признавал индивидуальные автомобили — и все. Как бросившие курить не признают табака.4.
ШАГАЯ по переулку, Литвин все больше раздражался. Места другого не нашли! Новых районов им мало? Нет, обязательно свои черные дела здесь, в старой части Москвы, проворачивать надо?! Литвин был потомственным коренным москвичом и старую часть города любил трепетно и нежно. К улицам, переулочкам, домам, тупичкам и скверикам он относился не как к памятникам далекого прошлого, а как к живому существу, со всеми его слабостями и причудами. Да, собственно, так оно и есть. Только почувствовать эту особенность Москвы может не каждый. Здесь не помогут путеводители, экскурсии. Ее надо чувствовать кончиками нервов, И тогда вдруг все переменится. С лепного карниза улыбнется изящная нимфа, зашуршат, завораживая, гипсовые крылья летучих мышей, сплетенные в причудливый узор. Тихо и грустно зашумят старые деревья маленьких сквериков. Сколько здесь давалось клятв! А тут — преступление… Участковый остановился напротив серого трехэтажного дома. — Вот здесь стоял… — он зачем-то притопнул, словно пробуя на прочность старый асфальт, и добавил, уточняя: — Автомобиль, в смысле… Литвин посмотрел под ноги, на дорогу, покрытую редкими темными мазутными пятнами с прилипшими к ним желтыми листочками. Взглянул на дома, затененные кронами деревьев, на глухую кирпичную стену нового здания старого московского театра. — Ну что, интересно? — с заботливой иронией спросил участковый. Литвин неопределенно пожал плечами. — Слышь-ка, Пал Степаныч, а старушек, ну из тех, что на лавочках с утра до ночи сидят, не пробовали поспрашивать? — Пробовали. — Кудрявцев, сосавший «Астру», сплюнул прилипший к губе табак, — не сидят сейчас до темна старушки. Захолодало вечерами. Он не скрывал, что считает это дело безнадежным и потому скучал. Но вдруг, перекладывая из руки в руку потертую полевую сумку, называемую с незапамятных времен в милицейском фольклоре «лентяйкой», предложил: — Может, к другому театру сходим? — Зачем? — удивился Литвин. — А там такой же случай был в этом сезоне. У меня их уже три вот тут, — Кудрявцев похлопал себя по загривку. — Вы, Пал Степаныч, уже на театральный манер время считаете, — усмехнулся Георгий. — Засчитаешь… — Кудрявцев злым щелчком отправил окурок в облезлую урну. — Я сначала радовался: повезло на старости лет. Жилой сектор небольшой, винных отделов мало, пивных и тех нет. Сплошная культура: кино, союзы разные, писателей там, художников, театры. Повышай культурный уровень без головных болей. Так на́ тебе!.. Лучше бы пивная… — М-да, — сочувственно протянул Георгий. — Неужели никаких зацепок? — Какой там. Одни заявления и протоколы. Ребята из розыска скоро от пострадавших прятаться будут. А мне куда прятаться, вроде как привидение по участку ходит. И ведь знает, подлое, у кого машины курочить. Один в ресторане в оркестре играет, другой ключ точит… — Что ж, по-вашему, они самые богатые что ли. — Не знаю, — буркнул Кудрявцев. — Только если по сумме ущерба судить, они всю жизнь на эти машины работали, не ели, пили и ходили, в чем мать родила. — И как, похоже? — Что? — не понял сразу Кудрявцев. — А-а… Нет, не очень. Одеты вполне прилично. В дефицит. — Понятно… Они вышли на бульвар и неспешно двинулись по аллее к центру. Впереди чернел старый памятник. Вокруг скамеек, громко крича, бегали детишки дошкольного возраста. Вторую половину дня Литвин провел в районном управлении. Три схожие кражи из автомобилей около театров, в центре города, его насторожили. Одно это позволяло предположить, что все три кражи — дело одних рук. Справедливо решив, что гражданин Минов на него не обидится, Литвин решил поработать по всем трем случаям сразу. Георгий снова и снова дотошно просматривал все материалы дел. В глубине души теплилась слабая надежда — может, упустили какую-то мелочь, которая и окажется ключиком ко всему поиску… Но хоть бы мельчайшая зацепка! Ничего. Фортуна упрямо стояла к нему спиной. Обобрать три машины, практически в самом центре города, взять кучу вещей и дефицитных деталей, не оставив ни одного отпечатка пальцев, не попав на глаза ни одному свидетелю… Мистика! Поневоле начнешь верить в привидения. Но привидения не пользуются металлическими заостренными предметами, проще — «фомками», когда вскрывают автомобили. Да и зачем призраку «Грюндики» и «Шарпы»?5.
Они сидели на кухне. Литвин никак не мог начать рассказывать. Придется в какой-то степени оправдываться, а он этого не любил. Хотя, кто же еще его поймет? — Ну?! — спросил Астахов. Георгию нравился стиль его работы. Тот мог выдвинуть самую, казалось бы, абсурдную версию и потом именно она оказывалась единственно правильной. Вместе с тем, обладая острым складом ума и склонностью к мрачному юмору, Владимир Астахов никогда не верил в непогрешимость собственных умопостроений. Сегодня, окончательно очутившись в тупике, Литвин именно к нему пришел за помощью. Когда в голове выстраивалось нечто изящное, логичное и красивое, Литвин раскрывал преступления с блеском. Но бывает, завязнешь в путанице фактов, и нет зацепочки, которая превращает всю эту неразбериху в кристаллическую решетку доказательств. Сейчас было так плохо, как никогда. Астахов внимательно посмотрел на Литвина. — Насколько это серьезно? — спросил он. — Серьезней не бывает. Все оказалось много сложнее, чем я предполагал. — Литвин помрачнел. — Что делать. Жестокие игры. Правила учат только на собственной шкуре. Ну, ты не скисай! Давай разберемся, что к чему. Георгий подробно рассказал Астахову о том, что удалось узнать. Тот внимательно слушал, рисуя узоры на бумажке. Когда Литвин закончил, он пододвинул ему листок. На нем был изображен неправильный треугольник с квадратами и крестиками по углам. — Насколько я знаю, самое трудное для тебя — начало дела. Вот здесь и нарисована отправная точка поиска. Тут — три твоих пресловутых театра, — Астахов ткнул в квадраты, — а тут, — он показал на крестики, — «раздели» машины… — Так… И что? — Соединим все квадраты. Получается треугольник. Теперь, по логике, искомое лицо — либо внутри (то есть правильна версия связи с театром), либо снаружи, что означает ошибочность выводов. Астахов замолчал и с видом победителя посмотрел на Литвина. — Глубокая мысль, — заметил он, вкладывая всю иронию в свои слова. — Держись, то ли еще будет, — не обращая внимания на тон собеседника, ответил Астахов. — Искать ни снаружи, ни внутри — тебе не с руки. По краям походить надо. По-моему, истина где-то посередине. Поинтересуйся театрами. Недаром он именно к ним привязался. Походи на спектакли. Заодно просветишься. — За неимением ничего лучшего воспользуемся твоим советом. Правда, боюсь — упрекнут в использовании служебного положения в корыстных целях. Но ничего другого не остается. Чуть помолчав, он спросил у Астахова: — Володь, а может, ты усложняешь? — Не думаю. Интуиция — инструмент тонкий. Им умело надо пользоваться. И расчетливо. Иначе расстроится. Ты наше дело как поэт воспринимаешь, все на творческом порыве. Это хорошо, но мало! Нужно одновременно выверять, как ученому. Вот сейчас ты должен уловить внутренний ритм в действиях преступника. Понял? Ритм! А не можешь добиться симбиоза лиры и алгебры — надо переключаться на другой вид искусства, ничего общего с сыском не имеющий…6.
ПРОПУСК в театр был как укор совести. Интеллигент! Последний раз выбирался на спектакль полтора года назад. Конечно, в компании он вполне мог поддержать разговор о театре. О трагедиях Эсхила и комедиях Аристофана, об использовании элементов театра дель-арт в современных постановках и прочая, прочая… Все! Георгий торжественно поклялся себе, что отныне, как бы много дел ни было, он будет ходить в театр не реже, чем раз в месяц. Лишние билетики начали спрашивать уже в троллейбусе. Какой-то бородатый парень еще за остановку стал обходить пассажиров. Очевидно, совершал челночные рейсы. Остальные жаждавшие попасть в театр пользовались старым методом — стояли на пути счастливых обладателей билетов. Чем ближе вход, тем чаще спрашивали. Литвин не спешил войти внутрь. Он остановился на ступеньках в стороне, рассматривая идущих. До начала оставалось немного, минут семь. Счастливчики с билетами торопились, на ходу бросая: «Нет, нет, не будет». Иногда неудачники дружно кидались к одному месту, оживленно галдя, толкаясь и запрыгивая друг другу на плечи, как регбисты во время вбрасывания. И вот один счастливчик, сжимая билет, входил в театр, а остальные разбредались по облюбованным местам. — У вас нет лишнего билетика? Литвин обернулся. Рядом стоял невысокий симпатичный парень лет двадцати, в потертых джинсах и пятнистой, как у десантников, куртке. — Нет, — улыбнулся Литвин. — А может, появится? — Парень изучающе смотрел на Георгия. — Да нет, я не по билету. — По пропуску? Это, обычно, на двоих. Литвин достал блестящий кусочек картона и посмотрел. Действительно, в уголке надпись, которую он сразу не заметил: «На два лица». — Ну, хорошо, — сказал Георгий, — пойдемте. — Сколько с меня? — «десантник» машинально полез за кошельком. — Нисколько. Пропуск бесплатный. Обладатель потертых джинсов недоверчиво взглянул на собеседника и, увидев, что тут без подвоха,сказал скороговоркой: — Спасибо, извините, я сейчас! Только… вы — никому… Хорошо? — и, не дождавшись ответа, нырнул в толпу. — У вас не лишний?.. — к Литвину подошла стройная девушка с красивыми темными глазами. Георгий растерялся. Он, конечно, обещал, но с другой стороны… Девушка так улыбнулась, что решение пришло само собой. — Нет, нет! У нас уже нет лишних билетиков. — Парень в десантной куртке появился откуда-то сзади и мгновенно оценил обстановку. Литвин взглянул на девушку. — Увы! Мне очень жаль… Она снова улыбнулась, но не отошла. Они смотрели друг на друга. — Скоро начинается, — негромко, глядя куда-то в сторону, словно ни к кому не обращаясь, напомнил «десантник». Литвин очнулся. — Извините, — сказал он незнакомке, и уже обращаясь к парню: — Пойдем. «Может, оно и к лучшему, — подумал он. — Рядом с такой девушкой думаешь совсем не о деле». Скрипнув креслом, Литвин устроился поудобнее. Рядом парень вертел по сторонам головой. «Хорошо ему, — подумал Георгий. — А мне?.. И здесь я — на работе». Правда, чем именно он сейчас будет заниматься, Литвин пока не знал. Но именно здесь, в зале, у него родилось ощущение, что театр — действительно пока единственная зацепка в его деле. И занавес поднялся…7.
ВЕЛИКОЕ дело — театр! Как ни глобальны проблемы, а все равно разрешимы. Пьеса… А у него ясностью пока не пахнет. Главную идею спектакля он понял, а логику преступника еще нет. Может, по поводу театра лишь пустые домыслы? Хотя зачем тогда курочить машины именно у театров? И именно те, чьи хозяева наслаждаются в тот момент искусством? Злоумышленники знали, куда лезть. Впрочем, очевидно, злоумышленник. Несколько человек привлекли бы больше внимания. Да и вещей взято не так много. Хотя, тоже не поймешь… Георгий еще раз мысленно перелистал списки похищенного. Одному — явно не унести. Например, лобовое стекло. Да и чехлы, как ни сверни, а все равно приличный тючок получится. С ним, да японской стереосистемой под мышкой по улицам не слишком погуляешь. Даже москвичи, привыкшие уже ко всяким странностям, обратили бы на это внимание. Может, он на «колесах»? Проблем хватает. Время идет, а ничего путного. Театр можно занести в графу «культурный досуг». Свидетелей нет, от встреч с потерпевшими тоже мало утешенья. Вот уж, действительно, спектакль. А что? «Следствие как зеркало московской жизни». Чем не пьеса? С прологом и эпилогом. Пролог известен. А вот и первая сцена. Условное название — «Минов». Зрители видят большую комнату. Впрочем, большую по площади. Но из-за нагромождения мебели и всевозможных вещей жизненного пространства осталось немного. Вещи все дорогие и, сами по себе, изящные. Резные буфеты красного дерева, каминные часы из малахита с золочеными фигурками, огромный диван. Стулья, стол, которые, вероятно, видели взлеты и падения многих монархов. Хрустальная люстра — осколок былой роскошной жизни древнего дворянского рода. В совокупности эти вещи напоминали странное блюдо, в котором хозяйка смешала разные продукты — от бананов до шашлычного соуса. Сбоку сцены — кухня и маленький коридорчик. Собственно, здесь и будет разворачиваться действие. Потому что в комнату хозяин Литвина так и не пригласил. Георгий вспомнил его оценивающий взгляд. И немедленный результат оценки: «Проходите на кухню. Оденьте тапочки… Сами понимаете, прислуги не держим». — Нашли? — первое, что спросит со сцены Минов, как спросил он в жизни. Литвин ответит ему спокойно и бесстрастно. Пусть хоть на сцене будет легко справляться с хамским к себе отношением. Ответит, что все еще впереди, а сейчас хотелось бы кое-что уточнить. Минов удивленно поднимет брови и с осуждающей укоризной произнесет: — Так жулики до сих пор гуляют на свободе? — И поправит витые шнуры на элегантной домашней куртке. — Вам никто не угрожал? Нет ли у вас врагов, или, скажем, недоброжелателей? — Хватает… Вам бы надо это знать, раз моим делом занимаетесь. Я вам, молодой человек, так отвечу — скажи мне, сколько у тебя врагов, а я тебе скажу, чего ты в жизни достиг. Но мои-то враги потрошить авто не будут. Мелко… Речь у Минова солидная, но в ней проскакивают словечки, совершенно не подходящие к его респектабельной фигуре. — Тогда кто? Как вы думаете, кто именно на вашу машину мог посягнуть? — За эту работу вам деньги выписывают, — высокомерно заявил Минов. — Пусть у вас и голова болит. Не найдете — пожалуюсь. Прямо говорю. Я человек простой. Мне надо ущерб возвернуть. Вот опять: «возвернуть»! — Мне хоть часть. Я ведь не все еще вписал. Чего мелочиться? Да и цены впопыхах занизил. (Здесь актеру так надо сыграть, чтобы все поняли — такой и тряпку замасленную не забудет внести в список.) — Может, на работе кто проявлял нездоровый интерес? — спросит Литвин на сцене. — На пенсии я, — гордо, как о награде, сообщит Минов — По инвалидности… Сердце не то. Пять лет уже… И он постучал по столу крепкими мясистыми пальцами, которые как и лицо «инвалида», были покрыты ровным южным загаром. — Автомобиль вы купили год назад. С пенсионных накоплений? — У жены наследство… Тетушка оставила, — с вызовом ответил пенсионер. — А жена у вас, простите, кто? — Директор. В магазине, — ответил Минов и, пресекая вопросы возмутился: — Это что? Я под следствием? Вы мне деньги верните, как полагается. Я ведь и к вашему начальству пойду. Жаловаться… С хозяином они еще чуть пообщаются. Выяснится, что Минов москвичом стал лет десять назад, удачно женившись. Зато по делу — ничего. Нет, неинтересным будет такой спектакль. Ни действия, ни приключений. Только неприкрытое высокомерие и хорошо скрытый, но все же заметный страх. И то, и другое порождено деньгами, которые их хозяева не заработали, а «сделали». Или, к примеру, сцена вторая — Сергей Семенович Полуэктов, слесарь скромной мастерской «Металлоремонт». Сама любезность. Невысокий, сухонький человек буквально не знал куда посадить гостя. Долго вертелся около бара. Литвин вспомнил, как хозяин сначала было взялся за бутылку с яркой наклейкой «Мартини», но, подумав, достал скромный венгерский рислинг. Когда же Георгий отказался, сославшись на службу, Сергей Семенович даже едва облегченно вздохнул. На вопросы об автомобиле отвечал вяло и неохотно, словно неприятно было о нем вспоминать. Как выяснилось, тот, «раздетый» автомобиль, уже продан. А жена через своих клиентов, она закройщица в люксовом ателье, достала новую машину. — Но вы понимаете, я к этому никакого отношения не имею, — быстро добавил Полуэктов, нервно крутя на пальце массивную золотую печатку. — Скажу откровенно, я ведь с ней в разводе. И отчасти из-за этого. Уважаю социалистическую законность… Потом он заявил, что «не уважает» накопительства, показывая на старую бронзу, хрустальные вазочки… Относительно подозрительных моментов того вечера он только промямлил, что какой-то тип в буфете наступил ему на ногу, а потом пошел в туалет. Может, он?.. И снова забыв о вопросе, Сергей Семенович начал быстро и много говорить о том, как важна честность и порядочность в нашей жизни, все так же нервно вертя на пальце золотую печатку… Литвин был уверен, что Полуэктов, закрывая за ним дверь, облегченно вздохнул. Ну, как это поставить на сцене? Воришка, делающий состояние на ключах, сломанных замочках и «фирменных» пуговицах. Следующая сцена — квартира третьего пострадавшего — и вовсе из области театра абсурда. Пар пять всевозможных звуковых колонок, которые помимо своего прямого назначения, использовались как мебель, вместо полок, столов, подставок. На одной валялись старые джинсы, на другой — книги и ноты, на третьей — дымился чайник. У дивана, еще сохранившего остатки некогда покрывавшего его темно-зеленого велюра, стоял на полу шикарный телефон в стиле «Ретро». Рядом с ним, в аккуратном футляре, лежала электрогитара. Хозяин квартиры — Вадик — крупный бородатый мужчина, в модной, но грязной майке и линялых до белизны джинсах, никак не мог понять, чего хочет Жора (так сразу он стал называть Литвина, несмотря на некоторое его сопротивление). — Ну, чего машина, — небрежно цедил он, — ну, «сделали» меня на пару «штук». Плевать… Мутотень все это! Я бы и не заявлял. Да уехать не мог. Гаишник привязался. Ничего… Ко мне придут и сами отдадут. Ты слушал последний диск Урия Хип? От делают мужики! Особенно там соло. А барабаны… Вадик, по документам Вадим Викторович Абрамов, был руководителем вокально-инструментального ансамбля «Веселые струны», которые каждый вечер звенели в ресторане «Пересвет». Репертуар их отличался широтой и многообразием. От лучших вещей «Битлз» до «Ах, Одесса» и пары блатных песен с картинками, которые, надо отметить, музыканты обозначали лишь намеками и паузами. «Струны», по определению специалистов, относились к великой армии «лабухов» и на большее не претендовали. — Ты, Жора, не переживай. Я помогу. Ей-богу! Увижу кого — сразу сообщу! Только вот не помню никого… В театр меня тетка одна завела. Не хилая такая девочка… Литвин понял, что под «теткой» подразумевалась отнюдь не родственница. — …Хороший ты мужик… Помог бы чем, да не знаю… — говорил Вадик, провожая Литвина. — Приходи лучше так, просто. Кирнем. Девочек выпишем. Давай?.. Хочешь, в «Пересвет» забегай. Скажешь — ко мне, сразу пропустят… Вот такой бессвязный разговор. Целых полтора часа потеряно. Трудно, конечно, рассчитывать, что каждый захочет понять милиционера, но все же… Кто на сцене будет ставить такую белиберду? Литвин пододвинул к себе последнюю сводку. Ярко-оранжевым фломастером было отчеркнуто краткое сообщение о краже ценных вещей из личной автомашины ГАЗ-24, принадлежащей гражданину Мигачеву И. А. Кража произошла вчера вечером. У того театра, с которого преступник начал.8.
— …СОВСЕМ скис? — Астахов подсел к столу Литвина. Георгий неопределенно пожал плечами, бессмысленно листая свой рабочий блокнот. — Что дальше делать думаешь? — Астахов продолжал спрашивать, хотя Литвин всем своим видом показывал, что он готов послать к черту любого, кто будет приставать к нему с расспросами или сочувствием. — Понятно, — спокойно сказал Астахов, так и не дождавшись ответа. — Не смею советовать, но лично я продолжал бы работать по своему плану. Караван-то идет… Литвин молчал. — Будь у меня такая возможность, я из театров бы и не вылезал… Литвин еще немного посидел в своем упругом старинном кресле, героически спасенном от трех списаний и посягательств вредной уборщицы, пытавшейся несколько раз «увести» его в «неизвестном направлении», потом встал, угрюмо буркнул, что он к пострадавшему и вышел на улицу. К пострадавшему он не собирался. В таком настроении лучше с людьми не встречаться. Напугаешь. Выйдя из Управления, Георгий подошел к «Эрмитажу». Неужели его просто перехитрили?.. Без всяких затей… Может, стоит присмотреться к администраторам театров? Формально сходится. Они имеют возможность контролировать и даже подбирать нужных зрителей, свободно входить и выходить, наверное, у них есть и возможность получать билеты в другие театры?.. Хотя бы в порядке дружеского обмена. Только как-то слабо представляется, что человек на таком престижном ныне «месте» будет заниматься не слишком «уважаемым промыслом». …До спектакля оставалось минут двадцать, и Литвин не торопился. — Простите, — окликнули его сзади. Литвин оглянулся. Перед ним стоял знакомый искатель лишних билетов. Все в той же куртке со множеством кнопок и карманов, вытертых джинсах, с холщовой сумкой через плечо. — Привет, — удивленно сказал Литвин. — Извините, а сегодня у вас лишнего билетика не будет? — вежливо, но заинтересованно спросил парень. — Будет, — ответил Литвин. У него снова был пропуск на два лица. — Ты что, вычисляешь, когда я в театр пойду? — спросил Георгий. — Почему вычисляю? Сегодня ведь премьера! — Премьера? Понятно… — задумался Литвин. — В прошлый раз, когда мы с тобой виделись, тоже была премьера? — Тоже… — И тогда, значит… — скорее себе, чем собеседнику сказал Литвин. — Прекрасно! Пошли быстрей. — Пойдемте. Только до спектакля еще много… — он что-то хотел добавить, но не успел. Литвин быстро зашагал к входу, и парень бросился за ним, боясь упустить свой шанс. — Стой здесь, — сказал ему Литвин у двери с табличкой «Администратор». Парень послушно застыл на месте. Георгий протиснулся сквозь толпу у окошечка и резко постучал в запертую дверь. — Вам что? — выглянула грозная женщина в велюровом костюме, но, увидев удостоверение МУРа, посторонилась, пропуская Георгия в служебное помещение. — Могу воспользоваться вашим телефоном? — спросил Литвин. — Да, да, конечно. Пойдемте ко мне… Они прошли в хорошо обставленный кабинет с красивым ковром на полу. — Пожалуйста, — она указала на аппарат. Георгий выразительно посмотрел на нее. Усмехнувшись, она вышла. Литвин быстро набрал номер. — Саш, ты? Литвин. Посмотри там, по сводкам, когда точно мои машины курочили. Да. Давай даты… Так, записываю… Ага… Есть, есть… есть… Да нет, нет пока ничего… Литвин вышел из кабинета и приоткрыл заднюю дверь комнаты с окошком. Администратор кому-то давала пропуска, кому-то отказывала. Георгий сдержанно откашлялся. Женщина в велюровом костюме повернулась. — Вы еще что-то хотели? — Да. Простите, я не знаю, как вас зовут… — …Зоя Васильевна. — Зоя Васильевна, у вас есть репертуар театров за последние два месяца? — Вы меня обижаете. Конечно, есть. Юлечка, — обратилась она к своей помощнице, — помоги товарищу. Так, быстро ищем театр… Дату… Сходится! Премьера! В другом? Тоже есть!.. И третий — в точку!.. «Кричали женщины ура»… Женщины «ура» не кричали. Все пропуска были выданы, и они, закрыв окошко, с любопытством смотрели на странного посетителя! «Нахлебник Мельпомены» прекрасно разбирается в театральной публике. На премьеры случайные люди попадают редко. Этим-то он и пользуется. Теперь надо понять, как? Но это уже дело техники… — Всем спасибо! — Георгий вышел в фойе. Парень добросовестно стоял на том же месте, где его поставили. — Пошли, — сказал Литвин, — тебя как зовут? — Петр… Петя… — Спасибо тебе Петр-Петя! Огромное спасибо. — Мне? — Петр ошарашенно посмотрел на своего повеселевшего спутника. — За что? — А так… Спасибо и все! — Да!.. Ну, пожалуйста, — Петя пожал плечами. В конце концов, если человек хочет сказать спасибо, пусть говорит. А у Литвина настроение сильно поднялось. «Зацепочка, зацепочка», — напевал он про себя. Как же вовремя подвернулся этот юный театрал. Премьеры — вот разгадка! Тогда были премьеры. И сегодня… Литвин внимательно огляделся. Публика весьма приличная. Так, может быть, и сегодня?.. Что же делать? Он в раздумье остановился у гардероба с плащом в руках. Вызвать оперативную группу? На каком основании? Предупредить ребят в отделении и в райуправлении? О чем? Что ему, Литвину, интуиция подсказала о готовящемся преступлении? Правда, он не знает, где оно произойдет и когда и кем будет совершено… М-да, не очень как-то… Глупо? Но если вдруг?.. Тогда будет еще глупее! И он нырнул в толпу, к телефону-автомату… После спектакля его встретили у театра два знакомых парня из местного отделения. Усталые, злые, голодные…9.
В ТОТ ВЕЧЕР так ничего и не произошло. Ни у этого театра, ни у других. Снова все затихло. Но Литвина это не обескуражило. Он начал ощущать азарт погони за приоткрывшейся тайной. Вот она, уже рядом, протяни руки и… Георгий проверил по картотеке всех известных автоворов, почерк которых хоть как-то напоминал последние случаи. Не так уж много их оказалось. Двое отпали сразу. Один готовился выйти на свободу, как он уверял руководство исправительно-трудового учреждения «с чистой совестью». Другой только начал перевоспитываться. Третий имел абсолютное алиби. С ним Георгий когда-то встречался: тот не раз проходил по разным уголовным делам. Теперь того скрутила язва. Навестившему его Литвину он обрадовался. Смотрел грустными глазами и с самого начала разговора, потупясь, попросил, чтобы Георгий не проговорился здесь, кто он и зачем пришел. Что делать… Остальные тоже отпали по тем или иным причинам. Литвина это даже не огорчило. Последняя версия подтверждалась. Прежде всего, внимательно просмотрев афиши, он понял, что преступник ходит не просто на премьеры, а старается попасть на один из первых спектаклей, когда в театре собирается самая престижная публика. Причем интересует его не каждая премьера, а обязательно в известном театре, куда ни с какой нагрузкой билеты не достанешь. Что из этого? А то, что «нахлебник Мельпомены» хорошо знал театр! И не только по рецензиям. Он должен крутиться если не в самих театральных кругах, то хотя бы в околотеатральных. Вот и направление поиска. Литвин наслаждался чувством полета, пока не зазвонил телефон. — Георгий, ты? — спросили на том конце провода. — Здоров… Володя Майоров… Хорошо, что узнаешь… Ты, вроде, о всех «раздетых» машинах запрашивал данные? Так вот, у нас опять вчера было… — Когда? Где? — Литвин быстро подвинул чистый листок бумаги и взял ручку. «Обобрали» новенькие «Жигули». У театра. Как обычно, вечером. Литвин торопливо поблагодарил, повесил трубку и полез в стол за репертуарным сборником. Он уже выучил все даты премьер. А вчерашний день вроде выпал из памяти. Что-то необычное с ним — раньше никаких признаков склероза не наблюдалось. Быстро отыскал нужную страницу… театр… день… «Деревянные кони». Старый, традиционный спектакль для этого театра. Подлый внутренний голосок ехидно захихикал. Георгий снял трубку, набрал номер. — Алло, театр?.. Добрый день… Литвин беспокоит, из МУРа. С кем, простите, разговариваю?.. Федор Петрович, вы не подскажете, какой у вас вчера вечером был спектакль?.. «Деревянные кони»… Точно? И не было замены?.. Нет… Спасибо, до свидания. Нет, нет, ничего не надо… Конечно, обращусь, непременно… До свидания. Вот тебе и ровное течение «дедуктивного» метода! С отпечатками пальцев все-таки попроще. Особенно, когда их хозяин проходит по картотеке. Чего «нахлебника» потянуло на этот спектакль? Решил сменить отработанную систему? Зачем? Мужик-то, по всему, ушлый, привык бить в десятку. А на обычном спектакле с клиентурой можно пролететь. Вопросы повисали в воздухе гирляндой. И ответов на них не было…10.
СТАВШАЯ такой родной, версия рушилась, как дом, в котором ты успел обжиться. Плюнуть на старый и построить новый? Стекло, бетон, вместо избушки на курьих ножках. Но делать этого Литвин не хотел. Эмоции восставали против фактов. И зачем торопиться? Георгий решил встретиться с предпоследним потерпевшим. Он тоже выпадал из привычного ряда. Иван Александрович Мигунков, слесарь-станочник крупного завода. Недавно награжден орденом «Знак Почета». В общем, человек интересный для многих, только не для «нахлебника». Потерпевший жил в Перове. Во дворе Георгий увидел «Волгу», заботливо покрытую брезентовым чехлом… «Странно, даже марку машины переменил. Раньше только «Жигули» брал», — подумал Литвин, обходя под любопытными взглядами старушек, «дежуривших» на скамейках у подъездов, машину. Квартира Мигункова была на четвертом этаже. Георгий бодро взбежал по лестничным пролетам, перевел дух и нажал кнопку звонка. За дверью громко закукарекало. Литвин от удивления нажал на кнопку еще раз. Снова закричал петух. Появилось желание попробовать еще, но в этот момент дверь открылась. На Георгия внимательно смотрела полная моложавая женщина. — Здравствуйте, — сказала она и, не дожидаясь ответа, пригласила: — Проходите. Литвин вошел. Хозяйка мельком, но с интересом взглянула на удостоверение и крикнула: — Ваня! К тебе товарищ из МУРа. Мгновенно из комнаты выскочил шустрый мальчишка лет десяти и, держась на почтительном расстоянии, стал не отрываясь рассматривать «живого сыщика». Следом за ним появился высокий мужчина с густой проседью в волосах. Литвин объяснил, зачем он. Иван Александрович пригласил его в комнату. В дверях Георгий оглянулся. Мальчишка все так же, приоткрыв рот, смотрел на него. Литвин не удержался и показал ему язык. Тот ответил и… попался на глаза Ивану Александровичу. — Игорь! — сказал он строго. — Нам тут с товарищем поговорить надо. А ты иди, иди… телевизор вон посмотри. Мальчик нехотя ушел. — Внук? — поинтересовался Георгий. — Да нет… сын… Младший. Старший-то в армии… Припозднились мы с матерью… Иван Александрович махнул рукой. Дескать, обычные заботы. — А вы, наверное, по поводу машины? — Мигунков отвлекся от семейных проблем. — Да. Может, поможете чем? Ну, предположим, что необычное заметили или новое вспомнили? — безнадежно спросил Георгий. — Трудно сразу, вот так… Мы вроде все уже рассказали. Надя! — Из кухни, неся на подносе чашки с чаем, появилась жена. — Надя, ты не спеши, присядь-ка… Вот тут товарищ интересуется: в тот день, когда в машину нашу залезли, не было ли чего такого необычного? Женщина задумалась. — Рада бы, — протянула она, — ничего, хоть убейте. Да и какие там необычные вещи. Все как обычно. Даже вот Ваня, Иван Александрович, — поправилась она, — как всегда, впритык к самому началу приехал. Словно на десять минут пораньше приехать нельзя. — Ладно, ладно, — пробормотал хозяин, — это товарищу не интересно. — Зато нам интересно было. Спектакль вот-вот начнется, а мы еще на дороге шастаем. Едва место нашли в переулке! — Не мы же одни, — оправдывался Иван Александрович. — И что из того? Нашел утешение, — не успокаивалась женщина, добродушно отчитывая мужа, потом пояснила: — Мы только встали, а там, глядь один на «Жигулях» по переулку ездит. Медленно так, туда-сюда. Место искал. Вот мой сейчас на него и кивает. — А вы рядом с какими машинами стояли? — Первые «Жигули», — авторитетно ответил Мигунков, — а сзади ижевский «Москвич». — О том, опоздавшем, подробнее можете рассказать? Литвин задал вопрос просто так. Неудобно было уходить сразу. Новой информацией и здесь не пахло. — «Жигули», — начал хозяин, вспоминая, — мы это уже вроде говорили? Модель — третья. Цвет темный. То ли синий, то ли коричневый — врать не буду, не помню. Ну и… все. Начали прощаться. — Так что, не ловится пока преступник? — сочувственно спросила Мигункова. Муж сердито посмотрел на нее — дескать, что попусту спрашивать. — Ищем, — неопределенно ответил Литвин. — Да мы так, из любопытства, — стараясь загладить неловкое впечатление, зачастила женщина. — Да и взять-то у нас ничего серьезного не взяли. Лишнего мы в машине не держим. Не игрушка — автомобиль. А вы заходите, заходите к нам. По делам или так — чайку попить. Внизу Георгия проводили взгляды все тех же бдительных старушек, гадавших, к кому приходил этот высокий, красивый.11.
ЛИТВИН вошел в свой кабинет и сел за стол. Чистый — противно посмотреть. Зазвонил телефон. Трубку поднимать не хотелось. Телефон не отставал. «Шесть»… — отсчитал Георгий и сдался. — …Алло… Привет… я не пропал… просто закрутился… серьезно… Ну, не обижайся… Хорошо, обижайся, но не сейчас. Я скажу когда… Да, неприятности… Конечно, по службе… И правильно, все равно бы не сказал… Развеяться?.. В театр?.. — это было уже смешно. — Понятно, что давно не были… Когда?.. Завтра… в «Сатиру»… Это как тебе билеты удалось достать? Ах, министерство ради праздника закупило… Боюсь, не смогу… Вряд ли, при таком режиме… Какая дура будет терпеть мой режим? Нет, это не ты дура. Наоборот… Придется брать меня в мужья? Что ж, мы люди подневольные. Как сильный пол скажет, так и будет… Нет, это служебный телефон и я таких вещей по нему говорить не буду. Ну, целую… Ладно, не по телефону. Вот встретимся… Все, все, при встрече… Завтра позвоню. Пока… Надо же! В театр пригласила. Век бы его не видеть. Заботливое у них начальство. Купить спектакль!.. Литвин усмехнулся. Но улыбка так и застыла на лице… Конечно!.. Купить спектакль!.. Вот где отгадка. Он поднял еще теплую трубку. — Алло, Федор Петрович? Литвин беспокоит. Я вам несколько дней назад звонил… Еще один вопрос… Да нет, небольшой, думаю, никаких бумаг не нужно. Билеты на тот спектакль, помните, «Деревянные кони», как распространялись?.. Никак?.. Все билеты были закуплены трестом? Да, да, знаю… Что вы, к вам никаких претензии… Еще один вопрос. Кто об этом знал?.. Все знали… Объявление было… Вот как… Билеты оставались? Пропуска?.. Можно уточнить, на чьи фамилии?.. Жду… Записываю… Спасибо. Всего доброго. Вот и все. Не ломается версия. Сам себя запутал. И сам себя испугался. Здесь наш «нахлебник» и накроется.12.
ОСЕНЬ в городе, как королева балов на исходе красоты. Нет в ней лесной умиротворенности и спокойной мудрости увядания. Бросает яркие листья под колеса мчащихся машин, словно хочет откупиться от ползущей зимней стылости. Только уже чернеют голые корявые ветки, которые нечем прикрыть. А машины все мчатся и мчатся. Они не помнят ничего. У них нет памяти. Георгий любил эти дни последних праздников природы. В такое время приходят самые неожиданные идеи. Как раз это ему очень нужно. «Технология» преступления в общих чертах уже ясна. Теперь надо уловить тактику «нахлебника Мельпомены». Как он выбирает жертвы? Если отбросить случай с «Волгой», проколов у него практически нет. Но раз преступник знает заранее, чью машину вскрывать, то как? Кассы именные билеты не продают. Контрамарку или пропуск можно отдать знакомым. Он сам пробовал проверить список на закупленный спектакль. Ничего не вышло. Литвин подошел поближе к входу в театр и встал к большому дереву, которое росло чуть наискосок от подъезда, на другой стороне улицы. Издали движение у входа казалось хаотичным, лишенным смысла. Но в этой сутолоке его глаза уже различали свои, сами собой сложившиеся законы и правила. И сегодня Георгий решил в них окончательно разобраться. Люди вели себя по-разному. Некоторые не торопясь шли к подъезду и заходили внутрь. Эти, понятно, с билетами. Чуть в стороне стояли безмолвные наблюдатели, временами нервно поглядывавшие то на часы, то по сторонам. Договорились о встрече, наверное, и теперь дожидаются спутников. Женщин среди ожидающих было почему-то значительно больше. И, наконец, самые беспокойные — «ловцы» лишних билетов. Среди этой группы Литвин с удивлением обнаружил и своего знакомого Петю-Петра. Георгий усмехнулся. Сегодня он ему ничем не может помочь. Впрочем, парень скорей всего будет в театре. Вон как профессионально подходит к своему делу! Не бегает, не суетится. Сначала обошел всех ожидающих и с несколькими, кто особенно часто поглядывал на часы, тихо поговорил. Потом встал в стороне, но не далеко. Ожидающие все время были в поле его зрения. Как и остальные. Петя тоже весьма активно начал спрашивать лишний билетик. Но, похоже, не столько, чтобы купить, сколько для привлечения к себе внимания направлявшихся в театр. Правильно, чаще всего люди продают билеты не вообще, а особо отмеченным. Он четко различал «театралов» и просто прохожих. Больше всего Георгия заинтересовало, как его знакомый относился к тем, кто приезжает на машинах. По каким-то только ему известным приметам, он реагировал на нужные автомобили. Все остальные, пусть они даже останавливались напротив дверей театра, оставались без внимания. Вот оно! Не нужно специальной проверки списков зрителей. Наметанным глазом можно определить, кто из владельцев шикарных дворцов на колесах пойдет наслаждаться искусством. Затем достаточно проконтролировать, чтобы «кандидаты» действительно вошли в зал, а не к знакомым артистам или в буфет за осетриной на день рождения, и… начинается «работа». Точнее, начинается она во втором акте. Темнеет рано, а со второго акта премьер редко кто уходит. Тем более, что жертвы «нахлебника» ближе к торговым кругам, чем к театральным. А там принято выжимать все из потраченных денег. Вот и последний узелочек на сети. Даешь отечественного Мегрэ!13.
В МАШИНЕ сидеть не хотелось. До антракта еще черт-те сколько. Но в машине… Чего придумывать, просто не хотелось. Сегодня вчерашние догадки уже не казались столь гениальными, а идея с засадой — такой великолепной. И вообще, все… Может, потому, что в сегодняшнем календаре биоритмов у него два нуля? Ну, это полная чушь… Дело в разговоре. Случайно услышал. Ребята из опергруппы его не видели и говорили спокойно. — Не ценили мы раньше тихой жизни, — проворчал один. Второй, куривший около машины, удивленно поднял голову. — Ты о чем? — О сегодняшнем. В разных засадах приходилось бывать, но за «призраком» еще не охотился. — Астахов сам у начальства пробивал… — Добрый он слишком, Володька. Выручает. А мы — отдувайся?.. — Да, могут малому «вмонтировать» по первое число… Переведут куда-нибудь… — Понятно! Куда поспокойнее — там, где заваливать нечего. Вроде неплохо начинал, А тут запутался. Это о нем, о Литвине… На кого обижаться? А если сам виноват? Может, что-то перемудрил? Не заметил? Литвин сорвал веточку, стал покусывать ее. Назад дороги нет. Сейчас — тем более. Впрочем, что он нервничает? Рискнул? Так обдуманно. Не в пруду пескаря голыми руками ловит. Работает «нахлебник» в дни премьер? Работает. Сегодня премьера. У престижных театров? Здесь именно такой. И публика хоть на прием к английской королеве. Здесь все готово. План вместе с Астаховым прикидывали. Хотя проверить еще раз надо. Так: выходы перекрыты — служебные, пожарные, запасные, подвальные; машина на случай погони — в самом удобном месте. Гаишники — предупреждены. Рация в театре действует, сам проверял. Литвин подумал о Викторе и улыбнулся. Томится сейчас, бедняга, в зале. Это «удовольствие» ему уже пришлось испытать. Спектакль, судя по отзывам, великолепный, а ему людей в зале контролировать надо. Сидеть в незаметном уголке. И контролировать, контролировать… Чем не пытка для культурного человека? Начал накрапывать мелкий дождь. Противный такой. А еще вчера был теплый день. Отчего бы циклону не появиться этак денька через два, ну, на худой случай — завтра? Вот она, романтика сыска: стоять под навесом старого ларька и вглядываться то в освещенный театральный подъезд, то в темень переулка. Литвину стало жалко себя. Какая-то сволочь наслаждается теплом в уютном кресле, лениво следит за игрой актеров и лелеет преступные замыслы. А тут вполне интеллигентный человек, офицер, с высшим образованием, стой на ветру, в сырости и грязи, И никто не оценит такого трудового подвига! Кроме, пожалуй, врача, когда тот констатирует ОРЗ с обильным насморком. Антракт. Люди выходят из подъезда. Хорошо, что он освещен. Эти уходить не собираются. Курильщики. Из тех, кто предпочитает померзнуть, но не толкаться в тесной курилке. В основном мужчины. Несколько женщин тоже решили выйти на воздух. Литвин рассматривал стоявших у подъезда не очень внимательно. Он дожидался не их. Его «долгожданный» не должен стоять и курить. Ему в театр возвращаться нет никакой нужды. Ага! Выходит мужчина. Средних лет, невысокий, в плаще и шляпе. Внешность вполне подходящая для «негромких» дел. Вслед за ним выскользнула из дверей женщина. Замшевое пальто, светлые сапоги. Аккуратно прошли сквозь толпу курильщиков и, не торопясь, направились к метро. Нет, это, кажется, не те, кого он ждет. Высокий молодой мужчина с пышными курчавыми волосами решительно распахнул дверь подъезда и шагнул на тротуар. Этот тоже задерживаться не будет. Точно. Только идет не к метро, а совсем в другую сторону. Широкие у него плечи. И руки, чувствуется, не слабые. Унести может много. Правда, в той стороне остановка троллейбуса и автобуса. Да, он, не сворачивая в переулок, идет дальше по улице. Выбежала хрупкая девушка в яркой куртке, с длинными светлыми волосами. Ну, это совсем бесперспективный вариант. Звонок. Еще один. Начинается второй акт. Больше никого. Логично. С таких спектаклей редко уходят. Значит, кто-то из тех?.. А может, опять мимо? Не должно бы… Заработала рация. Это Виктор. В зале не хватает четверых. Ряд… Все, второе действие он может смотреть спокойно. Наблюдения сошлись. Если кто-то из тех, прекрасно. За каждым установлен контроль. С других выходов информации не было. Там все спокойно. …Уже десять минут идет второе действие. Пока ничего, тишина. Двадцать минут… Опять прокол! Конечно, людей с постов до конца спектакля он снимать не будет. Но что это даст? Где-то в глубине дворов загудело. Странная сирена. Пожарные, что ли? Лишь через несколько секунд дошло — орет противоугонная сигнализация. Литвин сразу забыл о мрачных мыслях, холоде и дожде. Около темной подворотни столкнулся с Сашкой. — Один? — часто дыша, спросил Георгий. — Остальные на местах, — выдохнул Саша, — вдруг еще что… — Ага, — согласился Литвин. — Ладно, побежали… Клаксон выл и выл на одной ноте, равнодушно и противно, словно понимая, что хозяин, которому этот сигнал нужен больше всего, не услышит, но все равно выполняя положенное с безразличным усердием. Из подворотни Литвин и Саша выскочили в широкий переулок. Очень широкий. Хоть парады устраивай. Парады — в прошлом! Сейчас все было забито машинами. Под мощным светом единственного прожектора их крыши отливали одинаково холодным и мокрым металлом. Тени между ними — фантастические провалы в земле. Поди разберись, что там скрывается? Сашка побежал блокировать другую сторону переулка. Литвин внимательно огляделся. Никакого движения. Словно никого и не было. Только вой сигнализации. Осторожно, держась в тени, он подошел к воющим «Жигулям». Понятно, колеса хотели снять. Вот переднее поддомкрачено. Рядом валяются снятый колпак и гаечный ключ. Странно, «нахлебник» раньше колесами не интересовался. Георгий выглянул из-за машины. Никого. Уши уже привыкли к гудению и практически не слышали его. Ему показалось, что где-то недалеко раздался металлический звон. Точно! Вот еще… Справа! Георгий двинулся туда. Где, где прячется преступник? За «Москвичом»? Никого. За голубой «шестерочкой»? Пусто… Да тут, среди этого мокрого железного стада, проверяя машину за машиной, можно всю ночь бесцельно бродить. И вдруг краем глаза Георгий заметил движение. Легкое, едва уловимое. Он оглянулся. Старенький «Запорожец» стоял боком ко всем прочим машинам. За колесом, в узкой полоске света был виден носок крепкого ботинка. Вот он тихо исчез. Зато через секунду показалась рука, схватившая лежащую на земле монтировку. Литвин, прыгнув вперед, наступил на монтировку. Кто-то охнул, но руку все же выдернул. И тотчас из-за машины выкатился кудлатый парень, не сумевший удержать равновесия. — …Вставай! Милиция! — жестко приказал Георгий. Честно говоря, он был разочарован. «Нахлебник» представлялся ему совсем другим. Парень сел, быстро стрельнул глазами по сторонам. Зачем-то вытер руки о куртку из темного кожзаменителя. — Чего? — басом спросил он. «Лет восемнадцать», — прикинул Литвин. — Вставай, говорю. — А-а, — протянул парень, словно только сейчас до него дошло сказанное. — Ну встал… Оперся рукой о землю и легко поднялся. Высокий, дешевые расклешенные джинсы. Такие носили в Москве в годы юности Литвина. Лицо Георгий не рассмотрел, тень. «И этот меня за нос водил?» — с досадой подумал он. Литвин на всякий случай отбросил ногой монтировку в сторону. Она откатилась, слабо звякнув. — Иди-ка сюда… — приказал Георгий. Быстро оглянулся: где Сашка? Как он заметил, что парень слишком резко шагнул к нему? Георгий едва успел увернуться. Нога кудлатого угодила по бедру. Нырок вниз. Рука парня пролетела над ухом Литвина. «Каратист доморощенный! — со злостью подумал Литвин. Развелось вас тут». Запоздало заныла мышца на ноге. Противник, видно, лишь по верхам знал приемы. И сейчас, промахнувшись, он растерялся и немного отступил. Литвину же атаковать из положения пол-оборота да в узком коридоре между машин было неудобно. Литвин отпрыгнул назад. Противник попытался достать его ногой, но не успел. «Черт длинноногий!» — выругался про себя Георгий. Парень, тихо матерясь, шагнул было вперед. Литвин приготовился отразить еще один удар и взять инициативу в свои руки. Но тот вдруг прыгнул в сторону. Георгий кинулся за ним. Болела ушибленная нога. Парень петлял между машинами. Расстояние сокращалось медленно, но все же сокращалось. И когда до кудлатого осталось совсем немного, Литвин почувствовал, что ему сейчас сведет ногу. Он быстро оперся двумя руками на крыши машин и, выбросив ноги вперед, оттолкнулся, целясь в спину того, в куртке… …Когда Георгий кончил отряхиваться, парень с трудом сел, помотал головой, приходя в себя, пошевелил стянутыми его же собственным ремнем кистями рук. — Это-то зачем? — Резвый больно, — усмехнулся Литвин. Он внимательно посмотрел на задержанного. — У тебя носовой платок есть? — Чего? Георгий понял, что с названным предметом молодой человек знаком понаслышке. Он достал свой новенький болгарский платок, который ему очень нравился, и наклонился к парню. Вытер ему кровь, сочившуюся из рассеченной брови и нескольких царапин на лице. Когда Георгий выпрямился, к ним подходил Саша и Доронин, подоспевший на помощь. Они вели светлого парнишку в темно-красной куртке. «Второй», — понял Литвин. Сзади шел незнакомый мужчина средних лет. — Принимай, — сказал Саша, подойдя поближе. — Тоже к твоей коллекции. А это вот — хозяин машины. — Вас, наверное, со спектакля вызвали? — с участием спросил Литвин. — С какого спектакля? — удивился тот. — Я в соседнем доме живу. Телевизор с сыном смотрели…14.
ВОТ уж победа! Ловили крупных преступников, а попались… Их «промысел» на стоянке недалеко от театра — чистая случайность. Вероятно, они и спугнули «нахлебника». Хотя, судя по всему, он там и не появлялся. Теперь Литвину казалось, что даже те, кто понимал всю сложность этого дела, стали посмеиваться над ним. Руки совсем опустились. Настроение… Какое там настроение! В середине дня позвонила Зоя Васильевна из театра, с которым он связывался несколько дней назад, и предложила билет на вечер. Георгий с радостью согласился. Хоть развеяться. И сразу дал себе зарок — о работе ни одной мысли! Идет она кругом… Вечером, войдя в зал, он сразу сел на свое место. Сидевшие рядом говорили о спектаклях, делились последними сплетнями об известных артистах, судачили о житейских мелочах. Временами возникало желание оглядеться, запомнить кто где сидит. Привычка появилась. «С вредными привычками надо бороться, — решил Литвин. И… не стал смотреть на своих соседей. Он уставился на пустую сцену. Декорации очень подходили к его настроению. Задник затянут черным. Справа свешивались линялые обрывки старых тряпок, веревок. Посередине, на наклонном помосте, неизвестно каким образом удерживаясь, стоял сколоченный из трухлявых досок ящик. Вокруг валялись обломки мебели. В общем — мрачный беспорядок и бесполезные остатки когда-то нужных вещей. Совсем как у Литвина в голове. Только там, на сцене, светился маленький розовый фонарь. От его яркого лучика весь хлам казался не таким мрачным, отталкивающим. Этот свет словно разгонял все беды по далеким закоулкам. Вот такого фонарика Литвину сейчас — ой, как не хватало. Все он делал правильно. Убежден. Но как это доказать? Успеха нет — расчет неправильный. Преступник-то не пойман! Значит, все действия ошибочны? Да не в том суть. В конце концов, у кого не было нераскрытых дел? Понятно, что таких не жаловали. Не это главное. Здесь — особый случай. «Нахлебник» издевается, водит за нос. А он никак не может разгадать его ходов. Что-то сегодня и Петя-Петр не встретился. Сессия, что ли? Да вроде рано. Начался спектакль. Георгий внимательно следил за действием, подавляя в себе желание оглянуться на зал. Может он, черт возьми, посмотреть спектакль, не забивая мозги всякой ерундой? Стать хоть на вечер простым человеком, ради собственного удовольствия посетившим театр, а не для того, чтобы искать всяких подлецов. Розовый фонарь бил в глаза. На сцене разбивалось счастье героев, рушились надежды, а он светил ярко и весело. Он казался чужим, лишним, нелепым. Но когда один из героев набросил на него темную ткань и свет фонарика запутался в тяжелых складках платка, стало ясно, что он просто необходим, что без его света жить героям спектакля невозможно. Литвин увлекся пьесой. Проникся сценическими бедами, забыв о своих. Плохое настроение стало исчезать. В антракте он не пошел в буфет, хотя хотелось есть. В шумной очереди можно было потерять хрупкое чувство сопереживания героям пьесы, судьбы которых он только что узнал. Лучше покурить. Говорят, табачок голод обманывает. Он вышел из подъезда, достал сигарету. — Позвольте прикурить, — обратился к нему интеллигентный человек в очках. Литвин машинально щелкнул зажигалкой, которую вертел в руках. Мужчина прикурил, поблагодарил его и, уже отходя, поинтересовался: — Ульянов сегодня играет? Литвин неопределенно пожал плечами — в разговоры вступать не было желания. На другой стороне старой улицы притормозила темная машина. Водитель, приоткрыв дверцу, протер стекло. Георгия словно ударило током. Он понял! Все понял… — Да, — радостно крикнул он в спину уходящему мужчине, — все играют. Все! И бросился к автомату. Необходимо, просто до зареза необходимо, посоветоваться с Володькой Астаховым. Это он, Литвин, дурак. А Володька умница! Надо было чаще в театр ходить! Только бы застать его дома… …В начале второго действия темная ткань упала с фонарика Розовый луч снова весело ударил по глазам…15.
АСТАХОВ был невозмутим. Он остановился и не без удовольствия оглядел себя в высоком зеркале. Темный строгий костюм «а ля лорд» подчеркивал элегантную статность мужчины в расцвете лет, не обремененного никакими проблемами. Литвин с завистью посмотрел на приятеля. То ли действительно не волнуется, то ли великолепно владеет собой. Астахов неторопливо повернулся и сказал, в соответствии со своим видом весомо растягивая слова: — Пойдемте, Жорж, походим пока по фоэ-э… Да, да, именно «э». Литвин едва удерживался, чтобы не съязвить. Но сегодня не до того. Он безропотно подошел, и они двинулись вперед. Неторопливым шагом. Астахов, вальяжный и солидный, с ранней сединой на висках был похож на молодого преуспевающего дядюшку, назидательно поучающего переростка-племянника с озабоченным лицом. Как здесь не поволнуешься? Из всех театров Астахов выбрал именно этот. Потом три дня они ждали подходящий спектакль. — Ну, ты чего переживаешь? — угадав его мысли, спросил Володя. — Банальное задержание. — Задержание, — проворчал Литвин. — Вдруг не придет, кого тогда задерживать будем? — Придет, — с уверенным спокойствием ответил Астахов. — Ты на публику посмотри. Ходячая выставка драгметаллов и редких камней. Наглядная демонстрация возросшего уровня жизни… Придет. — Твоими бы устами… — Ладно, ладно… Пошли в зал. Хватит выхаживать. Весь первый акт Литвин сидел как на иголках, всматриваясь в темноту зала, пытаясь даже заглянуть в последние ряды. Дважды его вежливо попросили не вертеться. Астахов, сидевший рядом, ехидно хмыкнул. Наконец в зале зажгли свет. Литвин вскочил и заспешил к выходу. Владимиру пришлось даже слегка придерживать его. В фойе они сразу увидели Шуру Бойцова. Толпа обтекала его как утес. На вопросительный взгляд Астахова он утвердительно кивнул. Значит, театр и подходы к нему надежно блокированы. — Вот, а ты беспокоился, — повеселел Владимир. — Ладно, пошли на улицу. Только прошу тебя, не суетись. Спугнешь, попробуй потом найди его… Сигарета тянулась плохо, табак казался совершенно безвкусным. А покурить вышли многие. Вечер достаточно теплый, дождя нет. Кто из этих людей «он»? И здесь ли? Может этот, в синем костюме? Или тот, похожий на шкипера, с трубкой. Вон как по сторонам поглядывает. Хотя нет, это он на проходящих девушек смотрит. А может, кто-то из той компании, где полный престарелый весельчак рассказывает театральные байки? Первый звонок. Многие бросают сигареты, спеша к дверям. Второй звонок. Весельчак вместе с компанией идет внутрь. Спрятав в карман трубку, уходит «шкипер». Значит, в синем? Да, стоит спокойно, словно и не надо торопиться на второй акт. Из дверей выглянула маленькая пухленькая женщина. — Ва-а-адик! — пропела она капризно. — Уже начинается. Я волнуюсь. Вадик, тяжело вздохнув, глубоко затянулся. — Ну, Ва-а-адик! Сигарета летит мимо урны, и Вадик зашагал к своей заботливой подруге. На ступеньках только двое — Литвин и Астахов. Все? Опять пустые хлопоты? Мягко притормозив, у входа остановились темные «Жигули». В них сидят двое. Молодой парень в фирменных очках с дымчатыми стеклами и светловолосая девушка. Хлопнула дверь подъезда. Литвин внутренне собрался и, стараясь не показывать напряжения, как бы между прочим посмотрел на вышедшего. Вся игра была ни к чему. Показался Шура Бойцов, невозмутимо спокойный, как всегда. Он взглянул на машину и, не торопясь, подошел к Астахову с Литвиным. — Пока все нормально, — доложил он. Литвина это сообщение совсем не обрадовало. Третий звонок. Да, теперь все. Ждать глупо. Дверь машины открылась и девушка вышла наружу. Какая девушка?.. Это же парень с длинными, до плеч, волосами. Не оглядываясь по сторонам, он двинулся к подъезду. Снова хлопнула дверь. Из театра вышел человек. Тот самый престарелый весельчак. Забыл чего? Да, внимательно смотрит вниз, словно ищет что-то, одновременно бьет себя по карманам. Вот достает платок и вытирает лоб. И в этот момент к нему подходит длинноволосый. — Нет, нет, спасибо, не надо, — отвечает весельчак на тихую фразу юноши и пожимает ему руку. Странно пожимает — пальцы чуть согнуты, словно там какой-то предмет. Парень резко поворачивает назад. Хлопает дверца, и машина сразу трогается. — Пошли… — резко бросил Астахов. Бойцов задержался. Развернувшись спиной к входу, он достал портативную рацию. — Всем постам! Внимание! Темные «Жигули», номерной знак… …К дверям они подошли почти одновременно. — Пожалуйста, — Астахов галантно пропустил весельчака вперед. В фойе Литвин взял незнакомца под руку. Волнение прошло. — Торопитесь? — негромко спросил он. — Какое вам, собственно… — вскинулся толстяк. — Пустите… — Уголовный розыск. Предъявите, пожалуйста, документы. Толстяк облегченно вздохнул. — Фу, напугали… Я-то думал, что уже и в театре начали… хохотнул он. — Как на Западе… Шутники… Сейчас, минуточку. Он полез во внутренний карман и вытянул кучу каких-то бумаг. — Вот! Бумаги полетели в лицо Литвину. Тот от неожиданности отпрянул назад. Ловко метнувшись под рукой Астахова, толстяк побежал к выходу. Но, заметив в дверях мощную фигуру Бойцова, свернул в сторону. Сзади загремели по паркету Астахов и Литвин. — Что вы, что вы… Здесь же театр! — раскинула руки старушка-билетерша.
Литвин столкнулся с ней. Рассыпались по полу программки.
— Простите, — зло сказал он. — Нам очень надо!
Толстяк скрылся за дверями туалета. Литвин и Астахов кинулись за ним.
Георгий огляделся. У писсуаров никого не было. Астахов дергал дверцы кабин. Подошел Бойцов. Средняя дверь была закрыта.
— Выходите! — приказал Астахов.
— Кто вы такие? Отстаньте от меня, хулиганы! — глухо донеслось из-за двери.
Астахов усмехнулся.
Он вошел в кабинку справа и, встав на унитаз, заглянул через перегородку. То же самое с левой стороны сделал Литвин.
Толстяк, сжавшись, сидел внизу.
— Ай-яй-яй, — укоризненно сказал Владимир. — Нехорошо!
— Что нехорошо? — толстяк удивленно поднял глаза и настороженно смотрел то на Астахова, то на Литвина.
— Нехорошо разговаривать с людьми через дверь, тем более, сидя вот так…
Толстяк шутку не оценил.
— Я не выйду!
— Выломаем дверь, — грозным басом пообещал Шура Бойцов.
— Не усложняйте… — посоветовал Литвин. — А то это будет квалифицировано как попытка скрыться… — И, не удержавшись, весело подмигнул Астахову.
Толстяк опустил голову и задумался.
— Хорошо! — Он встал, одернул пиджак, поправил галстук и зачем-то спустил воду. — Только учтите, я буду жаловаться…
— Что вы, что вы… Здесь же театр! — раскинула руки старушка-билетерша.
Литвин столкнулся с ней. Рассыпались по полу программки.
— Простите, — зло сказал он. — Нам очень надо!
Толстяк скрылся за дверями туалета. Литвин и Астахов кинулись за ним.
Георгий огляделся. У писсуаров никого не было. Астахов дергал дверцы кабин. Подошел Бойцов. Средняя дверь была закрыта.
— Выходите! — приказал Астахов.
— Кто вы такие? Отстаньте от меня, хулиганы! — глухо донеслось из-за двери.
Астахов усмехнулся.
Он вошел в кабинку справа и, встав на унитаз, заглянул через перегородку. То же самое с левой стороны сделал Литвин.
Толстяк, сжавшись, сидел внизу.
— Ай-яй-яй, — укоризненно сказал Владимир. — Нехорошо!
— Что нехорошо? — толстяк удивленно поднял глаза и настороженно смотрел то на Астахова, то на Литвина.
— Нехорошо разговаривать с людьми через дверь, тем более, сидя вот так…
Толстяк шутку не оценил.
— Я не выйду!
— Выломаем дверь, — грозным басом пообещал Шура Бойцов.
— Не усложняйте… — посоветовал Литвин. — А то это будет квалифицировано как попытка скрыться… — И, не удержавшись, весело подмигнул Астахову.
Толстяк опустил голову и задумался.
— Хорошо! — Он встал, одернул пиджак, поправил галстук и зачем-то спустил воду. — Только учтите, я буду жаловаться…
16.
СТЕПАН АРКАДЬЕВИЧ держался с достоинством. Он не хитрил и ничего не утаивал. Отвечал на вопросы подробно и обстоятельно, порой с легким юмором, как тренер футбольной команды на пресс-конференции после проигранного матча. Что? Какое раскаяние? В его возрасте и с его опытом?! Раскаяние — в прошлом. Пускать слезу будем на суде. Там для этого дают последнее слово. Здесь не суд, верно? Просто он любил игру. Азартную, острую. А упустив все шансы, он потерял к ней интерес. Что ж тогда не рассказать?.. Да, он работал в театральной кассе, около метро. Естественно, хорошо знал, когда и где премьера, куда идут билеты. Конечно, у него ведь была целая группа общественных распространителей. Грех было бы не родиться такой заманчивой идее. Он подобрал себе надежных мальчиков, для которых открыть машину — раз плюнуть. Нет, он машины не обворовывал. Он был мозговым центром, интеллектуальным зарядом группы. Перед спектаклем они внимательно осматривали машины, на которых приезжали зрители. Определить, кто в театр, кто просто так, не сложно. Потом мальчики катались, запоминая, какая стоит. Что? Да, да: все время на темных «Жигулях». Нет, времени хватало. Солидные люди впритык не приезжают… Потом Степан Аркадьевич, уже в театре, «пас» кандидатов, определяя на вид самого достойного. Запомнить не трудно — больше двух-трех не выбирал. Проколов практически не было. У вас сколько заявлений? Четыре. Вот видите, всего четыре… С «Волгой»? Непредвиденный случай. Издержки производства. Совпали номера, а на буквы мальчики не посмотрели. Эта юная небрежность… Вещи? Нет, вещи они пока не продавали. Торопливость совсем ни к чему. Они на даче у того, с волосами. Да, что на девушку похож. Кстати, известно ли работникам МУРа, что он… это?.. Ах, известно уже… Их тоже задержали. С поличным? И вещички?.. Красиво… Так вы уж учтите… Протокол подписан, но Литвин не отправляет арестованного в камеру. У него вертится один вопрос. Не для протокола. — Степан Аркадьевич, — спрашивает он, — скажите, а почему вы ни разу не вскрыли автомобили актеров? Многие из них люди небедные, да и машины паркуют кое-как… Степан Аркадьевич удивленно и даже чуть свысока посмотрел на оперуполномоченного МУРа. — Да что вы, молодой человек, — назидательно и с чувством легкого превосходства произнес он, — как можно? Искусство же!.. Храм Мельпомены! Ну представьте, как сможет Андрей Александрович Миронов искрометно сыграть Фигаро, если накануне обчистят его машину?..БИОГРАФИЯ МУЖЕСТВА
1931
ОБ АВТОРАХ
Заседа Игорь Бой за рингом
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАПАДНЯ
Кто не продал России Ради собственной славы, Знает, трудно быть сильным, Знает, просто быть слабым... Знаем: трудно жить крупно, Проще - жить осторожно; Добрым - сложно и трудно И недобрым - несложно
Н.Панченко
1
Стройная рекламно-прекрасная стюардесса, точно манекенщица из парижского дома моделей Нины Риччи (впрочем, может, она и впрямь там служила, прежде чем попасть в этот огромный, что твой ангар, "Боинг-747" компании "Эр-Франс"?), не прошла - проплыла по длиннющему проходу между рядами кресел, улыбнулась всем вместе и каждому персонально и одними глазами дала понять, что самое время прищелкнуть ремни и отставить в сторону посторонние разговоры. Тут и динамик возвестил, что через несколько минут мы приземлимся в монреальском аэропорту "Мирабель". Только позже, вновь и вновь припоминая мельчайшие детали, предшествовавшие событиям, что развернулись в аэропорту, - в том неуютном, мрачноватом зале, который запомнился мне еще с Олимпиады 1976 года, - я как бы остановил время и рассмотрел стюардессу у кресла, где сидел Виктор Добротвор. Нет, ни словом, ни жестом она не выделила его из числа других пассажиров, но что-то насторожило меня и стукнуло в сердце - легонько, но многозначительно, как стучат в окошко, за которым тебя с нетерпением ждут. Не случись дальнейшего, никогда не возвратила бы память ее взгляда, перехваченного мной случайно, ненароком, кажется, даже вогнавшего меня в краску - словно подглядел чужую тайну... Нет, стюардесса - это чудо современной косметики и моды - не случайно задержалась возле Виктора, я готов дать голову на отсечение - она замерла, чтобы убедиться, что он на месте, там, где ему положено быть, и никакая сила не унесет его отсюда. На славном девичьем личике, притуманенном акварельными тонами макияжа, промелькнул страх не страх, но какое-то опасение, и губы, четко очерченные вишневого цвета помадой, дрогнули, будто девушка порывалась сказать Виктору что-то крайне важное, да не решилась. Она отшатнулась от него, сама испугавшись собственного непроизвольного порыва, и я, помнится, подумал тогда с ласковой грустинкой, что Виктор неизменно притягивал внимание женщин не одним лишь своим внешним видом: его открытое, мужественное лицо было вызывающе, дерзко красивым, и даже его римский нос не был сломан, как у большинства боксеров, полжизни выступающих на ринге, а черные татарские глаза блистали, как у кошки, кажется, даже в темноте; он всегда бывал подчеркнуто изысканно одет - костюмы и пальто неизменно шил у старого таллинского портного, к нему он наезжал ежегодно и даже специально, если не случалось там сборов или соревнований. Но не этим был славен Виктор Добротвор. Встречают по одежке, провожают - по уму... Его встречали по уму. Я терялся в догадках, когда видел Виктора на ринге, бился над неразрешимой проблемой. Налитое неистовой силой тело, длинные руки с буграми стреляющих мышц, ноги, что умели намертво прирастать к полу, когда он встречал соперника лицом к лицу, вдруг становились легкими и послушными, будто у солиста балета, когда он затевал свою знаменитую игру в кошки-мышки. Как, каким образом у этого боксера-полутяжеловеса соединялись, не конфликтуя, такие диаметрально противоположные качества: мощь и неукротимость гладиатора и утонченность интеллигента в седьмом колене? Я, не удержавшись, лишь однажды спросил его об этом. Спросил и тут же пожалел, потому что уловил в собственных словах нечто обидное, унизительное, помимо моей воли проскользнувшее в самом вопросе. Я готов был сквозь землю провалиться, потому что сам многие годы пребывал в его шкуре - шкуре спортсмена-профессионала (а как это еще называется, если без дураков, без разных там слов-прикрытий, когда тебе платят деньги за то, что ты шесть раз в неделю дважды в день в течение одиннадцати месяцев вкалываешь - на ринге ли, в бассейне, на обледенелых горных трассах или в гимнастическом зале?), и знаю - достоверно знаю! - как задевают за живое такие вопросы. Ибо в них - предвзятость, пусть даже непреднамеренная, эдакое превосходство "энциклопедической личности" перед ограниченными умственными возможностями человека, обреченного до умопомрачения "качать" свою "физику" в ущерб интеллектуальности. Боже, как недалеки бывают эти телевизорные "интеллектуалы", чьи познавательные горизонты чаще всего окантованы чужой, книжной (ладно, книжной - в книгах, в них, не во всех, ясное дело, встречаются мысли или по меньшей мере информация), а ведь чаще всего питаются расхожей газетно-журнальной мудростью, коей делятся, спеша опередить друг друга, за питейным столом да в курилках в коридорных углах. И как постигнуть такому, что существует еще огромная, воодушевляющая область чувств и ощущений, что дается лишь тем, кто совершенствует свое тело и дух в борьбе с самим собой и соперниками. Но Добротвор не смутился и не обиделся. Ответил твердо, не раздумывая: - Да разве в этом есть противоречие? Человек обязан постоянно совершенствовать себя, а не довольствоваться отпущенным природой... Мне расхотелось развивать эту тему, хотя в душе остался недоволен Виктором, разглядев в ответе банальный смысл прописных истин. А разве в жизни, где столько банального, не сатана ли правит бал? Это все мне явилось в мыслях позже, когда уже случилось то, что застало меня врасплох, как застает человека лавина в горах. И стюардесса а-ля Нина Риччи торчала перед глазами, как наваждение. Нет, ни красота ее, ни округлая грудь, легко угадывавшаяся за светло-голубым форменным блайзером и способная взволновать даже анахорета в бочке, ни блуждающая профессиональная полуулыбка-приглашение к знакомству, не это волновало: молниеносный испуг, отразившийся на ее лице, когда она замерла у кресла Виктора Добротвора, - вот что не давало покоя. Перед глазами вновь и вновь в лучах софитов хищно вспыхивали зеркальным отблеском неожиданно тонкие дужки стальных наручников на мощных запястьях Виктора Добротвора, его растерянная улыбка застигнутого врасплох, но не потерявшего голову человека. Его кулаки напряглись, и мне почудилось, что стальные ободки сейчас лопнут, как гнилая веревка. То же самое, по-видимому, смутило и двух полицейских - тоже не из хлипкого десятка, но все равно проигрывавших рядом с Виктором: они набычились, готовые накинуться на арестованного - профессионально точно, спереди и сзади, выгибая, сламывая шею и переплетая закованные в металл руки. Но Виктор Добротвор расслабил кулаки, и руки его медленно, точно преодолевая сопротивление, опустились вниз. Но не бессильно, выдавая согласие и покорность, а сохраняя мышечную нагрузку - взведенный курок пистолета, поставленный на предохранитель. Ему особенно докучал один назойливый телевизионщик: бородатый, неряшливо одетый парень без шапки буквально совал ему в лицо объектив, точно стремясь заглянуть внутрь, за эту маску со сжатыми, помертвевшими до белизны губами. Рядом с Виктором - полная ему противоположность - нервно переминался с ноги на ногу Семен Храпченко, тоже мощный, пожалуй, даже покрепче Виктора; он напоминал быка - крупная, костистая голова на короткой шее, взгляд исподлобья, плечи опущены вниз, словно под тяжестью пудовых кулаков. Он был явно растерян, напуган, глаза его бегали, перепрыгивали с одного лица на другое: с комиссара полиции в сером не по сезону легком костюме под распахнутой короткой светлой дубленкой, что-то говорившему ему, Храпченко, на представителя канадской Федерации бокса - седоголового джентльмена, бросавшего слова в микрофон телевизионщика. Меня Храпченко не замечал, хотя я торчал в трех метрах от него, за канатом, ограждавшим пятачок у таможенного стола, где все еще громоздился раскрытый адидасовский баул Добротвора. Сумка была пуста, извлеченные из нее вещи тренировочный синий костюм с буквами "СССР", махровое красное полотенце, стопка свежего белья в целлофановом пакете, старые боксерские туфли, альбом Николая Козловского "Мой Киев", томик Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (я его узнал, хотя названия книги не было видно, - точно такой хранится у меня дома) и... десяток ампул с желтоватой жидкостью рядом с горой целых, невскрытых блоков лекарств в фабричной упаковке. Вокруг толпились люди: задержались пассажиры прибывшего авиалайнера, мелькнуло даже - или мне почудилось? - бледное личико красавицы-стюардессы из нашего "Боинга-747", мельтешили полицейские в форме, служащие аэропорта, праздные зеваки. К Виктору Добротвору обратился репортер, кончивший терзать представителя канадской федерации бокса, что-то спросил. Виктор ответил я видел, как шевелились его губы, но слов, естественно, в этом содоме не разобрал. Он отвечал без переводчика, судя по тому, как понимающе кивал головой репортер. Виктор знал английский хорошо и нередко исполнял роль толмача в сборной. На этом даже экономили валюту, без зазрения совести снимая с поездки официального переводчика и перепоручая это бремя Добротвору. Случившееся все еще казалось мне дурным сном. Каких-нибудь двадцать минут назад мы перебросились с Добротвором последними словами, я пожелал ему успеха, он дернулся было послать меня к черту, да прикусил язык - он был достаточно воспитанным человеком, чтобы сохранять необходимую дистанцию между мной и собой. Хотя Виктор и видел во мне - я в этом не сомневался - такого же профессионального спортсмена, как и он сам, но нынешнее мое положение, а главное - полтора десятка лет, разделявшие нас, удержали его в рамках приличий. В самолете мы встретились случайно: Добротвор с Храпченко летели по приглашению Федерации бокса Канады на крупный международный турнир, а я с фигуристами - на юношеское первенство мира в Лейк-Плэсид, и здесь, в Монреале, наши дороги расходились. Добротвор, как обычно, выглядел веселым, уверенным в себе, и, кажется, перспектива вновь встретиться с Гонзалесом, экс-чемпионом мира и, пожалуй, самым известным после Теофило Стивенсона боксером на Кубе, дважды выигравшим у Добротвора в уходящем году, мало беспокоила его. Когда появился встречавший нас представитель советского посольства мой давний друг Анатолий Владимирович Власенко, Влас, с которым мы столько наплавали в свое время в разных бассейнах мира, отяжелевший с тех пор, как мы виделись в Штатах четыре года назад, на зимних Играх в том самом Лейк-Плэсиде, куда я направлялся теперь, - ситуация прояснилась. Он был непривычно мрачен и неразговорчив. - Наркотики, - только и выдавил Власенко сквозь зубы в ответ на мой вопрос. Если б разверзлись бетонные полы аэропорта и адский огонь плеснул в лицо, честное слово, - это не потрясло бы меня сильнее! Виктор... Добротвор... этот честный и красивый человек... и наркотики? - Не может быть... - Чего уж теперь - не может быть... Вон, гляди. - Власенко резанул меня злым взглядом. - С тобой прилетел, в одном самолете... Извини, я хотел сказать... И вещдоки налицо... Этого только нам здесь не хватало! А тут тебе факт: один из самых известных советских боксеров киевлянин Виктор Добротвор, выступление которого в монреальском "Форуме" широко разрекламировано (в самолете я читал местную "Глоб" - Виктору газета посвятила чуть не целую полосу с множеством фото, схвачен в таможне с грузом наркотиков. Было от чего впасть в мрачное расположение духа...2
- Будь это обычная провокация, еще куда ни шло. - Власенко остановился у окна - высокого, широкого, веницианского, впрочем, скорее викторианского, в стране, где по-прежнему чтут за первопрестольную Лондон, а портреты английской королевы увидишь едва ль не в каждой второй витрине независимо от того, чем торгуют, - фруктами или новыми американскими автомобилями. - Да, время банальных провокаций минуло. Теперь и пресса насобачилась - ей мякину не предлагай, дай факт крепкий, да еще с внутренним содержанием, чтоб достать местного аборигена до самых селезенок. Матрос, сбежавший с торгового судна, какой-нибудь обломок вокального трио, закричавший что-то на манер ("хочу свободы", заслужит разве что пятистрочную информацию. Здесь же случай особый, из ряда вон, и потому особенно сенсационный. Да что там! Я за столько лет зарубежных скитаний не припоминаю ничего, даже приблизительно напоминавшего эту историю... - Ну, загнул. Достаточно вспомнить Протопоповых... - Нет, история падения олимпийских чемпионов - другого корня. Они пали жертвой собственной подозрительности, эгоизма и обособленности... обособленности, рожденной в обстановке всеобщего сумасшедшего поклонения. Ваш брат журналист к той истории приложил - и еще как приложил - руку. Ах, неповторимые, ах, идеал советского спорта! Власенко вглядывался в сгущавшиеся за окном ранние декабрьские сумерки, в дождь, барабанивший в стекла. С грустью заметил я, что у него появилась ранняя седина на висках, хотя Анатолий, считай, года на два младше меня. Мы редко виделись с тех пор, как он уехал из Киева в Москву, тем более что вскоре он вообще бросил выступать даже на чемпионатах столицы. Из виду, правда, друг друга не теряли, а если выпадала удача встретиться на далеких меридианах, как вот нынче, - радовались искренне и проводили вместе максимум возможного времени. Власенко по-прежнему любил хлебосольство, был насмешливо улыбчивым, едким шутником, с ним не заскучаешь. Не скрою, ребята поговаривали, что он часто заглядывал в рюмку. Я не слишком-то доверял подобным разговорам - Власу завидовали: как-никак жизнь за границей, это тебе не прозябание на службе в каком-нибудь НИИ или конторе. Ведь рассуждали как: ну, неплохой пловец, даже приглашали в сборную, но каких-либо заметных успехов за ним не числилось, и вдруг - такая блестящая дипломатическая карьера... - Ты лучше мне объясни, чего ему не хватало? - прервал лицезрение зимнего унылого дождя, резко повернувшись, спросил Власенко. - Ты ведь его должен хорошо знать! - Близко мы не сходились - разница в возрасте мешала. Но встречался с Виктором довольно часто, это правда. - Ну что могло толкнуть его на этот шаг? Жадность? Возможность отхватить сразу десять тысяч долларов? Так ведь он, как я разумею, человек не бедный, от зарплаты до зарплаты рубли не считает. - Не считает. Плохо было бы, ежели б такие спортсмены только и думали о рублях... - Я все еще ощущал внутреннюю несобранность, даже растерянность; ненавидя такое состояние, только больше волновался и не находил разумных слов, чтоб попытаться объяснить Власенко, а скорее самому себе, что же стряслось с Виктором Добротвором. Если же честно, то до той минуты в аэропорту "Мирабель" не слышал о лекарстве под названием эфедрин, числившегося здесь, в Канаде, опасным наркотическим средством, а у нас продававшимся в любой аптеке, кажется, даже вообще без рецепта. - Вот-вот, - сказал Власенко, и в голосе его мне почудилось злорадство - злорадство обывателя, узревшего вдруг, что всеобщий кумир на поверку оказался самым обычным мелким и дешевым хапугой. - Ты брось, словно прочитав мои мысли, рубанул он, - меня причислять к злопыхателям, что пишут письма в редакции и вопрошают, что это за привилегия разным там чемпионам и рекордсменам. Я, мол, гегемон, у станка вкалываю, а в очереди на квартиру годами торчу, а тут сопливому мальчишке, научившемуся крутить сальто-мортале лучше других, - слава, деньги, ордена и, естественно, квартиры... - Ладно, ты меня тоже в этот разряд не тащи, - без злости огрызнулся я, услышав слова и поняв тон Анатолия: от сердца отлегло - не испортился парень. - Еще чего! - Власенко явно лез на рожон. Он вызывал меня на ответную реакцию, ему нужно было - кровь из носу! - раскачать меня, выудить внутреннюю информацию, потаенные мысли, чтоб установить логическую связь между моими знаниями о Добротворе и тем, что приключилось в аэропорту "Мирабель"). Но я не был готов к взрыву - вулкан еще лишь клокотал где-то глубоко-глубоко, ничем не выдавая своей дьявольской работы. Но я был бы подлецом, если б не помог Анатолию - да и себе! - разобраться в фактах, какими бы трудными они не были. - Не припоминаю за Добротвором ничего такого, что могло логически привести к подобному поступку, - начал я осторожно, словно нащупывая в полной темноте тропку. - Ничего... - Иногда достаточно самого крошечного толчка, чтоб рухнул колосс. Власенко был нетерпелив, и это задело меня за живое. - Ярлыки вешать - не мастер, извини. Не исключаю, что твоя профессия научила не доверять людям, а у меня другие взгляды на жизнь. - Не вламывайся в амбицию, старина. - Власенко выщелкнул сигарету из красной коробочки "Мальборо". Но не закурил, а примирительно произнес: - Я привык верить фактам, этому меня учили... учат и теперь. - Тогда давай обговорим ситуацию спокойно. Итак, Виктор Добротвор, 29 лет, спортом занимается лет 15-16, то есть, считай, большую часть сознательной жизни. Родители живы, не разводились, но практически воспитывала Виктора тетка - писательница, старая большевичка, отсидевшая срок при Сталине. Я ее знал преотлично - жили-то на одной лестничной клетке. Там, у нее, и познакомился с Виктором. Много лет назад. Она имела безраздельное влияние на Добротвора, а родителям, кажется, это мало докучало. - Тетка жива? - Семь лет, если мне не изменяет память, как похоронили. Кремень, а не человек. Веришь, я искренне завидовал ее цельности, полнейшему отсутствию саморедактирования, качества, столь присущего многим нынешним литераторам. Я имею в виду ее честность в оценках даже самых больших людей. - Ладно, это к делу не относится. Чем увлекается Добротвор, кто его друзья, как живет, есть ли машина? - Анкетка! - Я стремлюсь понять его. - Я тоже. Итак, был женат, развелся, есть семилетний сын - в нем Виктор души не чает. Отличный парнишка, а характером - в тетку. Правда, стихов не пишет. - Почему развелся? - Спроси что полегче... Наверное, обычная спортивная история: слишком много тренировок, мизер свободного времени, жизнь, подчиненная раз и навсегда заведенному ритму, где нет места другим ритмам. Нужно или подчиниться ему, или уходить. Она ушла. - Я говорил уверенно, потому что такая же ситуация однажды создалась у меня самого и закончилась та история так же печально, как у Добротвора. Нет, для меня она обернулась лучшим образом, потому что, не случись разрыва, вряд ли я нашел бы Натали, а без нее... - Как относился к славе, ну, как вел себя с другими - с товарищами, с журналистами, просто с болельщиками - их-то, слава богу, у него чуть не весь Союз?.. Такой человек... столько лет наверху... - Заносчивостью не отличался, всегда ровен - и с товарищами, и с почитателями таланта. И с нашим братом журналистом не заискивал, но и не сторонился... Дачи нет, есть "Волга", да и та по большей части загорает в гараже - опять-таки доподлинно известно, гараж в моем дворе, достался от тетки. - Женщины? - В компаниях я его не встречал, в ресторанах - тоже, впрочем, сам там не частый гость, могу и ошибиться. Наверное, были и есть, жених завидный, хоть куда казак, - попробовал я пошутить. - Итак, деньги, скорее всего, не были его фетишем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. К нему эта истина не клеится... Потому еще нелогичнее выглядит поступок Добротвора. - А может, и впрямь - самая дешевая провокация? Ведь ты подумай, сколько разных следов натоптали средства массовой информации Запада, ну, касательно наркотиков, которые Советский Союз, Болгария еще якобы переправляют в развитые капиталистические страны с целью подрыва их мощи, развращения молодежи и тому подобное. Тут же торговец зельем - всемирно известный советский спортсмен! - Это сбрасывать со счетов нельзя, согласен. Американцы говорят: "кэректер ассасинейшн" - "убийство репутации". Сейчас ищут, чем бы нас достать побольнее. Андроповский шок миновал, они разглядели реальную возможность давить - ведь наверху у нас, - Власенко смолк, изучающе, цепко впился в меня взглядом, - больной человек, как они пишут, жить ему недолго. Раз так, ему не до далеко идущих шагов или глобальных проблем взаимоотношений двух систем. Значит, нужно поспешить захватить плацдарм в политике, чтоб было о чем торговаться в будущем. Тут любые средства хороши, и спорт - не в последнюю очередь. Ведь обманули они нас с Олимпиадой в Лос-Анджелесе? Обманули! Весь этот пропагандистский тарарам, эти мифические террористы, готовившие в потайных штаб-квартирах пластиковые бомбы для советских спортсменов, - блеф, шантаж. Мы же попались на их приманку и отказались ехать на Игры. А рейгановской Америке только это и нужно было, у них все шестерки обернулись козырными тузами, потому что ни наших ребят, ни гэдээровцев в Лос-Анджелесе не оказалось. Вот и обрушился на второразрядных американских атлетов смерч из медалей, позолоченных нашей неуемной и неумной амбицией и еще - откровенным нежеланием глядеть в корень... Извините, это из другой оперы. Власенко потянулся к штофу с горилкой, врученной ему в подарок, от души налил в широкий толстостенный бокал из хрусталя, предназначенный для виски, и рывком опрокинул в рот. На лице его мускул не дрогнул. Поставив бокал, он взглянул на стенные часы, свисавшие на длинных, под старину, позеленевших медных цепях, и нажал кнопку на дистанционном пульте управления телевизором, лежавшем не замеченным мною на столе. Тотчас засветился экран, и рекламный ковбой на красавце коне смачно выливал в рот пенящуюся золотистую жидкость из серебристой банки. Закадровый голос умиленно нахваливал ни с чем не сравнимые качества "Лэббата". Его проникновенная убежденность подействовала, и я непроизвольно и себе щелкнул крышечкой точно такой же, как в руке ковбоя, баночки пива. Передавали программу новостей. В Японии переходят на выпуск принципиально новой системы видеомагнитофонов - дисковых. В Сеуле студенты вновь отчаянно требуют отставки правительства Чон Ду Хвана и полиция с точностью машины и с ее заранее установленным ритмом набрасывается на безоружных ребят... - Если так пойдет и дальше, то Олимпиада в Сеуле снова будет без нас, - пробормотал я. - За четыре года много воды утечет, - не согласился Власенко. - Ежели мы вновь пропустим Игры, то на Олимпиадах впору ставить крест... Во всяком случае на том значении, кое мы придаем им. - И это станет еще одним поражением в борьбе за выживаемость человечества, ибо Игры, при всей их формальной обособленности, наитеснейшим образом связаны со всеми общественными процессами, происходящими в мире... - Час назад, - голос диктора вдруг зазвенел сталью, - монреальский суд вынес решение по делу о контрабанде наркотиков советским боксером, победителем прошлогоднего Кубка звезд Виктором Добротвором. Он был задержан сегодня утром в аэропорту "Мирабель" с двумя тысячами доз запрещенного у нас лекарства. Судья сэр Рональд Бигс учел заявление, сделанное представителем канадской Федерации бокса, пригласившей Добротвора вместе с другим советским боксером, Семеном Храпченко, участвовать в очередном розыгрыше Кубка. Федерация обратила внимание по крайней мере на два существенных обстоятельства. Во-первых, Виктор Добротвор приехал из страны, где это лекарство не является запретным, во-вторых, оно не предназначалось для продажи или передачи другому лицу, а лишь для личного пользования... Прежде чем сообщить вам, уважаемые телезрители, о решении суда, еще раз предлагаем посмотреть репортаж из аэропорта "Мирабель", сделанный нашими специальными корреспондентами после приземления "Боинга-747" авиакомпании "Эр-Франс"... Мы увидели, как спускается по трапу улыбающийся Виктор Добротвор, машет кому-то рукой. За ним я обнаружил... собственную физиономию, самодовольную и такую радостную, словно встречали не Добротвора, а меня. - Тоже мне - кинозвезда, - не удержался съязвить Власенко. Затем камера перенесла нас в таможенный зал, привлекла внимание к рукам таможенника, ловко открывающего адидасовский баул Добротвора. Крупно, на весь экран, - обеспокоенное, но не испуганное лицо Виктора. Он поворачивает голову и что-то спрашивает у стоящего за барьером представителя канадской Федерации бокса. Вот кто действительно растерян, да что там - его обалдевшее от свалившейся новости лицо лучше всякой печати свидетельствует, что для него это - полная неожиданность, больше того - трагедия. Растет на обитом алюминием прилавке гора упаковок, две коробочки таможенник медленно, будто тренируясь, вскрывает прямо перед камерой. "Да, две тысячи ампул, - вещает диктор. - При помощи нехитрой химической реакции, доступной школьнику-первокласснику, из лекарства вырабатывается сильнейший и вреднейший наркотик - эфедрин, строжайше запрещенный в Канаде. Употребление его, а равно ввоз и распространение карается тюремным заключением сроком до восьми лет. Такая суровость необходима, господа, если мы намерены и дальше мужественно и последовательно бороться против проникновения этой отравы в среду наших молодых людей. Увы, я не припоминаю случая, когда подобное пытались бы провезти советские спортсмены. Прискорбно, но факт, что человек, в минувшем году провозглашенный чемпионом нашей страны в полутяжелой весовой категории, оказался замешанным в такой грязной истории. Впрочем, окончательный вердикт вынесут судьи..." Камера отпечатала на экране сжатые губы закаменевшего лица Добротвора... "Итак, судья Бигс огласил приговор: оштрафовать мистера Виктора Добротвора из СССР на 500 долларов, ввезенное лекарство арестовать и возвратить его владельцу при отбытии из Канады. Представитель Федерации бокса внес требуемую сумму, и Виктор Добротвор вместе с ним уехал в гостиницу "Меридиен" готовиться к завтрашнему поединку с сеульским боксером Ким Ден Иром, чемпионом своей страны и, как утверждают специалисты, наиболее вероятным чемпионом Игр ХХIV Олимпиады". Власенко откинулся на спинку кресла, высоко запрокинув голову, так, что выдался вперед острый кадык. Почему-то вспомнился Остап Бендер и Киса Воробьянинов, крадущийся с бритвой в руке. Я почти физически ощутимо почувствовал мгновенную, как удар молнии, острую боль, тут же исчезнувшую и лишь оставившую воспоминание во вдруг заколотившемся сердце. В голове же засела мысль, и чем дальше, тем сильнее захватывала она меня, я готов был тут же вскочить и нестись в "Меридиен", чтобы без раскачки задать этот проклятущий вопрос Виктору Добротвору: "Зачем?" Я понял, что не засну ни сегодня ни завтра, и не будет мне покоя, пока не услышу ответ, ибо Добротвор что-то нарушил в моей душе, сдвинул с места, и мое представление о нем - да разве только в нем самом дело?! - о человеческой порядочности и честности оказалось поколебленным. Нет, я не перестал верить в честность и порядочность, и сто таких, как Виктор Добротвор, не разрушат мою убежденность в их незыблемой необходимости на этой бренной земле. Но я страстно хотел увидеть, узнать, что же есть закономерность, определяющая сущность человека, что служит гарантом непоколебимости этих никогда не стареющих, определяющих нашу жизнь понятий. Виктор Добротвор своим поступком нанес мне удар в самое солнечное сплетение! - Возьми, - сказал Анатолий, доставая из видеомагнитофона пленку с записью репортажа. - Покрути на досуге, пораскинь мозгой. Чует мое сердце, что этим дело не закончится. Слишком просто - пятьсот долларов, и концы в воду. Дай бог, конечно, чтоб на этом оно и скисло, испустило дух... Ладно, старина, хватит, расскажи лучше, что в Киеве делается, с кем встречаешься из наших... Я ведь уже век не ступал на Крещатик... И москвичом не стал, и киевлянином называться не смею. - Я тоже не часто вижусь с ребятами, хоть и живу почти на Крещатике, на Десятинной. В КВО век не плавал, больше в "Динамо", это под боком, - в обеденный перерыв вместе с абонементщиками из близлежащих институтов академии. Они еще, бывает, недовольство выражают, что слишком быстро плаваю, им мешаю. Ну, что тут скажешь! Не откроешь же рот да не станешь первому встречному-поперечному сообщать, что ты - призер Олимпийских игр, экс-чемпион и экс-рекордсмен... И на том спасибо, что пускают в бассейн по старой памяти - без пропусков и абонементов. - Как Люси? Я невольно взглянул на Толю. Нет, время не изгладило прежнее чувство: по тому, как оживился он, как собрался, словно на старт вышел, как непроизвольно сжались кулаки и загорелись глаза, я догадался - Люська в его сердце, и чем дальше, тем крепче память, дороже воспоминания. Я живо представил, как ехали мы однажды в Москву на сбор перед чемпионатом Европы. Люси, как звал ее Власенко, была настоящая пагуба: высокая, длинноногая, какая-то утренне свежая, от ее карих озорных глаз, лукаво прищуренных, когда она играла в серьезность, в солидность (как-никак - чемпионка и рекордсменка мира, наша "золотая рыбка"), на сердце становилось беспокойно, и хотелось что-нибудь отмочить, чтоб дать выход дивной энергии, рожденной этим взглядом. Люська знала, что Влас втюрился по уши, и с женским непорочным эгоизмом не упускала случая, чтоб еще и еще напомнить ему об этом. И в счастливом ослеплении молодости не разглядела, как перегнула палку: Влас тоже был человеком-кремнем (я об этом догадался значительно позже), он не мог допустить, чтоб им пренебрегали. Люси флиртовала налево и направо (она была чертовски красива и идеально сложена) и крутила им, как ванькой-встанькой. Люська не учуяла опасности - она слишком уверовала в свое могущество, да, видимо, и не чувствовала к Толе того, что чувствовал он к ней. Они расстались, и оба так и не достигнув личного счастья. Люси, хоть и выскочила замуж, детей не завела и медленно старела, морщилась, словно усыхающий красавец гриб на солнце, как определил я ее состояние. Власенко же, как мне было известно, тоже не слишком преуспел в личной жизни: за границей он чаще перебивался один - жена предпочитала Москву. - Люси уже кандидат наук, преподает в КИСИ, глядишь, возьмется заведовать кафедрой. Волевая женщина, - как можно индиферентнее отвечал я, не хотелось травить душу Анатолию. - Как живет, скажи... Да брось ты эти штучки-дрючки! Не вороши старое. Миражи юности... - Он безбожно врал, я это видел, но Влас не был бы Власом, ежели б позволил кому-то заглянуть к себе в душу, а тем паче пожалеть, посочувствовать. Он ненавидел жалость! - Парадная сторона - в полном порядке и блеске. Люси не утратила авторитета после ухода из плавания. Что касается личного, тут я пас, мы с ней здравствуй - до свиданья, не больше. - Эх, вернуться бы лет надвадцать назад, чего натворил бы Власенко! - лихо воскликнул Анатолий и снова потянулся к штофу. Легко налил треть бокала и так же легко, не поморщившись, выпил. - Ты завтра в Штаты? - Задержусь, чтоб не крутиться по самолетам, - послезавтра будет оказия прямо до Лейк-Плэсида. - Лады. Я понял, что мне пора, потому что Люси уже появилась в затененном углу у окна, и мне почудился ее смех, и воспоминания начинают обретать осязаемые формы. Нет, что б там не твердили реалисты, ничего в этой жизни не исчезает бесследно... - На обратном пути, ежели сможешь, задержись на денек-другой, съездим в горы, лыжи у меня есть. Ты ведь тоже сорок третий носишь? Ну, вот видишь... Бывай, старина! Мы обнялись как прежде, когда случалось поздравлять друг друга с победой, постояли молча, каждый думая о своем, и я бегом спустился вниз с пятого этажа старинного особняка на монреальском Холме, и вечер встретил меня мелким туманистым дождем, приятно облизавшим разгоряченное лицо. Я не прошагал и пяти метров, как засветился зеленый огонек такси. - В "Меридиен"! - бросил я, плюхаясь на заднее сидение.3
Отъезд назначили на 6:30. Вещи были давно сложены, и я предавался редкому состоянию ничегонеделания. По телевизору по одной программе крутили оперу, по другой - фильм из жизни "дикого Запада", прерываемый американской рекламой, по третьей - очередной урок "университета домашней хозяйки"... Читать не тянуло, газеты же давно просмотрены: ничего нового к "делу Добротвора" не прибавилось. Свой первый бой с южнокорейским боксером Виктор выиграл потрясающим нокаутом в первом же раунде, и комментаторы на разные лады расписывали его манеру вести бой. Я видел поединок - впрочем, какой там поединок: спустя тридцать одну секунду после начала боя Добротвор поймал уходящего вправо корейца хуком снизу в челюсть и бедняга рухнул как подкошенный. Мне стало жаль корейца - такие удары не проходят бесследно, а до Олимпиады еще далеко, и если "надежда Сеула" попадет в такую переделку еще разок, как бы ему досрочно не перейти в разряд спортивных пенсионеров, если таковые у них имеются, понятно. У Виктора на лице тоже не слишком много радости. Больше того, мне показалось, что в этот неожиданный удар он вложил совсем несвойственную ему ярость, точно перед ним находился не спортивный друг-соперник, а враг, глубоко оскорбивший его. Наша вчерашняя встреча с ним в "Меридиене" оказалась на редкость бесцветной. Добротвор не удивился, увидев меня, входящего к нему в номер, - он как раз выбрался из ванны и стоял передо мной в чем мать родила. - Привет! - Здравствуйте, Олег Иванович! Извините, я сейчас! - Он возвратился в ванную комнату, вышел вновь уже в халате. - Отдыхаешь? - Завтра на ринг... Нужно привести себя в порядок. - Его будничный тон, спокойствие, точно ничего не стряслось и не стоял он перед судьей в окружении двух полицейских в форме, взвинтили меня. - Что же ты можешь сказать? - без обиняков потребовал я. - Вы о чем, Олег Иванович? - О суде, о наркотиках, разве не ясно? - Почем я знаю, что вас интересует? Обычно спортивные журналисты пекутся о нашем самочувствии и радуются победам, не так ли? Если вы о лекарстве, так яснее не бывает. Я на суде показал: в личное пользование вез. Могу добавить, так сказать, из первых рук новость: Международная федерация бокса, куда обратились представители стран, участники которых тоже представлены в моей весовой категории, разъяснила, что снадобье это в число запрещенных федерацией допинговых средств не входит. Вопрос снят... - Нет, Виктор, не снят! Две тысячи ампул стоимостью в десять тысяч долларов - в личное пользование? Добротвор и бровью не повел. - Почему же десять? Если по рыночным расценкам, так сказать, розничным, все пятьдесят, ни монетой меньше. Это мне сообщил один доброхот из местных репортеров. Я ему и предложил купить товар гамузом, за полцены, глядишь, и приработок будет поболее, чем за статейки в газете... - Виктор явно блефовал и не скрывал этого. "Да он еще издевается надо мной!" - с нарастающим возмущением подумал я. - Витя, - как можно мягче сказал я, уразумев наконец, почему он так агрессивен, - Витя, я ведь не интервью у тебя беру и не о проявлениях "звездной болезни" собираюсь писать... Просто мне горько, невыносимо горько становится, когда подумаю, как ты будешь глядеть людям в глаза дома... Ведь на каждый роток не набросишь платок... Ты на виду, и тебе не простят и малейшей оплошности... Как же так?.. Что же случилось с тобой, Витя? - И на старуху бывает проруха... Какой же я дурак... - вырвалось у него. - Ты о чем, Виктор? Но Добротвор вмиг овладел собой. Правда, в голосе его уже не звучал издевательски насмешливый вызов, он стал ровнее, обычнее, но створки приоткрывшейся было раковины снова захлопнулись. - Нет нужды беспокоиться, дело закрыто, наука, конечно, будет. Из Москвы летел, купил лекарство для приятеля в Киеве - он астматик, без него дня прожить не может. Как говорится: запас беды не чинит... Так я товарищу из консульства нашего - он ко мне приезжал (Власенко был у Добротвора и мне ни слова?!) - и сказал, такая версия и будет... - Я ведь по-человечески, по-дружески, Виктор, а ты... Мне-то зачем лапшу на уши вешать?.. - Так надо, Олег Иванович. - Голос его неумолимо грубел. - Извините, мне завтра драться... Возвратившись в гостиницу, я попросил у портье видеокассетник в номер. Не успел снять плащ, как принесли новенький "Шарп". Я поставил кассету, сунутую Власенко, и несколько раз просмотрел репортаж из аэропорта. Нового выудить мне так и не удалось, но что-то смутно волновало меня, и это непонятное волнение раздражало. Что-то было там, я это улавливал подспудно, но что, никак понять не мог. Я проанализировал каждое слово диктора, репортера, вновь и вновь, возвращая пленку к началу, вглядывался в выражения лиц Добротвора, таможенника, полицейских, словно надеялся прочесть на них скрытые, невидимые письмена. Но, увы, лица как лица. Равнодушное, привычное к подобным открытиям чернобородое цыганское лицо таможенника - человека и не пожилого, но и не молодого, лет 38-40, борода придавала ему солидность. Два полицейских как близнецы: одного почти баскетбольного роста, дюжие ребята, оба безбородые и безусые - тоже не излучали особых эмоций. Репортер? Много ли разглядишь, когда человек просто-таки приклеился к глазку видеокамеры? И вдруг - стоп! Парень-осветитель с двумя мощными лампами. Он находился на отшибе, в самом углу кадра, и я долгое время не обращал на него внимания. Даже толком не разглядел лицо. Меня поразило другое: его спокойствие и заранее занятое место слева от таможенника - свет падал на стойку, где и развернулись основные события. Погоди... разве уже тогда, в аэропорту, не я обратил внимание на толпу репортеров, встречавших самолет? Но отмахнулся от мысли, что в этом есть что-то необычное, заранее подготовленное: ведь сразу прибыло две советские спортивные делегации - боксеры и сборная по фигурному катанию, и внимание к нам после того, как мы не поехали летом на Игры в Лос-Анджелес, повышенное, вот и встречали во всем блеске телевизионных юпитеров. Но тогда почему никто даже головы не повернул в сторону фигуристов славных юных мальчишек и девчонок, такой живописной, веселой и оживленной толпой вываливших из чрева "боинга"? Почему все внимание, все - ты понимаешь, _в_с_е_! - приковано к Виктору Добротвору? На Храпченко даже не взглянули телевизионщики. Да что телевизионщики! Таможенник, выпотрошив баул Добротвора, не спешил залазить в такую же черную сумку Храпченко, и она сиротливо маячила на самом краешке стола. По логике вещей, поймав на контрабанде одного советского спортсмена, нужно было тут же приняться за другого, логично допустить, что они в сговоре, делали дело вместе? Вот тут-то осветитель и оказался ключевой фигурой. Он стоял в з_а_р_а_н_е_е_ выбранной точке, и свет его юпитеров падал на стол таможенника так, чтобы оператор мог заснять мельчайшие детали, чтоб ничто не ускользнуло от объектива! Выходит, они знали, что Добротвор везет большую партию запрещенных лекарств... Значит, Виктор соврал, обманул меня, съюлил, рассчитывая, что и я попадусь на официальной версии. И ты, Витя... Наверное, так оно и было, но подвел тех, кто ожидал прилета Добротвора, судья, оказавшийся человеком порядочным, мудро рассудившим, что негоже и в без того трудные времена напряженных отношений между двумя системами добавлять порцию масла в огонь, от него и так уже становится слишком жарко в разных частях света - и на Востоке, и на Западе. Судья, седоголовый сморчок, едва возвышавшийся над столом, вынес соломоново решение, и оставалось только гадать, зачем, с какой целью Виктор Добротвор повез в Канаду злополучный груз... Когда зазвонил телефон, я уже забрался в прохладную чистоту широкой, мягкой постели, готовясь расслабиться, освободиться от дурных мыслей, уснуть сном праведника и проспать свои шесть честно заработанных часов отдыха. "Толя? С него станется", - пришла первая мысль. Свет зажигать не стал: в номере и без того было светло от огромной рекламы кислого и невкусного пива "Лэббатт", установленной на крыше противоположного дома. - Да! - Я хотел бы вам сказать, зачем и кому вез Добротвор эфедрин в Канаду! - услышал я незнакомый голос. - Кто вы? - Мы можем встретиться в холле через десять минут. Вам достаточно, чтобы одеться и спуститься вниз? - Кто вы? - выигрывая время, повторил я. - Отвечу, когда вы будете внизу. - В трубке раздались частые прерывистые гудки. Я мигом оделся, галстук завязывать не стал - просто натянул на белую рубашку пуловер, а воротничок выпустил наверх. Выходя из комнаты, взглянул на часы - без четверти двенадцать. В вестибюле, как обычно, шумно, накурено и многолюдно, кутерьма, одним словом: народ поднимался из бара, расположенного в подвальном этаже, открывались и закрывались стеклянные двери ресторана, откуда доносились джазовые синкопы и неясный говор десятков людей. Я, признаюсь, растерялся в этом скопище людей, но головой крутить по сторонам не стал, чтобы не привлекать внимания. Судя по голосу, хотя телефон и искажает интонации весьма значительно, звонивший виделся мне не старым, лет до тридцати, но, по-видимому, заядлым курцом - очень уж типично для любителей крепких сигарет с хрипотцой привдыхал воздух. К тому же незнакомец скорее всего брюнет - говорил он быстро, напористо, нетерпеливо, что свойственно таким людям. "Впрочем, с таким же успехом он может быть и блондином", - рассмеялся я в душе над собой, понимая, что эти дедуктивные изыски в стиле Шерлока Холмса не больше не меньше как скрытая попытка сбить волнение, обмануть разум, увести его в сторону, чтобы встретить незнакомца спокойно и неторопливо. - Две минуты наблюдаю за вами, ловко вы управляетесь со своими эмоциями, - раздался за моей спиной голос, почему-то сразу внушивший мне доверие, хотя он, естественно, значительно отличался от услышанного по телефону. Обернувшись, я расхохотался: передо мной стоял невысокий огненно-рыжий парень в кожаной коричневой куртке и белом гольфе, с широкими, выдававшими спортсмена плечами; его голубые глаза с удивлением уставились на меня. По-видимому, он ожидал чего угодно, но только не такого искреннего веселья. Он враз помрачнел, желваки на удлиненном, но приятном лице задвигались вверх - вниз, и глаза налились густой синевой августовской ночи. - Извините, это я над собой. Мне пришло в голову представить вас заочно. Реальность отличается от портрета, подсказанного моим воображением... - Каким же вы надеялись увидеть меня? - Парень продолжал хмуриться, в голосе его теперь сквозило любопытство, но не обида. - Жгучим брюнетом, любителем крепких сигарет, лет 30. - Тут вы, как говорится, попали пальцем в небо! - воспрянул духом мой визави. - Возраст только почти угадали - мне недавно стукнуло двадцать восемь. Что же до остального - никогда не курил и не курю, впрочем, и не пью. Я - боксер. Профи, профессионал по-вашему. - Откуда вы знаете меня? - спросил я, разом прерывая "светскую беседу". Ибо, согласитесь, когда за тридевять земель, в далекой и малознакомой стране под названием Канада, о которой тебе достоверно известно лишь, что она на втором месте после СССР по занимаемой территории и что здесь пустило корни не одно поколение земляков-украинцев, разными ветрами унесенных с родных хуторов, так вот, когда здесь вас будят среди ночи, вытаскивают из постели и предлагают встретиться с незнакомым человеком, невольно будешь вести себя настороженно. - Вас зовут Олег Романько. Больше того, в книжонке, выпущенной издательством "Смолоскип", есть ваша спортивная биография, что является определенной гордостью для вас. В такие списки попадают лишь уважаемые и чтимые среди украинцев люди... - Вы украинец? - искренне удивился я. - Разрешите представиться - Джон Микитюк. Но не переходите на украинский язык - я его не знаю. Родители бежали, если можно так выразиться, из-под Львова вместе с теми, кто улепетывал с немцами в сорок четвертом. Чем они там напугали советскую власть или чем она их настращала, не скажу: о тех далеких временах у нас в семье не принято было теревени разводить. Но все, что касается родной земли, и по сей день остается святым. Вы, естественно, спросите: как же так - святое, а язык утрачен, забыт? Объяснение самое что ни на есть простое и банальное: работая тяжко, кровью и потом добывая на чужбине каждый доллар, предки мои задались целью дать мне более достойную жизнь. Потому-то дерзнули сотворить из меня чистейшего англосакса и учили одному английскому. При мне даже разговаривать на нашем родном языке себе не позволяли. Парадокс! - Случается, - сказал я равнодушно, по-прежнему сомневаясь, как следует себя вести с этим неведомо откуда свалившимся на меня "землячком". То, что он не знал языка, еще ни о чем не говорило - сколько раз доводилось сталкиваться тут, в Канаде, да и в США, и в ФРГ с украинцами, слова произносившими по-английски. Как ни странно, это обстоятельство не мешало им быть воинствующими националистами. Смешно, право же, националист, не говорящий на "ридний мови". Но в наш дисплейный век язык, увы, становится скорее способом программирования разных ЭВМ, чем корнем, питающим нашу честь, гордость, уверенность в будущем... - Но если вы думаете, что я имею какое-то отношение к тем, кто размахивает по делу и без дела лозунгами вроде "Свободу Украине!", то спешу отмежеваться от них. Нет, я никакой не приверженец советской власти и коммунизма. Если откровенно, вообще мало что в этом смыслю - в местных газетах, да и по телеку многого о вас не узнаешь, а расхожая брань давно приелась. Но однажды я проснулся среди ночи и сказал себе: "Джон, хоть ты и не понимаешь ни слова по-украински, но твоя прародина там, где похоронены деды и прадеды. И ты больше не сможешь отмахиваться от нее. Потому что она - в твоем сердце. - Похвально. Но мы зашли слишком далеко в биографические дебри, прервал я своего собеседника. - Вы пока не сказали ничего о главном, ради чего мы тут и торчим... - Вы правы, Олег Романько... Мы действительно торчим у всех на виду... Присядем где-нибудь в уголке. - Джон Микитюк быстро, уверенным взглядом аборигена-завсегдатая окинул вестибюль, взял меня под локоть пальцы у него были стальные, я почувствовал их, хотя он и увлек меня за собой осторожно, вежливо, чтоб я - не дай бой - не решил, что меня волокут. Мы очутились в дальнем углу за закрытым по причине столь позднего времени киоском с сувенирами. Сели в мягкий, глубокий диван и провалились почти до самого пола, даже ноги пришлось вытянуть - хорошо, что тут никто не ходил. - Кофе? Виски? - Ни того, ни другого. Мне завтра чуть свет уезжать. - Вы уезжаете? - В голосе Джона Микитюка прорвалось огорчение. - Да, в Лейк-Плэсид, на состязания по фигурному катанию. Итак, что вы знаете о деле Виктора Добротвора? - Во-первых, Виктор - мой друг. - Джон Микитюк взглянул на меня, словно проверяя, какое это произвело впечатление. Я и бровью не повел, хотя это было для меня полной неожиданностью: мне нужны были доказательства, а не заявления. Убедившись, что я остался холоден, он продолжал: - Познакомились лет пять назад в Нью-Йорке, на международном турнире. Я еще был любителем, выступал на Олимпиаде в Монреале, правда, не слишком удачно. Теперь - профессионал, а нам еще не разрешено встречаться в официальных матчах. Хотя, если так и дальше пойдет, то усилиями господина Самаранча для профессионалов вскоре откроют и Олимпийские игры. Ну, это так... Словом, мне понравился Добротвор-боксер, и я ему об этом признался без обиняков. Мы жили в одном отеле. Поднялись к Виктору в номер и проболтали почти до утра. - Это, как вы сами сказали, Джон, во-первых. Что во-вторых? - Во-вторых вытекает из во-первых, но раз вы, Олег Романько... Я прервал его и сказал: - Зовите меня Олегом. Не люблю, когда повторяют без толку фамилию, о кей? - Хорошо, Олег, - согласился Джон. - Мне Добротвор понравился, больше того - сегодня он нравится мне еще больше. - Уж не после этой ли истории? - не утерпел я съязвить. Джон Микитюк вскинул руку. - Не торопитесь, прошу вас, с выводами. Когда узнаете, в чем тут дело, вы не станете осуждать его, даже... даже узнав, что он, возможно, специально, то есть сознательно взял в поездку эти лекарства. "Так, значит, я был прав, решив, что Виктор меня жестоко обманул?" Лед обиды сковал сердце: так бывало со мной всегда, когда доводилось разочаровываться в человеке, которого любил. - Виктор - честный человек. К моему глубокому огорчению, я узнал об этой операции слишком поздно, когда уже невозможно было предупредить Виктора об опасности. Хотя, скажу без обиняков, не все ясно и мне самому, но всех, кто приложил руку к этой истории, кажись, удалось вычислить... - Джон, вы опять говорите загадками! - Но и вы, Олег, потерпите немного, самую малость и выслушайте мои объяснения! - Микитюк вернул должок. - Ладно. Без спешки и факты. Голые факты. - По рукам. Так вы и впрямь отказываетесь что-либо выпить? - Даже кока-колу и ту не хочу. - Кока-колу я вообще не пью, потому что в ней содержится наркотик. Да, да, кокаин, если вам это не известно. У меня действительно пересохло в горле. Эй! - Джон негромко, но как-то властно, уверенно окликнул официанта в белых брюках. - "Сэвэн ап", два. - Официант чуть ли не стремглав кинулся выполнять заказ, возвратился мигом с запотевшими баночками тонизирующего напитка и высокими бокалами. - Еще чего нужно, Джон? - поинтересовался он подобострастно. - О кей! - поблагодарил Джон Микитюк, и официант неохотно попятился, буквально пожирая глазами моего собеседника. - Не удивляйтесь, меня здесь каждая собака знает. Чемпионы - они всегда на виду. - Он усмехнулся, но без тщеславия, а пожалуй, даже с грустинкой. - Итак, к делу... - В прошлом году в Москве, на Кубке Дружбы, к Виктору подошел канадский боксер - имя его я пока называть не стану, поскольку не выяснил еще до конца мотивы его поступка, а это может стать решающим фактором, - и передал привет от меня. Маленькая деталь: я его об этом не просил... Виктор оказал парню внимание: покатал по Москве, в Третьяковскую галерею сводил - правда, нашему такая честь была ни к чему, он в своей жизни ни разу не переступил порог музея. Словом, они сблизились, вы знаете, в спортивном мире - в любительском, конечно, я ведь только в 26 лет после победы на чемпионате мира перешел в профессионалы - люди сходятся запросто. Когда они расставались, парень должен был попросить Виктора привезти ему лекарство для тяжелобольной матери. У нас оно стоит очень дорого. И это действительно так, а ему, студенту, приходится считать каждый цент. Он указал и необходимое количество упаковок для курса лечения... Умолчал лишь о самом важном - эфедрин в Канаде относится к запрещенным наркотическим средствам и за провоз его можно угодить в тюрьму. - Конечно же, никакой больной матери у парня нет, и Виктор угодил в самую примитивную ловушку, не так ли? - Нет, не так. Мать действительно очень больной человек и ей позарез нужны лекарства. Тут он был правдив, и это обстоятельство, видимо, позволило ему изложить свою просьбу с максимальной убедительностью... - Так где ж этот парень? Почему он не заявил, что лекарства были предназначены ему и никому другому, что Виктор Добротвор никакой не контрабандист наркотиками, а просто человек, взявшийся помочь другому в беде? - Вот в том-то и загвоздка: парень пропал в тот же вечер. Исчез, растворился, испарился - подберите любое другое слово и вы будете правы. Он действительно не оставил никаких следов! Всю эту подноготную мне поведала его девушка, Мэри... Мы когда-то встречались с ней... но бокс для меня был важнее... Так она, во всяком случае, решила. Парень оказался, видать, покладистее и, полюбив, намеревался жениться... Но это уже второстепенные детали... - И никто, кроме этого парня, не может засвидетельствовать эту историю? - Никто. Если ее расскажу я, меня сочтут за сумасшедшего, в лучшем случае. Виктору подобное заявление тоже не поможет. Кстати, он не поверит и мне... - Почему? - Я звонил к нему, предлагал встретиться... Он бросил трубку. Когда же я, набрав вторично номер его телефона, хотел объясниться, он вот что сказал: "Я никого из вас видеть не желаю. С подонками не вожусь..." Вот так я стал подонком в глазах Добротвора. Мне ничего другого не оставалось, как встретиться с вами, Олег, и исповедаться в надежде, что вы как-нибудь передадите мои слова Виктору. - Не густо, и в то же время - много. По крайней мере для меня все это очень важно. Спасибо вам, Джон... - Возможно, мне удастся кое-что выудить в ближайшие пару дней. Но ведь вы уезжаете... - Я возвращусь в Монреаль на обратном пути. Буду улетать самолетом Аэрофлота. Ровно через девять дней. У меня останется почти сутки свободного времени... - Как разыскать вас? - Отель назвать не могу. Еще не знаю. Вот что, Джон, позвоните по телефону 229-35-71, спросите Анатолия Власенко: он будет в курсе... - А о Викторе он в курсе? - Только то, что известно всем... - Это меня устраивает. Прощайте, Олег. Мне доставила удовольствие наша встреча, хотя она и носила несколько односторонний характер, сказал, поднявшись и крепко пожимая мне руку, рыжеволосый "брюнет" Джон Микитюк, украинец, не говоривший на родном языке, к которому я почувствовал искреннюю симпатию.4
В Лейк-Плэсиде в лучах не по-декабрьски ослепительного солнца горели, переливались мириады крупных кристаллических снежинок. Снег лежал на крышах домов, устилал Мейн-стрит - главную улицу этой двукратной олимпийской столицы, присыпал елочки у входа в украшенный затейливой резьбой бело-розовый особнячок под названием "Отель "Золотая луна". В пресс-центре вежливый служитель, оторвавшись на секунду от созерцания зубодробительных телеподробностей схватки где-то на нью-йоркской улице, нажал кнопку дисплея, и на экране появилась надпись: "Олег Романько, СССР, 17-26 декабря, "Золотая луна", отдельный номер, 42 доллара, без удобств". Американец молча взглянул на меня и, увидев готовый сорваться с моих уст вопрос, предупредил его: "Мейн-стрит, 18". И вновь углубился в сопереживание с героями боевика: он болел, как мне показалось, и за "красных", и за "белых". Пресс-центр располагался не в здании колледжа, что рядом с "Овалом", ледовым стадионом, как его называли в 1980-м, когда здесь проходила зимняя Олимпиада, а в подтрибунном помещении крытого катка, где завтра выйдут на старт первые соискатели наград. Подхватив спортивную сумку и неизменную "Колибри", что объехала со мной чуть не полмира, я выбрался по широкой бетонной лестнице из душного тесного зальца и полной грудью вдохнул легкий, морозный, пахнущий арбузами воздух. Не знаю, как на кого, но на меня первый снег действует как допинг: жилы переполняются силой, сердце стучит мощно и ровно, как некогда, когда доводилось выходить на старт, шаг выходит пружинящий, надежный. Наверное, мне следовало бы заняться каким-нибудь зимним видом спорта, лучше, конечно, горными лыжами, да теперь об этом жалеть поздно - моя спортивная карьера давным-давно позади. Я задержался у бронзовой Сони Хенни и вспомнил, как мальчишкой попал на американский фильм (трофейный, естественно, ведь именно благодаря победе над гитлеровской Германией в Советском Союзе увидели шедевры мирового кино чуть ли не за четверть века) "Серенада солнечной долины", где знаменитая, да что там - легендарная норвежская фигуристка Соня Хенни демонстрировала свои умопомрачительные фигуры на фоне умопомрачительной красоты местных гор, в пучках почти физически ощутимых лучей солнца, под чарующие звуки музыки Глена Миллера. Это была потрясающая симфония любви, где все так прекрасно и чисто, что я плакал от счастья, и в душе родилось чувство обретенной цели, которая делала каждый день еще одним шагом к тому прекрасному, что уготовала мне жизнь. Даже позже, став взрослым и немало поездив по свету со сборной командой страны, я сохранил в глубине души это чистое и звонкое, как весенняя капель, чувство. Теперь за спиной бронзовой Хенни медленно врастал в землю старый, обветшавший ледовый дворец, где блистала она в 1932 году. Мне показалось, что за последние четыре года он заметно постарел и сгорбился, и ни одно окно не светилось в нем. Грусть, непрошеная и легкая, тронула сердце, и ком подступил к горлу... Если направиться от старого дворца прямо, через площадь, где некогда перемерзшие гости Олимпиады штурмом брали редкие автобусы "Грей Хаунд", вниз к озеру, то можно было попасть к дому, где я в последний раз видел живым Дика Грегори, моего друга и коллегу, американского журналиста, докопавшегося - себе на голову! - до кое-каких тайн, до коих докапываться было опасно. Но Дик был смелым и честным человеком, и он поведал мне то, что, по-видимому, не должен был говорить иностранцу, тем более из СССР. Он помог мне, помог нам, советским людям, приехавшим тогда в картеровскую Америку, охваченную антиафганской истерией, но для него этот поступок оказался фатальным. Прости меня, Дик... Я зашагал по Мейн-стрит, мимо знакомых строений. Тут мало что изменилось, разве что улочки этого затерянного в Адирондакских, так любимых Рокуэллом Кэнтом, горах были теперь пустынны, с фасадов двухэтажных - выше строений почти не увидишь - исчезли олимпийские полотнища и призывы; в местной церквушке, куда однажды мы заглянули с приятелем погреться, потому как надпись при входе по-русски обращалась к нам с предложением "выпить чашечку кофе (бесплатно) и поговорить о смысле жизни", царила темнота, и никто больше не зазывал на кофе. Светились только салоны небольших магазинов, но людей и там раз-два и обчелся сезон еще не наступил, а состязания юных фигуристов, конечно же, не смогли привлечь внимание широкой публики. Я позвонил в дверь - старинную, стеклянную, украшенную фигурной медной вязью кованой решетки. Пожилая, если не сказать старая, лет семидесяти женщина в теплой вязаной кофте и эскимосских длинношерстных сапожках приветливо закивала мне головой, отступила в сторону и пропустила вовнутрь. В лицо пахнуло теплом, явным ароматом трубочного табака типа "Клан". - Я - Грейс Келли, ваша хозяйка, - представилась женщина. Ее голос звучал чисто, глаза излучали доброту и радость нового знакомства. Мне даже стало неловко, что поспешил сосчитать ее годы. - Олег Романько, приехал к вам из Киева, это в СССР, на Днепре. - Я ждала вас вчера, мистер Олег Романько, и даже держала горячий ужин до полуночи. - Извините! Право, если б я догадывался об этом, то непременно прилетел бы к вам из этой ужасной монреальской зимы, где лил такой холодный проливной дождь. - Нет, нет, я не осуждаю вас и не потребую, смею вас заверить, лишней платы, это не в моих правилах. Вы, верно, голодны с дороги? Обед у нас через сорок минут, а пока я покажу вашу комнату. Пожалуйте за мной. По винтовой, довольно крутой с виду, но неожиданно удобной деревянной лестнице мы поднялись наверх, хозяйка распахнула выкрашенную белой краской дверь и пропустила меня вперед. Широкое, во всю стену, окно смотрелось в темные, незамерзшие воды Лунного озера, сливавшиеся на противоположном берегу с высокими черными елями. Где-то там прятался и домик Дика Грегори. Удобная патентованная кровать на пружинах "Стелла", рекламу ее я видел вчера в "Тайм", свидетельствовала о том, что пансионат не какой-нибудь захудалый, перебивающийся на случайных посетителях, но вполне престижное, следящее за модой заведение. Квадратный письменный столик с телефоном, два глубоких кресла, приземистый холодильник, на стенке над кроватью - красочная акварель с лыжником на первом плане, на полу толстый светло-коричневый ковер, да еще встроенный шкаф - вот так выглядела моя новая обитель. - Телевизор внизу, так удобнее, можно коротать вечернее время в компании. Правда, если вы пожелаете, я дам вам переносной, у меня есть новый "Сони". - Признаюсь, миссис Келли, слаб, люблю смотреть телевизор допоздна, а еще больше люблю крутить ручку переключения программ, - сказал я. - После обеда телевизор вам принесут, мистер Олех Романько. - Мне почудилось, что в голосе хозяйки маленького отеля проскользнуло недовольство. - Благодарю вас! - Ванная и туалеты - в конце коридора. Здесь, на этаже, помимо вас, живет француз, тоже журналист, но он так много курит. Слава богу, хоть вкусный табак. А вообще-то я не принимаю курящих. В обычное время, в сезон катания на лыжах, - пояснила она. Когда за хозяйкой закрылась дверь, я сбросил короткую меховую куртку. От глубокой тишины ломило в ушах. Я подумал, что в таких условиях хорошо бы отсыпаться, но с этим мне решительно не повезло: из-за разницы во времени редакция будет вызывать меня в четыре утра. Разложив на полочках в шкафу вещи, я задумался - как одеться к обеду, который в Штатах назначается на то время, когда у нас положено подавать ужин, да и к тому же в условиях почти семейных, потому что, по моим подсчетам, в пансионате насчитывалось не более пяти-шести комнат, а значит, столько и постояльцев. После некоторого замешательства (вспомнив наряд самой хозяйки) решил идти в джинсах, в рубашке без галстука, в пуловере и домашних туфлях. Когда я спускался по лестнице вниз, меня остановил голос, не узнать который было невозможно. "Серж? Не может быть! Серж - в Лейк-Плэсиде!" Если б я спустился двумя минутами позже и хозяйка успела бы разлить суп из глубокой супницы, что она держала в руках, в тарелки, беды не миновать. Серж Казанкини, а это был он собственной персоной, так порывисто вскочил, что только отчаянные усилия остальных, сидевших за столом, удержали беднягу от падения. - Олег! О ля-ля! Олег! - вскричал Серж так, словно увидел вдруг ожившего мертвеца, пожелавшего съесть еще один в своей загубленной жизни обед. Казанкини накинулся на меня, обсыпая пеплом из трубки и громко чмокая в щеки, в нос, в губы (он, наверное, насмотрелся наших официальных телепередач, но не совсем точно овладел этим ритуалом). - Нет, господа, вы только представьте - это мой друг, лучший друг, хотя и умудряющийся исчезать за своим "железным занавесом", вы же знаете, у них с заграницей туго, это я вам говорю, так вот он умудряется иногда скрываться на четыре года, без единой весточки, даже с рождеством не поздравляет, но все равно, вот вам крест святой, я его по-прежнему люблю, потому что он - такой... О, господа, о ля-ля, да я ведь не назвал его Олег, не Олех, а твердое "г", у них, в России, все любят твердое - твердое руководство, твердые, черт возьми, сыры, твердые обязательства, твердые цены, словом, все твердое! Олег Романько, журналист и бывший великий чемпион, да, да, господа, он - участник Олимпийских игр. - Все это Казанкини выпалил с пулеметной скоростью, и, глядя на обалдевшие лица остальных участников обеда и хозяйки, я решил, что пора вмешиваться, иначе обо мне могут подумать черт знает что. - Добрый вечер, господа! Успокойся, Серж. Это я собственной персоной и рад тебя видеть. Мы действительно старые друзья, господа, и в последний раз виделись здесь, в Лейк-Плэсиде, четыре года назад, на зимней Олимпиаде. Вот так! Охи и ахи - за столом располагалось еще двое мужчин и две женщины продолжались несколько минут, пока миссис Келли не напомнила, что суп имеет свойство остывать... За обедом мы перезнакомились. Помимо Сержа Казанкини, нью-йоркского корреспондента "Франс Пресс" (им он стал вскоре после Олимпийских игр 1980 года), присутствовали: господин Фред Сикорски, представитель журнала "Тайм", среднего роста и среднего возраста, довольно-таки бесцветный и невыразительный, за весь вечер выдавивший из себя разве что два десятка слов самого общего назначения. На меня он глядел если не с опаской, то с каким-то внутренним потаенным интересом, точно я был подопытным кроликом, за коим ему поручили наблюдать; под стать ему оказалась и жена - маленькая и худая, она годилась разве что в помощницы матери Терезе - знаменитой проповеднице из Индии. С журналистом из "Тайм" выступал фотокорреспондент с гусарскими усиками (имени я его не запомнил), наверное, он был неплохим мастером - в этот журнал второразрядных репортеров, как известно, не приглашают. Он был моложе своего патрона лет на десять, нагл и самоуверен, отличался редким даже для американца косноязычием и удивительно напоминал мне одного усатого знакомца из Киева. Впрочем, мы с Сержем вскоре удалились ко мне в номер, где уже стоял компактный "Сони" с дистанционным управлением. Серж приволок бутылку шотландского "Учительского виски", любимого напитка нынешнего американского президента, а для меня из холодильника извлек две банки голландского пива. Устроившись поудобнее в кресле, Казанкини так кисло скривился, едва я попытался включить приемник, что мне довелось немедленно отказаться от своего намерения. - Не жалей, все равно ничего стоящего не увидишь, - успокоил Серж. Поверь старому нью-йоркскому зубру. - Не ожидал увидеть тебя здесь, Серж. Высматривал тебя в Москве, но ты к нам на Игры не приехал, хоть и обещал... - Ну, вот, снова за деньги - Юрьев день. - Серж обладал удивительной способностью так перевирать наши пословицы и поговорки (в его собственном, конечно, переводе), что у меня просто уши вяли. - Я даже не успел возвратиться в Париж из Лейк-Плэсида, как узнал, что мое начальство жаждет видеть меня их представителем в Штатах на весь период подготовки к Играм в Лос-Анджелесе. А я так мечтал побывать в Москве, выпить настоящей русской водки в настоящем русском трактире! Да посуди, когда человеку далеко за сорок - далеко-далеко, и ему предлагают еще на четыре года контракт, нужно быть полным идиотом, чтобы не согласиться. У нас система социального страхования не столь совершенна, как у вас, и в пятьдесят лет человек уже не мечтает о взлетах... - В Лос-Анджелесе был? - У меня просто-таки язык зачесался, так хотелось забросать очевидца Игр вопросами. Увы, мое аккредитационное удостоверение так и осталось неиспользованным при мне в Киеве, да разве только у меня одного! - А зачем меня здесь держат? - вопросом на вопрос ответил Казанкини и потянулся к бутылке. Я поспешил опередить его: негоже, когда в доме хозяина гость сам себе наливает. Серж довольно улыбнулся - ему явно пришлась по вкусу моя предупредительность, а может, он вспомнил, как веселились мы с ним неподалеку от этого места, в горнолыжном клубе "Кнейсл", открытом специально для гостей Игр. Правда, тогда наливал Серж... - Напрасно вы не поехали в Лос-Анджелес, - сказал Казанкини, отпив виски. - Американцы просто-таки были в панике до того момента, пока не узнали о решении вашего Национального олимпийского комитета. Ну, не спортсмены, ясное дело, а руководители, те, кто на протяжении четырех лет получал солидные, о ля-ля баснословные! - долларовые "инъекции" для подготовки "самой великой американской команды". Плакали бы их денежки... Но вы остались верными себе - твердыми до конца... - Серж подозрительно взглянул на меня, однако не обнаружил ни малейшей попытки грудью броситься на защиту "национальных интересов". - Я согласен с тобой, Серж, и мне, поверь, было до слез обидно - не за себя, за спортсменов, что готовились к выступлениям в Лос-Анджелесе, денно и нощно тренировали свои мускулы и волю. Ведь для большинства Игры больше никогда в жизни не состоятся. Разве сможет Володя Сальников выступить в Сеуле. Или Юра Седых... Они были в фантастической форме... А сколько других ребят... - В Америке ваше решение вызвало шок - я имею в виду не официальную Америку, для которой вы - империя зла, а простую, честную, жадную до подобных зрелищ. Нет русских, нет Олимпиады - можно было слышать в частных беседах тут и там. Американцы ведь в основе своей - любопытные люди, любящие сравнивать и признавать только самое-самое. Они так воспитаны. И вдруг - ни советских атлетов, ни спортсменов из ГДР не будет. Выходит, американцы эрзац-чемпионы? Серж снова приложился к бокалу. Его круглая, розовощекая мордашка источала полнейшее умиротворение и счастье. Как немного нужно человеку... - Нет, ты не думай, что они потом помнили о вас на протяжении всех Игр. Ничего подобного! Реклама, телевидение, газеты ежедневно рождали новых всеамериканских идолов, вокруг них поднимался просто-таки вселенский шум и гам. Какими только эпитетами не награждали они своих чемпионов! О ля-ля! Мне пришлось дважды брать интервью у Самаранча - даже тот был буквально подавлен этой вакханалией шовинизма и откровенной ярмаркой, где налево и направо распродавались олимпийские идеалы. Хотелось бы ошибиться, но мне кажется, что он, тем не менее, знает, куда идет и куда ведет олимпийское движение... Это и есть самое грустное! - Я тоже не однажды встречался с ним - на Играх в Москве, потом осенью восемьдесят первого в Баден-Бадене на Олимпийском конгрессе, но Самаранч и в малейшей степени не напоминал человека, плывущего по течению. Он много делает для олимпизма. - Э, старина Олег, ты в своей краснозвездной Москве многое в этом мире видишь таким, каким вам хотелось бы видеть. А жизнь - она иначе устроена, ее в прокрустово ложе даже самых благих намерений не уложишь. Она выкидывает такие фортели, что за голову схватишься! - Не утрируй... Есть логика, есть объективные законы развития, в том числе и Олимпийских игр. - Я намеренно разжигал страсти Сержа, потому что жаждал получить информацию из первых рук, от человека, что, как говорится, был допущен в святая святых Игр, - ведь он представлял не "Правду" и даже не "Советский спорт", а "Франс Пресс", а значит, своих, от них нет и не могло быть тайн. Я был согласен с Сержем в его оценках, больше того - мои прогнозы куда более мрачны, и для того существовали веские доказательства, но мне нужен был Серж... вывернутый наизнанку. - Логика... законы, - передразнил меня Серж и кивнул головой требовательно и властно: - Наливай. Когда наш Пьер де Кубертен затевал эту штуку, что называется Олимпийскими играми, он начитался древних манускриптов и не однажды лазил по развалинам Олимпии - боже, как его там не укусила гадюка, там же среди камней тьма-тьмущая этих ужасных тварей! И ностальгическая тоска по прошлому, по идеализированному прошлому, хочу подчеркнуть, захватила его до последней клеточки мозга. Он обнаружил идеальный мир, где сильные, честные и красивые душевно и физически молодые люди, учти, только мужчины (в этом тоже есть тоска по прекрасным временам, когда мужчины правили миром, ездили на войну и пользовались правом решающего голоса во всех делах - от войны и мира до кухни) - да, молодые люди станут в предельно честных поединках отучиваться от нечестных приемов мировых боен, что стали вечными спутниками человечества. - Что ж в этом плохого? - Но на деле получилось не так! Разве ты не помнишь, как в пятьдесят втором, когда вы только появились на Играх, полные счастливой уверенности, что мир будет таким, каким вы его пожелаете, организаторы поспешили разделить Олимпийскую деревню на две - Восток и Запад. Это был первый официально зафиксированный подкоп под идеи нашего французика. А потом пошло-поехало, пока, наконец, - кто бы мог представить, что такое возможно? - не отделились от Игр сначала американцы, потом - вы. Американцы меня, право, не слишком удивили, но вы, Олег... Где была советская логика и предвидение, где были кремлевские трезвые оценки и умение увидеть не только сегодняшний день, а и завтрашний? Ведь вы такие провидцы, и мы так верили в ваш здравый смысл... А вместо этого Олимпийские игры еще глубже опустились в болото стяжательства, побед любой ценой - разве не этим руководствовались американские велосипедисты, когда принимали допинг перед финальным заездом... Игры, где на каждом углу можно было купить марихуану или дозу "китайского красного", "белой леди", "снежка", "небесной пыли", чтоб с еще большей нежностью любить на трибунах славных американских парней и герлс, так прекрасно побеждающих разных там немцев, французов, пуэрториканцев, китайцев... - Но Самаранч... - Что ты зарядил - Самаранч, Самаранч! Конечно, Самаранч - и никто другой пел вашей Олимпиаде дифирамбы, и это была правда, потому что Игры вы сделали действительно в духе Кубертена, честь вам и хвала. Но здесь, в Лос-Анджелесе, я собственными ушами слышал и собственными глазами видел его - трезвыми глазами, мне пить там было некогда, я работал как вол! Так вот, твой Самаранч заявил, что не знает лучших Игр, чем в "городе ангелов". Я обалдел! Игры в Лос-Анджелесе - лучшие?! О боже, зачем ты лишаешь разума даже достойных! Я готов побиться с тобой об заклад, давай! - Серж переменил тон и протянул мне руку для пари - он был заядлый спорщик. - Давай на сотню "косых", и чтоб мне с этого места не сойти, если на следующих Играх в Сеуле не будут на равных выступать и профессионалы! - Загнул! Олимпийский конгресс три года назад категорически отверг подобные притязания, ты что, не помнишь? - Тут уже пришел черед завестись и мне. - Пари! - Пари! - Только без обмана! - предупредил Серж. - Ты за кого меня принимаешь! Мы засиделись за полночь. Потом, когда Серж ушел, прикончив бутылку, я включил "Сони" с тайной надеждой, что услышу что-то новое о Добротворе. Но то ли время было позднее, то ли тема не представляла интереса проверив семь или восемь программ, я выключил телевизор. Долго лежал без сна, с открытыми глазами. Настроение было под стать рассказам Сержа Казанкини. Для меня все, что относилось к миру олимпизма, было святым, и романтизм юности пылал в душе, когда я вновь и вновь возвращался к дням, наполненным тренировками и соревнованиями, когда несколько десятых доли секунды, улучшенных по сравнению с недавними показателями, были, без преувеличения, самым важным, самымнужным в жизни, без чего она начинала казаться пресной и пустой. Так было, и я не боюсь осуждающих мнений. Через это нужно пройти, чтобы потом всю жизнь черпать в том времени силы и уверенность в самые трудные дни. Что тут таить, я был убит нашим отказом от участия в Играх в Лос-Анджелесе, и рана эта еще кровоточила. А ведь многое могло бы выглядеть иначе, выступи мы на Играх... И Америка не распускала бы так свой павлиний хвост тщеславия, утри мы нос их парням и девчатам - в самом хорошем смысле слова. А ведь могли, могли, черт побери!5
Утро выдалось солнечным, морозец высушил снег, и он похрустывал под ногами, возбуждая желание ходить и ходить бесцельно и долго, лишь бы слышать эту ненавязчивую, ласковую скрипичную мелодию зимы. В ней было все - и детство в Будах, где за лугом горбились "горы", с них не каждый мальчишка отважился ринуться вниз на лыжах-коротышках, и школьные каникулы, и зимний парк над морем в Жданове, где заливали дорожки и играл духовой оркестр вальс "В парке старинном...", и мама, притягивающе-тоскливо глядевшая вслед, точно догадываясь, сердцем чуя, что видит меня в последний раз... Павла Феодосьевича Савченко, моего давнего друга, заместителя председателя республиканского спорткомитета - он возглавлял делегацию - я разыскал на трибуне в старом, хеннинском ледовом дворце, где он придирчиво и ревниво наблюдал за тренировкой фигуристов. Секрет был прост: здесь, в команде, находились и его любимцы - пара из Одессы, брат и сестра, он отдал им много сил, отстаивая их интересы перед руководством, и таки отстоял, не дал сорвать ребят в Москву, хотя тренеры в столице именитые, слов нет. Опыт подсказывал Савченко: не каждый спортсмен, каким бы талантом не наградила его матушка-природа, приживется в инородной среде, вдали от матери с отцом - а фигуристы ведь в сущности были дети, хоть и обласканные разными титулами да званиями. Сколько на его памяти было талантов, что так и завяли, сошли на нет, не раскрыв дарования. И нередко - из-за поспешных, ненужных переездов. Из-за этого своего упрямства Савченко в московской среде слыл человеком крутым и несговорчивым. Пытались, что греха таить, "перевоспитывать" его на известный лад - то за границу не пустят, незаметно, культурненько, под благовидным предлогом, то без надобности зарядят заслушивать на коллегии или в управлении вопрос о развитии зимних видов спорта в республике, за кои нес он личную ответственность, то пытались достать в мелочах - не присваивали почетных званий ребятам, за которых он ходатайствовал, не выделяли необходимый, чаще всего импортный, спортинвентарь и еще многое в том же духе. Но Савченко не менялся, за свое держался цепко, хоть это упрямством не назовешь - просто человек досконально разбирался в деле и вел линию. В конце концов Савченко признали, потому что убедились в его последовательности и верности делу, да и начальство в Москве сменилось новое не унаследовало нелюбовь к упрямцу, и с его мнением теперь считались. Вот и сюда, в США, возглавить первую после Олимпиады в Лос-Анджелесе делегацию, так сказать, провести разведку боем, поручили ни кому-нибудь, а Савченко. Хотя разве это не палка о двух концах? Поездка в неизвестное могла обернуться неприятностями, не лучше ли от них подальше... Разговор наш начался не с фигурного катания, как можно было ожидать, а с происшествия в монреальском порту. - Что там нового пишут? - поздоровавшись, первым делом спросил Савченко. - Ничего. - Это уже не плохо. Я ожидал вспышку антисоветизма и разные провокации. Но и здесь спокойно, встретили приветливо, я бы даже сказал подчеркнуто предупредительно. Такое впечатление, будто они чувствуют себя виноватыми. Возможно, я пытаюсь выдать желаемое за действительное. Начнутся состязания - поглядим. Как-никак в трех видах программы главные соперники наших ребят - американцы, борьба будет идти между ними. - Павел Феодосьевич, скажи мне прямо: ты веришь в возможность свершенного Добротвором? - Верю или нет, факт налицо. Ведь не подложили же ему эту дрянь в чемодан, не подбросили разные там "темные силы" - сам купил, сам положил и привез. Что тут можно ревизовать? Вопрос другой, вот он-то и не дает мне покоя, потому что знаю Добротвора чуть ли не с пеленок. Что толкнуло его на это? - Или кто? - Ну-ну, ты тоже не блефуй! - осадил меня Савченко. - Ты видел его кулачищи, даже без перчаток? То-то, такого силой или еще чем-то не принудишь. Тем паче, что Виктор Добротвор во всех отношениях человек цельный и крепкий. Это я могу засвидетельствовать на любом уровне. - Может, кому-то хотел сделать доброе дело? - Я, каюсь, не рассказал Савченко о разговоре в холле гостиницы в Монреале с канадцем по имени Джон Микитюк. Умолчал, потому что и сам-то толком не определился, как к новости отнестись, какие выводы сделать и что предпринять, чтобы не наломать дров. Ибо давно решил для себя, что разберусь в этой истории досконально и напишу, как бы ни тяжела оказалась правда. - Добротвор - не ребенок, он несет полную ответственность за поступки. Несет вдвойне еще и потому, что он - Виктор Добротвор, имя его известно в мире. - После продолжительной паузы Савченко, словно споря с самим собой, сказал, нет, выдохнул едва слышно: - Не верю, не могу поверить, в голове не укладывается... Чтоб Виктор Добротвор... Нет! Разговор с Савченко происходил утром, где-то около десяти. Потом я отправился к себе в пансион писать первый репортаж для газеты. Промучился, считай, битых три часа, а смог выдавить две с половиной странички не слишком интересного текста. "Впрочем, - успокаивал я себя, - о чем писать? Соревнования не начались, никаких фактов, никакой информации, кроме самых общих сведений да описания мест соревнований. Не разгонишься". Но скорее всего не писалось по другой причине: из головы не шел Виктор Добротвор... Когда в дверь осторожно постучали, я решил, что зачем-то понадобился хозяйке, миссис Келли, и поспешно вскочил из-за стола, чтобы убрать верхнюю одежду, брошенную на свободное кресло. - Войдите! - Благодарю вас, сир, - важно пробасил Серж Казанкини, вальяжный, самодовольный и испускающий клубы дыма из верной, короткой, как браунинг, трубки. - Обыскался тебя в пресс-центре, но увы - и след простыл. Никак творишь? - Привет, Серж. Сел вот кое-что записать на память, - пробормотал я, не решившись признаться, что и впрямь писал: стыдно было за строки, что чернели на белом листе, вставленном в "Колибри". - Мы с тобой не конкуренты, - произнес Серж традиционную фразу, впервые услышанную мной еще в Монреале, когда мы познакомились во время Олимпиады-76. Она, эта фраза, как печать, скрепляющая наши деловые отношения, и Серж никогда не позволил усомниться в ее крепости. Если вспомнить, то я сам снабжал Казанкини информацией: и тогда, на Играх в Монреале, он мне здорово помог, когда я разбирался с историей гибели австралийского пловца Крэнстона, и четыре года назад здесь, в Лейк-Плэсиде, - в деле журналиста Дика Грегори... - Так точно. - Послушай, мой друг, если я не ошибаюсь, ты в здешних краях не был четыре года, не так ли? - Четыре года и десять месяцев без нескольких дней. А что? - Тогда извини. - Серж нахмурился, и это уже была не наигранная суровость, к которой он любил прибегать, когда нужно было начать новую бутылку, а ему не хотелось в одиночку браться за бокал. - Да, извини, каждый, конечно, имеет право выбирать себе знакомых по своему разумению. - Серж, ты начинаешь тянуть волынку, - не слишком вежливо оборвал я его. - Не знаю, что означает "тянуть волынку", - еще сильнее набычившись, жестко отбрил меня Казанкини, - но скажу тебе: в Америке нужно отдавать себе отчет, с кем имеешь дело, иначе можно вполне попасть впросак. Особенно ежели ты приехал из страны по имени СССР. - Да ты можешь в конце концов сказать, в чем дело? - Серж не на шутку вывел меня из себя, что, впрочем, было делом не столь уж и сложным при моем отвратительном настроении, что не покидало меня со времени приземления в аэропорту "Мирабель". - Я бегал за тобой в пресс-центре, потому что тебя разыскивал Нью-Йорк. - Какой Нью-Йорк? - растерялся я. - Мне никто не мог оттуда звонить... Тебя разыскивал человек по имени... - Серж сделал глубокомысленную паузу и впился в меня своими итальянскими черными глазищами, словно хотел проглотить со всеми ненаписанными репортажами из Лейк-Плэсида, - по имени Джон Микитюк. - Что же в этом ты узрел необычного? Известный боксер, почему я не могу быть с ним знаком? - сказал я как можно беспечнее, хотя у самого сердце екнуло: Джон не разыскивал бы меня без веских на то причин. Но почему он очутился и Нью-Йорке, ведь, помнится, он и словом не обмолвился при нашей встрече, что собирается в Штаты. Хотя... для него, профессионала ВФБ - Всемирной Федерации бокса, - национальная принадлежность ровным счетом ничего не значила. - Слушай-ка, парень, - сказал Серж, и я был искренне удивлен и его тоном, и главное - этим словечком "парень", столь распространенным в Штатах в обращении между полицейскими и ворами. Во всяком случае я был в этом уверен, потому что именно так обращались к преступнику или подозреваемому доброжелательные и добродушные американские полицейские во всех заокеанских кинодетективах, виденных мной. - Я не американец и никогда им не стану. Для этого нужно родиться здесь, а не во Франции, можешь мне поверить. А местные нравы и неписаные законы изучил за годы проживания здесь совсем неплохо. Кстати, во время Игр в Лос-Анджелесе, где я действительно был только спортивным журналистом и никем другим, мне довелось перепробовать немало тем из местной жизни. Одна из них принесла мне премию Ришелье - за лучший политический репортаж о гангстерах и наркотиках. Если меня мафия не отправила на тот свет, то лишь потому, что я иностранец и писал для французских газет, те, естественно, не читают ни следователи Управления по борьбе с наркотиками, ни федеральные судьи, принимающие такие дела к рассмотрению. Мне кажется, руководству мафии мои публикации пришлись по душе - как-никак реклама их всемогущества. Так вот, Олег, - теперь я не сомневался, что Казанкини действительно глубоко взволнован и не пытается даже скрывать это, - человек, разыскивавший тебя, имеет самое прямое отношение к мафии и наркотикам... - Час от часу не легче! - вырвалось у меня. В голове все перепуталось. Еще секунду назад четкая однозначная информация и выводы относительно Джона Микитюка превратилась в огромную аморфную массу, затопившую подобно раскаленной лаве мой мозг, лихорадочно пытавшийся выбраться из сжигающей черноты. - Вот видишь, - сказал Серж, не догадываясь, что мы думаем о разных вещах. - Я познакомился с Джоном два дня назад в Монреале. Прекрасный боксер и... - Боксер он, что и говорить, от бога, - согласился Серж Казанкини. Но здесь нет просто хороших и плохих боксеров, есть люди N, люди NN, люди R и так далее. Мафия давно и прочно держит бокс в своих руках, и тут никакой новости нет. - Ты уверен, что Микитюк - один из людей N или R? - Даю голову на отсечение! - жарко выпалил Казанкини. Я молчал, не зная, что сказать. Мне меньше всего хотелось, чтобы Серж - да, да, мой друг, славный честный толстяк из "Франс Пресс", человек, руководствующийся в жизни довольно устаревшими с точки зрения современной морали такими понятиями, как совесть и порядочность, - чтобы он узнал эту историю с Виктором Добротвором. Мне было горько за Виктора, и все тут! Впрочем, с другой стороны, я был уверен, как в себе, что Серж Казанкини, даже получи он приказ от заведующего корреспондентской сетью агентства, даже от самого директора - человека, власть которого можно сравнить лишь с властью президента Франции, никогда не написал бы пасквиль или вообще не коснулся этой темы, если я попросил бы его. "Но, - сказал я сам себе, - Серж ведь может получить полную информацию из газет - здешних газет, так не будет ли мое молчание выглядеть, как секрет Полишинеля?" Я коротко поведал Сержу Казанкини о происшествии и моей оценке случившегося. - Я видел телевизионную передачу, - подтвердил мои предположения Серж. - Но я на твоем месте не спешил бы с категорическими выводами. Люди, познавшие славу и деньги, хотят еще больше славы и еще больше денег. Таков непреложный закон жизни. Не спорь, не спорь со мной! - вскричал Казанкини. - Я наперед знаю, что ты мне возразишь: вы - другие, вы - самые честные, вы - самые лучшие. Согласен, заранее согласен, что у вас иной устрой общества и потому многое у вас - не станем сейчас рассматривать с точки зрения абсолютности тех или иных положений! - не так, как у нас, на Западе. Но ты должен согласиться: нельзя жить в обществе и быть свободным от него - так, кажется, сказал кто-то из великих. Мы все живем в одном человеческом сообществе, и у нас есть общие для всех - писаные и неписаные - законы... - Ты ударился в философию, и я никак не возьму в толк, что ты хочешь сказать? Пожалуйста, попроще и пояснее, ведь я - бывший спортсмен, а как ты сам изволил выразиться однажды, нет ничего проще мыслительного аппарата спортсмена: куда, как и зачем - вот три определяющих его поведение... - Я вижу, ты и впрямь мало что почерпнул с тех пор, как оставил свое ныряние! - Серж выпустил пар и уже спокойнее сказал: - Я просто хотел предостеречь тебя от поспешных и необдуманных действий. И еще - если ты, да, да, если ты согласишься на это! - располагай мною, как хочешь. - Мы ведь с тобой не конкуренты, Серж! - Тогда через два-три дня ты будешь знать о Микитюке больше, чем записано в тайных анналах федерального ведомства по налогам, а уж оно о-ля-ля - знает о каждом все! - Хвалилась синица море зажечь... Каким образом? Не станешь же ты шпионить за ним? - Я прикинулся простачком - уж очень мне не терпелось подзадорить моего друга, завести его, что, впрочем, было не так и сложно. - Ты недооцениваешь мои связи! - взорвался Серж и, выпятив грудь, как галльский петух, бросал на меня убийственные взгляды. - Думаешь, я свои репортажи о мафии списывал из местных газет? О ля-ля! У меня были собственные источники информации! Заметь, ни единый факт не был опровергнут, а это кое-что да значит, смею тебя уверить. Я потребую, Серж встал из кресла, ему не хватало разве что треуголки и большого пальца правой руки, засунутого за лацкан сюртука для полного сходства, - чтобы мне доставили исчерпывающую информацию о твоем дружке. И как можно скорее! Вечером, когда за окном разлился серебристо-голубой свет луны и тени вековых сосен, росших на берегу озера, вытянулись в четкий, почти физически ощутимый частокол, а тишина затопила округу, как весеннее половодье затапливает пойму реки, я устроился у телевизора, отдыхая после довольно-таки напряженного трудового дня. В блокноте у меня было по меньшей мере два стоящих факта, первородность их не вызывала сомнений, а это наполняло душу репортера если не лихой гордостью, то по меньшей мере ощущением, что ты не напрасно жуешь жесткий журналистский хлеб. Первый факт поначалу вызвал у меня немалые колебания, ибо показался фантастическим на фоне событий нынешнего года. Если антисоветская муть, поднятая накануне Игр в Лос-Анджелесе, давно улеглась, то шовинистический бум, рожденный эйфорией неисчислимых, невиданных за последних полвека побед американцев на Играх, девятым валом накатывался со страниц многочисленных газет и журналов, с экранов кино и телевизоров. Наряду с широкой распродажей наборов одежды "Тайгера", японских автомобилей и гонконгских часов, домов, рубашек, парфюмерных наборов, "освященных" именами чемпионов и чемпионок, беззастенчиво продавались и американские "ценности" - свобода личности, "величайшие" преимущества как в экономической, так и культурной жизни и еще многое другое, что в иных странах, даже близких Америке по духу, еще и нынче остается пусть формальным, но символом добропорядочности и национального характера. И не было упущено ни единого случая подчеркнуть, что именно эти ценности помогли американцам снова занять свое место самой великой нации в мире. Америка, казалось, освободилась от летаргического сна и не желала слышать ни о ком и ни о чем другом, как лишь об американском! И тем неожиданнее было узнать, что есть в Штатах человек, миллионер и бизнесмен, собравшийся предложить раз в четыре года проводить состязания да еще и на коммерческой основе - сборных США и СССР практически по всем олимпийским видам спорта. Причем первый раз он хотел бы увидеть такие состязания в Москве в ближайшие два года. Традиционные матчевые встречи сборных по легкой атлетике, плаванию, борьбе бывали и раньше, но чтоб свести в одном состязании сотни спортсменов - трудно было даже поверить в реальность подобного. Если же учесть, что этот миллионер был владельцем независимой и весьма распространенной и популярной в Штатах телесети и намеревался показать соревнования из Москвы приблизительно 25-30 миллионам американцев, то идея сама по себе выглядела грандиозной. В наш перенасыщенный ядерными боеголовками и недоверием друг к другу век выступить, с подобным предложением в стране, где сам президент редко упускал случай обвинить нашу страну во всех смертных грехах, для такого шага нужны были немалая смелость и предельная честность в намерениях. Такой человек нашелся, мы беседовали почти два часа. Потом он пригласил меня отобедать с ним, и мы укатили высоко в горы, где снег уже лежал толстым, плотным покровом. Мы отлично провели время на высоте почти в две тысячи метров над уровнем моря, сидя на отапливаемой веранде крошечного ресторанчика над безбрежным простором гор и лесов. Американец, назовем его Н., он пока не хотел, чтоб раньше срока его идея стала достоянием черных воронов, коих немало в здешней журналистике, способных угробить дело на корню, верил в возможность налаживания новых, добрососедских отношений между нашими народами. И спорт виделся ему наиболее приемлемым на данном отрезке времени. Н. - ему не больше 47-48 лет, во всяком случае, внешне ему больше не дашь, подтянутый, энергичный, как большинство деловых американцев, с которыми мне доводилось встречаться, - был, как и положено хозяину, раскован, и, честное слово, между нами не стояли ни наши противоположные политические системы, ни диаметрально отличающиеся экономические основы, не было ни недоговоренностей, ни предубеждений: мы говорили на одном, понятном (независимо, как он называется - русский, английский, немецкий) языке - на человеческом языке, Пусть простят мне твердолобые блюстители первородной чистоты наших убеждений и идей, но, право же, мне, коммунисту, не претило разговаривать с миллионером и эксплуататором - с точки зрения политэкономии капитализма Н. был типичным эксплуататором, живущим за счет прибавочной стоимости, наработанной рабочими, трудившимися на его фабриках и в студиях, - не только не претило, но и было полезно во многих отношениях. Ибо все познается в сравнении. И это отнюдь не мешает тебе оставаться тем, кто ты есть, по зато помогает лучше увидеть себя и свои сильные и слабые стороны. Это была первая новость, добытая мной. Не менее любопытным было и сообщение, касавшееся пока что тайного, необъявленного соглашения между некоторыми международными спортивными федерациями и могущественными межнациональными корпорациями о "подкормке" спортивных "звезд". Здесь пахло явным сползанием с позиций любительства. "Не мытьем, так катанием, но они таки приберут Олимпийские игры к рукам", - суммировал нашу беседу шведский тренер по фигурному катанию, поведавший мне эту новость. Нильстрэм вообще-то долгое время был хоккейным наставником "Эстерлунда" - одного из сильнейших скандинавских хоккейных клубов, мы-то и сошлись с ним еще в Гетеборге, в 1981 году, на чемпионате мира по хоккею. А вот теперь я узнал, что мой знакомец поменял амплуа и подвизается... наставником молодежной сборной страны по фигурному катанию. "Мне надоело выкармливать корову, которую регулярно доят то канадцы, то американцы, - объяснил Нильстрэм свое неожиданное решение покинуть хоккей. - Стоит лишь появиться талантливому парнишке, как его тут же сманивают за океан, - где еще можно оторвать такую деньгу? А я в душе остался старомодным любителем спорта, доброго, старого спорта, когда получали удовольствие от самого выступления, а не от того, сколько тебе за это заплатят!" Эти факты, как, впрочем, и самоотверженная преданность Сержа Казанкини, взявшегося помогать мне, лишний раз подтвердила незыблемую старинную истину: не имей сто рублей, а имей сто друзей... Когда в дверь без стука (ключ, вопреки принятым здесь нормам, я оставил на противоположной стороне) вошел Павел Феодосьевич Савченко, я обрадовался ему искренне: он, как никто другой, обладал даром душевного врачевания, хотя, кажется, и не догадывался об этом. - Милая старушка у тебя, - пожаловался Павел Феодосьевич вместо приветствия. - За пять минут, пока я торчал за входной дверью, она выспросила у меня чуть не полную биографию. Мне даже довелось уверить ее, что я не курю дешевых сигар и вообще предпочитаю лимонад виски и пиву. Что же касается твоей личности, то пришлось поломать голову, вспоминая, в чем ты был одет в последний раз и есть ли у тебя усы, а если есть, то какого цвета... С моим-то английским! Я с трудом удовлетворил ее запросы и мне отперли входную дверь. - Говоря это, Савченко по-хозяйски спокойно разделся, в отличие от меня не бросил на кресло форменную - синюю с красным - куртку с золотым Гербом СССР над сердцем, а аккуратно повесил на плечики в шкаф. Он причесал редкие светлые волосы и, лишь в последний раз взглянув в зеркало и убедившись, что у него полный порядок на голове, опустился в кресло. Я слегка притронулся к пульту, и экран "Сони" тут же почернел. - Вот и прекрасно! - одобрил мои действия Савченко и без перехода уже озабоченно сказал: - Сегодня разговаривал с Москвой, с комитетом, там, как я понял, просто рвут и мечут. Думаю, что Добротвору будет худо. Скорее всего пожизненная дисквалификация. Да и все звания снимут... - Погоди, с этим нужно хорошенько разобраться. А если провокация? - Суд был, и судили советского спортсмена. Тебе этого мало? И за меньшие проступки наказывали на полную катушку. Правильно наказывали! Хотя нужно в таких случаях строже спрашивать и с наставников да руководителей: если человек идет к яме, то не в пустыне, а среди других людей, и удержать, помочь ему избавиться от недуга - их прямая обязанность. Я уже не говорю о партийном, да и просто человеческом долге. Мы же в последние годы видим одни достижения - медали, рекорды, а что в душе рекордсменов и чемпионов деется, никого не интересует. В спорте стало много "звезд" и поубавилось настоящих людей, которых не стыдно выпускать в жизнь. - Как раз Виктора Добротвора в подобном не обвинишь... - До нынешней поездки в Канаду, - прервал меня Савченко и без перехода спросил: - Я буду ночью разговаривать с Киевом, чего передать тебе домой? - Скажи Наташке, что у меня все о'кей! - Не густо. - Она поймет. У нас свой код. - Ну, разве что... Как ты думаешь, - после небольшой паузы спросил Савченко, - не заломают судьи наших ребят? После Лос-Анджелеса у них все тут окончательно распоясались, мне наш переводчик читал кое-что из местной прессы... гады, да и только. Мне не хотелось бы, чтобы мои мальчишки и девчонки увидели, что спорт бывает, к сожалению, не праздником справедливости, а шабашем ведьм... На юные характеры такая несправедливость может обрушиться тяжким бременем. Судьи ведь кто - все из их лагеря, только двое, пожалуй, могут быть беспристрастны - венгр и финка. - Я уверен в обратном: судьи будут максимально лояльны к нам, особенно американцы. Как вас встретили здесь - разместили, какие условия для тренировки? - На высшем уровне... - В голосе Савченко пробилось удивление не удивление, но какая-то растерянность. - Только я как-то не придал этому значения. Ведь впрямь никаких претензий не предъявишь: поселили лучше, чем сами американцы живут, для тренировок определили время, как и для своих, самое что ни есть удобное и приближенное ко времени состязаний, спрашивают уже с утра - не нужно ли чего. Даже в Нью-Йорк экскурсию предлагали... Вот тебе и на! Нет, вы, журналисты, свой хлеб не зря жуете! - рассмеялся Савченко. - Снял ты камень с души. Если же все и впрямь будет по-твоему, проси что хочешь! - Ловлю на слове, Павел Феодосьевич! - Ну-ну, не зарывайся... - Паша, - обратился я к Савченко по имени: делалось это в редчайших случаях, хотя мы и были старыми и верными друзьями. - Паша, ты можешь мне пообещать, что сделаешь возможное и невозможное, чтобы разбирательство дела Добротвора было максимально беспристрастным? - Это ты уже загнул, я же говорил - не зарывайся. Он - сборник, судить его будут в Москве, в комитете достаточно компетентных и справедливых людей... - В этом хотелось бы удостовериться. Боюсь, однако, что никто не захочет вникнуть в суть, доискаться до причин. А разве это не важно добраться до корней, до истоков, как и почему известный атлет, человек с чистой биографией мог пасть так низко? Кто виноват - он один или есть еще и соучастники? Ведь если такое случилось, нужно сделать выводы не только по конкретному случаю, а увидеть явление, ведь с ним-то, явлением, и нужно нещадно во имя чистоты советского спорта, наших устоев бороться! - Умерь свой пыл! Причины... следствия... Ты что, с луны свалился? Кто же это станет доискиваться до корней, эдак ведь самому себе и своей сладкой жизни собственными руками яму можно выкопать. Занесло тебя... - Отчего же это - занесло? - Я кинулся в драчку. - Разве вы и ты в частности - не живете за счет спортсменов? Разве ты, Павел Феодосьевич, тренируешься по шесть часов ежедневно, гробишь - будем откровенны собственное здоровье во имя рекорда или золотой медали, что может потерять свой блеск уже завтра, потому что появится более сильный или талантливый, разве ты видишь свою жену и детей в короткие перерывы между сборами и новыми сборами, между состязаниями и поездками, разве вы отказываете себе во всем - даже в полноценной учебе, своем будущем - и все во имя того, чтобы на флагштоке под звуки Государственного Гимна поднимался наш красный стяг? Да можно ли так легко списывать спортсмена? - Говори, говори... - Могу тебе со всей определенностью заявить: я докопаюсь до истоков этой истории, но рядом с Виктором Добротвором, если он окажется виновен, будут и его тренеры, и работники комитета. Словом, те, кто к нему лично и к этому виду спорта имел непосредственное отношение. Вещи, Паша, нужно... пора начинать называть своими именами! Во всяком случае так я понял Андропова, пусть он даже не успел сказать до конца все, что намеревался. Да вспомни, Павел Феодосьевич, свое время, когда ты плавал! Ты учился в инфизкульте и, кроме стипендии - студенческой, а не комитетской, - не получал ни гроша. Разве не ты плавал - громко сказано - мучился! - в крошечном, вечно переполненном бассейне на Красноармейской, съев перед этим полбуханки черного хлеба... без масла? У тебя не было ни плавок "Арена", ни очков, предохранявших глаза от убийственной концентрации хлора в воде, а ты был счастлив, когда удавалось побить рекорд. Вспомни Анатолия Драпея, Юру Коропа, Колю Корниенко - изувеченных войной, но сохранивших столько чистоты и любви к спорту. Ведь плавали не за деньги, не за блага и иностранные шмотки, что же случилось теперь?! - Не хуже меня знаешь, что случилось. - Савченко хмурился, и только умение держать себя в руках спасало меня от его ярости. А разве мне сладко, если эти мысли давно будоражили душу, заставляли искать выход и не находить его: уж больно крепкой, и не только на вид, оказалась "стена" современного "большого спорта", как стали именовать все, что происходило на уровне сборных. Причем, что самое поразительное: никто не афишировал эти изменения, никто не объявлял официально об их утверждении в роли неписаных, но скрупулезно соблюдаемых законов; и худо тому, кто попытался воспротивиться их дурному влиянию, отступника, кем бы он ни был "звездой" или спортивным функционером, - если не стирали в порошок, то навсегда удаляли из "высоких сфер". На собраниях сборных куда чаще твердили о необходимости - любой ценой! - добиться победы в тех или иных состязаниях, чем о таких понятиях, как "честность", "порядочность", "цельность физического и морального совершенства". - Извини. Извини за тон. Что же касается сути, я не отказываюсь от своих слов. Напраслину возводить не хотел. - Брось извиняться. Ты прав. Я мог бы добавить еще кое-что из этого же ряда: взятки, даваемые за право попасть в сборную и поехать за рубеж, тайные валютные аферы, прикрываемые во имя ложно понятой престижности нашей профессии, бессердечие по отношению к "звездам", чей блеск остался в прошлом, протекционизм, сувениры, коими одаривают спортивных начальников подчиненные... Как следствие - падение престижности и привлекательности спорта, ведь мы сдаем свои позиции на мировой арене потому, что узок выбор талантов, кубертеновская "пирамида" оказалась перевернутой "на голову"... И многое другое. Да, еще проблема: считается, что нынешним спортом можно руководить без специального образования... - Но это же не может продолжаться вечно! Нужно ломать эти негодные, с позволения сказать, традиции! - Вкусив сладкого, не захочешь горького... Одно я тебе обещаю твердо: разбирательство поступка Виктора Добротвора будет беспристрастным и глубоким. Даю тебе слово...6
Вечером, когда в сонном воздухе снов поплыли снежинки, гулкая тишина, что случается только в горах зимой, окутала и Лейк-Плэсид, и дальние берега озера, где громоздились высоченные ели, вползла и в мою комнату на втором этаже. События недавних дней как-то отстранились, отодвинулись в сторону, и "персональная ЭВМ", а попросту - память выносила на поверхность то далекое прошлое, то вдруг подносила картины совсем недавние, рисовала живые лица. Но чем бессистемнее выглядели воспоминания, тем явственнее выстраивались они в ряд закономерностей, однотемность их уже не вызывала сомнений, и хотел я того или нет - вернулся в прошлое, что, казалось, кануло в Лету. Я отчетливо представил темную комнату - бунгало Дика Грегори, и тут же гулко забилось сердце, совсем как тогда, когда я включил свет и увидел своего друга мертвым. И ужас охватил меня тогда, и заставил враз ощутить себя одиноким и беззащитным перед лицом неведомой опасности, что уже уничтожила этого-сильного, волевого и умного человека, умевшего избегать Сциллы и Харибды в бурном море политических течений американской жизни. Но он, Дин Грегори, осмелился заглянуть в их тайны - и блестящий, я бы даже сказал, в чем-то откровенно циничный, когда дело касалось сенсации, журналист был уничтожен без предупреждения. Не знаю почему, но тень той четырехлетней давности истории коснулась меня ледяным дыханием, и я почему-то с тревогой и беспокойством подумал о Серже Казанкини, взявшемся мне помогать, и о Джоне Микитюке, хотя, если верить информации французского репортера, мне скорее нужно было опасаться боксера, а не беспокоиться о его здравии. Мне не писалось. Быстро одевшись, я вышел под снег, и мягкие, нежные капельки заскользили по лицу, охлаждая горящую кожу. Мейн-стрит была ярко освещена рекламой и светом витрин, но люди попадались редко, одиночки. Тем не менее я поспешил свернуть в первый же переулочек, ведущий к озеру, и зашагал вдоль темных, дышащих туманом волн. Сколько бродил - не помню, но мысли крутились вокруг да около все той же заклятой темы, а решение так и не выкристаллизовалось. Словом, возвратился я к себе в пансион еще более растревоженным, и скрыть это состояние мне не удалось. Миссис Келли (мы с ней столкнулись в прихожей) всплеснула руками и обеспокоенно спросила, не заболел ли я. Мне ничего не оставалось, как заверить хозяйку, что чувствую себя превосходно. Миссис Келли пообещала приготовить чай на калине и лишь тогда сказала то, с чего нужно было начинать. - К вам все добивались по телефону из Нью-Йорка, - в голосе ее прорвалось недовольство, и я отнес это на свой счет: вот, мол, человек трезвонит весь вечер, а вы шляетесь под снегом по такой ненастной погоде неизвестно где. - Он просил вас быть у себя в полночь, ему крайне нужно с вами поговорить. - Мужчина? - А кто же еще мог быть так поздно? - удивленно всплеснула руками миссис Келли, и я чуть было не расхохотался, но вовремя сообразил, что ее пуританизм - осколок "доисторического" прошлого человечества и его нужно лелеять и холить, дабы не забывать, что существовали времена, когда мужчины снимали шляпы при виде женщины, уступали ей место в конке, целовали руку, чтобы засвидетельствовать свое почтение, приносили цветы, когда являлись на свидание, и спрашивали по утрам: "Как ты спала, дорогая?" Помнить, чтобы окончательно не смириться со всеобщей женской эмансипацией и равенством, которые для нас, мужчин, при всей привлекательности подобного положения означали бы бесследно и навсегда утратить способность быть опорой и надеждой слабого пола... - Спасибо, миссис Келли, это очень любезно с вашей стороны, улыбнувшись, поблагодарил я хозяйку, и она, расцвев, уплыла к себе в просторную угловую комнату, где вместе с ней обитали жирный, самодовольный пушистый серый кот и черная, словно из преисподней, гладкошерстная собачонка с умным, почти человеческим взглядом выпуклых глаз. Но прежде чем я услышал звонок из Нью-Йорка - не стану скрывать, ожидал его с волнением и опасением услышать что-то неприятное, - объявился Серж Казанкини. - Хелло, Олег, я чертовски надрался, но ты не спеши ругать меня, это все ради тебя и твоего дела, чтобы мне провалиться вместе с этим проклятым креслом, из коего я не могу выбраться, считай, полдня, и пью, хоть ты и осуждаешь меня, знаю, но ты не прав, когда старый Казанкини, впрочем, не такой уж старый, как тебе хотелось бы, женщины так просто заглядываются на меня, когда... когда... - Серж замолк, словно в кожухе "максима" враз испарилась вода и он захлебнулся в собственной пене. - Олег, это ты, Олег? - Голос и скороговорка выдавали, что мой друг изрядно "нарушил режим" и что ожидать чего-то толкового от него не приходится. Но я ошибся - Серж умел пить и оставаться трезвым, когда надо было быть трезвым. - Олег, черт побери, я действительно пил потому, что нужно было кое с кем поговорить по душам, а души у них раскрываются только после изрядного набора... Прости... - Язык его снова стал заплетаться, и я подумал, что он положит трубку, а если не сделает этого сам, то положу трубку я здесь, в Лейк-Плэсиде. Однако после короткого передыха Серж уже четко сказал: - Я тут действительно кое-что раскопал, отчего можно сразу протрезветь, Олег. Вот тебе мой совет: держись от этой истории подальше. Подальше! Ты понял меня? - Понял, Серж. Когда ты вернешься в Лейк-Плэсид? - Послезавтра, а может, если не успею выполнить срочное задание шефа, через три-четыре дня. Но, послушай, заруби у себя на носу: держись подальше от этого дела, а от того парня - ты догадываешься, о ком я говорю, - еще дальше! - Будь здоров, Серж. Спасибо и спокойной ночи. Ты тоже... ну, словом, не лезь куда не следует. - Мне хотелось добавить: "Помни Дика Грегори", но я сдержался - не телефонный это разговор, хотя и маловероятно, чтоб Казанкини подслушивали. Да береженого и бог бережет... - Что намереваешься делать? - не унимался Серж. - Сейчас - спать, завтра - работать на соревнованиях. - Хорошо тебе, - искренне позавидовал Серж, - а мне еще торчать в кресле до утра - эти ребята не любят, когда в бутылках остается хоть капля спиртного... Нет, ты не бойся, их здесь нет - они сбежали перекусить, а я, ты знаешь, не закусываю, у нас во Франции это не принято. О ля-ля, Олег, пусть тебе приснится Мэрилин Монро или... Жан Габен... Серж Казанкини бросил трубку, и в комнате воцарилась тревожная пустота. Что раскопал этот пронырливый толстячок, и почему мне следует опасаться Микитюка? Вряд ли Серж сгущал краски, это не в его правилах, а уж трусливым никак не назовешь, это тоже не подлежит сомнению. Значит... Впрочем, нечего ломать голову в догадках, когда через несколько дней Серж сам расскажет подробности. Вот только как мне быть с Микитюком, ведь с минуты на минуту должен позвонить Джон? Я не успел собраться с мыслями, когда снова мягко зазвонил телефон. Розовая трубка притягивала к себе, звала взять, вернее, обнять ее пальцами нежно и страстно, так совершенно изваял ее неизвестный дизайнер, но я колебался. Как и что скажу Джону? Врать и темнить никогда не умел, и потому врагов и недоброжелателей у меня всегда было больше, чем можно было иметь при разумном, взвешенном отношении к разным людям и их поступкам. Не хотелось двоедушничать с парнем, тем более что он мне приглянулся, вызвал доверие после первой нашей встречи. "Может, просто не поднимать трубку, и баста? Нет дома, что тут поделаешь?" - мелькнула предательская мыслишка. - Да, - твердо сказал я в следующую секунду. - Я слушаю вас. - Это мистер Олех Романько? - Я. - Здесь Джон Микитюк. Я разыскиваю вас два дня. - Я слушаю вас, Джон. - Мне есть что вам рассказать новое, и я хочу встретиться с вами. - Мы же уславливались - я буду в Монреале, и вы знаете, где найти мои координаты. - Нет, это может быть поздно! Очень поздно. - Увы, ничем помочь не могу ни вам, Джон, ни себе. С завтрашнего дня я буду полностью привязан к соревнованиям. - Вы... вы не можете свободно говорить, мистер Романько? встревожился Микитюк, уловив в моем голосе сдержанность, если не сказать ледяное равнодушие. - Отчего же, я один в комнате... - Тогда... тогда я не понимаю вас... Разве та история вас больше не интересует? Ведь вы высказали такую озабоченность при встрече... - Джон, - сказал я как можно доброжелательнее, - помню, но, право же, закрутился - интервью, тренировки, знакомства, старые друзья и тому подобное. Давайте перенесем разговор на позже, когда встретимся в Монреале. К тому времени, верно, многое прояснится. - Прояснится, что прояснится? Вы тоже что-то узнали? - Джон, вы прекрасный боксер и человек, вызывающий у меня уважение, и я благодарен вам за доброе содействие, но, право же, у меня как-то пропал интерес к этой истории. Забудем, а? - Я с ужасом ловил себя на том, что вольно или невольно веду себя так, как рекомендовал мне Казанкини, а ведь это не мой стиль, я никогда не предпринимаю никаких действий, прежде чем сам не удостоверюсь в истинности того или иного факта. Неужто я испугался скрытой угрозы, содержавшейся в словах Казанкини? - Мистер Романько, - голос Микитюка заметно посуровел, и я представил лицо парня - черные глаза вспыхнули яростным огнем, челюсти сжались до зубовного скрежета, - то, что я намерен рассказать, нужно прежде всего вам. По крайней мере ваша воля распорядиться информацией по своему усмотрению. Извините, Джон. Мы договорились встретиться в Монреале. Благодарю вас за звонок. Прощайте. Да, Серж Казанкини, будь он рядом со мной, потирал бы руки от удовлетворения: я вел себя, как послушный мальчишка-пятиклассник, застигнутый учителем за списыванием уроков и беспрекословно соглашавшийся со всем, что ему твердили... Не всегда в жизни удается уберечься от неожиданных даже для тебя самого решений.7
Не всегда... Это случилось накануне чемпионата Европы. Мне прежде не доводилось выступать в Италии, и Рим виделся не одной лишь счастливой возможностью восстановить престиж, подупавший в глазах тренеров сборной, да и осмелевших до дерзости соперников после трех обиднейших проигрышей, в том числе и на чемпионате страны; я спал и видел себя под стенами древнего Коллизея, где некогда сражался Спартак; я мысленно бродил по Форуму и опускал разгоряченные ладони в прохладные струи фонтана Треви, стоял на площади перед собором Святого Павла, словом, помимо спортивного интереса, предстоявший чемпионат континента обещал массу неповторимых впечатлений. Масла в огонь подлил и сам Захарий - так между собой величали мы в сборной генерала Захария Павловича Фирсова, бессменного председателя Всесоюзной федерации плавания и непременного руководителя команды в зарубежных поездках. Прямой и длинный - настоящая коломенская верста, в своем неизменном форменном блайзере члена руководства ФИНА, уверенный в себе и потому чуть-чуть напыщенный, он бросил фразу, заставившую кандидатов в сборную, в том числе и меня, буквально задрожать: "А затем, ребятки, коли золотыми медалями не поступитесь, обещаю вам Везувий и Помпеи. Помните: "И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем"? Но-но, только при условии отличного выступления в целом, командой!" "Я покорю тебя, Рим!" - твердил я себе, когда плыть было уже невмоготу, а новый тренер (моя постоянная наставница Ольга Федоровна, как и положено периферийному специалисту, осталась дома), как надсмотрщик (ему только хлыста для полного сходства не хватало), наотмашь хлестал и хлестал меня словами. "Вы что, молодой человек, всерьез рассчитываете с такими результатами попасть на Европу?" Или: "Работать нужно так, чтоб соленый пот в воде глаза ел!" Или еще похлеще: "Боже, и как там на Украине пловцов тренируют?" Меня раздирала злость, я взрывался, как перегретый чайник, а секунды становились все хуже, все безнадежнее, и шансы мои убывали быстрее, чем шагреневая кожа у скупца. Чего только не делал: пил настойку лимонника (в те славные времена мы не ведали никаких "ускорителей" - ни запрещенных, ни официально рекомендованных лабораторией какого-то там авиационного НИИ и предназначенных для летчиков-высотников), давился аскорбинкой с витамином С, через день вылеживал часами под ловкими руками Жоры, массажиста сборной (а Жоре перевалило за 40), до изнеможения парился и на ночь принимал элениум. Врач составлял картину по тестам и разводил руками: по показателям я был чуть ли не лучше всех в сборной подготовлен физически. Он однажды заикнулся моему наставнику, что нужно бы Романько, в его же интересах, дать передышку, эдакий незапланированный тайм-аут в тренинге. Нужно было видеть зверское выражение тренера, услышавшего такую беспардонную крамолу. "Да ему и спать в воде нужно, он ведь расходует одну тысячную энергии, а вы - отдых!" - рявкнул он, чем поверг тихоню-интеллигента, без году неделя в сборной, в такую панику, что, если не ошибаюсь, врач ни ко мне, ни к кому другому несколько дней подступиться не решался. Что и говорить, такая обстановка не способствовала творчеству. Я видеть не мог своего непрошеного наставника и ежедневно писал длиннейшие письма-исповеди Ольге Федоровне, изливая душу, и это было единственное, что еще как-то поддерживало меня на поверхности. Чем ближе придвигался Рим, тем труднее становилось заставлять себя дважды в день прыгать в прохладную голубую воду и крутиться отбортика к бортику, не поднимая головы, чтоб не видеть и не слышать тренера. Он, однако, не остался в долгу: явился в бассейн с мощным мегафоном, и теперь его сентенции стали слышны едва ль не в противоположном конце маленького уютного Ужгорода, где отаборилась наша команда. Я стал избегать даже ребят. За два дня до отъезда в Москву мы вышли на старты официальной международной встречи СССР - ГДР. Не стоит говорить, что в первый день я едва добрался до финиша, а результат был таким оглушающе низким, что, без сомнений, вопрос о поездке в Рим отпал сам собой. Заметно приободрились мои постоянные конкуренты Сашка Головченко, талантливый молодой крепыш с мертвой хваткой на последних метрах дистанции, из которой мне и прежде удавалось вырываться с невероятнейшим напряжением, и Харис Абдулов, жгучий красавец, молчун, себе на уме, с мощными просто-таки ногами-пружинами, буквально выталкивавшими его вперед (Харис родился в ауле под Сочи и в детстве лето напролет пас коз в горах, вот оттуда и его знаменитый жим). Был еще парнишка из Ленинграда, но он не шел в счет - совсем зеленый, его время наступит не раньше, чем через два-три года, да и то, если к тому времени Абдулов с Головченко сойдут с голубой дорожки. И выбрался из воды, буквально отполз в сторонку и плюхнулся навзничь на густую, теплую траву, подставив лицо солнцу. Хоть убей, я не знал, почему не плыву. - Олежек, привет, - услышал я, но глаза не открыл: мне никого не хотелось видеть в ту минуту. Но человек не исчез. - Олежек, это я, Ласло... Теперь я узнал: местный парень, тоже пловец-брассист, как и я, но дальше первого разряда не дошел и бросил спорт. Внутри в нем, однако, жило неудовлетворенное желание плавать, и он тянулся к нам и проводил время в бассейне с нами, дисциплинированно являясь на утренние и вечерние занятия. Мы с ним быстро сошлись, он пригласил однажды к себе домой - его родители, занимавшие не последнее место в местной административной иерархии, владели огромным, мне до того не приходилось видеть ничего подобного, особняком в три этажа с десятком комнат на пятерых. Плюс собственный виноградник и замшелый подвал с дубовыми бочками, ухоженный сад и огород, куры, свиньи и овцы, пасшиеся на Верховине у дальнего родственника. Цветной телевизор, японская стереосистема (видео тогда еще не нашло распространения среди наших зажиточных граждан), беспредельное поклонение единственному сыну надежде и опоре. Не это ли стало причиной, почему парень так рано забросил спорт: слишком много существовало соблазнов, не требовавших никаких усилий... Но Ласло оказался добрым, покладистым и необидчивым. За мной он ходил по пятам с первого появления сборной в бассейне. Я привык к нему, он стал моей тенью и был к тому же полезен - был аборигеном и умел самозабвенно слушать, о чем бы я не болтал. - Видел, как плыл? - Видел... - Голос Ласло прозвучал так грустно, что это неожиданно рассмешило меня: я был зол на весь мир, на себя, в первую очередь, конечно, а тут человек убит горем... моим горем. - Концы. Завтра скажу, что болен, и - айда домой. Отдыхать. - Не выйдешь на старт? - Мое откровение совсем раздавило Ласло. - Не-е... - Я все еще лежал с закрытыми глазами. - А как же... тут ходят, чтоб увидеть тебя, как ты плывешь... - Смотреть не на что, разве тебе не ясно! - Видел... А может, еще рискнешь? - Не-е... - Жаль. - Ласло, а, Ласло, что если нам нынче куда-нибудь закатиться и поплясать под скрипочку цыгана Миши? - Я открыл глаза, приподнялся на локтях. - Знакомые девушки у тебя, надеюсь, есть? - С этим без проблем. А что? - У Ласло плохое настроение долго не гостило. - Не век же вкалывать человеку? Я понял его перемену и не осудил: показаться в ресторане в обществе чемпиона и рекордсмена, знакомые от зависти завянут... Мне же было все равно. Я понимал, что совершаю непоправимую ошибку, и тот же мой нынешний наставник будет прав, тысячу раз прав, когда скажет, что Романько - не спортсмен, ему место на трибуне среди зрителей. Многолетний опыт тренировок и самоограничений, мое второе "я", действовавшее и рассуждавшее примитивнее с точки зрения обычной человеческой логики (ведь Николай Михайлович Амосов однажды высказал твердое убеждение, что поступками человека руководят две силы: желание получать удовольствия и желание всячески избегать неприятностей), требовало еще сильнее зажать прекраснодушную слабость в железных тисках дисциплины и плавать, плавать и плавать. Но я уже доплавался, как говорится, до ручки: последние два года работал как заведенный, отказывая себе буквально во всем. Мне нужно, непременно нужно было доказать себе самому, а потом уже ей, наставнику, что я - еще не выжатый лимон. И чем хуже складывалось мое положение в бассейне и дома, тем упрямее принуждал себя на тренировках. "Однако и на старуху бывает проруха, - признался я сам себе. - И пора факты воспринимать такими, какими они есть в действительности..." А вслух произнес: - Ласло, будь добр, подойди к старшему тренеру и скажи, что ты хочешь пригласить... нет, твои родители просили - так будет лучше - пригласить меня в гости. Ну, скажем, на день рождения, именины, годовщину свадьбы, праздник урожая, - словом, придумай, но получи разрешение не присутствовать мне на ужине и чуток задержаться после отбоя. Ты понял: не ты, родители приглашают! - Я знал, о чем толковал: старший, бывший пловец-марафонец, заслуженный мастер спорта, уважаемый в нашем мире человек, был до крайности падок на лесть и... внимание "больших людей". Отец же Ласло, как я говорил, был одним из городских начальников, занимавшихся к тому же устройством сборной с наибольшим комфортом, и весьма преуспел в этом, и старший был от него без ума. - Понял, Олег, - довольно осклабился Ласло. - Когда зайти за тобой? - К семи... Только, гляди, чтоб кадры поблизости не крутились. Не хватало еще и в этом засветиться... Пусть лучше ждут у ресторана, о'кей? - О'кей, мистер Романько! Ай лав ю! В своем темно-вишневом олимпийском блайзере, в новенькой рубашенции, купленной зимой в Париже и ни разу не одетой, в серых намертво отглаженных брюках и светлых мокасинах я выглядел никак не хуже сына нефтяного шейха из Объединенных Арабских Эмиратов. Мне не хватало лишь белого "кадиллака" с открытым спортивным верхом и оруженосца. "Впрочем, с оруженосцем проблем не будет, - едко усмехнулся я, рассматривая себя в старинном пожелтевшем зеркале в отдельном номере на третьем этаже некогда блестящей, а теперь захиревшей гостиницы. - А ведь и впрямь наставник прав: выжатый лимон, цвет сохранился..." Настроение и без того плачевное - мысли об очередной неудаче в бассейне буквально глодали душу - готово было упасть до отметки "катастрофа". Я не любил раздвоенности, а она теперь достигла предела. Я уже взялся за темно-синий галстук, подаренный фирмой, обеспечивавшей нас плавательными принадлежностями, а также одаривавшей разными мелочами, вроде этого галстука, снабженных фирменными знаками, взялся, чтобы развязать его и плюнуть на глупую затею с рестораном, когда в дверь, робко постучав, проскользнул Ласло. Он, кажется, опешил от моего блистательного вида. - Ладно, не красна девица, - оборвал я его на полуслове, когда он готов был восхищаться увиденным. Мы выскользнули из гостиницы никем не замеченные: и наши, и немцы как раз ужинали. До ресторана "Верховина", куда, я был уверен, поведет меня Ласло, не больше километра, но под гостиницей нас ожидало такси. Неподалеку от входа в ресторан маячили две девушки, привлекавшие внимание парней. Увидев нас с Ласло, они огорченно и не без зависти окинули их оценивающими взглядами и отвернулись. - Жужа, - протягивая руку, просто, без жеманства представилась невысокая, с высокой грудью и быстрыми, умными глазами брюнетка. - О сэрэт ми! - как можно жарче произнес я венгерское "Люблю тебя". - Так быстро? - уколола девушка, - рассмеявшись. - Он у нас такой! - поддакнул Ласло. - А это - Марина. Я догадался, что стройная, эдакая ужгородская Твигги [Твигги - имя английской манекенщицы 60-х годов, девочки, похожей на мальчика, которая была объявлена эталоном девичьей красоты и совершенства. - И.З.], соблюдающая строжайшую диету - кофе и сигареты, его пассия. Столик был заказан, официант почтительно замер, пока мы рассаживались, оркестр находился не близко, но и не далеко, и ничьи спины и головы не закрывали от нас Мишу - пожилого скрипача-цыгана с темно-синими, глубокими заливами под черными, крупными и печальными глазами, округлым брюшком человека, не отказывавшего себе в удовольствии выпить лишний бокал хорошего местного вина. Он был знаменитостью, и слава его не была дутой: играл и пел Миша самозабвенно, виртуозно владея и голосом, и скрипкой. Мы пили вино, танцевали, скорее даже больше танцевали, чем пили, и Жужа оказалась славной девушкой, и мы почувствовали друг к другу доверие, и это как-то без слов сблизило нас. Ласло, поначалу пытавшийся устроить всеобщую говорильню, где роль Цицерона, естественно, отводилась мне, поначалу расстроился, обнаружив, что мне куда интереснее болтать с Жужей, чем развлекать компанию байками о заграницах, но вскоре смирился. У него был покладистый характер. Мы уходили из ресторана последними, и Миша, и без того почти не отрывавшийся от нашего стола на протяжении вечера, сыграл на прощание своих коронных тоскливо прекрасных "Журавлей", улетавших в неведомые края "в день осенний"... - Теперь ко мне, - с пьяной требовательностью заявил Ласло, когда мы оказались на пустынной улице. - Поздно, Ласло, - сказала Жужа и незаметно прижалась ко мне, и я почувствовал, как по телу пробежала искра, вспыхнувшая в сердце жарким пламенем. - Поздно, Ласло, как-нибудь в другой раз, - поддержал я девушку. Мне и впрямь не улыбалась перспектива продолжить бражничество, тем более что пить не любил и не находил в том удовольствия. Возможно, все же главным сдерживающим фактором был спорт - вещи несовместимые. - Опять в другой раз, - начал было Ласло, но Жужа решительно закрыла ему рот ладошкой и покачала пальцем перед глазами. - Ладно, ребята, бай-бай... Мы растворились с Жужей в ночи, и августовские звезды были нашими маяками, когда мы поднимались по старинной, вымощенной аккуратными булыжниками извилистой дороге, что вела на самую высокую точку города - на местное кладбище. Устроились на какой-то покосившейся скамеечке, и город рассыпался внизу огнями домов и улиц. Жужа прижалась ко мне, и я обнял податливое, волнующее тело, и от первого поцелуя закружилась голова, и мы, отстранившись, долго молчали, ошеломленные этим внезапно обрушившимся на нас чувством. Я не стал таиться и поведал ей все, что накипело, наболело на сердце. Не скрыл и своих отношений с женой, и, кажется, впервые вслух произнес приговор своей утраченной любви, и не пытался свалить вину на кого-то, потому что знал: прежде всего виноват сам, и никакие скидки на спорт да полную отрешенность от другой жизни не выдерживали критики. Жужа не согласилась с такой оценкой, а сказала просто, но слова ее достигли моего ума: "Нельзя с одинаковой страстью служить двум богам, кто-то должен быть вторым. А женщины не любят быть вторыми..." "Нельзя служить двум богам..." Эти слова втемяшились в голову и обернулись лакмусовой бумажкой, позволившей так просто, так однозначно определить состояние, в котором я пребывал на протяжении последних лет. Я истово старался служить моим "богам" - спорту, увы, в первую голову, и жене, и эта раздвоенность мешала быть самим собой и в спорте, и дома. Мешала понять, что ничего из этих усилий не получится, потому что уйти из спорта битым не мог, а значит, не мог помочь и чувству, что ускользало от нас, как вода сквозь пальцы... Эта ночь на кладбище, в глухой таинственной тишине и покое, что бывает лишь на погосте, где жизнь сохранилась бесплотной памятью, потом долго снилась мне, и я просыпался, и руки шарили в темноте, разыскивая Жужу... Мы попрощались у ее дома и условились провести вместе пару недель на Верховине. Давно мечтал об этом. Теперь же был уверен, что завтра буду свободен, потому что никто не станет держать меня в сборной... Что не говорите, а судьба есть! Ну, кто мог предположить - ни я, ни мой нынешний наставник и в дурном сне увидеть такого не ожидали! - что мы столкнемся нос к носу в пятом часу утра в гостиничном коридоре. Я на цыпочках пробирался к своему номеру, зажав в руке предусмотрительно унесенный с собой ключ, без помех поднявшись на третий этаж через черный ход со двора, когда прямо передо мной от резкого толчка распахнулась дверь и... Мы оба остолбенели. Тренер - в синих тренировочных брюках и в адидасовской синей майке, раскрасневшийся, крепко выпивший, с взъерошенными волосами и бутылкой недопитого коньяка в одной руке и с двумя колодами карт в другой - он был заядлый преферансист, это было всем известно в сборной, и я - в своем красном вызывающем пиджаке и тоже с не слишком благостным лицом. Он, моралист и жесткий "дисциплинщик", и член сборной команды, которому завтра, какое там - сегодня, выходить на старт... Ситуация! - Спокойной ночи, Владимир Федорович! - почти механически произнес я, обалдевший от встречи. - Спокойной но-чи, - медленно выдавил старший и громко икнул. Я понял, что отказаться от старта, как намеревался, не смогу, ибо это потянет за собой нить, что раскрутит весь клубок моих неудач и неповиновений наставлениям тренерского совета сборной, и тогда мне и впрямь не видать удачи, как бы ни бился, как бы ни старался на тренировках. Но угрызений совести, вот вам честное слово, не ощутил, и забрался в постель, и мгновенно уснул, едва голова коснулась подушки. Перед заплывом я хорошенько размялся, тренер "взял" два полтинника и остался доволен результатами. Он вел себя так, будто ничего не случилось и никаких тайн между нами не существовало. Единственное, что он сделал: отложил в сторону взятый было мегафон, и это стало признанием мира, наступившего в наших сложных и не всегда оправданных отношениях. Впрочем, в тот момент я думал о Жуже и рассматривал из воды трибуны, выискивая девушку, хотя доподлинно знал, что ее там быть никак не могло: Жужа собралась на день съездить во Львов, в институт, чтобы перенести практику на полмесяца вперед, а эти освободившиеся две недели провести со мной на Верховине... Я подмигнул Головченко, и это озадачило его - с чего это у Романько такое отличное настроение, с его-то секундами?.. И он не смог скрыть своей растерянности. Я же чувствовал себя легко, свободно и потому без задней мысли сказал довольно громко, так, что услышал и Харис: - Что, парни, поплаваем? У меня и в мыслях не было задать им трепку, просто нужно было как-то дать выход своему игривому настроению. Мне терять было нечего, я это знал, и вместо Рима я уеду на Верховину, и мы поселимся с Жужей в уютном домике на отшибе села, где живут бокараши, признающие только шампанское, и я буду говорить ей "О сэрет ми!" - единственные венгерские слова, известные мне. А они, кажись, восприняли меня всерьез. - Только не летите, парни! - попросил я, и Головченко чуть со стартовой тумбочки не свалился от неожиданности. Я плыл, как никогда не плавал, - вдохновенно и мощно работали мышцы и сердце, и усталость не приходила, а наоборот, хотелось плыть и плыть, и мягкая, ласкающая вода так и не стала вязкой, наждачно-жесткой на последних метрах дистанции. Право же, я за все эти две с лишним минуты, пока мы преодолевали двести метров дистанции, ни разу не обратил внимания на собственное положение на дорожке и на своих друзей-соперников - я плыл для себя, и этим было все сказано. И лишь финишировав, вдруг вспомнил, почему так хорошо мне было на заключительном "полтиннике", - никто не тревожил воду перед моим лицом! - Ну, знаете, Олег, так долго валять дурочку! - Надо мной склонился Владимир Федорович, и счастье просто-таки распирало его, и я испугался, как бы он не лопнул от самодовольства. И причиной тому был я, Олег Романько, финишировавший с новым рекордом Европы и с лучшим в мире в нынешнем сезоне результатом... Жужу я так больше не увидел: на следующий день улетел в Москву. Ни адреса, ни фамилии девушки я не знал. Все надеялся вернуться сюда, да спорт - о спорт! - внес, как всегда, свои коррективы в мои личные планы. Может, и впрямь иногда бывает полезно изменить самому себе?8
Виктор Добротвор победил в финальном поединке кубинца Гонзалеса, дважды отправив экс-чемпиона мира в нокдаун в первом же раунде. Не будь кубинец таким крепким орешком, лежать бы ему на ковре во втором, но спас гонг, а в третьем Добротвор повел себя по-рыцарски: сначала дал сопернику прийти в себя, не воспользовавшись очередным нокдауном, а завершил бой серией таких изумительных по красоте и неожиданности ударов, что, однако, были лишь обозначены как бы пунктирными линиями, не принеся Гонзалесу ни малейшего вреда. И зал просто-таки взорвался аплодисментами. А ведь здесь не любят бескровных поединков! - Какой мастер! - восхищенно воскликнул Савченко, вскочил с кресла и нервно заходил по моему не слишком-то просторному номеру. - И угораздило же парня! Такой бесславный конец такой блестящей спортивной карьере... - Ну что ты хоронишь Добротвора, - не согласился я, хотя и понимал, что причин для оптимизма нет. Реальных причин. Не станешь же оперировать эмоциями? - Не спешу. Вырвалось случайно, - пошел на попятную Павел Феодосьевич, и надежда - вдруг он знает что-то, что дает хоть какой-то шанс - наполнила сердце. Но Савченко тут же собственными руками, вернее, словами, похоронил ее. - Завтра вопрос уже будет обсуждаться на коллегии... - Постой, как же так - нужно разобраться... - Там разберутся... На том невеселый разговор и оборвался, и холодок разделил нас в этой тесной комнатушке над Зеркальным озером, начавшем покрываться действительно зеркальным, чистым и прозрачным льдом - ночью морозы поднялись до минус 20 по Цельсию. Савченко вскоре отправился к себе вечером выступала наша пара из Одессы, и он нервничал, как бы судьи не наломали дров. И это несмотря на то, что утренняя часть состязаний завершилась более чем успешно - в трех из четырех видов лидерство захватили советские фигуристы, и никто из арбитров не покусился на их высокие баллы. Больше того, трое американских судей регулярно выбрасывали самые высокие оценки. Не преподнесут ли сюрприз в финале, когда обнаружат, что их соотечественники не тянут на честную победу? Такое случалось не однажды. Чтобы попасть на вечернюю часть программы, я вышел из пансиона загодя, отказавшись от обеда в предвкушении сытного ужина (в 22:00 организаторы соревнований пригласили журналистов и руководителей делегаций на официальный прием). В номере мне делать было нечего, а томиться в четырех стенах - развлечение не из первоклассных, даже если у тебя есть цветной "Сони" с десятью, как минимум, телепрограммами. По дороге я завернул в фирменный магазин "К-2". Не терпелось пощупать, прицениться к новым лыжам да и к иному снаряжению - зима ведь на носу. Пройдет каких-нибудь два месяца, и я, верный многолетней привычке, отправлюсь в Славское, в неказистый, но уютный и приветливый домик о четырех колесах, непонятно каким образом вкатившийся на крутую гору и застрявший между двумя могучими смереками, слева от подъемника; по утрам негромким, просительным лаем меня будет будить хозяйский Шарик неугомонное, бело-черное длинношерстное создание на коротких, крепких ножках, безуспешно пытавшийся каждый раз вспрыгнуть в одно со мной кресло и укатить на самый верх Тростяна, где снег и ветер разбойно гуляют на просторе и весело лепят из бедных сосенок на макушке то одичавшего Дон-Кихота на Россинанте, то замок о трех башнях, а то просто укутают елку в белые наряды, и стоит она, красавица, до первых весенних оттепелей. В магазине - ни души, и два спортивного вида местных "ковбоя" откровенно скучали, стоя навытяжку за прилавком и уставившись онемевшими глазами в телевизор. Мое появление никак не сказалось на их положении, они лишь кивками голов отстраненно поприветствовали меня и углубились в телепередачу. Они мне не мешали сладостно - это состояние могут понять разве что горнолыжники! - щупать блестящие, разноцветные лыжи, собранные с лучших фабрик мира - от "Кнейсла", снова обретавшего утраченную было славу, до "Фишеров", "Россиньолей" и "К-2" - гордости американского спорта, утвержденной на Кубках мира братьями Марэ. Увы, и тут воспоминания омрачили мое восхищение, и Валерий Семененко незримо встал со мной рядом, и я словно услышал его голос: "Эх, забраться бы сейчас на Монблан, и рвануть вниз, и чтоб без единой остановки до самого низа!" Когда я резонно возражал, что до самого низа Монблана не докатишь даже в разгар альпийской зимы, потому что снег редко спускается в долину, он упрямо возражал: "Нет в тебе романтики! Горнолыжник - это птица, это нужно понимать, иначе нечего делать тебе на склоне!" Этот Монблан, где ни я, ни Валерка ни разу в своей жизни даже пешком не побывали, вечно ссорил нас, правда, ненадолго. Но нет уже Семененко, и его трагическая гибель на шоссе под Мюнхеном стала забываться, и живет он лишь в крошечном озорном мальчишке - Валерии Семененко-младшем. Я дал себе слово, что сделаю из него горнолыжника, но Таня, жена Валерия, категорически возражает. Я надеюсь на время и на рассудительность Татьяны и верю, что увижу Валерия-младшего среди участников Мемориала Семененко, ежегодно разыгрываемого в Карпатах. И черная горечь вползла в сердце, потому что припомнил я и Ефима Рубцова. Мои публикации той давней истории гибели Валерия Семененко были перепечатаны и в Штатах, и Рубцова основательно "попотрошили" местные репортеры, так что имя его надолго исчезло со страниц газет. Я вдруг вспомнил, что Ефим Рубцов тут неподалеку, в Нью-Йорке, и удивился, с чего это его не принесло сюда, в Лейк-Плэсид... Да, отличное оборудование, ничего не скажешь. А ботинки! На одной незаметной застежке, высокие, как сапоги, они держат ногу мягко, но мертво, сливаясь в одно целое с лыжей благодаря совершеннейшим "Тиролиям" - таким сложным и надежным, как написано в наставлении, креплением, что диву даешься, как они этого достигают, не вмонтировав в механизм крошечную ЭВМ. Взяв на память пачку красочных рекламных проспектов, чтоб было чем потешить обостренный интерес ко всему горнолыжному собратьев-фанатов, я удалился с видом человека, которому все это легкодоступно, да вот таскаться с грузом неохота. Два продавца, впрочем, не обратили на мое исчезновение из магазина ни малейшего внимания - они утонули в "телеке". Я подходил к Дворцу спорта, когда, обогнав меня, резко затормозил автомобиль с монреальскими номерами. Не успел я удивиться, как уже сидел в теплом, с ароматизированным воздухом салоне рядом... с Джоном Микитюком.9
Ефим Рубцов объявился в "Нью-Йорк пост". Газету привез Серж Казанкини, прилетевший на крошечном, раскрашенном под пчелу - в черные и золотисто-желтые полосы - пятиместном самолетике, одном из двух, принадлежавших бывшему автогонщику. Автомобильный ас содержал авиафирму с претенциозным названием "Соколы", летал сам, на сезон рождественских каникул", начиная с конца декабря, нанимал второго пилота, и их "пчелки" трудились до седьмого пота, перевозя горнолыжников и просто любителей тишины и покоя. Правда, иногда, как в предыдущие два дня, валил снег и в горах бушевала буря, и самолетики сиротливо мерзли на аэродроме, зябко кутая шасси в поземке. Сержу повезло: снегопад ненадолго утихомирился и позволил автогонщику слетать в Нью-Йорк и обратно. В гостиницу Серж, однако, добирался уже в метель, и такси вязло в снегу, и пассажиру доводилось вылазить из машины и толкать ее, и потому первое, что я услышал, едва мой француз ввалился в отель - заснеженный, раскрасневшийся, с седой головой, просто-таки облагороженной белыми снежинками, были слова: - Я чуть не утонул в снегу, так спешил к тебе, сир! - И добавил: - Мы с тобой не конкуренты, старина, но мне бы хотелось тоже поиметь кое-чего с барского стола! - Сначала нужно знать, что достанется мне, это во-первых. Если же ты действительно узнал нечто стоящее, я готов поблагодарить моего друга за работу, это во-вторых. - Нет, сколько знаю этих русских, или советских, или украинцев, - как вам удобно, сир, никогда не догадаешься наперед, что они скажут в следующее мгновение! Не потому ли с вами так трудно договариваться? - Отчего же? Если судить по тому, как быстро находим мы с тобой общий язык, это не так уж и трудно, - парировал я в тоне Казанкини, а сам подумал, что Серж наверняка обладает чем-то, что необходимо мне, и он гордится сделанным и жаждет похвалы. - Мне остается только подняться... и с вашего разрешения, - после многозначительной паузы продолжил Казанкини, - открыть дверцу холодильника, дабы убедиться, что оставленная бутылка "Учительского" все еще находится там. Я понял, что Серж действительно в превосходном состоянии духа, и его ничем не омраченное настроение резко ухудшило мое, ибо теперь я не сомневался, что все, рассказанное Сержем о Джоне Микитюке, подтверждается. Было от чего пойти голове кругом. Но Серж начал с неожиданной для меня новости. - А твой приятель объявился, - сказал он, доставая бутылку с виски и наливая себе две трети тяжелого, широкогорлого бокала. - Какой еще приятель? - Ефим Рубцов, собственной персоной. - Вот, держи. - Серж протянул мне вчерашний номер "Нью-Йорк пост". Заметка на первой полосе была обведена синим жирным фломастером и называлась: "Русский след "героина"? Чем занимаются "звезды" советского бокса в Канаде?" "Даже не приехав на Олимпийские игры в Лос-Анджелес летом нынешнего года, Советский Союз остается великой спортивной державой. Мне трудно сказать, чем бы закончилась грандиозная дуэль двух команд на Играх, но, без сомнения, и на этом сходятся специалисты по разным видам спорта, немало олимпийских медалей обрело бы других владельцев. Однако русские, как обычно, провозглашающие полную независимость спорта от политики, на деле же непременно во главу угла ставят именно политические вопросы. В Лос-Анджелесе им не понравились: наша Олимпийская деревня, наш ритуал открытия и закрытия Игр, наше расписание состязаний, наша свобода волеизъявления и права личности выбирать достойный образ жизни, даже наша кухня пришлась русским не по вкусу. Хочу обратить ваше внимание на крошечную деталь: все это не понравилось русским еще до того, как им была предоставлена возможность познакомиться со всем этим на месте. Поэтому они объявили организацию Игр неприемлемой для себя и оставили своих чемпионов и рекордсменов дома, а значит, без медалей. Америка ждала Владимира Сальникова и Юрия Седых, Сергея Бубку и Сергея Белоглазова, Виктора Добротвора и многих других, которых не раз приветствовала прежде на своих аренах. Но если раньше "капризы" Кремля, отказывавшегося от участия в состязаниях по политическим или нравственным мотивам, уже выработали у нас стойкий иммунитет, то теперь мы видим, что русские резко изменили свою тактику. Они посылают своих спортсменов даже на коммерческие соревнования, нимало не смущаясь тем обстоятельством, что там за победу устанавливаются крупные денежные призы. Правда, деньги эти, в отличие от западных победителей, попадают прямым назначением в государственную казну, что, наверное, помогает Советскому Союзу увеличивать закупки на Западе зерна и других пищевых продуктов. Вот и теперь мы с вами стали свидетелями удивительного по красоте и напряжению финального боя полутяжеловеса Виктора Добротвора с кубинцем Гонзалесом, бывшим чемпионом мира среди любителей, на коммерческих состязаниях на Кубок Федерации бокса. Однако главное в победе Виктора Добротвора, уже много лет являющегося одним из самых известных советских спортсменов, "звездой" первой величины, вовсе не его великолепное мастерство, а его просто-таки фантастическое самообладание. Он явился на ринг прямо... из зала судебного заседания в Монреале, где разбиралось его дело о попытке провоза крупной партии наркотиков в Канаду. Русские и наркотики? Да возможно ли такое? Возможно, и это зафиксировано в протоколе судебного заседания. Виктор Добротвор был приговорен к 500 канадских долларов штрафа за ввоз "в количествах, превышающих личную необходимость, наркотических лекарственных средств". Увы, канадские власти не довели дело до конца и не выявили того или тех, кому были предназначены тысячи ампул с наркотиками! Однако это прискорбное происшествие с русским чемпионом напрашивается на вопрос: а что делают русские в Америке - эти бесчисленные команды борцов, боксеров, легкоатлетов, фигуристов, что буквально ежегодно наводняют нашу страну? Только соревнуются? Нам остается лишь задать риторический вопрос, который после всего случившегося не покажется таким уж риторическим: не напали ли мы на русский след героина и гашиша, все еще в широких масштабах поступающего к нам в Штаты? Е.Р." - Премерзкая заметка, что ни слово - то ложь, но подтасовано ловко, обыватель не заметит, проглотит... - А в головке этого обывателя, и без того запуганного предстоящим нашествием русских танков, втемяшется мысль: так вот откуда наркотики! Серж покачал головой. - Ты уверен, что это работа Рубцова? - Могу даже назвать номер компьютерного счета отправленного Рубцову гонорара... - Не нужно. Я верю тебе, Серж. Нет, стервятники в этом мире не исчезают с восходом солнца, - сказал я скорее для себя, чем для Сержа, но Казанкини понял мои слова как сигнал к действию и полез в свою объемистую сумку из черной, изрядно потертой кожи. - Это цветики. У меня есть кое-что куда поинтереснее и труднее для разгадки. Во всяком случае мне без твоих комментариев не разобраться. Ты же не станешь таить от меня ничего, что узнаешь? - снова с опаской спросил Серж. Я невольно усмехнулся: Серж оставался репортером - даже в такой ситуации он не забывал о своих профессиональных интересах. - Обещаю. - Не думай, мне не сразу удалось заняться твоим делом, - начал Серж издалека. - Париж просто с ума сошел из-за этой бронзовой дамы, подаренной нами Америке. Ну, ты слышал, что статую Свободы при входе в Нью-Йоркскую гавань реставрируют и многие ее части будут заменены. Американцы до чертиков обожают сувениры с разных там исторических объектов, и потому вокруг нескольких десятков тонн металлолома развернулось настоящее сражение. Кто будет ими владеть, то есть, кто будет продавать и наживаться? В Париже какому-то болвану из МИД пришла в голову сумасшедшая мысль: подарок подарком, но распродавать будем вместе. О ля-ля! Чтоб больше не отвлекаться, скажу, что твой друг не терял времени даром. Мне посчастливилось откопать кое-какие документики в их архивах, теперь дело значительно осложнится, и никто не возьмется ответить сейчас, кто же будет торговать жалкими останками бронзовой дамы... Серж сделал передышку для двух жадных глотков виски. Но вот свободное время я уделил тебе и только тебе! - выпалил он с явной гордостью. - Встречался с людьми, умеющими держать язык за зубами, но готовыми помочь, не бесплатно, понятное дело, тому, кому доверяют. Нет, нет, это мои заботы, потому что, добывая информацию для тебя, я не упустил случая расширить и углубить собственные познания о мафии... - Ты так долго ходишь вокруг да около, Серж... Не набиваешь ли ты цену своим разысканиям? - я подколол Сержа, мне не терпелось узнать, что привез Казанкини, и сравнить с тем, что поведал мне Джон Микитюк, когда мы сидели в его автомобиле в конце Мейн-стрит, у поворота и Зеркальному озеру два дня тому. Естественно, что по той же причине я не торопился рассказывать об этом французу. - О ля-ля, легче удивить рок-музыкой глухого, чем тебя! - Серж не скрывал огорчения от того, что его "психологическая подготовка" не дала ожидаемых результатов. - Итак, парень по имени Джон Микитюк, 25 лет, лидер в своей весовой категории в ВФБ. Один из претендентов на звание абсолютного чемпиона - его начнут разыгрывать весной будущего года среди профессионалов всех трех официальных боксерских организаций. Покровители наследники Гамбино, давно прикарманившие бокс. "Семья", как ты догадываешься, не ограничивает свою деятельность спортом, но ведет серьезные дела и в порнобизнесе, проституции, гостиничном хозяйстве, игральных автоматах и - в наркотиках. Последнее, как мне видится, по доходам находится на первом месте. - Какое это имеет отношение к делу Добротвора? - Французы говорят: первый хлеб в печи - подгоревший. Не спеши! Так вот. Некоторое время назад на "семью" вышли агенты УБН - управления по борьбе с наркотиками, и запахло паленым. Были добыты неопровержимые доказательства ввоза этого товара из "золотого треугольника". Главарям "семьи" грозились отвалить пожизненное заключение. И вдруг - впрочем, в Америке, подобным никого не удивишь - они не только оказались на свободе, но с них вообще было снято обвинение. Казалось, все шито-крыто. Да встревожились другие "семьи", ибо они вполне резонно заподозрили сговор с властями в обмен на свободу. Возник вопрос: за чей счет "семья" Гамбино вышла сухой из воды? Служба дознания, должен тебя заверить, поставлена у них не хуже, чем в ФБР. Было доподлинно установлено, что "семья" Гамбино согласилась произвести, как бы это точнее сказать, переориентацию путей доставки товара. В дело замешано ЦРУ; как я понял, мафиози вступили в сложную игру, цели и конечный результат которой не знает никто. Как я ни бился, ответа на свой вопрос не получил. Мне по-дружески посоветовали держать язык за зубами и поскорее позабыть о том, что удалось раскопать... - Или я болван, или ты говоришь невнятно, но до сих пор не понимаю, какое это имеет отношение к спорту, к Виктору Добротвору в частности? - О боже! - Серж закатил глаза к небу и молитвенно сложил короткие ручки на животе, всем своим видом выказывая монашескую покорность и долготерпение. - Нет, более нетерпеливых людей, чем русские, мне встречать не приходилось. Ты можешь наконец дать Сержу рассказать все по порядку, без спешки! - вскричал Казанкини, враз утратив свою "святость". - Ну-ну, Серж, - примирительно сказал я. - Прости. Я весь обратился в слух... - Ни за что ручаться не берусь, но у меня складывается впечатление, что затевается какая-то сложная многоходовая провокация против вашей страны, - выпалил Серж Казанкини и сам испугался собственных слов непритворно, пытливо и с беспокойством во взгляде окинул комнату, точно опасаясь увидеть подслушивающую аппаратуру. - Полноте, мистер Казанкини, вам повсюду чудятся враги, - с укоризной произнес я, но сказал это скорее чтобы успокоить Сержа. Я уже кое-что познал в Америке и не дал бы голову на отсечение, что наш разговор не прослушивается. - Если б только чудились, - тяжело вздохнул Серж. - Досье на мафию и наркотики, которое я сделал для тебя, - это копии с некоторых моих документов, кое-что подбросили... за определенную мзду, естественно, парни из УБН, неплохое подтверждение правомерности моих опасений, - сказал Казанкини и вытащил из черной сумки небольшую тонкую пластмассовую папочку с несколькими листками бумаги. - Вот, бери... Там, кстати, и ксерокопия счета за статью Рубцова, и две банковских квитанции на получение денег от некого Робинсона Джоном Микитюком... Деньги от Робинсона - это от мафии. Теперь твоя очередь просветить меня... - С просвещением пока не очень, - не моргнув глазом, соврал я, потому что многое из принесенного Сержем входило в противоречие с тем, что выложил мне лично Микитюк. Хотя Казанкини и подтвердил то, в чем без обиняков признался сам Джон... - Вас скорее всего удивит мое появление в Лейк-Плэсиде. Хорошо, если только удивит, - глядя мне прямо в глаза, сказал Джон Микитюк, когда я очутился на сидении рядом с ним. На этом вступительная речь закончилась, Джон включил передачу, и приземистый, точно распластанный над землей спортивный "Форд-фиеста" рванул с места в карьер. Хорошо еще, что Мейн-стрит была пустынна. Когда мы свернули к Зеркальному озеру, Джон мягко притормозил, осторожно скатился с наезженной дороги на снежную целину и, проехав десяток-другой метров, затормозил. Джон выключил мотор, и сразу стало тихо, как в склепе. - Не скрою, - сказал я, продолжая прерванный разговор. Действительно ваше поведение несколько настораживает. Но откровенность за откровенность: я доверяю вам и потому сижу рядом, хотя по логике вещей нам следовало бы встречаться где-нибудь в людном месте. - Боитесь? - Нет, просто не люблю ситуаций, когда не могу со стопроцентной гарантией полагаться лишь на себя. Одна из таких ситуаций - нынешняя. Но пусть эта тема больше не беспокоит нас, я здесь и слушаю вас, Джон. Ведь не для того, чтобы обменяться подобными любезностями, вы неслись из Нью-Йорка сюда, не правда ли? - По такому бездорожью я даже на свидание к любимой девушке не поехал бы - сплошные заносы. Если уж эти мастодонты "грейхаунды" буксуют в снегу... Мне крайне нужно было повидать вас. Время поджимает. - Что случилось, Джон? Вернее, что изменилось с той поры, как мы встречались в Монреале? Виктор Добротвор, как мне известно, выиграл Кубок и уже улетел домой... - Я не дурак, мистер Романько, и прекрасно осознаю, что для Виктора Добротвора на этом монреальская история не закончится. Она кого угодно могла уничтожить здесь, на Западе, а уж у вас... - Что вы знаете о наших порядках, Джон? - не слишком любезно бросил я. - Если Добротвор виновен, он понесет наказание... - Люди нередко совершают странные вещи по странным причинам. Порой не мешает все же понять, что ими двигало. - Именно желание понять и привело меня к вам в автомобиль, Джон. А вот что движет вами, признаюсь, не совсем понятно. - Я и сам порой не отдаю себе отчет, что толкает меня докапываться до истины... Впрочем, побудительные мотивы не столь уж сложны или оригинальны. - А именно? - Когда я был любителем, мне довелось, рассказывал уже вам, встречаться с Добротвором. Достаточно ли будет сказать, чтобы вы поверили в это, что движущей силой моего влечения к Виктору была его полная противоположность мне? Во всем. Я волк-одиночка и должен пробиваться в жизни сам, никто не придет на помощь. Виктора тоже слабаком не назовешь, но он - широкая, открытая душа. Я спрашивал себя тогда: кинулся бы я на помощь Виктору, зная, что от этого зависит моя дальнейшая жизнь, и отвечал: нет! А Добротвор кинулся бы не раздумывая! Я готов за деньги биться с самим дьяволом, потому что деньги обеспечивают мне свободу, нет, точнее - определенную независимость в обществе. Для Виктора деньги - лишь необходимый компонент жизни, не более, он перестал бы себя уважать, если б относился к деньгам так, как я. Поначалу я счел его эдаким простофилей, неучем, ибо что значит в нашем мире человек, если он не придерживается этих главнейших правил так, как я? - Наш мир несколько отличен от вашего, согласен... - Не нужно, мистер Романько, идеализм превращать в жизненное убеждение. Можно жестоко ошибиться. Я ведь встречался не с одним Добротвором, были у меня и другие знакомства с вашими. И, поверьте, не все они разделяют взгляды Виктора. Думаете, я не привозил вашим боксерам - по их просьбе, и деньги мне за это платили - новейшие допинги, которыми пользуются у нас профессионалы? Поэтому Виктор Добротвор поначалу не пришелся мне по душе... Джон Микитюк замолчал, а я поймал себя на том, что при всей кажущейся ординарности подобных "открытий" они заинтересовывали меня все сильнее и сильнее. Я чувствовал, что Джон Микитюк еще не выложил главного. Но даже без этого он укреплял мое убеждение, что Виктор Добротвор в силу каких-то странных, а возможно, и трагических обстоятельств совершил необдуманный поступок, что черным пятном лег на его репутацию. Но что, что могло толкнуть его на это? - Не стану больше распинаться в своей любви к Виктору, - Джон произнес эти слова решительно, пожалуй, даже с самоосуждением. - Перейду к делу. Я так и не разыскал того парня, кому была предназначена посылка. Он мог бы много прояснить. Тем не менее удалось выяснить, кто стоял за ним. Вы ведь понимаете, он действовал не по собственной инициативе. Ему заплатили, и заплатили неплохо. Он делал свой бизнес, и в той среде, где мы вращаемся, этим никого не удивишь. - Но у меня есть большое сомнение на счет того, что арест в аэропорту был случайным. Виктора ждали. ЖДАЛИ! - Вы правы, Олег. - Микитюк впервые в этот вечер назвал меня по имени. - Его ждали и таможенники, и телевидение, и пресса. С той самой минуты, когда в местной федерации бокса получили подтверждение, что он прилетает в Канаду... - Выходит, тот парень сообщил об опасной контрабанде? Но зачем? Ведь если, как вы говорили, у него действительно больная мать, нуждавшаяся в лекарствах, это абсурд? Ничего не понимаю, полное отсутствие логики. - Когда затевается грязная история, никогда не ищите в ней логики. Тут руководствуются или наживой, или местью. - За что было мстить Добротвору? - Добротвор... Впрочем, я не могу пока поручиться, что достал достоверные доказательства далеко идущих целей организаторов этой акции. Что же касается информации, полученной заранее средствами массовой информации и предопределившей события в аэропорту "Мирабель", то ее сообщил я... Я ожидал чего угодно, но такого! Прав был Серж Казанкини, советовавший мне держаться подальше от Джона Микитюка! - Но вам-то зачем это нужно, вы ведь почти убедили меня, что были другом Виктора? - Именно поэтому. Я и теперь не изменил своего отношения к Виктору. - Ничего себе друг! - с омерзением воскликнул я и взялся за ручку дверцы. - Если б я не подстроил эту бутафорию на таможне, Виктор сейчас уже находился бы в монреальской тюрьме! И срок ему был бы определен не менее чем в восемь лет. Теперь вы понимаете, почему я _т_а_к_ поступил? - заорал Джон. - Ни черта не понимаю, - признался я, действительно потеряв логическую нить. - Наверное, и для вас не секрет, что мафия обычно опекает боксеров-профессионалов, - уже взяв себя в руки, спокойно, даже, пожалуй, равнодушно продолжал Джонсон. - Опекает и меня, хотя я еще ни разу не лег в бою, как нередко делают мои коллеги, когда того требуют денежные интересы сидящих за рингом. Это зависит от ставок на того или иного боксера. Но вокруг меня уже тоже ходят, опутывают невидимой паучьей сетью... Пока они благожелательны и покладисты, ведь я - новичок среди профессионалов, за мной нет громких побед, а значит, мне дают показать себя, зарекомендовать с наилучшей стороны. У публики не должно быть ни малейших сомнений, что я дерусь честно. Но наступит момент, когда они потребуют оплаты за свое"доброжелательство". Естественно, вольно или невольно, но я становлюсь своим человеком в их среде. Они уже не таятся при мне, нередко, особенно когда напиваются, хвастают своими делами, а еще больше - отхваченным кушем. Вот так однажды я и прослышал, что готовится какая-то провокация с русским, тоже боксером. О чем шла речь, мой собеседник не знал... Я сидел не шевелясь, внимая каждому слову Микитюка, потому что чувствовал, что нахожусь у истоков страшной тайны, приведшей к суду над человеком, искренне любимым и уважаемым мной. - Я бы пропустил эти сказанные вскользь слова, если б речь не шла о русском. Ведь я славянин, хоть и родился в Канаде и не знаю родного языка. Почему-то, вот вам крест, сразу подумал о Викторе, хотя тогда даже не предполагал, что он собирается в Канаду на турнир... - Когда вы впервые услышали об этом? - В начале осени прошлого года... Вскоре после того, как мой исчезнувший приятель возвратился из Москвы с Кубка дружбы. - Вы его об этом не спросили? - Что я мог спросить, когда даже не догадывался, что именно ему отводилась роль подсадной утки? Но стал осторожно интересоваться этим делом, хотя толком не понимал, на кой мафии лезть в какие-то политические авантюры. - Это не новость. Мафия тесно связана с политикой в США, да и не только там... - Я был далек от всего этого, а от политики вообще шарахался, как черт от ладана. На кой она мне? В президенты не мечу, в сенаторы или депутаты - тоже. Спорт был и остается моей политикой, моей державой, моим парламентом и богом! - Тем не менее вы, Джон, не пропустили мимо ушей новость... - Что б там не говорили, но, повторяю, меня как озарило: да ведь это о Викторе, ни о ком другом! И... испугался. Испугался, зная, на что способны мои "опекуны". Честно говоря, даже сказать не могу, как удалось выяснить, что Виктор будет использован как контейнер для перевозки наркотиков. Мафия нередко прибегает к подобным штучкам, вручая свой товар ничего не подозревающим людям, и те проносят его мимо таможни, глазом не моргнув. Это был важнейший факт, за ним последовали другие... Тот, первый, проболтавшийся мне, однажды явился ко мне на тренировку, отозвал в перерыве в сторонку и пригрозил крупными неприятностями, если не забуду сказанное им. Я поклялся здоровьем своей матери. К тому времени у меня уже появились и другие источники информации... - Вы ведь серьезно рисковали, Джон. - Рисковал? Я и сейчас рискую, выкладывая все это вам, мистер Романько, ибо не уверен, не используете ли вы мою откровенность против меня же. - Если так, разговор нужно прекратить! - Я верю, что вы честный человек, но ведь чисто профессиональный интерес журналиста может оказаться решающим! - Я, Джон, журналист, но не стервятник... - Извините. Это я так, ненароком вырвалось. Да и поздно теперь отступать. Я докопаюсь до истоков этой истории, чего бы это мне не стоило. Просто когда-то человек должен вспомнить, что есть кое-что поважнее в этом мире, чем выгода, чем собственная шкура. Не удивляйтесь, но именно Виктор Добротвор, не сказав на суде ни слова о том парне, которому была предназначена передача, и переполнил чашу. Любой другой на его месте спасал бы себя любыми способами, а не думал, не навредит ли его информация... - Вот как бывает: тот, кто затеял заваруху, остался чистеньким только потому, что чувство порядочности у Виктора оказалось выше... - Не согласен с вами, мистер Романько, ибо не ведаю, чем руководствовался тот боксер и не был ли он жертвой страха... Ну, ладно, это еще мы выясним... Словом, операцию продумали тщательно, хранилась она в глубочайшей - даже для мафии - тайне, и это навело меня на мысль, что мафия - не конечная станция. Кто-то стоял, вернее, стоит за ней. Тут моей фантазии пришел конец, дальше даже мне влазить не хотелось, и я ограничился... телефонным звонком, анонимным, естественно, в редакцию теленовостей и в службу по борьбе с наркотиками. Я никак не мог предупредить Виктора об опасности, и это был мой единственный, далеко не лучший способ помочь Добротвору. Но если б его взяли при передаче лекарств... я бы ему не позавидовал. - Спасибо вам, Джон, за искренность. И простите за недоверие. Вы должны понять мои чувства - Виктор близкий мне человек, чтоб я мог позволить себе легко согласиться с тем, что случилось. Правда, радостного мало и в том, что вы рассказали, но лучше горькая правда... - Я не закончил свои розыски, мистер Романько. Я должен узнать, зачем и кому это было нужно. Появится же наконец Тэд, черт побери! Если... если он еще жив... Да, да, его зовут Тэд, Тэд Макинрой, вы по имени и по тому, что я вам рассказал, легко вычислите его. Да и не боюсь я больше за ваше умение держать язык за зубами. Вы никогда не причините зла человеку даже во имя самых престижных своих целей. - Да, Джон, вы ставите меня в сложное положение. Я - журналист, и мой долг рассказывать людям важное, что может помочь им. Есть только единственное оправдание моему молчанию: история Виктора Добротвора не закрыта. - Если узнаю что-нибудь новое, я сообщу вам, мистер Романько. Вот только как? - Позвоните по телефону, оставленному вам при первой встрече. Спросите Анатолия Власенко, договоритесь о встрече. Ему можно рассказывать, как мне, не таясь. - Но, я надеюсь, пока он не в курсе наших дел? - Голос Джона Микитюка чуть заметно дрогнул. - Нет. Я лишь на обратном пути сообщу ему, что вы можете позвонить и передать мне письмо. Да, пожалуй, лучше будет, если вы напишете, а Власенко перешлет послание по дипломатическим каналам мне. Так будет проще, это мой давний друг, и он не станет расспрашивать ни о чем... Я подумал, что Анатолий, конечно же, будет знать обо всем, больше того, попрошу его следить за развитием кое-каких событий, на возможность которых только что натолкнул меня, сам того не подозревая, Джон. И помощь Власенко будет мне крайне необходима. Мы попрощались, и я сказал Джону, чтоб он не подвозил меня к Ледовому дворцу - до начала состязаний оставалось достаточно времени, чтобы дойти пешком. Он согласился, и мы молча пожали друг другу руки. - Спасибо, Серж, ты внес... много неясностей в это дело, - бодро сказал я. - Однако и информации для размышления прибавил достаточно, поспешил успокоить Сержа, готового уже надуться от обиды. - Обещаю тебе, что обязательно посвящу в тайны этого дела, как только... как только буду в состоянии связать воедино множество отдельных нитей. И за Рубцова спасибо, его появление на горизонте - лишнее доказательство, что затевается какая-то очередная подлость. - Ты это искренне или чтоб меня успокоить? А то старый дурак старался-старался, а на поверку - шиш с маслом! - Ты недооцениваешь сделанного, Серж. И можешь обидеть меня своим недоверием. Ты действительно копнул глубоко! Только знаешь что, не лезь в этот омут без нужды - тебе осталось работать в Штатах, как ты говорил, три месяца, так стоит ли нарываться на неприятности? - Спасибо, друг, - с чувством воскликнул Серж Казанкини и взялся за "Учительское виски", так любимое президентом этой страны. Когда Казанкини распрощался, я с нетерпением раскрыл папку, оставленную французом. Вот что там было... НАРКОТИКИ (Досье Сержа Казанкини) Торговля наркотиками существовала еще в Древнем Риме. Но настоящий размах эта преступная деятельность приобрела теперь. Наиболее известные виды наркотиков - кокаин (еще - под названиями "снежок", "мечта", "девушка", "рай" и т.д.), марихуана, гашиш, анаша, героин. Кокаин получают из листьев коки - кокаинового куста, распространенного в Латинской Америке. Марихуана (известна под именем "Джейн", "золото Акапулько", "травка", "Дж"), гашиш, анаша - производные индийской конопли каннабиса, произрастающего в основном в районах Центральной Азии. Наиболее опасным наркотиком является героин. Его добывают из морфина. В среде наркоманов героин известен под различными названиями "мальчик", "коричневый", "китайский красный", "белая леди", "лошадь". Чистый доход от продажи героина достигает 10 тыс. проц. На черном рынке Нью-Йорка, например, один килограмм героина сбывается за 300.000 долларов. В США около 30 млн. человек потребляют наркотики. Ежегодно в стране расходуется до 500 долларов на душу населения на приобретение героина, кокаина и марихуаны. За последние 3 года в США от злоупотребления наркотиками погибло 7 тыс. молодых людей. К наркотикам пристрастились 2,5 млн. канадцев, или 10 проц. населения страны. В основном это подростки и молодежь в возрасте от 12 до 25 лет. 1 миллион западногерманских подростков в возрасте от 11 до 15 лет регулярно потребляют героин или кокаин. За последние два года в ФРГ от наркотиков умерло 1240 человек. В годы грязной войны США во Вьетнаме 80 проц. мирового производства опиума приходилось на "золотой треугольник". Так условно назывался труднодоступный горный район на границе Лаоса, Таиланда и Бирмы. Имеются достоверные свидетельства того, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было замешано в контрабанде наркотиков, для перевозки подпольных грузов использовались самолеты ЦРУ. Для шпионского ведомства США этот бизнес был источником получения дополнительных средств на проведение подрывных акций против ДРВ. Двести тонн опиума в год из Лаоса, четыреста - из Бирмы и пятьдесят - из Таиланда давали деньги, которыми ЦРУ оплачивало свои операции. После поражения США во Вьетнаме ЦРУ вынуждено было свернуть там свою преступную деятельность. Однако несколько лет спустя вновь появились сообщения о его участии в бизнесе. На этот раз на Среднем Востоке, куда после разгрома контрабандистов в "золотом треугольнике" переместился центр подпольного производства опиума. В этом районе, расположенном вблизи стыка границ Афганистана, Ирана и Пакистана, ныне производится наркотиков в 10-15 раз больше, чем некогда в "золотом треугольнике". Свой опыт, приобретенный в Индокитае, "джентльмены из Ленгли" используют сейчас для раздувания необъявленной войны против ДРА. По свидетельству датского публициста Хенрика Крюгера, "ЦРУ использует контрабандную торговлю наркотиками в своих стратегических целях". Он рассказал, что созданная в 1979 г. сеть нелегальных лабораторий по переработке опиума в Северо-Западном Пакистане служит для финансирования афганских контрреволюционеров. Роль посредника между ЦРУ и поставщиками наркотиков играет крайне правая организация - некая "Всемирная антикоммунистическая лига". Она контролирует деятельность торговцев наркотиками в Соединенных Штатах. Купленное на средства от контрабанды наркотиков оружие направляется душманам. Х.Крюгер утверждает, что львиная часть доходов от торговли наркотическими средствами поступает на секретные счета ЦРУ. Судя по всему, сумма немалая, если учесть, что годовой оборот торговли наркотиками в мире превышает 110 млрд. долларов. Спекулируя на обеспокоенности общественности ростом наркомании и пытаясь использовать эту тревогу в своих политических целях, правящие круги США обвиняют в этом... Болгарию и Никарагуа, Кубу и Мексику. Вашингтон утверждает, что эти страны якобы "поощряют международных контрабандистов", наводнивших США различными наркотиками. Дело доходит до того, что арестованных контрабандистов отпускают на свободу, если они по подсказке американских спецслужб лжесвидетельствуют о "причастности" коммунистов к преступному бизнесу на наркотиках. "Нищий сообщает: в Майями, в "Розовом доме", днями были оглашены подробности возможного сотрудничества между "семьей" Гамбринуса и вашей службой. Условия, на которых "семья" намерена вступить в дело и передать свои связи в профессиональном спорте, следующие: реабилитация или освобождение под залог владельца шхуны, возвращение - в любой форме, вплоть до организации похищения арестованного груза. (Речь идет о поимке в водах Флориды колумбийской яхты "Эль сол", выслеженной и захваченной агентами УБН - Управления по борьбе с наркотиками. Здесь и дальше в скобках комментирует или поясняет С.Казанкини, который по понятным причинам своего имени на страницах досье не оставил. - О.Р.). Попытки вашей службы снизить потолок требований ссылками на то, что подобная акция трудноосуществима - особо в ее последней части, когда документы и протоколы ареста уже поступили специальному следователю ФБР, - успеха не имели. Переговоры прерваны. Мое мнение: всякая затяжка лишь затрудняет нашу акцию, если не делает ее вообще неразрешимой; следует всерьез отнестись к требованию "семьи". Агент N_52". "52-му (радиоперехват). Сообщите Нищему, что его предложения изучаются. Нужна информация о ближайшем грузе с юга". "Нищий сообщает: семья сделала шаг навстречу нашему предложению: по своим каналам они выводят следователя из игры. Выполнение обоих пунктов условия обязательно! Агент N_52". "Совершенно секретно. Только для руководства (ЦРУ). Операция "Пять колец" сдвинулась с мертвой точки. "Семья" получила требуемое. При реализации плана был ранен и умер в военном госпитале сержант полиции. В виде компенсации взяли с поличным Сэма Кастро, второе лицо после старшего Гамбринуса в "семье". Получили предложение на обмен: мы им Сэма Кастро, они нам - боксера из НБЛ (Национальной боксерской лиги), связанного с "семьей". Он будет не только связником, но и главным действующим лицом в предстоящей операции. Служба получила задание собрать необходимую информацию о предложенной кандидатуре. 11/716 шифр "Альфа". Оператор 24х". "Совершенно секретно. Только для руководства (ЦРУ). Меморандум группы "Пять колец". Отсутствие спортсменов СССР и целого ряда социалистических стран на Играх в Лос-Анджелесе создали, как мы видим, уникальную обстановку реальные возможности спортсменов свободного мира, и прежде всего США, приобрели важный политический фактор, который, безусловно, будет иметь немаловажное значение на предстоящих выборах (президентских); мы уверены в положительном эффекте. Опыт Лос-Анджелеса, а именно так следует рассматривать наши действия, предпринятые для недопущения, в первую очередь, команды СССР на Игры, говорит, что подобная тактика в недалеком будущем способна кардинально изменить внутреннее содержание Олимпийских игр, превратив их из демонстрации успехов социалистических стран в надежный фактор пропаганды достижений свободного мира. Для этого следует: а) создать такую обстановку вокруг Сеула, которая заставила бы СССР вновь отказаться от участия в Играх; для этого следует опереться на верные нам силы в правящей партии и в органах государственной безопасности; следует также задействовать резидентов, ибо операция носит индекс "ехtга"; б) активизировать "Фонд-ПС" (специальный фонд, созданный ЦРУ с помощью разного рода официальных и неофициальных спонсоров любительского спорта и предназначенный для подкупа спортсменов-любителей, - чеки на предъявителя, ценные бумаги, дорогостоящие подарки и т.п. Фонд создан ЦРУ за год до Игр в Лос-Анджелесе); в) начать операции по дискредитации спортсменов СССР и социалистических стран, в первую очередь, "звезд"; г) средства, вырученные от частичной продажи арестованных наркотиков, включить в "Фонд-ПС"; д) утвердить руководящее звено операции "Пять колец", учитывая интересы "семьи" (в состав "руководства" входит и Сэм Кастро). Вашингтон, 54/876 шифр "Бета". Оператор 17с". Выдержки из моей беседы с К. Я знаю его со времени моих скитаний по авгиевым конюшням мафии. За достоверность - ручаюсь. "...Это было не первое предложение. Они давно подталкивали нас объединиться для одного "важного" - в политическом отношении - дела. Мы не слишком-то доверяли им, хотя наши люди из их компании подтверждали серьезность намерений. Но, знаете, мышь никогда не станет доверять кошке, как бы та не клялась в полной лояльности. Вот и мы так. Но они ведь не профаны и понимали, что нас сдерживает. Суть свою они, ясное дело, изменить не могли, а вот прихватить нас - это в их силах. Когда один за другим были захвачены три транспорта с юга, "семья" оказалась на грани краха - мы вложили в операцию но доставке марихуаны и героина практически весь наличный капитал. Когда же УБН захватило груз на 170 миллионов долларов - это было последнее, что мы имели, - пришлось соглашаться на их условия. Вы скажете, какое нам дело до "красных"? Самое прямое. Спорт - необозримый рынок для нашей "травки", "лэди", "золота Акапулько" и т.д. Если удастся потеснить "красных" с самых крупных международных состязаний, считай, постоянный доход нам обеспечен... ...Нет, кое-что мы делали для них (ЦРУ) еще раньше - кое-кого из своих передали с полной гарантией... Уже сделано много, но теперь, кажись, они (ЦРУ) решили снизойти к "семье" и взять ее в долю. А что, наш опыт не пригодится?.."10
Приспело время расставаться с Лейк-Плэсидом. Уже было договорено, что в Монреаль отправлюсь в автобусе с командой, место в гостинице на Универсиаду - я жил неподалеку во время Игр 1976 года и отлично знал те места на Холме - было забронировано заранее. На всякий случай перезвонил Анатолию Власенко, и он заверил меня, что останется в Монреале по меньшей мере до встречи со мной, ради чего отложит поездку в Оттаву. Джон Микитюк не подавал признаков жизни, что, если честно, почему-то успокаивающе подействовало на меня. Я уже знал номер рейса на Москву и потому с чистой совестью сообщил Наташке (через редакционную стенографистку) день и время моего появления в Киеве. В свою очередь Зинаида Михайловна - сколько с ней переговорено за эти годы по телефону: она принимала мои репортажи из Токио и Стокгольма, Рима и Мехико-сити, из Сеула и Парижа, да разве перечислишь! - пожаловалась, что печатают меня в урезанном виде, так как газета почти сплошь забита официозом - речи, приемы, обязательства, словом, обычная газетная "погода". И я пожалел, что нет уже в том знакомом до мельчайших деталей угловом кабинете с видом на типографию Ефима Антоновича, редактора от бога, как говорится, - уж он-то не дал бы сократить ни строки. "Наш человек за границей. Это - престиж и авторитет газеты. Официальную хронику читатель найдет в других газетах, а вот репортаж с чемпионата мира или Олимпийских игр - только у нас. Вот и будет он охотиться за нашей газетой, а разве это не высший критерий для издания!" - охлаждал он горячие головы, когда на планерках разворачивалась жаркая баталия за место на полосе. Те времена канули в прошлое, теперь мы - как все... Впрочем, дело газетчика не сетовать на трудности, а искать и давать материалы, способные привлечь читателя. В пресс-центре скучали девушки-телетайпистки, а смазливенькая брюнетка с длинной сигаретой в руке (она выполняла роль личного секретаря шефа прессы, как именовали высокого, неразговорчивого и всегда страшно занятого человека в потертых вельветовых джинсах и рубашке без галстука, почему-то всякий раз непроизвольно вздрагивавшего, когда к нему обращался я, единственный советский журналист, присутствовавший на состязаниях) не преминула кокетливо улыбнуться и задать традиционный вопрос: - Мистер Романько, надеюсь, у вас нет трудностей? - Очень признателен вам, Брет, все о'кей. Тем более, судя по высказываниям местной прессы, сегодня наконец-то победят американцы. - А как думаете вы? - Она проявила неподдельный интерес. Думаю... - начал было я, но осекся, поймав себя на вдруг открывшейся истине. Брет и остальные, дотоле лениво переговаривавшиеся или листавшие журналы и газеты, как по команде, замерли и обернулись и мою сторону; и я понял, что интерес местной публики ко мне далеко не соответствует внешним проявлениям. Как можно громче закончил фразу: - Да, Брет, я с вами полностью согласен - Дженни вполне заслужила эту награду, славная девчушка, и будущее у нее блистательно. На лисьем личике Брет и физиономиях других сотрудников пресс-центра, даже на каменной физиономии шефа так явственно проявилась искренняя радость, что я запоздало пожалел, что держался слишком сухо и необщительно с ними, ведь в принципе они не такие уж плохие люди, и их скованность по отношению к нам, советским, идет не от души, а навеяна прессой, телевизионными комментаторами да фильмами типа "Рокки". - Я надеюсь, Брет, что за столь приятную новость мне положен кофе, не так ли? - О мистер Романько! - Я услышал голос шефа - он был скрипучий, как у несмазанных ворот. - Ежели ваш прогноз подтвердится, я приглашаю вас на рюмочку коньяка, идет? - Тогда пойду поболею за вашу Дженни! Я мог бы уже немедленно потребовать от шефа выполнения обещанного, потому что еще утром Павел Феодосьевич - он выглядел раскованно-добродушным, уверенным, выполнившим трудную, но нужную работу человеком, теперь позволившим себе расслабиться и оглядеться по сторонам, - сказал мне без обиняков: - Мы взяли три золотые медали. В одиночном катании судьи отдадут победу американке, это как пить дать. Она-то и не намного слабее нашей Катюши, но, если объективно, Дженни должна была бы проиграть. Но мы не станем жадничать. Ярко светили софиты. Трибуны были забиты битком, яблоку негде упасть. Куртки, меховые манто соседствовали с хлопчатобумажными майками с огромными портретами Дженни (до чего оборотисты местные производители ширпотреба!); тут и там сновали разносчики кока-колы, горячего какао, жевательной резинки и кукурузных хлопьев; гремела музыка, зрители жадно рассматривали, разглядывали, приценивались к фигуристкам, чьи изящные, хрупкие фигурки, словно осколки весенней радуги, мелькали на льду. Такая знакомая, такая волнующая атмосфера, предшествующая большим и загадочным состязаниям. Я опустился на свободное место и разыскал глазами Савченко - он сидел справа, на три ряда ниже, бок о бок с руководителем американской команды, и они оживленно беседовали; я не разбирал, о чем они говорили, но по выражению лица переводчицы - оно было игриво-радостным, каким бывает обычно, когда доводится произносить нечто приятное, где даже тон способствует созданию хорошего настроения, - догадался, что и американец, и Савченко довольны прежде всего результатами уже закончившихся соревнований, довольны собой, немало приложив усилий, нервов и трудов, чтоб результат был именно таким. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся - это была секретарша шефа прессы. - Я вам нужен, Брет? - Вас просят подойти к телефону, мистер Романько. Да и кофе ваш готов! - Брет так низко наклонилась к моему уху, что ее темный локон щекотал мне щеку, а не стесненная ничем грудь почти касалась меня. "О ля-ля", - воскликнул бы плотоядно мой друг Серж Казанкини. Я же лишь задавленно пробормотал: - Иду, Брет, спасибо! Она засеменила на своих высоких каблуках впереди, и ее длинные ноги манекенщицы выписывали плавные, отработанные па, и я подумал, что хорошо, что у меня есть Натали, и никакие даже самые прекрасные и красивые ноги не могут отвлечь меня от мыслей о ней... В пресс-центре мне любезно, с явным почтением протянули небольшую трубку с наборной панелью внутри, и она ловко легла в руке. - Да, я слушаю. - Мистер Романько? - Голос был незнаком. - Он самый, с кем имею честь? В трубке воцарилось секундное молчание, а затем последовали частые гудки. - У вас прервался разговор? - Девушка-телефонистка нажала несколько цифр и спросила кого-то: - Здесь пресс-центр, вызывали мистера Романько, но разговор прервался. Нельзя ли возобновить? Телефонистка выслушала ответ и огорченно обратилась ко мне: - Извините, мистер Романько, но звонили из автомата. Побудьте минутку, возможно, это просто технический брак и вам перезвонят. Я проторчал в пресс-центре минут пять, время вполне достаточное, чтобы вновь бросить никель и набрать номер. Но больше никто не позвонил. Я вернулся в ложу прессы, недоумевая, кто это мог звонить, да еще из автомата... Наша Катюша, славная девчушка, ей и лет-то всего тринадцать (боже, что делается со спортом, сплошные дети!), легким весенним мотыльком порхала над зеркальным льдом, так напоминавшим тихое лесное озеро, ее коньки, казалось, не касались поверхности. Публика встречала каждое удачное па, прыжок, кульбит взрывом аплодисментов. Когда Катюша, счастливая и раскрасневшаяся, замерла в поклоне, ее долго не отпускали восторженные зрители. В конце концов Катюша оказалась буквально заваленной цветами и коробками с конфетами. Зато оценки арбитров вызвали такой мощный всплеск негодования на трибунах, что я невольно улыбнулся: знали б американцы, против кого они выступают. Диктор вынужден был трижды повторить имя следующей участницы - а это была Дженни, - прежде чем зрители утихомирились. Американка откаталась уверенно, блистая отточенной техникой, каждое движение ее было рассчитанным и красивым, и она не могла не захватить зрителей: они снова расхлопались, расшумелись, вдруг поняв, что Дженни может победить, и это распалило их - американка ведь! - и они дружно вскочили со своих мест, не дождавшись, когда смолкнет музыка и в последнем па замрет фигуристка. Лишь опытный глаз подметил бы сбои после тройного "тулупа", слишком быстрый вход в поворот, едва не бросивший ее на ограждение, и еще несколько помарок. Ну да это - удел специалистов. Когда она завершила выступление, аплодисменты были еще жарче и громче, чем после окончания программы Катюши. Юная американка действительно была одаренной спортсменкой, и класс ее школы не вызывал сомнений. Единственное, чего ей не хватило в соревновании с нашей девчушкой - одухотворенности. Не подумайте, что местечковый патриотизм, еще нередко процветающий на соревнованиях любого ранга - от футбольных поединков "Спартака" и киевского "Динамо" до чемпионатов мира, когда болеют неистово и жадно лишь за своих, что этот "патриотизм" лишил и меня объективности. Увы, в современном спорте, как это ни странно, с ростом мастерства - а это непременный результат баснословно увеличившихся нагрузок - нередко отходит на второй план не менее важная (после физического совершенства) его вторая половина - его духовность, праздничная возвышенность чувств, способная передаться нам, сидящим на трибунах, или - на худой конец - у экранов телевизоров; этот дух борьбы, преодоления и победы над самим собой мы способны ощутить за тысячи и тысячи километров от места события. Вот это и есть главенствующее в спорте, вот почему он нужен нам с вами, ибо способен сделать нас сильнее и лучше... Судьи были благосклонны к американке, и ее баллы оказались выше на самую малость, но вполне достаточную для победы. Я увидел, как обернулся назад и стал разыскивать меня глазами Савченко. Он кивнул головой, улыбнувшись, мол, ну, что я тебе говорил... Когда девочки вышли к награждению, трибуны успели успокоиться и дружно поддержали их аплодисментами. Они - Катюша и Дженни - обнялись и вместе вспрыгнули на высшую ступеньку пьедестала почета, чем смутили распорядителя, он кинулся к Катюше и стал показывать ей, что нужно сойти на ступеньку ниже, но зрители заухали, засвистели, зашикали, а Дженни так крепко ухватилась за свою подружку, что церемониалмейстер отступил. Так и награждали - золотой и серебряной медалями, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу, счастливые, и между ними не существовало ни недоразумений, ни предубеждений, разделяющих наши страны и наши народы. Настоящие дети мира... У меня на душе тоже было славно, чисто, и я был им благодарен за эти мгновения, коих нам так не хватает порой в жизни, чтобы оглядеться вокруг себя и понять, что мы можем жить спокойно и счастливо даже в нашем, перегруженном проблемами и тревогами мире... Шеф прессы и впрямь дожидался меня - он стоял у выхода с трибуны, как нетрудно было догадаться, специально, чтобы не упустить меня в толчее. - Вы были правы, мистер Романько, - проскрипел своим несмазанным горлом шеф, и на его вытянутой каменной физиономии появилось некое подобие улыбки, но я видел, что он искренне пытается улыбнуться. - Поздравляю вас, ваша команда - самая великая команда, которую мне довелось видеть. У этих ребят прекрасное будущее! - Благодарю вас, мистер... - О, просто Мэтт! - перебил он меня. - Благодарю вас, Мэтт! Не только Дженни достойна победы, я думаю, что ваши танцовщики тоже вырастут в пару экстра-класса. Я слышал, они собираются к нам на турнир в Киев, буду рад их приветствовать! Обмен любезностями продолжался, пока мы пробирались к кабинету шефа, и нам дружески улыбались какие-то незнакомые люди, сотрудники пресс-центра, где царила обычная суетливая, но уже приподнятая, праздничная обстановка, когда соревнования уже закончились и можно было вздохнуть спокойно и журналистам, и обслуживающему персоналу. Кабинет шефа оказался неожиданно просторным и прекрасно обставленным: мягкие, удобные кожаные кресла вишневого цвета, два телевизора - обычный и монитор внутренней телесети, пол устилал светло-серый пушистый ковер во всю комнату, на столе маленькая Хенни - копия памятника норвежской фигуристке. - А это моя гордость, - сказал Мэтт, подводя к стене, где под стеклом висел олимпийский диплом. - Мне его подарила сама Соня, это тот самый, полученный ею здесь пятьдесят с лишком лет назад. Вы ведь, верно, слышали, что она осталась жить в Лейк-Плэсиде? Я был тогда зеленый новичок начинающий тренер, и Соня здорово мне помогла. Никогда не забуду этого. Прошу вас, мистер Романько. - Меня зовут Олег. - О'кей, Олех! Я был бы вам благодарен, если б вы уделили мне немного времени, - поверьте, не каждый день доводится видеть гостя из вашей страны. В последний раз это было четыре года назад, на Играх, я тогда тоже работал здесь же. Так вот откуда мне знакомо его лицо! - Я ведь тоже работал на Играх, и мы скорее всего встречались. - Я знаю, что вы были на Олимпиаде, мистер Олех. Я поднимал списки советских журналистов, - признался шеф прессы. Мэтт налил на донышко коньяка, щелкнул крышечкой оранжа, пододвинул одно из трех огромных - "на взвод солдат", как сказал бы Власенко, - блюд, плотно уложенных разнообразными крошечными бутербродиками. Батарея со спиртным стояла отдельно на столике с колесиками. Я пожалел, что со мной нет Сержа, - он очень любил выпивку вообще, и на чужой счет - в особенности. - За то, чтобы мы встречались на соревнованиях! - произнес Мэтт. Эти две маленькие девочки показали взрослым, как можно жить! - И как нужно жить, Мэтт! - уточнил я. - О'кей! - согласился он, и мы слегка чокнулись пузатенькими бокальчиками с нанесенным золотой краской на боку профилем Наполеона. Когда мы выпили, Мэтт жестом пригласил откушать, а сам поспешил продолжить разговор: - Мы были искренне огорчены, что вас не было в Лос-Анджелесе. Что б там ни говорили наши политики, а Олимпиада без русских - все равно что виски без спирта. - Вот тут-то мы меньше всего и виноваты. - Э, нет, я не согласен, и пусть это не покажется вам невежливым по отношению к гостю. Вы тоже виноваты, что ваши спортсмены не приехали в Америку! - А вы приехали бы к нам, если бы мы стали обещать вашим парням отсутствие безопасности, негостеприимный прием, разные осложнения с жильем, питанием, необъективность судей и тому подобные "приятные" для любого гостя вещи? - вопросом на вопрос ответил я. Мэтт задумался, но ненадолго. - Я бы не приехал. Стопроцентно! А вы, русские, советские, должны были приехать. Погодите, погодите, - заспешил он, видя, что я собрался возразить, - разве не подобные страхи пророчили вашим спортсменам в 1980 году? Разве не пошли те двое из диспетчерской службы в нью-йоркском аэропорту на преступление, намеренно испортив компьютер, когда ваш самолет заходил на посадку? Это уже были не слова - дела! И тем не менее вы приехали, и это было триумфом для всех здравомыслящих американцев. Нам не всегда легко понять друг друга из-за океана, а предубеждения накапливались десятками лет, и в том повинны обе стороны, и в этом деле святых нет ни у вас, ни у нас, согласитесь! - ...Вот видите, вы приехали тогда в Лейк-Плэсид и ничего дурного с вами не случилось, - продолжал Мэтт. - То были другие времена, - почему-то уперся я, и это дурацкое упрямство - я ведь разделял его точку зрения! - разозлило меня. "Черт возьми, как мы еще задавлены этими стереотипами "единого" мышления, вырабатываемого - нам же всем во вред - десятилетиями и считающегося чуть ли не высшим достижением нашего общества! - подумал я. - Обособленность только и способна привести к косности и процветанию бездарей, ведь так легко оправдывать наши собственные просчеты и недостатки опасностью внешнего влияния. Да мы ведь только выигрываем - и каждый из нас лично, и общество в целом, - когда имеем возможность общаться с людьми из другого мира и таким образом яснее видеть наши ошибки и недостатки. Но кому-то было выгодно, чтоб мы не поехали в Лос-Анджелес... Ну, уж врагам олимпийского движения из США - это стопроцентно". - Своим отказом, мистер Олех, - точно читая мои мысли, сказал Мэтт, вы отбросили олимпийское движение далеко-далеко назад и позволили захватить обширные плацдармы силам, которым не место на Играх, увы... - Да, Мэтт, как это не трудно признавать... - с облегчением сказал я. Тут дверь кабинета без стука широко распахнулась, и полицейский в короткой меховой куртке со стальной бляхой "полиция штата Нью-Йорк" на груди, в широкополой ковбойской шляпе вломился в комнату. Еще с порога он утвердительно спросил, глядя на меня в упор: - Мистер Олех Романько? Вы мне нужны...11
Первым пришел в себя Мэтт. Он резко, едва не опрокинув тяжелейшее кресло, вскочил. Лицо его еще более потемнело, он не спросил, а бросил слова-камни в полицейского: - В чем дело, сержант? Это - мой гость! - Мистер Романько должен поехать со мной в "Золотую луну". - Я еще раз спрашиваю: в чем дело, сержант? Я видел, как напрягся Мэтт, как тяжело повисли набухшие кулаки, и спросил полицейского, беря себя в руки, - первый шок прошел: - Что случилось? Мой тон и спокойствие подействовали и на сержанта, и на Мэтта успокаивающе, и грозовая атмосфера стала разряжаться. - Простите, мистер Олех Романько, но вы живете в пансионе "Золотая луна", в комнате на втором этаже, ну, в той, что выходит на озеро? - Верно, но все же... - Тогда поспешим, по дороге я вам расскажу! - Я с вами! - решительно заявил Мэтт, и я был благодарен этому неразговорчивому, нелюдимому на первый взгляд, доброму человеку, так решительно вставшему на мою защиту (а я-то принимал его за очередного сторонника "жесткой линии" по отношению к моей стране!). Сержант молча пожал плечами, и через минуту мы сидели в желто-красном "форде" с включенной мигалкой на крыше. Слава богу, сержант не додумался еще ринуться в путь с сиреной. Ехать тут было всего ничего, и спустя минуту машина уже затормозила у пансиона. Дом оказался освещен, как новогодняя елка, - свет горел во всех комнатах, даже наружный фонарь бросал колеблющиеся блики на темную мостовую. В холле - столпотворение: Серж Казанкини разъяренным тигром метался из угла в угол, выпуская просто-таки паровозные клубы ароматного дыма, швед замер, затих на кушетке напротив включенного, но приглушенного телевизора, где стреляли и падали с лошадей парни с дикого Запада, молоденький врач в белом халате держал за руку миссис Келли, что с перевязанной головой, бледная как смерть безжизненно лежала на крошечном диванчике, где едва могли усидеть двое. Мне показалось, что она мертва, и сердце сжалось с такой болью, что я невольно резко остановился, и Мэтт, шедший сзади, наткнулся на меня, чуть не сбив с ног. - Олех! - воскликнул Мэтт. - Вам плохо? - Пустяки. Что с миссис Келли? - Был обморок, теперь она спит, - обернулся ко мне сержант. - Еще бы - на нее напали сзади... - Напали? - Было от чего растеряться. Сколько б не слышал о преступности, буквально парализующей жизнь этой великой страны, сколько б примеров куда более страшных не видел ты на экранах телевизоров, реальность все равно оказывается неожиданнее и прозаичнее. Но кому, скажите на милость, понадобилось нападать на эту щуплую, сухонькую - дунь, улетит! - старушку, что лежит теперь на кушетке, как восковая фигура из музея мадам Тюссо? - Верно, напали, и миссис Келли еще легко отделалась... Ее ударили чем-то достаточно тяжелым, чтобы проломить голову, - словоохотливо объяснил человек в штатском - в темно-красной нейлоновой куртке с расстегнутой молнией и с густой копной седеющих вьющихся волос. - Мистер Олех Романько ("Что за дурацкая привычка произносить сразу имя и фамилию?!" - подумал я) - это вы? - спросил штатский, беззастенчиво и с явным любопытством разглядывая меня, словно перед ним стоял манекен, а не живой человек. - Собственной персоной, - буркнул я. - Я попрошу вас подняться со мной наверх, в вашу комнату. Сержант, вы останьтесь здесь и побеседуйте с жильцами. Кто где был, что слышал или видел, словом, как всегда в подобных случаях. - Слушаюсь, сэр. - Прошу. - Я поднимусь с вами! - безапелляционно рявкнул - именно рявкнул Мэтт. - Мы обойдемся без вас, Мэтт, - вежливо, но твердо возразил человек в штатском, полицейский чин, как я догадался. - Нет, инспектор, я пойду вместе с мистером Романько; он иностранец, аккредитован при пресс-центре, и я несу за его безопасность полную ответственность. Если нет, прошу дать возможность вызвать моего адвоката, он примет на себя защиту интересов мистера Романько. Инспектор на мгновение заколебался, но не стал предаваться бюрократическим изыскам и сказал миролюбиво: - Да не кипятись, Мзтт. Я вовсе не намерен этому русскому гостю устраивать неприятности. - Это ваши заботы, инспектор. А у меня свой взгляд на происходящее. Или мы идем вместе, или мы дожидаемся адвоката! Пока шла перепалка, я лихорадочно размышлял, что можно сделать в зтой ситуации. Ближайшее советское учреждение - в Вашингтоне, потому что наше консульство в Нью-Йорке закрыто еще при президенте Картере и, судя по складывающимся отношениям с новым президентом, вряд ли будет открыто вновь. Мне оставалось лишь подчиниться, и горячее чувство благодарности к Мэтту охватило меня. "А ты-то, - вновь с запоздалым раскаянием подумал я, - принимал его за напыщенного болвана из числа поклонников Сталлонне!" - Я тоже с вами! - подал голос Серж Казанкини и двинулся на инспектора своим круглым, как добрый бочонок с пивом, животом. - Вы останетесь на месте или я прикажу сержанту задержать вас как подозреваемого в преступном нападении! - Тут инспектор был непреклонен. - О ля-ля, я ведь тоже иностранец! - заартачился было задетый за живое Казанкини, но предусмотрительно застыл на месте, а потом и вовсе сел обратно в кресло. - Так-то оно лучше. Вы, Мэтт, пожалуй, поднимитесь с нами... Мы втроем: я - впереди, за мной - инспектор в красной куртке, последним - Мэтт, заскрипели старыми деревянными ступенями. Дверь в комнату была распахнута, и еще с порога я обнаружил, что кто-то перевернул в ней все вверх дном. Я, кажется, начал догадываться, что здесь произошло, но предусмотрительно промолчал, считая, что вовсе незачем американскую полицию вмешивать в мои интересы, тем паче что я еще не определил точно, чем интересовались незваные посетители. - Попрошу вас, мистер Олех Романько, - вежливо, ничего не скажешь, не придерешься (это я, безусловно, отнес к присутствию здесь Мэтта), предложил инспектор, - посмотрите, не пропали ли какие-либо вещи, не нанесен ли вам какой другой урон. Мне нужно было собраться с мыслями, выяснить для себя, что можно, а чего не следует говорить полицейскому. Времени было в обрез - я видел, как настороженно, цепко держал меня под своим колпаком инспектор. - Но я не знаю, с кем говорю, - не слишком вежливо сказал я, вспомнив, что полицейский чин не представился. - Извините. - Мгновенная злость, скользнувшая по круглому, упитанному лицу, была тут же бесследно стерта. Да, у этого закалочка в порядке! Извините, - повторил он. - Инспектор уголовного розыска полиции штата Нью-Йорк Залески. - Благодарю вас, мистер Залески. Еще раз подробно объясните, что я должен сделать. Признаюсь, никогда не приходилось попадать в такой переплет. Он снова вспыхнул, но еще быстрее взял себя в руки. "Да я так тебя натренирую, ты еще мне ручку будешь жать в знак искренней дружбы!" усмехнулся я в душе, хотя, если честно, мне было не до смеха, потому что мне уже было ясно, что мои розыски не оказались незамеченными. И дай-то бог, чтоб это не отразилось на Серже или Джоне Микитюке! У меня почему-то всплыло в памяти, как после истории с Валерием Семененко, когда я написал серию статей для еженедельника, один товарищ, облеченный властью и правом первой читки подобных материалов, обратился ко мне с нескрываемым укором: - Вы, Олег Иванович, вели себя за границей не так, как подобает советскому человеку! - Я уронил достоинство советского человека или совершил порочащий меня поступок? В чем это выразилось? - откровенно говоря, растерялся я. - Вы вели расследование, у вас были контакты с местной прессой, разве вы не в курсе, что такие шаги не рекомендуются? - Вы можете упрекнуть меня в чем-то конкретном? - Нет, но... - Если б я руководствовался вашими инструкциями, а, как я полагаю, вы излагаете мне некий параграф некой инструкции, призванной регламентировать мое поведение за границей, то имя Валерия Семененко было бы втоптано в грязь, честь и достоинство советского человека были бы принижены, если не сказать больше... - Вам ведь никто не поручал заниматься этим делом! - выдал товарищ мне самый веский, по его мнению, аргумент. - Я журналист. У него вопросов больше не оказалось. "Интересно, что запел бы мой "доброжелатель" теперь, когда я стою в разгромленной неизвестными комнате под пристальным, подозрительным взглядом полицейского?" - подумал я... - Вы поняли мое предложение? - нетерпеливо спросил инспектор Залески. - Да, я начинаю. Если честно, то я мог и не заглядывая в шкаф, в сумку с вещами, в письменный стол, сразу сказать, чем интересовались незванные гости. Но я не стал спешить. Раскрыл дверцы шкафа, вынул скомканное запасное белье, разложил все аккуратно на постели, предварительно застелив ее покрывалом. Две рубашки, свитер, три галстука, светло-коричневый гольф, носки и прочие нижние вещи. Сувениры, купленные в лавчонке по соседству: две вязанные шапочки с вышитым лыжником - себе и Наташке; литография Рокуэлла Кента в металлической рамке - заснеженные горы Адирондака с заледеневшим водопадом на первом плане; пять зажигалок с видами Лейк-Плэсида - товарищам в редакции, шелковый шейный платок, тоже с видами Лейк-Плэсида, - для стенографистки Зинаиды Михайловны, она со мной намучилась за эти дни, принимать репортажи доводилось даже дома, далеко за полночь; и, наконец, светло-синий горнолыжный комбинезон - моягордость и давнишняя мечта. Пожалуй, я был искренне расстроен, если б пропал комбинезон: я уже не однажды представлял себе, как появлюсь в нем в Славском - заезжие модники из Львова да Москвы, честное слово, засохнут от зависти. - Вещи на месте, ничего не пропало, - сказал я. - Деньги? - Они при мне. - Пожалуйста, дальше. Стопка белой бумаги, взятой в пресс-центре, авторучки, моя "Колибри", и слава богу! - крошечный, в ладонь, диктофон "Сони", принадлежавший редакции, и все пять кассет. - Ничего не пропало, инспектор, - с облегчением сказал я, хотя уже давно обнаружил, что одна вещь таки исчезла. Не было пластмассовой папочки, подаренной мне Сержем Казанкини, - досье украли. "Но инспектору, - давно решил я, - вовсе не обязательно об этом знать". - Благодарю вас, мистер Олех Романько! Спустимся вниз, подпишите протокол, и на этом будем считать инцидент исчерпанным. Что же касается преступного нападения на миссис Келли, это уже наше внутреннее дело, суммировал инспектор Залески. В голосе его, однако, не слышалось удовлетворения. Ну да это его заботы... - О, мистер Романько! - встретила меня пронзительным возгласом миссис Келли, уже пришедшая в себя окончательно и сидевшая на диванчике рядом с молодым доктором в белом халате. Лицо ее ожило. - Миссис Келли, но что случилось? - спросил я хозяйку пансиона "Золотая луна". - Смотрела телевизор, как раз передавали репортаж из Дворца, я, конечно, пойти туда не могла - пятнадцать долларов, согласитесь, для одинокой женщины - деньги. (Я запоздало пожалел, что ни разу даже не предложил миссис Келли посетить состязания, уж нашел бы способ провести ее бесплатно, опыт подобных посещений дома мы отработали давно до совершенства и даже на такие престижные футбольные матчи, как "Динамо" "Селтик", проводили в ложу прессы своих гостей). - Миссис Келли сделала паузу, но, конечно, не для того, чтобы упрекнуть меня за недогадливость, а чтобы придать своему рассказу дополнительный драматизм. - Как прекрасна была наша Дженни! Да-да, мистер Романько, но и ваша девочка, как ее зовут? - Катя, Катюша, - подсказал я, и благодарная улыбка осветила лицо хозяйки пансиона. - Катья тоже мне понравилась, но Дженни, согласитесь, была блистательна в этот вечер. Я видел, как мрачнел инспектор, вынужденный выслушивать излияния, не имеющие никакого отношения к происшествию, тем более что подробности эти были ему давным-давно известны и вряд ли он ожидал чего-то нового в таком тупиковом деле. - Вы слушаете, мистер Романько? - миссис Келли с подозрением взглянула на меня. - А вы, инспектор? - Ее взгляд обжег Залески, и он недовольно скривился, как от внезапной зубной боли. - Это все очень чрезвычайно важно, заявляю вам! Я слушала репортаж, но услышала понимаете, услышала! - как стукнула дверь наверху. А ведь там никого не было с самого вечера... Мистер француз пришел уже позже, он-то и нашел меня мертвой... Нет-нет, я была в обмороке, но меня вполне можно было принять за труп... Пока хозяйка "Золотой луны" излагала подробности и собственные ощущения, я думал, как мне поступить дальше. Вряд ли те, кто рылся в моих вещах, заявятся еще раз, ибо они получили то, что искали, это без сомнения. Значит, до утра я могу спать спокойно, а утром, как и условлено, уеду с нашими спортсменами в Монреаль, а оттуда рукой подать до Москвы. В крайнем случае переночую ночь-другую у Власенко, не откажет. Конечно, эта бандитская акция заставляет пересмотреть планы на Монреаль... - ...тут я и упала! - уловил я последние слова миссис Келли и ее победоносный взгляд горящих глаз, коим она обвела присутствующих в комнате. Но, кажется, кроме меня, никто и не слушал ее: инспектор заканчивал протокол, Серж впал в глубочайший транс - он даже перестал курить, уставившись в одну точку, швед по-прежнему цедил пиво из третьей баночки (две пустые валялись на столике у телевизора), сержант явно скучал, да и к тому же ему было жарко в его меховой куртке и в шляпе. Мэтт - вот он-то был весь внимание - напомнил мне курицу-наседку, нахохлившуюся, готовую в любой момент грудью броситься на защиту цыпленка. В роли последнего, подозреваю, выступал я... Когда был подписан протокол, вслед за мной это сделал и Мэтт, как свидетель, инспектор Залески вполне искренне пожелал спокойной ночи и выразил надежду, что инцидент ("Дело, без всякого сомнения, будет доведено до конца, и злоумышленники понесут заслуженную кару!") не испортил мне общее впечатление от пребывания в Лейк-Плэсиде. Я с такой же искренностью заверил инспектора в моем признании его доброго участия в этом деле, а также в том, что мои симпатии к Америке и американцам не уменьшились после сегодняшнего вечера. Мне осталось лишь посетовать, что из-за меня вольно или невольно жертвой произвола оказалась миссис Келли. Словом, раздав всем сестрам по серьге, я распрощался с инспектором, сержантом и Мэттом. С последним мы обнялись по-братски, и я сказал, что не забуду его участия и буду надеяться, что когда-нибудь нам посчастливится встретиться вновь, лучше, конечно бы, в Киеве. Оставил ему свою визитку, приписав авторучкой домашний адрес и телефон. Я ни на секунду не сомневался, что Мэтт заслуживает такого приглашения. Серж поднялся вслед за мной наверх. Без единого слова деловито проверил запоры на окне и успокоился, только убедившись, что они прочны. - Как ты думаешь, старина, это из-за Добротвора? - спросил Казанкини, и я уловил в его голосе плохо скрытую тревогу. - Ну, я бы не оценивал случившееся так однозначно... Скорее всего для тебя не секрет, что специальные службы здесь, на Западе, всегда проявляют интерес к нам, советским людям, а значит, это их рук дело. Здесь ли, в Штатах, или у вас, во Франции... - Я увидел, как оживился мрачный и растерянный на протяжении всего вечера Казанкини, и убедился: Серж действительно напуган происшедшим, наперед просчитав возможные последствия для себя - как-никак, а именно он привез исчезнувшее досье. Мне не хотелось усугублять его сомнения и тревоги, тем более что такие опасения не покидали и меня с той самой минуты, когда я услышал о "посещении" комнаты незваными гостями. Я даже пожалел (а ведь сколько раз зарекался подвергать опасности моих зарубежных друзей, как ни важна, как ни ценна была для меня их помощь), что снова расслабился, не удержался, рассказал больше чем нужно и чем мог Сержу Казанкини. Хуже - втянул его в историю, возбудил интерес и невольно подтолкнул к поискам опасных документов, пусть даже прямо об этом его и не просил. Ну, да что там - снявши голову, по волосам не плачут! - Ты честно полагаешь, что это не из-за меня? А? Говори честно, Казанкини не из трусливого десятка! - Я видел, как нелегко далась Сержу эта бравада. - Да как тебе сказать... Скорее всего это следы Ефима Рубцова, это больше похоже на него. Уж кто-кто, а он, тут я голову готов дать на отсечение, имеет связи с этими службами, которые, как и он, не слишком-то доброжелательны к моей стране. Ты спросишь, зачем ему, журналисту, это нужно? Скажу. Однажды в Австралии местный газетчик на вопрос, почему они, то есть австралийцы, так недоверчиво относятся к бывшим советским гражданам, очутившимся на пятом континенте после второй мировой войны, ответил... - Серж Казанкини - весь внимание, я видел, что каждое мое слово - бальзам на его рану. - Он сказал: "Если они могли предать Родину, отречься от нее, то нас они в случае надобности предадут еще легче. Как же мы можем к ним относиться иначе?" Вот потому-то рубцовы и лезут из кожи, чтобы засвидетельствовать собственную "лояльность" к приютившей их стране... - Но откуда он мог знать, что ты здесь? - не сдавался Казанкини. - Стоило по телефону из Нью-Йорка подключиться к компьютеру пресс-центра, как тут же получаешь полнейшую справку обо мне, да еще и в напечатанном виде. Я проверил это. Компьютер знает даже, что я вторично женат, а ты говоришь... - Много бы я дал, лишь бы добраться до этого подонка! - вырвалось из уст уже явно успокоившегося и вновь самоуверенного Сержа. Нет, поистине этот добрый толстяк - дитя природы... - Для "Франс Пресс" такая информация не представляет интереса, мистер Казанкини, - шутливо отмахнулся я. Всерьез же сказал: - А вообще, Серж, ты больше не лезь в эту историю, не хватало тебе еще расплачиваться за наши "особые" отношения с Рубцовым. Спасибо за досье, ты так много сделал для меня! Я и словом не обмолвился, что красная папочка Сержа Казанкини уже давно в чужих руках. Меня успокаивало, что странички с напечатанным на стандартной ленте "ПК" - персонального компьютера - текстом не несут индивидуального почерка, и Серж не оставил на них не только собственной росписи, а она у него такая, что только на крупных банкнотах ставить, но и даже пометок или поправок от руки. Не стал ничего говорить Сержу об утрате документов еще и потому, что по давней привычке в первый же вечер перевел написанное и продиктовал на магнитофонную ленту "Сони", лежавшую теперь в моей сумке... - Нет, ты это брось, - продолжал набирать силу и уверенность в себе Серж. - Я буду искать и, ежели что, - непременно дам тебе знать. Ведь мы с тобой не конкуренты, Олег! - Нет, не конкуренты, - с облегчением согласился я, видя, что мой друг окончательно обрел спокойствие. - Давай прощаться, мне еще заключительный репортаж писать, в пять утра передавать. Завтра утром уезжаю. - Так скоро? - по-детски, с обидой, точно у него забирали любимую игрушку, воскликнул Серж. Я обнял его и учуял тонкий запах терпкого мужского одеколона и резкий аромат трубочного табака, пропитавшего, казалось, Сержа насквозь. Мне было грустно, потому что каждый раз, расставаясь, не знаешь, удастся ли встретиться вновь. В нашем мире, сократившем расстояния сверхзвуковыми лайнерами и спутниками связи, существуют не только границы между государствами, но и между людьми, в силу тех или иных причин разделенных политическими, экономическими, нравственными границами двух таких противоположных по своей сути миров, где, однако, живет немало похожих в своих радостях и горестях, в своих вечных устремлениях к счастью людей... - Я выйду проводить тебя утром, - пообещал Серж, но я не сомневался, что в семь утра мой друг будет спать сном праведника, ибо не было для сибарита Сержа Казанкини зверя страшнее, чем ранний подъем из теплой постели. - О'кей, Серж. Спокойной ночи.12
Ночь напролет валил и валил снег: синий рассвет и окрестные горы, Зеркальное озеро и федеральная дорога N_18, по которой нам предстояло ехать, даже невысокое крыльцо пансиона миссис Келли - все утонуло в глубоких, пышных и величавых сугробах. Савченко позвонил и предупредил, что автобус за ними не пришел и когда появится, сказать трудно, но как только подкатит к подъезду гостиницы, где жили наши спортсмены, он сразу же даст знать. Я совсем не огорчился непредвиденной задержке. Она давала возможность побыть наедине со своими мыслями. Вещи были собраны с вечера, мне оставалось побриться да перекусить, на это ушло 20 минут, и вот уже я бреду по белой целине сквозь мириады кружащихся снежинок, куда глаза глядят. Небольшой красный трактор со скрепером натужно толкал перед собой гору снега, едва ли не выше крыши кабины. У магазинчиков суетились с лопатами хозяева: пробивали в снегу тоннели, прочищали подходы к витринам - непогода не должна мешать бизнесу. Ребятишки в куртках и "лунниках" азартно перебрасывались снежками, но снег был сухой и плохо лепился, потому мальчишки старались ухватить ком побольше чуть ли не с лопаты родителей. Чем дальше оставалась Мейн-стрит, тем глуше доносились звуки, тем гуще летели белые снежинки, и наконец я растворился в них и превратился в одну большую белую глыбу, с трудом передвигающуюся на своих двоих. Это все так напоминало Славское, радостный день передышки после непрерывной череды подъемов и спусков, доводивших до смертельной усталости каждую мышцу, каждую клеточку тела. "Хочешь ты или нет, - размышлял я, - но вынужден будешь признать, что ничего такого, что прояснило бы окончательно историю с Виктором Добротвором, ты не обнаружил, и нет у тебя на руках фактов, кои можно было бы уложить в логической последовательности и сделать твердые выводы. А следовательно, никто не станет прислушиваться к объяснениям Добротвора, если он пожелает еще объясняться, а тем паче к моим, задумай я с ними познакомить тех, кто будет решать судьбу Виктора (я тогда еще даже не догадывался, что все уже было решено окончательно и бесповоротно)". И нутром чуял - интуиция меня редко подводила! - что увидел самую верхушку айсберга, большая же часть его скрыта от моего взора, и она-то и есть то главное, ряди чего и стоило рисковать. Появление Ефима Рубцова, и неясные, таинственные следы мафии, и исчезнувший боксер, многое способный объяснить, и этот наглый налет на мою комнату, лишь убеждали в серьезности истории. Кто стоит за всем этим и какую цель преследуют организаторы? Меня не покидала мысль, она крутилась в голове, мешая, сбивая с толку, подсовывая самые неожиданные варианты, разрушавшие уже складывавшиеся в логическую цепь факты, - мысль о том, что Виктор Добротвор был лишь звеном в невидимой и зловещей цепи затеваемых преступлений... Как ни ломал себе голову, решение не приходило. Взъерошенный, засыпанный снегом по самую макушку, возвратился я домой и узнал, что звонили несколько раз из гостиницы. Я успел сбегать наверх и схватить вещи, когда внизу, у входа в пансион "Золотая луна", засигналил нетерпеливо и требовательно автобус. Двухэтажный, с затемненными стеклами, "Грей хаунд" урчал всеми своими тремястами лошадиных сил, и его метровые "дворники" размашисто выметали два полукруга на стеклах. Павел Феодосьевич жестом пригласил на свободное место рядом с собой, и автобус тут же двинулся, тараня плохо прочищенную дорогу. - Снег, оказывается, только в горах, нам тут километров тридцать сорок проскочить, а там, на хайвее, чисто, - сказал он вместо приветствия. - Проедем, - беззаботно подтвердил я. - В восьмидесятом мы тут накатались, помню... - Тебе-то что, - возразил Савченко, - ты остаешься в Монреале, а нам не опоздать бы на самолет. Хоть долларов у меня полный карман, а истратить не могу ни цента, потому как из разных статей они... - Не дрейфь, Паша, - пообещал я доверительно, - в Монреале у меня приятель, друг, вместе плавали, да ты его должен знать - Власенко Толя. Он - консул, это в его силах решать такие проблемы. - Ну, разве что. Да лучше не опаздывать. Не люблю опаздывать - на поезд ли, на работу... - Как думаешь, - спросил я, переводя разговор в другое русло, Добротвора могут дисквалифицировать пожизненно? - А ты как полагал - на три игры, как футболистов, да еще условно? После того что тут понаписано о нем в местной да и не только в местной прессе? - Не злись, - сказал я. - Ты не допускаешь, что в этой истории может существовать двойное дно? - Брось ты! Двойное дно, психологические изыски, мотивация поступка! - передразнил он. - Подобные поступки определяются четко: сделал отвечай. Ты меня знаешь не первый год, скажи без обиняков - веришь мне? То есть доверяешь? - Еще чего! Не верил - не разговаривали б мы теперь на эту тему. - Тогда пойми: Добротвор - преступник! Вдвойне преступник, потому что он - "звезда", личность, известная в мире. По личностям же судят о нас, в том числе и о нас с тобой. Что же высветил поступок Добротвора? Что и у нас "звезды" ничем не отличаются от их "звезд" - та же неразборчивость в средствах, когда нужно заработать, деньги ведь не пахнут? А где же наша, советская, гордость, наши моральные ценности, коими мы гордимся и кои поднимаем высоко над головой, как маяк, как Данково сердце? Не знаю, как тебе, а мне горько, потому что я жизнь прожил в твердой уверенности в незыблемости этих ценностей. Да, согласен, одна поганая овца стадо не испортит... Только какая овца - это еще разобраться нужно... Утрачиваем мы что-то самое ценное в спорте, без чего он превращается в бездуховное накачивание мышц и злости... И нужно срочно возвращать утраченное, ведь поздно может быть, поздно! - А что! Разве перевелись у нас тренеры, для коих вершина технический результат, рекорд, победа на чемпионате? Их мало волнует и заботит, кем уйдут в долгую послеспортивную жизнь чемпионы. Если уж начистоту, то и ты в том повинен, и я: не даем подобным нравам настоящего боя, отступаем, молчаливо соглашаясь с кем-то, сказавшим сакраментальную фразу "Так нужно!". Кому нужно конкретно? Черта с два найдешь! Все это так. Но что касается Виктора Добротвора, согласиться с тобой не могу. Здесь иная подоплека, возможно, человеческая трагедия, скрытая от глаз... - Не увлекайся, Романько! Нельзя же за каждой историей видеть историю с Валерием Семененко. Ты докопался до правды, вернул человеку доброе имя, честь и хвала тебе за это. Здесь факт преступления налицо! Меня ты по крайней мере не убедишь в этом, хотя... хотя мне, возможно, и нанесено оскорбление, да и другим, знавшим его как личность, с которой брали пример. - Погодите, Павел Феодосьевич! - тут уж пришел черед возмутиться мне, что сразу же сказалось и на переходе на официальный язык. - Вы ведь дали слово разобраться в этой истории досконально? - Дал и сдержу его, не беспокойся. Разберусь хотя бы для того, чтобы увидеть истоки падения Добротвора, чтобы забетонировать эти черные струи намертво, чтоб никто и никогда больше не испил отравленной водицы... Ладно, Олежек, прекратим беспочвенный спор. Пока беспочвенный, поправился Савченко. Я молча согласился с ним, и всю дорогу до Монреаля, а она и впрямь оказалась совершенно чистой, едва мы выбрались из горных ущелий, говорили о чем угодно, но только не о Добротворе. Савченко быстро пришел в хорошее настроение, стоило лишь вспомнить о фигуристах, что сидели позади нас в автобусе. Он любил этих мальчишек и девчонок, возможно, еще и за то, что они были чисты перед своей совестью и спорт - большой спорт - еще не проник в их души настолько, чтобы затенить остальную жизнь, сузить кругозор до сотых балла, отделяющих победителя от побежденного; они счастливо смеялись, рассматривая "Спорт иллюстрейтед", где были опубликованы снимки, сделанные в первый день состязаний; изо всех сил старались казаться серьезнее, чем были на самом деле, а в мечтах уже видели, как войдут в свой класс и как пойдут к своим партам, гордо и независимо, под завистливо-восхищенными взглядами товарищей. Они еще станут переживать, когда в классных журналах у них появятся оценки ниже, чем у первых учеников, и будут из кожи лезть, чтобы отстоять собственное "я" и доказать, что могут учиться и тренироваться, тренироваться и учиться не хуже, чем остальные. И многим это удастся, если попадется на пути умный, рассудительный и гуманный тренер, а не бездумный эгоист, способный без зазрения совести капля за каплей выжимать из их душ доброту, уважение к другим, любовь к ближнему и заполнять вакуум цементным раствором себялюбия и эгоизма... Неужто и у Виктора в душе не было ничего, помимо этого цемента? Неужто и я идеализирую его? В "Мирабель" я распрощался с Савченко и с ребятами, взял такси. - До встречи в Киеве, Олег! - сказал Савченко. Мы обнялись. - На Холм! - сказал я пожилому, мрачноватому водителю с седой бородой и совершенно лысым черепом и назвал адрес гостиницы. Мы проехали - это уже было на Холме, так называется эта часть Монреаля, фешенебельная и тихая, сплошь застроенная особняками, утопавшими в зарослях деревьев, - мимо общежития местного университета, и я попытался разыскать взглядом окно комнаты на третьем этаже, где жил в 1976-м. Но так и не узнал его. В гостинице мне дали ключ, и лифтер поднял на четвертый этаж. Комната понравилась - два широких окна, с балконом, дверь на который оказалась незапертой, несмотря на двадцатиградусный мороз, просторная, разделенная частичной перегородкой на две - приемную и спальню. Первым делом я забрался в горячую ванну отогреваться после автобуса, где тепло не опускалось ниже пояса и ноги порядком закоченели. Закутавшись в махровую простыню, пахнувшую приятным ароматом сухого дезодоранта, сел в кресло перед письменным столом и набрал номер телефона Власенко. Он сразу взял трубку, точно сидел и ждал моего звонка. - Привет, старина, - солидно просипел он в трубку, не выразив ни радости, ни удивления в связи с моим появлением. - Где? - В отеле, где еще... - Комната? - 413. - Жди, я подъеду через полчаса, - сказал Власенко и лишь тогда поинтересовался. - Ты свободен? - Свободен, свободен, мотай ко мне. Меня так и подмывало спросить, не появлялся ли на горизонте Джон Микитюк, но равнодушный тон Власенко отбил охоту. Делать мне было нечего, и, одевшись, я уселся перед телевизором - вот уж поистине наркотик для души! Благо дистанционное управление давало возможность быстро и без труда переключать программы, я воспользовался этим благом цивилизации и пошел бродить по миру цветных подобий живой жизни. Речь Рейгана перед конгрессменами сменялась рекламой канадского пива "Молсон", натуралистические сцены из доисторической жизни первобытных людей из фильма "Огонь" - страшными джунглями Вьетнама, сквозь которые пробивались облепленные пиявками и москитами, потерявшие человеческий облик морские пехотинцы; потом мелькнул Черненко, читающий что-то с трибуны съезда, хоккейный матч между "Торонто" и "Ойлерс", как обычно, с дракой и разбросанными по льду доспехами, Чарли Чаплин в роли старого умирающего клоуна Кальверо... - Кончай, старина, сеанс одновременной игры с двенадцатью программами, - сказал Анатолий Власенко, входя без стука в комнату. Поехали! - Любопытно, любопытно... - думая о чем-то своем, произнес Власенко, когда я коротко, без эмоций изложил факты. - Пожалуй, слишком много информации, взаимно исключающей друг друга. Это-то и настораживает. - Почему исключающей? Все вяжется в логическую цепь, где, правда, пока что отсутствуют некоторые звенья. - Не скажи... Мы расположились в самой просторной из четырех комнат холостяцкой квартиры на Мексика-роуд, где все носило следы отсутствующей хозяйки и присутствующего хозяина. Нельзя сказать, что в квартире Власенко было неопрятно: два раза в неделю приходит служанка - убирает, готовит обед на три дня, отдает и забирает из стирки белье, приносит продукты из универсама и складывает в высокий, как шкаф, холодильник фирмы "Форд". Но небрежно брошенный на стол спортивный костюм и синие кроссовки "Тайгер" посреди комнаты, едва прикрытая покрывалом постель и переполненные окурками пепельницы из отливающего синевой металла у дивана, что как раз напротив "телека", и ни единой женской вещи, как я не пытался глазами отыскать их, красноречивее всяких слов говорили, что Толина жена давно отсутствует и здесь к этому привыкли и не ожидают скорого возвращения. Власов подлил себе в бокал виски, а мне достал из холодильника блок запотевших баночек "Молсона" - кислого, как и "Лэббатт", пива, коим он потчевал меня в прошлый мой приезд. - Да, - вдруг вспомнил Власенко, отставляя уже поднятый бокал. - Тебе пакет от Микитюка. Без твоего разрешения я не вскрывал его. - И ты молчал! - Забыл, знаешь, старина, голова с утра до вечера забита проблемами. Это только из Москвы или из Хацапетовки работа за границей выглядит чем-то наподобие овеществленного рая, на самом же деле крутишься, как белка в колесе: работа - дом - телевизор - работа. Держи! Обычный стандартный конверт с... видом моей гостиницы в левом углу. Значит, Джон приезжал в отель, надеясь, что я возвратился? Но он ведь хорошо знал, когда я приеду! Странно... "Мистер Олег, не хочу показаться навязчивым, но обстоятельства заставили меня обратиться к Вам раньше, чем предполагал. Извините. Тот парень, я Вам говорил, и Вы помните его имя, объявился. В тюрьме. Его осудили на три месяца за хранение... наркотиков. Я попытался добиться разрешения на встречу с ним, но мне отказали как не родственнику. Это в корне меняет дело, ибо теперь трудно сказать, когда мне удастся переговорить с ним с глазу на глаз. Я очень надеялся на такую беседу, уверен, что он не отказал бы мне в правде. Еще одно. Я разыскал его мать. Она лежит в госпитале матери Терезы. Мне удалось пройти к ней на свидание. Она действительно тяжело больна и очень переживает, что "сын так надолго уехал за границу" (вы понимаете, ей не сказали, где находится парень!). Она была благодарна мне, что я принес ей фрукты. Еще она сказала, что ни в чем теперь не нуждается, так как "сын выиграл важные соревнования и заработал много, очень много денег, которые положил в монреальский банк. Я спросил, когда он их заработал. И вот что выяснилось: он получил их в тот самый день, когда наш с вами общий знакомый прилетел в Монреаль! Она точно не знает, как назывались соревнования, где он так хорошо заработал, но если я зайду к ней домой, когда она выздоровеет, она покажет мне бумажку или бумаги, где все записано... Вот вам мои новости. Теперь буду размышлять, как пробиться к парню за решетку... Задал он мне задачку, сукин сын! Извините. Ваш Джон. 24.ХII.1984 года." Я протянул листок Власенко. Он быстро, но внимательно прочел. Но высказался не сразу. Я не торопил его. У меня у самого в голове был полный сумбур. - Помнишь, когда я купил свой первый автомобиль? - спросил Анатолий, хитро прищурившись. - Еще бы! Ты первый среди наших ребят стал владельцем "колес", только какое это имеет отношение к письму Джона? - Ну, раз помнишь, когда купил, то, по-видимому, слышал, как из моего "Москвича" сделали гофрированную консервную коробку, когда на трамвайной остановке на Саксаганского в меня врезался сзади самосвал, а я в свою очередь ткнулся во впередистоящий автобус... Вот сейчас у меня такое же ощущение: ты не виноват, а наибольшие потери у тебя... Я не говорю о Добротворе, о тебе говорю... - Обо мне? - О тебе, дружище. Это письмо - как приговор твоей версии о случайности "дела Добротвора". Вез он наркотики, хотел заработать. Ну, чего там, он ли первый из спортсменов, пойманных на валютных операциях, спекуляции? Вез осознанно, перекупщику, по предварительному сговору... А у меня перед глазами как укор, как наваждение стояла Татьяна Осиповна, знаменитая тетка Виктора Добротвора: сухая, чистая вобла, как смеясь называл старшую сестру отец Виктора - полная ей противоположность во всем, начиная от центнера живого веса, до снобистского, равнодушного отношения к происходящему вокруг. Он был "критический скептик", как сам себя характеризовал: он не верил ни в Сталина, ни в Брежнева, молился лишь на лишний рубль, за него готов был перегрызть глотку. Она же - старшая сестра - вместе с отцом, коммунистом с 1907 года, и матерью - беспартийной - прошла долгий путь лагерных мытарств с 1937-го по 1954-й. На свободу Татьяна Осиповна вышла одна: родители остались там, в Вилюйской тайге, где нет памятников погибшим и никто не покажет их могил; лишь в списке о реабилитации они навсегда остались рzдом. Так вот, Татьяна Осиповна сохранила верность идеалам, которые у нее вымораживали 50-градуснымb морозами и нечеловеческой работой на лесоповале, но так и не смогли убить в ее душе. Меня поражали ее неистребимый оптимизм и вера в наше прекрасное, такое трудное и славное дело; ни одна строчка ее стихов не была отдана злости или чувству мести, они дышали жизнью, где есть место и радости, и грусти, и где, как утверждала она, "нет места лжи, прикрытой "нужной" правдой"... "Вы знаете, Олег, я даже рада, что Виктор воспитывается у меня, - призналась она мне однажды, когда сидели мы у нее на кухне - крошечной, двое едва разойдутся, но такой уютной, что мы для бесед предпочитали ее трем комнатам квартиры на одиннадцатом этаже на бульваре 40-летия Октября с окнами на Выставку достижений, вернее, на ее рощи и сады. Из него получился человек. Пусть их, тех, кто рассуждает: а, боксер, да у него в голове... У Виктора чистая, умная голова, он будет полезным человеком для общества, ведь уже школу закончил с золотой медалью, и ничего, что политехнический - с трудом, во многом благодаря поддержке ректора... Он возьмет свое - у Виктора есть воля и честь. И эти качества - важнейшие в жизни..." "Воля и честь", - повторил я про себя. - Ты скажешь, что тут есть много неясного, - продолжал Власенко. Согласен. Но вот штука: нет никаких свидетельств, что они имеют прямое отношение к делу Виктора Добротвора. Мафия, заговор... Здорово попахивает эдаким романчиком в духе Джона Ле-Карра о шпионах и тайнах. Уж не задумал ли ты чего такое сотворить? - Не мути воду, Толя, без тебя тошно... - Брось, старина, ну, знал ты парня, а он оказался не таким, каким мы его себе представляли. Жаль, боксер он действительно от бога... Посмотрел бы, как он здесь дрался! - Видел по телеку. - По телеку! Я заплатил шестьдесят долларов за билет на финальные поединки, а из-за Добротвора - ведь его история была широко прокомментирована местными стервятниками пера - народ повалил, как сумасшедший. За билет просили пять-шесть номиналов, понял? А Добротвор просто-таки покорил публику... Но, видишь, есть в медалях и оборотная сторона... - Ладно, Толя, каждый из нас останется при своем мнении, но если ты... - Ой! - Власенко испуганно вскочил на ноги. - Черт! Сколько раз говорил себе ставить плиту на автомат... - Он ринулся на кухню, где у него была фирменная плита "Дженерал электрик", он мне еще хвастался, что она умеет все: варить, жарить, подогревать, сушить, выключаться в нужный момент и даже будить пронзительной сиреной зазевавшуюся хозяйку. - Нет, порядок, гусь что надо, пальчики оближешь. Настоящий рождественский! Наливай! - Так вот, Толя, - продолжил я, когда ароматно парующий, покрытый золотой корочкой, истекающий янтарным жиром гусь был торжественно водружен на блюде в центре нашего праздничного стола, - останемся при своих. Пообещай, если Джон снова обратится с просьбой передать мне письмо, ты это сделаешь. А чтоб не нарушать инструкций... - Власенко обидчиво взмахнул рукой - мол, ну, ты уже далеко заходишь! - Да, именно чтоб не нарушать инструкций и не ставить тебя в неловкое положение, прошу обязательно вскрывать и читать. О'кей! - Ладно, чего уж проще. Гусь остывает... Я возвращался в Москву в аэрофлотовском Иле, полупустом в это время года, и стюардессы просто-таки не знали, чем нас удивить - мы пили, ели, слушали музыку за всех не полетевших пассажиров; узнали, что в Москве минус 18, но снега нет и не предвидится. Меня же больше интересовало, успею ли во Внуково, чтобы без задержки улететь в Киев, и мысли уже были далеко отсюда - нужно было решать, куда пойдем с Натали встречать Новый год...ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРОЛЬ К ИСТИНЕ
И кружил наши головы запах борьбы... В.Высоцкий
1
Мне тогда крепко не повезло: ровно за две недели до официальных стартов на международных состязаниях в Москве, объявленных для нас тренерским советом сборной контрольными, жесточайшая ангина с температурой 40 градусов и полубессознательным состоянием свалила с ног. Дела мои в том году и без этой неприятности складывались далеко не безоблачно. Поражения следовали куда чаще, чем редкие, неяркие победы. Поговаривали, что я первый кандидат на списание из команды. Меня это, естественно, не устраивало по двум причинам: во-первых, потерять госстипендию, выплачиваемую Спорткомитетом, значило солидно подорвать свою материальную базу, а до окончания университета оставалось ровно три года, во-вторых, Олимпиада в Токио влекла к себе непознанной таинственностью далекой, малопонятной страны где-то на краю света, где мне предстояло громко заявить о себе, - мое честолюбие, помноженное на просто-таки изнурительную работу на тренировках, было тому порукой. Лето пропало на бесконечных сборах и бесчисленных состязаниях. В Киев попадал на день-два, чтоб сменить белье, забрать почту у Лидии Петровны, она после гибели родителей осталась самым близким человеком, хотя никакие родственные узы нас не связывали - она была матерью моего школьного друга Сережки. Даже на летние военные сборы не поехал, что, как мне объяснили, сулило крупные неприятности по окончании вуза - можно было загреметь в армию. Но спортивное начальство уверило, что дело поправимо и мне нечего забивать голову подобными проблемами. "Твоя задача - плавать, а уж государство разберется, как компенсировать твои затраты", - объяснил старший тренер мимоходом. Он был человеком энергичным, не признающим преград, любил вспоминать при случае и без оного, как плавал сам в далекой довоенной молодости по Волге. "На веслах да на боку до самого Баку", шутил Китайцев. Его бескомпромиссность в вопросах тренировок кое для кого из нашего брата спортсмена закончилась плачевно: уверовав в опыт и авторитет "старшого", они вкалывали через силу, пренебрегая предостережениями врачей, и - сходили с голубой дорожки досрочно. Это, однако, не настораживало Китайцева: он считал, что слабакам в спорте вообще не место, а в плавании - тем паче, и продолжал экспериментировать и нахваливать покорных. К числу непокорных в сборной относились трое: Семен Громов, высокий, самоуверенный москвич, рекордсмен и чемпион страны в вольном стиле, потом - маленький, юркий, мягкий, на первый взгляд, стайер, плававший самую длинную дистанцию в 1500 метров Юрий Сорокин из Ленинграда и, наконец, я. Если кого и склоняли больше иных на разных тренерских советах да семинарах, так это нас, но избавиться от беспокойной троицы было непросто, ибо вопреки мрачным предсказаниям "старшого" мы вдруг в самый неподходящий для начальства момент взрывались такими высокими секундами, что ему оставалось лишь разводить руками и молча глотать пилюли. Хотя, если уж начистоту, о какой обиде могла идти речь, если мы своими рекордными результатами работали на авторитет того же тренерского совета и старшего тренера Китайцева? Когда подоспели эти очередные отборочные состязания (по-моему, это было в третий раз за летний сезон), объявленные самыми-самыми главными, после коих счастливцы уже будут считать дни до отлета в Токио и никто и ничто уже не лишит их такой привилегии, и Громов, и Сорокин успели уже, "выстрелить" рекордными секундами. Я остался в одиночестве, и московские старты действительно должны были расставить точки над "i". Тем более что мне не в чем было упрекать себя: плавал жестоко, как никогда, нагрузки были сумасшедшими даже по мнению тренеров сборной. Ольгу Федоровну в открытую упрекали в бессердечии, а мне предрекали жесточайшую перетренировку. Откуда им было знать, что Ольга Федоровна была в тех дозах не повинна: она чуть не со слезами на глазах упрашивала меня снизить нагрузки, не рвать сердце, подумать о будущем и т.д. А меня как прорвало - я чувствовал, что мне под силу и большее: наступил тот период - самый прекрасный в жизни спортсмена, - когда ты осознаешь свою силу, послушную воле, что диктует организму невозможное, и он выполняет приказы. На тренировках меня несло так, что я стал едва ли не панически бояться - не соперников, нет! - сквознячков, стакана холодной воды (а что такое июль в Тбилиси вам говорить, надеюсь, не надо?), чиха в автобусе, даже, кажись, недоброго взгляда. Нервная система была напряжена до предела, и даже Ольга Федоровна перестала меня донимать своими нравоучениями... И вот - ангина. Да еще какая! Срочно вызванный ко мне в гостиницу врач-отоларинголог, местное светило, сокрушенно покачал головой и сказал, как приговор вынес: "Э, генацвале, такой молодой, такой красивый, такой сильный, как витязь, и такой плохой горло! Как так можешь, а? Жить хочешь? Харашо жить, а не как инвалид, калека, у который сердце останавливается после первого рога хванчкары, хочешь?" Я увидел, что у Ольги Федоровны перехватило дыхание и она побледнела так, что врач-добряк посмотрел на нее и тихо спросил: "Что здесь, все больной? Не спортсмены, а целый госпитал..." Отдуваясь, как морж, светило изрекло: "Гланды надо вирвать, понимаешь? Нэт-нэт, не через год, не через месяц! Как только температур спадет, вирвать!" Вот и попал я вместо олимпийской сборной на операционный стол. Из команды меня поспешили списать, стипендию сняли. И остались мы с Ольгой Федоровной у разбитого корыта: она в происшедшем корила себя и потому не находила места, я же решил, что с плаванием следует кончать. Тут как раз и приспели зимние студенческие каникулы, и задумал я отправиться в горы, в неведомый поселок с поэтическим именем Ясиня, где работал инструктором на туристической базе "Эдельвейс" давний приятель гуцул Микола Локаташ. На лыжах я стоял в далеком детстве, да и то на беговых, но разве это способно удержать, когда тебе 20 и ничто и никто не держит тебя в родном городе, ведь с плаванием ты решил покончить окончательно и бесповоротно? В первых числах февраля я пересел во Львове в пригородный поезд и покатил средь белых равнин в Карпаты; народ в вагон набился такой же веселый и беспечный, как и я, мы пели, знакомились, дружно сидели за общим столом, составленным из рюкзаков, накрытых чьей-то палаткой. Кое у кого были собственные лыжи, другие надеялись разжиться инвентарем на месте, и тут я раздавал обещания, уповая на помощь Миколы, и это вскоре сделало меня чуть не вожаком компании. Единственное, что несколько охлаждало пыл ребят, так это мое упорное нежелание даже пригубить стакан белого столового, в изобилии закупленного по цене 77 копеек за пол-литра во Львове. Но свое спортивное прошлое выдавать я не стал, и потому мой безалкогольный обет вызвал поток реплик, шуток, но молодость не знает долгих обид, и вскоре меня перестали донимать. Честное слово, никогда я не чувствовал себя таким свободным и счастливым! Микола встречал меня на вокзале - поезд прибывал около десяти вечера, перрон освещался тускло, народу же вывалило сразу из всех вагонов чуть не полтысячи, и мой приятель, напуганный перспективой не найти меня, развопился на всю округу: - Олег! Олег! Кто-то, дурачась, взялся передразнивать его, и крики: Олег! Олежек! Олеженька!" раздавались тут и там, и мои попутчики первыми догадались, что ищут меня, и заорали хором: "Я здесь!" Микола вырвался из толпы - красавец в белом полушубке и ловких сапожках на толстом ходу, белоснежный свитер домашней вязки подпирал голову, подчеркивая буйную черную шевелюру. - Олег! - заорал Микола, как сумасшедший набрасываясь на меня. От него пахло дымком костра и какой-то пронзительной, буквально физически ощутимой чистотой. Я перезнакомил приятеля с моей компанией и тут же напористо потребовал, чтоб Микола дал слово снабдить ребят лыжами. Он тяжело вздохнул, заколебался, но я напирал, и он пообещал что-либо придумать, сославшись на массовый наплыв студентов и переполненность базы сверх меры. Но мой альтруизм не признавал границ, и я бросил своим на прощание: "Завтра с утра встречаемся на базе!" Микола приехал на высоких, резных розвальнях, куда был впряжен коротконогий, но крепкий конь с гривой, украшенной темными разноцветными лентами. Под заливистый и веселый звон бубенцов мы понеслись по темной улице села. Слева, высоко в горах, светились отдельные, похожие на звезды огоньки, и я с удивлением спросил у Миколы: "Неужто там люди живут?" Он подтвердил и добавил, что тех "гуцулов" ни за какие деньги в долину не сманишь, пацаны бегают ежедневно вниз - в школу и обратно, километров пять-семь в одну сторону, вот так. Локаташ определил меня жить к своей бывшей школьной учительнице. Полная, в платке, но без верхней одежды, степенная женщина так лучезарно улыбнулась мне, что на душе стало еще светлее, а жизнь - еще прекраснее. - Я вам комнату приготовила, в ней сын завсегда живет, да теперь он во Львове, в институте физкультуры учится, - сказала Мария Федоровна (так звали хозяйку). - Покатались бы вы вместе, да только нынче на каникулы он не приедет - на соревнования на Чегет подался, - произнесла она сокрушенно. И меня тоже что-то кольнуло в сердце, и настроение как-то подупало, осело, точно волна в горной реке, миновав водопад: я вспомнил, что в это самое время товарищи по сборной тренируются в бассейне, готовясь к Токио... Комната понравилась - чистая, хорошо протопленная, кровать высокая, с периной вместо одеяла. Кажется, шел седьмой день моего пребывания в Ясинях. С помощью Миколы я довольно сносно скатывался с невысокой горки за железной дорогой под названием Костеривка, и деревянные мукачевские лыжи для прыжков с трамплина с полужестким, опять же прыжковым креплением, окантованные стальными полозьями, подчинялись мне без сопротивления. С десяти утра и до самого обеда я торчал на Костеривке, а вечером до упаду плясал рок на базе у Миколы. У него оказались две знакомые девушки из Ленинграда, и мы славно коротали вечера. Но с каждым днем на сердце все тяжелее наваливался какой-то невидимый камень: он портил вдруг настроение, заставлял просыпаться посреди ночной тишины и лежать без сна, без причины - так думали мои приятели - вдруг срываться с места и уходить бродить в одиночку по пустынным, морозным задворкам поселка. "Это на него лунный свет действует, - смеясь объяснила девушка из Ленинграда. - Лунатик!" Эта кличка приклеилась ко мне намертво. Я не сопротивлялся: Лунатик так Лунатик, тем более что мне действительно нравилось гулять в серебристом мире ночного светила, любоваться ровными белыми дымами, тянувшимися вверх, и думать... о плавании. Да, я стал думать о тренировках и о том, что было, спокойно, без паники и обид. Где-то в глубине души зрела сила, что в один прекрасный миг сбросит с сердца ненавистный камень, и я обрету раскованную, спокойную уверенность в правильности избранного в спорте пути. А когда наступит это озарение, прозрение, открытие - называйте, как хотите, возвращусь в Киев и как ни в чем не бывало приду в бассейн. Ну, и что с того, что сняли стипендию, то есть формально отлучили от плавания, - разве за деньги плаваю? Пустяки, что вывели из сборной и теперь другие готовятся выступить на Олимпиаде в Токио: ведь до стартов, считай, девять месяцев, да и сам Китайцев, вручая мне "вердикт" об отчислении, пообещал: "В сборную дверь ни для кого не закрыта..." Я не торопил будущее, терпеливо ждал, давая взмутненным волнам в моей душе отстояться до кристальной чистоты. В то утро проснулся затемно. За окном наливался небесной синью свежий, выпавший ночью снег. Дышалось легко, сердце билось неслышно, но кровь уже бурлила в жилах, в каждой клеточке. Я рывком вскочил, натянул на босу ногу сапоги и выскочил в одной майке и трусах во двор. Размялся до пота, неистово и самозабвенно. Растерся снегом - лицо, плечи, грудь, и раскаленные капельки воды прокладывали жаркие русла по телу. Позавтракав, торопливо собрался и, никому не сказав ни слова, потопал вверх на Буковинку, гору на противоположной стороне долины, давно запримеченную с Костеривки;там зеленел высокий лес, кривились под снежными шапками стожки пахучего сена и влекла, звала длинная лыжная дорога вниз. Я, разгоряченный подъемом, притопал на место, на самую вершину, к полудню, когда солнце припекало по-летнему, сбросил с плеча тяжелые лыжи и плюхнулся в снег под стожком, надежно прикрывавшим с севера, откуда нет-нет, да резанет ледяной февральский ветер-забияка. Я полулежал в снегу, и солнце обжигало лицо, и оно горело жарко, и мне довелось остужать его снегом, и ледяные ручейки забегали за ворот свитера, но мне лень было даже пошевелиться. Я думал о том, что непременно поеду в Токио и буду блуждать по его улицам, забредать в синтоистские храмы и непременно сыграю в пачинко, чтоб узнать, действительно ли это так мерзко, как писали некоторые журналисты, возвратившиеся из Японии и взахлеб излагавшие в путевых заметках, опубликованных в "Вечерке", свои негативные впечатления. Когда холод незаметно вполз сквозь невидимые щели под свитер и закоченели ноги, я без колебаний поднялся, затянул крепления, занял стартовую позу и, прежде чем кинуться вниз, глазами ощупал будущую трассу, и... сомнения вползли в душу. Мне никогда прежде не доводилось скатываться с такой высокой горы. А, была не была! Я понесся вниз и потом, когда все было позади, вспоминал, вновь и вновь переживая ощущения ужаса и счастья, когда лишь чудом удерживался на ногах на крутых изломах, как вписывался в узкие проходы в заборах из колючей проволоки, игораживающей поля крестьян, как подбрасывало вверх на невидимых трамплинах и я летел в воздухе с остановившимся сердцем; как оторопели, а затем кинулись врассыпную туристы, тянувшиеся вверх, когда я заорал не своим голосом: "С дороги!", несясь на бедолаг, точно курьерский, сорвавший тормоза; как почувствовал - еще минута, и ноги сами собой, не повинуясь мне, подломятся от усталости, ножевой болью пронзавшей мышцы, и я покачусь, теряя лыжи, палки, самого себя... Но я устоял, и сердце налилось отвагой. Да разве есть сила, которую мне не одолеть?! Когда однажды появился я в Лужниках, меня встретили, будто пришельца с того света: ведь я не выступал нигде на крупных соревнованиях с того самого прошлогоднего тбилисского сбора. Мои "заместители" в команде, пустившие глубокие корни самоуверенности, пробовали сопротивляться лишь на первой сотне метров, а затем я ушел вперед и финишировал первым, и рекорд был самым веским аргументом, выдвинутым в оправдание своего столь долгого отсутствия. В Токио я был в прекрасной форме, и не будь мое внимание сосредоточено не на том, на ком было нужно, не прозевал бы я рывок долговязого американца, унесшего из-под самого моего носа золотую медаль... Впрочем, разве в этом дело? И вот спустя двадцать лет я снова лечу в Японию. Гаснет за иллюминатором прямо на глазах горячечный отсвет уходящего солнца, и горизонт наливается сочной, плотной чернотой, от нее невозможно оторвать глаза. Есть в этом поднебесном мире, непонятном и таинственном для человека, как далеко не летал бы он в космос, неизъяснимое, притягивающее и зовущее, непонятное и не объясненное еще никем могущество... - Поспим, ночь на дворе, - пробормотал, сладко зевнув и потянувшись, сосед справа, заглядывая через мое плечо в иллюминатор. На меня пахнуло чем-то сладким, приторным - не то лосьоном после бритья, не то духами далеко не мужского качества. Впрочем, он всегда любил все броское: костюмы и рубашки, галстуки и носки, хотя нельзя отказать ему во вкусе. Вот и опять он в новеньком, с иголочки, светло-сером костюме-тройке, в модной рубашке с серебряной иголкой, скрепляющей воротничок. Мы с ним одногодки, но выглядит он куда солиднее - круглое, как надутый воздушный шарик, лицо, редеющая шевелюра без единого седого волоска аккуратно зачесана; слова не произносит - цедит солидно, веско, каждое - точно на вес золота, так, я уверен, думает он. Есть категория людей, не нуждающихся в представлении: глаз сразу выделит такого из числа других - он может занимать пост в горисполкоме или в Госплане, быть редактором газеты или секретарем республиканского комитета профсоюза, спортивным деятелем союзного масштаба или сотрудником Госкино... Есть у всех одна объединяющая черта - некая обособленность, отъединенность от иных, не обремененных высокими заботами, кои выпали на их долю. Нет, это отнюдь не свидетельствует, что человек худ или глуп, неумен или болезненно самолюбив; среди этих людей встречается немало хороших, деятельных личностей, коих объединяет с остальными, им подобными, разве что общая внешняя форма... Об этом тоже не скажешь ничего плохого. Я его помню еще по университету, хотя и учились мы на разных факультетах: он - на юридическом, я - на журналистике. Но выступали в одной команде - он плавал на спине где-то на уровне твердого, что по тогдашним временам считалось хорошим достижением, второго разряда. Дружить не дружили, но за одним столом сиживали, отношения складывались ровные и позже, когда после окончания курса обучения ушли работать: я - в редакцию "Рабочей газеты", а он - в райком комсомола. Потом занимал пост в горспорткомитете, откуда его повысили до зампреда республиканского совета спортивного общества, а вот уже три года он обитает в Москве, в ЦС. Кто его знает, но скорее всего сыграло роль, наше многолетнее знакомство, потому что именно к нему я позвонил первому, когда случилась эта история с Виктором Добротвором, и он сразу, без каких-либо отговорок, пожалуй, даже с явной радостью согласился встретиться. Ну, а уж разговор я запомнил на всю оставшуюся жизнь, это как пить дать. - Сколько лет, сколько зим! - воскликнул он, выходя из-за стола, улыбаясь самой дружеской улыбкой, и поспешил мне навстречу по рубиново-красной ковровой дорожке своего просторного, с четырехметровой высоты потолком кабинета. Он блестяще смотрелся на фоне стеллажа во всю стену, уставленного кубками, вазами, памятными сувенирами, испещренных надписями на разных языках народов мира - крепкий, солидный, розовощекосвежий - ни дать ни взять только что из сауны. - Привет, Миколя, - по старой студенческой привычке обратился я, и легкая тень проскользнула по его приветливому лицу. - Без дела заходить не люблю, а по-дружески, кто его знает, как встретишь. - Скажешь такое, Олег Иванович! - Он назвал меня по имени-отчеству? С чего бы это? И почему он знает мое отчество? Такое начало заставило насторожиться. - Мы ведь одним миром мазаны, - продолжал он. - Сколько лет выступали в одной команде, разве такое забывается? - Мы, я это знал доподлинно, вместе выступали не так уж часто - на первенстве города среди вузов раз в году да однажды, кажется, на Всесоюзной студенческой спартакиаде... - Как говорится, что было.. - Нет, нет, мы должны всегда и во всем помогать друг другу, как там говорят на нашей Украине, - спилкуватыся! Ну, а как же иначе? - Он все еще излучал радушие. Обошел стол, водрузил себя в кресло, привычным начальственным жестом указав на стул за длинным столом для совещаний, примыкавшем к его полированному "аэродрому" с полудюжиной телефонных аппаратов слева. Я вспомнил, как однажды мой приятель-американец был поражен таким обилием телефонов и не мог взять в толк, каким это образом можно говорить сразу в несколько трубок. Ну, то их, американские, заботы... Как я понял по столь быстрому согласию на встречу, ты действительно помнишь старое... Спасибо. Как живешь-можешь в Москве? - Белка в колесе, - охотно пожаловался он. - Слуга всех господ, да-да. Ведь у меня студенческий спорт - от Сахалина до Риги, прибавь еще выход в мир, сам знаешь, наши соревнования с каждым годом приобретают все больший размах и авторитет. Вот, кстати, Универсиада в Кобе представительство, считай, не слабее Олимпиады в Лос-Анджелесе. Американцы, так те просто все пороги обили - интересовались, поедем ли мы в Кобе. Вишь, как наш бойкот их Игр обеспокоил, забегали, паршивцы! - Что касается нашего отсутствия в Лос-Анджелесе, не лучший был выбран вариант. - Как это понимать? Нет, тут ты мне не совет - зто было политическое решение. Этим мы хотели показать тем силам, что стояли за Рейганом накануне выборов, что мы никаких дел иметь с ним не желаем. - Достигли же обратного эффекта - шовинизм вырос в Штатах до неимоверных размеров, и Рейган буквально разгромил остальных претендентов на Белый дом. И "блестящая" победа американцев на Олимпиаде - тоже сослужила неплохую службу в этом. Нет, ты меня прости, но Олимпийские игры были задуманы как средство объединения народов и без того разъединенных границами, языками, политическими системами, военными блоками и т.д., а уж не как способ усиления конфронтации! - Ну, Олег Иванович, вы ведь против официальной линии идете, - мягко, но очень-очень холодно произнес он. - Ну да не на партсобрании... Ведь ты не за тем пришел, чтоб обсуждать дела минувших дней. Кстати, ты в Кобе будешь? - Собираюсь. - Лады, увидишь нашу Универсиаду - стоящее зрелище, я тебе скажу. Слушаю тебя. Самым внимательным образом. - Николай, ты в курсе дел Добротвора. Ему нужно помочь. - Добротвору? А какое отношение мы к нему или он к нам имеет? - Виктор Добротвор вырос в обществе, работал на него - на его славу и авторитет... - Сраму до сих пор не можем обобраться! - Он явно был раздражен, но пока сдерживал себя. - Пусть скажет спасибо, что в тюрьму не угодил. - Не спеши. Я не пытаюсь оправдать его поступок никоим образом. Но ведь нужно протянуть человеку руку, чтоб он окончательно не свернул на дурную дорожку... У него сынишка во второй класс пошел, живет с ним, потому что жена ушла еще два года назад... - Видишь, жена раньше других раскусила его! А ты защищаешь... - Да не защищаю - жить-то ему нужно, а из университета, где он работал почасовиком на кафедре физкультуры, его уволили. - Правильно поступили. Таким ли типам доверять воспитание молодежи? На каком примере? На предательстве интересов страны? - Не перегибай, Николай, не нужно. Тем более в его истории есть еще неясные мотивы... - После этих моих слов он совсем озверел и едва скрывал свое настроение. - Неясные, для кого неясные? - Для меня! - Извините, Олег Иванович, а вы, собственно, какое имеете отношение к Добротвору? Кажись, юридический не кончали, и мне странно видеть вас, известного спортсмена, уважаемого публициста, в роли адвоката... преступника. П-Р-Е-С-Т-У-П-Н-И-К-А! - Вы ведь юрист, конечно же, знаете, что называть человека преступником без приговора суда нельзя? - Я попытался сбить накал страстей - не затем, вовсе не затем явился в этот кабинет. - Для меня, для всех честных советских людей он - преступник, и иной оценки быть не может, и закончим эту бесплодную дискуссию. - Согласен, закончим. Но я прошу помочь Добротвору с работой. Ему нужно жить, кормить и одевать, воспитывать, в конце концов, сына. А никто не хочет палец о палец ударить, чтоб дать человеку подняться. Ну, оступился, не убивать же его! - Общество, наше спортивное общество, никакого отношения к Добротвору не имеет. Мы не знаем такого спортсмена. - Голосу его мог позавидовать прокурор. - Вон за твоей спиной кубок, да-да, тот, с серебряной розой на овале! Он завоеван Виктором Добротвором на первенстве Европы. И прославлял он не одного себя - весь наш спорт. Почему же так легко сбрасываем человека со счетов, вычеркиваем из жизни? Разве не такие, как Виктор Добротвор, своими успехами, своим трудом - тяжким, нередко опасным для здоровья - не работали на нас всех, на тебя, Миколя? В конце-концов, он твою зарплату тоже отрабатывал. Не по-нашему, не по-советски поступаете: вышел спортсмен в тираж - и скатертью дорога. А как мы молодежь будем звать в спорт, чем привлекать? Выжали и выбросили? - Я еще раз повторяю, Олег Иванович, не по адресу обратились... - Его не пробьешь, как это я не догадался сразу, едва вступив в кабинет и увидев то неуловимое, что выдает, выделяет среди других людей начальников, уверовавших, что кресло обеспечивает им беспрекословное право распоряжаться судьбами людей... - Жаль. Жаль потраченного времени. - Я вышел не попрощавшись. И вот теперь мы летим в одном самолете, сидим рядом, и он ни словом, ни взглядом не напомнил о том полугодовой давности разговоре. А я его не мог забыть - и все тут. Как не мог забыть ничего, малейшей детали добротворовской истории, в которую был втянут волей случая, а теперь уже не мог представить себе отступления, в какой бы благоприятной форме оно не состоялось...2
Тогда, поздним декабрьским вечером 1984 года, я позвонил Виктору Добротвору буквально через пять минут после того, как переступил порог дома. Никто долго не брал трубку, и я уже подумал, что Виктор ушел, когда раздался знакомый низкий, чуть хрипловатый баритон. Но как он изменился! Мне почудилось, что я разговариваю со смертельно больным человеком, подводящим итог жизни. У меня спазм сдавил горло, и я не сразу смог ответить на вопрос Добротвора: - Что нужно? - Здравствуй, Витя, это Олег Романько. Я только что из Монреаля, хотел бы с тобой встретиться. - Зачем?. - Нужно поговорить с тобой. - У меня нет свободного времени. - Виктор, да ведь это я, Олег! - Cлышу, не глухой. - Я еще раз повторяю: мне крайне нужно с тобой встретиться. Кое о чем спросить. - Возьмите газету, там есть ответы на все ваши вопросы, - прохрипел Добротвор и повесил трубку. - С кем это ты? - спросила Наташка, увидев мое вконец обескураженное лицо. - Что с тобой, Олег? - Я разговаривал с Виктором Добротвором. - Это с бывшим боксером? Я сохранила для тебя газету, ты прочти, меня статья просто убила. Как мог такой великий спортсмен так низко пасть! - Не нужно, Натали, не спеши... Ему и без твоих слов, без твоих обвинений плохо... А я не уверен, что дело было так, как сложилось нынче... - Я ничего не понимаю. Ты прочтешь статью, и мы тогда поговорим, сказала Наташа мягко, и в голосе ее я уловил тревогу, и это было хорошо, потому что очень плохо, когда чужая беда не задевает нас. - Я - на кухню ужин готовить, о'кей? - О'кей! - сказал я и рассмеялся, потому что теперь наконец-то почувствовал себя дома, это словечко было у нас с Наткой как добрая присказка, объединявшая наши настроения. - Где газета, подруга дней моих суровых? - У тебя на столе, в кабинете. Так я пошла? - Вперед, за работу, товарищ! Я обнаружил статью сразу, едва заглянул на четвертую страницу. Заголовок на полполосы вещал: "Взлет и падение Виктора Добротвора". Чем дальше читал, тем сильнее поднималась волна раздражения и возмущения на автора, впрочем, не на него самого, - на его кавалерийский темп, на его разящую саблю - до чего безответственно и лихо он ею размахивал. И каждое слово причиняло мне боль, ведь я это знал по себе одинаковые слова могут быть по-разному окрашены, и палитра у журналиста никак не беднее, чем у живописца. А когда один-единственный черный-черный цвет, это угнетает, рождает чувство протеста - в самой темной ночи есть просветы, нужно только уметь видеть. Правда, спорт для него всегда был тайной за семью печатями. Бывший саксофонист, он в свое время написал письмо в редакцию о неблагополучных делах с физкультурой среди музыкантов; письмо опубликовали в газете. Видно, это дало автору такой мощный эмоциональный заряд, что вскоре он забросил свою трубу, а заодно и распрощался с джаз-бандой, и вскоре фамилия А. Пекарь замелькала на страницах газеты, впервые приютившей его. Он писал бойко, смело берясь за самые сложные темы, но от его писаний за версту несло холодом стороннего наблюдателя, если не сказать - бесстрастного судьи. Увы, в спортивной журналистике такие почему-то встречаются нередко... "Один ли он виноват в этом, - подумал я. - Не учили ли нас, не воспитывали на конкретных примерах, что врага (а кого мы только не записывали в этот разряд!) нужно разоблачать, здесь любые средства - благо, благо для других, кто должен учиться на таких вот фактах ненавидеть ложь, двоедушие, измену, своекорыстие, отход от выверенных оценок и наперед определенных дорог! Мы и по сей день считаем, что с отступниками любого ранга, а Виктор Добротвор был именно отступником, нужно рассчитываться жестоко, чтоб другим неповадно было..." Я вспомнил последний в жизни Добротвора бой, и монреальский ринг выпукло предстал перед глазами; и Виктор - само благородство, сама утонченность и мужество одновременно, легко пляшущий перед соперником, наносящий ему точные, но не убийственные удары, хоть одного единственного хука было бы достаточно, чтоб уложить обессиленного, измочаленного схваткой Гонзалеса на пол. Даже местная публика, воспитанная на жестокости профессионального ринга, не раз взрывавшаяся негодованием, топотом и свистом толкавшая боксера на последний, убийственный удар, так и не дождавшись кровавой драмы, в конце концов оценила благородство Виктора Добротвора и стоя приветствовала победителя. Автор же, рисуя характер Добротвора, не мудрствуя лукаво, писал: "Этому человеку рукоплескали тысячи и тысячи зрителей у нас в стране и за рубежом, славя в его лице благородство и чистоту советского спорта, видя в нем пример нового человека, воспитанного партией, всем укладом нашей жизни. А в душе у чемпиона уже зрели плевелы плесени, что день за днем поражала сердце, мозг; ему всего было мало - квартиры в центре города, полученного вне очереди, легкового автомобиля, тоже предоставленного по первому требованию, денег, и немалых денег, коими оплачивались его золотые медали; наше общество не скупилось на высокие оценки его труда. Но перерождение наступило..." Приводились и высказывания людей, близко соприкасавшихся с Добротвором. Старший тренер сборной Никита Викторович Мазай, пожалуй, был единственным, кто остался сдержан и даже взял часть вины на себя: "Мы видели в нем лишь великого боксера, но, наверное, где-то, когда-то проглядели человека, в этом и наша, тренеров, вина. Что и говорить, в последние годы все мы больше уповаем на результат спортсмена и меньше стремимся "лепить" его душу. Хотя, если откровенно, для меня поступок Добротвора ("Он не сказал: преступление", - отметил я про себя) полнейшая неожиданность. Наверное, это тем более суровый урок для тренеров: нужно всегда быть начеку, уметь вовремя заметить дурное и удержать человека от падения..." Зато Семен Храпченко, ездивший с Виктором в Канаду, был предельно критичен: "Не могу простить себе, что жил с этим человеком в одной комнате на сборах, радовался, когда удавалось вместе поселиться и за границей. Он был моим идеалом, и такое разочарование. Таких, как Добротвор, на пушечный выстрел нельзя подпускать к нашему спорту. Может, и слишком резко звучит, но для меня он - предатель!" Семена я тоже знал, правда, не так хорошо, как Виктора, но много лет наблюдал за его спортивной карьерой. Многие считали его осторожным боксером-тактиком, а мне он почему-то виделся просто трусливым, это особенно явственно проявлялось, едва он убеждался, что легкой победы не будет. А в Канаде? Более позорного зрелища я не видел: Храпченко просто бегал от соперника, не давая тому приблизиться на удар... Впрочем, это все не имело никакого значения. Вечером, когда мы с Наташкой вконец устали друг от друга, от утоленного чувства переполнявшего нас счастья, настроение у меня вдруг беспричинно испортилось. Я не сразу раскусил, в чем тут дело, но разгадка лежала на поверхности: у меня из головы не шла та статья. Я представил, что чувствовал Виктор Добротвор, вчитываясь в черные строки... На следующее утро я позвонил Савченко из своего редакционного кабинета. - Прилетел? Ну, заходи. Когда буду? Целый день, только с пятнадцати тридцати до восемнадцати - коллегия. После шести буду - доклад нужно готовить, в Днепропетровск еду, - проинформировал меня Павел Феодосьевич. Ледяной воздух гулял по кабинету Савченко - окно, как обычно, распахнуто чуть не настежь, несмотря на морозец, потрескивавший легким снежком под ногами. Я первым делом решительно захлопнул раму. - Вот эти мне неженки! - добродушно пробурчал Савченко. - А еще спортсмен! - Бывший, это раз. Во-вторых, еще со времен спорта боюсь сквозняков. - Закаляться надо. Как долетел? - Прекрасно. - А мы сели вместо Москвы в Киеве, два часа торчали, а потом Москва открылась и мы приземлились во Внуково. - В Шереметьево... - Нет, Шереметьево было по-прежнему закрыто, во Внуково. Ну что, оценили наше выступление на пять баллов, высший класс. Я полагаю, ребята заслужили такую оценку, сумели собраться, постоять за себя, как и нужно советским спортсменам. - Я давно обнаружил за Павлом эту привычку: разговаривать даже с близкими ему людьми, словно выступая перед большой аудиторией. Сначала недоумевал, потом понял: должность накладывает отпечаток даже на такого неординарного человека, как Савченко. - Оценка, бесспорно, заслуженная. Три из четырех золотых выиграть такое нам давно не удавалось. Паша... - Я сделал паузу. - Расскажи, что решили с Виктором Добротвором. Он помрачнел. - Сняли звание заслуженного, пожизненная дисквалификация со всеми вытекающими... - Разобрались? В чем причины, как он на это решился? - Что там разбираться! Сделал - получи. - Голос Савченко был жесток и обжигал, как декабрьский мороз. - Что же теперь ему делать? - Что и все люди делают. Работать. - А возьмут? - Тренером? - Савченко замялся. - Пока не хотят... - Ты мне обещал, что разберешься в этой истории... - Уже разобрались... - Паша, ты ведь знаешь, что он не преступник, не было за ним никогда ничего подобного! Даже малейшего отступления - никогда! Ты же помнишь, а если забыл об этом, позвони - пусть зайдет гостренер по боксу, начальник управления международных связей, спроси их, были ли какие сигналы, нарекания на его поведение дома или за границей. Это же нужно учитывать, нельзя смахивать человека, как проигранную пешку с шахматной доски! - я чуть не кричал. - Успокойся. - Странно, но мой тон, мое возбуждение подействовало на Савченко, как вода на огонь. Голос его зазвучал привычно. - Раз обещал значит, постараюсь помочь Добротвору. Пусть работает, реабилитирует себя, опыта ему не занимать. Забегая вперед, скажу, что ни Савченко, ни мне, ни еще кое-кому, кто продолжал интересоваться судьбой Виктора Добротвора, так и не удалось помочь: туда, куда его скрепя сердце брали по нашим настойчивым просьбам и уламываниям, он не шел, там, куда пошел бы, не хотели и слышать о нем. В конце концов Виктор Добротвор заделался грузчиком в мебельном магазине на Русановке. Пьяным его не видели, хотя до меня и долетали слухи, что он пьет... Да все это было еще впереди. Прежде же мне удалось встретиться с ним.3
Несколько дней подряд настойчиво, с раннего утра, перед тем как убежать на пятикилометровый кросс по склонам Владимирской горки, мимо Андреевской церкви, величаво плывшей в вымороженном синем небе, вниз к Подолу и обратно, я набирал номер телефона Виктора; потом в течение дня и до одиннадцати - позже совесть не позволяла - названивал, но безрезультатно. Отвечал обычно тонкий детский голосок: "Папы нет, он на работе. Звоните, пожалуйста, еще". Однажды, это было уже после Нового года, я услышал в трубке хриплый добротворовский голос: - Слушаю... - Виктор, это Романько. Мне нужно с тобой переговорить. Хватит играть в молчанку. - Приходите. - Когда? - Да хоть немедля... - Я выезжаю. - Давайте. Виктор Добротвор жил в одном из новых домов, что построили на Печерске на месте старинного ипподрома, в свое время едва ль не самого известного во всем Киеве. От тех времен уберегли лишь красивое, в стиле украинского барокко, длинное здание, своими утонченными формами, портиками и колоннами резко контрастировавшее с современными бетонными коробками. В просторном вестибюле - вполне можно было соорудить небольшой спортзал - чисто, ни битых тебе стекол, ни ободранных стен. Лифт подкатил неслышно, внутри кабины уютно, половичок под ногами, зеркало на стенке, приятный аромат не то део, не то хорошего табака. Появился Виктор в этом доме не сразу, до него ни один спортсмен не жил здесь прежде. Но высокий авторитет Добротвора в конце концов сыграл-таки роль, и он получил трехкомнатную квартиру на десятом этаже, окнами прямо на золотые купола Лавры. Когда я позвонил, дверь долго не открывали. Я даже обеспокоился, а не сыграл ли Виктор со мной шутку: пригласил, а сам удрал. Но тут щелкнул замок. - Входите. - Привет, Витя... - Здравствуйте, Олег Иванович! В продолговатой прихожей, отделанной деревом, обожженным паяльной лампой, а потом покрытым лаком, было пусто, точно хозяева устроили генеральную уборку или собрались переезжать; не было даже элементарной вешалки - Виктор взял из моих рук дубленку и повесил на один из трех больших, сантиметров по пятнадцать, гвоздей, вбитых в доски. Под высоким потолком, тоже отделанным "вагонкой", ярко светила лампочка без абажура ватт на сто пятьдесят, заливая коридор белым светом. В ее лучах Виктор показался мне бледным, с нездоровым цветом лица, темные заливы под настороженными, усталыми глазами, словом, будто человек перенес тяжелую болезнь. - Проходите, - пригласил Виктор и рукой показал на открытую дверь в комнату. - Кофе? - Лучше чай, на дворе морозец что надо. - Можно чай. Никогда мне не приходилось видеть такую неприглядную обстановку. Огромная, с двумя широкими окнами (одно выходило на лоджию) комната была пуста - хоть шаром покати, если не считать убогого стула с плоским дерматиновым сидением и двух коек-раскладушек, аккуратно прикрытых зелеными тонкими, но новыми одеялами. На подоконниках горой лежали книги, учебники, сиротливо жались к стеклам кубки. На полу, блистающем новеньким лаком, - ни дорожки, ни ковра. Опять же лампа под потолком - без абажура. Виктор появился с двумя гранеными стаканами без подстаканников с густым черным чаем. Под мышкой он зажимал начатую пачку прессованного рафинада. - Извините. Можно поставить на подоконник или вот - на стул, - без тени смущения сказал Виктор. - Садитесь прямо на кровать. Не удивляйтесь, это работа Марины. - Марины? Да ведь, кажется, ты давно развелся? - Верно. Она отправилась к матушке с батюшкой, у них, слава богу, на троих пять комнат. Видно, обстановки не хватило, вот она и забрала, горько пошутил Добротвор. - Ничего не понимаю. Ведь она оставила тебе сына. - А тут и понимать нечего. Как вся эта история приключилась, Марина и заявилась, в наше отсутствие, правда, и все подчистую увезла, посуды - и той не оставила. Мы с Зорькой уже приспособились, ничего. Сына Виктора назвали редким именем Зорик, Зарий Викторович; это была затея Марины, пронзительно красивой брюнетки со злыми, недобрыми глазами. Когда она смотрела на тебя, ты чувствовал себя неуютно под этим пронизывающим взглядом. Но для Виктора не существовало женщины прекрасней... - Да как же она?.. - Это пустяки, правда, и с деньгами она посадила нас с Зорькой на мель - до последнего рубля сняла с книжки. Но ничего, вот-вот продам "Волгу", покупатель уже сыскался, не пропадем. Я позвонил ей сначала, подумал, честное слово, ограбили, говорю так и так, Марина. Она просто сказала: это я забрала, ты теперь пить станешь, а ценности все - Зорика. С чего она решила, что пить начну? Я вообще, кроме кофе да чая, никаких крепких напитков не употреблял, а тут - пить! Странная она... Мне стало до того обидно за Виктора Добротвора, что забыл, зачем и явился. Но Виктор напомнил. - Вы о чем-то хотели спросить, Олег... - Скажи, Витя, только как на духу: кто, а может, что толкнуло тебя на этот безрассудный шаг? Я обрадовался, когда он назвал меня по имени, решив, что Виктор снова, как в прежние времена, расположен ко мне и разговор получится откровенный. Но ошибся. - Олег Иванович, в тридцать человек сам выбирает поступки. Правда, говорят, что еще блаженный Августин, коего чтят как первого христианского философа, утверждал: человек творит дела свои помимо воли своей, и вообще уверял, что в основе нашей жизни лежит грех. - Бог с ним, с Августином. Я тебя хотел услышать. - Я не молчу, говорю. Но ничего нового к уже известному добавить не могу. - Ни тогда, ни теперь не верю, чтоб Виктор Добротвор мог сотворить такое с холодной головой, заранее рассчитав прибыли и степень риска! неумолимо возразил я. - И на том спасибо. - Твое молчание и нежелание помочь разобраться в этой истории друзьям, тем, кто хотел бы помочь тебе, не идет на пользу ни тебе, ни твоему сыну... - Сына вы не трожьте! - Голос Добротвора дрогнул, но не задрожал, а зазвенел, как сталь. - Не трожьте! С остальным - сам разберусь... Уж поверьте мне... - Что ты заладил: сам, ничего не нужно! - взорвался я и тут же пожалел об этом. - Олег Иванович, посидели мы с вами, чайком побаловались - и до свиданья. Мне более признаваться не в чем. Подонок и предатель Добротвор, чего тут голову сушить! Мне осталось только подняться, сказать как можно мягче, без обиды, хотя она так и клокотала в груди: - Будь здоров, Витя. Если что нужно, не стесняйся, я всегда готов помочь. - Нет, не нужно. Спасибо, но не нужно. В дверях я обернулся: Виктор застыл в проеме, чуть не подпирая головой перекладину, - в синем тренировочном костюме с буквами "СССР" над сердцем, крепкий, статный, гордый, но не сломленный и не раздавленный случившимся. И это гордое спокойствие, сквозившее в его взгляде, уверенность, с которой он держался, снова обеспокоили, разбередили душу. Да полноте, человек, свершивший столь страшный поступок, не способен так открыто смотреть людям в глаза! Нет, не может! Больше мы с Виктором не встретились... Я летел в Кобе, на Универсиаду, но мысли были не о будущих соревнованиях, не о предстоящей встрече со страной, к которой испытывал смешанное чувство любви и разочарования: любви, потому что она поразила меня своими доброжелательными и приветливыми людьми, аккуратностью и порядком, крошечными садиками с камнями, рощами и водопадами, удивительно естественно уживавшимися на нескольких квадратных метрах площади, домиками без внутренних стен, олимпийскими сооружениями и даже обгоревшей, черной вершиной Фудзи, почитаемой верхом совершенства и красоты; разочарования, потому что все здесь выглядело в моих глазах немым укором нам, что мы так расточительно самонадеянны и самоуверенны, и розовые очки буквально приросли к нашим глазам, мешая трезво рассмотреть окружающий, пусть и не наш мир, где тоже немало творений рук человеческих, заслуживающих понимания, уважения и, возможно, наследования их опыта для нашей же пользы... Мысли крутились вокруг двух писем-докладов, полученных от Джона Микитюка, привез их в Киев Власенко, прилетевший из Канады навестить мать. Он завалился ко мне в редакцию где-то около двенадцати, а уж дышал свежим коньячным духом, настроение у Анатолия было безоблачным и любвеобильным. Он долго и радостно тискал меня, а мне было немного жаль его, потому что на моей памяти было немало ребят, начинавших с праздников, а потом терявших над собой контроль и в будни. Многие из них уже на Байковом... Мне стало как-то неловко, даже стыдно (отчего мы стыдимся себя, когда честны?), что встречаю друга, пусть в душе, но осуждая его, как бы подчеркивая этим собственную чиcтоту и благоразумие. Да ведь я если что и ненавидел в жизни, так это благоразумие, розовое и холодное, как февральское солнце! Ведь именно оно чаще всего и оборачивается предательством самого себя и других! - Кончай трудиться, старина! От работы кони дохнут, помнишь нашу присказку? - вскричал Власенко, решительно сгребая на моем столе в одну кучу гранки завтрашней четвертой полосы, подготовленные к вычитке, авторские письма, статьи, принесенные моими сотрудниками, свежие газеты, журналы, папки с вырезками и документами. - Не могу сейчас, номер нужно сдать! - взмолился я. - Не можешь? Так я сейчас пойду к редактору и скажу: отпустите, пожалуйста, Олега Ивановича Романько со мной, консулом СССР в Канаде, прибывшим на отдых и отмечающим нынче свой день рождения. Спорю, отпустит! - День рождения? Не врешь? - Гляди! - Власенко вынул из внутреннего кармана светло-голубого, ладно сидящего на нем костюме дипломатический паспорт и сунул мне в руку. - Без балды - 12 июля. Сорок лет - как один день! - Поздравляю, Толя... - растерянно поздравил я. - Посиди минутку, я схожу к шефу... - Может, и мне с тобой? - Посиди, отвечай на телефонные звонки, что сейчас буду... У входа в комбинат "Радянська Укра?на" на солнце раскалилось такси. Мы сели сзади. - Погоняй, шеф, в "Курени", - распорядился Власенко. Я редко захаживал в этот ресторан на днепровских склонах. Как и в других киевских ресторанах, кормили здесь плохо, может быть, даже хуже, чем на Крещатике. Возможно, это объяснялось изобилием свежего днепровского воздуха, что сам по себе, по мысли местного руководства, был способен сдобрить любую, самую невкусную еду. - А, старина, не обжираться ведь пришли - поговорить! - отмахнулся Власенко от моего замечания. - Звонил Люси - жаль, со студентами на практике. А то было бы здорово, как в прежние добрые времена, - вместе. Ну, ладно, ты рядом, скучать не станем. Как я и ожидал, выбор яств явно не соответствовал названию "ресторан", зато с выпивкой никаких проблем. Власенко сам выбрал закуски, горячее, он же, не спросив моего желания, заказал бутылку "Ахтамара", пожалуй, самого лучшего армянского коньяка, и мускатное шампанское. - Коньяк, воду - сразу, - предупредил он официантку, подобострастно закивавшую головой. Достал запечатанную пачку "Данхилла", ногтем ловко поддел красный кончик отрывной ленточки и вскрыл пачку. Щелчком выбил сигарету, бросил ее в рот и пыхнул зажигалкой. Затянувшись пару раз, сказал задумчиво: - Почему мы идем от лучшего к худшему? Когда плавал, на курцов смотрел почти с презрением: как это люди не могут совладать с пагубной привычкой? Сейчас просыпаюсь - первым делом тянусь за сигаретой, не дай бог, если вдруг не обнаружу - паника, точно тебя лишили кислорода и ты сейчас задохнешься... А ты проскочил мимо этой привычки? - Мимо. Особых усилий не предпринимал, чтоб избежать сигарет, просто не тянуло. - Счастливчик. Я по меньшей мере раз двадцать бросал, даже курс патентованных уколов принял. Куда там - еще сильнее захотелось! Особенно когда жена в Москву уехала и один закуковал в четырех стенах... - Что у тебя с ней? - Кто в этом разберется? Кажется, что нужно: квартира в столице, квартира в Монреале, все, что требуется для жизни, есть, а самой жизни нет. - Плывешь по течению? Ты-то никогда слюнтяем не был, Влас, я ведь тебя знаю, ты мог собраться и выиграть у рекордсмена, к результатам которого не подходил и близко. Что с тобой? - У-у... - протянул Анатолий с болью и тоской. Мне стало стыдно, что рубанул с плеча. Не стоило. - Прав, прав ты, старина. Плыть не плыву, но чует мое сердце, что добром это не кончится. Хорошо еще, что работой и сам, и начальники мои довольны. А что мне еще остается? "Работа не волк, в лес не убежит", - любил говаривать Анатолий Агафьевич Драпей и шкандыбал на своей раненой ноге на старт, чтоб установить новый мировой рекорд. Помнишь? - Разве такое забывается... - Могучий был пловец. А жизнь подставила ему ножку на ровной дорожке... Вот иной раз и о себе думаю: не подставит ли и мне она? - А ты не дайся, не дайся... Официантка, круглолицое и розовощекое создание лет 30, само очарование и любезность, не поставила - мягко посадила бутылку с коньяком, открыла оболонскую, тщательно протерла и без того отливающие голубизной хрустальные бокалы и рюмочки и прощебетала что-то насчет приятного аппетита и счастливого пребывания. Как это они так тонко чувствуют клиента? Власенко разлил коньяк, загасил сигарету, жадно выпил бокал ледяной воды и поднял рюмку. - Молчи, знаю, тосты должны говорить другие, а имениннику положено смиренно слушать, - опередил он меня. - Я сам ведаю, чем хорош и сколько во мне дерьма. Да не о том речь! Давай выпьем за нашу спортивную юность самые прекрасные годы жизни! Мы тяжко, до кровавых мозолей на сердце вкалывали, но гордились волей и умением управлять своими слабостями и мышцами. Так дай бог, чтоб мы могли сохранить эти качества как можно дольше! Потом разговор перебрасывался, как водится, с одного на другое, сегодняшний день соседствовал с почти забытыми днями, люди, давно растворившиеся в прошлом, снова были с нами: мы вспоминали их слова, жесты, привычки, и в них, как в зеркале, отражались наши слова, жесты, привычки, и эта неразрывность прошлого и настоящего волновала нас, заставляла сильнее биться сердца. Когда мы наконец угомонились, а головы наши утомились переваривать царское пиршество воспоминаний, Власенко воскликнул: - Во, чудак, два уха! Начисто забыл, тебе послания есть от твоего Джона, как там его? - Микитюка? - Точно. От боксера. Он теперь чемпион мира, правда, среди "профи", а это - не наши люди. Власенко из того же внутреннего кармана пиджака, откуда доставал паспорт, извлек два одинаковых конверта и протянул мне. - Ничего нового нет. Так, пустяки. Ты никак не позабудешь ту историю? - Помню. - А что Добротвор? - Грузчиком работает. - А меня и в грузчики не возьмут в случае чего... Хлипок... Я раскрыл конверт - он был не запечатан. "Уважаемый сэр! Прежде всего хочу сообщить Вам, что мне удалось победить не только Бенни Говарда, Чета Льюиса и Норманна Гида, которые, хотя никогда и не были чемпионами мира, но опытом и мастерством известны среди боксеров, посвятивших себя этой профессии. В финале я выиграл в тринадцатом раунде нокаутом! У прежнего чемпиона ВФБ Боба Тейлора. Правда, признаюсь, досталось это мне нелегко, чему свидетельство четыре нокдауна в первых трех раундах. Погонял он меня по рингу, поколотил изрядно - врагу своему не пожелаешь. Да, по всему видно, посчитал дело сделанным, а я больше чем на роль мешка с тырсой для битья не гожусь. Мне это очень не понравилось, и я дал себе слово, что буду драться отчаянно - разве что мертвым с ринга унесут. Тем более что мой менеджер посоветовал - в моих же интересах - не падать раньше двенадцатого раунда, потому что это может кое-кому не понравиться. Кому - вы догадываетесь. Мне по секрету сообщили, что ставки на меня делались именно до двенадцатого раунда. Но не это волновало - меня вывел из себя сам Боб и никто другой, клянусь вам пресвятой божьей матерью. После моего удара снизу слева в тринадцатом раунде он даже не пошевелился на полу. Его так неподвижного и унесли, беднягу. Словом, я сейчас в фаворе. Наше общее дело застыло на мертвой точке. Больше того - боюсь, что до истины нам не докопаться, потому что парень освободился из тюрьмы и как сквозь землю провалился. Даже на похороны матери не объявился. Боюсь, не убрали его? Я догадываюсь, мистер Олег, что разочаровал Вас... Извините. Ваш Д.М. 18 апреля 1985 г.". Анатолий задумчиво смотрел на Днепр, туда, где когда-то мерно покачивался голубой дебаркадер "Водника" и мы, пацаны с Подола, переплыв на открытом, широкобортном катере-лапте, спешили плюхнуться в воду, чтоб плавать и плавать из конца в конец бассейна, чтобы побеждать и устанавливать рекорды. Давно списали эти бассейны, исчезли тренеры с пляжей, высматривавшие будущие таланты, как исчезли и белые паруса с днепровских просторов, - вместо всего этого праздно валяющиеся на песке тела, ленивый плеск в воде, и никакого спорта, лишь скука, царящая на Трухановом острове... Я взялся за второй конверт. "Мистер Олег, спешу сообщить Вам новости. Я обнаружил следы исчезнувшего Тэда Макинроя. Правда, возможно, "след" - слишком громко сказано, потому что добраться до него я не смогу в этом году, так как в Японию меня еще не приглашали. Так вот, Тэд теперь никакой не Тэд, а Властимил Горт, под этим именем обретается он в частной школе бокса где-то в Кобе, адрес мне не известен. Вот что важно: он чем-то оказался неугоден тем, кто завербовал его для того дела, и ему довелось скрыться. Это мне под страшным секретом сообщила его девушка, Мэри. Но если это станет известно боссам, добра не жди. Вот что еще, сэр! Тэд как-то проболтался своей девушке, что очень сожалеет о том, что так предательски "продал" (это его слова) русского парня, хотя не хотел этого делать, потому что и сейчас уважает его безмерно. "Даже еще больше после того, как он повел себя в этой истории, выгораживая подонка", - это тоже слова Тэда, но мне их смысл совершенно непонятен. Кого он имел в виду? Себя? Вот та малость, что попала мне в руки. Извините. Мне хотелось бы узнать, что с Виктором. Если это возможно, передайте через Вашего друга здесь, в Монреале. Спасибо. Джон. 6 июля 1985 г.". - Ничего особенного, правда? - поинтересовался Власенко. - Если не считать, что я лечу двадцать второго августа в Кобе... - Шутишь? - Правда. На Универсиаду. - Это серьезно? - Власенко озабоченно посмотрел на меня - он был абсолютно трезв. Поразительно! - Не гляди на меня так. Это, - он небрежно махнул на почти пустую бутылку, - не объем. Слушай меня. Ты по свету покатался, а я пожил в заграницах поболее твоего. Не разыскивай того парня - вот мой совет! Он тебе вряд ли что расскажет. Да если и откроется, как на исповеди, кому ты ее представишь? В Спорткомитет? Тебя на смех поднимут и будут правы. Суд в Монреале и приговор Виктору Добротвору документально засвидетельствованы. Даже если Тэд, или Властимил, - придумал же себе чешское имя! - скажет, что Виктор тут ни при чем, это все равно будет гласом вопиющего в пустыне. Пойми! - Логика твоя не железная - стальная. Но я навсегда потерял бы уважение к себе, если б не попытался добраться до истины. Что потом сделаю с этой информацией, если она окажется вдруг хоть чуть-чуть реабилитирующей Добротвора, пока не догадываюсь. Но она не пропадет, поверь мне. Разве правда может пропасть бесследно? Затеряться... на время, да. Но не исчезнуть окончательно! - Тебя не переубедить. Тогда еще совет: будь предельно осторожен. Если парень вынужден дать драла из родных пенатов, были, видать, на то серьезные основания. - Все будет о'кей, Толя! - У меня было так светло, так празднично на душе, словно дело Виктора Добротвора благополучно устроилось и имя его вновь так же чисто, каким было еще недавно. Хотя чему радоваться, если разобраться трезво? Ну, удрал тот подонок в Японию, сменив имя. Ну, скажет мне, что во всем повинен он один, а Виктор - только жертва... Что изменится? - Вот-вот, и я говорю, - точно читая мои мысли, произнес Власенко. Что изменится? Я промолчал. Пустые красивые слова не любил произносить никогда, даже на собраниях. Мы долго не могли расстаться с Анатолием. Перешли через мост на остров, повел я его взглянутьна жалкие остатки водниковского дебаркадера в Матвеевском заливе - жуткое зрелище. Потом, поймав такси на Петровской аллее, подъехали к стадиону и постояли на неровном, торопливо уложенном асфальте там, где когда-то радовал спортсменов тесный, но такой уютный, "домашний" 25-метровый бассейн, где мы плавали в юности. Взошли и на Владимирскую горку и в сгущающейся синеве смотрели туда, за Днепр, где некогда блистали озера и тянулись до горизонта луга, а теперь зажигались огнями Русановка, Березняки, а еще дальше - Троещина... - Нет, верно говорят, - сказал Власенко, - никогда не возвращайтесь в свое детство. Ничего, кроме разочарований... Святой Владимир безучастно глядел туда, где утонула в невозвратном наша молодость.4
Я с трудом обнаружил отель "Мизуками", где мне зарезервировали номер. Поднявшись наверх со станции метро, я разочарованно огляделся: однои двухэтажные домишки - невыразительные, пожалуй, даже убогие, и если б не разнообразные, с выдумкой украшенные витрины, улица выглядела бы серой, однотонной и безнадежно скучной. Ни деревца, тротуар так узок, что два человека с трудом расходятся. Зато машины спрессованы, оставляя лишь узкую полоску для проезда, и незатейливый трамвайчик - такие у нас ходили до войны - катит осторожно, как бы на ощупь, чтоб ненароком не задеть бампер какой-нибудь "тойоты" или "холдена". Из открывшейся двери, чуть не сбив меня с ног, выскочил парнишка в белом накрахмаленном сюртучке, в белых полотняных штанах и резиновых гета на босу ногу, с круглым подносом на руках, где на белоснежной салфетке возвышались два бокала кока-колы со льдом и две крошечные чашечки с кофе. - Эй, парень! - крикнул я ему вслед, не слишком надеясь, что он остановится, но парнишка тут же стал как вкопанный и повернул голову в мою сторону. В черных глазах не сыскать ни удивления, ни растерянности спокойствие и вежливое ожидание. - Может, вы скажете, где находится отель "Мизуками?" - Здравствуйте, мистер, вы стоите как раз у гостиницы, и сейчас я открою вам дверь! Он возвратился на два шага назад, решительно дернул на себя стеклянную дверь, по ошибке принятую мной за продолжение витрины, где на стеллажах живописно расположились натуральные японские блюда, банки с пивом, кока-колой и бутылка виски "Саппоро", что и ввело меня в заблуждение. Однако витрина была отгорожена от входа, на что и указал официант. В тесном вестибюле за узкой, как одиночный окоп, стойкой находилась молодая черноволосая женщина, мило улыбаясь и всем своим видом показывая, как она рада видеть меня. - Добрый день, мисс! Меня ждет номер в вашем отеле. Мое имя Романько, - сказал я, опуская на искусственный алый ковер, покрывавший пол, спортивную сумку и чемодан, где камнями лежали пишущая машинка и досье, портативный диктофон, кассеты, запасные батареи и еще кое-что, что я больше всего боялся разбить, и потому потянул чемодан, к вящему неудовольствию стюардесс, в салон самолета, чтоб лично устроить в багажном отсеке. - Здравствуйте, мистер Романько! - Женщина за стойкой сделала глубокий поклон, сложив вместе ладошки на груди. - Вы будете жить на пятом этаже, 413-й номер (фу, черт, подумал я, что это меня преследует цифра "тринадцать"?), телевизор, кондишн, ванная. Холодильника у нас нет. Вам выписать счет на все время или вы хотите по дням? - Спасибо. Я оплачу до четвертого сентября. - Благодарю вас. У вас чек, "амэрикен экспресс"? - Нет, наличные, доллары. - О, благодарю вас. Процедура заполнения регистрационной карточки, где содержалось четыре вопроса - фамилия, год рождения, место рождения и национальность, заняла минуту. Еще минута ушла на то, чтобы компьютер выдал счет, а я отсчитал доллары. И вот я уже поднимаюсь на пятый этаж в тесном, но вполне современном скоростном лифте, сразу нахожу свой номер - как раз наискосок от выхода из лифта, открываю дверь. Да, в таких апартаментах мне жить не доводилось: пять-шесть квадратных метров, где, прижимаясь друг к другу, уместились узкая кровать с тумбочкой, узенький письменный стол с телефоном, средних размеров "Сони" на специальном кронштейне на стене на уровне груди телеприемник можно было поворачивать в любую сторону. Кондишн чуть ощутимо подавал воздух, правда, не слишком-то отличный от уличного. Возле широкого - почти во всю стену - окна едва умещалось низкое кресло и такой же низенький столик. С трудом пробравшись к окну, я бросил заинтересованный взгляд на окружающую меня местность. Крыши, множество проводов и телеантенн, кое-где на крошечных плоских пространствах умудрялись соседствовать кухонная плита и целая оранжерея, где кустились пальмы и вызревали овощи. На веревках, как флаги расцвечивания, раскачивались под порывами ветерка рубашки, майки, носки. На здании в отдалении, несмотря на дневной свет, красным неоном светилась многометровая надпись "Мицубиси". Еще дальше, смахивая на парижскую, широко расставила свои опоры местная Эйфелева башня, утыканная разномастными антеннами. Первым делом я принял душ, смывая с себя почти суточную усталость и пот. Вылетев из Москвы в 18:40, спустя двенадцать часов мы приземлились в токийском аэропорту "Нарита", и меня тут же повезли на вокзал, где мы с другом моего друга Анатолия Власенко, работником торгпредства, приятным, стройным, седоголовым, успели перекусить в ресторане и под сенью мощного кондишна отдышаться от липкой, почти сорокаградусной жары. Тут и подоспела посадка на экспресс. В вагоне, похожем на нашу электричку, отделанном преимущественно светлыми красками и материалами, было даже прохладно, а когда "монстр" понесся через японскую равнину к Кобе со скоростью 250 километров в час, стало и вовсе холодно и довелось даже одеть пиджак. Быстро сменив дорожный костюм на джинсы, кроссовки и легкую белую безрукавку, захватив необходимые документы, я сбежал вниз по лестнице. За стойкой уже хозяйничал парень, у которого я спрашивал, как разыскать "Мизуками", но теперь он был облачен в строгий темный костюм. Он приветливо улыбнулся и на плане-схеме местного метрополитена показал, как добраться до Острова и найти пресс-центр Универсиады. Еще посоветовал выбрать из двух линий метрополитена частную, что хоть и стоит дороже на полдоллара, но зато сократит путь по меньшей мере на пятнадцать семнадцать минут. Поблагодарив юношу, я вышел из отеля и сразу окунулся, как в омут, в парной, остро нашпигованный отработанными газами автомобилей студенистый воздух. Свернув налево, где находилась станция частного метро, я купил билет до Санномии, где мне следовало пересесть на поезд-автомат, связывавший Кобе с Маринатауном, то есть морским городом, выстроенным японцами несколько лет назад на трехстах гектарах, отвоеванных у моря. Этот "культурный город в море", как называли его многочисленные рекламы, виделся создателям прототипом поселений ХХI века. Спускаясь по лестнице в неглубокий тоннель-станцию, я обратил внимание, что отделка - сплошь металл, покрытый пластмассой светло-серого цвета, так рационально отштампованный, без острых углов и потаенных закоулков, что не требует никакого ручного труда, а достаточно пустить автомат-мойщик, и один человек справится с вместительным помещением станции за несколько рабочих часов. "Двадцать лет назад токийское метро выглядело куда мрачнее и непригляднее, - отметил я про себя. Японцы почему-то выстраивались в очереди друг другу строго в затылок, на определенном расстоянии одна очередь от другой. Не слишком понимая, что это должно означать, все же решил не лезть в чужой монастырь со своим уставом и пристроился в хвост очереди за юной матерью с двумя детишками старшая, лет трех, крутилась возле ее ног, чувствуя себя вполне независимо и самостоятельно, а вторая, совсем крошка, уложив головку на материнское плечо, глазами-бусинками с любопытством разглядывала меня. Лишь когда бесшумно подкатил поезд, ярко освещенный и почти сплошь состоящий из стекла, так, во всяком случае, мне показалось, я понял, почему японцы придерживались определенных мест, - как раз напротив очереди открывались двери. Без толкотни все быстро разместились в вагоне. Я с любопытством рассматривал окружающих меня людей. Японцы стали выглядеть более по-европейски, чем двадцать лет назад. Одеты легко, удобно, спокойны, как спокойны и дети: малышка, самостоятельно юркнувшая в вагон, также беспрепятственно - без окриков и вскриков "Да куда ты запропастилась?!" - изучала вагон, смело выглядывала из открытой двери на станциях. На европейцев - в вагоне, помимо меня, находилось еще трое или четверо "белолицых" - уже не взирали как на диво. Я припомнил слова, буквально ошарашившие меня в Токио. Я спросил Тониного друга что-то насчет местных нравов и обычаев: как одеваться официально или по погоде. Он рассмеялся и ответил: "Мы, европейцы, ну, и американцы в том числе, люди третьего сорта. Да, именно третьего. Первый сорт, то есть именно люди, - это японцы, второй сорт - китайцы. Ну, а мы третьего. Соответственно и отношение: если вы явитесь на прием, где будет, скажем, наследный принц, в тапочках и в шортах, и вообще даже без майки, никто не обратит на вас внимания... Что, мол, с них возьмешь! Вот так-то! Замечу, что эта мысль исподволь, но упорно вдалбливается в юные головы Япония, Япония превыше всего... Хотя - это я вам говорю однозначно - они никогда не подадут и виду, что относятся к вам, как к третьесортному. Вежливость - норма местной жизни..." Японец преклонного возраста мягко отстранился, пропуская меня к двери на Санномии, хотя точно такое же движение первым сделал я. Указатели надежно вывели меня к выходу из метро - именно к тому, что вел к наземной станции экспресса на Остров, хотя поначалу я слегка растерялся в тысячных толпах, входящих и выходящих из пребывающих по нескольким линиям поездов, в лабиринте подземных магазинов, блистающих роскошными витринами универмагов, видеосалонов и кафе, наполненных ароматами готовящейся еды, табака и духов, звуками музыки и неумолчным прибоем голосов. Лишь на площади я вздохнул свободно, хотя здесь было по-прежнему душно, даже соленое дыхание моря не освежало воздух. Я купил жесткую картонку - билет в автомате, затем сунул картонку в прорезь автомата-контролера, и он пропустил меня через стальной турникет. Поднявшись на второй этаж на коротком эскалаторе, я попал к составу из четырех вагонов с открытыми дверями, куда и поспешил вскочить. После трекратного объявления по-японски створки дверей бесшумно соединились и поезд двинулся в путь. Эстакада была проложена на высоте минимум пятого этажа, и улицы Кобе, примыкающие к порту, поплыли внизу. Вскоре под ногами заплескались мутноватые волны залива; раздвигая тупым носом воду, продымил под нами буксир с красной трубой. Потом пошли дома, выстроенные на искусственной почве, завезенной сюда из трех скрытых начисто гор в окрестностях Кобе (на их месте разместились теперь жилые кварталы): разностильные и разновысокие - от сорока этажей суперсовременного отеля "Портопия", формой напоминающего трубу исполинского океанского лайнера (издали Остров смотрится, как корабль, устремленный в просторы моря), до вычурных, в викторианском стиле коттеджей - они были аккуратно расставлены из конца в конец Острова. На моей станции, опять же не встретив ни единого человека, обслуживавшего поезд, я спустился вниз, предварительно втолкнув билет в магнитный зев контрольного устройства, убедившегося в законности моего проезда и раскрывшего стальную дверцу-решетку. В пресс-центре, куда я попал пару минут спустя, приятно холодил свежий воздух. Полицейский на входе, увидев карточку с предварительной аккредитацией, вежливо отступил в сторону, пропуская вовнутрь помещения с очень высоким потолком. Ряды столов с пишущими машинками, где сидели одинокие репортеры, выдававшие на-гора первые репортажи с еще не открывшейся Универсиады. Из бара слева - там за столиками народу было погуще - доносились приглушенные звуки музыки. Оглядевшись, я обнаружил искомое: вдоль стены тянулись кабинки с надписями мировых агентств и местных изданий. Я легко нашел "Йомиури", нажал на ручку и... нос к носу столкнулся с тем, кого приготовился долго разыскивать. - Яша! - вскричал я. - Олег! - заорал невысокий, черноволосый японец в белой рубашке с короткими рукавами, при галстуке. Это был Яшао Сузуки, сорокалетний бывший московский корреспондент токийской газеты "Йомиури", по спортивному подтянутый и легкий на ногу, заядлый теннисист, попортивший мне в свое время немало крови на корте в Лужниках, потому что я долго не мог найти к нему подход, - он левша, и его неожиданные крученые подачи были столь резки, что я не успевал поначалу даже проводить мяч глазами. Правда, со временем мы приноровились друг к другу, и я нащупал слабые места в обороне Сузуки, и мы стали играть с переменным успехом. Впрочем, это случалось не так часто, потому что Сузуки жил в Москве до конца 1981-го, а потом его перевели в Нью-Йорк, где с ним и познакомился в интерпрессклубе Серж Казанкини. Он-то мне и проговорился как-то о Сузуки и был страшно удивлен, что и я знаком с Яшей (так он сам просил себя называть), и сообщил также, что японец в начале января возвратился домой. В Токио я позвонил в редакцию "Йомиури", и мне любезно сообщили, что заместитель заведующего международным отделом находится в Кобе, где возглавляет бригаду газетчиков на Универсиаде. И вот мы обнимаем друг друга. - Олег, ты в Японии, подумать только! - восклицал Сузуки, буквально ошалевший от встречи. - Не сообщил ничего! - Куда, на деревню бабушке? Ты ведь после Москвы словно растворился. А может, тебе просто не с руки встречаться с советским журналистом? Так ты скажи прямо. - Я, конечно, разыгрывал Яшу, потому как знал, что уж в чем-чем, а в настороженности или предубежденности к нашей стране и ее людям его не заподозрить. Яша гордился своим приличным русским, выученным самостоятельно. Его старший сын - мы с ним однажды сразились на корте владеет русским лучше, чем отец: пока они жили в Москве, он ходил в советскую школу. - Олег! Как ты можешь... - Могу, могу! А как иначе относиться к друзьям, исчезающим бесследно? - Да, да... - согласно закивал головой Яша. - У тебя есть проблемы? - Мне нужно получить аккредитацию. - Это в другом здании. Пойдем проведу. Пока мы переходили в технический корпус прессцентра (он располагался в подтрибунном помещении велотрека), Сузуки успел выложить новости: дома все в порядке, сыновья учатся - старший в университете Васеда, младший еще ходит в школу и увлекается каратэ, отца перерос на голову (акселерация нигде так явственно, так наглядно не видна, как в Японии, где народ традиционно был ниже среднего, по нашим понятиям, роста, а теперь 180-сантиметровые парни не редкость, есть и повыше). Сам же Яша после Москвы, оказывается, успел поработать в Таиланде и только после этого попал в Штаты. Америка не пришлась ему по душе, он - я это почувствовал остался руссофилом, качество, редко встречающееся в Японии. - В Москву не собираешься? - Хочу, - признался Яша, и в его голосе прозвучала плохо скрытая тоска. - В Лужниках по-прежнему играешь в теннис? - Иногда. Но редко. - Здесь сыграем? - В этом пекле? Ты ведь меня разгромишь, это нечестно. - Мы сыграем вечером, когда спадет жара. Здесь, на Острове, есть корты у моря, там свежо. Ну? - Ракетку дашь? - На выбор. - Тогда условились. Как только акклиматизируюсь. Процесс аккредитации занял ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы нажать кнопки компьютера и получить исходные данные моего документа, а затем извлечь упакованную в пластмассу мою картонку из металлического пенала, продеть в прорези тонкую цепочку, и вот уже ладанка, дающая право беспрепятственно проходить в ложу прессы состязаний Универсиады-85, легла на мою грудь. - Ты что намерен делать вечером? - поинтересовался Яша. - Ничего. Работа начнется завтра. - Тогда я хочу тебя угостить японской кухней в типично японском ресторанчике. Идет? Потолкавшись еще какое-то время в пресс-центре, мы возвратились на поезде-автомате на берег, в город. Яша поймал такси. В салоне было прохладно. Водитель в строгом темно-синем костюме и в белой рубашке с галстуком, в белых нитяных перчатках прежде всего нажал кнопку телевизора, и перед нами засветился цветной экран. Передавали очередной матч первенства страны по гольфу - игра для меня малопонятная и потому неинтересная. Мне оставалось лишь удивляться, чему так бурно восхищаются трибуны, набитые до предела болельщиками. - Эта американская игра просто-таки переполошила Японию, - сказал Сузуки, приглушая звук телевизора. - Эпидемия какая-то - и только. Специальные магазины со снаряжением, кстати, стоящем безумно дорого, журналы, многочасовые передачи, спортлото и сумасшедшие болельщики... Я не хожу на матчи... "Спартак" - "Динамо" - это зрелище! - Ты имел в виду киевское "Динамо"? - спросил я строго. - Можно и киевское, - немного растерянно ответил Сузуки. - Только киевское! Разве ты не знаешь, что оно снова возвратилось в лидеры советского футбола, хотя еще год назад никто не сомневался, что команда агонизирует. Подумать только, десятое место в розыгрыше первенства страны! - Там по-прежнему Лобановский, так, кажется, зовут тренера? - Снова Лобановский. Он походил некоторое время в старших тренерах сборной СССР, но стоило ему проиграть один-единственный матч, как его уволили без выходного пособия. - Что значит "без выходного пособия"? Без пенсии? Ведь он, кажется, молод? - Это значит, что вообще хотели запретить тренировать команды высшей лиги. - Разве такое возможно? - искренне удивился Сузуки. - Разве он совершил преступление? - Кое-кто думал, что возможно. Но, слава богу, не все и у нас теперь решается единолично... Мы вышли на какую-то узкую, заставленную выгородками и лотками улицу. На уровне третьего этажа по старинной, кирпичной кладки эстакаде прогрохотал поезд городской электрички. Мы перебрели улочку, вступили в полутемную прихожую и оказались внутри густо заселенного столами и людьми ресторана. Щекотали ноздри ароматы еды, было шумно, гремевшие над головой вагоны заставляли людей разговаривать громко и суетливо. Столики были заняты, и мы устроились на высоких, но удобных вращающихся креслах за стойкой, где разливали пиво, выдавали официантам блюда с пищей, вели переговоры с кухней трое ребят - двое похожих парней с утомленными, лоснящимися от пота лицами и миловидная девчушка в белом кокетливом передничке. Они с такой быстротой выбрасывали продукцию, что напоминали автоматы: ни секунды простоя, даже словом не обменяются, ни единого лишнего движения. Яша негромко сказал что-то - я и то едва расслышал, а парень, на секунду отвлекшийся к нам, успел все записать на листке-счете, что тут же положил перед нами, и уже отпрянул назад, крикнув что-то в темный кухонный зев, быстро наполнил два толстостенных бокала пивом и, бросив картонные кругляши перед нами, аккуратно опустил кружки. - Считай, типичное японское кафе, Олег. Его держат студенты во время летних каникул, а возможно, и чуть дольше, если есть необходимость. Полный хозрасчет, видишь, им некогда даже перекинуться словом друг с другом. А еда отменная. Мы ели что-то острое, - с пряным ароматом из морских моллюсков, с ломтиками сушеной водоросли - ламинарии, и запивали холодным пивом. - Я сюда хожу ужинать, друзья в Токио насоветовали, и не жалею. Быстро, да и дешевле, чем в обычном ресторане. Когда мы выбрались наружу, было совсем темно. Уличного освещения тут никогда не существовало, но зато по-прежнему светились разноцветными фонариками магазины, забегаловки, пачинко. Лица людей казались разукрашенными на манер американских индейцев, с той лишь разницей, что расцветка их постоянно менялась. Попадались возбужденные парни с бегающим взглядом, что-то бормотавшие на ходу. Они никого не замечали. - Наркотики и в Японии не редкость, - пояснил Яша. - Конечно, не так, как в Штатах. Я сразу будто отрезвел и забыл обо всем другом, и одна мысль застряла в мозгах - Тэд Макинрой, он же Властимил Горт, Тэд Макинрой, Властимил Горт... Властимил Горт... Я пропустил мимо ушей слова Сузуки, и он застопорил, и я наткнулся на него. - Ты совсем не слушаешь меня, Олег, - обиделся Сузуки. - Где ты живешь? - А, извини, Яша. Задумался. В гостинице "Мизуками". Это далеко, нужно на метро, и такси нет смысла брать. - Нет, - сказал Яша. - Поедем на такси. - Слушай, Яша. Мне такси действительно ни к чему. Я мечтаю побродить по Кобе. Ты поезжай в пресс-центр и засядь за телефон. - Яша недоуменно уставился на меня. - Мне нужно, чтобы ты разыскал одного человека. Это крайне важно, Яша, поверь мне! Его зовут Властимил Горт. Он - тренер местной школы бокса. Но единственное условие: представься как хочешь и кем хочешь, но ни у него, ни у его хозяина не должно возникнуть и тени сомнения, что парня разыскивают по какому-то пустяковому делу. Придумай, я не знаю ваших законов и обычаев, ну, скажи, что ты фининспектор, или водопроводчик, или просто вознамерился записаться в школу, чтобы пройти курс бокса... Словом, на твое усмотрение! Мне же нужно только узнать, где он обретается и когда бывает на работе. Понял? - Не совсем. - Я пока не стану ничего объяснять. Это, во-первых, долго. Во-вторых, без моего разговора с этим человеком все равно не поймешь. Как, впрочем, и я еще многое не понимаю. Будь осторожен: если он что-то заподозрит, то немедленно скроется. - Почему скроется? Ты его преследуешь? - Если б я... Словом, мне нужен точный адрес школы бокса, где работает Горт. Для ориентировки: 29 лет, классный боксер, выступал даже за сборную страны, в Японии, думаю, месяца три-четыре. Тщательно скрывает, откуда он и кто по национальности... - Задал ты мне вопросик, Олег. - Сузуки явно был озадачен и обеспокоен. По натуре Яша не труслив, но осторожен, лишнего шагу не сделает, не убедившись, что это шаг - правильный. Но таким я его знал в Москве, за границей. А здесь-то он дома! Мне не очень-то улыбалась перспектива ставить в затруднительное положение моего приятеля, но иного выхода не было. Никто, кроме Яши, не сможет помочь. По японски я не знал ни слова. И хотя многие японцы отлично владеют английским, иностранцы все равно есть иностранцы, и к ним отношение настороженное. "Любопытно, - подумал я, - как ко мне относится Яша: как к человеку третьего сорта? Но спрашивать не стал: Сузуки и так выглядел озабоченным, чтоб еще и этим вопросом усугублять его сложное положение. - Это нужно непременно сегодня? Ведь уже поздно... - спросил Яша, хватаясь за соломинку. - Чем быстрее, тем лучше. Я прошу тебя, Яша... Мы расстались у станции метро. Это была отправная точка, откуда я решил, сверяясь с планом-схемой города, двинуться по направлению к гостинице. Всегда нужно иметь запасной путь для отступления...5
Универсиада началась грандиозным парадом на новеньком стадионе на юго-востоке Кобе, в районе перспективной застройки этого огромного промышленного центра страны. Организаторы не скрывали своего удовлетворения, больше того - гордости, что им удалось собрать под голубое знамя с огромной буквой "у" практически всех сильнейших спортсменов-студентов пяти континентов. Участие сборных СССР и США спустя год после Лос-Анджелеса, когда связи двух крупнейших спортивных держав мира виделись испорченными надолго, воодушевляло истинных приверженцев спортивных форумов. Газеты пестрели заголовками, где Япония выглядела едва ль не миротворцем. Специально для прощупывания обстановки в связи с предстоящей Олимпиадой в Южной Корее прилетела делегация Сеула. Улыбчивый лев - символ будущих Игр - зашагал по страницам газет и журналов, мягко порыкивал с экранов телевизоров, заполонил своими изображениями свободные стены в пресс-центре. Я сидел на трибуне среди знакомых и незнакомых лиц. Давно заприметил, что существует некое неформальное сообщество спортивных журналистов-международников, что, как правило, аккредитуются на большинстве крупных состязаний и уж непременно встречаются на Олимпиадах и Универсиадах. Под звуки тысячного оркестра одна за другой вступали на дорожку стадиона колонны участников. Организаторы побеспокоились, чтобы каждый почувствовал себя как дома, и составили сложную программу музыкального сопровождения из попурри национальных песен и мелодий. Но, видимо, график движения где-то нарушился, что-то сбилось, и вот пошли австралийцы под афганскую мелодию, англичане вышагивали в такт греческой сиртаки. Под наши "Очи черные" и "Подмосковные вечера" вышагивала делегация КНР... Среди журналистов царило веселое оживление. А у меня на сердце кошки скребли. Вот уже два дня как исчез Яша. Напрасно несколько раз на день заглядывал я в выгородку "Йомиури" - сидевшие там недоуменно пожимали плечами и отвечали неопределенно: не был, когда будет - не знаем. Мне чудилось, что они обо всем осведомлены и с осуждением смотрят на меня. Неприязнь, казалось, сквозила в их черных, непроглядных глазах. Время летело, а я ни на йоту не продвинулся к цели. По ночам мне спился один и тот же сон: я догоняю и никак не могу догнать человека, лица которого не вижу, но уверен, что это - Тэд Макинрой, он же Властимил Горт... Связь с Киевом, на удивление, оказалась преотличной, и редакционная стенографистка появлялась точно в назначенное время - минута в минуту, хоть часы проверяй. И слышимость была преотличной, мало что часть пути мои слова проделывали по воздуху - по радиотелефону. Но все равно, пока передавал материал, сидел как на иголках и готов был подгонять Зинаиду Михайловну, несмотря на то, что она вообще не делала ни единой паузы и не переспрашивала - наш разговор параллельно записывался на магнитную ленту. Мне казалось, что именно в эти минуты, когда я разговаривал с Киевом, звонил и не мог дозвониться Яшао Сузуки. "Если сегодня, нет, завтра утром Яша не объявится, нужно начинать поиски самостоятельно, - рассуждал я, сидя на трибуне. - Ну и что с того, что ни бэ ни мэ по-японски! Нужно взять телефонные справочники на английском, должны быть таковые, и страничку за страничкой изучать, пока не наткнусь на боксерскую школу". Это напоминало бы поиск иголки в стоге сена, если учесть, что телефонная книга - я встречал такие в пресс-центре - Кобе насчитывала более 1000 страниц убористого текста! Но иного выхода у меня не было. - Олег. - Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я оглянулся и едва не заорал на весь стадион: Яша! - Яша... - Голос мой прозвучал так, словно мне в горло вогнали кляп. - Извини, Олег, - забеспокоился Яша и развел руками, как бы прося прощения за бестактность. - Выйдем отсюда, - предложил я нетерпеливо. Мы спустились вниз, молча миновали лужайку, где расположились девушки-гимнастки, готовившиеся к показательным выступлениям, спустились к искусственному водоемчику с огромным гранитным валуном, отполированным веками и напоминавшим один из камней знаменитого каменного сада Рендзю в Киото. - Извини, Олег, но я никак не мог раньше, - виновато повторил Яша. - Ерунда, - великодушно простил я Сузуки. - Нашел? - Да. Но для этого мне понадобилось съездить в Токио - здесь, в Кобе, у меня нет ни друзей, ни знакомых. Таких школ оказалось полдюжины, они разбросаны в разных концах города. Увы, не всегда удавалось добраться до искомого по телефону. Я еще не разобрался и сам, по-видимому, некоторые из этих заведений далеко не столь безобидны, как может показаться, потому что не слишком-то спешат обнародовать свое существование. Пришлось поколесить... - Нашел его? - Это оказалось труднее всего. - Он снова сменил имя? - Его имени вообще нигде не называли. "Такого не знаем", - был ответ. - Где Горт? - Мы завтра утром поедем туда. Если... если он не сбежит, как ты опасаешься. И не вини меня за это: он чем-то очень напуган, хотя мой друг чуть-чуть знаком с хозяином спортзала и мог разговаривать без лишних рекомендаций. Он представился клиентом, готовым заплатить хорошие деньги за ускоренный - три недели - курс бокса. Его познакомили с Гортом, но тот почему-то насторожился, и я не уверен, что моему другу удалось полностью рассеять сомнения парня. Как бы там ни было, встреча назначена на завтра, на восемь утра. Я заеду за тобой в семь пятнадцать... - Спасибо, Яша... - Я не знал, что еще сказать, чтобы выразить мою благодарность этому похожему на европейца сыну Страны восходящего солнца немногословному и обязательному. А ведь еще несколько минут назад я готов был заподозрить его в элементарной трусости и бегстве. - Я старался, Олег... Что здесь произошло интересного за это время? - Ничего. Вот разве открытие Универсиады. Может, пойдем досмотрим? - Если ты не возражаешь... Мы возвратились на трибуну, и теперь действо, разворачивавшееся на салатной свежести поле стадиона, показалось мне таким прекрасным, что я готов был признать, что ничего совершеннейшего и захватывающего не видел. - Это не уступает открытию Олимпийских игр, - только и сказал я. - Ты думаешь действительно так? - искренне обрадовался Яша. - Без преувеличений! - Позволишь привести твои слова в моем репортаже? - Можешь еще сказать множество слов, лишь бы они хвалили организаторов. - Я был добр и расточителен. - Спасибо, Олег... В "Мизуками", куда я возвратился за полночь, меня ждал еще один приятный сюрприз: портье протянул записку, где сообщался номер телефона Сержа Казанкини и содержалась просьба непременно позвонить в любое время. Я поднялся к себе, принял прохладный душ, облачился в свежее, выглаженное кимоно, ежедневно сменяемое, как и постельное белье, вытащил из широкого раструба кондишна, служившего мне холодильником, банки с консервированным пивом, сервировал низенький столик у окна - вилка, нож, два ломтя черного бородинского хлеба, горка кружочков сухой копченой колбасы, помидор, плавленый сырок и два краснобоких яблока - и подтянул на кровать телефон. С удовольствием и чувством выполненного долга - репортаж об открытии передал из пресс-центра стадиона, завтра свободный день - воскресенье щелкнул крышечкой серебристой баночки, украшенной краснокрылым журавлем, стоящим на верхней ступеньке пьедестала почета - "Саппоро-бир" была официальным спонсором Универсиады-85. И лишь после этого набрал номер телефона. - Кого это черти... - начал было не слишком приветливо Серж, но вдруг сообразил и заорал: - Олег, о ля-ля! - Я, мистер Казанкини, собственной персоной, добрый вечер, а вернее ночь. - Здравствуй, Олег, какая радость! - Он был искренен, мой веселый француз итальянского происхождения. - Не знаю, как ты, а я действительно радуюсь: во-первых, только возвратился со стадиона и решил устроить себе поздний ужин, а во-вторых, потому что ты объявился. На Универсиаду прилетел? - А то куда еще? - обидчиво вспыхнул Серж. - Я теперь снова исключительно спортивный журналист. Слушай, может, поужинаем вместе? Где находится твоя обитель? Я назвал адрес. Серж надолго замолчал - изучал карту-схему Кобе. Наконец он снова объявился. - Да ведь это у черта на куличках! Опять тебя занесло... Туда и до утра не доберешься... А, ладно, жди! - И положил трубку. Я слегка расстроился: уже предвкушал спокойный отдых, а Серж умеет превращать ночь в день. Так что - покой мне только снился... Серж добрался до меня куда быстрее, чем я мог предположить. Он ввалился в комнату, подозрительно оглядываясь по сторонам, точно опасаясь, как бы кто не набросился на него из темного угла. - Ты чего, Серж? - спросил я, обнаружив, что мой приятель изрядно возбужден. - Вечно ты устраиваешься в каких-то закоулках. Вышел из такси, смотрю, вход ярко освещен, люди толкутся, я и вперся... Едва ноги унес, там не женщины - фурии, впору подумать, что они раскусили, что я француз! Теперь пришел черед мне проглотить язык. Потом неистовый хохот напал на меня, я заливался до слез, представив Сержа в объятиях девиц из соседнего заведения, носившего игривое название "Сад любви" и с наступлением сумерек утопавшего в водопадах красного, как размытая кровь, света... Серж недолго хмурился и вскоре смеялся вместе со мной, подбрасывая в огонь новые и новые подробности своего случайного приключения. Наконец он умолк, вытащил свою знаменитую трубку, набил ее "Кланом" и плотоядно затянулся ароматным дымом. Потом он подозрительно, двумя пальцами, поднял баночку с пивом и настороженно рассматривал ее, точно держал взрывоопасный предмет, а затем брезгливо поставил на место, как бы говоря: и пьют же такую дрянь люди. Серж был ярым противником пива. Мне оставалось лишь полезть в чемодан за припасенной бутылкой с Богданом на черной этикетке. - ...Вот я и говорю: возвратился в редакцию и дал себе слово - больше ни в какие там заграничные командировки ни ногой. Сам посуди: что я там, в этих Штатах, не видел? Нью-Йорк с его грязным Бродвеем - боже, как могут люди так врать, ведь сколько был наслышан - Бродвей, ах Бродвей! Я-то уши развесил, старый чурбан, ну что-то на манер наших Елисейских полей публика, неторопливый шаг и веселый смех, прекрасные женщины, цветы, и ночью и днем вечный праздник... А тут тебе - вонь, колдобины, толпы куда-то несущихся людей и оборвыши, валяющиеся просто под ногами... А квартира на 5-й стрит? Пока замки отопрешь, взопреешь... "Нет, дома, в Париже, или нигде", - сказал я шефу. - Серж пускал клубы дыма и размышлял вслух. - Твердо решил. Шеф тоже не полез в бутылку: мол, отдохните, Казанкини, развейтесь, вспомните, что у вас там в загашнике залежалось, предложите, нужно же отписаться после такой поездки... Я и возомнил, что мои дела в ажуре, и укатил в Испанию, под Барселону, купаюсь, нежусь, когда - телеграмма. Серж сердито засопел, заурчал, как перегретый самовар, выбил в пепельницу трубку, напрессовал в нее табак и снова без перерыва задымил. Я уже и окно раскрыл - кондишн не был готов к таким перегрузкам, - но свежий воздух Кобе тоже был напитан горечью бензинного перегара, дымом порта и еще тысячью запахов большого города. - "Телеграммка... Вам, сэр, из Парижа", - сует мне в руки портье и смотрит на меня, как кот на сало. Дал я ему на чай, хотя мысль так и сверлила: не хватай ты эту бумажку, скажи портье, чтоб выбросил ее на помойку, у тебя законный отдых... О слабости человечьи, о любопытство, что родилось раньше нас! - запричитал Серж. - Раскрываю... "Вам надлежит быть в Париже... билет Сеул... утверждены специальным корреспондентом на Играх XXIV Олимпиады... Агенство выражает надежду, что вы с вашим опытом..." Фу, еще сегодня становится жарко, как вспомню, что я в тот миг почувствовал... Вот и обретаюсь теперь в Сеуле, и торчать мне там до 2 октября 1988 года и ни часом дольше! - Поздравляю, Серж! Ведь это так интересно. - И ты, Брут... - тяжко вздохнул Серж. - Мне проще, я приеду в Сеул на три недели, вполне достаточно, бодреньким тоном произнес я, в душе завидуя счастливчику-толстяку. - А может, ты еще до Игр заявишься? - с надеждой полюбопытствовал Казанкини. - Я для тебя там такое организую! Уже начал обрастать связями и знакомыми, к Играм буду своим человеком в Сеуле... - Если Игры вообще состоятся... - Состоятся. Даже если вы снова не приедете. О ля-ля, они были бы рады, кабы могли б окончательно отлучить вас от Олимпиад! - Кто это они? - прикинулся я дурачком. - Много их, разных. И политики, и мафия. Помнишь, мы с тобой в Лейк-Плэсиде... постой, постой, а что с тем парнем, вашим боксером, ну, которого судили в Монреале? - Дисквалифицировали. Грузчиком работает. Серж насупился, потемнел лицом - это всегда служило у него признаком гнева. - Жалко парня, такой спортсмен... И ты ничем не мог ему пособить? - Ничем. - Как же так? - Он совершил преступление и несет заслуженное наказание, - сказал кто-то чужой моими устами. - Я тоже не терял времени даром в Штатах, да и здесь в Сеуле. Кое-что привез тебе любопытное. Захватил так, на всякий случай, надеялся, авось ты заявишься на Универсиаду... Завтра встретимся в пресс-центре... - Хорошо, Серж, - отчужденно сказал я, уносясь в мыслях в предстоящую через несколько часов встречу с Тэдом. Что-то она мне принесет? - Я, пожалуй, пойду... Поздно уже... Я не задерживал Сержа. Последнее, что я услышал, когда дверь захлопнулась за Сержем, был грохот опрокинутой металлической пепельницы с песком на высокой ножке, торчавшей на площадке. Но подниматься не стал, Серж сам разберется.6
В низкосидящей, с удлиненным, хищным носом, как у гончей, учуявшей след, темно-вишневой "тойоте", что беззвучно застопорила у моих ног, рядом с водителем сидел Яшао Сузуки. Он перевесился через сидение и открыл заднюю дверцу, впуская меня. В салоне было отменно чисто и прохладно. Яша тоже был отглажен и важен, как премьер-министр, в черном строгом костюме и безукоризненно белой рубашке. Черные волосы были тщательно приглажены и чуть отблескивали сизым оттенком вороньего крыла. - Привет, Яша! - бодро воскликнул я, стараясь скрыть нервное возбуждение. - Хелло, Олег! - Яша пожал мою руку и, не отпуская, потянул ее влево и буквально вложил в руку водителя. - Знакомься, это Такаси, он знает хозяина зала. Водитель повернулся ко мне, и я увидел продолговатое с сухими, пожалуй, даже впалыми щеками, с небольшим острым носиком лицо, чуть обозначенные бледные губы и мощный, как таран, подбородок человека, способного выдержать прямой удар тяжеловеса. Его пожатие, как он ни старался, буквально склеило мои пальцы, и еще несколько мгновений они оставались безжизненными. Я непроизвольно взялся разминать их пальцами левой, и Яша беззаботно и весело, как ребенок, которому удалось подшутить над приятелем, расхохотался своим мелким, квохчущим смешком. - Я позабыл тебе сообщить, что у Такаси - восьмой дан и он один из самых популярных в Японии каратистов, - сквозь хохот объяснил Сузуки. Владелец восьмого дана между тем остался холоден и беспристрастен, точно речь шла не о нем. - В путь! - крикнул Яша, и Такаси включил мотор с автоматической передачей и, прежде чем тронуться, надел зеркальные очки. Я заметил, что пока мы выруливали на трассу, водитель неоднократно задерживал свой взгляд в овальном широком зеркальце, висевшем слева над его головой. - Если б мне еще пару дней назад напророчили, что я стану заниматься подобным делом, я рассмеялся бы говорившему в лицо! - самодовольно выпалил Яша, развернувшись ко мне назад настолько, насколько позволяли жесткие ремни безопасности спортивной машины, способной развивать скорость в 240 километров в час, - во всяком случае, эти цифры были на серебристо-молочной приборной доске. - В журналистской жизни всякое бывает, - индифферентно буркнул я, не догадываясь, в какую сторону гнет Яша. - С кем угодно, но только не с Сузуки, - разом отбрасывая, словно маску, веселье, холодно отрезал Яша. - Осторожность и предусмотрительность - черты японского характера. - Уж не начинаешь ли ты жалеть о содеянном? - спросил я, стараясь раскачать Яшу, - больше всего мне не нравилась неопределенность. - Возможно. Но не от излишней предусмотрительности или осторожности, хотя и это присутствует в нашем характере. Ты не посвятил меня в суть дела, и именно это меня беспокоит. А вдруг ты втягиваешь меня в какую-нибудь противозаконную акцию? - Извини, Яша, только и впрямь до встречи с тем парнем ничего рассказать тебе не могу. Мне даже трудно предположить, что откроет мне этот визит. Поверь, не темню. Но разговор многое может проявить и расставить все, что я пока имею, по своим местам. Тогда я и введу тебя в курс дела... Надеюсь, ты не подвержен шпиономании? В противном случае мне останется лишь попросить тебя остановить автомобиль и высадить меня... - Я достаточно долго жил в Москве, и у меня много советских знакомых и друзей, чтобы навсегда избавиться от этого комплекса. - В голосе Сузуки всплеснулась обида. - Вот и лады, Яша. Давай лучше условимся, как поведем себя на месте. Мне не хотелось бы подводить парня... У него положение, кажись, незавидное, и, честное слово, мне вовсе не улыбается перспектива усугублять его, особенно если он согласится, Сузуки, говорить... - Мы с Такаси в твоем полном распоряжении, - великодушно объявил Яша. - В английском он не силен, а уж русского вообще не знает, подробностей ему я сообщать не стал, и он даже не догадывается, что ты из СССР. Так для него будет спокойней, не правда ли? - Тебе виднее, Яша, - согласился я, хотя в душе почувствовал укор совести - как-никак, человек лишен правдивой информации, а значит, выбора. Но выбирать и мне не приходилось, и я полностью положился на Яшу - в конце концов, это его друг. Освободившись от неуместных сейчас сомнений, я обратился к Сузуки: - Давай-ка продолжим разговор о нашем поведении на месте... Итак, ты собираешься укатить за границу и потому решил нанять преподавателя бокса. Мы - твои приятели, лица незаинтересованные, словом, зеваки. Идет? - А предположим, он упрется и скажет, что никак не может, ну, скажем, занят сверх всякой меры, и хозяин порекомендует другого? - Ты должен настаивать именно на Горте, тебе нужен преподаватель-европеец, ведь ты отправляешься надолго работать за границу. А Горт, помнится, ты такое говорил, единственный иностранец в школе. Выходит, как ни крути, он и никто другой! Пусть будет так, - согласился Яша и что-то быстро выпалил своему приятелю. Тот молча выслушал, но не повернул в его сторону даже головы, внимательно следя за дорогой, несмотря на ранний час, забитой автомобилями. Я уже давно обратил внимание, что несущиеся навстречу грузовики, легковушки, автобусы и трайлеры, контейнеровозы и автокраны сплошь японского производства. Такого единодушия на европейских или американских трассах не увидишь. Водитель только раз едва заметно кивнул головой в знак согласия со словами Сузуки, но губ так и не разлепил. - Я попросил Такаси быть предельно внимательным, но без надобности не встревать, - объяснил мне Яша и добавил: - Хотя предупреждать его излишне - у этого молчаливого и неповоротливого, на первый взгляд, субъекта феноменальная реакция на опасность. Поверь мне, я с ним вырос, учился в одной школе, но никогда не услышал десяти слов, произнесенных за раз. Разговаривая, я тем не менее по въевшейся за годы странствий по заграницам привычке краем глаз цепко следил за дорогой, запоминая ее. Сначала мы завернули в центр, сделали поворот на площади, где я обычно выхожу из подземки на станции Санномия, чтобы перебраться в автоматический поезд на Остров. Потом долго катили по верхнему ярусу трехэтажной скоростной дороги на бетонных опорах. Внизу мелькали какие-то склады, подъездные пути,справа вскоре заплескались отливающие расплавленным оловом воды залива; на горизонте, распустив павлиний хвост белого дыма, застыл пароход. Машина неожиданно нырнула вниз, разворачиваясь вправо, и Такаси снова на несколько секунд впился взглядом в зеркальце. Нет, в случае чего выбираться будет нелегко, хотя я и приметил парочку ориентиров - телевизионную башню и далекую трубу отеля на Острове: находясь в их створе, можно будет хотя бы приблизительно наметить направление движения. Когда мы вкатили в узкую и пустынную, точно жители ее давным-давно вымерли - ни прохожего, ни собаки, улочку, тесно заставленную одноэтажными фанерными домишками, смахивавшими друг на друга, как близнецы, я невольно поежился, представив, как бы здесь выглядел, начни поиск самостоятельно. Миновав перекресток, мы въехали на небольшую овальную площадь, залитую асфальтом. Две лавки зеленщиков с вынесенными лотками были завалены дарами местной земли, и несколько женщин в кимоно неторопливо выбирали овощи. На наше появление никто не отреагировал. Мы остановились. Первым выбрался Яша и, разминая затекшие ноги, направился к ближайшей лавке. Он вежливо поклонился, здороваясь, и продавец, и покупатели глубокими поклонами отозвались на его слова. Продавец выскочил из магазинчика и, кланяясь, рукой показывал в переулок, уходящий влево. Мы снова двинулись вперед и метров через сто пятьдесят остановились у длинного приземистого здания под красной черепичной крышей со стеклянными дверями посередине. Несколько японских иероглифов из гнутых неоновых ламп, по-видимому, сообщали, что это и есть "Школа бокса Яманака". Вокруг больше ни двери, ни окна: какие-то пакгаузы с металлическими раздвижными воротами, грязный, замусоренный асфальт, мрачная, гнетущая тишина дополняла общую картину. Здесь только гангстерские фильмы снимать, подумал я, и запоздалое раскаяние готово было завладеть мыслями и чувствами. Нет, страха я не испытывал хотя бы потому, что был не один. Правда, таинственный и малопонятный мне восьмой дан совершенно незнакомого Такаси скорее настораживал, чем успокаивал: раз уж Яша пригласил с собой этого каратиста, значит, даже ему поездка сюда не казалась невинным путешествием. Я не любил себя в минуты колебаний и потому, не дав разыграться воображению, решительно открыл дверцу... Сузуки что-то сказал водителю, и тот зачем-то несколько раз включил и выключил мотор, прислушался к его мерному урчанию и лишь затем заглушил окончательно, но ключ из замка зажигания не вытащил. - Ну, что ж, мы - у цели, - неуверенно пробормотал Сузуки, и я уловил в его голосе плохо скрытое волнение, даже скорее - обеспокоенность. Мы втроем какое-то время в нерешительности потоптались на месте, выжидая не объявится ли кто, но потом Яша взбежал по трехступенчатой лестнице и нажал на белую фарфоровую кнопку звонка. Где-то в глубине раздалась тихая нежная трель. Дверь почти тут же распахнулась, и на пороге вырос - другого слова я не подберу, так неожиданно он появился - немолодой, некогда могучего телосложения низенький человек: бицепсы его вряд ли охватишь двумя руками, а голову, вросшую в шею, он поворачивал вместе с плечами; человек был лыс, безбров, полное лицо и маленькие, заплывшие жиром глазки дополняли портрет. "Он похож на старого сенбернара", - почему-то подумал я, вспомнив огромную собаку, что жила у нас в гостинице в Гштаде, в Швейцарских Альпах, ежедневно будившую всех громоподобным лаем, бросаясь за серой, изящной кошечкой, принадлежавшей американской туристке такого преклонного возраста, что оставалось загадкой, для чего она прилетела из-за океана на этот известный горнолыжный курорт, да еще в разгар сезона. Она не то что на лыжах - на ногах едва держалась. Но встретивший нас тип осклабился, и подобострастная улыбка не улыбка, но нечто, должное придать некоторую мягкость его гангстерскому обличию, появилось на одутловатом, лоснящемся лице. - Добрый день! - сказал он по-английски и низко наклонился, чего никак нельзя было ожидать от его бочкообразного тела. - Здравствуйте, господин... Яманака, если не ошибаюсь? - Да, да, господин... - Сузуки. - Сузуки-сан, - произнес "бочонок". - Благодарю вас за любезное согласие оказать мне услугу и надеюсь, что мы сговоримся с тренером. - Я догадался, что Яша намеренно завел разговор по-английски, чтобы я слышал, о чем идет речь. - Можете быть уверены, господин... Этот тип мне явно не нравился. - Сузуки... - ...господин Сузуки, - на довольно приличном английском отвечал хозяин. Мне не понравились и его глаза: они были липки, как липучка, на которую ловят летом мух, и одновременно быстры, умны и... насторожены. - Итак, займемся делом, - добродушно, по-видимому, избавившись от опасений, бросил Яша и шагнул вовнутрь помещения. Мы последовали за Сузуки, и хозяин прикрыл за нами дверь. Я держался рядом с Яшей и с интересом разглядывал простую, но рациональную обстановку зала. Вдоль стен располагалось большое количество различных тренажеров стоявших, лежавших, подвешенных к потолку; пожалуй, эти никелированные устройства позволяли, не выходя из зала, получать нагрузку марафонца, тяжелоатлета и гимнаста. Широкая зеркальная стена отражала весь зал, и одновременно любой спортсмен мог видеть каждое свое движение. Чисто было, как в операционной: простой некрашеный пол с тщательно, как на корабельной палубе, пригнанными и выдраенными до светло-золотого цвета досками, пахло свежими матами, пеньковыми канатами и еще чем-то неуловимым, что присуще только спортивному залу с его особым ароматом - запахом крепкого тела и соперничества. Между тем хозяин ввел нас в другую, меньшую комнату, служившую, по-видимому, для отдыха и волевой закалки: стены сплошь - от пола до потолка - завешаны портретами боксеров в полный рост, над каждым портретом было что-то написано иероглифами, а над некоторыми были даже укреплены венки из искусственного лавра. - Это галерея наших выпускников, - объяснил хозяин и почему-то поклонился портретам. - О, господа, моя школа дала трех чемпионов Японии, двух победителей Азиатских игр... - Вам не хватает, Яманака-сан, одного-двух олимпийских чемпионов, произнес я. Хозяин бросил на меня быстрый, колючий взгляд и, чуть поклонившись, воскликнул: - О, мы верим, что дух нашей школы поможет ее ученикам достичь и подобных вершин! Вполне возможно, - добавил он, - что такое случится в Сеуле. Трое моих парней входят в состав олимпийского резерва страны. Но вообще-то мы - школа для профессиональных боксеров и для любителей вроде господина Сузуки, коим льстит заниматься рядом со "звездами"... - Да, это действительно воодушевляет! - надулся петухом Яша, напрочь забыв, что уж кто-кто, а он не собирается подставлять свою физиономию под чьи-то, даже смягченные перчатками, кулаки. - Я оставлю вас на минутку и приглашу господина Горта, он переодевается, - сказал Яманака и, снова отвесив нижайший поклон, выкатился из парадной залы, как я окрестил комнату отдыха. - Все идет прекрасно, - с гордостью сказал Яша, оборачиваясь ко мне. Но я увидел, что Такаси не разделял его настроения. Японец напряженно изучал не портреты, нет - выходы из зальца, словно оттуда могли появиться непрошеные гости. Я тоже осмотрелся: два входа - одна дверь, через которую мы вошли, другая вела вовнутрь помещения, за ней скрылся Яманака. Ни окна, ни выступа, ловушка и только! - Хелло! - не очень-то доброжелательно приветствовал нас среднего роста шатен с искривленным, типично боксерским носом. Он был в тренировочном цвета бордо костюме "Тайгер", в кроссовках на толстой подошве той же фирмы и весил не более восьмидесяти килограммов. - О, мистер Горт! - воскликнул Сузуки, направляясь к нему. - Я рад с вами познакомиться! - Добрый день, сэр! Чтоб не крутить-вертеть, сразу скажу, что вообще-то не слишком понимаю, почему вам понадобился именно я? И еще: каким образом вы определили, что я работаю в этой школе? - Парень явно не верил в байку, рассказанную Сузуки по телефону. Однако в следующий момент я обнаружил, что недооценил своего токийского приятеля. - Вы ведь хорошо знакомы с Фурукава-сан, не правда ли? - спросил загадочно и многозначительно Яша, поигрывая, как актриса перед зеркалом, своими черными глазами. - Точно, он брал у меня уроки и остался доволен. Способный человек, сбросить бы ему лет двадцать, далеко пошел бы! - Тэд явно отмякал. - Вот видите, это мой старинный друг, и мы частенько видимся с ним. Он и присоветовал обратиться именно к вам. Я, знаете ли, надолго уезжаю работать в Штаты, и мне, сами понимаете, нужно быть в хорошей форме. Нет-нет, сразу оговорюсь: на ринге выступать не собираюсь. Мне слишком дорог мой нос! - пошутил Сузуки и рассмеялся. Улыбнулся, совсем оттаивая, и Тэд. Честно говоря, после всего случившегося я представлял его иным: мрачным, заговорщицкого типа болваном с каменным выражением лица и стальными мышцами. А тут передо мной переминался с ноги на ногу приятный молодой человек, судя по всему, неглупый и общительный. Если мне удастся его разговорить, обрадовался я, он мне многое выложит. - Сколько раз в неделю вы сможете тренироваться и в какое вам время удобно приезжать? - деловито осведомился Тед Макинрой. - Два раза - не мало? - Яша во все глаза смотрел на учителя, точно задался цепью наперед понравиться ему и таким образом получить минимум шишек. - Не реже, - твердо сказал Тэд. - Иначе трудно в течение короткого времени довести приемы до автоматизма. Но вам, предупреждаю, Сузуки-сан, доведется кое-что делать и дома. - Согласен. - Итак, когда вы... Но тут обе двери одновременно распахнулись и в комнату славы ввалились сразу четверо, в намерениях которых трудно было ошибиться. Куда только делась приветливая подобострастность господина Яманаки! Это была глыба звериной злости и ненависти, покатившаяся на нас. Я успел заметить, как оторопел Тэд. Лишь значительно позже догадался, что он раньше нас сообразил, в чем дело, ведь во время своих бегов он ежеминутно ждал разоблачения. И все же оказался не готовым к опасности... Потому-то удар, нанесенный ему самим хозяином, застал врасплох - Тэд беззвучно сложился в пояснице и рухнул на пол. Следующей была бы очередь Сузуки - он ближе других находился к выходной двери, и один из двух, ворвавшихся через нее в комнату, пошел на удар. Но Такаси каким-то нечеловеческим прыжком преодолел метра три-четыре, отделявшие его от нападавшего, - он не напрасно предусмотрительно занял пост в углу, где на него нельзя было напасть неожиданно. То, что произошло в следующие несколько секунд, как я не пытался позже восстановить события, так и осталось для меня загадкой. Я не могу даже с уверенностью сказать, чем бил Такаси своих соперников - руками, ногами или бодался на манер валенсийского быка, но только гнусная четверка - я их и разглядеть-то толком не успел! - во главе с хозяином уже корчилась на золотистом полу, обагряя его кровью. - Быстрее отсюда! - закричал Такаси и толкнул к двери застывшего, как статуя, Сузуки. - Нужно забрать Горта, они убьют его! - Да! - выдохнул согласие Сузуки, и это было приказом для Такаси. Он легко, как пушинку, подхватил стонущего боксера, перекинул послушное тело через левое плечо и, пятясь, прикрывал наше отступление из зала славы. Мы беспрепятственно выбрались на улицу. Секундным делом было уложить Тэда сзади. Я устроился рядом. Сузуки бросился на переднее сидение. Взревев всеми своими двумястами лошадиных сил, "тойота", совершив головокружительный разворот почти на месте, рванула так, что меня вжало в пружины. Сколько мы кружили по улочкам и безымянным переулкам, не скажу. Высади меня тогда из машины, я вообще не сказал бы, в какой стороне находится Кобе. От резких бросков и поворотов у меня кружилась голова. До тошноты пахло свежей кровью - у Тэда был разбит подбородок, разорван нос. - Перевязать они! - на ходу крикнул Такаси на ломаном английском, одной рукой протягивая мне портфельчик с аптечкой первой помощи. Тэд уже очнулся, лежал молча и только кривился, когда я начал промокать его раны. - Дайте я сам, - сказал он наконец и вырвал из моих рук пук ваты, обильно политой спиртом. Он решительно приложил вату к ранам, и боль буквально сотрясла его тело. "Крепок, ничего не скажешь", - промелькнуло у меня. Когда мы вылетели на автостраду и Такаси убедился, что погони за нами нет, он что-то сказал Сузуки, тот - ему, потом они оба помолчали и снова заговорили, перебивая друг друга. Впрочем, перебивал собеседника Сузуки водитель лишь изредка бросал отдельные слова, то ли соглашаясь, то ли возражая Яше. Я, естественно, не понимал, о чем речь, но догадывался по быстрым, бросаемым на меня и Тэда взглядам Сузуки, что говорят о нас. - Что, Яша? - выбрал я паузу, чтобы вклиниться в спор. - Нужно куда-то увезти его, и прежде всего к врачу... - Не нужно никакого врача, - едва шевеля разбитыми губами, сказал Тэд. - В порт меня. У меня заказано место на теплоход до Рио... - В порт? - растерялся Яша. - Да, черт меня дернул с вами встречаться... Я чувствовал, что за мной уже идут по пятам, а когда вы позвонили, решил, что настал час расплаты... - Я ничего не понимаю. - Сузуки действительно ничего не понимал. - Я хотел смыться еще вчера, да хозяин только сегодня должен был выплатить месячную зарплату. Деньги, вот что меня удержало. - Он разговорился и уже не кривился от боли, лишь время от времени промокал кровь на губах. - Эх, балда! Ну, слава богу, вы-то, кажется, не из той компании? Вы действительно хотели брать уроки бокса? - Конечно, - быстро подтвердил Яша, все еще находясь в роли. - Нет, Тэд, совсем с другой целью... - Когда я назвал его по имени, он посмотрел на меня с такой тоской загнанного в угол раненого животного, и я пожалел его и не стал наслаждаться произведенным впечатлением. - Нет, Тэд, вам привет от Джона. Джона Микитюка... - Так это он вывел на меня? - В голосе его одновременно прозвучали облегчение и тревога. - О боже, о святая мать-заступница... Помоги мне! - Помочь себе вы сможете только сам, Тэд. Если... если наш разговор будет искренен... - О чем разговор? - О ком, Тэд... - Да, о ком? - О Викторе Добротворе... - О Викторе... - голос его прозвучал тихо, голова Тэда, лежащая у меня на коленях, бессильно упала, и он закрыл глаза...7
До отхода итальянского лайнера "Еугенио С" ("47 тысяч тонн водоизмещения, палуба - люкс, два бассейна, три ресторана, теннисные корты, два джаз-оркестра и "звезда" стриптиза миссис Штерн", - как сообщалось в рекламном проспекте, приложенном к билету) оставалось шесть с половиной часов, когда "тойота" подрулила к многоэтажному дому где-то на Острове; я пока не сориентировался, и Такаси в последний раз огляделся по сторонам, ощупывая взглядом редких прохожих. Пустынная улица - зеленая, светлая, чем-то похожая на русановскую набережную с цветниками и детской площадкой перед домом - просматривалась из конца в конец. - Здесь мы пересидим это время, - сказал Яша. - Пойдемте. Такаси двинулся вперед, ключом отпер дверь в подъезд, вызвал лифт, еще минута - и мы очутились на двенадцатом этаже, на лестничной площадке с одной-единственной дверью, украшенной каким-то размашистым черным иероглифом. Наш спаситель уверенно отворил и эту дверь, и мы очутились в прихожей современной квартиры, какую можно встретить в Париже и Барселоне, в Риме или Москве, на Ленинском проспекте. Хозяин увел Тэда в ванную комнату, предложив нам располагаться в просторном зале, служившем, по-видимому, столовой - во всяком случае, на такую возможность указывал расположенный в центре круглый неполированный стол из ясеня, где красовалась низкая ваза с роскошным букетом, составленным по малопонятным мне правилам икебаны. - Объясни наконец-то, во что это ты меня втянул, - оторвал меня от созерцания цветов резкий и недовольный голос Яши. Вид его не предвещал ничего хорошего, и я решил не юлить: испытанием, выпавшим на его долю, Сузуки вполне заслужил предельной откровенности. - Не суди меня строго, Яша. Поверь, мной руководят самые благородные намерения. Тэд Макинрой сбежал от преследующей его банды. Он жил в Монреале, там у него была мать и любимая девушка. Мать умерла или ее убили, такое тоже нельзя исключать, девушку он вряд ли сможет увидеть, если... если ему дорога жизнь... - Это - другое дело, - повеселел мой приятель. - Помочь человеку... - Не спеши, Яша. Тэд - тоже из их банды. - Глаза Яшао Сузуки полезли на лоб, и я догадался, что творилось в его светлой, умевшей просчитывать каждый шаг со скоростью и точностью "ПК" - персонального компьютера голове. Мало того, что слишком близкое общение с советским журналистом вряд ли придется по нутру его боссам, кое-кто из тех редко выплываемых на поверхность специальных служб мог бы заподозрить и более серьезные вещи. Увы, в наш перенасыщенный подозрениями - мнимыми и реальными - век иной раз самые искренние человеческие побуждения могут привести прямо к противоположным результатам. - Я прошу извинить меня, Яша. Если ты скажешь, мы с Тэдом тут же покинем этот дом. Просто не имею права навлекать на тебя и твоего друга неприятности - он и так сегодня сделал для нас слишком много. - Куда вы пойдете? Наверняка город уже находится под следствием якудза не потерпят подобной неудачи. Я немного знаком с нашими нравами. Нужно отсидеться, а потом прорываться в порт... Хотя, - Яша запнулся, - я так и не понял, что толкнуло тебя помогать преступнику? - Не собирался и не собираюсь помогать преступнику! Я изо всех сил стараюсь помочь... своему другу в Киеве, чья судьба сейчас зависит от того, что скажет Тэд. - О боги! Ты так все запутал, что у меня голова идет кругом! - Ладно, у нас будет время, чтоб обсудить это дело подробнее, а пока давай решать, как мы доберемся до порта. Это вне Острова? - Да, в городе. Вещи, деньги? Как заполучить их, если наверняка квартира парня давно под наблюдением? - Спроси у Тэда. Вот, кстати, они возвращаются... Не знаю, что предпринял молчаливый Такаси, но он оказался настоящим волшебником. Лицо Тэда хоть и не стало красивым, как у Алена Делона, но рана на носу была аккуратно заклеена тоненьким, почти незаметным кусочком розового пластыря, а губы так умело подкрашены, что, кажется, стали красивее, чем прежде. При близком рассмотрении, конечно, обнаружить неестественность цвета кожи не составляло труда, но макияж был сделан не хуже, чем в знаменитых парижских салонах. Самым же главным было появление черных щегольских усиков и кока на голове, до неузнаваемости изменивших облик парня. - Ого! - воскликнул Яша. На лице Такаси не промелькнуло и тени гордости или самодовольства. Он что-то коротко бросил Яше, повернулся, и я услышал, как защелкнулся за ним замок двери. - Такаси поставит машину в гараж. Вряд ли они успели запомнить номер, но береженого не любят черти, как говорят у нас. Заодно он посмотрит, что делается поблизости. Послушайте, молодой человек, - обратился Яша к Тэду, застывшему посреди комнаты. - А ваши вещи, деньги? - Не беспокойтесь, - каким-то незнакомым глухим голосом ответил Тэд, и я увидел, что и левый уголок рта тоже был ловко заклеен и закрашен. Это-то и мешало ему говорить свободно. - Мои манатки, и деньги в том числе, на морском вокзале в автоматической камере. Я же говорил, что собирался рвать когти после вашего звонка... Вот только в этом спортивном костюме... - Тэд с сомнением осмотрел красный тренировочный костюм. Впрочем, я успею переодеться на месте... Если, конечно, вы меня отпустите. - Он обвел нас с Сузуки не слишком-то вежливым взглядом. - Тед, ты отправишься в Рио. Никто не собирается тебя задерживать, да и не вправе мы этого делать, - сказал я. - В полицию мы тоже звонить не собираемся, - вмешался Яша. - Но и вы - вы тоже должны войти в наше положение... - Да, Тэд, Микитюк просил передать вам, что ваша подружка ждет... - Мэри... - не сказал, а простонал парень, и мне стало его жаль молодой, крепкий, полный жизни, он вынужден скитаться по белу свету, как гонимый волк. - Кто вы? - Он повернулся ко мне. - Да, вы! - Я - советский журналист, Олег Романько. - Какое вам дело до Добротвора? - Человек попал в беду... И вы, Тэд, как мне видится, имеете к этому самое прямое отношение. Не так ли? - Так. Но ведь вы - журналист, и стоит мне открыть рот, как вы распишете мою историю по всему миру, и мне нигде не найдется укрытия! вскричал он, если можно было назвать криком свистящие звуки, вылетавшие из его заклеенного рта. - У меня нет намерения причинять вам вред, Тэд, хотя вы сделали подобное в отношении моего друга - Виктора Добротвора, и я был бы прав, ответив ударом на удар. Согласны? - Попробуй не согласиться, - буркнул Макинрой. - Не вы в моих, а я в ваших руках... Мне нужно подумать... - Думайте, Тэд, Хотя, наверное, думать следовало бы раньше. - Послушайте, вы мне на мозги не капайте! Что вы знаете обо мне?! Вольны говорить все, что вам в голову взбредет... - Еще раз повторяю, Тэд Макинрой, - взяв себя в руки, как можно спокойнее, буквально чеканя каждое слово, произнес я. А ведь меня так и подмывало врезать ему в его опухшую, заклеенную рожу и закричать: "Подлец! Ты человеку жизнь исковеркал ни за что ни про что, обманом втянул его в грязную историю и еще ломаешься как девица..." Но позволь я себе подобное, никогда бы не простил такой слабости. - Вы можете выбирать: будете говорить или нет... - А если я предпочту молчание? - Как и условились, вы уедете в Рио. - Тода я предпочитаю молчать. Мне же лучше будет! - Он явно обретал уверенность в себе. - Эй, парень, не знаю, о чем там ведет речь мистер Романько, а я тебе скажу вот что, - неожиданно вмешался в наш диалог Сузуки. - Ты же не подлец, это видно и невооруженным глазом. У тебя была мать - и ты ее предал, у тебя была девушка - и ты предаешь ее. Как жить собираешься? Вот чего я меньше всего ожидал! Тэд Макинрой разрыдался. В считанные мгновения творение рук Сузуки поплыло под градом слез, катившихся из глаз Тэда, он еще усугубил дело, кулаками вытирая их; глухие, рвущие душу рыдания сотрясали сильное, мускулистое тело. Наконец он совладал со своими чувствами. - Не могли бы вы дать чашечку черного кофе? - обратился он к Яше, и тот поднялся и направился на кухню. - Я расскажу вам, мистер Романько, все расскажу, ничего не утаю. Хотя для меня это может обернуться бедой. Впрочем, она и без того стоит за моими плечами... Прав японец: я предал и себя, и своих близких... - Вы разрешите, Тэд, записать рассказ на пленку? - Хоть на видео... - Я, Тед Макинрой, двадцати девяти лет от роду, из Монреаля, сын Патриции Харрисон и Мориса Макинроя, находясь в трезвом рассудке и обладая полной свободой выбора, сообщаю все эти факты советскому журналисту Олегу Романько и предоставляю ему полное право распоряжаться ими по собственному усмотрению, - торжественно, но немного мрачновато, начал Тэд, чем немало смутил меня - я, естественно, не ожидал от парня такой точности. Он перевел дух, сделал пару глотков кофе и продолжал: - Я уже входил в сборную Канады по боксу, когда впервые познакомился с человеком по имени Фред Маклоугли. Лет 40-42, он выглядел преуспевающим дельцом, что, впрочем, вполне соответствовало его положению в обществе. Он дождался, когда я закончил тренировку, представился и сказал, что был бы очень рад поговорить со мной. Я поинтересовался, о чем пойдет речь. Он заверил, что речь пойдет обо мне и о моей дальнейшей судьбе, спортивной, в первую очередь. Еще он сказал, что такой талантливый боксер не имеет права остаться за бортом настоящего спорта. "Профессионального?" - спросил я. "Да", - подтвердил Маклоугли. Честно говоря, я уже подумывал тогда о переходе: дела мои в университете шли ни шатко ни валко, сказывались частые отлучки на тренировки да соревнования, отец мой умер давно, и мы с матерью перебивались на скудные гроши, что выделяла мне наша федерация. Разве я не понимал, что на этом будущее не построишь? Тэд умолк, словно провалившись в бездну - бездну воспоминаний, и я обеспокоился, как бы он не замолчал вообще. Я поспешил сказать: - Тэд, ближе к теме, интересующей меня. - Не торопите завтрашний день, как говорят у нас, мистер Романько, потому что неизвестно, каким он обернется. Все, что я говорю, имеет прямое отношение к делу. Вы крепко ошибаетесь, оценивая роль вашего друга в случившемся тогда в "Мирабель". - Ошибаюсь? Вы о ком? - О Викторе Добротворе. Так вы будете слушать? - Да. Продолжайте, - спокойно сказал я, а на душе кошки скребли. Мне вдруг беспричинно стало так больно, так грустно, ну, хоть плачь. Неужто я и впрямь идеализировал Виктора? Можно ли так обманываться в человеке? - У Фрэда был шикарный лейландовский "триумф", такой шикарный, что мне даже сесть в него сразу было трудно решиться. Фрэд заметил мою неуверенность, безошибочно вычислил мои мысли и сказал: "У тебя такая штука тоже может быть, Тэд". Мы поколесили по городу и отаборились в небольшом, но дорогом - я заглянул в меню, у меня в глазах потемнело от цен! - ресторанчике. Новый, знакомый предложил выбирать, но я слишком обалдел, чтоб шикануть как положено. Тогда Маклоугли сам начал диктовать, ого, получился список как для веселой компашки... - Кто такой Фрэд Маклоугли? - Не знаю... - Вот тебе и на! - Представьте себе! Чтоб мне никогда не увидеть родной земли! Не знаю. Свой человек в боксерском бизнесе, это точно, не раз встречал его и в Федерации бокса. Видел и с боссами мафии, с ним запросто здоровались люди из НОКа [НОК - Национальный олимпийский комитет] Канады. Кто он в действительности, не могу ручаться. Но то, что он обладает властью над другими, убедился на собственном опыте... На печальном собственном опыте... Встретиться бы мне с ним еще разок, да в безлюдном месте, разговор бы получился... - голос Тэда окрасился зубовным скрежетом. - Ну да, видно, не судьба... - Так это он повинен в ваших бедах? - спросил дотоле молчавший Сузуки. - Наверняка! Итак, мы славно провели время в светской беседе. Фрэд не предлагал мне ни контракта, что, честно вам скажу, крепко разочаровало меня, ни вообще не рисовал никаких радужных перспектив. Просто эдакий светский треп, и я даже пожалел, что потратил время попусту. Так и распрощались ни с чем, когда он довез меня до нашей с матерью хибары в районе порта. Я продолжал тренироваться, мать все болела - у нее была тяжелая, неизлечимая форма астмы, деньги, что я выручал от своих выступлений, почти целиком уходили на лекарства. Чтоб не окочуриться с голоду, стал тыкаться в профессиональные клубы, предлагая свои услуги, но неожиданно повсюду получал отказ, едва называл свое имя. Это действительно было для меня неожиданным, ведь еще недавно ко мне подкатывалось несколько менеджеров, не первого сорта, ясное дело, но все же достаточно авторитетных, предлагая свои услуги. Тогда я отказывал им, теперь они, точно сговорившись, начисто отвергали мои притязания. Я залез в долги по уши, но наша любительская федерация ничем не могла мне помочь. Тогда решил бросить бокс и искать себе занятие понадежнее. Поеду, решил, в последний раз выступлю на турнире в Москве - и гуд бай, мистер Бокс! Вот тут-то и появился человек от Маклоугли, привет от него передал. Спросил, не хочу ли я заработать, хорошо заработать. "Как?" - без лишних расспросов ухватился я за предложение, потому что дошел до ручки - вот-вот могли нас с матерью вышвырнуть из квартиры. "Захватишь с собой немного "снежка", у русских контроль на это дело слаб, у них наркотиков как бы не существует, и они свято верят в это, значит, риска - ноль, - сказал посланец Фреда так просто, будто речь шла о сущем пустяке, а не о деле, за которое вполне можно схлопотать лет десять тюрьмы. - Вернешься, пять кусков - твои". Мне бы рявкнуть "нет!" да взашей выгнать этого современного данайца... Я сказал ("нет", но оно прозвучало как "да". "Нет, - сказал я, - деньги вперед". - "Хорошо, - согласился тот. - Половину сейчас, вторую - после возвращения и получения сигнала, что передача достигла адресата". На том и порешили... - Когда это было? - спросил я. - Кажись, в восемьдесят втором, в конце лета... - Вы взяли передачу? - Взял, перевез без всяких забот. У вас на таможне вообще никто не спросил, что в чемоданах. Цветы, приветствия... Мне даже как-то совестно стало на душе: привез страшный яд, у нас я насмотрелся на его последствия... - И тем не менее привезли... - Но я себя успокоил быстро: раз русским это нужно, значит, пусть они сами и решают собственные проблемы... - Гениальное решение, ничего не скажешь. - В груди у меня нарастала волна ненависти к этому хлысту. А я еще его пожалел: мать больная, бедность... - Самое простое, какое только можно придумать, сэр. - Без всякого сожаления или раскаяния в голосе подтвердил Тэд. - Не успел отабориться в отеле, как телефонный звоночек. Эдакий игривый девичий голосок поинтересовался, кстати, на довольно-таки приличном английском, не буду ли я так добр пригласить мистера Рейгана. Я ответил, что мистер Рейган правит в Штатах и что она ошиблась адресом. Девица извинилась и положила трубку. То был условный код, засвидетельстовавший, что меня ждут. Проваландался в ожидании два дня, никто так и не подвалил ко мне. Я тренировался, перезнакомился с боксерами, с вашими, мистер Романько, тоже... - Тэд сделал паузу. Я сжался, точно хотел провалиться сквозь землю, потому что понял: сейчас он назовет имя Виктора Добротвора... Я не выдержал: - Вы познакомились с Виктором Добротвором? - В первый же день! Я передал ему привет от Джона Микитюка, его канадского знакомца. Славный парень! Затаскал меня по Москве, даже в музей завел... - Вы попросили, чтоб он привез вам лекарство для больной матери... - Какое еще лекарство? - Эфедрин. Тот, с которым его задержали в аэропорту "Мирабель"? - Еще чего! Добротвор в этой игре не участвовал, не-е... Так я лучше по порядку, хорошо? - Давайте. - Я плохо слышал, что рассказывал Макинрой, но, слава богу, "Сони" работал исправно и надежно. - Он объявился в последний день, в день финала, когда я уже подумывал, как бы избавиться от "подарка". Не везти же его назад: в "Мирабель" меня бы мгновенно сцапали... Когда перед самым выходом на ринг я отключился, собираясь перед боем, явился тот, кого я и ждать перестал. "Привет, Тэд! - сказал он. - Чтоб у тебя легче было на душе, отдай мне "снежок". Я ожидал кого угодно, но только не этого парня... Ведь через несколько минут мы должны были встретиться с ним на ринге... - Кто? - Нет, не Виктор Добротвор. И слава богу, что не он! Виктор мне нравился больше других. Добрый, чуткий... - Кто?! - Его звали Семен Храпченко, с ним я не обмолвился до этого ни словом... какой-то насупленный... может, оттого что мы выступали в одной весовой категории, но я не испытал к нему прилива чувств... А он же в этот момент, когда я передавал ему "подарочек", просто-таки трясся от страха. Хотя, думаю, брал не в первый раз... - Тэд Макинрой продолжал говорить, но я ничего не слышал и не видел, я оглох и потерял способность реально мыслить, и мозг нес какой-то бред, точно в ЭВМ взяли да засунули нарочно перепутанную программу. Не Виктор - Храпченко? Но почему же тогда в Монреале арестовали Добротвора? Чего же тогда стоят слова Храпченко, приведенные в той статье? Меня спас Тэд, догадавшийся, что творилось у меня на сердце. - И та злосчастная передача, из-за которой и случился монреальский сыр-бор, была храпченковская. Ему приказали - кто и как не знаю, не буду гадать, наверное, те, кто получал "снежок", - подложить это добро в спортивную сумку Добротвора. Что и сделал Храпченко в самолете, ведь сумки-то у них, если вы помните, совершенно одинаковые. Погоди, погоди... Я увидел ярко освещенный таможенный стол в "Мирабель", два адидаса, длинные и вместительные, что твой сундук, сумки, стоявшие рядышком, - распахнутая на всю чуть ли не полутораметровую длину добротворовская и намертво затянутая молнией - храпченковская. К ней таможенник даже не притронулся, точно знал наверняка, что там ничегошеньки, кроме спортивных причиндалов, нет. НЕТ! - Вот только до сих пор в толк не возьму, почему это все случилось в аэропорту, а не в гостинице, не в номере Добротвора, куда я должен был явиться, а вслед за мной - полиция. Его должны были задержать при передаче наркотиков со всеми вытекающими из очень суровых канадских законов последствиями за такие дела... - Друг Виктора Добротвора... Настоящий друг, - подчеркнул я, позвонил в полицию и в редакции газет. Это - единственное, что он мог сделать доброго для Виктора. - Я не стал называть имя Джона Микитюка. - Так вот в чем разгадка... Спасибо тому человеку, что он хоть частично снял грех с моей души... Вы можете спросить, как я докатился до такой жизни... - Это понятно и без ваших оправданий. Ты согласен, Яша? - Подонок... - Вы правы - подонок. Но когда на шее человека затягивается петля, он хватается за соломинку, чтоб не задохнуться. Попробуйте это уразуметь. - Человек должен оставаться человеком, а не превращаться в скота! заорал Сузуки, удивив даже меня этим взрывом возмущения. - Тэд, проясните одну деталь. Как вы очутились в тюрьме? - Меня наказали за драку на улице. Это было в тот же вечер, когда Виктора арестовали в аэропорту, и я нутром уразумел, что операция сорвалась и мне несдобровать. Мне позвонили, вызвали на улицу, и не успел я выйти, набросилось трое. Я и ударить-то не успел, как откуда ни возьмись - полицейский патруль. Да что там гадать - меня просто-напросто упрятали в тюрьму, чтоб не проболтался... Я поверил им, что так нужно, и не слишком огорчился... Верил, что не оставят в беде мать. А она скончалась в страшных муках, одна, без лекарств, брошенная на произвол судьбы... Когда меня выпустили из тюрьмы, я смекнул: теперь мой черед... Купил первые попавшиеся документы и удрал подальше... Но, видимо, не слишком далеко, раз вы разыскали... - Непонятно, Тэд, лишь одно: зачем понадобилось это "переодевание" сумок, в чем провинился Виктор? Ему предлагали тоже участвовать в контрабанде, а он отказался - или как? - Кому-то нужно, очень нужно было запачкать грязью его имя Добротвор ведь великий спортсмен, и его знали в мире... - Минутку, Тэд. Это ваши домыслы или для такого заявления имеются веские основания? - Имеются, - после некоторого колебания ответил Макинрой. - Фред Маклоугли поделился со мной однажды радостью - он к тому времени ничего не скрывал от меня, доверял. Так вот, он как-то похвастал, что начинаются преотличные времена для тех, кто любит спорт. Тогда я доподлинно знал, какой он любит спорт и что любит в нем, и потому не сомневался, что затевается очередная пакость. Пакость, - это я говорю сейчас. Тогда я был одним из них и мыслил так, как они. Это было за год до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Создали комитет, или совет, не знаю точно, это держалось в секрете. Туда вошли такие, как Фрэд, с одной стороны, с другой - люди поважнее, из другой парафии... - Рассказчик умолк. Мы с Сузуки тоже молчали. - Из ЦРУ, - твердо, точно решившись на что-то очень важное для себя, сказал Тэд. - Это объединение ставило целью не допустить русских на Олимпиаду в Америку, а в дальнейшем вести дело на развал Игр путем коммерциализации, допуска профессионалов, приручения спортивных "звезд" с помощью спонсоров и неофициальных гонораров. Я видел Фрэда после Лос-Анджелеса - он пребывал на седьмом небе от счастья... Что касается наркотиков, то в профессиональном спорте они уже приносят немалые барыши. - Выходит, на очереди у них таки любительский спорт? - спросил Яша. Он был всерьез расстроен, грустен. Для него это оказалось открытием в полном смысле слова, открытием вдвойне тяжелым, потому что Сузуки был искренним спортивным болельщиком. - Он давно уже на очереди, - подтвердил Тэд. - Если у вас больше нет ко мне вопросов, то могу ли я попросить вас об одолжении? - У меня нет. - У меня - тем более, - сказал Яша. - Тогда прошу вас не публиковать ваши статьи раньше, чем спустя две недели. За это время я успею закопаться поглубже, где-нибудь в южноамериканской сельве... И не сообщайте, что я направился в Южную Америку. Прошу вас, я хочу жить... - едва слышно закончил Тэд Макинрой, бывший боксер и некогда честный человек, не сумевший удержаться от первого пагубного шага. Вслед за ним последовали другие, в результате чего вряд ли кто взялся бы сейчас поручиться за его жизнь. Меня же поразило другое: он сказал больше, чем я просил его. - Вы, Тэд, выложили много такого, чего и не было в моем вопросе. И тем значительно усугубили свое положение. Чем вызвана такая откровенность? - Да, я упал, и упал очень низко, господа. Но я многое передумал. Потому-то и сказал вам все, что знал. Виктор Добротвор, взявший на себя вину предавшего его товарища, сыграл в таком решении тоже не последнюю роль... Такаси вызван такси, снова подкрасил физиономию Тэда Макинроя и увез его в порт. Мы с Яшей решили, что провожать его не только нет смысла, но и было бы слишком большой честью.8
Универсиада подходила к концу. Как-то, выходя из гимнастического зала, где только что закончили выступления гимнастки и счастливые девчонки из сборной СССР дружно по-бабьи плакали в коридоре, я поймал себя на мысли, что немножко завидую им. Это были такие искренние, светлые и очищающие слезы радости, что я действительно позавидовал им - беспредельно уставшим, выложившимся, как говорится, до дна. Они еще даже не осознали, что золотые медали принадлежат им, и в Москве их ждут почести, и они смогут заикнуться наконец-то о повседневных своих проблемах и заботах, с коими - это доподлинно известно - к начальству без вот таких достижений и соваться незачем. В их незавидном положении великовозрастных (а ведь самой старшей едва минуло 20) спортсменок, вытесненных из главной, национальной сборной страны юными отчаянными сорвиголовами, чья смелость, как и беспредельное доверие к тренеру, заменившему и отца, и мать, и школу, не ведала никаких границ, Универсиада была настоящим эликсиром спортивной молодости. Без нее они давно были бы списаны окончательно и бесповоротно, и слава богу, если нашлось бы в их жизни дело, на какое можно сразу переключиться, порвав со спортом, чтобы не разорвать себе сердце неизбывной тоской по таким прекрасным, таким счастливым дням... И еще решил, что мне нравятся эти состязания именно по причине их взрослости, что здесь на Универсиаде, - женская гимнастика, а не детская, здесь - женское плавание, а не состязание бездумных первоклассниц... И как бы не утверждали, что спорт способствует более быстрому созреванию личности, это ускорение, увы, несет в себе такие опасные задатки психологического рака, что, право же, не грех задуматься: справедливо ли нам, взрослым, умудренным опытом людям, бросать в раскаленное горнило страстей чистые, мягкие, доверчивые души мальчишек и девчонок, на авось надеясь, что они не сломаются и не будут потом всю долгую жизнь недобрым словом вспоминать свое "золотое" детство... Я медленно двинулся по аллее, ведущей из Дворца спорта к пресс-центру. Сфотографировался от нечего делать в обнимку с плюшевым красноголовым журавлем, расхаживавшим среди зевак, собравшихся у выхода поглазеть на гимнасток, дал пару автографов. Парило, небо в какой уж раз за день затягивали не слишком мрачные, но обильные дождевые тучи. Идти в пресс-центр тем не менее не хотелось: изрядно надоел ритуал, который ты начинал исполнять, стоило лишь показать охраннику ладанку и переступить порог. Пройдя вдоль стеллажа и набрав кучу протоколов, сообщений и уведомлений, во множестве поступавших сюда из самых разных служб и организаций - от очередного запрещения пожарной охраны не курить в неположенных местах до приглашения на брифинг представителя сеульского ООК - Организационного олимпийского комитета, ты направишься к одной из машинок фирмы "Бразерс" с русским шрифтом. Вывалив всю эту макулатуру на стол, за работу садиться не спешишь. После жары тебя бросает в дрожь от переохлажденного воздуха. Потому-то сначала нужно сходить к автоматам, разливавшим чай или кофе, а заодно потолкаться среди пишущей братии - глядишь, набредешь на свежую информацию, пока не спеша прихлебываешь крепкий двойной кофе. Лишь после этого можно было усаживаться за машинку, чтобы начать работу, изредка прерываемую на минуту-другую, чтоб взглянуть на один из трех экранов телевизоров, что стояли вдоль стены на высоких подставках. Со времени отъезда Тэда Макинроя на "Еугении С" минуло несколько дней, и тревога постепенно ушла из сердца, и я уже не оглядывался по сторонам, прежде чем свернуть в темную улочку, что вела к моей гостинице, и не ходил, прижимаясь к стенам домов, прислушиваясь к "голосу" каждого автомобиля, нагоняющего тебя. С Яшей мы виделись почти ежедневно, он тоже, как я догадался, первые дни чувствовал себя не в своей тарелке и не слишком был уверен в собственной безопасности. Но теперь, как и я, избавлялся от этого комплекса. Однажды я столкнулся и с Такаси - он сидел на трибуне теннисного стадиона и отчаянно болел за соотечественницу, сражавшуюся, правда, без особого успеха, с американкой, известной в недавнем прошлом "звездой". Он не заметил меня или сделал вид, что не заметил, и я не подошел к нему, рассудив, что вряд ли наша встреча добавит что-то новое к тому, о чем мы оба хорошо осведомлены. Зато Серж Казанкини чуть не ежедневно вылавливал меня в пресс-центре и, привязавшись, как собачонка, послушно тянулся вслед за мной - на гимнастику так на гимнастику, на легкую атлетику так на легкую атлетику, куда угодно, хоть к черту на кулички, как признался он однажды. Ему было отчаянно скучно на Универсиаде, потому что передавать он, за исключением одной информации о пресс-конференции сеульской делегации, ничего не передавал. "Франс Пресс" Универсиада не интересовала. - Если б не ты, Олег, загнуться бы мне с тоски, - признался Серж, когда я однажды попытался отшить его, ссылаясь на невообразимо большой объем роботы. - Ты работай, а я возле тебя тихонько посижу, ну, не гони меня... Что тут скажешь? Я не мог обидеть его, хотя этот постоянный хвост мог изрядно надоесть и человеку куда более сдержанному. Но я терпел Сержа и даже по его просьбе составлял ему компанию в пресс-баре, где подавали японское виски "Саппоро" - о качестве его мог судить лишь со слов Казанкини, а тот был не слишком вежлив по отношению к подношениям фирмы, бесплатно угощавшей журналистов ежедневно с 18:00 до 20:00 по местному времени. Я не стал посвящать Сержа в перипетии истории с Виктором Добротвором, хотя однажды обмолвился, что Виктор - чист, как стеклышко, я докопался до истины и теперь жду не дождусь, когда возвращусь в Киев, изложу все это на бумаге и добьюсь, чтоб статью опубликовала тасамая газета, что так поиздевалась над ним после возвращения из Монреаля. Серж не стал доискиваться до деталей, ибо, судя по всему, та давняя история для него давно стала действительно историей, но тем не менее резонно заметил: - Ты тоже не слишком-то кати бочку на коллег. Они пользовались официальной информацией, и тут они чисты перед собственной совестью, согласись. Если мы станем дожидаться, когда вскроются какие-то детали, - и вскроются ли они вообще? - товар безнадежно устареет... - Наверное, ты прав. Хотя по мне лучше десять раз отмерить, чем один раз отрезать... по живому. Верить нужно человеку, его прошлому, его послужному списку, что ли, ну, конечно, не в канцелярском значении этого слова... жизненному послужному списку... Никогда не взрастет чертополох из ничего. А у Виктора ведь была такая незапятнанная биография! - Никто не знает, что делается в душе. Снаружи - ангел, а внутри давно сидит дьявол... - Молиться нужно чаще! - Да вы ведь русские - безбожники? - Молиться нужно правде. Всю жизнь! - О ля-ля! - ехидно рассмеялся Серж. - О ля-ля, мой друг, так нетрудно и лоб расколотить! - Лучше лоб разбить, чем совесть. - Нет, твой максимализм не знает предела, и я выхожу из спора. Пароль к жизненной истине есть терпимость и еще раз терпимость - к себе, к другим, к врагам и друзьям. - Нет, Серж, пароль к истине - правда. И только правда, какой бы тяжелой порой она не оказывалась для человека... Серж было дернулся, намереваясь заспорить, но мгновенно передумал. Уткнул нос в бокал с "Саппоро" и смаковал напиток, столь поносимый им, когда кончалось объявленное фирмой бесплатное время. Я подумал, что как ни трудно было Виктору все это время, но теперь уже близок час истины и его доброе имя вновь будет чистым и незапятнанным. Я предвкушал, как зайду в кабинет к Савченко, сяду в кресло, попрошу Валюшу - его секретаршу - никого не впускать и не переключать телефон, выну под недоуменные взгляды Павла магнитофон и на полную мощь включу запись рассказа Тэда и тут же стану переводить. Нет, сделаю по-другому: я перепишу запись и на фон голоса Макинроя наложу свой перевод, чтоб Савченко сразу понял, о чем речь. А потом уже попрошу вызвать в комитет на определенное время Храпченко и еще кое-кого, кому по делам службы нужно знать о таком, и вновь прокручу запись... За два дня до отлета в Токио - мне предстояло пожить еще там трое суток - ни свет ни заря позвонил Серж. - Хелло, сэр! - заорал он в трубку так, что задребезжала мембрана. Ты уже поднялся? - Не только поднялся, но и даже успел сделать зарядку. Да не ори ты так, телефон сломаешь! - О ля-ля, извините, сэр! - У Сержа было игривое настроение, и я заподозрил, что он только что возвратился после какого-нибудь приема и решил вообще не ложиться спать - это было в духе Казанкини, хотя второго такого лежебоку в жизни своей не встречал. - Что там у тебя, Серж? У меня вода льется в душе. - Давай встретимся. - Давай. Я буду в пресс-центре в десять - начале одиннадцатого. - О'кей. Только обязательно! Есть для тебя сюрпризик. Честно говоря, я менее всего жаждал сюрпризов - и без того дел хватало. Я мысленно перебрал все достойные и необидные причины, чтоб каким-то образам избежать сюрприза, но Серж как в воду глядел: - Скажу заранее, ты будешь доволен. Вот тогда ты поймешь, кто такой Серж Казанкини и на что он способен! Против таких авансов у меня не нашлось веских доводов, и я согласился, решив, что, к сожалению, давно обещанную Яше поездку в национальный парк Рокко снова придется отложить. Нет, и впрямь Серж стал здесь в Кобе моим злым гением - ну, просто проходу не дает. Вот с такими не слишком-то лояльными мыслями я направился в пресс-центр. Ефим Рубцов вынырнул откуда-то из спешащей к началу состязаний во Дворце спорта толпы и чуть не наткнулся на меня. Он резко изменил направление, развернулся и исчез среди людей, точно его и не было еще секунду назад. "А этого-то что сюда принесло - Универсиада уже почти закончилась? с неприятным ощущением, точно напоролся на змею, подумал я. - Он же никогда и нигде не появляется просто так, без определенной цели. К нашим он вряд ли сунется... Тогда зачем?" Так и не решив эту проблему, ухудшившую и без того не слишком-то хорошее настроение, вызванное в немалой степени и обидой, высказанной мне Сузуки, когда я сообщил ему новость ("Олег, я ведь здесь не турист, и мне тоже нелегко было выкроить эти несколько часов, чтобы побывать в Рокко... Даже не уверен, сумею ли сделать это в будущем", - холодно, как никогда прежде, отрезал Яша), вошел в пресс-центр. Сержа увидел сразу, издали: он восседал на своем любимом месте напротив бармена - высокого, статного и по-настоящему красивого японца лет 30 в черном строгом смокинге, чья грудь была похожа на средневековый панцирь - она была впритык увешана бесчисленными значками, подаренными ему иностранными журналистами. Были там и два моих: Спартакиада Украины - по весу и размеру, наверное, самый большой значок, и динамовский футбольный мяч. - Ну вот, ты спешишь, отменяешь дела, а он прохлаждается в баре! Может, в этом и был твой сюрприз? - набросился я на Казанкини. Серж растерялся, он никак не ожидал такого начала, открыл рот и ошалело уставился на меня. - Что ты смотришь, как баран на новые ворота? - Не знаю, почему ты нервничаешь, но если б я знал, что ты так отнесешься к моему предложению, никогда не занимался бы этой встречей, наконец вымолвил Серж с глубочайшей обидой в голосе. "Ну вот, что это сегодня со мной? Второго человека обидел ни за что ни про что!" - запоздало охладил я свой пыл. - Извини, Серж... Просто увидел тебя здесь... - ...и решил, что Серж просто веселый трепач. Правда же, решил? Ну! - Сознаюсь, был такой грех. - Ты же знаешь - в пресс-центр ни под каким соусом посторонних не пускают. Мой сюрприз ждет нас в баре напротив, в здании велотрека. Пошли. Сюрпризом оказался высокий худощавый человек с прямыми широкими плечами, выдававшими в нем в прошлом спортсмена. Незнакомцу было лет 45, никак не меньше, но выглядел он моложаво, и если б не седые виски, вряд ли дал бы ему больше сорока... Он был в шортах, в белой тайгеровской майке и резиновых японских гета на босу ногу. Перед ним на столике стояли чашечка с кофе, рюмка с коньяком и стакан воды с кусочками белого льда. Он поднялся, когда мы направились к нему, широкая улыбка высветила ровные, как у голливудской кинозвезды, белые зубы, глаза смотрели прямо, приветливо. Я подумал, что он похож на типичного американца, и не ошибся. - Майкл Дивер, - представился он. - Олег Романько. Он с силой пожал мне руку. - Наверное, я видел вас в Мехико-сити, на Играх, - сказал он. - Я не пропустил ни одного финала по плаванию. Был там в составе американской делегации, помощником олимпийского атташе. К тому же сам - бывший пловец, правда, до Олимпийских игр мне добраться не посчастливилось. - Я понял, что Серж успел дать мне исчерпывающую характеристику и таким образом упростил ритуал знакомства. - Что будете пить? Виски, коньяк? - Спасибо. Сержу, насколько я в курсе дел, коньяк надоел еще во Франции, потому ему - виски. Мне - баночку пива. - О'кей. И кофе! - Мистер Казанкини много рассказал мне о вас, - сказал Майкл Дивер и сделал легкий наклон головы в сторону Сержа. - У нас с вами, мистер Романько, есть общая тема - Олимпийские игры, олимпизм и все, что связано с "олимпийской семьей". Поэтому я согласился с предложением... - ...просьбой, - перебил его Казанкини. - ...просьбой мистера Казанкини, - поправился американец, рассказать вам о некоторых аспектах современного олимпийского движения, я так думаю, вам малоизвестных. Нет-нет, я никоим образом не хочу умалить ваш опыт, но, поверьте мне, об этих делах пока знают или догадываются немногие... - Я весь внимание, Майкл. Вы разрешите называть вас так запросто? - Буду вам признателен. Итак, речь идет о существующем заговоре против олимпизма. Олимпизма в том изначальном смысле, коий был вложен в него древними греками и возрожден Пьером де Кубертеном. Я в Мехико представлял не НОК США, хотя и работал под его крышей, а Центральное разведывательное управление, и задачи передо мной были поставлены в несколько иной плоскости, чем ставят тренеры задачи перед спортсменами. Хотя было и кое-что общее: они хотели выиграть золотые медали, я же хотел кое-что выиграть в политической игре. Преуспел ли я там, не мне судить. Но мое начальство достаточно высоко оценило мои труды... Увы, я подвел их ожидания и сошел с их корабля. - Как это следует понимать, Майкл? - В прямом смысле. Сразу после Игр в Мехико-сити я отправился не в Вашингтон, а сел на корабль в порту Веракрус и... с тех пор путешествую по миру. Я собираю свидетельства и свидетелей, чтобы подтвердить мое заявление о существующем заговоре против Игр. Я неоднократно выступал с разоблачениями усилий, предпринимаемыми в этом направлении некоторыми странами, слишком близко к сердцу принимающими поражения своих спортсменов от русских, восточных немцев и других. В первую очередь это исходит от влиятельных кругов моей страны... - Я читал некоторые ваши статьи, Майкл, и рад познакомиться с вами лично. Я могу записать интервью с вами? - Увы, я не готов для серьезной беседы. Я здесь проездом, а рукопись своей новой книги, как и документы, добытые мной в последнее время, особенно после Игр в Лос-Анджелесе, храню, как всякий уважающий себя американец, в банке... В одной нейтральной стране, так скажем... Я готов буду поделиться с вами некоторой информацией или даже дать вам экземпляр моей новой рукописи - публикация в вашей прессе будет стоящей рекламой. Ну, скажем, через два месяца. Устроит? - Мне не выбирать, Майкл. Через два месяца... значит, через два месяца... Как это организовать? Вы не собираетесь быть в Европе? - Возможно, в конце ноября в Лондоне, если наш футбольный клуб выйдет в одну восьмую Кубка кубков... - Вы мне тогда дайте знать! Вот по этому адресу и на это имя. Я буду неподалеку, в Париже, и смогу прилететь на денек в Лондон. К тому времени с легкой руки и с помощью мистера Казанкини моя книга уже будет, как говорится, испечена... - А, понимаю, беседа со мной - дань мистеру Казанкини. - В немалой степени. Хотя такая встреча полезна и для меня. Моя цель - привлечь как можно более широкое внимание мировой общественности к опасности, нависшей над Играми. Ведь теперь объединились самые черные силы - политики, бизнесмены и мафия. Мне страшно даже подумать, что они способны натворить с этим едва ли не самым прекрасным в наше критическое время творением человечества! Допинги, наркотики, подкуп спортсменов... - Жаль, что мы не можем сейчас побеседовать на эту тему. - Я привык подкреплять слова документами. Я это сделаю, обещаю вам. Кое о чем вы сможете рассказать первым, потому что даже я не решусь обнародовать некоторые факты... Только у вас в стране, которая является гарантом чистоты Игр, ее идей и традиций, зто возможно. - Благодарю вас, Майкл! - Ну, вот, а ты чуть меня не разорвал, - вставил слово Серж, улыбаясь во весь рот. - Спасибо, Серж, мы ведь с тобой не конкуренты! Мы дружески попрощались с Майклом Дивером, и мне приятно было ощутить его крепкое, мужественное рукопожатие, и белозубая, открытая улыбка этого американца еще долго стояла перед глазами - такой человек не мог не понравиться, и я был благодарен Сержу за встречу. - По этому случаю ты мне составишь компанию в баре пресс-центра? спросил Казанкини и выжидательно уставился на меня. - Куда от тебя денешься...9
Я заблудился. От моей пятнадцатиэтажной гостиницы "Дай-ичи" до Гинзы - рукой подать. Правда, за двадцать лет главная улица японской столицы неузнаваемо изменилась - выросла ввысь, расширилась, двухи трехэтажные строения уступили место современным высотным зданиям конторам и банкам, универсальным магазинам, витрины которых стали зеркалом процветающей страны, вовсю стремящейся "догнать и обогнать" старушку Европу, чей пример послевоенного процветания был взят местными нуворишами за образец для наследования не без тайной мысли сделать еще лучше, потихоньку обойти на повороте образец, чтобы... той же самой Франции и Италии, Испании и Люксембургу, Швейцарии и Великобритании продавать одежду, способную поспорить с моделями мадам Риччи и Кардена, автомобили почище "фиата" и "рено", радиотехнику, шагающую на шаг впереди "Сименса" и "Филиппса". Они с этой же целью построили в центре Токио собственную Эйфелеву башню, копию, конечно, но копию столь совершенную, что она затмила парижскую по всем статьям - и чуть не в половину легче, и пропускная способность выше, и средствами безопасности оснащена более надежными... Яша говорил мне, что и токийский Дисней-Лэнд - тоже копия американского - намного современнее в техническом отношении. Сохранив в незыблемости форму, японцы насытили ее такой техникой и ЭВМ, что первопроходцам "лэнда" оставалось только почесывать затылки, высчитывая, в какую кругленькую сумму обойдется им модернизация собственной сказочной страны на японский манер... Но было в Токио место, где мало что изменилось, и дух прошлого такого блестящего и воодушевляющего - не выветрился и поныне, спустя два десятилетия. И этот дух, живший в моем сердце, как спящий до поры до времени вулкан, вдруг пробудился, и меня неудержимо потянуло туда - в страну моей юности, навсегда запечатленной в душе образами и ароматами, в Олимпийский парк. Не мешкая, я собрался, без сожаления выключил первую программу местного телевидения - местной ее можно было назвать лишь с большой натяжкой, потому что вот уже несколько лет отдана она ретранслируемой по спутнику связи программе Эн-Би-Си из США. Она идет на английском языке практически круглые сутки, и многие японцы начинают и заканчивают день под гортанную американскую речь, передающую последние известия, в том числе из Японии, нередко опережая хозяев. "Дай-ичи" - отель, давший мне приют на эти трое суток, с раннего утра был по-праздничному освещен и полон жизни - уже открылись дорогие фирменные магазинчики в вестибюле, толпы стареющих американок и американцев, дымя сигарами и трубками, распуская шлейфы из дорогих духов и громко разговаривая, заполонили зимний сад и просторный холл на втором этаже. На удивление - в ресторане оказалось довольно малолюдно. Я поставил на поднос блюдечко с двумя крутыми яйцами, на другое бросил несколько ломтей ветчины и тонко нарезанного желтого, как сливочное масло, сыра, налил бокал апельсинового сока, положил столовые приборы. Немного задержался у шведского стола, окидывая взглядом зал и выбирая место. Столик у окна, покрытый накрахмаленной, хрустящей темно-бордовой скатертью и украшенный крошечным, но совершенным по форме букетиком неярких цветов, показался мне самым привлекательным. Быстро - эта пагубная привычка сохранилась со времен спорта, и мне так и не удалось избавиться от нее и в более поздние времена - поел, сходил к столу, чтобы налить из тяжелого стального цвета металлического термоса парующий ароматный кофе, и вышел из ресторана. Не дожидаясь лифта, сбежал вниз - "и ветер дальних странствий дохнул ему в лицо". Я вышел на Гинзу где-то в центре, почти возле круглого здания - башни фирмы "Мицубиси", минуту размышлял, в какую сторону двинуться, решил влево и побрел походкой туриста, привыкшего крутить головой, чтоб, не приведи господи, не пропустить что-нибудь стоящее. Дошел до знакомого моста городской железной дороги, пересекавшего Гинзу, - он был уже и тогда, в 1964-м. То ли память мне изменила, то ли тут так все изменилось, но я не узнавал знакомых мест, где бывал и днем, и поздней ночью, - мы ходили глазеть на колдунов и гадальщиков. Освещенные колеблющимися огоньками высоких свечей, они устраивались на мрачной, облезлой и грязной улочке с домами без окон. Молодые и старые, мужчины и женщины, одетые кто во что горазд - от кимоно музейной ценности до обшарпанных бумажных рубах и мятых, давно потерявших цвет штанов, - они сидели вдоль стен, как изваяния - молчаливые и неподвижные. И лица сплошь разные: от иных глаз не оторвать - изможденные, с какими-то черными знаками-полосами на щеках, с лихорадочно горящими, нет, светящимися, как у сов, глазами, точно заглядывающими к вам в душу и перебирающими, наподобие скупого рыцаря, ее нетленные богатства. Лишь губы, точно жившие отдельной жизнью от лиц, что-то шептали, смоктали и присмактывали. И клиенты - все больше бедный, трудовой люд с усталыми, поникшими фигурами и угасшими глазами - подпадали под этот дьявольский взгляд и цепенели, внимая беззвучно словам, что срывались с едва заметно движущихся уст. Это было поистине потустороннее пиршество, заставлявшее человека забывать, что тут, рядышком, в какой-нибудь сотне метров, гремела автомобилями, блистала шикарными витринами и шелестела тысячами разноязыких голосов Гинза - бесконечная река современной жизни, по которой с отвагой и тайными замыслами неслась непонятная для европейца, побежденная, но непокоренная Япония; ее Олимпиада стала не одним лишь спортивным событием - она открыла миру новую страну, уже заглянувшую в будущее... Я хотел увидеть вновь Олимпийский парк со стадионом, где в последний день Игр, перемешавшись и перепутавшись, американцы, итальянцы, таиландцы и кувейтцы, бразильцы и французы, норвежцы, чилийцы, индусы и жители Барбадоса, русские, грузины, украинцы, армяне шагали вперемежку с болгарскими, венгерскими, польскими спортсменами; мы были единой, нераздельной мировой семьей, осознавшей свое человеческое родство и опьяненной этим открытием; и не сыскать среди нас человека, способного в тот миг вскрикнуть: "Ненавижу черных!", "Ненавижу белых!", "Ненавижу коммунистов!", "Ненавижу капиталистов!" Такое было просто невозможно в той атмосфере всеобщей любви, радости и братства. Олимпийский парк был пуст и по-осеннему тих. Сюда не долетали звуки многомиллионного города, взявшего его в сплошное кольцо улиц и небоскребов. Входы на стадион были прочно закрыты стальными решетками с автоматическими замками. Я постоял у решетки, вглядываясь в прошлое. Стадион напоминал человека, утомленного долгим, трудным путем и сознающего, что его звездный час миновал и впереди лишь забвение. Мне стало грустно, и, возможно, впервые я с внезапно открывшейся четкостью осознал, что и мой спорт, и моя юность остались где-то там, за невидимыми отсюда дорожками стадиона, где есть и вмятинка от твоих шагов, но попробуй дотронься, пройдись, как тогда... Бассейн, похожий на старинную ладью, тоже оказался под замком и дышал запустением, и я поспешил ретироваться, решив, что незачем травить душу, ведь верно говорят: никогда не возвращайся в свою молодость, ничего, кроме разочарований, не ждет тебя. Но было еще одно местечко, где остался кусочек моего сердца, и там я не мог не побывать... И заблудился... Это было рядом с Гинзой, во всяком случае, неподалеку, и мне казалось, что я легко отыщу дорогу туда, где плыл сквозь время крошечный скверик со склоненной над искусственным ровным овалом озерца с темной, но чистой и свежей родниковой водой японской ивой; в глубине отливал золотом в лучах заходящего солнца бамбуковый домик, где обитали духи давно стершихся в памяти веков, и клочок сине-белого облачка, застывшего в озерце, и тихий голос Фумико: "Вы уедете, а я стану думать о вас и вспоминать..." У нее было фарфоровой чистоты славянское лицо и черные как смоль гладкие волосы, полные, чувственные губы розовой свежести, тонкая, идеально изваянная фигурка - все свидетельствовало о славянском совершенстве, и лишь темные, чуть удлиненные глаза выдавали ее восточное происхождение. Ее мать - русская дворянка из Подмосковья, отец - японец, профессор стилистики Токийского университета Васеда; правда, когда они познакомились в Шанхае, он еще был не профессором, а студентом-практикантом, до безумия влюбившимся в терпящую лишения русскую беженку. У них родилось трое детей: две дочери и сын - он появился на свет последним. Вскоре родители разошлись - негоже оказалось профессору японского университета иметь жену-иноземку. Сын жил с отцом, и не знал я, что этот шестнадцатилетний крепыш с коротким спортивным бобриком жестких волос, с широкой, тяжелой челюстью каратиста, ни слова не понимавший по-русски, - брат Фумико, говорящей на чистейшем, изысканнейшем языке дворянских салонов начала века; старшая сестра тоже получила больше японской крови, хотя довольно сносно говорила на языке матери. И увидел Фумико в Олимпийской деревне, когда возвращался из бассейна после плавания - усталый, измочаленный, как обычно, когда дело близится к завершению и ты в мыслях и раздумьях - весь в будущем, сокрытом от тебя тайной, но ты стремишься заглянуть под ее непроницаемый полог и потому из кожи лезешь на тренировках, чтоб по долям секунды, по каким-то неуловимым нюансам самочувствия, душевного настроя решить, как выступишь. В такие часы ты отрешен от всего, что не входит в сферу твоих спортивных интересов. Я увидел ее и остолбенел. Она тоже растерялась, и какое-то мгновение мы молча пожирали друг друга глазами, и первой опомнилась Фумико. Она так обворожительно и обезоруживающе улыбнулась, что жаркая радость затопила мое сердце. - Здравствуйте! - пропела девушка, и на меня словно повеяло ветерком, сорвавшимся с поверхности горной речушки, несущейся в диком ущелье. Здравствуйте! - повторила она, и я совсем растерялся и молчал, как истукан. - Я работаю переводчицей в советской делегации. Меня зовут Фумико... - Фумико? Но ваш язык... - Я - японка, мама у меня - русская... А вы кто? - Меня зовут Олег. - Я - пловец из Киева... - Я знаю, это на Украине. - Вы никогда не были у нас в стране? - Никогда. - Ее лицо омрачила мимолетная грусть. - И очень хочу побывать. Мне обещали прислать вызов, чтобы я могла учиться в Московском университете. Тут я узнал, что Фумико работает личной переводчицей руководителя советской делегации, председателя Комитета по физкультуре и спорту; я проникся к нему недобрым чувством, оно потом всегда преследовало меня, когда мы встречались с ним, - будь то на приеме сборной перед отъездом на международные состязания или в неофициальной обстановке, когда он запросто являлся к нам в раздевалку, никогда не испытывая смущения от того, что он в костюме и при галстуке (председатель комитета обожал красиво одеваться, нужно отдать ему должное), а мы - голяки, только что из-под душа. Мы-то и встречались с Фумико дважды: тогда, в первый раз, в Олимпийской деревне и потом за день до отъезда, когда она отпросилась у своего начальника и повела показывать мне Токио. Мы бродили по парку Уэно и пытались понять, о чем задумался знаменитый роденовский "Мыслитель", в одиночестве восседавший на зеленой лужайке, отгороженный от нас не только своими вечными думами, но и торчащим поблизости полицейским. Омыв лица теплым дымком священного огня у древнего храма Асакуса, что тяжелой горной глыбой застыл в глубине ушедших столетий, пили кока-колу у уличного бродячего торговца и угощались миниатюрными шашлыками из печени ласточки; Фумико рассказывала, что у них дома, где она живет с матерью и старшей сестрой, в углу висят иконы русских святых - чудотворцев и горит лампадка, а мать - она уже не выходит из квартиры - подолгу стоит на коленях, вымаливая прощения у бога. И ей, Фумико, становится страшно: а вдруг этот бородатый, мрачный святой, застывший на потемневшем от времени дереве, и впрямь оживет и спросит у нее сурово: "Ты почему не чтишь меня?", и она не будет знать, как ответить ему, чтоб не обиделся на нее и на маму и не причинил им зла. Поэтому она тоже тайком от остальных украдкой молится и просит святого быть к ним подобрее... А потом, - тут Фумико заговорщицки посмотрела на меня - не выдам ли ее тайну? - потом бегу сюда, в этот синтоистский храм, чтобы помолиться весеннему небу, прорастающему бамбуку, осеннему дождю и желтым листьям, первому снегу и первой весенней молнии и попросить у них счастья, потому что она так хочет быть счастливой... Как мы набрели на этот заброшенный скверик, не помню, но только мы уселись на скамью, прижавшись друг к другу, и я вдыхал свежесть ее губ, аромат волос, чувствовал жаркое тело; мы потерянно молчали, словно забыли все слова на свете, но сердца наши понимали друг друга без всяких слов. - Я приеду в Москву, ты встретишь меня? - спросила Фумико на прощание. - Я буду ждать тебя, Фумико. Только обязательно приезжай! Я получил от нее новогоднюю поздравительную открытку, в ней она также сообщала, что летом, верно, прилетит в Москву. И больше я не видел Фумико. Однажды поинтересовался у администрации университета на Ленинских горах, нет ли среди иностранных студентов знакомой девушки из Японии, но ответ был отрицательный... И вот сейчас, как не кружил я поблизости от того озерца, так и не нашел его, а спросить было не у кого. В очередной раз очутившись на Гинзе, я вдруг с потрясшей меня до глубины души ясностью подумал: "А было ли вообще то озерцо, и золотой домик из бамбука, и девушка с фарфоровым личиком по имени Фумико?" Нет, и впрямь не стоит возвращаться в юность... - Ну, где еще встретишь советского человека? На Гинзе! - кто-то сильно и бесцеремонно похлопал меня по плечу. Я обернулся. А мог бы и не оборачиваться - передо мной стоял Миколя, Николай Владимирович, зампред ЦС собственной персоной. Похоже, он и впрямь рад меня видеть. Неужто заграница так действует на людей, что любой братом покажется? - Приветик. Гуляешь? - Знакомлюсь. Первый раз в Токио, спрашивать будут, как там Гинза. Ничего особенного, скажу тебе. Елисейские поля куда больше впечатляют. Хотя, скажу тебе, япошки прут на Европу, еще как прут! Ты только взгляни вокруг - блеск! - Ты ведь говоришь: ничего особенного? - Не придирайся к словам, Олег. Вообще давно хочу спросить тебя: какая это кошка между нами пробежала? Старые товарищи, вместе спорт в университете делали (он так и сказал - "делали", не занимались спортом, тренировались, выступали, выигрывали и терпели поражения, нет - "делали"), как-никак земляки. Убей, не пойму! - Не убивайся, Миколя. - Я увидел, как его передернуло от такой фамильярности, но, честное слово, мне было наплевать на его ощущения, он перестал быть для меня человеком с того самого памятного разговора о судьбе Виктора Добротвора. - Не убивайся. Живи. - Ну, вот, я с тобой всерьез, а ты отшучиваешься. Ведь не мальчик. - Не сердись, Миколя. Но скажу тебе неприятную новость... Он сразу изменился в лице, испугался ли - не стану утверждать, но то, что Николай Владимирович напрягся, собрался, внутренне задрожал, - это как пить дать. Да по лицу, по глазам можно было безошибочно прочесть: он не любит плохих вестей. - Успокойся. Может, я и не прав. Вполне логично будет, если ты вместе со мной порадуешься и осудишь свою ошибку, - беззаботно болтал я, в открытую издеваясь над ним. И он понял это, но ничего поделать не мог: ждал новость и приготовился к отражению опасности. Люди его положения всегда готовы к такому обороту событий, должны быть готовы... Молчание затягивалось. Он уже сверлил меня ненавидящими глазами, и я догадывался, что он ни за что не простит мне этого унижения - ни сейчас, ни в обозримом будущем. И пусть! Так и хотелось выпалить: "Пепел судьбы Добротвора стучит в мое сердце... Но сдержался, потому что Миколя мог не понять намека, и потому сказал: - Виктор Добротвор не виновен. - То есть как не виновен? - Я понял, что наши мысли были настроены на одну волну, и Николай Владимирович своим вскриком, возмущением подтвердил это. - Вот так - не виновен. Чист, как первый снег. - Кто сказал? - Я. - Это уже доказано? - Доказательства? - Я похлопал по адидасовской сумке, перекинутой через плечо, где лежала 90-минутная пленка "Сони" с записью исповеди Тэда Макинроя. Там было и имя того, кто предал Виктора. - Вот здесь! - Но имя Семена Храпченко намеренно не назвал. Пусть это будет ему следующим сюрпризом: я слышал, что именно Храпченка ходит у Миколя в любимцах, об этом знает весь ЦС... - И что, что там? - Он, по-моему, уловил каким-то звериным чутьем, что в этой сумке замерла и его беда. Я опять подумал стихами: "Так вот где таилась погибель моя..." - Скоро узнаешь, Миколя. Прощай. Я повернулся и влился в толпу оживленных, беззаботно бредущих по Гинзе людей, среди них редко-редко попадались японцы. В это время суток Гинза отдается заезжим, и они хозяйничают в ее магазинах, барах и кафе, торчат на перекрестках, пытаясь что-то выудить из карт-схем, и озабоченно вертят головами из стороны в сторону... Я тоже проторчал битый час на буйном перекрестке, вглядываясь в лица и вслушиваясь в голоса, точно мог увидеть или услышать Фумико...10
Сеял мелкий, холодный дождь, небо темнело так низко и зловеще над головой, что хотелось побыстрее поднять воротник плаща, бегом проскочить открытое пространство и нырнуть - куда угодно нырнуть: в универмаг, в кафе, в двери троллейбуса с запотевшими стеклами - лишь бы избавиться от этого всепроникающего, угнетающего чувства бесцельности и безысходности, что не покидало меня с той самой минуты, когда Савченко, не глядя мне в глаза, как-то мертво произнес: - Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Я как опустился в твердое кресло у продолговатого столика, примыкавшего к письменному столу зампреда, так и прирос к нему, и тело стало каким-то свинцовым, неподвижным, и даже мысли текли вязко, как твердеющая черная смола, именно черная, потому что весь мир потерял иные краски в ту минуту, когда я услышал савченковскую новость. Нет, не так представлял я себе миг торжества, когда, ворвавшись в кабинет Савченко, поведаю ему потрясающую историю падения и возвышения Виктора Добротвора и мы вместе от души порадуемся не только за парня, что на поверку оказался действительно таким, каким мы его себе представляли, но и за самих себя, что не уплыли по течению слухов и домыслов, коими давно обросла та монреальская история. Как важно в жизни быть твердым и как невероятно трудно им быть! Савченко встретил меня приветливо, порывисто, с искренней радостью обнял, живо поинтересовался, как съездилось в Японию и многое ли там в действительности выглядит так, как пишут и рассказывают с экранов телевизоров, или это только парадная сторона медали - для иностранцев, для паблисити, для авторитета страны. Павел Феодосьевич несколько сбил меня с заранее выбранного пути, намеченного еще в Токио и не однажды апробированного в мыслях в самолете по дороге в Москву. Пока я, замешкавшись, думал, как покороче, но так, чтоб не обидеть скороговоркой, суммировать японские впечатления, Савченко воскликнул: - Э, да ты там не впервой! Выступал же в Токио на Играх, выступал? Тем более любопытно услышать твое мнение, ведь есть с чем сравнивать... Тут телефонный звонок обернулся спасительной передышкой. С чего начать? Ведь главное - Добротвор, вот самая потрясающая новость. С нее и нужно начинать! Савченко, выслушав говорившего, недовольно, непривычно желчно бросил невидимому собеседнику: - А ты и выкладывай начистоту, как было. В кусты, а, востер! Кому же отдуваться прикажешь? Когда славой чужой прикрываться, ты тут как тут. Нет, Иван, ты мне голову не крути: он был твоим спортсменом в первую очередь, значит, тебе и первому держать ответ. Не стращай, не нужно, я не из трусливых. Да, защищал, да, помогал! Значит, ошибся. Бывай... Медленно, точно оттягивая время, тщательно уложил трубку, но было видно, что внутри у него все кипело и он с трудом сдерживал себя. - Что, Паша? - Как не любим мы смотреть правде в глаза... - Ты о чем? - Впрочем, ты, кажись, тоже был моим единомышленником, тоже принимал участие в его судьбе... - В чьей судьбе? - догадка уже притормозила бег сердца. - Добротвора... - Что еще с ним произошло? - Умер... - Умер? - Мне померещилось, что я проваливаюсь куда-то вниз. - Да, от слишком большой дозы наркотиков... - Что ты говоришь, Паша? Добротвор - наркоман? - Выходит, ошиблись мы с тобой в нем... Проскочили мимо сада-огорода... История получилась грязная, хотя такую возможность я никогда не сбрасывал со счетов. Слишком уж мы увлеклись в последнее время профессионализацией. Да и от вас, журналистов, только и слышно: профессионально выступил, профессионально силен, профессионально... А ведь о главном, о человеческой сути, стали забывать. Совершит спортсмен проступок, так у него легион заступников на самых разных уровнях: простить, побеседовать, пусть даст слово, что больше никогда не будет... он ведь такой мастер, такой профессионал. Что ж тут удивляться, когда чертополохом эгоизма и вседозволенности зарастает чистое поле совести... Я почти не слышал Савченко. И рука моя не потянулась к синей нейлоновой сумке, где лежал магнитофон с записью признаний Тэда Макинроя... Зачем она теперь? - Когда это случилось? - только и смог выдавить я, когда Савченко умолк. - Три дня назад... В квартире обнаружен целый арсенал - шприцы, наркотики - готовые и полуфабрикаты... Заведено дело... Если тебе интересно, могу свести со следователем. Пожалуй, даже в этом есть смысл, ты ведь тоже знал, и знал неплохо, Добротвора, твои показания будут полезны. Словно спеша избавиться от неприятной темы, не ожидая моего согласия, Савченко набрал телефонный номер. Когда ответили, нажал кнопку громкоговорителя, чтоб я мог слышать разговор. - Леонид Иванович, Савченко. Есть новости? - Здравствуйте, Павел Феодосьевич, - громко и отчетливо, точно человек находился с нами в комнате, но вдруг стал невидимкой, прозвучал голос. Знакомый голос Леонида Ивановича Салатко, заместителя начальника управления уголовного розыска, а для меня просто Леньки Салатко, с коим столько спортивной соли съедено. Он уже подполковник, располнел, выглядел солидно, как и полагается подполковнику, я даже слегка робел, когда видел его в форме. - Работаем. - Леонид Иванович, я хочу вам порекомендовать побеседовать с журналистом Олегом Ивановичем Романько. Он у меня сидит. Кстати, был свидетелем того происшествия в Монреале, да и вообще знал Добротвора чуть не с пеленок. Возможно, его показания тоже будут полезны. Я, не вставая из кресла, протянул руку, и Савченко сунул мне трубку. - Привет, Лень, рад тебя слышать, век не виделись! - Здравствуй, Олежек, увидеть бы тебя. Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Ты, читал, в Японии обретался? И когда тебе надоест скитаться по разным там заграницам? Я не был за границей ни разу, ну, Болгарию же ты заграницей не назовешь? - а в другие не тянет... Когда сможешь заглянуть? Как-нибудь попозже... Отпишусь, отчитаюсь за командировку и тогда зайду. Ну, гляди, жду тебя в любой день, Олежек! Савченко выключил микрофон. - Я же забыл, - виновато произнес он, - что куда ни кинь - всюду бывшие спортсмены окопались. А еще говорят, что спорт - забава. Людей воспитываем, и неплохих. - Я знал эту привычку Савченко говорить и возбуждаться от звука собственного голоса. Но тут он быстро спохватился: Бывает, бывает, и брак выдаем... Я вскоре распрощался с гостеприимным зампредом, вышел из Комитета и побрел куда глаза глядят. Потом зарядил нудный, холодный дождь, и это свинцовое небо - все было под стать настроению. Хотелось проснуться и убедиться, что все случившееся три дня назад - сон, дурной сон, когда ты вскидываешься посреди ночи и никак не можешь уразуметь - во сне или наяву происходит действо. Я потолкался в сыром, душном помещении магазина тканей на Крещатике. Меня кто-то толкал, кому-то я наступал на ноги и извинялся. Зачем-то брал в руки и мял совершенно ненужные мне шерстяные ткани, просил показать тюк, лежавший на верхней полке, чем вызвал недовольство продавщицы с перевязанным платком горлом и сиплым голосом; ткнулся в кафе при метро, но к кофеварке было не протолкнуться - цены на мировом рынке на кофе, говорят, никак не могут упасть. Поймал себя на мысли, что в разгар рабочего дня народу как в праздник. Но вот в кафе-мороженом - ни души, и закутанная в толстую шаль пожилая продавщица равнодушно выдавила из автомата некое подобие светло-коричневого "монблана". Не забыла сунуть пластмассовую ложечку, налила стакан ледяного виноградного сока из автомата-холодильника, Отсюда, со второго этажа, Крещатик выглядел вовсе осенним - лужи, кое-где уже и желтые листья поплыли, как кораблики в бурном море... Мороженое я есть не стал, а вот сок выпил с удовольствием, и он несколько охладил перегретый мозг. - Надо к Марине зайти, теперь пацан-то к ней перешел, - подумал я вслух. - Может, чем и помочь нужно. - И хотя бывшая жена Добротвора и прежде не вызывала во мне симпатий, а после "ограбления" квартиры Виктора я вообще воспылал к ней презрением, тем не менее теперь от нее зависела судьба семилетнего славного мальчишки, в коем отец не чаял души. Чем больше я сидел на открытой веранде кафе, тем сильнее крепло мое решение. Чтоб не откладывать дело в долгий ящик, решил зайти немедленно, тем более что жила Марина рядышком, на Заньковецкой. Мне случалось пару раз бывать в ее родительском доме еще тогда, когда они только поженились и Виктор перебрался к жене "в приймы", как он говорил. Впрочем, без квартиры Добротвор оставался недолго: он стал тогда быстро выдвигаться и вскоре стал лидером в своей весовой категории не только у нас в стране. Ему шли навстречу во всем. Но прежде я заскочил в телефонную будку и позвонил в редакцию. Предупредил, что буду к трем, не позже. Это было как раз время, когда дежурный редактор по номеру приступал к своим обязанностям и должен был находиться в кабинете. Я прошел через пассаж: мимо бронзовых досок с барельефами и бюстами выдающихся людей, имевших счастье жить в самом что ни есть центре города, сквозь плотную толпу покупателей, штурмующих детские магазины и равнодушно взирающих на памятные доски, и вышел на Меринговскую. Здесь, чуть выше, в доме с аптекой, жила Марина. Я поднялся на десять ступенек вверх - квартира располагалась в бельэтаже. Было непривычно чисто в подъезде, на подоконнике даже стояли цветы в вазонах. Дверь Марининой квартиры оббита искусственной светло-коричневой кожей, в центре красовалась надраенная до золотого блеска латунная пластинка с номером. На чуть слышно донесшийся изнутри звонок никто долго не отзывался, и я расстроился, что никого нет дома. Так, на всякий случай, нажал еще раз, и дверь тут же распахнулась, и на пороге застыла Марина в легком цветастом домашнем халатике, не скрывавшем ее ладную, крепкую фигурку. Но волосы были растрепаны, лицо отекшее, несвежее, точно с похмелья. Марина растерялась, но только на миг. В следующий - бросилась ко мне на шею и обхватила с такой силой, что причинила боль. И - разрыдалась. Ее буквально сотрясало, и вместе с ней трясло меня. Мы так и торчали в коридоре, и хорошо, что подъезд был пуст. - Марина, успокойся, - сумел я наконец выбрать момент, когда рыдания ушли вовнутрь и она немного расслабила объятия. - Олег Иванович, дорогой... извините... Олег Иванович... да как же это так... почему... это так страшно... Олег Иванович... Нет, нет, он не покончил с собой... его убили... Олег Иванович... что делать... что делать... я не знаю, куда мне пойти, кому сказать... Ведь Алешка... я боюсь за Алешку... ой, как я боюсь!.. Олег Иванович... - Мне показалось, что она бредила. От неожиданности я тоже поддался ее настроению, и это в одно мгновение растопило лед неприязни. Я понял, что ошибался, принимая ее за наглую, самоуверенную "леди с Крещатика", что только и знает танцы, вечеринки, рестораны и прочий "светский бомон", бездушную куклу, сломавшую любовь Виктора. (Странно, но даже после всего приключившегося я не думал о нем с омерзением или раздражением, а искренне горевал, и сердце мое было разбито, если можно выразить словами весь комплекс моих чувств и мыслей о Добротворе). Верно говорят: чужая душа - потемки. Мы вошли в квартиру, и Марина закрыла дверь на ключ, дважды повернув его. Она любила порядок, а сейчас в просторной комнате, выходящей широкими окнами на Заньковецкую, царил хаос - на стульях небрежно висели и лежали вещи, Алешкины игрушки путались под ногами, на круглом ореховом столе возвышалась полупустая бутылка коньяка, в тарелках застыли остатки еды вперемежку с окурками и кофейные чашечки с затвердевшей черной гущей словом, все носило следы полного безразличия хозяев. - Кофе? - спросила Марина, немного успокоившись, но еще всхлипывая. - И покрепче. Пока Марина возилась на кухне, я осмотрелся и обнаружил множество знакомых предметов из квартиры Добротвора на Московской: небольшой женский портрет Николая Пимоненко, видимо, набросок к картине - Виктор очень любил живопись, сам немного писал, но больше - спорт, а Пимоненко и Васильковский были его любимыми художниками. Я повнимательнее осмотрел полутемную комнату - свет с улицы едва сочился, а электричество Марина не сочла нужным включить. Так и есть - "Гайдамаки" висели у окна, над столиком, где стоял и добротворовский видео. Во мне снова поднялась волна неприязни к Марине, и хорошо, что не оказалось рядом Алешки - ему вовсе ни к чему было слышать то, что я собирался высказать его матери... Но Марина спутала мои планы. - Вы простите меня, Олег Иванович, - начала она прямо с порога, неся зеленый китайский лаковый поднос (тоже из квартиры Добротвора, впрочем, они жили одной семьей и не мне разбираться, что кому принадлежало, это правда) с двумя темно-коричневыми керамическими чашками. Я заметил, что Марина успела причесаться и, кажется, припудрила лицо - во всяком случае, оно уже не выглядело таким помятым. - Как мама с Алешкой уехали, это в тот же день, когда мы узнали о смерти... - губы ее снова предательски задрожали, но она все же сдержалась, - ...узнали о смерти Вити, я не выходила из квартиры... Я открыла вам потому, что увидела в глазок, что это вы, Олег Иванович. Я так благодарна вам, что вы пришли... - Алешка уехал? Это ты правильно сделала... Незачем ему тут сейчас находиться. - Нет, Алешка уехал с мамой по требованию Вити. Он приказал увезти сына... - Почему Виктор так решил? Ведь Алешке, как я понимаю, во второй класс? - Да, он привез его ко мне. Сказал: ни о чем не спрашивай, но чтоб сегодня же Алешки в Киеве не было. Дал деньги на билеты, и мама отправилась в Москву к родственникам, вы ведь знаете, мама всегда принимала сторону Вити... - Но зачем это Виктору понадобилось? - Он чего-то или кого-то очень боялся. Мне так показалось. Ведь сказать он никогда такого не сказал бы, даже если бы ему угрожала смертельная опасность. Вы ведь знаете его характер - все сам... сам... своими силами... - Подробнее, Марина, пожалуйста...Успокойся и постарайся вспомнить все, что показалось тебе настораживающим или необычным в поведении Виктора в последнее время... даже, скажем, после декабря прошлого года. Ты поняла, о чем я прошу? - Поняла, но... - Марина растерянно посмотрела на меня. Сказала неуверенно: - Ведь вы знаете, мы уже два года не живем вместе... Не знаю... Я, конечно, заходила к нему, ведь Алешка жил с отцом - это было требование Виктора при разводе... Да, Витя очень переживал случившееся. Однажды сказал странную вещь, она поразила меня, но я ничего не поняла и теперь не понимаю. Подождите, как он сказал... Вот почти дословно: "Ведь как бывает в жизни: скажешь правду - тебя обвинят в клевете, в подлости по отношению к другому, хотя я-то голову готов дать на отсечение, что он подлец, подонок... Промолчишь - сам окажешься подлецом..." Но нет, нет, Олег Иванович, Виктор не был наркоманом, ведь он даже не пил, хотя мне говорили о нем обратное. Но он в рот капли не брал. Я спрашивала, допытывалась у Алешки, сын даже обиделся на меня и долго не разговаривал, не хотел - из-за того, что сразу не поверила ему... И вдруг - слишком большая доза наркотиков... Нет, не верю... - Вспоминай, Марина, пожалуйста, прошу. - Я чувствовал, как прихожу в себя, трезвею с каждым мгновением, и профессиональное чутье настраивает: будь внимателен, думай, следи, это - серьезно. - Мне показалось... Я не уверена... но он с кем-то хотел рассчитаться. Но за что? - Марина, а что сказал Виктор, когда потребовал увезти Алешку? - Сказал... он потребовал... - Она мучительно вспоминала какую-то важную подробность, слово, по никак не могла сосредоточиться. Сделала два глотка кофе, машинально вытащила длинными наманикюренными кроваво-красными ногтями сигарету, закурила, глубоко втянула дым, задержала дыхание и вместе с клубом дыма выдохнула: - Да, да, Витя сказал, чтоб я берегла сына, ему угрожает опасность, берегла, даже если сам он вынужден будет скрыться на некоторое время... Я плохо помню подробности, он свалился, как снег на голову, а я... я пришла после дня... дня рождения подруги, ну, словом, не совсем трезвая... Запомнила только, что Алешку нужно немедленно отправить из Киева и никому не сообщать, где он находится, кто бы ни спрашивал. Я вам первому сказала... Даже следователю ни слова... Больше Марина, сколько я не пытался, ничего путного вспомнить не смогла. Я распрощался с ней, попросив в случае чего позвонить мне в редакцию или домой... Я не успел войти в кабинет, как раздался звонок. Решив, что это редактор - он шел по коридору и видел, как я направлялся в кабинет, сказал со всей возможной вежливостью и уважением: - Я уже на месте, Николай Константинович, приступаю... - я хотел сказать - "к дежурству", но меня перебили: - Это Марина, Олег Иванович, я не вовремя? Но вы сказали, чтоб я звонила... - Я слушаю тебя, Марина. - Мне позвонили, едва вы ушли. Я еще подумала, что это вы что-то забыли спросить. Но это были не вы. Он сказал... можно, я передам его словами? - Чьими словами? - растерялся я. - Того, звонившего... Это и вас касается... - Говори, Марина, как можно точнее. - Это мне уже начинало нравиться! - Он сказал: "Зачем этот писака заявился?" - А ты что ответила? - Сказала... вы зашли, чтоб узнать, не нужна ли в чем помощь. Тогда он пригрозил: "Смотри, сука". Да, он так и обозвал меня... "Смотри, Марина тяжело вздохнула, - сука, если начнешь болтать без меры и что не нужно, пеняй на себя. Последыша добротворовского из-под земли разыщу! Запомни и всем подтверждай: Добротвор был наркоманом, и ты знала об этом, потому и разошлась с ним. Повтори!" Я повторила, как попка: "Добротвор был наркоманом..." Еще он сказал: "Бери трубку, когда подряд будет три звонка. Я буду следить за тобой. Смотри..." - Это все? - Все... - Вот что, Марина, это действительно серьезно, судя по всему. Не выходи без нужды из дома, потерпи немного. Ты можешь взять на это время отпуск за свой счет? - Я и так в отпуску... Уже три недели... Вот такой у меня отпуск. Извините, опять не то говорю. Я буду вам звонить, хорошо, вы не обидитесь? Кому нужны чужие беды... - Марина, звони в любое время дня и ночи. До свиданья! Постарайся заснуть, но без... Ты понимаешь?.. Тебе этот допинг сейчас вовсе не нужен... - Хорошо, - согласилась она послушно, как напроказничавшая школьница. Я немедленно набрал номер телефона Салатко. - А, Олежек, что? - Мне нужно сейчас же увидеться. По неотложному делу. - Ну, когда пресса требует встречи по неотложному делу, лучше пойти ей навстречу, - попытался сбалагурить Салатко, но тут же сказал строго и серьезно: - Я выписываю пропуск. Нужно было утрясти вопрос с дежурством. Я позвонил заведующему отделом партийной жизни. Парень он был нудный, но человек безотказный. - Во, вечно у этих спортсменов горящие дела! - пробасил он добродушно. - Ладно, погода сегодня - хуже не бывает, так и быть, посижу за тебя. Но, - он сделал паузу, - будешь дежурить в субботу, согласен? Да, суббота - не лучший вариант, мы с Наташкой условились, что поедем поужинаем в "Праге", придется извиняться. Дело непростое - три недели отсутствовал и снова исчезаю. "Ну да поймет, если любит". - Последние слова я со смехом произнес в трубку. - Ты чего там мелешь? - спросил зав. - Согласен. Спасибо. Салатко проявил максимум уважения: внизу, на проходной, меня ждал его сотрудник в светло-синем костюме. Он и отвел меня к Леониду. - Привет, привет путешественникам! А в родных пенатах краше, чего таить? - Краше.. - Присаживайся. Кофейка дернем? Я еще с утра не пил. Должен тебе сказать, что приходится сокращать дозы - давленьице, видите ли, гуляет. Как тебе это нравится? - Не нравится. Ты глянь на себя, так сказать, невооруженным взглядом. Килограмм десять лишних как минимум нахватал, круглый, как морж, усы только осталось отрастить и - в зоопарк! Салатко явно опешил не столько от моих слов, сколько от резкого, недоброго тона. Он отошел к окну, оперся за спиной двумя руками о подоконник и уставился на меня, покачивая головой и присмоктывая полными, чувственными губами. - Ладно, не буравь меня проникновенным милицейским взглядом, видали мы таких, и тащи кофе! - продолжал я. - Семенов! - крикнул Салатко через закрытую дверь. - Подавай! Видно, у них было условлено, потому что дверь тут же распахнулась и тот же самый парень в светло-синем костюме и в рубашке без галстука, похожий на молодого инженера из НИИ, вихрастый и улыбчивый, внес на жестяном подносе кофе и бутылку оболонской. - Ну, пока будем пить, я включу кое-какую любопытную "музыку", сказал я и, не дожидаясь согласия Салатко, вытащил из сумки портативный "Сони" с пленкой - той самой, что намеревался с триумфом прокрутить Савченко. - Гляди, Семенов, в гости пошли - со своей музыкой! Но я не был настроен шутить и сказал: - Извини, Леонид Иванович, я хотел бы прослушать без посторонних. - Ну, Семенов, положим, не посторонний, а моя правая рука. Но если ты настаиваешь... - Я у себя, Леонид Иванович, - ничуть не обидевшись, все так же улыбаясь, сказал Семенов и вышел, тихо притворив дверь. Когда началась английская речь, Салатко с недоумением посмотрел на меня, но стоило лишь прозвучать фамилии Добротвора, как он встрепенулся, застыл, уставившись в аппарат, словно надеясь увидеть говорившего. Тут пошел мой перевод: "Я, Тэд Макинрой, находясь в здравом рассудке...", и Салатко словно окаменел. И только когда была названа фамилия Семена Храпченко, Салатко проворно, точно подброшенный пружиной, - и откуда только прыть в этом стокилограммовом теле? - вскочил с места, крикнув: "Останови!" Нажал кнопку на селекторном аппарате и сказал спокойно: - Семенов, быстренько ко мне. Кажись, по твоей линии... Когда Семенов внимательно, мне даже пришлось некоторые места прокручивать дважды, прослушал - нет, впитал в себя каждое слово записи, Салатко спросил: - Вот она, ниточка, ты понял, Семен? - Понял, Леонид Иванович. Цены нет этой пленочке. - Но тут же спохватился и строго - куда и улыбочка подевалась - спросил у меня: Этому заявителю доверять можно? - Думаю, что можно. Ему не было смысла врать. - И я рассказал обо всем, что приключилось в Кобе. - Вот как! - удивился Салатко. - А я-то, дурень, считал: заграница приемы тебе, виски с содовой, секс-шопы и прочая развеселая жизнь... Рисковый ты парень, Олежек, как погляжу. Хотя... я бы на твоем месте поступил так же, если нужно было бы правду добыть. Рискнул бы... - Это еще не все. - Я подробно обрисовал недавнюю встречу в квартире на Заньковецкой, вспомнил и звонок Марины, ускоривший мое появление здесь. - Семен, - Салатко поднял голову, уставился на своего помощника, нервничать начинают твои подопечные. А? Семенов согласно кивнул головой. - Вот что. - Голос Салатко был иным - твердым, без смешинок. Немедленно установить, где находится Храпченко, взять, под наблюдение. Этого фрукта мы в попе зрения не имели, точно. Тем более не спускать с него глаз. Остальное - усилить и ускорить. Да, подумай, как вести нам себя с Мариной Добротвор. Доложишь свои соображения. Когда Семенов, получив необходимые инструкции, вышел, Салатко сказал: - Олежек, ты уж извини, но я не могу тебе подробности и тому подобное... Пока... Одно только скажу: поостерегись и не предпринимай никаких самостоятельных действий, ты не за границей, а дома, тут есть кому заниматься подобными делами. Усек? Даешь слово? - Ты уж совсем меня за недоросля держишь, - готов был обидеться я. - Я знаю, кто там - за барьером, по ту сторону баррикады, потому прошу. Они готовы на все. Добротвор... его трагедия, я хотел сказать, тому пример, предупреждение, вернее...11
...И тогда все в этой запутанной истории встало на свои места. Нет, пока будет жив человек, никакой искусственный интеллект не способен заменить мысль, таинство рождения которой сокрыто в бездонных галактиках и "млечных путях" нашего мозга. Мы можем только констатировать рождение мысли, но никак не сыскать ее истоки! Я отложил в сторону томик Булгакова, но Мастер продолжал оставаться рядом со мной, - невидимый, неощутимый, как свет и тень, но тем не менее реально живший в мыслях, он подсказывал, куда идти и что делать. Славно, что не оказалось дома Наташки, иначе увязалась бы вслед, а время позднее, хотя часы едва отстучали восемь, да ведь осень - глухая пора ранних сумерек и плотных ночных часов. "Любимая пора философов и стихотворцев", - подумал я. Не спешил, не поторапливал себя, ибо мысль продолжала работать, очищаться от плевел сомнений и неясностей, рожденных этими сомнениями, хотя ноги просто-таки сами несли в прихожую... Но нет, я сдержал страсти, бушевавшие в душе. Сварил крепкий кофе (бессонная ночь обеспечена, это точно), не присаживаясь, стоя у окна, выпил, и ветви растущего буйного клена царапались в стекло, как запоздавший путник в ночи просится на постой. Сколько мне случалось повоевать, отстаивая клен от погибели, от вездесущих любителей солнца, готовых рубить живую плоть дерева, но отстоял, и теперь вот эти веточки точно просились в летнее тепло дома... Как это я сразу не сообразил, что он просто не мог очутиться в стороне, не быть непричастным к этому всему, ведь происходило оно в его кругу, пусть и отринувшем его в свое время и не позволившем больше выйти на знакомую орбиту. Он все равно оставался рядом, соприкасаясь с тем миром, что был некогда и его миром: поддерживал связи, появляясь в гостевой ложе престижных состязаний, что проводились в Киеве, и где быть нужно, был непременно, чтоб не забыли окончательно, это с одной стороны, с другой - чтоб видеть и знать, кто на что способен и кто может пригодиться. И с его присутствием как-то свыклись, позабыли случившееся, хоть и не позволили возвратиться на круги своя, но и не отвернулись раз и навсегда. Наверное, такова суть человеческой натуры: не держать зла! Или наше равнодушие - моя хата с краю - тому первопричина? Но я ведь тоже с ним здоровался, пускай не за руку, как в прежние времена, когда мы выступали в сборной республики на Спартакиаде народов СССР, а так - кивком головы. Но разве с годами я сам не стал даже перебрасываться с ним словом-другим, ничего не значащими, но свидетельствовавшими если не о полной реабилитации, то по меньшей мере определенном забвении прошлого? Что ж тогда - век помнить дурное? А если оно стряслось в недобрую минуту душевной слабости и человек понес жестокое наказание - расплатился за грех? Нужно быть твердым, но легко ли быть твердым? Не юли, парень, не ищи оправданий, сказал я себе. Было более чем достаточно настораживающих деталей, цена каждой - нуль в базарный день, но если сложить, суммировать, и проанализировать, разве не связались бы они в цепочку, откуда уже был один шаг к пониманию нынешней сущности человека. Помнишь, однажды ты увидел его в фойе кинотеатра "Киев" разговаривающим запросто с белокурым красавцем, чей послужной список деяний, по-видимому, даже милиция со стопроцентной ответственностью и полнотой не могла бы составить. Нет, он не стоял рядом с ним и не демонстрировал дружеские отношения, только вскользь обменялись быстрыми фразами и разошлись в стороны. Ладно, согласен, что у белокурого была слабость - спортивные именитости, он любил крутиться на состязаниях и здороваться со "звездами" - не все ведь были осведомлены о его "профессии". Другой факт: ты увидел его в компании профессиональных картежников, промышлявших в поездах, тебе в свое время довелось ехать с одним из них в двухместном СВ из Москвы. Или взять близкую дружбу с сынком высокопоставленного деятеля, балбесом и наглецом, пьяницей и вымогателем - ты-то еще по университету знал о "моральных" высотах подонка. Разве это - не звенья одной цепи? И тем не менее ты, Романько, здоровался с ним, он иногда позволял себе хвалебные слова по поводу твоих статей. Согласен, его мнение не представляло для тебя ценности, но ты ведь самодовольно кивал головой... Вот так-то, старина... Я оделся, выключил свет в прихожей и уже шагнул было за дверь. Да остановился и после коротких раздумий возвратился ("Неудача? А, будь что будет!"), снова включил свет, нашел под зеркалом на столике листок из блокнота и написал: "Натали! Буду чуть позже, решил встретиться с одним старым знакомцем и кое о чем с ним поговорить. Это Николай, Турок, я тебе о нем как-то рассказывал - бывший боксер. Не засыпай, дождись меня. Целую. Я". И лишь после этого с чувством исполненного долга захлопнул за собой дверь и лихо сбежал по лестнице, в темноте наугад попадая на ступеньки сколько живу здесь, столько помню: горит свет днем, при ярком солнце, и отсутствует ночью, по-видимому, с целью экономии. Я пошлепал по лужам вниз - по Андреевскому спуску. Редкие фонари, раскачивавшиеся под порывами ледяного ветра, скользкая, неровная мостовая, старательно переложенная умельцами в годовщину 1500-летия Киева, уже успела кое-где просесть, и ручейки, стекавшие сверху - с Десятинной и Владимирской, завихрялись в крошечных омутах всамделишними водоворотами. Зловеще смотрели неживые окна пустующих домов, и за ними чудилось движение, нечистая сила, а скорее всего шевелились бездомные бродяги, плясавшие рок для "сугреву". До домика Булгакова я не доскользил, а свернул влево, на Воздвиженку; она и вовсе была запущенной, лишенной каких бы то ни было признаков жизни - многие домишки зияли провалившимися крышками и выбитыми окнами, их собирались реставрировать, а пока они должны были окончательно умереть, чтоб потом восстать из пепла: пожары здесь не редкость. Я миновал Трехсвятительскую церквушку с чистыми, светящимися свежей белизной стенами, где когда-то вошел в "мир божий раб Михаил, сын Булгакова". Явился, чтоб рассказать людям то, чего они не знали ни о себе, ни об окружающем их мире, рассказать с единственной целью - сделать людей лучше и счастливее; но самому ему познать счастье не удалось потому, по-видимому, что некто, кто был нашей совестью, нашим недостижимым идеалом и нашим пророком, воспротивился появлению еще одного пророка... Я пересек блестевшие в свете уличных фонарей трамвайные пути, покарабкался по крутой, разбитой и размытой брусчатке Олеговской. Идти сюда оказалось еще труднее, чем ехать на автомобиле, - однажды пришлось, не по своей воле, естественно, вползать на "Волге" вверх, разыскивая районную ГАИ. Он обитал здесь, во вросшем в землю, покосившемся на один бок деревянном с мансардой домике, спрятавшемся в густом, буйно заросшем по причине давнишней заброшенности саду. Калитка была распахнута, и в глубине, за голыми кустами и деревьями, чуть-чуть светилось окошко. Тишина давила так, что, казалось, распухли уши. Пожалуй, впервые у меня возникло сомнение: зачем я здесь? На душе было неспокойно, но виной тому скорее всего ненастная погода, затерянность и таинственность этого глухого подворья, откуда даже собаки сбежали. Что он может мне сказать? Что знал всю подноготную? А почему он должен был мне докладывать? Сомнения, конечно же, не укрепляли моей решимости, и она таяла с каждой минутой. Я решительно пресек колебания, на ощупь двинулся по тропинке, осклизлой и крученой, на тусклый огонек. Тяжелая, тоже вросшая в землю вместе с домом дверь была заперта изнутри. Звонка не нащупал и стукнул в набрякшую, мокрую доску раз, другой, но никто не спешил открывать, и я грохнул посильнее, потом затарабанил нагло и требовательно - испугался, что мне вообще не откроют: хорош я был бы тогда со своими сомнениями и выводами, со своими страхами и опасениями. Вот бы Салатко посмеялся над доморощенным Шерлоком... Что-то кольнуло в сердце, когда я вспомнил Леонида Ивановича - в общем-то нарушал данное ему слово... - Хто? - раздался едва слышный, точно из подземелья идущий голос. - Откройте! Мне нужен Николай. - Хто? - снова донесся голос с того света. - Знакомый его... За дверью исчезли звуки. - Эй, да откройте наконец! - заорал я и стукнул кулаком в доску так, что заломило в кости. Дверь распахнулась неожиданно легко, точно провалилась вовнутрь. И увидел его - собственной персоной. Лица не разглядел - оно скрывалось в тени, но голос выдал: он явно не ожидал увидеть меня и растерялся. - Романько? - Он самый. - Ты один? - Ты же меня не приглашал, потому без жены, - попытался я взять ерническо-шутливый тон, но он мне плохо удался. - Шагай. Гостем, ха, будешь... Я шагнул в темноту, дверь за мной тут же беззвучно возвратилась на место, и засов звонко ударился металлом об металл. И двинулся на ощупь на свет и очутился в просторной - чуть не на всю избу - комнате с широкой печью-лежанкой в углу, в ней жарко горели толстые чурбаки. Тусклая настольная лампочка выкрасила белый круг на столе и... шприцы, стальной кювет для кипячения игл перед инъекцией, кучки какого-то желтого порошка, несколько сухих головок мака, тут же стояла и новенькая кофемолка, контрастировавшая своей чистотой и совершенством с грязной, замусоренной и засаленной крышкой стола. На кровати под занавешенным окном, разметавшись во сне, спал худой, какой-то сморщенный парнишка, совсем еще юный, и рядышком в одной нижней рубахе, сквозь которую выпирали торчавшие сосками груди, безучастно сидела, точно грезила наяву, девушка с потным, каким-то растерянным лицом. И только подняв взгляд, я обнаружил человека, скрывавшегося в тени, он стоял, прислонившись плечом к печи. Под два метра ростом, он, казалось, головой подпирал низкий потолок. Сухое темнокожее лицо, почти невидимые в глубоких, чуть раскосых глазницах глаза, мощный разлет плечей и длинные, свисавшие до колен, руки. Он или только пришел, или собрался уходить - был одет в светлую кожаную модную куртку со множеством молний, в светло-коричневые джинсы, вправленные в высокие, щегольские сапоги. - Вот какой гость у тебя, Турок! Хозяин, известный и мне под этим прозвищем, приклеившимся за ним еще со времен спорта за привычку по поводу и без оного вставлять: "Теперь я турок - не казак!" - Сам не ожидал. - В голосе Николая и впрямь сквозило неприкрытое удивление, если не растерянность. - Как принимать будешь, Турок? - Незнакомцу, кажется, доставляло удовольствие называть его по кличке. - Да вот кумекаю, что их светлости предложить: "снежок" - гость-то высокий - или, может, мак для первого раза? - Ладно, Николай, кончай травить. У меня к тебе есть несколько вопросов... - Нет, это у нас... - тот, у печки, подчеркнул голосом "у нас", есть к тебе вопросики. Не мы у тебя, а ты у нас в гостях! - Что же это за вопросы? - Первый такой: что знаешь о смерти Добротвора? - Кто-то убил его, а решил изобразить самоубийство наркомана. - Я пошел ва-банк. - Ну, вроде тех, что под окошком вон прохлаждаются... - Убил? А доказательства? - Есть у меня и доказательства... - Я блефовал. Комната погрузилась в тишину, только постреливали дровишки в печи. Этим-то заявлением и подписал я себе приговор, да сообразил поздно. А слово - не воробей... - Что тебе еще известно? - Не сомневайся, и о Семене - тоже. - Мне отступать было некуда только вперед. - О нем? - В голосе Турка всплеснулся неприкрытый страх. - Что с ним делать будем, Хан? - Вытрясти и выбросить. Пожертвуешь хорошую порцию "белой леди". Удар Турок сохранил, ничего не скажешь, - я не успел уйти от хука снизу и с раскалывающейся от боли грудью отлетел к печи... "Вот ты и попался, старина... И никто ничем не поможет тебе, подумал я, отлеживаясь на сыром земляном полу. И какое-то ощущение пустоты лишало последних сил. - Никто ведь не догадывается, куда это я забрался... Глупо... Толку - нуль, проку - еще меньше..." Турок и второй - Хан - дело свое знали, нужно отдать им должное. Не убивали, сознания не лишали, но тело, мозг, каждая живая клеточка раскалывались, разламывались на части от боли - острой и не приглушенной беспамятством. Я догадался по их репликам, что они выследили меня, когда ездил к Салатко, ну, о том, что был у Марины Добротвор, и подавно знали, искали и не могли найти со мной контакт без свидетелей. Впрочем, сейчас необходимость в этом и вовсе отпала: они намылились смываться - далеко, сам черт не сыщет. Хан похвалялся не от глупости своей, ясное дело, а затем, чтоб поглубже достать меня, лишить внутренней силы, что еще как-то позволяла держаться, похвалялся, что как только закончат валандаться со мной, - на машину и в Харьков, а оттуда - билетик на самолет до Барнаула, ну, а дальше - там дом, горы и лощины, там свои: никто не продаст и не выдаст. А мне припомнился далекий сентябрь - золотое бабье лето и отяжелевший от буйного урожая сад, притихший, словно напуганный собственным плодородием, этот сад и этот дом, где лежал я теперь, раздираемый болью, на глиняном, неровном и заплеванном полу. Мы - Николай, Ленька Салатко и я только что приехали после последнего старта чемпионата республики, где мне удалось наконец-то преодолеть барьер на двухсотметровке, и те несколько десятых секунды, вырванных в результате года упорной, умопомрачительной работы, переполнили счастьем и неизбывной верой в собственные силы. Николай (Турком мы его, чемпиона Украины, тогда еще не прозвали) - он с детства дружил с Салатко, учились в одной школе и, кажется, даже родились в одном доме на Рыбальском острове - зазвал к себе, к бабке на пироги с антоновскими яблоками. Дом на Олеговской, сразу за поворотом, горделиво смотрелся на тенистую тихую улочку чистыми окнами и кустами герани в глиняных горшках с Житнего рынка, где с восходом солнца появлялись телеги из Опошни с незатейливой, но бесконечно прекрасной в своей простоте посудой. Лучи предвечернего теплого, но уже не жаркого солнца мягко золотили потемневшие от времени, растрескавшиеся доски веранды, ветви желтеющих яблонь и вспыхивали огнем в лакированных боках больших, с добрый кулак, антоновских яблок. Пахло горьковатой калиной, росшей за погребом, жужжали поздние пчелы, со стороны Днепра время от времени долетали низкие басовые гудки колесных пароходов, веяло покоем и совершенством жизни. И мы пили чай с вишневым вареньем и больше молчали, чем говорили, зачарованные, убаюканные этой красотой, собственным превосходством над другими, рожденным спортом, тренировками и поклонницами... Как давно это было... - А ты, падаль, будешь здесь загорать, пока не прокоптишься, разъяренно прошипел мне в лицо, плюясь слюной, Турок. - Попробуешь "леди", напоследок хапанешь кайфа... Я с тоской понял, что вместе со мной уйдет, исчезнет, растворится важнейшая информация, и не все станет - пусть и с запозданием - на свои места и в судьбе Виктора. Но еще горше мне было из-за Наташки - бросил на произвол судьбы, как она будет без меня... - Очнись, падло, - теребил меня Турок. - Не помер, вижу, не прикидывайся. Говори, кто продал? Одно меня радовало, что они оставались в неведении масштабов затеянной против них операции (впрочем, честно говоря, и сам мог разве что догадываться о ней), а значит, еще оставляют себе лазейки, чтоб возвратиться... Время летело с космической скоростью - оно же тянулось, как чумацкий воз в степи... Разок мне все же удалось взять реванш, и удар ногой снизу по зазевавшемуся или расслабившемуся Турку исторг из него такой звериный рев, что я даже пожалел эту такую слабую на поверку тварь. Зато Хан бил профессионально... Спасла меня Наташка, ее любовь... Не разумом - ну, разве впервые уходить мне из дому по делу и оставлять записку? - душой учуяла она смертельную опасность и кинулась разыскивать телефон Салатко, а его, как назло, не было в моей домашней записной книжке. Нашла по справочной - домашний, не отвечал. Позвонила в милицию, оперативный дежурный помог разыскать его в машине по радиотелефону. Салатко мгновенно все понял, едва она произнесла Николай - Турок. Как раз днем тому удалось уйти из-под наблюдения, хотя держали они его цепко он был одной из ключевых фигур в деле. Об этой квартире на Олеговской они не знали, он там редко объявлялся, хотя и числился домовладельцем - получил по наследству от умершей бабки. Салатко потом рассказывал мне, что, растерявшись в первую минуту, он тут же неожиданно для самого себя решительно сказал: "Да что тут думать! На Олеговской он, где ему еще быть! Знаешь, как наваждение, вспомнил с такой отчетливостью - слюнки потекли! - тот вечер на веранде у Турка и пироги с антоновкой..." Явись они на полчаса позже, кайфовать бы мне до смерти в объятиях "белой леди", видеть сладкие сны и удаляться все дальше и дальше от нашей бренной земли в межзвездное пространство, населенное такими же бедолашными душами, как моя. ...Турок, долго отходивший от удара, готовил наркотик. Непредвиденная задержка и спасла меня, потому что, как это ни странно, но Хан, заправлявший разветленной сетью наркобизнеса, увы, и это иноземное словосочетание нужно нам взять на вооружение, сам не умел ни готовить порцию, ни тем паче "посадить на иглу": он в своей жизни ничего крепче черного кофе не пил. Появление милиции прогремело для них громом средь ясного дня. Но и для Салатко Хан - таинственный, легендарный босс, от одного упоминания о котором прямо-таки бросало в дрожь его подручных, - был полной неожиданностью, и они - он потом признался мне - чуть было не поверили Турку, что он - случайный гонец из Азии, мелкий наркофарцовщик, не более, потому что даже словесного портрета его не имели. - Выходит, я тоже не напрасно муки принимал, - попытался я пошутить в присутствии Салатко (дело было спустя несколько дней, когда мне позволили чуть-чуть передвигать собственные конечности без посторонней помощи). Он на меня так глянул, что всякая охота продолжать разговор в том же духе начисто отпала. Я догадался: Салатко не мог себе простить, что из-за своей доверчивости - поверил моему честному слову, что не стану лезть, куда не следует! - едва не стал причиной трагедии. Многое открылось мне после того, как почитал протоколы допросов. Не обо всем еще могу говорить открыто - следствие продолжается, банда оказалась куда серьезнее, чем предполагалось прежде; заграничные концы вообще только начинали разрабатываться, не, без помощи тамошних служб, занимающихся борьбой с наркотиками... Я узнал, чем шантажировали они Добротвора, - грозили выкрасть сына; Виктор же искал способ свести с счеты в одиночку, потому что тоже видел врага лишь в Храпченко, корень зла в нем, мелкой сошке на самом деле... Виктор Добротвор уже там, в аэропорту "Мирабель", догадался, чьих рук дело - появление в его сумке наркотика. Но вынужден был взять вину на себя, потому что никаких доказательств обратного у него не было. Их нужно было добыть, и он стал шаг за шагом добираться до Храпченко и добрался. Оказывается, за сутки до смерти он побывал в том же самом доме, куда заявился и я, виделся с Турком, но тот не посмел - струсил пойти на Виктора один на один. Они убили его, предварительно подсыпав снотворного в чай, когда зашел разговор в пустой квартире Добротвора, а затем вкололи лошадиную дозу героина...12
Незадолго до отъезда в Лондон - я летел в Шотландию, в Глазго, где должна была играть наша футбольная команда в европейском Кубке, - получил письмо из Парижа от Сержа Казанкини. "Мой дорогой друг! - писал Серж. - Рад тебе сообщить, что книга "Друзья и враги Олимпийских игр" Майкла Дивера уже в наборе, шум вокруг нее приличный. Пришлось даже обращаться в суд, потому что ее пытались заблокировать на официальном уровне - у тех, кто стремился это сделать, поверь мне, денег куры не клюют. Правая пресса - та просто с цепи сорвалась, пишет, что Дивер "продался красным", называют даже сумму, во что обошлась "коммунистическому блоку" рукопись, - миллион долларов. Спасибо, сэр, вы хорошо платите, нет ли для меня какой-никакой подходящей работенки? Но это, конечно, шутки. На самом деле Майклу пришлось отказаться от публикации некоторых наиболее острых и взрывных документов, особенно касающихся подготовки к Играм в Сеуле. Его принудили, и он отступил, потому что иначе не сносить бы ему головы. Ты знаешь, у нас за этим дело не станет, если понадобится... Понимаю, что у тебя от того "миллиона" не осталось ни шиша и ты не сможешь заплатить американцу за информацию, не так ли? Я ему это прямо и выложил, чтоб не существовало никаких недоговоренностей. Он немного помялся и согласился передать тебе "во имя блага и процветания Олимпийских игр" (это не мои. - Майкла слова) ОРИГИНАЛЫ (чуешь, как это серьезно, если человек даже боится их хранить у себя?) документов, подтверждающие наличие широко разветвленного заговора с целью УНИЧТОЖЕНИЯ олимпизма. Я очень надеюсь, что ты будешь в Лондоне в то время, о котором сообщал ранее. Позвонишь мне оттуда. Твой верный оруженосец (я недавно путешествовал по Испании и стал просто одержим дон-кихотством) Париж, 22 октября. Серж Казанкини." Письмо я взял с собой, как и спортивную газету, где в официальном разделе сообщалось, что коллегия Комитета по физкультуре и спорту восстановила звание "Заслуженный мастер спорта СССР" В. Добротвору (посмертно), а киевская ДЮСШ теперь носит его имя... В лондонском Гайд-парке цвели гладиолусы, небо светилось густой осенней голубизной и ничто не предвещало приближающейся непогоды густого, липкого тумана, в котором, как в вате, тонули звуки и от которого на душе становилось сумрачно, вот как в этом старинном пабе на Бейкер-стрит, куда я заглянул перекусить. Паб мне знаком еще с тех давних времен, когда меня водил сюда Дима Зотов - это, если память не изменяет, было чуть ли не десять лет назад; когда-то, сюда любил захаживать Диккенс, о чем свидетельствовали пожелтевшие страницы его рукописей в черных рамочках под стеклом, развешанных по дубовым панелям; это место было любимо газетчиками из близлежащих редакций и местными писателями, маститыми и начинающими. Дима, помнится, не сразу выбрал место, хотя в зале в тот предобеденный час было пусто, сонно, и тишину нарушали лишь звуки срывающихся с места автомобилей на перекрестке перед светофором. Пахло ароматным табаком и терпким мужским одеколоном. Зотов - он тогда работал в русской службе Би-би-си спортивным комментатором - был невысок, сух, с нездоровым, типично лондонским цветом лица - поискал кого-то глазами, выждал, пока появился официант в черном новом смокинге, и спросил: "Посадишь нас в мой угол?" Официант, похожий на премьер-министра или на клерка из Сити, приветливо улыбнулся и широким жестом пригласил нас в дальний угол, где над деревянным, без скатерти, столиком свисал на кованой цепи изящный фонарь. - Я сюда забегаю поработать, когда нужно что-то срочное выдать, сообщил Зотов, когда мы уселись друг против друга. - В редакции дым столбом и шумно, как в воскресный день на заячих гонках в Уэмбли. А здесь - покой. Я помнится, тогда с сомнением воспринял Димино заявление - в пабе стало многолюдно, накурено, изрядно шумно. Но потом понял, что в его укромных уголках действительно можно уединиться: никто не мешал, не приставал, не спрашивал свободный стул и не пытался лезть в душу. Зотов возбуждал во мне интерес: бывший ленинградец, превратности войны забросили его далеко от родины, о которой Дима так заинтересованно расспрашивал и тоска по которой, как я догадался несколько позже, буквально сжигала его. Правда, ему было лет четырнадцать, когда не по своей воле он очутился на чужбине - Дима жил с матерью (отец, военный, был репрессирован еще в 37-м), и она сама выбирала свои жизненные дороги. Потом мы встречались с Зотовым не раз - и в Лондоне, и в иных столицах, Дима становился мне все ближе и понятнее... И вот теперь, едва заскочив в номер, чтобы наскоро принять душ и сменить рубашку, я переступил порог знакомого паба на Бейкер-стрит. И нужно же такому случиться! - столик в углу оказался свободным, и я поспешил туда, не дожидаясь официанта (теперь здесь уже не носят смокинги и обслуживают в основном иммигранты - поляки, югославы, испанцы), расположился на "своем" месте. Заказал традиционный английский завтрак яичницу с беконом, стакан абрикосового сока, джем, булочку и черный кофе. Я думал о предстоящей встрече с американцем, втайне надеясь, что сумеет выбраться в Лондон и Серж Казанкини: мне было непривычно одиноко и пусто в этом огромном городе: накатила грусть-тоска. Может, это потому, что нет уже в живых Димы Зотова. Он погиб еще в 1979-м, выбросившись из окна клиники, - так, во всяком случае, выглядела официальная версия. Но ни я, ни Димина жена - гречанка из Мариуполя, написавшая мне о трагедии, не поверили в это. И хотя никаких официальных свидетельств у меня не было, не сомневался, что с Зотовым расправились: репортер залез слишком глубоко в одну историю, докопался до вещей, вытаскивать на свет которые, как оказалось, было слишком опасно. Но Зотов, понимая, что смертельно рискует, все же сделал этот шаг, чем укрепил мое мнение о нем, как о честном, смелом человеке. Это было накануне Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде в США в 1980 году, и история касалась непосредственно подготовки к Играм, вернее, подготовки "особой встречи" советских спортсменов, которая, по мысли ее организаторов, должна была если не сорвать, то значительно затруднить Олимпиаду в Москве. Впрочем, все это в прошлом... Когда принесли кофе, я спросил официанта, где телефон. Он провел меня за штору, отгораживающую кабинку от зала и, заглянув в книгу, сообщил код Парижа. Не успел угаснуть первый же звонок, как я услышал близкий голос Сержа. - Казанкини. - Привет, Серж. - Олег? О ля-ля! - вскричал он. - Ты когда приедешь? - Я уже приехал. - Куда приехал? - растерялся Серж. - В Лондон. Звоню тебе с Бейкер-стрит. - Как долго пробудешь в Лондоне? - Послезавтра утром улетаю в Глазго. На матч. Как наши дела? - Блестяще! Все бумаги и верстка книги у меня в сейфе. Я вылетаю к тебе первым же самолетом. Минутку, сейчас я узнаю, на когда можно зарезервировать билет. - Я услышал, как Серж на противоположном конце провода набирает номер, услышал его вопрос и узнал, что Казанкини бронирует место на сегодня, на 14-часовый рейс "Алитапия". А это значит, что Серж прибудет в Лондон и даже у меня в отеле появится - около шести часов, не позже. - Ты понял - в шесть жди меня у себя! - сказал напоследок Серж. - Эй, парень, - запоздало выкрикнул он, - только, чур, не забывать, что мы - не конкуренты! Я сделаю интервью с тобой для Франс Пресс, а опубликую его сразу же после того, как ты выступишь с разоблачением у себя в газете. Договорились? - Договорились, Серж, Я повесил трубку и еще несколько мгновений стоял в кабинке. Мне не хотелось уходить и снова оставаться наедине со своими мыслями. "Ладно, кончай грустить, сказал я сам себе. - Грустить в Лондоне - позор!" Я решил, что пойду бродить по городу - не торчать же в гостинице, в четырех стенах. Послоняюсь по Пиккадилли, потолкаюсь в Гайд-парке, послушаю речи ораторов. Конечно, неплохо было бы смотаться в Сент-Джеймское предместье, там удивительно красивый парк с лебедями. А может, забраться в кинотеатр да поглядеть какой-нибудь экстра-фильм вроде "Ганди" или "Инопланетянина", о которых я наслышался дома? Решение повлияло и на настроение, я бодро направился к своему столику. Увы, меня ждало разочарование: в мое отсутствие за столик подсел средних лет человек в серой куртке и в серой рубашке без галстука. У него были помятые уши, что сразу выдало бывшего борца, и неприятный взгляд бесцветных глаз любителя спиртного. - Извините, я без вашего согласия... - начал он. - Пожалуйста, я уже заканчиваю. - Вот и мне парень, то есть, простите, официант, так и сказал. Что, значит, кончаете... Я, значит, не помешал... - Нет-нет, не помешали. Я быстро допил остывший кофе и поднялся. Мой непрошеный сосед оторвался от яичницы, которую поедал с жадностью узника Освенцима, и уставился на меня. Я кивнул ему на прощание и вышел. Серж не появился в назначенное время. Я позвонил в справочное аэропорта, и автоматический диспетчер ответил, что по метеоусловиям Лондон закрыт до 22 часов. Впрочем, я и без диспетчера знал об этом - достаточно было взглянуть в окно, чтобы убедиться в стопроцентной точности прогноза, переданного в это солнечное утро: густой туман, моросящий дождь, сиротливо полощущиеся под порывами ветра листья мощного каштана, растущего напротив. Непогода внесла существенные коррективы в мои планы. "Впрочем, - решил я, - даже если Серж не прилетит нынче вечером, то утром - наверняка. Но даже если он не успеет к моему отъезду, мы встретимся позже, после возвращения из Глазго, ведь в Москву все одно доведется вылетать из Лондона". Но что-то кольнуло в сердце: я вспомнил, как неприятно поразило меня появление в вестибюле гостиницы того типа с мятыми ушами, что подсел за мой столик в пабе на Бейкер-стрит. Впрочем, возможно, я ошибся, потому что мой визави мелькнул и тут же скрылся в толпе... От автора: Лондонская газета "Тайм энд ньюс" поместила на первой полосе следующую заметку: "Исчезновение советского журналиста: выбрал свободу или похищен? В минувший четверг, приблизительно в 20:30, советский спортивный журналист, в прошлом известный олимпиец Олег И.Романько, остановившийся в Лондоне проездом в Глазго на матч за европейский Кубок, вышел из отеля "Ватерлоо", что вблизи Гайд-парка, и не возвратился. Полиция по требованию советского посольства начала расследование инцидента. Сообщили, что Олег И. Романько исчез и местонахождение его пока неизвестно. Он вышел, судя по тому, что не взял с собой ничего из вещей, за исключением магнитофона (в вещах имеются запасные чистые кассеты), на заранее обусловленную встречу. Полиция продолжает розыски и сообщает приметы исчезнувшего: 42 года, роста чуть выше среднего, блондин, спортивного телосложения, лицо чуть удлиненное, нос ровный, глаза карие..."Игорь Заседа Из загранкомандировки не возвратился
I. ЗАПАДНЯ
Кто не продал России Ради собственной славы, Знает, трудно быть сильным, Знает, просто быть слабым… Знаем: трудно жить крупно, Проще — жить осторожно; Добрым — сложно и трудно И недобрым — несложно…Н. Панченко
1
Стройная рекламно-прекрасная стюардесса, точно манекенщица из парижского дома моделей Нины Риччи (впрочем, может, она и впрямь там служила, прежде чем попасть в этот огромный, что твой ангар, «Боинг-747» компании «Эр-Франс»?), не прошла — проплыла по длиннющему проходу между рядами кресел, улыбнулась всем вместе и каждому персонально и одними глазами дала понять, что самое время прищелкнуть ремни и отставить в сторону посторонние разговоры. Тут и динамик возвестил, что через несколько минут мы приземлимся в монреальском аэропорту «Мирабель». Только позже, вновь и вновь припоминая мельчайшие детали, предшествовавшие событиям, что развернулись в аэропорту, — в том неуютном, мрачноватом зале, который запомнился мне еще с Олимпиады 1976 года, — я как бы остановил время и рассмотрел стюардессу у кресла, где сидел Виктор Добротвор. Нет, ни словом, ни жестом она не выделила его из числа других пассажиров, но что-то насторожило меня и стукнуло в сердце — легонько, но многозначительно, как стучат в окошко, за которым тебя с нетерпением ждут. Не случись дальнейшего, никогда не возвратила бы память ее взгляда, перехваченного мной случайно, ненароком, кажется, даже вогнавшего меня в краску — словно подглядел чужую тайну… Нет, стюардесса — это чудо современной косметики и моды — не случайно задержалась возле Виктора, я готов дать голову на отсечение — она замерла, чтобы убедиться, что он на месте, там, где ему положено быть, и никакая сила не унесет его отсюда. На славном девичьем личике, притуманенном акварельными тонами макияжа, промелькнул страх не страх, но какое-то опасение, и губы, четко очерченные вишневого цвета помадой, дрогнули, будто девушка порывалась сказать Виктору что-то крайне важное, да не решилась. Она отшатнулась от него, сама испугавшись собственного непроизвольного порыва, и я, помнится, подумал тогда с ласковой грустинкой, что Виктор неизменно притягивал внимание женщин не одним лишь своим внешним видом: его открытое, мужественное лицо было вызывающе, дерзко красивым, и даже его римский нос не был сломан, как у большинства боксеров, полжизни выступающих на ринге, а черные татарские глаза блистали, как у кошки, кажется, даже в темноте; он всегда бывал подчеркнуто изысканно одет — костюмы и пальто неизменно шил у старого таллинского портного, к нему он наезжал ежегодно и даже специально, если не случалось там сборовили соревнований. Но не этим был славен Виктор Добротвор. Встречают по одежке, провожают — по уму… Его встречали по уму. Я терялся в догадках, когда видел Виктора на ринге, бился над неразрешимой проблемой. Налитое неистовой силой тело, длинные руки с буграми стреляющих мышц, ноги, что умели намертво прирастать к полу, когда он встречал соперника лицом к лицу, вдруг становились легкими и послушными, будто у солиста балета, когда он затевал свою знаменитую игру в кошки-мышки. Как, каким образом у этого боксера-полутяжеловеса соединялись, не конфликтуя, такие диаметрально противоположные качества: мощь и неукротимость гладиатора и утонченность интеллигента в седьмом колене? Я, не удержавшись, лишь однажды спросил его об этом. Спросил и тут же пожалел, потому что уловил в собственных словах нечто обидное, унизительное, помимо моей воли проскользнувшее в самом вопросе. Я готов был сквозь землю провалиться, потому что сам многие годы пребывал в его шкуре — шкуре спортсмена-профессионала (а как это еще называется, если без дураков, без разных там слов-прикрытий, когда тебе платят деньги за то, что ты шесть раз в неделю дважды в день в течение одиннадцати месяцев вкалываешь — на ринге ли, в бассейне, на обледенелых горных трассах или в гимнастическом зале?), и знаю — достоверно знаю! — как задевают за живое такие вопросы. Ибо в них — предвзятость, пусть даже непреднамеренная, эдакое превосходство «энциклопедической личности» перед ограниченными умственными возможностями человека, обреченного до умопомрачения «качать» свою «физику» в ущерб интеллектуальности. Боже, как недалеки бывают эти телевизорные «интеллектуалы», чьи познавательные горизонты чаще всего окантованы чужой, книжной (ладно, книжной — в книгах, в них, не во всех, ясное дело, встречаются мысли или по меньшей мере информация), а ведь чаще всего питаются расхожей газетно-журнальной мудростью, коей делятся, спеша опередить друг друга, за питейным столом да в курилках в коридорных углах. И как постигнуть такому, что существует еще огромная, воодушевляющая область чувств и ощущений, что дается лишь тем, кто совершенствует свое тело и дух в борьбе с самим собой и соперниками. Но Добротвор не смутился и не обиделся. Ответил твердо, не раздумывая: — Да разве в этом есть противоречие? Человек обязан постоянно совершенствовать себя, а не довольствоваться отпущенным природой… Мне расхотелось развивать эту тему, хотя в душе остался недоволен Виктором, разглядев в ответе банальный смысл прописных истин. А разве в жизни, где столько банального, не сатана ли правит бал? Это все мне явилось в мыслях позже, когда уже случилось то, что застало меня врасплох, как застает человека лавина в горах. И стюардесса а-ля Нина Риччи торчала перед глазами, как наваждение. Нет, ни красота ее, ни округлая грудь, легко угадывавшаяся за светло-голубым форменным блайзером и способная взволновать даже анахорета в бочке, ни блуждающая профессиональная полуулыбка-приглашение к знакомству, не это волновало: молниеносный испуг, отразившийся на ее лице, когда она замерла у кресла Виктора Добротвора, — вот что не давало покоя. Перед глазами вновь и вновь в лучах софитов хищно вспыхивали зеркальным отблеском неожиданно тонкие дужки стальных наручников на мощных запястьях Виктора Добротвора, его растерянная улыбка застигнутого врасплох, но не потерявшего голову человека. Его кулаки напряглись, и мне почудилось, что стальные ободки сейчас лопнут, как гнилая веревка. То же самое, по-видимому, смутило и двух полицейских — тоже не из хлипкого десятка, но все равно проигрывавших рядом с Виктором: они набычились, готовые накинуться на арестованного — профессионально точно, спереди и сзади, выгибая, сламывая шею и переплетая закованные в металл руки. Но Виктор Добротвор расслабил кулаки, и руки его медленно, точно преодолевая сопротивление, опустились вниз. Но не бессильно, выдавая согласие и покорность, а сохраняя мышечную нагрузку — взведенный курок пистолета, поставленный на предохранитель. Ему особенно докучал один назойливый телевизионщик: бородатый, неряшливо одетый парень без шапки буквально совал ему в лицо объектив, точно стремясь заглянуть внутрь, за эту маску со сжатыми, помертвевшими до белизны губами. Рядом с Виктором — полная ему противоположность — нервно переминался с ноги на ногу Семен Храпченко, тоже мощный, пожалуй, даже покрепче Виктора; он напоминал быка — крупная, костистая голова на короткой шее, взгляд исподлобья, плечи опущены вниз, словно под тяжестью пудовых кулаков. Он был явно растерян, напуган, глаза его бегали, перепрыгивали с одного лица на другое: с комиссара полиции в сером не по сезону легком костюме под распахнутой короткой светлой дубленкой, что-то говорившему ему, Храпченко, на представителя канадской федерации бокса — седоголового джентльмена, бросавшего слова в микрофон телевизионщика. Меня Храпченко не замечал, хотя я торчал в трех метрах от него, за канатом, ограждавшим пятачок у таможенного стола, где все еще громоздился раскрытый адидасовский баул Добротвора. Сумка была пуста, извлеченные из нее вещи — тренировочный синий костюм с буквами «СССР», махровое красное полотенце, стопка свежего белья в целлофановом пакете, старые боксерские туфли, альбом Николая Козловского «Мой Киев», томик Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (я его узнал, хотя названия книги не было видно, — точно такой хранится у меня дома) и… десяток ампул с желтоватой жидкостью рядом с горой целых, невскрытых блоков лекарств в фабричной упаковке. Вокруг толпились люди: задержались пассажиры прибывшего авиалайнера, мелькнуло даже — или мне почудилось? — бледное личико красавицы-стюардессы из нашего «Боинга-747», мельтешили полицейские в форме, служащие аэропорта, праздные зеваки. К Виктору Добротвору обратился репортер, кончивший терзать представителя канадской федерации бокса, что-то спросил. Виктор ответил — я видел, как шевелились его губы, но слов, естественно, в этом содоме не разобрал. Он отвечал без переводчика, судя по тому, как понимающе кивал головой репортер. Виктор знал английский хорошо и нередко исполнял роль толмача в сборной. На этом даже экономили валюту, без зазрения совести снимая с поездки официального переводчика и перепоручая это бремя Добротвору. Случившееся все еще казалось мне дурным сном. Каких-нибудь двадцать минут назад мы перебросились с Добротвором последними словами, я пожелал ему успеха, он дернулся было послать меня к черту, да прикусил язык — он был достаточно воспитанным человеком, чтобы сохранять необходимую дистанцию между мной и собой. Хотя Виктор и видел во мне — я в этом не сомневался — такого же профессионального спортсмена, как и он сам, но нынешнее мое положение, а главное — полтора десятка лет, разделявшие нас, удержали его в рамках приличий. В самолете мы встретились случайно: Добротвор с Храпченко летели по приглашению Федерации бокса Канады на крупный международный турнир, а я с фигуристами — на юношеское первенство мира в Лейк-Плэсид, и здесь, в Монреале, наши дороги расходились. Добротвор, как обычно, выглядел веселым, уверенным в себе, и, кажется, перспектива вновь встретиться с Гонзалесом, экс-чемпионом мира и, пожалуй, самым известным после Теофило Стивенсона боксером на Кубе, дважды выигравшим у Добротвора в уходящем году, мало беспокоила его. Когда появился встречавший нас представитель советского посольства — мой давний друг Анатолий Владимирович Власенко, Влас, с которым мы столько наплавали в свое время в разных бассейнах мира, отяжелевший с тех пор, как мы виделись в Штатах четыре года назад, на зимних Играх в том самом Лейк-Плэсиде, куда я направлялся теперь, — ситуация прояснилась. Он был непривычно мрачен и неразговорчив. — Наркотики, — только и выдавил Власенко сквозь зубы в ответ на мой вопрос. Если б разверзлись бетонные полы аэропорта и адский огонь плеснул в лицо, честное слово, — это не потрясло бы меня сильнее! Виктор… Добротвор… этот честный и красивый человек… и наркотики? — Не может быть… — Чего уж теперь — не может быть… Вон, гляди. — Власенко резанул меня злым взглядом. — С тобой прилетел, в одном самолете… Извини, я хотел сказать… И вещдоки налицо… Этого только нам здесь не хватало! Я догадался, о чем речь: в последние месяцы не сыскать канадской газеты, что в той или иной форме не выплеснула бы ушат грязи на мою страну, на Украину в первую голову. Голод на Украине в тридцатых годах, к пятидесятилетию которого во всеоружии подошли не одни лишь украинские националисты, — в пропагандистскую кампанию оказались втянутыми парламентарии и видные политические деятели, стал прекрасной закваской для распухавшего не по дням, а по часам антисоветизма. В один пропагандистский котел валили и «русификацию», и наши неурожаи, и евреев-отказников, и показания оставшихся в живых свидетелей голода, и еще черт знает что. Я знал: сотрудникам наших зарубежных миссий приходилось отбиваться от нападок и справа и слева. А тут тебе факт: один из самых известных советских боксеров киевлянин Виктор Добротвор, выступление которого в монреальском «Форуме» широко разрекламировано (в самолете я читал местную «Глоб» — Виктору газета посвятила чуть не целую полосу с множеством фото), схвачен в таможне с грузом наркотиков. Было от чего впасть в мрачное расположение духа…2
— Будь это обычная провокация, еще куда ни шло. — Власенко остановился у окна — высокого, широкого, веницианского, впрочем, скорее викторианского, в стране, где по-прежнему чтут за первопрестольную Лондон, а портреты английской королевы увидишь едва ль не в каждой второй витрине независимо от того, чем торгуют, — фруктами или новыми американскими автомобилями. — Да, время банальных провокаций минуло. Теперь и пресса насобачилась — ей мякину не предлагай, дай факт крепкий, да еще с внутренним содержанием, чтоб достать местного аборигена до самых селезенок. Матрос, сбежавший с торгового судна, какой-нибудь обломок вокального трио, закричавший что-то на манер «хочу свободы», заслужит разве что пятистрочную информацию. Здесь же случай особый, из ряда вон, и потому особенно сенсационный. Да что там! Я за столько лет зарубежных скитаний не припоминаю ничего, даже приблизительно напоминавшего эту историю… — Ну, загнул. Достаточно вспомнить Протопоповых… — Нет, история падения олимпийских чемпионов — другого корня. Они пали жертвой собственной подозрительности, эгоизма и обособленности… обособленности, рожденной в обстановке всеобщего сумасшедшего поклонения. Ваш брат журналист к той истории приложил — и еще как приложил — руку. Ах, неповторимые, ах, идеал советского спорта! Коли же снять розовые очки с глаз, там прямо-таки перли наружу нигилизм, наглость, наплевательство на всех, кто был рядом и кто восхищался издали их действительно великолепным мастерством. Власенко вглядывался в сгущавшиеся за окном ранние декабрьские сумерки, в дождь, барабанивший в стекла. С грустью заметил я, что у него появилась ранняя седина на висках, хотя Анатолий, считай, года на два младше меня. Мы редко виделись с тех пор, как он уехал из Киева в Москву, тем более что вскоре он вообще бросил выступать даже на чемпионатах столицы. Из виду, правда, друг друга не теряли, а если выпадала удача встретиться на далеких меридианах, как вот нынче, — радовались искренне и проводили вместе максимум возможного времени. Власенко по-прежнему любил хлебосольство, был насмешливо улыбчивым, едким шутником, с ним не заскучаешь. Не скрою, ребята поговаривали, что он часто заглядывал в рюмку. Я не слишком-то доверял подобным разговорам — Власу завидовали: как-никак жизнь за границей, это тебе не прозябание на службе в каком-нибудь НИИ или конторе. Ведь рассуждали как: ну, неплохой пловец, даже приглашали в сборную, но каких-либо заметных успехов за ним не числилось, и вдруг — такая блестящая дипломатическая карьера… — Ты лучше мне объясни, чего ему не хватало? — прервал лицезрение зимнего унылого дождя, резко повернувшись, спросил Власенко. — Ты ведь его должен хорошо знать! — Близко мы не сходились — разница в возрасте мешала. Но встречался с Виктором довольно часто, это правда. — Ну что могло толкнуть его на этот шаг? Жадность? Возможность отхватить сразу десять тысяч долларов? Так ведь он, как я разумею, человек не бедный, от зарплаты до зарплаты рубли не считает. — Не считает. Плохо было бы, ежели б такие спортсмены только и думали о рублях… — Я все еще ощущал внутреннюю несобранность, даже растерянность; ненавидя такое состояние, только больше волновался и не находил разумных слов, чтоб попытаться объяснить Власенко, а скорее самому себе, что же стряслось с Виктором Добротвором. Если же честно, то до той минуты в аэропорту «Мирабель» не слышал о лекарстве под названием эфедрин, числившегося здесь, в Канаде, опасным наркотическим средством, а у нас продававшимся в любой аптеке, кажется, даже вообще без рецепта. — Вот-вот, — сказал Власенко, и в голосе его мне почудилось злорадство — злорадство обывателя, узревшего вдруг, что всеобщий кумир на поверку оказался самым обычным мелким и дешевым хапугой. — Ты брось, — словно прочитав мои мысли, рубанул он, — меня причислять к злопыхателям, что пишут письма в редакции и вопрошают, что это за привилегия разным там чемпионам и рекордсменам. Я, мол, гегемон, у станка вкалываю, а в очереди на квартиру годами торчу, а тут сопливому мальчишке, научившемуся крутить сальто-мортале лучше других, — слава, деньги, ордена и, естественно, квартиры… — Ладно, ты меня тоже в этот разряд не тащи, — без злости огрызнулся я, услышав слова и поняв тон Анатолия: от сердца отлегло — не испортился парень. — Еще чего! — Власенко явно лез на рожон. Он вызывал меня на ответную реакцию, ему нужно было — кровь из носу! — раскачать меня, выудить внутреннюю информацию, потаенные мысли, чтоб установить логическую связь между моими знаниями о Добротворе и тем, что приключилось в аэропорту «Мирабель». Но я не был готов к взрыву — вулкан еще лишь клокотал где-то глубоко-глубоко, ничем не выдавая своей дьявольской работы. Но я был бы подлецом, если б не помог Анатолию — да и себе! — разобраться в фактах, какими бы трудными они не были. — Не припоминаю за Добротвором ничего такого, что могло логически привести к подобному поступку, — начал я осторожно, словно нащупывая в полной темноте тропку. — Ничего… — Иногда достаточно самого крошечного толчка, чтоб рухнул колосс — Власенко был нетерпелив, и это задело меня за живое. — Ярлыки вешать — не мастер, извини. Не исключаю, что твоя профессия научила не доверять людям, а у меня другие взгляды на жизнь. — Не вламывайся в амбицию, старина. — Власенко выщелкнул сигарету из красной коробочки «Мальборо». Но не закурил, а примирительно произнес: — Я привык верить фактам, этому меня учили… учат и теперь. — Тогда давай обговорим ситуацию спокойно. Итак, Виктор Добротвор, 29 лет, спортом занимается лет 15—16, то есть, считай, большую часть сознательной жизни. Родители живы, не разводились, но практически воспитывала Виктора тетка — писательница, старая большевичка, отсидевшая срок при Сталине. Я ее знал преотлично — жили-то на одной лестничной клетке. Там, у нее, и познакомился с Виктором. Много лет назад. Она имела безраздельное влияние на Добротвора, а родителям, кажется, это мало докучало. — Тетка жива? — Семь лет, если мне не изменяет память, как похоронили. Кремень, а не человек. Веришь, я искренне завидовал ее цельности, полнейшему отсутствию саморедактирования, качества, столь присущего многим нынешним литераторам. Я имею в виду ее честность в оценках даже самых больших людей. — Ладно, это к делу не относится. Чем увлекается Добротвор, кто его друзья, как живет, есть ли машина? — Анкетка! — Я стремлюсь понять его. — Я тоже. Итак, был женат, развелся, есть семилетний сын — в нем Виктор души не чает. Отличный парнишка, а характером — в тетку. Правда, стихов не пишет. — Почему развелся? — Спроси что полегче… Наверное, обычная спортивная история: слишком много тренировок, мизер свободного времени, жизнь, подчиненная раз и навсегда заведенному ритму, где нет места другим ритмам. Нужно или подчиниться ему, или уходить. Она ушла. — Я говорил уверенно, потому что такая же ситуация однажды создалась у меня самого и закончилась та история так же печально, как у Добротвора. Нет, для меня она обернулась лучшим образом, потому что, не случись разрыва, вряд ли я нашел бы Натали, а без нее… — Как относился к славе, ну, как вел себя с другими — с товарищами, с журналистами, просто с болельщиками — их-то, слава богу, у него чуть не весь Союз?.. Такой человек… столько лет наверху… — Заносчивостью не отличался, всегда ровен — и с товарищами, и с почитателями таланта. И с нашим братом журналистом не заискивал, но и не сторонился… Дачи нет, есть «Волга», да и та по большей части загорает в гараже — опять-таки доподлинно известно, гараж в моем дворе, достался от тетки. — Женщины? — В компаниях я его не встречал, в ресторанах — тоже, впрочем, сам там не частый гость, могу и ошибиться. Наверное, были и есть, жених завидный, хоть куда казак, — попробовал я пошутить. — Итак, деньги, скорее всего, не были его фетишем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. К нему эта истина не клеится… Потому еще нелогичнее выглядит поступок Добротвора. — А может, и впрямь — самая дешевая провокация? Ведь ты подумай, сколько разных следов натоптали средства массовой информации Запада, ну, касательно наркотиков, которые Советский Союз, Болгария еще якобы переправляют в развитые капиталистические страны с целью подрыва их мощи, развращения молодежи и тому подобное. Тут же торговец зельем — всемирно известный советский спортсмен! — Это сбрасывать со счетов нельзя, согласен. Американцы говорят: «кэректер ассасинейшн» — «убийство репутации». Сейчас ищут, чем бы нас достать побольнее. Андроповский шок миновал, они разглядели реальную возможность давить — ведь наверху у нас, — Власенко смолк, изучающе, цепко впился в меня взглядом, — больной человек, как они пишут, жить ему недолго. Раз так, ему не до далеко идущих шагов или глобальных проблем взаимоотношений двух систем. Значит, нужно поспешить захватить плацдарм в политике, чтоб было о чем торговаться в будущем. Тут любые средства хороши, и спорт — не в последнюю очередь. Ведь обманули они нас с Олимпиадой в Лос-Анджелесе? Обманули! Весь этот пропагандистский тарарам, эти мифические террористы, готовившие в потайных штаб-квартирах пластиковые бомбы для советских спортсменов, — блеф, шантаж. Мы же попались на их приманку и отказались ехать на Игры. А рейгановской Америке только это и нужно было, у них все шестерки обернулись козырными тузами, потому что ни наших ребят, ни гэдээровцев в Лос-Анджелесе не оказалось. Вот и обрушился на второразрядных американских атлетов смерч из медалей, позолоченных нашей неуемной и неумной амбицией и еще — откровенным нежеланием глядеть в корень… Извините, это из другой оперы. Власенко потянулся к штофу с горилкой, врученной ему в подарок, от души налил в широкий толстостенный бокал из хрусталя, предназначенный для виски, и рывком опрокинул в рот. На лице его мускул не дрогнул. Поставив бокал, он взглянул на стенные часы, свисавшие на длинных, под старину, позеленевших медных цепях, и нажал кнопку на дистанционном пульте управления телевизором, лежавшем не замеченным мною на столе. Тотчас засветился экран, и рекламный ковбой на красавце коне смачно выливал в рот пенящуюся золотистую жидкость из серебристой банки. Закадровый голос умиленно нахваливал ни с чем не сравнимые качества «Лэббата». Его проникновенная убежденность подействовала, и я непроизвольно и себе щелкнул крышечкой точно такой же, как в руке ковбоя, баночки пива. Передавали программу новостей. В Японии переходят на выпуск принципиально новой системы видеомагнитофонов — дисковых. В Сеуле студенты вновь отчаянно требуют отставки правительства Чон Ду Хвана и полиция с точностью машины и с ее заранее установленным ритмом набрасывается на безоружных ребят… — Если так пойдет и дальше, то Олимпиада в Сеуле снова будет без нас, — пробормотал я. — За четыре года много воды утечет, — не согласился Власенко. — Ежели мы вновь пропустим Игры, то на Олимпиадах впору ставить крест… Во всяком случае на том значении, кое мы придаем им. — И это станет еще одним поражением в борьбе за выживаемость человечества, ибо Игры, при всей их формальной обособленности, наитеснейшим образом связаны со всеми общественными процессами, происходящими в мире… — Час назад, — голос диктора вдруг зазвенел сталью, — монреальский суд вынес решение по делу о контрабанде наркотиков советским боксером, победителем прошлогоднего Кубка звезд Виктором Добротвором. Он был задержан сегодня утром в аэропорту «Мирабель» с двумя тысячами доз запрещенного у нас лекарства. Судья сэр Рональд Бигс учел заявление, сделанное представителем канадской Федерации бокса, пригласившей Добротвора вместе с другим советским боксером, Семеном Храпченко, участвовать в очередном розыгрыше Кубка. Федерация обратила внимание по крайней мере на два существенных обстоятельства. Во-первых, Виктор Добротвор приехал из страны, где это лекарство не является запретным, во-вторых, оно не предназначалось для продажи или передачи другому лицу, а лишь для личного пользования… Прежде чем сообщить вам, уважаемые телезрители, о решении суда, еще раз предлагаем посмотреть репортаж из аэропорта «Мирабель», сделанный нашими специальными корреспондентами после приземления «Боинга-747» авиакомпании «Эр-Франс»… Мы увидели, как спускается по трапу улыбающийся Виктор Добротвор, машет кому-то рукой. За ним я обнаружил… собственную физиономию, самодовольную и такую радостную, словно встречали не Добротвора, а меня. — Тоже мне — кинозвезда, — не удержался съязвить Власенко. Затем камера перенесла нас в таможенный зал, привлекла внимание к рукам таможенника, ловко открывающего адидасовский баул Добротвора. Крупно, на весь экран, — обеспокоенное, но не испуганное лицо Виктора. Он поворачивает голову и что-то спрашивает у стоящего за барьером представителя канадской Федерации бокса. Вот кто действительно растерян, да что там — его обалдевшее от свалившейся новости лицо лучше всякой печати свидетельствует, что для него это — полная неожиданность, больше того — трагедия. Растет на обитом алюминием прилавке гора упаковок, две коробочки таможенник медленно, будто тренируясь, вскрывает прямо перед камерой. «Да, две тысячи ампул, — вещает диктор. — При помощи нехитрой химической реакции, доступной школьнику-первокласснику, из лекарства вырабатывается сильнейший и вреднейший наркотик — эфедрин, строжайше запрещенный в Канаде. Употребление его, а равно ввоз и распространение карается тюремным заключением сроком до восьми лет. Такая суровость необходима, господа, если мы намерены и дальше мужественно и последовательно бороться против проникновения этой отравы в среду наших молодых людей. Увы, я не припоминаю случая, когда подобное пытались бы провезти советские спортсмены. Прискорбно, но факт, что человек, в минувшем году провозглашенный чемпионом нашей страны в полутяжелой весовой категории, оказался замешанным в такой грязной истории. Впрочем, окончательный вердикт вынесут судьи…» Камера отпечатала на экране сжатые губы закаменевшего лица Добротвора… «Итак, судья Бигс огласил приговор: оштрафовать мистера Виктора Добротвора из СССР на 500 долларов, ввезенное лекарство арестовать и возвратить его владельцу при отбытии из Канады. Представитель Федерации бокса внес требуемую сумму, и Виктор Добротвор вместе с ним уехал в гостиницу «Меридиен» готовиться к завтрашнему поединку с сеульским боксером Ким Ден Иром, чемпионом своей страны и, как утверждают специалисты, наиболее вероятным чемпионом Игр XXIV Олимпиады». Власенко откинулся на спинку кресла, высоко запрокинув голову, так, что выдался вперед острый кадык. Почему-то вспомнился Остап Бендер и Киса Воробьянинов, крадущийся с бритвой в руке. Я почти физически ощутимо почувствовал мгновенную, как удар молнии, острую боль, тут же исчезнувшую и лишь оставившую воспоминание во вдруг заколотившемся сердце. В голове же засела мысль, и чем дальше, тем сильнее захватывала она меня, я готов был тут же вскочить и нестись в «Меридиен», чтобы без раскачки задать этот проклятущий вопрос Виктору Добротвору: «Зачем?» Я понял, что не засну ни сегодня ни завтра, и не будет мне покоя, пока не услышу ответ, ибо Добротвор что-то нарушил в моей душе, сдвинул с места, и мое представление о нем — да разве только в нем самом дело?! — о человеческой порядочности и честности оказалось поколебленным. Нет, я не перестал верить в честность и порядочность, и сто таких, как Виктор Добротвор, не разрушат мою убежденность в их незыблемой необходимости на этой бренной земле. Но я страстно хотел увидеть, узнать, что же есть закономерность, определяющая сущность человека, что служит гарантом непоколебимости этих никогда не стареющих, определяющих нашу жизнь понятий. Виктор Добротвор своим поступком нанес мне удар в самое солнечное сплетение! — Возьми, — сказал Анатолий, доставая из видеомагнитофона пленку с записью репортажа. — Покрути на досуге, пораскинь мозгой. Чует мое сердце, что этим дело не закончится. Слишком просто — пятьсот долларов, и концы в воду. Дай бог, конечно, чтоб на этом оно и скисло, испустило дух… Ладно, старина, хватит, расскажи лучше, что в Киеве делается, с кем встречаешься из наших… Я ведь уже век не ступал на Крещатик… И москвичом не стал, и киевлянином называться не смею. — Я тоже не часто вижусь с ребятами, хоть и живу почти на Крещатике, на Десятинной. В КВО век не плавал, больше в «Динамо», это под боком, — в обеденный перерыв вместе с абонементщиками из близлежащих институтов академии. Они еще, бывает, недовольство выражают, что слишком быстро плаваю, им мешаю. Ну, что тут скажешь! Не откроешь же рот да не станешь первому встречному-поперечному сообщать, что ты — призер Олимпийских игр, экс-чемпион и экс-рекордсмен… И на том спасибо, что пускают в бассейн по старой памяти — без пропусков и абонементов. — Как Люси? Я невольно взглянул на Толю. Нет, время не изгладило прежнее чувство: по тому, как оживился он, как собрался, словно на старт вышел, как непроизвольно сжались кулаки и загорелись глаза, я догадался — Люська в его сердце, и чем дальше, тем крепче память, дороже воспоминания. Я живо представил, как ехали мы однажды в Москву на сбор перед чемпионатом Европы. Люси, как звал ее Власенко, была настоящая пагуба: высокая, длинноногая, какая-то утренне свежая, от ее карих озорных глаз, лукаво прищуренных, когда она играла в серьезность, в солидность (как-никак — чемпионка и рекордсменка мира, наша «золотая рыбка»), на сердце становилось беспокойно, и хотелось что-нибудь отмочить, чтоб дать выход дивной энергии, рожденной этим взглядом. Люська знала, что Влас втюрился по уши, и с женским непорочным эгоизмом не упускала случая, чтоб еще и еще напомнить ему об этом. И в счастливом ослеплении молодости не разглядела, как перегнула палку: Влас тоже был человеком-кремнем (я об этом догадался значительно позже), он не мог допустить, чтоб им пренебрегали, Люси флиртовала налево и направо (она была чертовски красива и идеально сложена) и крутила им, как ванькой-встанькой. Люська не учуяла опасности — она слишком уверовала в свое могущество, да, видимо, и не чувствовала к Толе того, что чувствовал он к ней. Они расстались, и оба так и не достигнув личного счастья. Люси, хоть и выскочила замуж, детей не завела и медленно старела, морщилась, словно усыхающий красавец гриб на солнце, как определил я ее состояние. Власенко же, как мне было известно, тоже не слишком преуспел в личной жизни: за границей он чаще перебивался один — жена предпочитала Москву. — Люси уже кандидат наук, преподает в КИСИ, глядишь, возьмется заведовать кафедрой. Волевая женщина, — как можно индифферентнее отвечал я, не хотелось травить душу Анатолию. — Как живет, скажи… Да брось ты эти штучки-дрючки! Не вороши старое. Миражи юности… — Он безбожно врал, я это видел, но Влас не был бы Власом, ежели б позволил кому-то заглянуть к себе в душу, а тем паче пожалеть, посочувствовать. Он ненавидел жалость! — Парадная сторона — в полном порядке и блеске. Люси не утратила авторитета после ухода из плавания. Что касается личного, тут я пас, мы с ней здравствуй — до свиданья, не больше. — Эх, вернуться бы лет на двадцать назад, чего натворил бы Власенко! — лихо воскликнул Анатолий и снова потянулся к штофу. Легко налил треть бокала и так же легко, не поморщившись, выпил. — Ты завтра в Штаты? — Задержусь, чтоб не крутиться по самолетам, — послезавтра будет оказия прямо до Лейк-Плэсида. — Лады. Я понял, что мне пора, потому что Люси уже появилась в затененном углу у окна, и мне почудился ее смех, и воспоминания начинают обретать осязаемые формы. Нет, что б там не твердили реалисты, ничего в этой жизни не исчезает бесследно… — На обратном пути, ежели сможешь, задержись на денек-другой, съездим в горы, лыжи у меня есть. Ты ведь тоже сорок третий носишь? Ну, вот видишь… Бывай, старина! Мы обнялись как прежде, когда случалось поздравлять друг друга с победой, постояли молча, каждый думая о своем, и я бегом спустился вниз с пятого этажа старинного особняка на монреальском Холме, и вечер встретил меня мелким туманистым дождем, приятно облизавшим разгоряченное лицо. Я не прошагал и пяти метров, как засветился зеленый огонек такси. — В «Меридиен»! — бросил я, плюхаясь на заднее сидение.3
Отъезд назначили на 6.30. Вещи были давно сложены, и я предавался редкому состоянию ничегонеделания. По телевизору по одной программе крутили оперу, по другой — фильм из жизни «дикого Запада», прерываемый американской рекламой, по третьей — очередной урок «университета домашней хозяйки»… Читать не тянуло, газеты же давно просмотрены: ничего нового к «делу Добротвора» не прибавилось. Свой первый бой с южнокорейским боксером Виктор выиграл потрясающим нокаутом в первом же раунде, и комментаторы на разные лады расписывали его манеру вести бой. Я видел поединок — впрочем, какой там поединок: спустя тридцать одну секунду после начала боя Добротвор поймал уходящего вправо корейца хуком снизу в челюсть и бедняга рухнул как подкошенный. Мне стало жаль корейца — такие удары не проходят бесследно, а до Олимпиады еще далеко, и если «надежда Сеула» попадет в такую переделку еще разок, как бы ему досрочно не перейти в разряд спортивных пенсионеров, если таковые у них имеются, понятно. У Виктора на лице тоже не слишком много радости. Больше того, мне показалось, что в этот неожиданный удар он вложил совсем, несвойственную ему ярость, точно перед ним находился не спортивный друг-соперник, а враг, глубоко оскорбивший его. Наша вчерашняя встреча с ним в «Меридиене» оказалась на редкость бесцветной. Добротвор не удивился, увидев меня, входящего к нему в номер, — он как раз выбрался из ванны и стоял передо мной в чем мать родила. — Привет! — Здравствуйте, Олег Иванович! Извините, я сейчас! — Он возвратился в ванную комнату, вышел вновь уже в халате. — Отдыхаешь? — Завтра на ринг… Нужно привести себя в порядок. — Его будничный тон, спокойствие, точно ничего не стряслось и не стоял он перед судьей в окружении двух полицейских в форме, взвинтили меня. — Что же ты можешь сказать? — без обиняков потребовал я. — Вы о чем, Олег Иванович? — О суде, о наркотиках, разве не ясно? — Почем я знаю, что вас интересует? Обычно спортивные журналисты пекутся о нашем самочувствии и радуются победам, не так ли? Если вы о лекарстве, так яснее не бывает. Я на суде показал: в личное пользование вез. Могу добавить, так сказать, из первых рук новость: Международная федерация бокса, куда обратились представители стран, участники которых тоже представлены в моей весовой категории, разъяснила, что снадобье это в число запрещенных федерацией допинговых средств не входит. Вопрос снят… — Нет, Виктор, не снят! Две тысячи ампул стоимостью в десять тысяч долларов — в личное пользование? Добротвор и бровью не повел. — Почему же десять? Если по рыночным расценкам, так сказать, розничным, все пятьдесят, ни монетой меньше. Это мне сообщил один доброхот из местных репортеров. Я ему и предложил купить товар гамузом, за полцены, глядишь, и приработок будет поболее, чем за статейку в газете… — Виктор явно блефовал и не скрывал этого, «Да он еще издевается надо мной!» — с нарастающим возмущением подумал я. — Витя, — как можно мягче сказал я, уразумев наконец, почему он так агрессивен, — Витя, я ведь не интервью у тебя беру и не о проявлениях «звездной болезни» собираюсь писать… Просто мне горько, невыносимо горько становится, когда подумаю, как ты будешь глядеть людям в глаза дома… Ведь на каждый роток не набросишь платок… Ты на виду, и тебе не простят и малейшей оплошности… Как же так?.. Что же случилось с тобой, Витя? — И на старуху бывает проруха… Какой же я дурак… — вырвалось у него. — Ты о чем, Виктор? Но Добротвор вмиг овладел собой. Правда, в голосе его уже не звучал издевательски насмешливый вызов, он стал ровнее, обычнее, но створки приоткрывшейся было раковины снова захлопнулись. — Нет нужды беспокоиться, дело закрыто, наука, конечно, будет. Из Москвы летел, купил лекарство для приятеля в Киеве — он астматик, без него дня прожить не может. Как говорится: запас беды не чинит… Так я товарищу из консульства нашего — он ко мне приезжал (Власенко был у Добротвора и мне ни слова?!) — и сказал, такая версия и будет… — Я ведь по-человечески, по-дружески, Виктор, а ты… Мне-то зачем лапшу на уши вешать?.. — Так надо, Олег Иванович. — Голос его неумолимо грубел. — Извините, мне завтра драться… Возвратившись в гостиницу, я попросил у портье видеокассетник в номер. Не успел снять плащ, как принесли новенький «Шарп». Я поставил кассету, сунутую Власенко, и несколько раз просмотрел репортаж из аэропорта. Нового выудить мне так и не удалось, но что-то смутно волновало меня, и это непонятное, волнение раздражало. Что-то было там, я это улавливал подспудно, но что, никак понять не мог. Я проанализировал каждое слово диктора, репортера, вновь и вновь, возвращая пленку к началу, вглядывался в выражения лиц Добротвора, таможенника, полицейских, словно надеялся прочесть на них скрытые, невидимые письмена. Но, увы, лица как лица. Равнодушное, привычное к подобным открытиям чернобородое цыганское лицо таможенника — человека и не пожилого, но и не молодого, лет 38—40, борода придавала ему солидность. Два полицейских как близнецы: одного почти баскетбольного роста, дюжие ребята, оба безбородые и безусые — тоже не излучали особых эмоций. Репортер? Много ли разглядишь, когда человек просто-таки приклеился к глазку видеокамеры? И вдруг — стоп! Парень-осветитель с двумя мощными лампами. Он заходился на отшибе, в самом углу кадра, и я долгое время не обращал на него внимания. Даже толком не разглядел лицо. Меня поразило другое: его спокойствие и заранее занятое место слева от таможенника — свет падал на стойку, где и развернулись основные события. Погоди… разве уже тогда, в аэропорту, не я обратил внимание на толпу репортеров, встречавших самолет? Но отмахнулся от мысли, что в этом есть что-то необычное, заранее подготовленное: ведь сразу прибыло две советские спортивные делегации — боксеры и сборная по фигурному катанию, и внимание к нам после того, как мы не поехали летом на Игры в Лос-Анджелес, повышенное, вот и встречали во всем блеске телевизионных юпитеров. Но тогда почему никто даже головы не повернул в сторону фигуристов — славных юных мальчишек и девчонок, такой живописной, веселой и оживленной толпой вываливших из чрева «боинга»? Почему все внимание, все — ты понимаешь, в с е! — приковано к Виктору Добротвору? На Храпченко даже не взглянули телевизионщики. Да что телевизионщики! Таможенник, выпотрошив баул Добротвора, не спешил залазить в такую же черную сумку Храпченко, и она сиротливо маячила на самом краешке стола. По логике вещей, поймав на контрабанде одного советского спортсмена, нужно было тут же приняться за другого, логично допустить, что они в сговоре, делали дело вместе? Вот тут-то осветитель и оказался ключевой фигурой. Он стоял в з а р а н е е выбранной точке, и свет его юпитеров падал на стол таможенника так, чтобы оператор мог заснять мельчайшие детали, чтоб ничто не ускользнуло от объектива! Выходит, они знали, что Добротвор везет большую партию запрещенных лекарств… Значит, Виктор соврал, обманул меня, съюлил, рассчитывая, что и я попадусь на официальной версии. И ты, Витя… Наверное, так оно и было, но подвел тех, кто ожидал прилета Добротвора, судья, оказавшийся человеком порядочным, мудро рассудившим, что негоже и в без того трудные времена напряженных отношений между двумя системами добавлять порцию масла в огонь, от него и так уже становится слишком жарко в разных частях света — и на Востоке, и на Западе. Судья, седоголовый сморчок, едва возвышавшийся над столом, вынес соломоново решение, и оставалось только гадать, зачем, с какой целые Виктор Добротвор повез в Канаду злополучный груз… Когда зазвонил телефон, я уже забрался в прохладную чистоту широкой, мягкой постели, готовясь расслабиться, освободиться от дурных мыслей, уснуть сном праведника и проспать свои шесть честно заработанных часов отдыха. «Толя? С него станется», — пришла первая мысль. Свет зажигать не стал: в номере и без того было светло от огромной рекламы кислого и невкусного пива «Лэббатт», установленной на крыше противоположного дома. — Да! — Я хотел бы вам сказать, зачем и кому вез Добротвор эфедрин в Канаду! — услышал я незнакомый голос. — Кто вы? — Мы можем встретиться в холле через десять минут. Вам достаточно, чтобы одеться и спуститься вниз? — Кто вы? — выигрывая время, повторил я. — Отвечу, когда вы будете внизу. — В трубке раздались частые прерывистые гудки. Я мигом оделся, галстук завязывать не стал — просто натянул на белую рубашку пуловер, а воротничок выпустил наверх. Выходя из комнаты, взглянул на часы — без четверти двенадцать. В вестибюле, как обычно, шумно, накурено и многолюдно, кутерьма, одним словом: народ поднимался из бара, расположенного в подвальном этаже, открывались и закрывались стеклянные двери ресторана, откуда доносились джазовые синкопы и неясный говор десятков людей. Я, признаюсь, растерялся в этом скопище людей, но головой крутить по сторонам не стал, чтобы не привлекать внимания. Судя по голосу, хотя телефон и искажает интонации весьма значительно, звонивший виделся мне не старым, лет до тридцати, но, по-видимому, заядлым курцом — очень уж типично для любителей крепких сигарет с хрипотцой привдыхал воздух. К тому же незнакомец скорее всего брюнет — говорил он быстро, напористо, нетерпеливо, что свойственно таким людям. «Впрочем, с таким же успехом он может быть и блондином», — рассмеялся я в душе над собой, понимая, что эти дедуктивные изыски в стиле Шерлока Холмса не больше не меньше как скрытая попытка сбить волнение, обмануть разум, увести его в сторону, чтобы встретить незнакомца спокойно и неторопливо. — Две минуты наблюдаю за вами, ловко вы управляетесь со своими эмоциями, — раздался за моей спиной голос, почему-то сразу внушивший мне доверие, хотя он, естественно, значительно отличался от услышанного по телефону. Обернувшись, я расхохотался: передо мной стоял невысокий огненно-рыжий парень в кожаной коричневой куртке и белом гольфе, с широкими, выдававшими спортсмена плечами; его голубые глаза с удивлением уставились на меня. По-видимому, он ожидал чего угодно, но только не такого искреннего веселья. Он враз помрачнел, желваки на удлиненном, но приятном лице задвигались вверх — вниз, и глаза налились густой синевой августовской ночи. — Извините, это я над собой. Мне пришло в голову представить вас заочно. Реальность отличается от портрета, подсказанного моим воображением… — Каким же вы надеялись увидеть меня? — Парень продолжал хмуриться, в голосе его теперь сквозило любопытство, но не обида. — Жгучим брюнетом, любителем крепких сигарет, лет 30. — Тут вы, как говорится, попали пальцем в небо! — воспрянул духом мой визави. — Возраст только почти угадали — мне недавно стукнуло двадцать восемь. Что же до остального — никогда не курил и не курю, впрочем, и не пью. Я — боксер. Профи, профессионал по-вашему. — Откуда вы знаете меня? — спросил я, разом прерывая «светскую беседу». Ибо, согласитесь, когда за тридевять земель, в далекой и малознакомой стране под названием Канада, о которой тебе достоверно известно лишь, что она на втором месте после СССР по занимаемой территории и что здесь пустило корни не одно поколение земляков-украинцев, разными ветрами унесенных с родных хуторов, так вот, когда здесь вас будят среди ночи, вытаскивают из постели и предлагают встретиться с незнакомым человеком, невольно будешь вести себя настороженно. — Вас зовут Олег Романько. Больше того, в книжонке, выпущенной издательством «Смолоскип», есть ваша спортивная биография, что является определенной гордостью для вас. В такие списки попадают лишь уважаемые и чтимые среди украинцев люди… — Вы украинец? — искренне удивился я. — Разрешите представиться — Джон Микитюк. Но не переходите на украинский язык — я его не знаю. Родители бежали, если можно так выразиться, из-под Львова вместе с теми, кто улепетывал с немцами в сорок четвертом. Чем они там напугали советскую власть или чем она их настращала, не скажу: о тех далеких временах у нас в семье не принято было теревени разводить. Но все, что касается родной земли, и по сей день остается святым. Вы, естественно, спросите: как же так — святое, а язык утрачен, забыт? Объяснение самое что ни на есть простое и банальное: работая тяжко, кровью и потом добывая на чужбине каждый доллар, предки мои задались целью дать мне более достойную жизнь. Потому-то дерзнули сотворить из меня чистейшего англосаксаи учили одному английскому. При мне даже разговаривать на нашем родном языке себе не позволяли. Парадокс! — Случается, — сказал я равнодушно, по-прежнему сомневаясь, как следует себя вести с этим неведомо откуда свалившимся на меня «землячком». То, что он не знал языка, еще ни о чем не говорило — сколько раз доводилось сталкиваться тут, в Канаде, да и в США, и в ФРГ с украинцами, слова произносившими по-английски. Как ни странно, это обстоятельство не мешало им быть воинствующими националистами. Смешно, право же, националист, не говорящий на «ридний мови». Но в наш дисплейный век язык, увы, становится скорее способом программирования разных ЭВМ, чем корнем, питающим нашу честь, гордость, уверенность в будущем… — Но если вы думаете, что я имею какое-то отношение к тем, кто размахивает по делу и без дела лозунгами вроде «Свободу Украине!», то спешу отмежеваться от них. Нет, я никакой не приверженец советской власти и коммунизма. Если откровенно, вообще мало что в этом смыслю — в местных газетах, да и по телеку многого о вас не узнаешь, а расхожая брань давно приелась. Но однажды я проснулся среди ночи и сказал себе: «Джон, хоть ты и не понимаешь ни слова по-украински, но твоя прародина там, где похоронены деды и прадеды. И ты больше не сможешь отмахиваться от нее. Потому что она — в твоем сердце. А с теми, кто распинается на каждом углу в любви к Украине-матери, а сам готов кинуть на нее первую же попавшуюся под руку атомную бомбу, тебе не по пути…» — Похвально. Но мы зашли слишком далеко в биографические дебри, — прервал я своего собеседника. — Вы пока не сказали ничего о главном, ради чего мы тут и торчим… — Вы правы, Олег Романько… Мы действительно торчим у всех на виду… Присядем где-нибудь в уголке. — Джон Микитюк быстро, уверенным взглядом аборигена-завсегдатая окинул вестибюль, взял меня под локоть — пальцы у него были стальные, я почувствовал их, хотя он и увлек меня за собой осторожно, вежливо, чтоб я — не дай бог — не решил, что меня волокут. Мы очутились в дальнем углу за закрытым по причине столь позднего времени киоском с сувенирами. Сели в мягкий, глубокий диван и провалились почти до самого пола, даже ноги пришлось вытянуть — хорошо, что тут никто не ходил. — Кофе? Виски? — Ни того, ни другого. Мне завтра чуть свет уезжать. — Вы уезжаете? — В голосе Джона Микитюка прорвалось огорчение. — Да, в Лейк-Плэсид, на состязания по фигурному катанию. Итак, что вы знаете о деле Виктора Добротвора? — Во-первых, Виктор — мой друг. — Джон Микитюк взглянул на меня, словно проверяя, какое, это произвело впечатление. Я и бровью не повел, хотя это было для меня полной неожиданностью: мне нужны были доказательства, а не заявления. Убедившись, что я остался холоден, он продолжал: — Познакомились лет пять назад в Нью-Йорке, на международном турнире. Я еще был любителем, выступал на Олимпиаде в Монреале, правда, не слишком удачно. Теперь — профессионал, а нам еще не разрешено встречаться в официальных матчах. Хотя, если так и дальше пойдет, то усилиями господина Самаранча для профессионалов вскоре откроют и Олимпийские игры. Ну, это так… Словом, мне понравился Добротвор-боксер, и я ему об этом признался без обиняков. Мы жили в одном отеле. Поднялись к Виктору в номер и проболтали почти до утра. — Это, как вы сами сказали, Джон, во-первых. Что во-вторых? — Во-вторых вытекает из во-первых, но раз вы, Олег Романько… Я прервал его и сказал: — Зовите меня Олегом. Не люблю, когда повторяют без толку фамилию, о’кей? — Хорошо, Олег, — согласился Джон. — Мне Добротвор понравился, больше того — сегодня он нравится мне еще больше. — Уж не после этой ли истории? — не утерпел я съязвить. Джон Микитюк вскинул руку. — Не торопитесь, прошу вас, с выводами. Когда узнаете, в чем тут дело, вы не станете осуждать его, даже… даже узнав, что он, возможно, специально, то есть сознательно взял в поездку эти лекарства. «Так, значит, я был прав, решив, что Виктор меня жестоко обманул?» — Лед обиды сковал сердце: так бывало со мной всегда, когда доводилось разочаровываться в человеке, которого любил. — Виктор — честный человек. К моему глубокому огорчению, я узнал об этой операции слишком поздно, когда уже невозможно было предупредить Виктора об опасности. Хотя, скажу без обиняков, не все ясно и мне самому, но всех, кто приложил руку к этой истории, кажись, удалось вычислить… — Джон, вы опять говорите загадками! — Но и вы, Олег, потерпите немного, самую малость и выслушайте мои объяснения! — Микитюк вернул должок. — Ладно. Без спешки и факты. Голые факты. — По рукам. Так вы и впрямь отказываетесь что-либо выпить? — Даже кока-колу и ту не хочу. — Кока-колу я вообще не пью, потому что в ней содержится наркотик. Да, да, кокаин, если вам это не известно. У меня действительно пересохло в горле. Эй! — Джон негромко, но как-то властно, уверенно окликнул официанта в белых брюках. — «Сэвэн ап», два. — Официант чуть ли не стремглав кинулся выполнять заказ, возвратился мигом с запотевшими баночками тонизирующего напитка и высокими бокалами. — Еще чего нужно, Джон? — поинтересовался он подобострастно. — О’кей! — поблагодарил Джон Микитюк, и официант неохотно попятился, буквально пожирая глазами моего собеседника. — Не удивляйтесь, меня здесь каждая собака знает. Чемпионы — они всегда на виду. — Он усмехнулся, но без тщеславия, а пожалуй, даже с грустинкой. — Итак, к делу… — В прошлом году в Москве, на Кубке Дружбы, к Виктору подошел канадский боксер — имя его я пока называть не стану, поскольку не выяснил еще до конца мотивы его поступка, а это может стать решающим фактором, — и передал привет от меня. Маленькая деталь: я его об этом не просил… Виктор оказал парню внимание: покатал по Москве, в Третьяковскую галерею сводил — правда, нашему такая честь была ни к чему, он в своей жизни ни разу не переступил порог музея. Словом, они сблизились, вы знаете, в спортивном мире — в любительском, конечно, я ведь только в 26 лет после победы на чемпионате мира перешел в профессионалы — люди сходятся запросто. Когда они расставались, парень должен был попросить Виктора привезти ему лекарство для тяжелобольной матери. У нас оно стоит очень дорого. И это действительно так, а ему, студенту, приходится считать каждый цент. Он указал и необходимое количество упаковок для курса лечения… Умолчал лишь о самом важном — эфедрин в Канаде относится к запрещенным наркотическим средствам и за провоз его можно угодить в тюрьму. — Конечно же, никакой больной матери у парня нет, и Виктор угодил в самую примитивную ловушку, не так ли? — Нет, не так. Мать действительно очень больной человек и ей позарез нужны лекарства. Тут он был правдив, и это обстоятельство, видимо, позволило ему изложить свою просьбу с максимальной убедительностью… — Так где ж этот парень? Почему он не заявил, что лекарства были предназначены ему и никому другому, что Виктор Добротвор никакой не контрабандист наркотиками, а просто человек, взявшийся помочь другому в беде? — Вот в том-то и загвоздка: парень пропал в тот же вечер. Исчез, растворился, испарился — подберите любое другое слово и вы будете правы. Он действительно не оставил никаких следов! Всю эту подноготную мне поведала его девушка, Мэри… Мы когда-то встречались с ней… но бокс для меня был важнее… Так она, во всяком случае, решила. Парень оказался, видать, покладистее и, полюбив, намеревался жениться… Но это уже второстепенные детали… — И никто, кроме этого парня, не может засвидетельствовать эту историю? — Никто. Если ее расскажу я, меня сочтут за сумасшедшего, в лучшем случае. Виктору подобное заявление тоже не поможет. Кстати, он не поверит и мне… — Почему? — Я звонил к нему, предлагал встретиться… Он бросил трубку. Когда же я, набрав вторично номер его телефона, хотел объясниться, он вот что сказал: «Я никого из вас видеть не желаю. С подонками не вожусь…» Вот так я стал подонком в глазах Добротвора. Мне ничего другого не оставалось, как встретиться с вами, Олег, и исповедаться в надежде, что вы как-нибудь передадите мои слова Виктору. — Не густо, и в то же время — много. По крайней мере для меня все это очень важно. Спасибо вам, Джон… — Возможно, мне удастся кое-что выудить в ближайшие пару дней. Но ведь вы уезжаете… — Я возвращусь в Монреаль на обратном пути. Буду улетать самолетом Аэрофлота. Ровно через девять дней. У меня останется почти сутки свободного времени… — Как разыскать вас? — Отель назвать не могу. Еще не знаю. Вот что, Джон, позвоните по телефону 229-35-71, спросите Анатолия Власенко: он будет в курсе… — А о Викторе он в курсе? — Только то, что известно всем… — Это меня устраивает. Прощайте, Олег. Мне доставила удовольствие наша встреча, хотя она и носила несколько односторонний характер, — сказал, поднявшись и крепко пожимая мне руку, рыжеволосый «брюнет» Джон Микитюк, украинец, не говоривший на родном языке, к которому я почувствовал искреннюю симпатию.4
В Лейк-Плэсиде в лучах не по-декабрьски ослепительного солнца горели, переливались мириады крупных кристаллических снежинок. Снег лежал на крышах домов, устилал Мейн-стрит — главную улицу этой двукратной олимпийской столицы, присыпал елочки у входа в украшенный затейливой резьбой бело-розовый особнячок под названием «Отель «Золотая луна». В пресс-центре вежливый служитель, оторвавшись на секунду от созерцания зубодробительных телеподробностей схватки где-то на нью-йоркской улице, нажал кнопку дисплея, и на экране появилась надпись: «Олег Романько, СССР, 17—26 декабря, «Золотая луна», отдельный номер, 42 доллара, без удобств». Американец молча взглянул на меня и, увидев готовый сорваться с моих уст вопрос, предупредил его: «Мейн-стрит, 18». И вновь углубился в сопереживание с героями боевика: он болел, как мне показалось, и за «красных», и за «белых». Пресс-центр располагался не в здании колледжа, что рядом с «Овалом», ледовым стадионом, как его называли в 1980-м, когда здесь проходила зимняя Олимпиада, а в подтрибунном помещении крытого катка, где завтра выйдут на старт первые соискатели наград. Подхватив спортивную сумку и неизменную «Колибри», что объехала со мной чуть не полмира, я выбрался по широкой бетонной лестнице из душного тесного зальца и полной грудью вдохнул легкий, морозный, пахнущий арбузами воздух. Не знаю, как на кого, но на меня первый снег действует как допинг: жилы переполняются силой, сердце стучит мощно и ровно, как некогда, когда доводилось выходить на старт, шаг выходит пружинящий, надежный. Наверное, мне следовало бы заняться каким-нибудь зимним видом спорта, лучше, конечно, горными лыжами, да теперь об этом жалеть поздно — моя спортивная карьера давным-давно позади. Я задержался у бронзовой Сони Хенни и вспомнил, как мальчишкой попал на американский фильм (трофейный, естественно, ведь именно благодаря победе над гитлеровской Германией в Советском Союзе увидели шедевры мирового кино чуть ли не за четверть века) «Серенада солнечной долины», где знаменитая, да что там — легендарная норвежская фигуристка Соня Хенни демонстрировала свои умопомрачительные фигуры на фоне умопомрачительной красоты местных гор, в пучках почти физически ощутимых лучей солнца, под чарующие звуки музыки Глена Миллера. Это была потрясающая симфония любви, где все так прекрасно и чисто, что я плакал от счастья, и в душе родилось чувство обретенной цели, которая делала каждый день еще одним шагом к тому прекрасному, что уготовала мне жизнь. Даже позже, став взрослым и немало поездив по свету со сборной командой страны, я сохранил в глубине души это чистое и звонкое, как весенняя капель, чувство. Теперь за спиной бронзовой Хенни медленно врастал в землю старый, обветшавший ледовый дворец, где блистала она в 1932 году. Мне показалось, что за последние четыре года он заметно постарел и сгорбился, и ни одно окно не светилось в нем. Грусть, непрошеная и легкая, тронула сердце, и ком подступил к горлу…Если направиться от старого дворца прямо, через площадь, где некогда перемерзшие гости Олимпиады штурмом брали редкие автобусы «Грей Хаунд», вниз к озеру, то можно было попасть к дому, где я в последний раз видел живым Дика Грегори, моего друга и коллегу, американского журналиста, докопавшегося — себе на голову! — до кое-каких тайн, до коих докапываться было опасно. Но Дик был смелым и честным человеком, и он поведал мне то, что, по-видимому, не должен был говорить иностранцу, тем более из СССР. Он помог мне, помог нам, советским людям, приехавшим тогда в картеровскую Америку, охваченную антиафганской истерией, но для него этот поступок оказался фатальным. Прости меня, Дик… Я зашагал по Мейн-стрит, мимо знакомых строений. Тут мало что изменилось, разве что улочки этого затерянного в Адирондакских, так любимых Рокуэллом Кентом, горах были теперь пустынны, с фасадов двухэтажных — выше строений почти не увидишь — исчезли олимпийские полотнища и призывы; в местной церквушке, куда однажды мы заглянули с приятелем погреться, потому как надпись при входе по-русски обращалась к нам с предложением «выпить чашечку кофе (бесплатно) и поговорить о смысле жизни», царила темнота, и никто больше не зазывал на кофе. Светились только салоны небольших магазинов, но людей и там раз-два и обчелся — сезон еще не наступил, а состязания юных фигуристов, конечно же, не смогли привлечь внимание широкой публики. Я позвонил в дверь — старинную, стеклянную, украшенную фигурной медной вязью кованой решетки. Пожилая, если не сказать старая, лет семидесяти женщина в теплой вязаной кофте и эскимосских длинношерстных сапожках приветливо закивала мне головой, отступила в сторону и пропустила вовнутрь. В лицо пахнуло теплом, явным ароматом трубочного табака типа «Клан». — Я — Грейс Келли, ваша хозяйка, — представилась женщина. Ее голос звучал чисто, глаза излучали доброту и радость нового знакомства. Мне даже стало неловко, что поспешил сосчитать ее годы. — Олег Романько, приехал к вам из Киева, это в СССР, на Днепре. — Я ждала вас вчера, мистер Олех Романько, и даже держала горячий ужин до полуночи. — Извините! Право, если б я догадывался об этом, то непременно прилетел бы к вам из этой ужасной монреальской зимы, где лил такой холодный проливной дождь. — Нет, нет, я не осуждаю вас и не потребую, смею вас заверить, лишней платы, это не в моих правилах. Вы, верно, голодны с дороги? Обед у нас через сорок минут, а пока я покажу вашу комнату. Пожалуйте за мной. По винтовой, довольно крутой с виду, но неожиданно удобной деревянной лестнице мы поднялись наверх, хозяйка распахнула выкрашенную белой краской дверь и пропустила меня вперед. Широкое, во всю стену, окно смотрелось в темные, незамерзшие воды Лунного озера, сливавшиеся на противоположном берегу с высокими черными елями. Где-то там прятался и домик Дика Грегори. Удобная патентованная кровать на пружинах «Стелла», рекламу ее я видел вчера в «Тайм», свидетельствовала о том, что пансионат не какой-нибудь захудалый, перебивающийся на случайных посетителях, но вполне престижное, следящее за модой заведение. Квадратный письменный столик с телефоном, два глубоких кресла, приземистый холодильник, на стенке над кроватью — красочная акварель с лыжником на первом плане, на полу толстый светло-коричневый ковер, да еще встроенный шкаф — вот так выглядела моя новая обитель. — Телевизор внизу, так удобнее, можно коротать вечернее время в компании. Правда, если вы пожелаете, я дам вам переносной, у меня есть новый «Сони». — Признаюсь, миссис Келли, слаб, люблю смотреть телевизор допоздна, а еще больше люблю крутить ручку переключения программ, — сказал я. — После обеда телевизор вам принесут, мистер Олех Романько. — Мне почудилось, что в голосе хозяйки маленького отеля проскользнуло недовольство. — Благодарю вас! — Ванная и туалеты — в конце коридора. Здесь, на этаже, помимо вас, живет француз, тоже журналист, но он так много курит. Слава богу, хоть вкусный табак. А вообще-то я не принимаю курящих. В обычное время, в сезон катания на лыжах, — пояснила она. Когда за хозяйкой закрылась дверь, я сбросил короткую меховую куртку. От глубокой тишины ломило в ушах. Я подумал, что в таких условиях хорошо бы отсыпаться, но с этим мне решительно не повезло: из-за разницы во времени редакция будет вызывать меня в четыре утра. Разложив на полочках в шкафу вещи, я задумался — как одеться к обеду, который в Штатах назначается на то время, когда у нас положено подавать ужин, да и к тому же в условиях почти семейных, потому что, по моим подсчетам, в пансионате насчитывалось не более пяти-шести комнат, а значит, столько и постояльцев. После некоторого замешательства (вспомнив наряд самой хозяйки) решил идти в джинсах, в рубашке без галстука, в пуловере и домашних туфлях. Когда я спускался по лестнице вниз, меня остановил голос, не узнать который было невозможно. «Серж? Не может быть! Серж — в Лейк-Плэсиде!» Если б я спустился двумя минутами позже и хозяйка успела бы разлить суп из глубокой супницы, что она держала в руках, в тарелки, беды не миновать. Серж Казанкини, а это был он собственной персоной, так порывисто вскочил, что только отчаянные усилия остальных, сидевших за столом, удержали беднягу от падения. — Олег! О ля-ля! Олег! — вскричал Серж так, словно увидел вдруг ожившего мертвеца, пожелавшего съесть еще один в своей загубленной жизни обед. Казанкини накинулся на меня, обсыпая пеплом из трубки и громко чмокая в щеки, в нос, в губы (он, наверное, насмотрелся наших официальных телепередач, но не совсем точно овладел этим ритуалом). — Нет, господа, вы только представьте — это мой друг, лучший друг, хотя и умудряющийся исчезать за своим «железным занавесом», вы же знаете, у них с заграницей туго, это я вам говорю, так вот он умудряется иногда скрываться на четыре года, без единой весточки, даже с рождеством не поздравляет, но все равно, вот вам крест святой, я его по-прежнему люблю, потому что он — такой… О, господа, о ля-ля, да я ведь не назвал его — Олег, не Олех, а твердое «г», у них, в России, все любят твердое — твердое руководство, твердые, черт возьми, сыры, твердые обязательства, твердые цены, словом, все твердое! Олег Романько, журналист и бывший великий чемпион, да, да, господа, он — участник Олимпийских игр. — Все это Казанкини выпалил с пулеметной скоростью, и, глядя на обалдевшие лица остальных участников обеда и хозяйки, я решил, что пора вмешиваться, иначе обо мне могут подумать черт знает что. — Добрый вечер, господа! Успокойся, Серж. Это я собственной персоной и рад тебя видеть. Мы действительно старые друзья, господа, и в последний раз виделись здесь, в Лейк-Плэсиде, четыре года назад, на зимней Олимпиаде. Вот так! Охи и ахи — за столом располагалось еще двое мужчин и две женщины — продолжались несколько минут, пока миссис Келли не напомнила, что суп имеет свойство остывать… За обедом мы перезнакомились. Помимо Сержа Казанкини, нью-йоркского корреспондента «Франс Пресс» (им он стал вскоре после Олимпийских игр 1980 года), присутствовали: господин Фред Сикорски, представитель журнала «Тайм», среднего роста и среднего возраста, довольно-таки бесцветный и невыразительный, за весь вечер выдавивший из себя разве что два десятка слов самого общего назначения. На меня он глядел если не с опаской, то с каким-то внутренним потаенным интересом, точно я был подопытным кроликом, за коим ему поручили наблюдать; под стать ему оказалась и жена — маленькая и худая, она годилась разве что в помощницы матери Терезе — знаменитой проповеднице из Индии. С журналистом из «Тайм» выступал фотокорреспондент с гусарскими усиками (имени я его не запомнил), наверное, он был неплохим мастером — в этот журнал второразрядных репортеров, как известно, не приглашают. Он был моложе своего патрона лет на десять, нагл и самоуверен, отличался редким даже для американца косноязычием и удивительно напоминал мне одного усатого знакомца из Киева. Впрочем, мы с Сержем вскоре удалились ко мне в номер, где уже стоял компактный «Сони» с дистанционным управлением. Серж приволок бутылку шотландского «Учительского виски», любимого напитка нынешнего американского президента, а для меня из холодильника извлек две банки голландского пива. Устроившись поудобнее в кресле, Казанкини так кисло скривился, едва я попытался включить приемник, что мне довелось немедленно отказаться от своего намерения. — Не жалей, все равно ничего стоящего не увидишь, — успокоил Серж. — Поверь старому нью-йоркскому зубру. — Не ожидал увидеть тебя здесь, Серж. Высматривал тебя в Москве, но ты к нам на Игры не приехал, хоть и обещал… — Ну, вот, снова за деньги — Юрьев день. — Серж обладал удивительной способностью так перевирать наши пословицы и поговорки (в его собственном, конечно, переводе), что у меня просто уши вяли. — Я даже не успел возвратиться в Париж из Лейк-Плэсида, как узнал, что мое начальство жаждет видеть меня их представителем в Штатах на весь период подготовки к Играм в Лос-Анджелесе. А я так мечтал побывать в Москве, выпить настоящей русской водки в настоящем русском трактире! Да посуди, когда человеку далеко за сорок — далеко-далеко, и ему предлагают еще на четыре года контракт, нужно быть полным идиотом, чтобы не согласиться. У нас система социального страхования не столь совершенна, как у вас, и в пятьдесят лет человек уже не мечтает о взлетах… — В Лос-Анджелесе был? — У меня просто-таки язык зачесался, так хотелось забросать очевидца Игр вопросами. Увы, мое аккредитационное удостоверение так и осталось неиспользованным при мне в Киеве, да разве только у меня одного! — А зачем меня здесь держат? — вопросом на вопрос ответил Казанкини и потянулся к бутылке. Я поспешил опередить его: негоже, когда в доме хозяина гость сам себе наливает. Серж довольно улыбнулся — ему явно пришлась по вкусу моя предупредительность, а может, он вспомнил, как веселились мы с ним неподалеку от этого места, в горнолыжном клубе «Кнейсл», открытом специально для гостей Игр. Правда, тогда наливал Серж… — Напрасно вы не поехали в Лос-Анджелес, — сказал Казанкини, отпив виски. — Американцы просто-таки были в панике до того момента, пока не узнали о решении вашего Национального олимпийского комитета. Ну, не спортсмены, ясное дело, а руководители, те, кто на протяжении четырех лет получал солидные, о ля-ля баснословные! — долларовые «инъекции» для подготовки «самой великой американской команды». Плакали бы их денежки… Но вы остались верными себе — твердыми до конца… — Серж подозрительно взглянул на меня, однако не обнаружил ни малейшей попытки грудью броситься на защиту «национальных интересов». — Я согласен с тобой, Серж, и мне, поверь, было до слез обидно — не за себя, за спортсменов, что готовились к выступлениям в Лос-Анджелесе, денно и нощно тренировали своим мускулы и волю. Ведь для большинства Игры больше никогда в жизни не состоятся. Разве сможет Володя Сальников выступить в Сеуле? Или Юра Седых… Они были в фантастической форме… А сколько других ребят… — В Америке ваше решение вызвало шок — я имею в виду не официальную Америку, для которой вы — империя зла, а простую, честную, жадную до подобных зрелищ. Нет русских, нет Олимпиады — можно было слышать в частных беседах тут и там. Американцы ведь в основе своей — любопытные люди, любящие сравнивать и признавать только самое-самое. Они так воспитаны. И вдруг — ни советских атлетов, ни спортсменов из ГДР не будет. Выходит, американцы эрзац-чемпионы? Серж снова приложился к бокалу. Его круглая, розовощекая мордашка источала полнейшее умиротворение и счастье. Как немного нужно человеку… — Нет, ты не думай, что они потом помнили о вас на протяжении всех Игр. Ничего подобного! Реклама, телевидение, газеты ежедневно рождали новых всеамериканских идолов, вокруг них поднимался просто-таки вселенский шум и гам. Какими только эпитетами не награждали они своих чемпионов! О ля-ля! Мне пришлось дважды брать интервью у Самаранча — даже тот был буквально подавлен этой вакханалией шовинизма и откровенной ярмаркой, где налево и направо распродавались олимпийские идеалы. Хотелось бы ошибиться, но мне кажется, что он, тем не менее, знает, куда идет и куда ведет олимпийское движение… Это и есть самое грустное! — Я тоже не однажды встречался с ним — на Играх в Москве, потом осенью восемьдесят первого в Баден-Бадене на Олимпийском конгрессе, но Самаранч и в малейшей степени не напоминал человека, плывущего по течению. Он много делает для олимпизма. — Э, старина Олег, ты в своей краснозвездной Москве многое в этом мире видишь таким, каким вам хотелось бы видеть. А жизнь — она иначе устроена, ее в прокрустово ложе даже самых благих намерений не уложишь. Она выкидывает такие фортели, что за голову схватишься! — Не утрируй… Есть логика, есть объективные законы развития, в том числе и Олимпийских игр. — Я намеренно разжигал страсти Сержа, потому что жаждал получить информацию из первых рук, от человека, что, как говорится, был допущен в святая святых Игр, — ведь он представлял не «Правду» и даже не «Советский спорт», а «Франс Пресс», а значит, своих, от них нет и не могло быть тайн. Я был согласен с Сержем в его оценках, больше того — мои прогнозы куда более мрачны, и для того существовали веские доказательства, но мне нужен был Серж… вывернутый наизнанку. — Логика… законы, — передразнил меня Серж и кивнул головой требовательно и властно: — Наливай. Когда наш Пьер де Кубертен затевал эту штуку, что называется Олимпийскими играми, он начитался древних манускриптов и не однажды лазил по развалинам Олимпии — боже, как его там не укусила гадюка, там же среди камней тьма-тьмущая этих ужасных тварей! И ностальгическая тоска по прошлому, по идеализированному прошлому, хочу подчеркнуть, захватила его до последней клеточки мозга. Он обнаружил идеальный мир, где сильные, честные и красивые душевно и физически молодые люди, учти, только мужчины (в этом тоже есть тоска по прекрасным временам, когда мужчины правили миром, ездили на войну и пользовались правом решающего голоса во всех делах — от войны и мира до кухни) — да, молодые люди станут в предельно честных поединках отучиваться от нечестных приемов мировых боен, что стали вечными спутниками человечества. — Что ж в этом плохого? — Но на деле получилось не так! Разве ты не помнишь, как в пятьдесят втором, когда вы только появились на Играх, полные счастливой уверенности, что мир будет таким, каким вы его пожелаете, организаторы поспешили разделить Олимпийскую деревню на две — Восток и Запад. Это был первый официально зафиксированный подкоп под идеи нашего французика. А потом пошло-поехало, пока, наконец, — кто бы мог представить, что такое возможно? — не отделились от Игр сначала американцы, потом — вы. Американцы меня, право, не слишком удивили, но вы, Олег… Где была советская логика и предвидение, где были кремлевские трезвые оценки и умение увидеть не только сегодняшний день, а и завтрашний? Ведь вы такие провидцы, и мы так верили в ваш здравый смысл… А вместо этого Олимпийские игры еще глубже опустились в болото стяжательства, побед любой ценой — разве не этим руководствовались американские велосипедисты, когда принимали допинг перед финальным заездом… Игры, где на каждом углу можно было купить марихуану или дозу «китайского красного», «белой леди», «снежка», «небесной пыли», чтоб с еще большей нежностью любить на трибунах славных американских парней и герлс, так прекрасно побеждающих разных там немцев, французов, пуэрториканцев, китайцев… — Но Самаранч… — Что ты зарядил — Самаранч, Самаранч! Конечно, Самаранч — и никто другой пел вашей Олимпиаде дифирамбы, и это была правда, потому что Игры вы сделали действительно в духе Кубертена, честь вам и хвала. Но здесь, в Лос-Анджелесе, я собственными ушами слышал и собственными глазами видел его — трезвыми глазами, мне пить там было некогда, я работал как вол! Так вот, твой Самаранч заявил, что не знает лучших Игр, чем в «городе ангелов». Я обалдел! Игры в Лос-Анджелесе — лучшие?! О боже, зачем ты лишаешь разума даже достойных! Я готов побиться с тобой об заклад, давай! — Серж переменил тон и протянул мне руку для пари — он был заядлый спорщик. — Давай на сотню «косых», и чтоб мне с этого места не сойти, если на следующих Играх в Сеуле не будут на равных выступать и профессионалы! — Загнул! Олимпийский конгресс три года назад категорически отверг подобные притязания, ты что, не помнишь? — Тут уже пришел черед завестись и мне. — Пари! — Пари! — Только без обмана! — предупредил Серж. — Ты за кого меня принимаешь! Мы засиделись за полночь. Потом, когда Серж ушел, прикончив бутылку, я включил «Сони» с тайной надеждой, что услышу что-то новое о Добротворе. Но то ли время было позднее, то ли тема не представляла интереса — проверив семь или восемь программ, я выключил телевизор. Долго лежал без сна, с открытыми глазами. Настроение было под стать рассказам Сержа Казанкини. Для меня все, что относилось к миру олимпизма, было святым, и романтизм юности пылал в душе, когда я вновь и вновь возвращался к дням, наполненным тренировками и соревнованиями, когда несколько десятых доли секунды, улучшенных по сравнению с недавними показателями, были, без преувеличения, самым важным, самым нужным в жизни, без чего она начинала казаться пресной и пустой. Так было, и я не боюсь осуждающих мнений. Через это нужно пройти, чтобы потом всю жизнь черпать в том времени силы и уверенность в самые трудные дни. Что тут таить, я был убит нашим отказом от участия в Играх в Лос-Анджелесе, и рана эта еще кровоточила. А ведь многое могло бы выглядеть иначе, выступи мы на Играх… И Америка не распускала бы так свой павлиний хвост тщеславия, утри мы нос их парням и девчатам — в самом хорошем смысле слова. А ведь могли, могли, черт побери!
5
Утро выдалось солнечным, морозец высушил снег, и он похрустывал под ногами, возбуждая желание ходить и ходить бесцельно и долго, лишь бы слышать эту ненавязчивую, ласковую скрипичную мелодию зимы. В ней было все — и детство в Будах, где за лугом горбились «горы», с них не каждый мальчишка отважился ринуться вниз на лыжах-коротышках, и школьные каникулы, и зимний парк над морем в Жданове, где заливали дорожки и играл духовой оркестр вальс «В парке старинном…», и мама, притягивающе-тоскливо глядевшая вслед, точно догадываясь, сердцем чуя, что видит меня в последний раз… Павла Феодосьевича Савченко, моего давнего друга, заместителя председателя республиканского спорткомитета — он возглавлял делегацию — я разыскал на трибуне в старом, хеннинском ледовом дворце, где он придирчиво и ревниво наблюдал за тренировкой фигуристов. Секрет был прост: здесь, в команде, находились и его любимцы — пара из Одессы, брат и сестра, он отдал им много сил, отстаивая их интересы перед руководством, и таки отстоял, не дал сорвать ребят в Москву, хотя тренеры в столице именитые, слов нет. Опыт подсказывал Савченко: не каждый спортсмен, каким бы талантом не наградила его матушка-природа, приживется в инородной среде, вдали от матери с отцом — а фигуристы ведь в сущности были дети, хоть и обласканные разными титулами да званиями. Сколько на его памяти было талантов, что так и завяли, сошли на нет, не раскрыв дарования. И нередко — из-за поспешных, ненужных переездов. Из-за этого своего упрямства Савченко в московской среде слыл человеком крутым и несговорчивым. Пытались, что греха таить, «перевоспитывать» его на известный лад — то за границу не пустят, незаметно, культурненько, под благовидным предлогом, то без надобности зарядят заслушивать на коллегии или в управлении вопрос о развитии зимних видов спорта в республике, за кои нес он личную ответственность, то пытались достать в мелочах — не присваивали почетных званий ребятам, за которых он ходатайствовал, не выделяли необходимый, чаще всего импортный, спортинвентарь и еще многое в том же духе. Но Савченко не менялся, за свое держался цепко, хоть это упрямством не назовешь — просто человек досконально разбирался в деле и вел линию. В конце концов Савченко признали, потому что убедились в его последовательности и верности делу, да и начальство в Москве сменилось — новое не унаследовало нелюбовь к упрямцу, и с его мнением теперь считались. Вот и сюда, в США, возглавить первую после Олимпиады в Лос-Анджелесе делегацию, так сказать, провести разведку боем, поручили ни кому-нибудь, а Савченко. Хотя разве это не палка о двух концах? Поездка в неизвестное могла обернуться неприятностями, не лучше ли от них подальше… Разговор наш начался не с фигурного катания, как можно было ожидать, а с происшествия в монреальском порту. — Что там нового пишут? — поздоровавшись, первым делом спросил Савченко. — Ничего. — Это уже не плохо. Я ожидал вспышку антисоветизма и разные провокации. Но и здесь спокойно, встретили приветливо, я бы даже сказал — подчеркнуто предупредительно. Такое впечатление, будто они чувствуют себя виноватыми. Возможно, я пытаюсь выдать желаемое за действительное. Начнутся состязания — поглядим. Как-никак в трех видах программы главные соперники наших ребят — американцы, борьба будет идти между ними. — Павел Феодосьевич, скажи мне прямо: ты веришь в возможность свершенного Добротвором? — Верю или нет, факт налицо. Ведь не подложили же ему эту дрянь в чемодан, не подбросили разные там «темные силы» — сам купил, сам положил и привез. Что тут можно ревизовать? Вопрос другой, вот он-то и не дает мне покоя, потому что знаю Добротвора чуть ли не с пеленок. Что толкнуло его на это? — Или кто? — Ну-ну, ты тоже не блефуй! — осадил меня Савченко. — Ты видел его кулачищи, даже без перчаток? То-то, такого силой или еще чем-то не принудишь. Тем паче, что Виктор Добротвор во всех отношениях человек цельный и крепкий. Это я могу засвидетельствовать на любом уровне. — Может, кому-то хотел сделать доброе дело? — Я, каюсь, не рассказал Савченко о разговоре в холле гостиницы в Монреале с канадцем по имени Джон Микитюк. Умолчал, потому что и сам-то толком не определился, как к новости отнестись, какие выводы сделать и что предпринять, чтобы не наломать дров. Ибо давно решил для себя, что разберусь в этой истории досконально и напишу, как бы ни тяжела оказалась правда. — Добротвор — не ребенок, он несет полную ответственность за поступки. Несет вдвойне еще и потому, что он — Виктор Добротвор, имя его известно в мире. — После продолжительной паузы Савченко, словно споря с самим собой, сказал, нет, выдохнул едва слышно: — Не верю, не могу поверить, в голове не укладывается… Чтоб Виктор Добротвор… Нет! Разговор с Савченко происходил утром, где-то около десяти. Потом я отправился к себе в пансион писать первый репортаж для газеты. Промучился, считай, битых три часа, а смог выдавить две с половиной странички не слишком интересного текста. «Впрочем, — успокаивал я себя, — о чем писать? Соревнования не начались, никаких фактов, никакой информации, кроме самых общих сведений да описания мест соревнований. Не разгонишься». Но скорее всего не писалось по другой причине: из головы не шел Виктор Добротвор… Когда в дверь осторожно постучали, я решил, что зачем-то понадобился хозяйке, миссис Келли, и поспешно вскочил из-за стола, чтобы убрать верхнюю одежду, брошенную на свободное кресло. — Войдите! — Благодарю вас, сир, — важно пробасил Серж Казанкини, вальяжный, самодовольный и испускающий клубы дыма из верной, короткой, как браунинг, трубки. — Обыскался тебя в пресс-центре, но увы — и след простыл. Никак творишь? — Привет, Серж. Сел вот кое-что записать на память, — пробормотал я, не решившись признаться, что и впрямь писал: стыдно было за строки, что чернели на белом листе, вставленном в «Колибри». — Мы с тобой не конкуренты, — произнес Серж традиционную фразу, впервые услышанную мной еще в Монреале, когда мы познакомились во время Олимпиады-76. Она, эта фраза, как печать, скрепляющая наши деловые отношения, и Серж никогда не позволил усомниться в ее крепости. Если вспомнить, то я сам снабжал Казанкини информацией: и тогда, на Играх в Монреале, он мне здорово помог, когда я разбирался с историей гибели австралийского пловца Крэнстона, и четыре года назад здесь, в Лейк-Плэсиде, — в деле журналиста Дика Грегори… — Так точно. — Послушай, мой друг, если я не ошибаюсь, ты в здешних краях не был четыре года, не так ли? — Четыре года и десять месяцев без нескольких дней. А что? — Тогда извини. — Серж нахмурился, и это уже была не наигранная суровость, к которой он любил прибегать, когда нужно было начать новую бутылку, а ему не хотелось в одиночку браться за бокал. — Да, извини, каждый, конечно, имеет право выбирать себе знакомых по своему разумению. — Серж, ты начинаешь тянуть волынку, — не слишком вежливо оборвал я его. — Не знаю, что означает «тянуть волынку», — еще сильнее набычившись, жестко отбрил меня Казанкини, — но скажу тебе: в Америке нужно отдавать себе отчет, с кем имеешь дело, иначе можно вполне попасть впросак. Особенно ежели ты приехал из страны по имени СССР. — Да ты можешь в конце концов сказать, в чем дело? — Серж не на шутку вывел меня из себя, что, впрочем, было делом не столь уж и сложным при моем отвратительном настроении, что не покидало меня со времени приземления в аэропорту «Мирабель». — Я бегал за тобой в пресс-центре, потому что тебя разыскивал Нью-Йорк. — Какой Нью-Йорк? — растерялся я. — Мне никто не мог оттуда звонить… — Тебя разыскивал человек по имени… — Серж сделал глубокомысленную паузу и впился в меня своими итальянскими черными глазищами, словно хотел проглотить со всеми ненаписанными репортажами из Лейк-Плэсида, — по имени Джон Микитюк. — Что же в этом ты узрел необычного? Известный боксер, почему я не могу быть с ним знаком? — сказал я как можно беспечнее, хотя у самого сердце екнуло: Джон не разыскивал бы меня без веских на то причин. Но почему он очутился в Нью-Йорке, ведь, помнится, он и словом не обмолвился при нашей встрече, что собирается в Штаты. Хотя… для него, профессионала ВФБ — Всемирной Федерации бокса, — национальная принадлежность ровным счетом ничего не значила. — Слушай-ка, парень, — сказал Серж, и я был искренне удивлен и его тоном, и главное — этим словечком «парень», столь распространенным в Штатах в обращении между полицейскими и ворами. Во всяком случае я был в этом уверен, потому что именно так обращались к преступнику или подозреваемому доброжелательные и добродушные американские полицейские во всех заокеанских кинодетективах, виденных мной. — Я не американец и никогда им не стану. Для этого нужно родиться здесь, а не во Франции, можешь мне поверить. А местные нравы и неписаные законы изучил за годы проживания здесь совсем неплохо. Кстати, во время Игр в Лос-Анджелесе, где я действительно был только спортивным журналистом и никем другим, мне довелось перепробовать немало тем из местной жизни. Одна из них принесла мне премию Ришелье — за лучший политический репортаж о гангстерах и наркотиках. Если меня мафия не отправила на тот свет, то лишь потому, что я иностранец и писал для французских газет, те, естественно, не читают ни следователи Управления по борьбе с наркотиками, ни федеральные судьи, принимающие такие дела к рассмотрению. Мне кажется, руководству мафии мои публикации пришлись по душе — как-никак реклама их всемогущества. Так вот, Олег, — теперь я не сомневался, что Казанкини действительно глубоко взволнован и не пытается даже скрывать это, — человек, разыскивавший тебя, имеет самое прямое отношение к мафии и наркотикам… — Час от часу не легче! — вырвалось у меня. В голове все перепуталось. Еще секунду назад четкая однозначная информация и выводы относительно Джона Микитюка превратилась в огромную аморфную массу, затопившую подобно раскаленной лаве мой мозг, лихорадочно пытавшийся выбраться из сжигающей черноты. — Вот видишь, — сказал Серж, не догадываясь, что мы думаем о разных вещах. — Я познакомился с Джоном два дня назад в Монреале. Прекрасный боксер и… — Боксер он, что и говорить, от бога, — согласился Серж Казанкини. — Но здесь нет просто хороших и плохих боксеров, есть люди N, люди NN, люди R и так далее. Мафия давно и прочно держит бокс в своих руках, и тут никакой новости нет. — Ты уверен, что Микитюк — один из людей N или R? — Даю голову на отсечение! — жарко выпалил Казанкини. Я молчал, не зная, что сказать. Мне меньше всего хотелось, чтобы Серж — да, да, мой друг, славный честный толстяк из «Франс Пресс», человек, руководствующийся в жизни довольно устаревшими с точки зрения современной морали такими понятиями, как совесть и порядочность, — чтобы он узнал эту историю с Виктором Добротвором. Мне было горько за Виктора, и все тут! Впрочем, с другой стороны, я был уверен, как в себе, что Серж Казанкини, даже получи он приказ от заведующего корреспондентской сетью агентства, даже от самого директора — человека, власть которого можно сравнить лишь с властью президента Франции, никогда не написал бы пасквиль или вообще не коснулся этой темы, если я попросил бы его. «Но, — сказал я сам себе, — Серж ведь может получить полную информацию из газет — здешних газет, так не будет ли мое молчание выглядеть, как секрет Полишинеля?» Я коротко поведал Сержу Казанкини о происшествии и моей оценке случившегося. — Я видел телевизионную передачу, — подтвердил мои предположения Серж. — Но я на твоем месте не спешил бы с категорическими выводами. Люди, познавшие славу и деньги, хотят еще больше славы и еще больше денег. Таков непреложный закон жизни. Не спорь, не спорь со мной! — вскричал Казанкини. — Я наперед знаю, что ты мне возразишь: вы — другие, вы — самые честные, вы — самые лучшие. Согласен, заранее согласен, что у вас иной устрой общества и потому многое у вас — не станем сейчас рассматривать с точки зрения абсолютности тех или иных положений! — не так, как у нас, на Западе. Но ты должен согласиться: нельзя жить в обществе и быть свободным от него — так, кажется, сказал кто-то из великих. Мы все живем в одном человеческом сообществе, и у нас есть общие для всех — писаные и неписаные — законы… — Ты ударился в философию, и я никак не возьму втолк, что ты хочешь сказать? Пожалуйста, попроще и пояснее, ведь я — бывший спортсмен, а как ты сам изволил выразиться однажды, нет ничего проще мыслительного аппарата спортсмена: куда, как и зачем — вот три определяющих его поведение… — Я вижу, ты и впрямь мало что почерпнул с тех пор, как оставил свое ныряние! — Серж выпустил пар и уже спокойнее сказал: — Я просто хотел предостеречь тебя от поспешных и необдуманных действий. И еще — если ты, да, да, если ты согласишься на это! — располагай мною, как хочешь. — Мы ведь с тобой не конкуренты, Серж! — Тогда через два-три дня ты будешь знать о Микитюке больше, чем записано в тайных анналах федерального ведомства по налогам, а уж оно — оля-ля — знает о каждом все! — Хвалилась синица море зажечь… Каким образом? Не станешь же ты шпионить за ним? — Я прикинулся простачком — уж очень мне не терпелось подзадорить моего друга, завести его, что, впрочем, было не так и сложно. — Ты недооцениваешь мои связи! — взорвался Серж и, выпятив грудь, как галльский петух, бросал на меня убийственные взгляды. — Думаешь, я свои репортажи о мафии списывал из местных газет? О ля-ля! У меня были собственные источники информации! Заметь, ни единый факт не был опровергнут, а это кое-что да значит, смею тебя уверить. Я потребую, — Серж встал из кресла, ему не хватало разве что треуголки и большого пальца правой руки, засунутого за лацкан сюртука для полного сходства, — чтобы мне доставили исчерпывающую информацию о твоем дружке. И как можно скорее!Вечером, когда за окном разлился серебристо-голубой свет луны и тени вековых сосен, росших на берегу озера, вытянулись в четкий, почти физически ощутимый частокол, а тишина затопила округу, как весеннее половодье затапливает пойму реки, я устроился у телевизора, отдыхая после довольно-таки напряженного трудового дня. В блокноте у меня было по меньшей мере два стоящих факта, первородность их не вызывала сомнений, а это наполняло душу репортера если не лихой гордостью, то по меньшей мере ощущением, что ты не напрасно жуешь жесткий журналистский хлеб. Первый факт поначалу вызвал у меня немалые колебания, ибо показался фантастическим на фоне событий нынешнего года. Если антисоветская муть, поднятая накануне Игр в Лос-Анджелесе, давно улеглась, то шовинистический бум, рожденный эйфорией неисчислимых, невиданных за последних полвека побед американцев на Играх, девятым валом накатывался со страниц многочисленных газет и журналов, с экранов кино и телевизоров. Наряду с широкой распродажей наборов одежды «Тайгера», японских автомобилей и гонконгских часов, домов, рубашек, парфюмерных наборов, «освященных» именами чемпионов и чемпионок, беззастенчиво продавались и американские «ценности» — свобода личности, «величайшие» преимущества как в экономической, так и культурной жизни и еще многое другое, что в иных странах, даже близких Америке по духу, еще и нынче остается пусть формальным, но символом добропорядочности и национального характера. И не было упущено ни единого случая подчеркнуть, что именно эти ценности помогли американцам снова занять свое место самой великой нации в мире. Америка, казалось, освободилась от летаргического сна и не желала слышать ни о ком и ни о чем другом, как лишь об американском! И тем неожиданнее было узнать, что есть в Штатах человек, миллионер и бизнесмен, собравшийся предложить раз в четыре года проводить состязания — да еще и на коммерческой основе — сборных США и СССР практически по всем олимпийским видам спорта. Причем первый раз он хотел бы увидеть такие состязания в Москве в ближайшие два года. Традиционные матчевые встречи сборных по легкой атлетике, плаванию, борьбе бывали и раньше, но чтоб свести в одном состязании сотни спортсменов — трудно было даже поверить в реальность подобного. Если же учесть, что этот миллионер был владельцем независимой и весьма распространенной и популярной в Штатах телесети и намеревался показать соревнования из Москвы приблизительно 25—30 миллионам американцев, то идея сама по себе выглядела грандиозной. В наш перенасыщенный ядерными боеголовками и недоверием друг к другу век выступить с подобным предложением в стране, где сам президент редко упускал случай обвинить нашу страну во всех смертных грехах, для такого шага нужны были немалая смелость и предельная честность в намерениях. Такой человек нашелся, мы беседовали почти два часа. Потом он пригласил меня отобедать с ним, и мы укатили высоко в горы, где снег уже лежал толстым, плотным покровом. Мы отлично провели время на высоте почти в две тысячи метров над уровнем моря, сидя на отапливаемой веранде крошечного ресторанчика над безбрежным простором гор и лесов. Американец, назовем его Н, он пока не хотел, чтоб раньше срока его идея стала достоянием черных воронов, коих немало в здешней журналистике, способных угробить дело на корню, верил в возможность налаживания новых, добрососедских отношений между нашими народами. И спорт виделся ему наиболее приемлемым на данном отрезке времени. Н — ему не больше 37—38 лет, во всяком случае, внешне ему больше не дашь, подтянутый, энергичный, как большинство деловых американцев, с которыми мне доводилось встречаться, — был, как и положено хозяину, раскован, и, честное слово, между нами не стояли ни наши противоположные политические системы, ни диаметрально отличающиеся экономические основы, не было ни недоговоренностей, ни предубеждений: мы говорили на одном, понятном (независимо, как он называется — русский, английский, немецкий) языке — на человеческом языке. Пусть простят мне твердолобые блюстители первородной чистоты наших убеждений и идей, но, право же, мне, коммунисту, не претило разговаривать с миллионером и эксплуататором — с точки зрения политэкономии капитализма Н был типичным эксплуататором, живущим за счет прибавочной стоимости, наработанной рабочими, трудившимися на его фабриках и в студиях, — не только не претило, но и было полезно во многих отношениях. Ибо все познается в сравнении. И это отнюдь не мешает тебе оставаться тем, кто ты есть, но зато помогает лучше увидеть себя и свои сильные и слабые стороны. Это была первая новость, добытая мной. Не менее любопытным было и сообщение, касавшееся пока что тайного, необъявленного соглашения между некоторыми международными спортивными федерациями и могущественными межнациональными корпорациями о «подкормке» спортивных «звезд». Здесь пахло явным сползанием с позиций любительства. «Не мытьем, так катанием, но они таки приберут Олимпийские игры к рукам», — суммировал нашу беседу шведский тренер по фигурному катанию, поведавший мне эту новость. Нильстрэм вообще-то долгое время был хоккейным наставником «Эстерлунда» — одного из сильнейших скандинавских хоккейных клубов, мы-то и сошлись с ним еще в Гетеборге, в 1981 году, на чемпионате мира по хоккею. А вот теперь я узнал, что мой знакомец поменял амплуа и подвизается… наставником молодежной сборной страны по фигурному катанию. «Мне надоело выкармливать корову, которую регулярно доят то канадцы, то американцы, — объяснил Нильстрэм свое неожиданное решение покинуть хоккей. — Стоит лишь появиться талантливому парнишке, как его тут же сманивают за океан, — где еще можно оторвать такую деньгу? А я в душе остался старомодным любителем спорта, доброго, старого спорта, когда получали удовольствие от самого выступления, а не от того, сколько тебе за это заплатят!» Эти факты, как, впрочем, и самоотверженная преданность Сержа Казанкини, взявшегося помогать мне, лишний раз подтвердила незыблемую старинную истину: не имей сто рублей, а имей сто друзей… Когда в дверь без стука (ключ, вопреки принятым здесь нормам, я оставил на противоположной стороне) вошел Павел Феодосьевич Савченко, я обрадовался ему искренне: он, как никто другой, обладал даром душевного врачевания, хотя, кажется, и не догадывался об этом. — Милая старушка у тебя, — пожаловался Павел Феодосьевич вместо приветствия. — За пять минут, пока я торчал за входной дверью, она выспросила у меня чуть не полную биографию. Мне даже довелось уверить ее, что я не курю дешевых сигар и вообще предпочитаю лимонад виски и пиву. Что же касается твоей личности, то пришлось поломать голову, вспоминая, в чем ты был одет в последний раз и есть ли у тебя усы, а если есть, то какого цвета… С моим-то английским! Я с трудом удовлетворил ее запросы и мне отперли входную дверь. — Говоря это, Савченко по-хозяйски спокойно разделся, в отличие от меня не бросил на кресло форменную — синюю с красным — куртку с золотым Гербом СССР над сердцем, а аккуратно повесил на плечики в шкаф. Он причесал редкие светлые волосы и, лишь в последний раз взглянув в зеркало и убедившись, что у него полный порядок на голове, опустился в кресло. Я слегка притронулся к пульту, и экран «Сони» тут же почернел. — Вот и прекрасно! — одобрил мои действия Савченко и без перехода уже озабоченно сказал: — Сегодня разговаривал с Москвой, с комитетом, там, как я понял, просто рвут и мечут. Думаю, что Добротвору будет худо. Скорее всего пожизненная дисквалификация. Да и все звания снимут… — Погоди, с этим нужно хорошенько разобраться. А если провокация? — Суд был, и судили советского спортсмена. Тебе этого мало? И за меньшие проступки наказывали на полную катушку. Правильно наказывали! Хотя нужно в таких случаях строже спрашивать и с наставников да руководителей: если человек идет к яме, то не в пустыне, а среди других людей, и удержать, помочь ему избавиться от недуга — их прямая обязанность. Я уже не говорю о партийном, да и просто человеческом долге. Мы же в последние годы видим одни достижения — медали, рекорды, а что в душе рекордсменов и чемпионов деется, никого не интересует. В спорте стало много «звезд» и поубавилось настоящих людей, которых не стыдно выпускать в жизнь. — Как раз Виктора Добротвора в подобном не обвинишь… — До нынешней поездки в Канаду, — прервал меня Савченко и без перехода спросил: — Я буду ночью разговаривать с Киевом, чего передать тебе домой? — Скажи Наташке, что у меня все о’кей! — Не густо. — Она поймет. У нас свой код. — Ну, разве что… Как ты думаешь, — после небольшой паузы спросил Савченко, — не заломают судьи наших ребят? После Лос-Анджелеса у них все тут окончательно распоясались, мне наш переводчик читал кое-что из местной прессы… гады, да и только. Мне не хотелось бы, чтобы мои мальчишки и девчонки увидели, что спорт бывает, к сожалению, не праздником справедливости, а шабашем ведьм… На юные характеры такая несправедливость может обрушиться тяжким бременем. Судьи ведь кто — все из их лагеря, только двое, пожалуй, могут быть беспристрастны — венгр и финка. — Я уверен в обратном: судьи будут максимально лояльны к нам, особенно американцы. Как вас встретили здесь — разместили, какие условия для тренировки? — На высшем уровне… — В голосе Савченко пробилось удивление не удивление, но какая-то растерянность. — Только я как-то не придал этому значения. Ведь впрямь никаких претензий не предъявишь: поселили лучше, чем сами американцы живут, для тренировок определили время, как и для своих, — самое что ни есть удобное и приближенное ко времени состязаний, спрашивают уже с утра — не нужно ли чего. Даже в Нью-Йорк экскурсию предлагали… Вот тебе и на! Нет, вы, журналисты, свой хлеб не зря жуете! — рассмеялся Савченко. — Снял ты камень с души. Если же все и впрямь будет по-твоему, проси что хочешь! — Ловлю на слове, Павел Феодосьевич! — Ну-ну, не зарывайся… — Паша, — обратился я к Савченко по имени: делалось это в редчайших случаях, хотя мы и были старыми и верными друзьями. — Паша, ты можешь мне пообещать, что сделаешь возможное и невозможное, чтобы разбирательство дела Добротвора было максимально беспристрастным? — Это ты уже загнул, я же говорил — не зарывайся. Он — сборник, судить его будут в Москве, в комитете достаточно компетентных и справедливых людей… — В этом хотелось бы удостовериться. Боюсь, однако, что никто не захочет вникнуть в суть, доискаться до причин. А разве это не важно — добраться до корней, до истоков, как и почему известный атлет, человек с чистой биографией мог пасть так низко? Кто виноват — он один или есть еще и соучастники? Ведь если такое случилось, нужно сделать выводы не только по конкретному случаю, а увидеть явление, ведь с ним-то, явлением, и нужно нещадно во имя чистоты советского спорта, наших устоев бороться! — Умерь свой пыл! Причины… следствия… Ты что, с луны свалился? Кто же это станет доискиваться до корней, эдак ведь самому себе и своей сладкой жизни собственными руками яму можно выкопать. Занесло тебя… — Отчего же это — занесло? — Я кинулся в драчку. — Разве вы и ты в частности — не живете за счет спортсменов? Разве ты, Павел Феодосьевич, тренируешься по шесть часов ежедневно, гробишь — будем откровенны — собственное здоровье во имя рекорда или золотой медали, что может потерять свой блеск уже завтра, потому что появится более сильный или талантливый, разве ты видишь свою жену и детей в короткие перерывы между сборами и новыми сборами, между состязаниями и поездками, разве вы отказываете себе во всем — даже в полноценной учебе, своем будущем — и все во имя того, чтобы на флагштоке под звуки Государственного Гимна поднимался наш красный стяг? Да можно ли так легко списывать спортсмена? — Говори, говори… — Могу тебе со всей определенностью заявить: я докопаюсь до истоков этой истории, но рядом с Виктором Добротвором, если он окажется виновен, будут и его тренеры, и работники комитета. Словом, те, кто к нему лично и к этому виду спорта имел непосредственное отношение. Вещи, Паша, нужно… пора начинать называть своими именами! Во всяком случае так я понял Андропова, пусть он даже не успел сказать до конца все, что намеревался. Да вспомни, Павел Феодосьевич, свое время, когда ты плавал! Ты учился в инфизкульте и, кроме стипендии — студенческой, а не комитетской, — не получал ни гроша. Разве не ты плавал — громко сказано — мучился! — в крошечном, вечно переполненном бассейне на Красноармейской, съев перед этим полбуханки черного хлеба… без масла? У тебя не было ни плавок «Арена», ни очков, предохранявших глаза от убийственной концентрации хлора в воде, а ты был счастлив, когда удавалось побить рекорд. Вспомни Анатолия Драпея, Юру Коропа, Колю Корниенко — изувеченных войной, но сохранивших столько чистоты и любви к спорту. Ведь плавали не за деньги, не за блага и иностранные шмотки, что же случилось теперь?! — Не хуже меня знаешь, что случилось. — Савченко хмурился, и только умение держать себя в руках спасало меня от его ярости. А разве мне сладко, если эти мысли давно будоражили душу, заставляли искать выход и не находить его: уж больно крепкой, и не только на вид, оказалась «стена» современного «большого спорта», как стали именовать все, что происходило на уровне сборных. Причем, что самое поразительное: никто не афишировал эти изменения, никто не объявлял официально об их утверждении в роли неписаных, но скрупулезно соблюдаемых законов; и худо тому, кто попытался воспротивиться их дурному влиянию, отступника, кем бы он ни был — «звездой» или спортивным функционером, — если не стирали в порошок, то навсегда удаляли из «высоких сфер». На собраниях сборных куда чаще твердили о необходимости — любой ценой! — добиться победы в тех или иных состязаниях, чем о таких понятиях, как «честность», «порядочность», «цельность физического и морального совершенства». — Извини. Извини за тон. Что же касается сути, я не отказываюсь от своих слов. Напраслину возводить не хотел. — Брось извиняться. Ты прав. Я мог бы добавить еще кое-что из этого же ряда: взятки, даваемые за право попасть в сборную и поехать за рубеж, тайные валютные аферы, прикрываемые во имя ложно понятой престижности нашей профессии, бессердечие по отношению к «звездам», чей блеск остался в прошлом, протекционизм, сувениры, коими одаривают спортивных начальников подчиненные… Как следствие — падение престижности и привлекательности спорта, ведь мы сдаем свои позиции на мировой арене потому, что узок выбор талантов, кубертеновская «пирамида» оказалась перевернутой «на голову»… И многое другое. Да, еще проблема: считается, что нынешним спортом можно руководить без специального образования… — Но это же не может продолжаться вечно! Нужно ломать эти негодные, с позволения сказать, традиции! — Вкусив сладкого, не захочешь горького… Одно я тебе обещаю твердо: разбирательство поступка Виктора Добротвора будет беспристрастным и глубоким. Даю тебе слово…
6
Вечером, когда в сонном воздухе снова поплыли снежинки, гулкая тишина, что случается только в горах зимой, окутала и Лейк-Плэсид, и дальние берега озера, где громоздились высоченные ели, вползла и в мою комнату на втором этаже. События недавних дней как-то отстранились, отодвинулись в сторону, и «персональная ЭВМ», а попросту — память выносила на поверхность то далекое прошлое, то вдруг подносила картины совсем недавние, рисовала живые лица. Но чем бессистемнее выглядели воспоминания, тем явственнее выстраивались они в ряд закономерностей, однотемность их уже не вызывала сомнений, и хотел я того или нет — вернулся в прошлое, что, казалось, кануло в Лету. Я отчетливо представил темную комнату — бунгало Дика Грегори, и тут же гулко забилось сердце, совсем как тогда, когда я включил свет и увидел своего друга мертвым. И ужас охватил меня тогда, и заставил враз ощутить себя одиноким и беззащитным перед лицом неведомой опасности, что уже уничтожила этого сильного, волевого и умного человека, умевшего избегать Сциллы и Харибды в бурном море политических течений американской жизни. Но он, Дик Грегори, осмелился заглянуть в их тайны — и блестящий, я бы даже сказал, в чем-то откровенно циничный, когда дело касалось сенсации, журналист был уничтожен без предупреждения. Не знаю почему, но тень той четырехлетней давности истории коснулась меня ледяным дыханием, и я почему-то с тревогой и беспокойством подумал о Серже Казанкини, взявшемся мне помогать, и о Джоне Микитюке, хотя, если верить информации французского репортера, мне скорее нужно было опасаться боксера, а не беспокоиться о его здравии. За многие годы журналистской работы, покатавшись по миру от Австралии до Мексики, объездив Европу и Азию, я вынес одно суждение: как бы ни были сильны те, кто старается отравить мир ненавистью ко всему, что исходит из Москвы, как бы не лезли из кожи заправилы средств массовой информации и президенты, всегда находились и находятся независимые мыслящие люди, для которых общечеловеческие ценности, такие, как совесть, честность и свобода выбора, оставались незыблемыми и главенствующими в их поведении. Мне не писалось. Быстро одевшись, я вышел под снег, и мягкие, нежные капельки заскользили по лицу, охлаждая горящую кожу. Мейн-стрит была ярко освещена рекламой и светом витрин, но люди попадались редко, одиночки. Тем не менее я поспешил свернуть в первый же переулочек, ведущий к озеру, и зашагал вдоль темных, дышащих туманом волн. Сколько бродил — не помню, но мысли крутились вокруг да около все той же заклятой темы, а решение так и не выкристаллизовалось. Словом, возвратился я к себе в пансион еще более растревоженным, и скрыть это состояние мне не удалось. Миссис Келли (мы с ней столкнулись в прихожей) всплеснула руками и обеспокоенно спросила, не заболел ли я. Мне ничего не оставалось, как заверить хозяйку, что чувствую себя превосходно. Миссис Келли пообещала приготовить чай на калине и лишь тогда сказала то, с чего нужно было начинать. — К вам все добивались по телефону из Нью-Йорка, — в голосе ее прорвалось недовольство, и я отнес это на свой счет: вот, мол, человек трезвонит весь вечер, а вы шляетесь под снегом по такой ненастной погоде неизвестно где. — Он просил вас быть у себя в полночь, ему крайне нужно с вами поговорить. — Мужчина? — А кто же еще мог быть так поздно? — удивленно всплеснула руками миссис Келли, и я чуть было не расхохотался, но вовремя сообразил, что ее пуританизм — осколок «доисторического» прошлого человечества и его нужно лелеять и холить, дабы не забывать, что существовали времена, когда мужчины снимали шляпы при виде женщины, уступали ей место в конке, целовали руку, чтобы засвидетельствовать свое почтение, приносили цветы, когда являлись на свидание, и спрашивали по утрам: «Как ты спала, дорогая?» Помнить, чтобы окончательно не смириться со всеобщей женской эмансипацией и равенством, которые для нас, мужчин, при всей привлекательности подобного положения означали бы бесследно и навсегда утратить способность быть опорой и надеждой слабого пола… — Спасибо, миссис Келли, это очень любезно с вашей стороны, — улыбнувшись, поблагодарил я хозяйку, и она, расцвев, уплыла к себе в просторную угловую комнату, где вместе с ней обитали жирный, самодовольный пушистый серый кот и черная, словно из преисподней, гладкошерстная собачонка с умным, почти человеческим взглядом выпуклых глаз. Но прежде чем я услышал звонок из Нью-Йорка — не стану скрывать, ожидал его с волнением и опасением услышать что-то неприятное, — объявился Серж Казанкини. — Хелло, Олег, я чертовски надрался, но ты не спеши ругать меня, это все ради тебя и твоего дела, чтобы мне провалиться вместе с этим проклятым креслом, из коего я не могу выбраться, считай, полдня, и пью, хоть ты и осуждаешь меня, знаю, но ты не прав, когда старый Казанкини, впрочем, не такой уж старый, как тебе хотелось бы, женщины так просто заглядываются на меня, когда… когда… — Серж замолк, словно в кожухе «максима» враз испарилась вода и он захлебнулся в собственной пене. — Олег, это ты, Олег? — Голос и скороговорка выдавали, что мой друг изрядно «нарушил режим» и что ожидать чего-то толкового от него не приходится. Но я ошибся — Серж умел пить и оставаться трезвым, когда надо было быть трезвым. — Олег, черт побери, я действительно пил потому, что нужно было кое с кем поговорить по душам, а души у них раскрываются только после изрядного набора… Прости… — Язык его снова стал заплетаться, и я подумал, что он положит трубку, а если не сделает этого сам, то положу трубку я здесь, в Лейк-Плэсиде. Однако после короткого передыха Серж уже четко сказал: — Я тут действительно кое-что раскопал, отчего можно сразу протрезветь, Олег. Вот тебе мой совет: держись от этой истории подальше. Подальше! Ты понял меня? — Понял, Серж. Когда ты вернешься в Лейк-Плэсид? — Послезавтра, а может, если не успею выполнить срочное задание шефа, через три-четыре дня. Но, послушай, заруби у себя на носу: держись подальше от этого дела, а от того парня — ты догадываешься, о ком я говорю, — еще дальше! — Будь здоров. Серж. Спасибо и спокойной ночи. Ты тоже… ну, словом, не лезь куда не следует. — Мне хотелось добавить: «Помни Дика Грегори», но я сдержался — не телефонный это разговор, хотя и маловероятно, чтоб Казанкини подслушивали. Да береженого и бог бережет… — Что намереваешься делать? — не унимался Серж. — Сейчас — спать, завтра — работать на соревнованиях. — Хорошо тебе, — искренне позавидовал Серж, — а мне еще торчать в кресле до утра — эти ребята не любят, когда в бутылках остается хоть капля спиртного… Нет, ты не бойся, их здесь нет — они сбежали перекусить, а я, ты знаешь, не закусываю, у нас во Франции это не принято. О ля-ля, Олег, пусть тебе приснится Мэрилин Монро или… Жан Габен… Серж Казанкини бросил трубку, и в комнате воцарилась тревожная пустота. Что раскопал этот пронырливый толстячок, и почему мне следует опасаться Микитюка? Вряд ли Серж сгущал краски, это не в его правилах, а уж трусливым никак не назовешь, это тоже не подлежит сомнению. Значит… Впрочем, нечего ломать голову в догадках, когда через несколько дней Серж сам расскажет подробности. Вот только как мне быть с Микитюком, ведь с минуты на минуту должен позвонить Джон? Я не успел собраться с мыслями, когда снова мягко зазвонил телефон. Розовая трубка притягивала к себе, звала взять, вернее, обнять ее пальцами нежно и страстно, так совершенно изваял ее неизвестный дизайнер, но я колебался. Как и что скажу Джону? Врать и темнить никогда не умел, и потому врагов и недоброжелателей у меня всегда было больше, чем можно было иметь при разумном, взвешенном отношении к разным людям и их поступкам. Не хотелось двоедушничать с парнем, тем более что он мне приглянулся, вызвал доверие после первой нашей встречи. «Может, просто не поднимать трубку, и баста? Нет дома, что тут поделаешь?» — мелькнула предательская мыслишка. — Да, — твердо сказал я в следующую секунду. — Я слушаю вас. — Это мистер Олех Романько? — Я. — Здесь Джон Микитюк. Я разыскиваю вас два дня. — Я слушаю вас, Джон. — Мне есть что вам рассказать новое, и я хочу встретиться с вами. — Мы же уславливались — я буду в Монреале, и вы знаете, где найти мои координаты. — Нет, это может быть поздно! Очень поздно. — Увы, ничем помочь не могу ни вам, Джон, ни себе. С завтрашнего дня я буду полностью привязан к соревнованиям. — Вы… вы не можете свободно говорить, мистер Романько? — встревожился Микитюк, уловив в моем голосе сдержанность, если не сказать — ледяное равнодушие. — Отчего же, я один в комнате… — Тогда… тогда я не понимаю вас… Разве та история вас больше не интересует? Ведь вы высказали такую озабоченность при встрече… — Джон, — сказал я как можно доброжелательнее, — помню, но, право же, закрутился — интервью, тренировки, знакомства, старые друзья и тому подобное. Давайте перенесем разговор на позже, когда встретимся в Монреале. К тому времени, верно, многое прояснится. — Прояснится, что прояснится? Вы тоже что-то узнали? — Джон, вы прекрасный боксер и человек, вызывающий у меня уважение, и я благодарен вам за доброе содействие, но, право же, у меня как-то пропал интерес к этой истории. Забудем, а? — Я с ужасом ловил себя на том, что вольно или невольно веду себя так, как рекомендовал мне Казанкини, а ведь это не мои стиль, я никогда не предпринимаю никаких действий, прежде чем сам не удостоверюсь в истинности того или иного факта. Неужто я испугался скрытой угрозы, содержавшейся в словах Казанкини? — Мистер Романько, — голос Микитюка заметно посуровел, и я представил лицо парня — черные глаза вспыхнули яростным огнем, челюсти сжались до зубовного скрежета, — то, что я намерен рассказать, нужно прежде всего вам. По крайней мере ваша воля распорядиться информацией по своему усмотрению. — Извините, Джон. Мы договорились встретиться в Монреале. Благодарю вас за звонок. Прощайте. Да, Серж Казанкини, будь он рядом со мной, потирал бы руки от удовлетворения: я вел себя, как послушный мальчишка-пятиклассник, застигнутый учителем за списыванием уроков и беспрекословно соглашавшийся со всем, что ему твердили… Не всегда в жизни удается уберечься от неожиданных даже для тебя самого решений.7
Не всегда… Это случилось накануне чемпионата Европы. Мне прежде не доводилось выступать в Италии, и Рим виделся не одной лишь счастливой возможностью восстановить престиж, подупавший в глазах тренеров сборной, да и осмелевших до дерзости соперников после трех обиднейших проигрышей, в том числе и на чемпионате страны; я спал и видел себя под стенами древнего Колизея, где некогда сражался Спартак; я мысленно бродил по Форуму и опускал разгоряченные ладони в прохладные струи фонтана Треви, стоял на площади перед собором Святого Павла, словом, помимо спортивного интереса, предстоявший чемпионат континента обещал массу неповторимых впечатлений. Масла в огонь подлил и сам Захарий — так между собой величали мы в сборной генерала Захария Павловича Фирсова, бессменного председателя Всесоюзной федерации плавания и непременного руководителя команды в зарубежных поездках. Прямой и длинный — настоящая коломенская верста, в своем неизменном форменном блайзере члена руководства ФИНА, уверенный в себе и потому чуть-чуть напыщенный, он бросил фразу, заставившую кандидатов в сборную, в том числе и меня, буквально задрожать: «А затем, ребятки, коли золотыми медалями не поступитесь, обещаю вам Везувий и Помпеи. Помните: «И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем»? Но-но, только при условии отличного выступления в целом, командой!» «Я покорю тебя, Рим!» — твердил я себе, когда плыть было уже невмоготу, а новый тренер (моя постоянная наставница Ольга Федоровна, как и положено периферийному специалисту, осталась дома), как надсмотрщик (ему только хлыста для полного сходства не хватало), наотмашь хлестал и хлестал меня словами. «Вы что, молодой человек, всерьез рассчитываете с такими результатами попасть на Европу?» Или: «Работать нужно так, чтоб соленый пот в воде глаза ел!» Или еще похлеще: «Боже, и как там на Украине пловцов тренируют?» Меня раздирала злость, я взрывался, как перегретый чайник, а секунды становились все хуже, все безнадежнее, и шансы мои убывали быстрее, чем шагреневая кожа у скупца. Чего только не делал: пил настойку лимонника (в те славные времена мы не ведали никаких «ускорителей» — ни запрещенных, ни официально рекомендованных лабораторией какого-то там авиационного НИИ и предназначенных для летчиков-высотников), давился аскорбинкой, с витамином C, через день вылеживал часами под ловкими руками Жоры, массажиста сборной (а Жоре перевалило за 40), до изнеможения парился и на ночь принимал элениум. Врач составлял картину по тестам и разводил руками: по показателям я был чуть ли не лучше всех в сборной подготовлен физически. Он однажды заикнулся моему наставнику, что нужно бы Романько, в его же интересах, дать передышку, эдакий незапланированный тайм-аут в тренинге. Нужно было видеть зверское выражение тренера, услышавшего такую беспардонную крамолу. «Да ему и спать в воде нужно, он ведь расходует одну тысячную энергии, а вы — отдых!» — рявкнул он, чем поверг тихоню-интеллигента, без году неделя в сборной, в такую панику, что, если не ошибаюсь, врач ни ко мне, ни к кому другому несколько дней подступиться не решался. Что и говорить, такая обстановка не способствовала творчеству. Я видеть не мог своего непрошеного наставника и ежедневно писал длиннейшие письма-исповеди Ольге Федоровне, изливая душу, и это было единственное, что еще как-то поддерживало меня на поверхности. Чем ближе придвигался Рим, тем труднее становилось заставлять себя дважды в день прыгать в прохладную голубую воду и крутиться от бортика к бортику, не поднимая головы, чтоб не видеть и не слышать тренера. Он, однако, не остался в долгу: явился в бассейн с мощным мегафоном, и теперь его сентенции стали слышны едва ль не в противоположном конце маленького уютного Ужгорода, где отаборилась наша команда. Я стал избегать даже ребят. За два дня до отъезда в Москву мы вышли на старты официальной международной встречи СССР — ГДР. Не стоит говорить, что в первый день я едва добрался до финиша, а результат был таким оглушающе низким, что, без сомнений, вопрос о поездке в Рим отпал сам собой. Заметно приободрились мои постоянные конкуренты — Сашка Головченко, талантливый молодой крепыш с мертвой хваткой на последних метрах дистанции, из которой мне и прежде удавалось вырываться с невероятнейшим напряжением, и Харис Абдулов, жгучий красавец, молчун, себе на уме, с мощными просто-таки ногами-пружинами, буквально выталкивавшими его вперед (Харис родился в ауле под Сочи и в детстве лето напролет пас коз в горах, вот оттуда и его знаменитый жим). Был еще парнишка из Ленинграда, но он не шел в счет — совсем зеленый, его время наступит не раньше, чем через два-три года, да и то, если к тому времени Абдулов с Головченко сойдут с голубой дорожки. Я выбрался из воды, буквально отполз в сторонку и плюхнулся навзничь на густую, теплую траву, подставив лицо солнцу. Хоть убей, я не знал, почему не плыву. — Олежек, привет, — услышал я, но глаза не открыл: мне никого не хотелось видеть в ту минуту. Но человек не исчез. — Олежек, это я, Ласло… Теперь я узнал: местный парень, тоже пловец-брассист, как и я, но дальше первого разряда не дошел и бросил спорт. Внутри в нем, однако, жило неудовлетворенное желание плавать, и он тянулся к нам и проводил время в бассейне с нами, дисциплинированно являясь на утренние и вечерние занятия. Мы с ним быстро сошлись, он пригласил однажды к себе домой — его родители, занимавшие не последнее место в местной административной иерархии, владели огромным, мне до того не приходилось видеть ничего подобного, особняком в три этажа с десятком комнат на пятерых. Плюс собственный виноградник и замшелый подвал с дубовыми бочками, ухоженный сад и огород, куры, свиньи и овцы, пасшиеся на Верховине у дальнего родственника. Цветной телевизор, японская стереосистема (видео тогда еще не нашло распространения среди наших зажиточных граждан), беспредельное поклонение единственному сыну — надежде и опоре. Не это ли стало причиной, почему парень так рано забросил спорт: слишком много существовало соблазнов, не требовавших никаких усилий… Но Ласло оказался добрым, покладистым и необидчивым. За мной он ходил по пятам с первого появления сборной в бассейне. Я привык к нему, он стал моей тенью и был к тому же полезен — был аборигеном и умел самозабвенно слушать, о чем бы я не болтал. — Видел, как плыл? — Видел… — Голос Ласло прозвучал так грустно, что это неожиданно рассмешило меня: я был зол на весь мир, на себя, в первую очередь, конечно, а тут человек убит горем… моим горем. — Концы. Завтра скажу, что болен, и — айда домой. Отдыхать. — Не выйдешь на старт? — Мое откровение совсем раздавило Ласло. — Не-е… — Я все еще лежал с закрытыми глазами. — А как же… тут ходят, чтоб увидеть тебя, как ты плывешь… — Смотреть не на что, разве тебе не ясно! — Видел… А может, еще рискнешь? — Не-е… — Жаль. — Ласло, а, Ласло, что если нам нынче куда-нибудь закатиться и поплясать под скрипочку цыгана Миши? — Я открыл глаза, приподнялся на локтях. — Знакомые девушки у тебя, надеюсь, есть? — С этим без проблем. А что? — У Ласло плохое настроение долго не гостило. — Не век же вкалывать человеку? Я понял его перемену и не осудил: показаться в ресторане в обществе чемпиона и рекордсмена, знакомые от зависти завянут… Мне же было все равно. Я понимал, что совершаю непоправимую ошибку, и тот же мой нынешний наставник будет прав, тысячу раз прав, когда скажет, что Романько — не спортсмен, ему место на трибуне среди зрителей. Многолетний опыт тренировок и самоограничений, мое второе «я», действовавшее и рассуждавшее примитивнее с точки зрения обычной человеческой логики (ведь Николай Михайлович Амосов однажды высказал твердое убеждение, что поступками человека руководят две силы: желание получать удовольствия и желание всячески избегать неприятностей), требовало еще сильнее зажать прекраснодушную слабость в железных тисках дисциплины и плавать, плавать и плавать. Но я уже доплавался, как говорится, до ручки: последние два года работал как заведенный, отказывая себе буквально во всем. Мне нужно, непременно нужно было доказать себе самому, а потом уже ей, наставнику, что я — еще не выжатый лимон. И чем хуже складывалось мое положение в бассейне и дома, тем упрямее принуждал себя на тренировках. «Однако и на старуху бывает проруха, — признался я сам себе. — И пора факты воспринимать такими, какими они есть в действительности…» А вслух произнес: — Ласло, будь добр, подойди к старшему тренеру и скажи, что ты хочешь пригласить… нет, твои родители просили — так будет лучше — пригласить меня в гости. Ну, скажем, на день рождения, именины, годовщину свадьбы, праздник урожая, — словом, придумай, но получи разрешение не присутствовать мне на ужине и чуток задержаться после отбоя. Ты понял: не ты, родители приглашают! — Я знал, о чем толковал: старший, бывший пловец-марафонец, заслуженный мастер спорта, уважаемый в нашем мире человек, был до крайности падок на лесть и… внимание «больших людей». Отец же Ласло, как я говорил, был одним из городских начальников, занимавшихся к тому же устройством сборной с наибольшим комфортом, и весьма преуспел в этом, и старший был от него без ума. — Понял, Олег, — довольно осклабился Ласло. — Когда зайти за тобой? — К семи… Только, гляди, чтоб кадры поблизости не крутились. Не хватало еще и в этом засветиться… Пусть лучше ждут у ресторана, о’кей? — О’кей, мистер Романько! Ай лав ю!В своем темно-вишневом олимпийском блайзере, в новенькой рубашенции, купленной зимой в Париже и ни разу не одетой, в серых намертво отглаженных брюках и светлых мокасинах я выглядел никак не хуже сына нефтяного шейха из Объединенных Арабских Эмиратов. Мне не хватало лишь белого «кадиллака» с открытым спортивным верхом и оруженосца. «Впрочем, с оруженосцем проблем не будет, — едко усмехнулся я, рассматривая себя в старинном пожелтевшем зеркале в отдельном номере на третьем этаже некогда блестящей, а теперь захиревшей гостиницы. — А ведь и впрямь наставник права: выжатый лимон, цвет сохранился…» Настроение и без того плачевное — мысли об очередной неудаче в бассейне буквально глодали душу — готово было упасть до отметки «катастрофа». Я не любил раздвоенности, а она теперь достигла предела. Я уже взялся за темно-синий галстук, подаренный фирмой, обеспечивавшей нас плавательными принадлежностями, а также одаривавшей разными мелочами, вроде этого галстука, снабженных фирменными знаками, взялся, чтобы развязать его и плюнуть на глупую затею с рестораном, когда в дверь, робко постучав, проскользнул Ласло. Он, кажется, опешил от моего блистательного вида. — Ладно, не красна девица, — оборвал я его на полуслове, когда он готов был восхищаться увиденным. Мы выскользнули из гостиницы никем не замеченные: и наши, и немцы как раз ужинали. До ресторана «Верховина», куда, я был уверен, поведет меня Ласло, не больше километра, но под гостиницей нас ожидало такси. Неподалеку от входа в ресторан маячили две девушки, привлекавшие внимание парней. Увидев нас с Ласло, они огорченно и не без зависти окинули их оценивающими взглядами и отвернулись. — Жужа, — протягивая руку, просто, без жеманства представилась невысокая, с высокой грудью и быстрыми, умными глазами брюнетка. — О сэрэт ми! — как можно жарче произнес я венгерское «Люблю тебя». — Так быстро? — уколола девушка, рассмеявшись. — Он у нас такой! — поддакнул Ласло. — А это — Марина. Я догадался, что стройная, эдакая ужгородская Твигги*["6], соблюдающая строжайшую диету — кофе и сигареты, его пассия. Столик был заказан, официант почтительно замер, пока мы рассаживались, оркестр находился не близко, но и не далеко, и ничьи спины и головы не закрывали от нас Мишу — пожилого скрипача-цыгана с темно-синими, глубокими заливами под черными, крупными и печальными глазами, округлым брюшком человека, не отказывавшего себе в удовольствии выпить лишний бокал хорошего местного вина. Он был знаменитостью, и слава его не была дутой: играл и пел Миша самозабвенно, виртуозно владея и голосом, и скрипкой. Мы пили вино, танцевали, скорее даже больше танцевали, чем пили, и Жужа оказалась славной девушкой, и мы почувствовали друг к другу доверие, и это как-то без слов сблизило нас. Ласло, поначалу пытавшийся устроить всеобщую говорильню, где роль Цицерона, естественно, отводилась мне, поначалу расстроился, обнаружив, что мне куда интереснее болтать с Жужей, чем развлекать компанию байками о заграницах, но вскоре смирился. У него был покладистый характер. Мы уходили из ресторана последними, и Миша, и без того почти не отрывавшийся от нашего стола на протяжении вечера, сыграл на прощание своих коронных тоскливо прекрасных «Журавлей», улетавших в неведомые края «в день осенний»… — Теперь ко мне, — с пьяной требовательностью заявил Ласло, когда мы оказались на пустынной улице. — Поздно, Ласло, — сказала Жужа и незаметно прижалась ко мне, и я почувствовал, как по телу пробежала искра, вспыхнувшая в сердце жарким пламенем. — Поздно, Ласло, как-нибудь в другой раз, — поддержал я девушку. Мне и впрямь не улыбалась перспектива продолжить бражничество, тем более что пить не любил и не находил в том удовольствия. Возможно, все же главным сдерживающим фактором был спорт — вещи несовместимые. — Опять в другой раз, — начал было Ласло, но Жужа решительно закрыла ему рот ладошкой и покачала пальцем перед глазами. — Ладно, ребята, бай-бай… Мы растворились с Жужей в ночи, и августовские звезды были нашими маяками, когда мы поднимались по старинной, вымощенной аккуратными булыжниками извилистой дороге, что вела на самую высокую точку города — на местное кладбище. Устроились на какой-то покосившейся скамеечке, и город рассыпался внизу огнями домов и улиц. Жужа прижалась ко мне, и я обнял податливое, волнующее тело, и от первого поцелуя закружилась голова, и мы, отстранившись, долго молчали, ошеломленные этим внезапно обрушившимся на нас чувством. Я не стал таиться и поведал ей все, что накипело, наболело на сердце. Не скрыл и своих отношений с женой, и, кажется, впервые вслух произнес приговор своей утраченной любви, и не пытался свалить вину на кого-то, потому что знал: прежде всего виноват сам, и никакие скидки на спорт да полную отрешенность от другой жизни не выдерживали критики. Жужа не согласилась с такой оценкой, а сказала просто, но слова ее достигли моего ума: «Нельзя с одинаковой страстью служить двум богам, кто-то должен быть вторым. А женщины не любят быть вторыми…» «Нельзя служить двум богам…» Эти слова втемяшились в голову и обернулись лакмусовой бумажкой, позволившей так просто, так однозначно определить состояние, в котором я пребывал на протяжении последних лет. Я истово старался служить моим «богам» — спорту, увы, в первую голову, и жене, и эта раздвоенность мешала быть самим собой и в спорте, и дома. Мешала понять, что ничего из этих усилий не получится, потому что уйти из спорта битым не мог, а значит, не мог помочь и чувству, что ускользало от нас, как вода сквозь пальцы… Эта ночь на кладбище, в глухой таинственной тишине и покое, что бывает лишь на погосте, где жизнь сохранилась бесплотной памятью, потом долго снилась мне, и я просыпался, и руки шарили в темноте, разыскивая Жужу… Мыпопрощались у ее дома и условились провести вместе пару недель на Верховине. Давно мечтал об этом. Теперь же был уверен, что завтра буду свободен, потому что никто не станет держать меня в сборной… Что не говорите, а судьба есть! Ну, кто мог предположить — ни я, ни мой нынешний наставник и в дурном сне увидеть такого не ожидали! — что мы столкнемся нос к носу в пятом часу утра в гостиничном коридоре. Я на цыпочках пробирался к своему номеру, зажав в руке предусмотрительно унесенный с собой ключ, без помех поднявшись на третий этаж через черный ход со двора, когда прямо передо мной от резкого толчка распахнулась дверь и… Мы оба остолбенели. Тренер — в синих тренировочных брюках и в адидасовской синей майке, раскрасневшийся, крепко выпивший, с взъерошенными волосами и бутылкой недопитого коньяка в одной руке и с двумя колодами карт в другой — он был заядлый преферансист, это было всем известно в сборной, и я — в своем красном вызывающем пиджаке и тоже с не слишком благостным лицом. Он, моралист и жесткий «дисциплинщик», и член сборной команды, которому завтра, какое там — сегодня, выходить на старт… Ситуация! — Спокойной ночи, Владимир Федорович! — почти механически произнес я, обалдевший от встречи. — Спокойной но-чи, — медленно выдавил старший и громко икнул. Я понял, что отказаться от старта, как намеревался, не смогу, ибо это потянет за собой нить, что раскрутит весь клубок моих неудач и неповиновений наставлениям тренерского совета сборной, и тогда мне и впрямь не видать удачи, как бы ни бился, как бы ни старался на тренировках. Но угрызений совести, вот вам честное слово, не ощутил, и забрался в постель, и мгновенно уснул, едва голова коснулась подушки. Перед заплывом я хорошенько размялся, тренер «взял» два полтинника и остался доволен результатами. Он вел себя так, будто ничего не случилось и никаких тайн между нами не существовало. Единственное, что он сделал: отложил в сторону взятый было мегафон, и это стало признанием мира, наступившего в наших сложных и не всегда оправданных отношениях. Впрочем, в тот момент я думал о Жуже и рассматривал из воды трибуны, выискивая девушку, хотя доподлинно знал, что ее там быть никак не могло: Жужа собралась на день съездить во Львов, в институт, чтобы перенести практику на полмесяца вперед, а эти освободившиеся две недели провести со мной на Верховине… Я подмигнул Головченко, и это озадачило его — с чего это у Романько такое отличное настроение, с его-то секундами?.. И он не смог скрыть своей растерянности. Я же чувствовал себя легко, свободно и потому без задней мысли сказал довольно громко, так, что услышал и Харис: — Что, парни, поплаваем? У меня и в мыслях не было задать им трепку, просто нужно было как-то дать выход своему игривому настроению. Мне терять было нечего, я это знал, и вместо Рима я уеду на Верховину, и мы поселимся с Жужей в уютном домике на отшибе села, где живут бокараши, признающие только шампанское, и я буду говорить ей «О сэрэт ми!» — единственные венгерские слова, известные мне. А они, кажись, восприняли меня всерьез. — Только не летите, парни! — попросил я, и Головченко чуть со стартовой тумбочки не свалился от неожиданности. Я плыл, как никогда не плавал, — вдохновенно и мощно работали мышцы и сердце, и усталость не приходила, а наоборот, хотелось плыть и плыть, и мягкая, ласкающая вода так и не стала вязкой, наждачно-жесткой на последних метрах дистанции. Право же, я за все эти две с лишним минуты, пока мы преодолевали двести метров дистанции, ни разу не обратил внимания на собственное положение на дорожке и на своих друзей-соперников — я плыл для себя, и этим было все сказано. И лишь финишировав, вдруг вспомнил, почему так хорошо мне было на заключительном «полтиннике», — никто не тревожил воду перед моим лицом! — Ну, знаете, Олег, так долго валять дурочку! — Надо мной склонился Владимир Федорович, и счастье просто-таки распирало его, и я испугался, как бы он не лопнул от самодовольства. И причиной тому был я, Олег Романько, финишировавший с новым рекордом Европы и с лучшим в мире в нынешнем сезоне результатом… Жужу я так больше не увидел: на следующий день улетел в Москву. Ни адреса, ни фамилии девушки я не знал. Все надеялся вернуться сюда, да спорт — о спорт! — внес, как всегда, свои коррективы в мои личные планы. Может, и впрямь иногда бывает полезно изменить самому себе?
8
Виктор Добротвор победил в финальном поединке кубинца Гонзалеса, дважды отправив экс-чемпиона мира в нокдаун в первом же раунде. Не будь кубинец таким крепким орешком, лежать бы ему на ковре во втором, но спас гонг, а в третьем Добротвор повел себя по-рыцарски: сначала дал сопернику прийти в себя, не воспользовавшись очередным нокдауном, а завершил бой серией таких изумительных по красоте и неожиданности ударов, что, однако, были лишь обозначены как бы пунктирными линиями, не принеся Гонзалесу ни малейшего вреда. И зал просто-таки взорвался аплодисментами. А ведь здесь не любят бескровных поединков! — Какой мастер! — восхищенно воскликнул Савченко, вскочил с кресла и нервно заходил по моему не слишком-то просторному номеру. — И угораздило же парня! Такой бесславный конец такой блестящей спортивной карьере… — Ну что ты хоронишь Добротвора, — не согласился я, хотя и понимал, что причин для оптимизма нет. Реальных причин. Не станешь же оперировать эмоциями? — Не спешу. Вырвалось случайно, — пошел на попятную Павел Феодосьевич, и надежда — вдруг он знает что-то, что дает хоть какой-то шанс — наполнила сердце. Но Савченко тут же собственными руками, вернее, словами, похоронил ее. — Завтра вопрос уже будет обсуждаться на коллегии… — Постой, как Яле так — нужно разобраться… — Там разберутся… На том невеселый разговор и оборвался, и холодок разделил нас в этой тесной комнатушке над Зеркальным озером, начавшем покрываться действительно зеркальным, чистым и прозрачным льдом — ночью морозы поднялись до минус 20 по Цельсию. Савченко вскоре отправился к себе — вечером выступала наша пара из Одессы, и он нервничал, как бы судьи не наломали дров. И это несмотря на то, что утренняя часть состязаний завершилась более чем успешно — в трех из четырех видов лидерство захватили советские фигуристы, и никто из арбитров не покусился на их высокие баллы. Больше того, трое американских судей регулярно выбрасывали самые высокие оценки. Не преподнесут ли сюрприз в финале, когда обнаружат, что их соотечественники не тянут на честную победу? Такое случалось не однажды. Чтобы попасть на вечернюю часть программы, я вышел из пансиона загодя, отказавшись от обеда в предвкушении сытного ужина (в 22.00 организаторы соревнований пригласили журналистов и руководителей делегаций на официальный прием). В номере мне делать было нечего, а томиться в четырех стенах — развлечение не из первоклассных, даже если у тебя есть цветной «Сони» с десятью, как минимум, телепрограммами. По дороге я завернул в фирменный магазин «К-2». Не терпелось пощупать, прицениться к новым лыжам да и к иному снаряжению — зима ведь на носу. Пройдет каких-нибудь два месяца, и я, верный многолетней привычке, отправлюсь в Славское, в неказистый, но уютный и приветливый домик о четырех колесах, непонятно каким образом вкатившийся на крутую гору и застрявший между двумя могучими смереками, слева от подъемника; по утрам негромким, просительным лаем меня будет будить хозяйский Шарик — неугомонное, бело-черное длинношерстное создание на коротких, крепких ножках, безуспешно пытавшийся каждый раз вспрыгнуть в одно со мной кресло и укатить на самый верх Тростяна, где снег и ветер разбойно гуляют на просторе и весело лепят из бедных сосенок на макушке то одичавшего Дон-Кихота на Россинанте, то замок о трех башнях, а то просто укутают елку в белые наряды, и стоит она, красавица, до первых весенних оттепелей. В магазине — ни души, и два спортивного вида местных «ковбоя» откровенно скучали, стоя навытяжку за прилавком и уставившись онемевшими глазами в телевизор. Мое появление никак не сказалось на их положении, они лишь кивками голов отстраненно поприветствовали меня и углубились в телепередачу. Они мне не мешали сладостно — это состояние могут понять разве что горнолыжники! — щупать блестящие, разноцветные лыжи, собранные с лучших фабрик мира — от «Кнейсла», снова обретавшего утраченную было славу, до «Фишеров», «Россиньолей» и «К-2» — гордости американского спорта, утвержденной на Кубках мира братьями Марэ. Увы, и тут воспоминания омрачили мое восхищение, и Валерий Семененко незримо встал со мной рядом, и я словно услышал его голос: «Эх, забраться бы сейчас на Монблан, и рвануть вниз, и чтоб без единой остановки до самого низа!» Когда я резонно возражал, что до самого низа Монблана не докатишь даже в разгар альпийской зимы, потому что снег редко спускается в долину, он упрямо возражал: «Нет в тебе романтики! Горнолыжник — это птица, это нужно понимать, иначе нечего делать тебе на склоне!» Этот Монблан, где ни я, ни Валерка ни разу в своей жизни даже пешком не побывали, вечно ссорил нас. Правда, ненадолго. Но нет уже Семененко*["7], и его трагическая гибель на шоссе под Мюнхеном стала забываться, и живет он лишь в крошечном озорном мальчишке — Валерии Семененко-младшем. Я дал себе слово, что сделаю из него горнолыжника, но Таня, жена Валерия, категорически возражает. Я надеюсь на время и на рассудительность Татьяны и верю, что увижу Валерия-младшего среди участников Мемориала Семененко, ежегодно разыгрываемого в Карпатах. И черная горечь вползла в сердце, потому что припомнил я и Ефима Рубцова, чей голос редко, но слышится на волнах «Свободы». Мои публикации той давней истории гибели Валерия Семененко были перепечатаны и в Штатах, и Рубцова основательно «попотрошили» местные репортеры, так что даже руководство «Свободы» сочло невозможным держать его в штате после всего вскрывшегося. Объявляют его теперь редкие выступления словами «наш внештатный нью-йоркский корреспондент». Не смог, видать, расстаться окончательно, ценятся там такие вот типы — без родины и без совести. Я вдруг вспомнил, что Ефим Рубцов тут неподалеку, в Нью-Йорке, и удивился, с чего это его не принесло сюда, в Лейк-Плэсид. Обычно он не упускал возможности покрутиться возле наших спортсменов, тенью возникая из ниоткуда, сгорбленный, с лицом, напоминающим печеное яблоко, неслышный и невидимый, но с ушами-слухачами, вроде тех, что можно увидеть в кинохронике первого года войны. Вот и Рубцов — слушает, мотает на ус, а уж потом, закрывшись в звуконепроницаемой студии «Свободы», доброжелательным тоном поливает советских спортсменов грязью… Да, отличное оборудование, ничего не скажешь. А ботинки! На одной незаметной застежке, высокие, как сапоги, они держат ногу мягко, но мертво, сливаясь в одно целое с лыжей благодаря совершеннейшим «Тиролиям» — таким сложным и надежным, как написано в наставлении, креплением, что диву даешься, как они этого достигают, не вмонтировав в механизм крошечную ЭВМ. Взяв на память пачку красочных рекламных проспектов, чтоб было чем потешить обостренный интерес ко всему горнолыжному собратьев-фанатов, я удалился с видом человека, которому все это легкодоступно, да вот таскаться с грузом неохота. Два продавца, впрочем, не обратили на мое исчезновение из магазина ни малейшего внимания — они утонули в «телеке». Я подходил к Дворцу спорта, когда, обогнав меня, резко затормозил автомобиль с монреальскими номерами. Не успел я удивиться, как уже сидел в теплом, с ароматизированным воздухом салоне рядом… с Джоном Микитюком.9
Ефим Рубцов объявился в «Нью-Йорк пост». Газету привез Серж Казанкини, прилетевший на крошечном, раскрашенном под пчелу — в черные и золотисто-желтые полосы — пятиместном самолетике, одном из двух, принадлежавших бывшему автогонщику. Автомобильный ас содержал авиафирму с претенциозным названием «Соколы», летал сам, на сезон рождественских каникул, начиная с конца декабря, нанимал второго пилота, и их «пчелки» трудились до седьмого «пота», перевозя горнолыжников и просто любителей тишины и покоя. Правда, иногда, как в предыдущие два дня, валил снег и в горах бушевала буря, и самолетики сиротливо мерзли на аэродроме, зябко кутая шасси в поземке. Сержу повезло: снегопад ненадолго утихомирился и позволил автогонщику слетать в Нью-Йорк и обратно. В гостиницу Серж, однако, добирался уже в метель, и такси вязло в снегу, и пассажиру доводилось вылазить из машины и толкать ее, и потому первое, что я услышал, едва мой француз ввалился в отель — заснеженный, раскрасневшийся, с седой головой, просто-таки облагороженной белыми снежинками, были слова: — Я чуть не утонул в снегу, так спешил к тебе, сир! — И добавил: — Мы с тобой не конкуренты, старина, но мне бы хотелось тоже поиметь кое-чего с барского стола! — Сначала нужно знать, что достанется мне, это во-первых. Если же ты действительно узнал нечто стоящее, я готов поблагодарить моего друга за работу, это во-вторых. — Нет, сколько знаю этих русских, или советских, или украинцев, — как вам удобно, сир, никогда не догадаешься наперед, что они скажут в следующее мгновение! Не потому ли с вами так трудно договариваться? — Отчего же? Если судить по тому, как быстро находим мы с тобой общий язык, это не так уж и трудно, — парировал я в тоне Казанкини, а сам подумал, что Серж наверняка обладает чем-то, что необходимо мне, и он гордится сделанным и жаждет похвалы. — Мне остается только подняться… и с вашего разрешения, — после многозначительной паузы продолжил Казанкини, — открыть дверцу холодильника, дабы убедиться, что оставленная бутылка «Учительского» все еще находится там. Я понял, что Серж действительно в превосходном состоянии духа, и его ничем не омраченное настроение резко ухудшило мое, ибо теперь я не сомневался, что все, рассказанное Сержем о Джоне Микитюке, подтверждается. Было от чего пойти голове кругом. Но Серж начал с неожиданной для меня новости. — А твой приятель объявился, — сказал он, доставая бутылку с виски и наливая себе две трети тяжелого, широкогорлого бокала. — Какой еще приятель? — Ефим Рубцов, собственной персоной. — Погоди, погоди, Серж, а откуда ты знаешь про Рубцова? — подозрительно спросил я, вспомнив, что мы с Казанкини не виделись со времени зимней Олимпиады в Лейк-Плэсиде, а история с Семененко, где был замешан Рубцов, сыгравший не последнюю роль в гибели моего друга в автокатастрофе, произошла два года спустя. — Вот тебе и на! — Серж, кажется, даже опешил. — А не ты ли познакомил, так сказать, с некоторыми подробностями его биографии тогда, в 1980-м? Что, напомнить? Бывший репортер из «Советского спорта», отправившийся за счастьем в Израиль, однако очутившийся очень скоро в Нью-Йорке в роли корреспондента радио «Свобода» и процветавший на ниве «документальных репортажей» о некоторых, ну, так сказать, теневых сторонах жизни советского спорта и его «звезд». Разве не так? Тут мне довелось несколько дополнить информацию о Рубцове и рассказать мюнхенскую историю с Валерием Семененко, тренером сборной горнолыжников, докопавшимся до не слишком чистоплотных, если не сказать — преступных, связей одного спортивного деятеля с зарубежными фирмами, что привело к потери нашими внешнеторговыми организациями немалых сумм в валюте. Семененко и подстроили катастрофу на шоссе Мюнхен — Гармиш — Партенкирхен. — Вот оно что, — протянул Серж. — Теперь понятно, почему он скрылся за псевдонимом, и будь уверен, мне довелось-таки потревожить моих друзей в местной прессе, чтобы добраться до настоящего имени автора статейки. Вот, держи. — Серж протянул мне вчерашний номер «Нью-Йорк пост». Заметка на первой полосе была обведена синим жирным фломастером и называлась: «Русский след «героина»? Чем занимаются «звезды» советского бокса в Канаде?»«Даже не приехав на Олимпийские игры в Лос-Анджелес летом нынешнего года, Советский Союз остается великой спортивной державой. Мне трудно сказать, чем бы закончилась грандиозная дуэль двух команд на Играх, но, без сомнения, и на этом сходятся специалисты по разным видам спорта, немало олимпийских медалей обрело бы других владельцев. Однако русские, как обычно, провозглашающие полную независимость спорта от политики, на деле же непременно во главу угла ставят именно политические вопросы. В Лос-Анджелесе им не понравились: наша Олимпийская деревня, наш ритуал открытия и закрытия Игр, наше расписание состязаний, наша свобода волеизъявления и права личности выбирать достойный образ жизни, даже наша кухня пришлась русским не по вкусу. Хочу обратить ваше внимание на крошечную деталь: все это не понравилось русским еще до того, как им была предоставлена возможность познакомиться со всем этим на месте. Поэтому они объявили организацию Игр неприемлемой для себя и оставили своих чемпионов и рекордсменов дома, а значит, без медалей. Америка ждала Владимира Сальникова и Юрия Седых. Сергея Бубку и Сергея Белоглазова, Виктора Добротвора и многих других, которых не раз приветствовала прежде на своих аренах. Но если раньше «капризы» Кремля, отказывавшегося от участия в состязаниях по политическим или нравственным мотивам, уже выработали у нас стойкий иммунитет, то теперь мы видим, что русские резко изменили свою тактику. Они посылают своих спортсменов даже на коммерческие соревнования, нимало не смущаясь тем обстоятельством, что там за победу устанавливаются крупные денежные призы. Правда, деньги эти, в отличие от западных победителей, попадают прямым назначением в государственную казну, что, наверное, помогает Советскому Союзу увеличивать закупки на Западе зерна и других пищевых продуктов. Вот и теперь мы с вами стали свидетелями удивительного по красоте и напряжению финального боя полутяжеловеса Виктора Добротвора с кубинцем Гонзалесом, бывшим чемпионом мира среди любителей, на коммерческих состязаниях на Кубок Федерации бокса. Однако главное в победе Виктора Добротвора, уже много лет являющегося одним из самых известных советских спортсменов, «звездой» первой величины, вовсе не его великолепное мастерство, а его просто-таки фантастическое самообладание. Он явился на ринг прямо… из зала судебного заседания в Монреале, где разбиралось его дело о попытке провоза крупной партии наркотиков в Канаду. Русские и наркотики? Да возможно ли такое? Возможно, и это зафиксировано в протоколе судебного заседания. Виктор Добротвор был приговорен к 500 канадских долларов штрафа за ввоз «в количествах, превышающих личную необходимость, наркотических лекарственных средств». Увы, канадские власти не довели дело до конца и не выявили того или тех, кому были предназначены тысячи ампул с наркотиками! Однако это прискорбное происшествие с русским чемпионом напрашивается на вопрос: а что делают русские в Америке — эти бесчисленные команды борцов, боксеров, легкоатлетов, фигуристов, что буквально ежегодно наводняют нашу страну? Только соревнуются? Нам остается лишь задать риторический вопрос, который после всего случившегося не покажется таким уж риторическим: не напали ли мы на русский след героина и гашиша, все еще в широких масштабах поступающего к нам в Штаты?— Премерзкая заметка, что ни слово — то ложь, но подтасовано ловко, обыватель не заметит, проглотит… — А в головке этого обывателя, и без того запуганного предстоящим нашествием русских танков, втемяшится мысль: так вот откуда наркотики! — Серж покачал головой. — Ты уверен, что это работа Рубцова? — Могу даже назвать номер компьютерного счета отправленного Рубцову гонорара… — Не нужно. Я верю тебе, Серж. Нет, стервятники в этом мире не исчезают с восходом солнца, — сказал я скорее для себя, чем для Сержа, но Казанкини понял мои слова как сигнал к действию и полез в свою объемистую сумку из черной, изрядно потертой кожи. — Это цветики. У меня есть кое-что куда поинтереснее и труднее для разгадки. Во всяком случае мне без твоих комментариев не разобраться. Ты же не станешь таить от меня ничего, что узнаешь? — снова с опаской спросил Серж. Я невольно усмехнулся: Серж оставался репортером — даже в такой ситуации он не забывал о своих профессиональных интересах. — Обещаю. — Не думай, мне не сразу удалось заняться твоим делом, — начал Серж издалека. — Париж просто с ума сошел из-за этой бронзовой дамы, подаренной нами Америке. Ну, ты слышал, что статую Свободы при входе в нью-йоркскую гавань реставрируют и многие ее части будут заменены. Американцы до чертиков обожают сувениры с разных там исторических объектов, и потому вокруг нескольких десятков тонн металлолома развернулось настоящее сражение. Кто будет ими владеть, то есть, кто будет продавать и наживаться? В Париже какому-то болвану из МИД пришла в голову сумасшедшая мысль: подарок подарком, но распродавать будем вместе. О ля-ля! Чтоб больше не отвлекаться, скажу, что твой друг не терял времени даром. Мне посчастливилось откопать кое-какие документики в их архивах, теперь дело значительно осложнится, и никто не возьмется ответить сейчас, кто же будет торговать жалкими останками бронзовой дамы… Серж сделал передышку для двух жадных глотков виски. — Но вот свободное время я уделил тебе и только тебе! — выпалил он с явной гордостью. — Встречался с людьми, умеющими держать язык за зубами, но готовыми помочь, не бесплатно, понятное дело, тому, кому доверяют. Нет, нет, это мои заботы, потому что, добывая информацию для тебя, я не упустил случая расширить и углубить собственные познания о мафии… — Ты так долго ходишь вокруг да около, Серж… Не набиваешь ли ты цену своим разысканиям? — я подколол Сержа, мне не терпелось узнать, что привез Казанкини, и сравнить с тем, что поведал мне Джон Микитюк, когда мы сидели в его автомобиле в конце Мейн-стрит, у поворота к Зеркальному озеру два дня тому. Естественно, что по той же причине я не торопился рассказывать об этом французу. — О ля-ля, легче удивить рок-музыкой глухого, чем тебя! — Серж не скрывал огорчения от того, что его «психологическая подготовка» не дала ожидаемых результатов. — Итак, парень по имени Джон Микитюк, 28 лет, лидер в своей весовой категории в ВФБ. Один из претендентов на звание абсолютного чемпиона — его начнут разыгрывать весной будущего года среди профессионалов всех трех официальных боксерских организаций. Покровители — наследники Гамбино, давно прикарманившие бокс. «Семья», как ты догадываешься, не ограничивает свою деятельность спортом, но ведет серьезные дела в порнобизнесе, проституции, гостиничном хозяйстве, игральных автоматах и — в наркотиках. Последнее, как мне видится, по доходам находится на первом месте. — Какое это имеет отношение к делу Добротвора? — Французы говорят: первый хлеб в печи — подгоревший. Не спеши! Так вот. Некоторое время назад на «семью» вышли агенты УБН — управления по борьбе с наркотиками, и запахло паленым. Были добыты неопровержимые доказательства ввоза этого товара из «золотого треугольника». Главарям «семьи» грозились отвалить пожизненное заключение. И вдруг — впрочем, в Америке подобным никого не удивишь — они не только оказались на свободе, но с них вообще было снято обвинение. Казалось, все шито-крыто. Да встревожились другие «семьи», ибо они вполне резонно заподозрили сговор с властями в обмен на свободу. Возник вопрос: за чей счет «семья» Гамбино вышла сухой из воды? Служба дознания, должен тебя заверить, поставлена у них не хуже, чем в ФБР. Было доподлинно установлено, что «семья» Гамбино согласилась произвести, как бы это точнее сказать, переориентацию путей доставки товара. В дело замешано ЦРУ; как я понял, мафиози вступили в сложную игру, цели и конечный результат которой не знает никто. Как я ни бился, ответа на свой вопрос не получил. Мне по-дружески посоветовали держать язык за зубами и поскорее позабыть о том, что удалось раскопать… — Или я болван, или ты говоришь невнятно, но до сих пор не понимаю, какое это имеет отношение к спорту, к Виктору Добротвору в частности? — О боже! — Серж закатил глаза к небу и молитвенно сложил короткие ручки на животе, всем своим видом выказывая монашескую покорность и долготерпение. — Нет, более нетерпеливых людей, чем русские, мне встречать не приходилось. Ты можешь наконец дать Сержу рассказать все по порядку, без спешки! — вскричал Казанкини, враз утратив свою «святость». — Ну-ну, Серж, — примирительно сказал я. — Прости. Я весь обратился в слух… — Ни за что ручаться не берусь, но у меня складывается впечатление, что затевается какая-то сложная многоходовая провокация против вашей страны, — выпалил Серж Казанкини и сам испугался собственных слов — непритворно, пытливо и с беспокойством во взгляде окинул комнату, точно опасаясь увидеть подслушивающую аппаратуру. — Полноте, мистер Казанкини, вам повсюду чудятся враги, — с укоризной произнес я, но сказал это скорее чтобы успокоить Сержа. Я уже кое-что познал в Америке и не дал бы голову на отсечение, что наш разговор не прослушивается. — Если б только чудились, — тяжело вздохнул Серж. — Досье на мафию и наркотики, которое я сделал для тебя, — это копии с некоторых моих документов, кое-что подбросили… за определенную мзду, естественно, парни из УБН, неплохое подтверждение правомерности моих опасений, — сказал Казанкини и вытащил из черной сумки небольшую тонкую пластмассовую папочку с несколькими листками бумаги. — Вот, бери… Там, кстати, и ксерокопия счета за статью Рубцова, и две банковских квитанции на получение денег от некого Робинсона Джоном Микитюком… Деньги от Робинсона — это от мафии. Теперь твоя очередь просветить меня… — С просвещением пока не очень, — не моргнув глазом, соврал я, потому что многое из принесенного Сержем входило в противоречие с тем, что выложил мне лично Микитюк. Хотя Казанкини и подтвердил то, в чем без обиняков признался сам Джон…Н. Ф.»
— Вас скорее всего удивит мое появление в Лейк-Плэсиде. Хорошо, если только удивит, — глядя мне прямо в глаза, сказал Джон Микитюк, когда я очутился на сидении рядом с ним. На этом вступительная речь закончилась, Джон включил передачу, и приземистый, точно распластанный над землей спортивный «Форд-фиеста» рванул с места в карьер. Хорошо еще, что Мейн-стрит была пустынна. Когда мы свернули к Зеркальному озеру, Джон мягко притормозил, осторожно скатился с наезженной дороги на снежную целину и, проехав десяток-другой метров, затормозил. Джон выключил мотор, и сразу стало тихо, как в склепе. — Не скрою, — сказал я, продолжая прерванный разговор. — Действительно ваше поведение несколько настораживает. Но откровенность за откровенность: я доверяю вам и потому сижу рядом, хотя по логике вещей нам следовало бы встречаться где-нибудь в людном месте. — Боитесь? — Нет, просто не люблю ситуаций, когда не могу со стопроцентной гарантией полагаться лишь на себя. Одна из таких ситуаций — нынешняя. Но пусть эта тема больше не беспокоит нас, я здесь и слушаю вас, Джон. Ведь не для того, чтобы обменяться подобными любезностями, вы неслись из Нью-Йорка сюда, не правда ли? — По такому бездорожью я даже на свидание к любимой девушке не поехал бы — сплошные заносы. Если уж эти мастодонты «грейхаунды» буксуют в снегу… Мне крайне нужно было повидать вас. Время поджимает. — Что случилось, Джон? Вернее, что изменилось с той поры, как мы встречались в Монреале? Виктор Добротвор, как мне известно, выиграл Кубок и уже улетел домой… — Я не дурак, мистер Романько, и прекрасно осознаю, что для Виктора Добротвора на этом монреальская история не закончится. Она когда угодно могла уничтожить здесь, на Западе, а уж у вас… — Что вы знаете о наших порядках, Джон? — не слишком любезно бросил я. — Если Добротвор виновен, он понесет наказание… — Люди нередко совершают странные вещи по странным причинам. Порой не мешает все же понять, что ими двигало. — Именно желание понять и привело меня к вам в автомобиль, Джон. А вот что движет вами, признаюсь, не совсем понятно. — Я и сам порой не отдаю себе отчет, что толкает меня докапываться до истины… Впрочем, побудительные мотивы не столь уж сложны или оригинальны. — А именно? — Когда я был любителем, мне довелось, рассказывал уже вам, встречаться с Добротвором. Достаточно ли будет сказать, чтобы вы поверили в это, что движущей силой моего влечения к Виктору была его полная противоположность мне? Во всем. Я волк-одиночка и должен пробиваться в жизни сам, никто не придет на помощь. Виктора тоже слабаком не назовешь, но он — широкая, открытая душа. Я спрашивал себя тогда: кинулся бы я на помощь Виктору, зная, что от этого зависит моя дальнейшая жизнь, и отвечал: нет! А Добротвор кинулся бы не раздумывая! Я готов за деньги биться с самим дьяволом, потому что деньги обеспечивают мне свободу, нет, точнее — определенную независимость в обществе. Для Виктора деньги — лишь необходимый компонент жизни, не более, он перестал бы себя уважать, если б относился к деньгам так, как я. Поначалу я счел его эдаким простофилей, неучем, ибо что значит в нашем мире человек, если он не придерживается этих главнейших правил так, как я? — Наш мир несколько отличен от вашего, согласен… — Не нужно, мистер Романько, идеализм превращать в жизненное убеждение. Можно жестоко ошибиться. Я ведь встречался не с одним Добротвором, были у меня и другие знакомства с вашими. И, поверьте, не все они разделяют взгляды Виктора. Думаете, я не привозил вашим боксерам — по их просьбе, и деньги мне за это платили — новейшие допинги, которыми пользуются у нас профессионалы? Поэтому Виктор Добротвор поначалу не пришелся мне по душе… Джон Микитюк замолчал, а я поймал себя на том, что при всей кажущейся ординарности подобных «открытий» они заинтересовывали меня все сильнее и сильнее. Я чувствовал, что Джон Микитюк еще не выложил главного. Но даже без этого он укреплял мое убеждение, что Виктор Добротвор в силу каких-то странных, а возможно, и трагических обстоятельств совершил необдуманный поступок, что черным пятном лег на его репутацию. Но что, что могло толкнуть его на это? — Не стану больше распинаться в своей любви к Виктору, — Джон произнес эти слова решительно, пожалуй, даже с самоосуждением. — Перейду к делу. Я так и не разыскал того парня, кому была предназначена посылка. Он мог бы многое прояснить. Тем не менее удалось выяснить, кто стоял за ним. Вы ведь понимаете, он действовал не по собственной инициативе. Ему заплатили, и заплатили неплохо. Он делал свой бизнес, и в той среде, где мы вращаемся, этим никого не удивишь. — Но у меня есть большое сомнение на счет того, что арест в аэропорту был случайным. Виктора ждали. ЖДАЛИ! — Вы правы, Олег. — Микитюк впервые в этот вечер назвал меня по имени. — Его ждали и таможенники, и телевидение, и пресса. С той самой минуты, когда в местной федерации бокса получили подтверждение, что он прилетает в Канаду… — Выходит, тот парень сообщил об опасной контрабанде? Но зачем? Ведь если, как вы говорили, у него действительно больная мать, нуждавшаяся в лекарствах, это абсурд? Ничего не понимаю, полное отсутствие логики. — Когда затевается грязная история, никогда не ищите в ней логики. Тут руководствуются или наживой, или местью. — За что было мстить Добротвору? — Добротвор… Впрочем, я не могу пока поручиться, что достал достоверные доказательства далеко идущих целей организаторов этой акции. Что же касается информации, полученной заранее средствами массовой информации и предопределившей события в аэропорту «Мирабель», то ее сообщил я… Я ожидал чего угодно, но такого! Прав был Серж Казанкини, советовавший мне держаться подальше от Джона Микитюка! — Но вам-то зачем это нужно, вы ведь почти убедили меня, что были другом Виктора? — Именно поэтому. Я и теперь не изменил своего отношения к Виктору. — Ничего себе друг! — с омерзением воскликнул я и взялся за ручку дверцы. — Если б я не подстроил эту бутафорию на таможне, Виктор сейчас уже находился бы в монреальской тюрьме! И срок ему был бы определен не менее чем в восемь лет. Теперь вы понимаете, почему я т а к поступил? — заорал Джон. — Ни черта не понимаю, — признался я, действительно потеряв логическую нить. — Наверное, и для вас не секрет, что мафия обычно опекает боксеров-профессионалов, — уже взяв себя в руки, спокойно, даже, пожалуй, равнодушно продолжал Джон. — Опекает и меня, хотя я еще ни разу не лег в бою, как нередко делают мои коллеги, когда того требуют денежные интересы сидящих за рингом. Это зависит от ставок на того или иного боксера. Но вокруг меня уже тоже ходят, опутывают невидимой паучьей сетью… Пока они благожелательны и покладисты, ведь я — профессионал-новичок, за иной нет громких побед, а значит, мне дают показать себя, зарекомендовать с наилучшей стороны. У публики не должно быть ни малейших сомнений, что я дерусь честно. Но наступит момент, когда они потребуют оплаты за свое «доброжелательство». Естественно, вольно или невольно, но я становлюсь своим человеком в их среде. Они уже не таятся при мне, нередко, особенно когда напиваются, хвастают своими делами, а еще больше — отхваченным кушем. Вот так однажды я и прослышал, что готовится какая-то провокация с русским, тоже боксером. О чем шла речь, мой собеседник не знал… Я сидел не шевелясь, внимая каждому слову Микитюка, потому что чувствовал, что нахожусь у истоков страшной тайны, приведшей к суду над человеком, искренне любимым и уважаемым мной. — Я бы пропустил эти сказанные вскользь слова, если б речь не шла о русском. Ведь я славянин, хоть и родился в Канаде и не знаю родного языка. Почему-то, вот вам крест, сразу подумал о Викторе, хотя тогда даже не предполагал, что он собирается в Канаду на турнир… — Когда вы впервые услышали об этом? — В начале осени прошлого года… Вскоре после того, как мой исчезнувший приятель возвратился из Москвы с Кубка дружбы. — Вы его об этом не спросили? — Что я мог спросить, когда даже не догадывался, что именно ему отводилась роль подсадной утки? Но стал осторожно интересоваться этим делом, хотя толком не понимал, на кой мафии лезть в какие-то политические авантюры. — Это не новость. Мафия тесно связана с политикой в США, да и не только там… — Я был далек от всего этого, а от политики вообще шарахался, как черт от ладана. На кой она мне? В президенты не мечу, в сенаторы или депутаты — тоже. Спорт был и остается моей политикой, моей державой, моим парламентом и богом! — Тем не менее вы, Джон, не пропустили мимо ушей новость… — Что б там не говорили, но, повторяю, меня как озарило: да ведь это о Викторе, ни о ком другом! И… испугался. Испугался, зная, на что способны мои «опекуны». Честно говоря, даже сказать не могу, как удалось выяснить, что Виктор будет использован как контейнер для перевозки наркотиков. Мафия нередко прибегает к подобным штучкам, вручая свой товар ничего не подозревающим людям, и те проносят его мимо таможни, глазом не моргнув. Это был важнейший факт, за ним последовали другие… Тот, первый, проболтавшийся мне, однажды явился ко мне на тренировку, отозвал в перерыве в сторонку и пригрозил крупными неприятностями, если не забуду сказанное им. Я поклялся здоровьем своей матери. К тому времени у меня уже появились и другие источники информации… — Вы ведь серьезно рисковали, Джон. — Рисковал? Я и сейчас рискую, выкладывая все это вам, мистер Романько, ибо не уверен, не используете ли вы мою откровенность против меня же. — Если так, разговор нужно прекратить! — Я верю, что вы честный человек, но ведь чисто профессиональный интерес журналиста может оказаться решающим! — Я, Джон, журналист, но не стервятник… — Извините. Это я так, ненароком вырвалось. Да и поздно теперь отступать. Я докопаюсь до истоков этой истории, чего бы это мне не стоило. Просто когда-то человек должен вспомнить, что есть кое-что поважнее в этом мире, чем выгода, чем собственная шкура. Не удивляйтесь, но именно Виктор Добротвор, не сказав на суде ни слова о том парне, которому была предназначена передача, и переполнил чашу. Любой другой на его месте спасал бы себя любыми способами, а не думал, не навредит ли его информация… — Вот как бывает: тот, кто затеял заваруху, остался чистеньким только потому, что чувство порядочности у Виктора оказалось выше… — Не согласен с вами, мистер Романько, ибо не ведаю, чем руководствовался тот боксер и не был ли он жертвой страха… Ну, ладно, это еще мы выясним… Словом, операцию продумали тщательно, хранилась она в глубочайшей — даже для мафии — тайне, и это навело меня на мысль, что мафия — не конечная станция. Кто-то стоял, вернее, стоит за ней. Тут моей фантазии пришел конец, дальше даже мне влазить не хотелось, и я ограничился… телефонным звонком, анонимным, естественно, в редакцию теленовостей и в службу по борьбе с наркотиками. Я никак не мог предупредить Виктора об опасности, и это был мой единственный, далеко не лучший способ помочь Добротвору. Но если б его взяли при передаче лекарств… я бы ему не позавидовал. — Спасибо вам, Джон, за искренность. И простите за недоверие. Вы должны понять мои чувства — Виктор близкий мне человек, чтоб я мог позволить себе легко согласиться с тем, что случилось. Правда, радостного мало и в том, что вы рассказали, но лучше горькая правда… — Я не закончил свои розыски, мистер Романько. Я должен узнать, зачем и кому это было нужно. Появится же наконец Тэд, черт побери! Если… если он еще жив… Да, да, его зовут Тэд, Тэд Макинрой, вы по имени и по тому, что я вам рассказал, легко вычислите его. Да и не боюсь я больше за ваше умение держать язык за зубами. Вы никогда не причините зла человеку даже во имя самых престижных своих целей. — Да, Джон, вы ставите меня в сложное положение. Я — журналист, и мой долг рассказывать людям важное, что может помочь им. Есть только единственное оправдание моему молчанию: история Виктора Добротвора не закрыта. — Если узнаю что-нибудь новое, я сообщу вам, мистер Романько. Вот только как? — Позвоните по телефону, оставленному вам при первой встрече. Спросите Анатолия Власенко, договоритесь о встрече. Ему можно рассказывать, как мне, не таясь. — Но, я надеюсь, пока он не в курсе наших дел? — Голос Джона Микитюка чуть заметно дрогнул. — Нет. Я лишь на обратном пути сообщу ему, что вы можете позвонить и передать мне письмо. Да, пожалуй, лучше будет, если вы напишете, а Власенко перешлет послание по дипломатическим каналам мне. Так будет проще, это мой давний друг, и он не станет расспрашивать ни о чем… Я подумал, что Анатолий, конечно же, будет знать обо всем, больше того, попрошу его следить за развитием кое-каких событий, на возможность которых только что натолкнул меня, сам того не подозревая, Джон. И помощь Власенко будет мне крайне необходима. Мы попрощались, и я сказал Джону, чтоб он не подвозил меня к Ледовому дворцу — до начала состязаний оставалось достаточно времени, чтобы дойти пешком. Он согласился, и мы молча пожали друг другу руки.
— Спасибо, Серж, ты внес… много неясностей в это дело, — бодро сказал я. — Однако и информации для размышления прибавил достаточно, — поспешил успокоить Сержа, готового уже надуться от обиды. — Обещаю тебе, что обязательно посвящу в тайны этого дела, как только… как только буду в состоянии связать воедино множество отдельных нитей. И за Рубцова спасибо, его появление на горизонте — лишнее доказательство, что затевается какая-то очередная подлость. — Ты это искренне или чтоб меня успокоить? А то старый дурак старался-старался, а на поверку — шиш с маслом! — Ты недооцениваешь сделанного, Серж. И можешь обидеть меня своим недоверием. Ты действительно копнул глубоко! Только знаешь что, не лезь в этот омут без нужды — тебе осталось работать в Штатах, как ты говорил, три месяца, так стоит ли нарываться на неприятности? — Спасибо, друг, — с чувством воскликнул Серж Казанкини и взялся за «Учительское виски», так любимое президентом этой страны. Когда Казанкини распрощался, я с нетерпением раскрыл папку, оставленную французом. Вот что там было…
НАРКОТИКИ
(Досье Сержа Казанкини)
Торговля наркотиками существовала еще в Древнем Риме. Но настоящий размах эта преступная деятельность приобрела теперь. Наиболее известные виды наркотиков — кокаин (еще — под названиями «снежок», «мечта», «девушка», «рай» и т. д.), марихуана, гашиш, анаша, героин. Кокаин получают из листьев коки — кокаинового куста, распространенного в Латинской Америке. Марихуана (известна под именем «Джейн», «золото Акапулько», «травка», «Дж»), гашиш, анаша — производные индийской конопли каннабиса, произрастающего в основном в районах Центральной Азии. Наиболее опасным наркотиком является героин. Его добывают из морфина. В среде наркоманов героин известен под различными названиями — «мальчик», «коричневый», «китайский красный», «белая леди», «лошадь». Чистый доход от продажи героина достигает 10 тыс. проц. На черном рынке Нью-Йорка, например, одни килограмм героина сбывается за 300 000 долларов. В США около 30 млн. человек потребляют наркотики. Ежегодно в стране расходуется до 500 долларов на душу населения на приобретение героина, кокаина и марихуаны. За последние 3 года в США от злоупотребления наркотиками погибло 7 тыс. молодых людей.* * *
К наркотикам пристрастились 2,5 млн. канадцев, или 10 проц. населения страны. В основном это подростки и молодежь в возрасте от 12 до 25 лет. 1 миллион западногерманских подростков в возрасте от 11 до 15 лет регулярно потребляют героин или кокаин. За последние два года в ФРГ от наркотиков умерло 1 240 человек.* * *
В годы грязной войны США во Вьетнаме 80 проц. мирового производства опиума приходилось на «золотой треугольник». Так условно назывался труднодоступный горный район на границе Лаоса, Таиланда и Бирмы. Имеются достоверные свидетельства того, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было замешано в контрабанде наркотиков, для перевозки подпольных грузов использовались самолеты ЦРУ. Для шпионского ведомства США этот бизнес был источникомполучения дополнительных средств на проведение подрывных акций против ДРВ. Двести тонн опиума в год из Лаоса, четыреста — из Бирмы и пятьдесят — из Таиланда давали деньги, которыми ЦРУ оплачивало свои операции. После поражения США во Вьетнаме ЦРУ вынуждено было свернуть там свою преступную деятельность. Однако несколько лет спустя вновь появились сообщения о его участии в бизнесе. На этот раз на Среднем Востоке, куда после разгрома контрабандистов в «золотом треугольнике» переместился центр подпольного производства опиума. В этом районе, расположенном вблизи стыка границ Афганистана, Ирана и Пакистана, ныне производится наркотиков в 10—15 раз больше, чем некогда в «золотом треугольнике». Свой опыт, приобретенный в Индокитае, «джентльмены из Лэнгли» используют сейчас для раздувания необъявленной войны против ДРА. По свидетельству датского публициста Хенрика Крюгера, «ЦРУ использует контрабандную торговлю наркотиками в своих стратегических целях». Он рассказал, что созданная в 1979 г. сеть нелегальных лабораторий по переработке опиума в Северо-Западном Пакистане служит для финансирования афганских контрреволюционеров. Роль посредника между ЦРУ и поставщиками наркотиков играет крайне правая организация — некая «Всемирная антикоммунистическая лига». Она контролирует деятельность торговцев наркотиками в Соединенных Штатах. Купленное на средства от контрабанды наркотиков оружие направляется душманам. Х. Крюгер утверждает, что львиная часть доходов от торговли наркотическими средствами поступает на секретные счета ЦРУ. Судя по всему, сумма немалая, если учесть, что годовой оборот торговли наркотиками в мире превышает 110 млрд. долларов.* * *
Спекулируя на обеспокоенности общественности ростом наркомании и пытаясь использовать эту тревогу в своих политических целях, правящие круги США обвиняют в этом… Болгарию и Никарагуа, Кубу и Мексику. Вашингтон утверждает, что эти страны якобы «поощряют международных контрабандистов», наводнивших США различными наркотиками. Дело доходит до того, что арестованных контрабандистов отпускают на свободу, если они по подсказке американских спецслужб лжесвидетельствуют о «причастности» коммунистов к преступному бизнесу на наркотиках.* * *
«Нищий сообщает: в Майями, в «Розовом доме», днями были оглашены подробности возможного сотрудничества между «семьей» Гамбринуса и вашей службой. Условия, на которых «семья» намерена вступить в дело и передать свои связи в профессиональном спорте, следующие: реабилитация или освобождение под залог владельца шхуны, возвращение — в любой форме, вплоть до организации похищения арестованного груза. (Речь идет о поимке в водах Флориды колумбийской яхты «Эль сол», выслеженной и захваченной агентами УБН — Управления по борьбе с наркотиками. Здесь и дальше в скобках комментирует или поясняет С. Казанкини, который по понятным причинам своего имени на страницах досье не оставил. — О. Р.). Попытки вашей службы снизить потолок требований ссылками на то, что подобная акция трудноосуществима — особо в ее последней части, когда документы и протоколы ареста уже поступили специальному следователю ФБР, — успеха не имели. Переговоры прерваны. Мое мнение: всякая затяжка лишь затрудняет нашу акцию, если не делает ее вообще неразрешимой; следует всерьез отнестись к требованию «семьи».Агент № 52».
«52-му (радиоперехват). Сообщите Нищему, что его предложения изучаются. Нужна информация о ближайшем грузе с юга». «Нищий сообщает: семья сделала шаг навстречу нашему предложению: по своим каналам они выводят следователя из игры. Выполнение обеих пунктов условия обязательно!Агент № 52».
«Совершенно секретно. Только для руководства (ЦРУ). Операция «Пять колец» сдвинулась с мертвой точки. «Семья» получила требуемое. При реализации плана был ранен и умер в военном госпитале сержант полиции. В виде компенсации взяли с поличным Сэма Кастро, второе лицо после старшего Гамбринуса в «семье». Получили предложение на обмен: мы им Сэма Кастро, они нам — боксера из НБЛ (Национальной боксерской лиги), связанного с «семьей». Он будет не только связником, но и главным действующим лицом в предстоящей операции. Служба получила задание собрать необходимую информацию о предложенной кандидатуре.11/716 шифр «Альфа». Оператор 24х».
«Совершенно секретно. Только для руководства (ЦРУ). Меморандум группы «Пять колец». Отсутствие спортсменов СССР и целого ряда социалистических стран на Играх в Лос-Анджелесе создали, как мы видим, уникальную обстановку — реальные возможности спортсменов свободного мира, и прежде всего США, приобрели важный политический фактор, который, безусловно, будет иметь немаловажное значение на предстоящих выборах (президентских); мы уверены в положительном эффекте. Опыт Лос-Анджелеса, а именно так следует рассматривать наши действия, предпринятые для недопущения, в первую очередь, команды СССР на Игры, говорит, что подобная тактика в недалеком будущем способна кардинально изменить внутреннее содержание Олимпийских игр, превратив их из демонстрации успехов социалистических стран в надежный фактор пропаганды достижений свободного мира. Для этого следует: а) создать такую обстановку вокруг Сеула, которая заставила бы СССР вновь отказаться от участия в Играх; для этого следует опереться на верные нам силы в правящей партии и в органах государственной безопасности; следует также задействовать резидентов, ибо операция носит индекс «extra»; б) активизировать «Фонд-ПС» (специальный фонд, созданный ЦРУ с помощью разного рода официальных и неофициальных спонсоров любительского спорта и предназначенный для подкупа спортсменов-любителей, — чеки на предъявителя, ценные бумаги, дорогостоящие подарки и т. п. Фонд создан ЦРУ за год до Игр в Лос-Анджелесе); в) начать операции по дискредитации спортсменов СССР и социалистических стран, в первую очередь, «звезд»; г) средства, вырученные от частичной продажи арестованных наркотиков, включить в «Фонд-ПС»; д) утвердить руководящее звено операции «Пять колец», учитывая интересы «семьи» (в состав «руководства» входит и Сэм Кастро).Вашингтон, 54/876 шифр «Бета». Оператор 17с».
* * *
Выдержки из моей беседы с К. Я знаю его со времени моих скитаний по авгиевым конюшням мафии. За достоверность — ручаюсь. «…Это было не первое предложение. Они давно подталкивали нас объединиться для одного «важного» — в политическом отношении — дела. Мы не слишком-то доверяли им, хотя наши люди из их компании подтверждали серьезность намерений. Но, знаете, мышь никогда не станет доверять кошке, как бы та не клялась в полной лояльности. Вот и мы так. Но они ведь не профаны и понимали, что нас сдерживает. Суть свою они, ясное дело, изменить не могли, а вот прихватить нас — это в их силах. Когда один за другим были захвачены три транспорта с юга, «семья» оказалась на грани краха — мы вложили в операцию по доставке марихуаны и героина практически весь наличный капитал. Когда же УБН захватило груз на 170 миллионов долларов — это было последнее, что мы имели, — пришлось соглашаться на их условия. Вы скажете, какое вам дело до «красных»? Самое прямое. Спорт — необозримый рынок для нашей «травки», «лэди», «золота Акапулько» и т. д. Если удастся потеснить «красных» с самых крупных международных состязаний, считай, постоянный доход нам обеспечен… …Нет, кое-что мы делали для них (ЦРУ) еще раньше — кое-кого из своих передали с полной гарантией… Уже сделано много, но теперь, кажись, они (ЦРУ) решили снизойти к «семье» и взять ее в долю. А что, наш опыт не пригодится?..»
10
Приспело время расставаться с Лейк-Плэсидом. Уже было договорено, что в Монреаль отправлюсь в автобусе с командой, место, в гостинице на Универсиад-роуд — я жил неподалеку во время Игр 1976 года и отлично знал те места на Холме — было забронировано заранее. На всякий случай перезвонил Анатолию Власенко, и он заверил меня, что останется в Монреале по меньшей мере до встречи со мной, ради чего отложит поездку в Оттаву. Джон Микитюк не подавал признаков жизни, что, если честно, почему-то успокаивающе подействовало на меня. Я уже знал номер рейса на Москву и потому с чистой совестью сообщил Наташке (через редакционную стенографистку) день и время моего появления в Киеве. В свою очередь Зинаида Михайловна — сколько с ней переговорено за эти годы по телефону: она принимала мои репортажи из Токио и Стокгольма, Рима и Мехико-сити, из Сеула и Парижа, да разве перечислишь! — пожаловалась, что печатают меня в урезанном виде, так как газета почти сплошь забита официозом — речи, приемы, обязательства, словом, обычная газетная «погода». И я пожалел, что нет уже в том знакомом до мельчайших деталей угловом кабинете с видом на типографию Ефима Антоновича, редактора от бога, как говорится, — уж он-то не дал бы сократить ни строки. «Наш человек за границей. Это — престиж и авторитет газеты. Официальную хронику читатель найдет в других газетах, а вот репортаж с чемпионата мира или Олимпийских игр — только у нас. Вот и будет он охотиться за нашей газетой, а разве это не высший критерий для издания!» — охлаждал он горячие головы, когда на планерках разворачивалась жаркая баталия за место на полосе. Те времена канули в прошлое, теперь мы — как все… Впрочем, дело газетчика не сетовать на трудности, а искать и давать материалы, способные привлечь читателя. В пресс-центре скучали девушки-телетайпистки, а смазливенькая брюнетка с длинной сигаретой в руке (она выполняла роль личного секретаря шефа прессы, как именовали высокого, неразговорчивого и всегда страшно занятого человека в потертых вельветовых джинсах и рубашке без галстука, почему-то всякий раз непроизвольно вздрагивавшего, когда к нему обращался я, единственный советский журналист, присутствовавший на состязаниях) не преминула кокетливо улыбнуться и задать традиционный вопрос: — Мистер Романько, надеюсь, у вас нет трудностей? — Очень признателен вам, Брет, все о’кей. Тем более, судя по высказываниям местной прессы, сегодня наконец-то победят американцы. — А как думаете вы? — Она проявила неподдельный интерес. — Думаю… — начал было я, но осекся, поймав себя на вдруг открывшейся истине. Брет и остальные, дотоле лениво переговаривавшиеся или листавшие журналы и газеты, как по команде, замерли и обернулись в мою сторону; и я понял, что интерес местной публики ко мне далеко не соответствует внешним проявлениям. Как можно громче закончил фразу: — Да, Брет, я с вами полностью согласен — Дженни вполне заслужила эту награду, славная девчушка, и будущее у нее блистательно. На лисьем личике Брет и физиономиях других сотрудников пресс-центра, даже на каменной физиономии шефа так явственно проявилась искренняя радость, что я запоздало пожалел, что держался слишком сухо и необщительно с ними, ведь в принципе они не такие уж плохие люди, и их скованность по отношению к нам, советским, идет не от души, а навеяна прессой, телевизионными комментаторами да фильмами типа «Рокки». — Я надеюсь, Брет, что за столь приятную новость мне положен кофе, не так ли? — О мистер Романько! — Я услышал голос шефа — он был скрипучий, как у несмазанных ворот. — Ежели ваш прогноз подтвердится, я приглашаю вас на рюмочку коньяка, идет? — Тогда пойду поболею за вашу Дженни! Я мог бы уже немедленно потребовать от шефа выполнения обещанного, потому что еще утром Павел Феодосьевич — он выглядел раскованно-добродушным, уверенным, выполнившим трудную, но нужную работу человеком, теперь позволившим себе расслабиться и оглядеться по сторонам, — сказал мне без обиняков: — Мы взяли три золотые медали. В одиночном катании судьи отдадут победу американке, это как пить дать. Она-то и не намного слабее нашей Катюши, но, если объективно, Дженни должна была бы проиграть. Но мы не станем жадничать. Ярко светили софиты. Трибуны были забиты битком, яблоку негде упасть. Куртки, меховые манто соседствовали с хлопчатобумажными майками с огромными портретами Дженни (до чего оборотисты местные производители ширпотреба!); тут и там сновали разносчики кока-колы, горячего какао, жевательной резинки и кукурузных хлопьев; гремела музыка, зрители жадно рассматривали, разглядывали, приценивались к фигуристкам, чьи изящные, хрупкие фигурки, словно осколки весенней радуги, мелькали на льду. Такая знакомая, такая волнующая атмосфера, предшествующая большим и загадочным состязаниям. Я опустился на свободное место и разыскал глазами Савченко — он сидел справа, на три ряда ниже, бок о бок с руководителем американской команды, и они оживленно беседовали; я не разбирал, о чем они говорили, но по выражению лица переводчицы — оно было игриво-радостным, каким бывает обычно, когда доводится произносить нечто приятное, где даже тон способствует созданию хорошего настроения, — догадался, что и американец, и Савченко довольны прежде всего результатами уже закончившихся соревнований, довольны собой, немало приложив усилий, нервов и трудов, чтоб результат был именно таким. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся — это была секретарша шефа прессы. — Я вам нужен, Брет? — Вас просят подойти к телефону, мистер Романько. Да и кофе ваш готов! — Брет так низко наклонилась к моему уху, что ее темный локон щекотал мне щеку, а не стесненная ничем грудь почти касалась меня. «О ля-ля», — воскликнул бы плотоядно мой друг Серж Казанкини. Я же лишь задавленно пробормотал: — Иду, Брет, спасибо! Она засеменила на своих высоких каблуках впереди, и ее длинные ноги манекенщицы выписывали плавные, отработанные па, и я подумал, что хорошо, что у меня есть Натали, и никакие даже самые прекрасные и красивые ноги не могут отвлечь меня от мыслей о ней… В пресс-центре мне любезно, с явным почтением протянули небольшую трубку с наборной панелью внутри, и она ловко легка в руке. — Да, я слушаю. — Мистер Романько? — Голос был незнаком. — Он самый, с кем имею честь? В трубке воцарилось секундное молчание, а затем последовали частые гудки. — У вас прервался разговор? — Девушка-телефонистка нажала несколько цифр и спросила кого-то: — Здесь пресс-центр, вызывали мистера Романько, но разговор прервался. Нельзя ли возобновить? Телефонистка выслушала ответ и огорченно обратилась ко мне: — Извините, мистер Романько, но звонили из автомата. Побудьте минутку, возможно, это просто технический брак и вам перезвонят. Я проторчал в пресс-центре минут пять, время вполне достаточное, чтобы вновь бросить никель и набрать номер. Но больше никто не позвонил. Я вернулся в ложу прессы, недоумевая, кто это мог звонить, да еще из автомата… Наша Катюша, славная девчушка, ей и лет-то всего тринадцать (боже, что делается со спортом, сплошные дети!), легким весенним мотыльком порхала над зеркальным льдом, так напоминавшим тихое лесное озеро, ее коньки, казалось, не касались поверхности. Публика встречала каждое удачное па, прыжок, кульбит взрывом аплодисментов. Когда Катюша, счастливая и раскрасневшаяся, замерла в поклоне, ее долго не отпускали восторженные зрители. В конце концов Катюша оказалась буквально заваленной цветами и коробками с конфетами. Зато оценки арбитров вызвали такой мощный всплеск негодования на трибунах, что я невольно улыбнулся: знали б американцы, против кого они выступают. Диктор вынужден был трижды повторить имя следующей участницы — а это была Дженни, — прежде чем зрители утихомирились. Американка откаталась уверенно, блистая отточенной техникой, каждое движение ее было рассчитанным и красивым, и она не могла не захватить зрителей: они снова расхлопались, расшумелись, вдруг поняв, что Дженни может победить, и это распалило их — американка ведь! — и они дружно вскочили со своих мест, не дождавшись, когда смолкнет музыка и в последнем па замрет фигуристка. Лишь опытный глаз подметил бы сбои после тройного «тулупа», слишком быстрый вход в поворот, едва не бросивший ее на ограждение, и еще несколько помарок. Ну да это — удел специалистов. Когда она завершила выступление, аплодисменты были еще жарче и громче, чем после окончания программы Катюши, Юная американка действительно была одаренной спортсменкой, и класс ее школы не вызывал сомнений. Единственное, чего ей не хватило в соревновании с нашей девчушкой — одухотворенности. Не подумайте, что местечковый патриотизм, еще нередко процветающий на соревнованиях любого ранга — от футбольных поединков «Спартака» и киевского «Динамо» до чемпионатов мира, когда болеют неистово и жадно лишь за своих, что этот «патриотизм» лишил и меня объективности. Увы, в современном спорте, как это ни странно, с ростом мастерства — а это непременный результат баснословно увеличившихся нагрузок — нередко отходит на второй план не менее важная (после физического совершенства) его вторая половина — его духовность, праздничная возвышенность чувств, способная передаться нам, сидящим на трибунах, или — на худой конец — у экранов телевизоров; этот дух борьбы, преодоления и победы над самим собой мы способны ощутить за тысячи и тысячи километров от места события. Вот это и есть главенствующее в спорте, вот почему он нужен нам с вами, ибо способен сделать нас сильнее и лучше… Судьи были благосклонны к американке, и ее баллы оказались выше на самую малость, но вполне достаточную для победы. Я увидел, как обернулся назад и стал разыскивать меня глазами Савченко. Он кивнул головой, улыбнувшись, мол, ну, что я тебе говорил… Когда девочки вышли к награждению, трибуны успели успокоиться и дружно поддержали их аплодисментами. Они — Катюша и Дженни — обнялись и вместе вспрыгнули на высшую ступеньку пьедестала почета, чем смутили распорядителя, он кинулся к Катюше и стал показывать ей, что нужно сойти на ступеньку ниже, но зрители заухали, засвистели, зашикали, а Дженни так крепко ухватилась за свою подружку, что церемониалмейстер отступил. Так и награждали — золотой и серебряной медалями, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу, счастливые, и между ними не существовало ни недоразумений, ни предубеждений, разделяющих наши страны и наши народы. Настоящие дети мира… У меня на душе тоже было славно, чисто, и я был им благодарен за эти мгновения, коих нам так не хватает порой в жизни, чтобы оглядеться вокруг себя и понять, что мы можем жить спокойно и счастливо даже в нашем, перегруженном проблемами и тревогами мире…Шеф прессы и впрямь дожидался меня — он стоял у выхода с трибуны, как нетрудно было догадаться, специально, чтобы не упустить меня в толчее. — Вы были правы, мистер Романько, — проскрипел своим несмазанным горлом шеф, и на его вытянутой каменной физиономии появилось некое подобие улыбки, но я видел, что он искренне пытается улыбнуться. — Поздравляю вас, ваша команда — самая великая команда, которую мне довелось видеть. У этих ребят прекрасное будущее! — Благодарю вас, мистер… — О, просто Мэтт! — перебит он меня. — Благодарю вас, Мэтт! Не только Дженни достойна победы, я думаю, что ваши танцовщики тоже вырастут в пару экстра-класса. Я слышал, они собираются к нам на турнир в Киев, буду рад их приветствовать! Обмен любезностями продолжался, пока мы пробирались к кабинету шефа, и нам дружески улыбались какие-то незнакомые люди, сотрудники пресс-центра, где царила обычная суетливая, но уже приподнятая, праздничная обстановка, когда соревнования уже закончились и можно было вздохнуть спокойно и журналистам, и обслуживающему персоналу. Кабинет шефа оказался неожиданно просторным и прекрасно обставленным: мягкие, удобные кожаные кресла вишневого цвета, два телевизора — обычный и монитор внутренней телесети, пол устилал светло-серый пушистый ковер во всю комнату, на столе маленькая Хенни — копия памятника норвежской фигуристке. — А это моя гордость, — сказал Мэтт, подводя к стене, где под стеклом висел олимпийский диплом. — Мне его подарила сама Соня, это тот самый, полученный ею здесь пятьдесят с лишком лет назад. Вы ведь, верно, слышали, что она осталась жить в Лейк-Плэсиде? Я был тогда зеленый новичок — начинающий тренер, и Соня здорово мне помогла. Никогда не забуду этого. Прошу вас, мистер Романько. — Меня зовут Олег. — О’кей, Олех! Я был бы вам благодарен, если б вы уделили мне немного времени, — поверьте, не каждый день доводится видеть гостя из вашей страны. В последний раз это было четыре года назад, на Играх, я тогда тоже работал здесь же. Так вот откуда мне знакомо его лицо! — Я ведь тоже работал на Играх, и мы скорее всего встречались. — Я знаю, что вы были на Олимпиаде, мистер Олех. Я поднимал списки советских журналистов, — признался шеф прессы. Мэтт налил на донышко коньяка, щелкнул крышечкой оранжа, пододвинул одно из трех огромных — «на взвод солдат», как сказал бы Власенко, — блюд, плотно уложенных разнообразными крошечными бутербродиками. Батарея со спиртным стояла отдельно на столике с колесиками. Я пожалел, что со мной нет Сержа, — он очень любил выпивку вообще, и на чужой счет — в особенности. — За то, чтобы мы встречались на соревнованиях! — произнес Мэтт. — Эти две маленькие девочки показали взрослым, как можно жить! — И как нужно жить, Мэтт! — уточнил я. — О’кей! — согласился он, и мы слегка чокнулись пузатенькими бокальчиками с нанесенным золотой краской на боку профилем Наполеона. Когда мы выпили, Мэтт жестом пригласил откушать, а сам поспешил продолжить разговор: — Мы были искренне огорчены, что вас не было в Лос-Анджелесе. Что б там ни говорили наши политики, а Олимпиада без русских — все равно что виски без спирта. — Вот тут-то мы меньше всего и виноваты. — Э, нет, я не согласен, и пусть это не покажется вам невежливым по отношению к гостю. Вы тоже виноваты, что ваши спортсмены не приехали в Америку! — А вы приехали бы к нам, если бы мы стали обещать вашим парням отсутствие безопасности, негостеприимный прием, разные осложнения с жильем, питанием, необъективность судей и тому подобные «приятные» для любого гостя вещи? — вопросом на вопрос ответил я. Мэтт задумался, но ненадолго. — Я бы не приехал. Стопроцентно! А вы, русские, советские, должны были приехать. Погодите, погодите, — заспешил он, видя, что я собрался возразить, — разве не подобные страхи пророчили вашим спортсменам в 1980 году? Разве не пошли те двое из диспетчерской службы в нью-йоркском аэропорту на преступление, намеренно испортив компьютер, когда ваш самолет заходил на посадку? Это уже были не слова — дела! И тем не менее вы приехали, и это было триумфом для всех здравомыслящих американцев. Нам не всегда легко понять друг друга из-за океана, а предубеждения накапливались десятками лет, и в том повинны обе стороны, и в этом деле святых нет ни у вас, ни у нас, согласитесь! Я кивнул в знак поддержки его последних слов. А сам вмиг припомнил, как однажды февральским вьюжным вечером восьмидесятого в густо-синих сумерках ловил машину, чтоб добраться от универсама, выстроенного на голом шоссе за десятки километров от ближайшего жилья, до своего кемпинга, что располагался в ста с лишком километрах от олимпийской столицы. Шансов было мало, меня предупреждали и наши, и американцы, что из-за разгула преступности теперь по Штатам методом автостопа никто не путешествует, — это осталось в благословенных временах Ильфа и Петрова. Но у меня не было другого выхода, потому что я сам попросил высадить из рейсового пресс-центровского автобуса именно здесь, чтобы запастись продуктами на несколько дней вперед. Нагруженный бумажным мешком со снедью, я битый час торчал на шоссе, а машины на мой жест остановиться лишь увеличивали скорость. И не миновать бы мне холодной ночи где-нибудь в проходе универсама, если б «лендровер», набитый битком людьми, — я это увидел, когда идущий сзади автомобиль своими фарами ударил светом сквозь салон, — резко не затормозил. Когда я заглянул вовнутрь, то опешил: за рулем восседала степенная матрона, а салон был битком набит ребятишками — мал мала меньше, веселыми и неугомонными. — Простите, мэм, — пробормотал я. — Я журналист из СССР, работаю на Олимпиаде. Мне нужно в Стотенхелм, однако у вас… Она не дала мне закончить, одним незаметным жестом «смахнула» ребятишек на заднее сидение и сказала: — Садитесь, пожалуйста, но мне нужно прежде заехать в Платсбург, мы там живем, старшая дочь опаздывает в музыкальную школу. А потом я завезу вас. За всю дорогу мы не обменялись и тремя словами, потому что дорога была скользкая из-за выпавшего мокрого снега и женщина внимательно следила за впереди идущими машинами. Когда мы прощались перед моим мотелем в Стотенхелме, устроившемся близ скоростной трассы на голом, продуваемом насквозь месте, она сказала: — Спасибо, что вы приехали к нам на Игры. Мы увидели, что вы такие же люди, как и мы! Ее слова еще долго звучали у меня в ушах. А ведь эта женщина никогда в своей жизни не видела, да и скорее всего не увидит больше советского человека, потому что 90 процентов населения Платсбурга — военные летчики с «летающих крепостей» В-51, патрулирующих с ядерными бомбами вдоль границ СССР, и их семьи… — …Вот видите, вы приехали тогда в Лейк-Плэсид и ничего дурного с вами не случилось, — продолжал Мэтт. — То были другие времена, — почему-то уперся я, и это дурацкое упрямство — я ведь разделял его точку зрения! — разозлило меня. «Черт возьми, как мы еще задавлены этими стереотипами «единого» мышления, вырабатываемого — нам же всем во вред — десятилетиями и считающегося чуть ли не высшим достижением нашего общества! — подумал я. — Обособленность только и способна привести к косности и процветанию бездарей, ведь так легко оправдывать наши собственные просчеты и недостатки опасностью внешнего влияния. Да мы ведь только выигрываем — и каждый из нас лично, и общество в целом, — когда имеем возможность общаться с людьми из другого мира и таким образом яснее видеть наши ошибки и недостатки. Но кому-то было выгодно, чтоб мы не поехали в Лос-Анджелес… Ну, уж врагам олимпийского движения из США — это стопроцентно». — Своим отказом, мистер Олех, — точно читая мои мысли, сказал Мэтт, — вы отбросили олимпийское движение далеко-далеко назад и позволили захватить обширные плацдармы силам, которым не место на Играх, увы… — Да, Мэтт, как это не трудно признавать… — с облегчением сказал я. Тут дверь кабинета без стука широко распахнулась, и полицейский в короткой меховой куртке со стальной бляхой «полиция штата Нью-Йорк» на груди, в широкополой ковбойской шляпе вломился в комнату. Еще с порога он утвердительно спросил, глядя на меня в упор: — Мистер Олех Романько? Вы мне нужны…
11
Первым пришел в себя Мэтт. Он резко, едва не опрокинув тяжеленнейшее кресло, вскочил. Лицо его еще более потемнело, он не спросил, а бросил слова-камни в полицейского: — В чем дело, сержант? Это — мой гость! — Мистер Романько должен поехать со мной в «Золотую луну». — Я еще раз спрашиваю: в чем дело, сержант? Я видел, как напрягся Мэтт, как тяжело повисли набухшие кулаки, и спросил полицейского, беря себя в руки, — первый шок прошел: — Что случилось? Мой тон и спокойствие подействовали и на сержанта, и на Мэтта успокаивающе, и грозовая атмосфера стала разряжаться. — Простите, мистер Олех Романько, но вы живете в пансионе «Золотая луна», в комнате на втором этаже, ну, в той, что выходит на озеро? — Верно, но все же… — Тогда поспешим, по дороге я вам расскажу! — Я с вами! — решительно заявил Мэтт, и я был благодарен этому неразговорчивому, нелюдимому на первый взгляд, доброму человеку, так решительно вставшему на мою защиту (а я-то принимал его за очередного сторонника «жесткой линии» по отношению к моей стране!). Сержант молча пожал плечами, и через минуту мы сидели в желто-красном «форде» с включенной мигалкой на крыше. Слава богу, сержант не додумался еще ринуться в путь с сиреной. Ехать тут было всего ничего, и спустя минуту машина уже затормозила у пансиона. Дом оказался освещен, как новогодняя елка, — свет горел во всех комнатах, даже наружный фонарь бросал колеблющиеся блики на темную мостовую. В холле — столпотворение: Серж Казанкини разъяренным тигром метался из угла в угол, выпуская просто-таки паровозные клубы ароматного дыма, швед замер, затих на кушетке напротив включенного, но приглушенного телевизора, где стреляли и падали с лошадей парни с дикого Запада, молоденький врач в белом халате держал за руку миссис Келли, что с перевязанной головой, бледная как смерть безжизненно лежала на крошечном диванчике, где едва могли усидеть двое. Мне показалось, что она мертва, и сердце сжалось с такой болью, что я невольно резко остановился, и Мэтт, шедший сзади, наткнулся на меня, чуть не сбив с ног. — Олех! — воскликнул Мэтт. — Вам плохо? — Пустяки. Что с миссис Келли? — Был обморок, теперь она спит, — обернулся ко мне сержант. — Еще бы — на нее напали сзади… — Напали? — Было от чего растеряться. Сколько б не слышал о преступности, буквально парализующей жизнь этой великой страны, сколько б примеров куда более страшных не видел ты на экранах телевизоров, реальность все равно оказывается неожиданнее и прозаичнее. Но кому, скажите на милость, понадобилось нападать на эту щуплую, сухонькую — дунь, улетит! — старушку, что лежит теперь на кушетке, как восковая фигура из музея мадам Тюссо? — Верно, напали, и миссис Келли еще легко отделалась… Ее ударили чем-то достаточно тяжелым, чтобы проломить голову, — словоохотливо объяснил человек в штатском — в темно-красной нейлоновой куртке с расстегнутой молнией и с густой копной седеющих вьющихся волос. — Мистер Олех Романько («Что за дурацкая привычка произносить сразу имя и фамилию?!» — подумал я) — это вы? — спросил штатский, беззастенчиво и с явным любопытством разглядывая меня, словно перед ним стоял манекен, а не живой человек. — Собственной персоной, — буркнул я. — Я попрошу вас подняться со мной наверх, в вашу комнату. Сержант, вы останьтесь здесь и побеседуйте с жильцами. Кто где был, что слышал или видел, словом, как всегда в подобных случаях. — Слушаюсь, сэр. — Прошу. — Я поднимусь с вами! — безапелляционно рявкнул — именно рявкнул — Мэтт. — Мы обойдемся без вас, Мэтт, — вежливо, но твердо возразил человек в штатском, полицейский чин, как я догадался. — Нет, инспектор, я пойду вместе с мистером Романько; он иностранец, аккредитован при пресс-центре, и я несу за его безопасность полную ответственность. Если нет, прошу дать возможность вызвать моего адвоката, он примет на себя защиту интересов мистера Романько. Инспектор на мгновение заколебался, но не стал предаваться бюрократическим изыскам и сказал миролюбиво: — Да не кипятись, Мэтт. Я вовсе не намерен этому русскому гостю устраивать неприятности. — Это ваши заботы, инспектор. А у меня свой взгляд на происходящее. Или мы идем вместе, или мы дожидаемся адвоката! Пока шла перепалка, я лихорадочно размышлял, что можно сделать в этой ситуации. Ближайшее советское учреждение — в Вашингтоне, потому что наше консульство в Нью-Йорке закрыто еще при президенте Картере и, судя по складывающимся отношениям с новым президентом, вряд ли будет открыто вновь. Мне оставалось лишь подчиниться, и горячее чувство благодарности к Мэтту охватило меня. «А ты-то, — вновь с запоздалым раскаянием подумал я, — принимал его за напыщенного болвана из числа поклонников Сталлоне!» — Я тоже с вами! — подал голос Серж Казанкини и двинулся на инспектора своим круглым, как добрый бочонок с пивом, животом. — Вы останетесь на месте или я прикажу сержанту задержать вас как подозреваемого в преступном нападении! — Тут инспектор был непреклонен. — О ля-ля, я ведь тоже иностранец! — заартачился было задетый за живое Казанкини, но предусмотрительно застыл на месте, а потом и вовсе сел обратно в кресло. — Так-то оно лучше. Вы, Мэтт, пожалуй, поднимитесь с нами… Мы втроем: я — впереди, за мной — инспектор в красной куртке, последним — Мэтт, заскрипели старыми деревянными ступенями. Дверь в комнату была распахнута, и еще с порога я обнаружил, что кто-то перевернул в ней все вверх дном. Я, кажется, начал догадываться, что здесь произошло, но предусмотрительно промолчал, считая, что вовсе незачем американскую полицию вмешивать в мои интересы, тем паче что я еще не определил точно, чем интересовались незваные посетители. — Попрошу вас, мистер Олех Романько, — вежливо, ничего не скажешь, не придерешься (это я, безусловно, отнес к присутствию здесь Мэтта), предложил инспектор, — посмотрите, не пропали ли какие-либо вещи, не нанесен ли вам какой другой урон. Мне нужно было собраться с мыслями, выяснить для себя, что можно, а чего не следует говорить полицейскому. Времени было в обрез — я видел, как настороженно, цепко держал меня под своим колпаком инспектор. — Но я не знаю, с кем говорю, — не слишком вежливо сказал я, вспомнив, что полицейский чин не представился. — Извините. — Мгновенная злость, скользнувшая по круглому, упитанному лицу, была тут же бесследно стерта. Да, у этого закалочка в порядке! — Извините, — повторил он. — Инспектор уголовного розыска полиции штата Нью-Йорк Залески. — Благодарю вас, мистер Залески. Еще раз подробно объясните, что я должен сделать. Признаюсь, никогда не приходилось попадать в такой переплет. Он снова вспыхнул, но еще быстрее взял себя в руки. «Да я так тебя натренирую, ты еще мне ручку будешь жать в знак искренней дружбы!» — усмехнулся я в душе, хотя, если честно, мне было не до смеха, потому что мне уже было ясно, что мои розыски не оказались незамеченными. И дай-то бог, чтоб это не отразилось на Серже или Джоне Микитюке! У меня почему-то всплыло в памяти, как после истории с Валерием Семененко, когда я написал серию статей для еженедельника, один товарищ, облеченный властью и правом первой читки подобных материалов, обратился ко мне с нескрываемым укором: — Вы, Олег Иванович, вели себя за границей не так, как подобает советскому человеку! — Я уронил достоинство советского человека или совершил порочащий меня поступок? В чем это выразилось? — откровенно говоря, растерялся я. — Вы вели расследование, у вас были контакты с местной прессой, разве вы не в курсе, что такие шаги не рекомендуются? — Вы можете упрекнуть меня в чем-то конкретном? — Нет, но… — Если б я руководствовался вашими инструкциями, а, как я полагаю, вы излагаете мне некий параграф некой инструкции, призванной регламентировать мое поведение за границей, то имя Валерия Семененко было бы втоптано в грязь, честь и достоинство советского человека были бы принижены, если не сказать больше… — Вам ведь никто не поручал заниматься этим делом! — выдал товарищ мне самый веский, по его мнению, аргумент. — Я журналист, партийный журналист. Вот это и есть мое вечное поручение партии. Больше у вас нет вопросов? У него вопросов больше не оказалось. «Интересно, что запел бы мой «доброжелатель» теперь, когда я стою в разгромленной неизвестными комнате под пристальным, подозрительным взглядом полицейского?» — подумал я… — Вы поняли мое предложение? — нетерпеливо спросил инспектор Залески. — Да, я начинаю. Если честно, то я мог и не заглядывая в шкаф, в сумку с вещами, в письменный стол, сразу сказать, чем интересовались незваные гости. Но я не стал спешить. Раскрыл дверцы шкафа, вынул скомканное запасное белье, разложил все аккуратно на постели, предварительно застелив ее покрывалом. Две рубашки, свитер, три галстука, светло-коричневый гольф, носки и прочие нижние вещи. Сувениры, купленные в лавчонке по соседству: две вязаные шапочки с вышитым лыжником — себе и Наташке; литография Рокуэлла Кента в металлической рамке — заснеженные горы Адирондака с заледеневшим водопадом на первом плане; пять зажигалок с видами Лейк-Плэсида — товарищам в редакции, шелковый шейный платок, тоже с видами Лейк-Плэсида, — для стенографистки Зинаиды Михайловны, она со мной намучилась за эти дни, принимать репортажи доводилось даже дома, далеко за полночь; и, наконец, светло-синий горнолыжный комбинезон — моя гордость и давнишняя мечта. Пожалуй, я был бы искренне расстроен, если б пропал комбинезон: я уже не однажды представлял себе, как появлюсь в нем в Славском — заезжие модники из Львова да Москвы, честное слово, засохнут от зависти. — Вещи на месте, ничего не пропало, — сказал я. — Деньги? — Они при мне. — Пожалуйста, дальше. Стопка белой бумаги, взятой в пресс-центре, авторучки, моя «Колибри», и — слава богу! — крошечный, в ладонь, диктофон «Сони», принадлежавший редакции, и все пять кассет. — Ничего не пропало, инспектор, — с облегчением сказал я, хотя уже давно обнаружил, что одна вещь таки исчезла. Не было пластмассовой папочки, подаренной мне Сержем Казанкини, — досье украли. «Но инспектору, — давно решил я, — вовсе не обязательно об этом знать». — Благодарю вас, мистер Олех Романько! Спустимся вниз, подпишете протокол, и на этом будем считать инцидент исчерпанным. Что же касается преступного нападения на миссис Келли, это уже наше внутреннее дело, — суммировал инспектор Залески. В голосе его, однако, не слышалось удовлетворения. Ну да это его заботы… — О, мистер Романько! — встретила меня пронзительным возгласом миссис Келли, уже пришедшая в себя окончательно и сидевшая на диванчике рядом с молодым доктором в белом халате. Лицо ее ожило. — Миссис Келли, но что случилось? — спросил я хозяйку пансиона «Золотая луна». — Смотрела телевизор, как раз передавали репортаж из Дворца, я, конечно, пойти туда не могла — пятнадцать долларов, согласитесь, для одинокой женщины — деньги. (Я запоздало пожалел, что ни разу даже не предложил миссис Келли посетить состязания, уж нашел бы способ провести ее бесплатно, опыт подобных посещений дома мы отработали давно до совершенства и даже на такие престижные футбольные матчи, как «Динамо» — «Селтик», проводили в ложу прессы своих гостей). — Миссис Келли сделала паузу, но, конечно, не для того, чтобы упрекнуть меня за недогадливость, а чтобы придать своему рассказу дополнительный драматизм. — Как прекрасна была наша Дженни! Да-да, мистер Романько, но и ваша девочка, как ее зовут? — Катя, Катюша. — подсказал я, и благодарная улыбка осветила лицо хозяйки пансиона. — Катья тоже мне понравилась, но Дженни, согласитесь, была блистательна в этот вечер. Я видел, как мрачнел инспектор, вынужденный выслушивать излияния, не имеющие никакого отношения к происшествию, тем более что подробности эти были ему давным-давно известны и вряд ли он ожидал чего-то нового в таком тупиковом деле. — Вы слушаете, мистер Романько? — миссис Келли с подозрением взглянула на меня. — А вы, инспектор? — Ее взгляд обжег Залески, и он недовольно скривился, как от внезапной зубной боли. — Это все очень чрезвычайно важно, заявляю вам! Я слушала репортаж, но услышала — понимаете, услышала! — как стукнула дверь наверху. А ведь там никого не было с самого вечера… Мистер француз пришел уже позже, он-то и нашел меня мертвой… Нет-нет, я была в обмороке, но меня вполне можно было принять за труп… Пока хозяйка «Золотой луны» излагала подробности и собственные ощущения, я думал, как мне поступить дальше. Вряд ли те, кто рылся в моих вещах, заявятся еще раз, ибо они получили то, что искали, это без сомнения. Значит, до утра я могу спать спокойно, а утром, как и условлено, уеду с нашими спортсменами в Монреаль, а оттуда рукой подать до Москвы. В крайнем случае переночую ночь-другую у Власенко, не откажет. Конечно, эта бандитская акция заставляет пересмотреть планы на Монреаль… — …тут я и упала! — уловил я последние слова миссис Келли и ее победоносный взгляд горящих глаз, коим она обвела присутствующих в комнате. Но, кажется, кроме меня, никто и не слушал ее: инспектор заканчивал протокол, Серж впал в глубочайший транс — он даже перестал курить, уставившись в одну точку, швед по-прежнему цедил пиво из третьей баночки (две пустые валялись на столике у телевизора), сержант явно скучал, да и к тому же ему было жарко в его меховой куртке и в шляпе. Мэтт — вот он-то был весь внимание — напомнил мне курицу-наседку, нахохлившуюся, готовую в любой момент грудью броситься на защиту цыпленка. В роли последнего, подозреваю, выступал я… Когда был подписан протокол, вслед за мной это сделал и Мэтт, как свидетель, инспектор Залески вполне искренне пожелал спокойной ночи и выразил надежду, что инцидент («Дело, без всякого сомнения, будет доведено до конца, и злоумышленники понесут заслуженную кару!») не испортил мне общее впечатление от пребывания в Лейк-Плэсиде. Я с такой же искренностью заверил инспектора в моем признании его доброго участия в этом деле, а также в том, что мои симпатии к Америке и американцам не уменьшились после сегодняшнего вечера. Мне осталось лишь посетовать, что из-за меня вольно или невольно жертвой произвола оказалась миссис Келли. Словом, раздав всем сестрам по серьге, я распрощался с инспектором, сержантом и Мэттом. С последним мы обнялись по-братски, и я сказал, что не забуду его участия и буду надеяться, что когда-нибудь нам посчастливится встретиться вновь, лучше, конечно бы, в Киеве. Оставил ему свою визитку, приписав авторучкой домашний адрес и телефон. Я ни на секунду не сомневался, что Мэтт заслуживает такого приглашения. Серж поднялся вслед за мной наверх. Без единого слова деловито проверил запоры на окне и успокоился, только убедившись, что они прочны. — Как ты думаешь, старина, это из-за Добротвора? — спросил Казанкини, и я уловил в его голосе плохо скрытую тревогу. — Ну, я бы не оценивал случившееся так однозначно… Скорее всего для тебя не секрет, что специальные службы здесь, на Западе, всегда проявляют интерес к нам, советским людям, а значит, это их рук дело. Здесь ли, в Штатах, или у вас, во Франции… — Я увидел, как оживился мрачный и растерянный на протяжении всего вечера Казанкини, и убедился:Серж действительно напуган происшедшим, наперед просчитав возможные последствия для себя — как-никак, а именно он привез исчезнувшее досье. Мне не хотелось усугублять его сомнения и тревоги, тем более что такие опасения не покидали и меня с той самой минуты, когда я услышал о «посещении» комнаты незваными гостями. Я даже пожалел (а ведь сколько раз зарекался подвергать опасности моих зарубежных друзей, как ни важна, как ни ценна была для меня их помощь), что снова расслабился, не удержался, рассказал больше чем нужно и чем мог Сержу Казанкини. Хуже — втянул его в историю, возбудил интерес и невольно подтолкнул к поискам опасных документов, пусть даже прямо об этом его и не просил. Ну, да что там — снявши голову, по волосам не плачут! — Ты честно полагаешь, что это не из-за меня? А? Говори честно, Казанкини не из трусливого десятка! — Я видел, как нелегко далась Сержу эта бравада. — Да как тебе сказать… Скорее всего это следы Ефима Рубцова, это больше похоже на него. Уж кто-кто, а он, тут я голову готов дать на отсечение, имеет связи с этими службами, которые, как и он, не слишком-то доброжелательны к моей стране. Ты спросишь, зачем ему, журналисту, это нужно? Скажу. Однажды в Австралии местный газетчик на вопрос, почему они, то есть австралийцы, так недоверчиво относятся к бывшим советским гражданам, очутившимся на пятом континенте после второй мировой войны, ответил… — Серж Казанкини — весь внимание, я видел, что каждое мое слово — бальзам на его рану. — Он сказал: «Если они могли предать Родину, отречься от нее, то нас они в случае надобности предадут еще легче. Как же мы можем к ним относиться иначе?» Вот потому-то рубцовы и лезут из кожи, чтобы засвидетельствовать собственную «лояльность» к приютившей их стране… — Но откуда он мог знать, что ты здесь? — не сдавался Казанкини. — Стоило по телефону из Нью-Йорка подключиться к компьютеру пресс-центра, как тут же получаешь полнейшую справку обо мне, да еще и в напечатанном виде. Я проверил это. Компьютер знает даже, что я вторично женат, а ты говоришь… — Много бы я дал, лишь бы добраться до этого подонка! — вырвалось из уст уже явно успокоившегося и вновь самоуверенного Сержа. Нет, поистине этот добрый толстяк — дитя природы… — Для «Франс Пресс» такая информация не представляет интереса, мистер Казанкини, — шутливо отмахнулся я. Всерьез же сказал: — А вообще, Серж, ты больше не лезь в эту историю, не хватало тебе еще расплачиваться за наши «особые» отношения с Рубцовым. Спасибо за досье, ты так много сделал для меня! Я и словом не обмолвился, что красная папочка Сержа Казанкини уже давно в чужих руках. Меня успокаивало, что странички с напечатанным на стандартной ленте «ПК» — персонального компьютера — текстом не несут индивидуального почерка, и Серж не оставил на них не только собственной росписи, а она у него такая, что только на крупных банкнотах ставить, но и даже пометок или поправок от руки. Не стал ничего говорить Сержу об утрате документов еще и потому, что по давней привычке в первый же вечер перевел написанное и продиктовал на магнитофонную ленту «Сони», лежавшую теперь в моей сумке… — Нет, ты это брось, — продолжал набирать силу и уверенность в себе Серж. — Я буду искать и, ежели что, — непременно дам тебе знать. Ведь мы с тобой не конкуренты, Олег! — Нет, не конкуренты, — с облегчением согласился я, видя, что мой друг окончательно обрел спокойствие. — Давай прощаться, мне еще заключительный репортаж писать, в пять утра передавать. Завтра утром уезжаю. — Так скоро? — по-детски, с обидой, точно у него забирали любимую игрушку, воскликнул Серж. Я обнял его и учуял тонкий запах терпкого мужского одеколона и резкий аромат трубочного табака, пропитавшего, казалось, Сержа насквозь. Мне было грустно, потому что каждый раз, расставаясь, не знаешь, удастся ли встретиться вновь. В нашем мире, сократившем расстояния сверхзвуковыми лайнерами и спутниками связи, существуют не только границы между государствами, но и между людьми, в силу тех или иных причин разделенных политическими, экономическими, нравственными границами двух таких противоположных по своей сути миров, где, однако, живет немало похожих в своих радостях и горестях, в своих вечных устремлениях к счастью людей… — Я выйду проводить тебя утром, — пообещал Серж, но я не сомневался, что в семь утра мой друг будет спать сном праведника, ибо не было для сибарита Сержа Казанкини зверя страшнее, чем ранний подъем из теплой постели. — О’кей, Серж. Спокойной ночи.12
Ночь напролет валил и валил снег: синий рассвет и окрестные горы, Зеркальное озеро и федеральная дорога № 18, по которой нам предстояло ехать, даже невысокое крыльцо пансиона миссис Келли — все утонуло в глубоких, пышных и величавых сугробах. Савченко позвонил и предупредил, что автобус за ними не пришел и когда появится, сказать трудно, но как только подкатит к подъезду гостиницы, где жили наши спортсмены, он сразу же даст знать. Я совсем не огорчился непредвиденной задержке. Она давала возможность побыть наедине со своими мыслями. Вещи были собраны с вечера, мне оставалось побриться да перекусить, на это ушло 20 минут, и вот уже я бреду по белой целине сквозь мириады кружащихся снежинок, куда глаза глядят. Небольшой красный трактор со скрепером натужно толкал перед собой гору снега, едва ли не выше крыши кабины. У магазинчиков суетились с лопатами хозяева: пробивали в снегу тоннели, прочищали подходы к витринам — непогода не должна мешать бизнесу. Ребятишки в куртках и «лунниках» азартно перебрасывались снежками, но снег был сухой и плохо лепился, потому мальчишки старались ухватить ком побольше чуть ли не с лопаты родителей. Чем дальше оставалась Мейн-стрит, тем глуше доносились звуки, тем гуще летели белые снежинки, и наконец я растворился в них и превратился в одну большую белую глыбу, с трудом передвигающуюся на своих двоих. Это все так напоминало Славское, радостный день передышки после непрерывной череды подъемов и спусков, доводивших до смертельной усталости каждую мышцу, каждую клеточку тела. «Хочешь ты или нет, — размышлял я, — но вынужден будешь признать, что ничего такого, что прояснило бы окончательно историю с Виктором Добротвором, ты не обнаружил, и нет у тебя на руках фактов, кои можно было бы уложить в логической последовательности и сделать твердые выводы. А следовательно, никто не станет прислушиваться к объяснениям Добротвора, если он пожелает еще объясняться, а тем паче к моим, задумай я с ними познакомить тех, кто будет решать судьбу Виктора (я тогда еще даже не догадывался, что все уже было решено окончательно и бесповоротно)». И нутром чуял — интуиция меня редко подводила! — что увидел самую верхушку айсберга, большая же часть его скрыта от моего взора, и она-то и есть то главное, ради чего и стоило рисковать. Появление Ефима Рубцова, и неясные, таинственные следы мафии, и исчезнувший боксер, многое способный объяснить, и этот наглый налет на мою комнату лишь убеждали в серьезности истории. Кто стоит за всем этим и какую цель преследуют организаторы? Меня не покидала мысль, она крутилась в голове, мешая, сбивая с толку, подсовывая самые неожиданные варианты, разрушавшие уже складывавшиеся в логическую цепь факты, — мысль о том, что Виктор Добротвор был лишь звеном в невидимой и зловещей цепи затеваемых преступлений… Как ни ломал себе голову, решение не приходило. Взъерошенный, засыпанный снегом по самую макушку, возвратился я домой и узнал, что звонили несколько раз из гостиницы. Я успел сбегать наверх и схватить вещи, когда внизу, у входа в пансион «Золотая луна», засигналил нетерпеливо и требовательно автобус. Двухэтажный, с затемненными стеклами, «Грей Хаунд» урчал всеми своими тремястами лошадиных сил, и его метровые «дворники» размашисто выметали два полукруга на стеклах. Павел Феодосьевич жестом пригласил на свободное место рядом с собой, и автобус тут же двинулся, тараня плохо прочищенную дорогу. — Снег, оказывается, только в горах, нам тут километров тридцать — сорок проскочить, а там, на хайвее, чисто, — сказал он вместо приветствия. — Проедем, — беззаботно подтвердил я. — В восьмидесятом мы тут накатались, помню… — Тебе-то что, — возразил Савченко, — ты остаешься в Монреале, а нам не опоздать бы на самолет. Хоть долларов у меня полный карман, а истратить не могу ни цента, потому как из разных статей они… — Не дрейфь, Паша, — пообещал я доверительно, — в Монреале у меня приятель, друг, вместе плавали, да ты его должен знать — Власенко Толя. Он — консул, это в его силах решать такие проблемы. — Ну, разве что. Да лучше не опаздывать. Не люблю опаздывать — на поезд ли, на работу… — Как думаешь, — спросил я, переводя разговор в другое русло, — Добротвора могут дисквалифицировать пожизненно? — А ты как полагал — на три игры, как футболистов, да еще условно? После того что тут понаписано о нем в местной да и не только в местной прессе? — Не злись, — сказал я. — Ты не допускаешь, что в этой истории может существовать двойное дно? — Брось ты! Двойное дно, психологические изыски, мотивация поступка! — передразнил он. — Подобные поступки определяются четко: сделал — отвечай. Ты меня знаешь не первый год, скажи без обиняков — веришь мне? То есть доверяешь? — Еще чего! Не верил — не разговаривали б мы теперь на эту тему. — Тогда пойми: Добротвор — преступник! Вдвойне преступник, потому что он — «звезда», личность, известная в мире. По личностям же судят о нас, в том числе и о нас с тобой. Что же высветил поступок Добротвора? Что и у нас «звезды» ничем не отличаются от их «звезд» — та же неразборчивость в средствах, когда нужно заработать, деньги ведь не пахнут? А где же наша, советская, гордость, наши моральные ценности, коими мы гордимся и кои поднимаем высоко над головой, как маяк, как Данково сердце? Не знаю, как тебе, а мне горько, потому что я жизнь прожил в твердой уверенности в незыблемости этих ценностей. Да, согласен, одна поганая овца стадо не испортит… Только какая овца — это еще разобраться нужно… Утрачиваем мы что-то самое ценное в спорте, без чего он превращается в бездуховное накачивание мышц и злости… И нужно срочно возвращать утраченное, ведь поздно может быть, поздно! — А что! Разве перевелись у нас тренеры, для коих вершина — технический результат, рекорд, победа на чемпионате? Их мало волнует и заботит, кем уйдут в долгую послеспортивную жизнь чемпионы. Если уж начистоту, то и ты в том повинен, и я: не даем подобным нравам настоящего боя, отступаем, молчаливо соглашаясь с кем-то, сказавшим сакраментальную фразу «Так нужно!». Кому нужно конкретно? Черта с два найдешь! Все это так. Но что касается Виктора Добротвора, согласиться с тобой не могу. Здесь иная подоплека, возможно, человеческая трагедия, скрытая от глаз… — Не увлекайся, Романько! Нельзя же за каждой историей видеть историю с Валерием Семененко. Ты докопался до правды, вернул человеку доброе имя, честь и хвала тебе за это. Здесь факт преступления налицо! Меня ты по крайней мере не убедишь в ином, хотя… хотя мне, возможно, и нанесено оскорбление, да и другим, знавшим его как личность, с которой брали пример. — Погодите, Павел Феодосьевич! — тут уж пришел черед возмутиться мне, что сразу же сказалось и на переходе на официальный язык. — Вы ведь дали слово разобраться в этой истории досконально? — Дал и сдержу его, не беспокойся. Разберусь хотя бы для того, чтобы увидеть истоки падения Добротвора, чтобы забетонировать эти черные струи намертво, чтоб никто и никогда больше не испил отравленной водицы… Ладно, Олежек, прекратим беспочвенный спор. Пока беспочвенный, — поправился Савченко. Я молча согласился с ним, и всю дорогу до Монреаля, а она и впрямь оказалась совершенно чистой, едва мы выбрались из горных ущелий, говорили о чем угодно, но только не о Добротворе. Савченко быстро пришел в хорошее настроение, стоило лишь вспомнить о фигуристах, что сидели позади нас в автобусе. Он любил этих мальчишек и девчонок, возможно, еще и за то, что они были чисты перед своей совестью и спорт — большой спорт — еще не проник в их души настолько, чтобы затенить остальную жизнь, сузить кругозор до сотых балла, отделяющих победителя от побежденного; они счастливо смеялись, рассматривая «Спорт иллюстрейтед», где были опубликованы снимки, сделанные в первый день состязаний; изо всех сил старались казаться серьезнее, чем были на самом деле, а в мечтах уже видели, как войдут в свой класс и как пойдут к своим партам, гордо и независимо, под завистливо-восхищенными взглядами товарищей. Они еще станут переживать, когда в классных журналах у них появятся оценки ниже, чем у первых учеников, и будут из кожи лезть, чтобы отстоять собственное «я» и доказать, что могут учиться и тренироваться, тренироваться и учиться не хуже, чем остальные. И многим это удастся, если попадется на пути умный, рассудительный и гуманный тренер, а не бездумный эгоист, способный без зазрения совести капля за каплей выжимать из их душ доброту, уважение к другим, любовь к ближнему и заполнять вакуум цементным раствором себялюбия и эгоизма… Неужто и у Виктора в душе не было ничего, помимо этого цемента? Неужто и я идеализирую его? В «Мирабель» я распрощался с Савченко и с ребятами, взял такси. — До встречи в Киеве, Олег! — сказал Савченко. Мы обнялись. — На Холм! — сказал я пожилому, мрачноватому водителю с седой бородой и совершенно лысым черепом и назвал адрес гостиницы. Мы проехали — это уже было на Холме, как называется эта часть Монреаля, фешенебельная и тихая, сплошь застроенная особняками, утопавшими в зарослях деревьев, — мимо общежития местного университета, и я попытался разыскать взглядом окно комнаты на третьем этаже, где жил в 1976-м. Но так и не узнал его. В гостинице мне дали ключ, и лифтер поднял на четвертый этаж. Комната понравилась — два широких окна, с балконом, дверь на который оказалась незапертой, несмотря на двадцатиградусный мороз, просторная, разделенная частичной перегородкой на две — приемную и спальню. Первым делом я забрался в горячую ванну отогреваться после автобуса, где тепло не опускалось ниже пояса и ноги порядком закоченели. Закутавшись в махровую простыню, пахнувшую приятным ароматом сухого дезодоранта, сел в кресло перед письменным столом и набрал номер телефона Власенко. Он сразу взял трубку, точно сидел и ждал моего звонка. — Привет, старина, — солидно просипел он в трубку, не выразив ни радости, ни удивления в связи с моим появлением. — Где? — В отеле, где еще… — Комната? — 413. — Жди, я подъеду через полчаса, — сказал Власенко и лишь тогда поинтересовался. — Ты свободен? — Свободен, свободен, мотай ко мне. Меня так и подмывало спросить, не появлялся ли на горизонте Джон Микитюк, но равнодушный тон Власенко отбил охоту. Делать мне было нечего, и, одевшись, я уселся перед телевизором — вот уж поистине наркотик для души! Благо дистанционное управление давало возможность быстро и без труда переключать программы, я воспользовался этим благом цивилизации и пошел бродить по миру цветных подобий живой жизни. Речь Рейгана перед конгрессменами сменялась рекламой канадского пива «Молсон», натуралистические сцены из доисторической жизни первобытных людей из фильма «Огонь» — страшными джунглями Вьетнама, сквозь которые пробивались облепленные пиявками и москитами, потерявшие человеческий облик морские пехотинцы; потом мелькнул Черненко, читающий что-то с трибуны съезда, хоккейный матч между «Торонто» и «Ойлерс», как обычно, с дракой и разбросанными по льду доспехами, Чарли Чаплин в роли старого умирающего клоуна Кальверо… — Кончай, старина, сеанс одновременной игры с двенадцатью программами, — сказал Анатолий Власенко, входя без стука в комнату. — Поехали!— Любопытно, любопытно… — думая о чем-то своем, произнес Власенко, когда я коротко, без эмоции изложил факты. — Пожалуй, слишком много информации, взаимно исключающей друг друга. Это-то и настораживает. — Почему исключающей? Все вяжется в логическую цепь, где, правда, пока что отсутствуют некоторые звенья. — Не скажи… Мы расположились в самой просторной из четырех комнат холостяцкой квартиры на Мексика-роуд, где все носило следы отсутствующей хозяйки и присутствующего хозяина. Нельзя сказать, что в квартире Власенко было неопрятно: два раза в неделю приходит служанка — убирает, готовит обед на три дня, отдает и забирает из стирки белье, приносит продукты из универсама и складывает в высокий, как шкаф, холодильник фирмы «Форд». Но небрежно брошенный на стол спортивный костюм и синие кроссовки «Тайгер» посреди комнаты, едва прикрытая покрывалом постель и переполненные окурками пепельницы из отливающего синевой металла у дивана, что как раз напротив «телека», и ни единой женской вещи, как я не пытался глазами отыскать их, красноречивее всяких слов говорили, что Толина жена давно отсутствует и здесь к этому привыкли и не ожидают скорого возвращения. Власенко подлил себе в бокал виски, а мне достал из холодильника блок запотевших баночек «Молсона» — кислого, как и «Лэббат», пива, коим он потчевал меня в прошлый мой приезд. — Да, — вдруг вспомнил Власенко, отставляя уже поднятый бокал. — Тебе пакет от Микитюка. Без твоего разрешения я не вскрывал его. — И ты молчал! — Забыл, знаешь, старина, голова с утра до вечера забита проблемами. Это только из Москвы или из Хацапетовки работа за границей выглядит чем-то наподобие овеществленного рая, на самом же деле крутишься, как белка в колесе: работа — дом — телевизор — работа. Держи! Обычный стандартный конверт с… видом моей гостиницы в левом углу. Значит, Джон приезжал в отель, надеясь, что я возвратился? Но он ведь хорошо знал, когда я приеду! Странно…
«Мистер Олег, не хочу показаться навязчивым, но обстоятельства заставили меня обратиться к Вам раньше, чем предполагал. Извините. Тот парень, я Вам говорил, и Вы помните его имя, объявился. В тюрьме. Его осудили на три месяца за хранение… наркотиков. Я попытался добиться разрешения на встречу с ним, но мне отказали как не родственнику. Это в корне меняет дело, ибо теперь трудно сказать, когда мне удастся переговорить с ним с глазу на глаз. Я очень надеялся на такую беседу, уверен, что он не отказал бы мне в правде. Еще одно. Я разыскал его мать. Она лежит в госпитале матери Терезы. Мне удалось пройти к ней на свидание. Она действительно тяжело больна и очень переживает, что «сын так надолго уехал за границу» (вы понимаете, ей не сказали, где находится парень!). Она была благодарна мне, что я принес ей фрукты. Еще она сказала, что ни в чем теперь не нуждается, так как «сын выиграл важные соревнования и заработал много, очень много денег, которые положил в монреальский банк. Я спросил, когда он их заработал. И вот что выяснилось: он получил их в тот самый день, когда наш с вами общий знакомый прилетел в Монреаль! Она точно не знает, как назывались соревнования, где он так хорошо заработал, но если я зайду к ней домой, когда она выздоровеет, она покажет мне бумажку или бумаги, где все записано… Вот вам мои новости. Теперь буду размышлять, как пробиться к парню за решетку… Задал он мне задачку, сукин сын! Извините.Ваш Джон.
24.XII.84 года».Я протянул листок Власенко. Он быстро, но внимательно прочел. Но высказался не сразу. Я не торопил его. У меня у самого в голове был полный сумбур. — Помнишь, когда я купил свой первый автомобиль? — спросил Анатолий, хитро прищурившись. — Еще бы! Ты первый среди наших ребят стал владельцем «колес», только какое это имеет отношение к письму Джона? — Ну, раз помнишь, когда купил, то, по-видимому, слышал, как из моего «Москвича» сделали гофрированную консервную коробку, когда на трамвайной остановке на Саксаганского в меня врезался сзади самосвал, а я в свою очередь ткнулся во впередистоящий автобус… Вот сейчас у меня такое же ощущение: ты не виноват, а наибольшие потери у тебя… Я не говорю о Добротворе, о тебе говорю… — Обо мне? — О тебе, дружище. Это письмо — как приговор твоей версии о случайности «дела Добротвора». Вез он наркотики, хотел заработать. Ну, чего там, он ли первый из спортсменов, пойманных на валютных операциях, спекуляции? Вез осознанно, перекупщику, по предварительному сговору… А у меня перед глазами как укор, как наваждение стояла Татьяна Осиповна, знаменитая тетка Виктора Добротвора: сухая, чистая вобла, как смеясь называл старшую сестру отец Виктора — полная ей противоположность во всем, начиная от центнера живого веса, до снобистского, равнодушного отношения к происходящему вокруг. Он был «критический скептик», как сам себя характеризовал: он не верил ни в Сталина, ни в Брежнева, молился лишь на лишний рубль, за него готов был перегрызть глотку. Она же — старшая сестра — вместе с отцом, коммунистом с 1907 года, и матерью — беспартийной — прошла долгий путь лагерных мытарств с 1937-го по 1954-й. На свободу Татьяна Осиповна вышла одна: родители остались там, в Вилюйской тайге, где нет памятников погибшим и никто не покажет их могил; лишь в списке о реабилитации они навсегда остались рядом. Так вот, Татьяна Осиповна сохранила верность идеалам, которые у нее вымораживали 50-градусным морозами и нечеловеческой работой на лесоповале, но так и не смогли убить в ее душе. Меня поражали ее неистребимый оптимизм и вера в наше прекрасное, такое трудное и славное дело; ни одна строчка ее стихов не была отдана злости или чувству мести, они дышали жизнью, где есть место и радости, и грусти, и где, как утверждала она, «нет места лжи, прикрытой «нужной» правдой»… «Вы знаете, Олег, я даже рада, что Виктор воспитывается у меня, — призналась она мне однажды, когда сидели мы у нее на кухне — крошечной, двое едва разойдутся, но такой уютной, что мы для бесед предпочитали ее трем комнатам квартиры на одиннадцатом этаже на бульваре 40-летия Октября с окнами на Выставку достижений, вернее, на ее лесные рощи и сады. — Из него получился человек. Пусть их, тех, кто рассуждает: а, боксер, да у него в голове… У Виктора чистая, умная голова, он будет полезным человеком для общества, ведь уже школу закончил с золотой медалью, и ничего, что политехнический — с трудом, во многом благодаря поддержке ректора… Он возьмет свое — у Виктора есть воля и честь. И эти качества — важнейшие в жизни…» «Воля и честь», — повторил я про себя. — Ты скажешь, что тут есть много неясного, — продолжал Власенко. — Согласен. Но вот штука: нет никаких свидетельств, что они имеют прямое отношение к делу Виктора Добротвора. Мафия, заговор… Здорово попахивает эдаким романчиком в духе Джона Ле-Карра о шпионах и тайнах. Уж не задумал ли ты чего такое сотворить? — Не мути воду, Толя, без тебя тошно… — Брось, старина, ну, знал ты парня, а он оказался не таким, каким мы его себе представляли. Жаль, боксер он действительно от бога… Посмотрел бы, как он здесь дрался! — Видел по телеку. — По телеку! Я заплатил шестьдесят долларов за билет на финальные поединки, а из-за Добротвора — ведь его история была широко прокомментирована местными стервятниками пера — народ повалил, как сумасшедший. За билет просили пять-шесть номиналов, понял? А Добротвор просто-таки покорил публику… Но, видишь, есть в медалях и оборотная сторона… — Ладно, Толя, каждый из нас останется при своем мнении, но если ты… — Ой! — Власенко испуганно вскочил на ноги. — Черт! Сколько раз говорил себе ставить плиту на автомат… — Он ринулся на кухню, где у него была фирменная плита «Дженерал электрик», он мне еще хвастался, что она умеет все: варить, жарить, подогревать, сушить, выключаться в нужный момент и даже будить пронзительной сиреной зазевавшуюся хозяйку. — Нет, порядок, гусь что надо, пальчики оближешь. Настоящий рождественский! Наливай! — Так вот, Толя, — продолжил я, когда ароматно парующий, покрытый золотой корочкой, истекающий янтарным жиром гусь был торжественно водружен на блюде в центре нашего праздничного стола, — останемся при своих. Пообещай, если Джон снова обратится с просьбой передать мне письмо, ты это сделаешь. А чтоб не нарушать инструкций… — Власенко обидчиво взмахнул рукой — мол, ну, ты уже далеко заходишь! — Да, именно чтоб не нарушать инструкций и не ставить тебя в неловкое положение, прошу обязательно вскрывать и читать. О’кей! — Ладно, чего уж проще. Гусь остывает…
Я возвращался в Москву в аэрофлотовском Иле, полупустом в это время года, и стюардессы просто-таки не знали, чем нас удивить — мы пили, ели, слушали музыку за всех не полетевших пассажиров; узнали, что в Москве минус 18, но снега нет и не предвидится. Меня же больше интересовало, успею ли во Внуково, чтобы без задержки улететь в Киев, и мысли уже были далеко отсюда — нужно было решать, куда пойдем с Натали встречать Новый год…
II. ПАРОЛЬ К ИСТИНЕ
И кружил наши головы запах борьбы…В. Высоцкий
1
Мне тогда крепко не повезло: ровно за две недели до официальных стартов на международных состязаниях в Москве, объявленных для нас тренерским советом сборной контрольными, жесточайшая ангина с температурой 40° и полубессознательным состоянием свалила с ног. Дела мои в том году и без этой неприятности складывались далеко не безоблачно. Поражения следовали куда чаще, чем редкие, неяркие победы. Поговаривали, что я первый кандидат на списание из команды. Меня это, естественно, не устраивало по двум причинам: во-первых, потерять госстипендию, выплачиваемую Спорткомитетом, значило солидно подорвать свою материальную базу, а до окончания университета оставалось ровно три года, во-вторых, Олимпиада в Токио влекла к себе непознанной таинственностью далекой, малопонятной страны где-то на краю света, где мне предстояло громко заявить о себе, — мое честолюбие, помноженное на просто-таки изнурительную работу на тренировках, было тому порукой. Лето пропало на бесконечных сборах и бесчисленных состязаниях. В Киев попадал на день-два, чтоб сменить белье, забрать почту у Лидии Петровны, она после гибели родителей осталась самым близким человеком, хотя никакие родственные узы нас не связывали — она была матерью моего школьного друга Сережки. Даже на летние военные сборы не поехал, что, как мне объяснили, сулило крупные неприятности по окончании вуза — можно было загреметь в армию. Но спортивное начальство уверило, что дело поправимо и мне нечего забивать голову подобными проблемами. «Твоя задача — плавать, а уж государство разберется, как компенсировать твои затраты», — объяснил старший тренер мимоходом. Он был человеком энергичным, не признающим преград, любил вспоминать при случае и без оного, как плавал сам в далекой довоенной молодости по Волге. «На веслах да на боку до самого Баку», — шутил Китайцев. Его бескомпромиссность в вопросах тренировок кое для кого из нашего брата спортсмена закончилась плачевно: уверовав в опыт и авторитет «старшо́го», они вкалывали через силу, пренебрегая предостережениями врачей, и — сходили с голубой дорожки досрочно. Это, однако, не настораживало Китайцева: он считал, что слабакам в спорте вообще не место, а в плавании — тем паче, и продолжал экспериментировать и нахваливать покорных. К числу непокорных в сборной относились трое: Семен Громов, высокий, самоуверенный москвич, рекордсмен и чемпион страны в вольном стиле, потом — маленький, юркий, мягкий, на первый взгляд, стайер, плававший самую длинную дистанцию в 1500 метров Юрий Сорокин из Ленинграда и, наконец, я. Если кого и склоняли больше иных на разных тренерских советах да семинарах, так это нас, но избавиться от беспокойной троицы было непросто, ибо вопреки мрачным предсказаниям «старшо́го» мы вдруг в самый неподходящий для начальства момент взрывались такими высокими секундами, что ему оставалось лишь разводить руками и молча глотать пилюли. Хотя, если уж начистоту, о какой обиде могла идти речь, если мы своими рекордными результатами работали на авторитет того же тренерского совета и старшего тренера Китайцева? Когда подоспели эти очередные отборочные состязания (по-моему, это было в третий раз за летний сезон), объявленные самыми-самыми главными, после коих счастливцы уже будут считать дни до отлета в Токио и никто и ничто уже не лишит их такой привилегии, и Громов, и Сорокин успели уже выстрелить рекордными секундами. Я остался в одиночестве, и московские старты действительно должны были расставить точки над «i». Тем более что мне не в чем было упрекать себя: плавал жестоко, как никогда, нагрузки были сумасшедшими даже по мнению тренеров сборной. Ольгу Федоровну в открытую упрекали в бессердечии, а мне предрекали жесточайшую перетренировку. Откуда им было знать, что Ольга Федоровна была в тех дозах не повинна: она чуть не со слезами на глазах упрашивала меня снизить нагрузки, не рвать сердце, подумать о будущем и т. д. А меня как прорвало — я чувствовал, что мне под силу и большее: наступил тот период — самый прекрасный в жизни спортсмена, — когда ты осознаешь свою силу, послушную воле, что диктует организму невозможное, и он выполняет приказы. На тренировках меня несло так, что я стал едва ли не панически бояться — не соперников, нет! — сквознячков, стакана холодной воды (а что такое июль в Тбилиси вам говорить, надеюсь, не надо?), чиха в автобусе, даже, кажись, недоброго взгляда. Нервная система была напряжена до предела, и даже Ольга Федоровна перестала меня донимать своими нравоучениями… И вот — ангина. Да еще какая! Срочно вызванный ко мне в гостиницу врач-отоларинголог, местное светило, сокрушенно покачал головой и сказал, как приговор вынес: «Э, генацвале, такой молодой, такой красивый, такой сильный, как витязь, и такой плохой горло! Как так можешь, а? Жить хочешь? Харашо жить, а не как инвалид, калека, у который сердце останавливается после первого рога хванчкары, хочешь?» Я увидел, что у Ольги Федоровны перехватило дыхание и она побледнела так, что врач-добряк посмотрел на нее и тихо спросил: «Что здесь, все больной? Не спортсмены, а целый госпитал…» Отдуваясь, как морж, светило изрекло: «Гланды надо вирвать, понимаешь? Нэт-нэт, не через год, не через месяц! Как только температур спадет, вирвать!» Вот и попал я вместо олимпийской сборной на операционный стол. Из команды меня поспешили списать, стипендию сняли. И остались мы с Ольгой Федоровной у разбитого корыта: она в происшедшем корила себя и потому не находила места, я же решил, что с плаванием следует кончать. Тут как раз и приспели зимние студенческие каникулы, и задумал я отправиться в горы, в неведомый поселок с поэтическим именем Ясиня, где работал инструктором на туристической базе «Эдельвейс» давний приятель — гуцул Микола Локаташ. На лыжах я стоял в далеком детстве, да и то на беговых, но разве это способно удержать, когда тебе 20 и ничто и никто не держит тебя в родном городе, ведь с плаванием ты решил покончить окончательно и бесповоротно? В первых числах февраля я пересел во Львове в пригородный поезд и покатил средь белых равнин в Карпаты; народ в вагон набился такой же веселый и беспечный, как и я, мы пели, знакомились, дружно сидели за общим столом, составленным из рюкзаков, накрытых чьей-то палаткой. Кое у кого были собственные лыжи, другие надеялись разжиться инвентарем на месте, и тут я раздавал обещания, уповая на помощь Миколы, и это вскоре сделало меня чуть не вожаком компании. Единственное, что несколько охлаждало пыл ребят, так это мое упорное нежелание даже пригубить стакан белого столового, в изобилии закупленного по цене 77 копеек за пол-литра во Львове. Но свое спортивное прошлое выдавать я не стал, и потому мой безалкогольный обет вызвал поток реплик, шуток, но молодость не знает долгих обид, и вскоре меня перестали донимать. Честное слово, никогда я не чувствовал себя таким свободным и счастливым! Микола встречал меня на вокзале — поезд прибывал около десяти вечера, перрон освещался тускло, народу же вывалило сразу из всех вагонов чуть не полтысячи, и мой приятель, напуганный перспективой не найти меня, развопился на всю округу: — Олег! Олег! Кто-то, дурачась, взялся передразнивать его, и крики: «Олег! Олежек! Олеженька!» раздавались тут и там, и мои попутчики первыми догадались, что ищут меня, и заорали хором: «Я здесь!» Микола вырвался из толпы — красавец в белом полушубке и ловких сапожках на толстом ходу, белоснежный свитер домашней вязки подпирал голову, подчеркивая буйную черную шевелюру. — Олег! — заорал Микола, как сумасшедший набрасываясь на меня. От него пахло дымком костра и какой-то пронзительной, буквально физически ощутимой чистотой. Я перезнакомил приятеля с моей компанией и тут же напористо потребовал, чтоб Микола дал слово снабдить ребят лыжами. Он тяжело вздохнул, заколебался, но я напирал, и он пообещал что-либо придумать, сославшись на массовый наплыв студентов и переполненность базы сверх меры. Но мой альтруизм не признавал границ, и я бросил своим на прощание: «Завтра с утра встречаемся на базе!» Микола приехал на высоких, резных розвальнях, куда был впряжен коротконогий, но крепкий конь с гривой, украшенной темными разноцветными лентами. Под заливистый и веселый звон бубенцов мы понеслись по темной улице села. Слева, высоко в горах, светились отдельные, похожие на звезды огоньки, и я с удивлением спросил у Миколы: «Неужто там люди живут?» Он подтвердил и добавил, что тех «гуцулов» ни за какие деньги в долину не сманишь, пацаны бегают ежедневно вниз — в школу и обратно, километров пять-семь в одну сторону, вот так. Локаташ определил меня жить к своей бывшей школьной учительнице. Полная, в платке, но без верхней одежды, степенная женщина так лучезарно улыбнулась мне, что на душе стало еще светлее, а жизнь — еще прекраснее. — Я вам комнату приготовила, в ней сын завсегда живет, да теперь он во Львове, в институте физкультуры учится, — сказала Мария Федоровна (так звали хозяйку) — Покатались бы вы вместе, да только нынче на каникулы он не приедет — на соревнования на Чегет подался, — произнесла она сокрушенно. И меня тоже что-то кольнуло в сердце, и настроение как-то подупало, осело, точно волна в горной реке, миновав водопад: я вспомнил, что в это самое время товарищи по сборной тренируются в бассейне, готовясь к Токио… Комната понравилась — чистая, хорошо протопленная, кровать высокая, с периной вместо одеяла.Кажется, шел седьмой день моего пребывания в Ясинях. С помощью Миколы я довольно сносно скатывался с невысокой горки за железной дорогой под названием Костеривка, и деревянные мукачевские лыжи для прыжков с трамплина с полужестким, опять же прыжковым креплением, окантованные стальными полозьями, подчинялись мне без сопротивления. С десяти утра и до самого обеда я торчал на Костеривке, а вечером до упаду плясал рок на базе у Миколы. У него оказались две знакомые девушки из Ленинграда, и мы славно коротали вечера. Но с каждым днем на сердце все тяжелее наваливался какой-то невидимый камень: он портил вдруг настроение, заставлял просыпаться посреди ночной тишины и лежать без сна, без причины — так думали мои приятели — вдруг срываться с места и уходить бродить в одиночку по пустынным, морозным задворкам поселка. «Это на него лунный свет действует, — смеясь объяснила девушка из Ленинграда. — Лунатик!» Эта кличка приклеилась ко мне намертво. Я не сопротивлялся: Лунатик так Лунатик, тем более что мне действительно нравилось гулять в серебристом мире ночного светила, любоваться ровными белыми дымами, тянувшимися вверх, и думать… о плавании. Да, я стал думать о тренировках и о том, что было, спокойно, без паники и обид. Где-то в глубине души зрела сила, что в один прекрасный миг сбросит с сердца ненавистный камень, и я обрету раскованную, спокойную уверенность в правильности избранного в спорте пути. А когда наступит это озарение, прозрение, открытие — называйте, как хотите, возвращусь в Киев и как ни в чем не бывало приду в бассейн. Ну, и что с того, что сняли стипендию, то есть формально отлучили от плавания, — разве за деньги плаваю? Пустяки, что вывели из сборной и теперь другие готовятся выступить на Олимпиаде в Токио: ведь до стартов, считай, девять месяцев, да и сам Китайцев, вручая мне «вердикт» об отчислении, пообещал: «В сборную дверь ни для кого не закрыта…» Я не торопил будущее, терпеливо ждал, давая взмутненным волнам в моей душе отстояться до кристальной чистоты. В то утро проснулся затемно. За окном наливался небесной синью свежий, выпавший ночью снег. Дышалось легко, сердце билось неслышно, но кровь уже бурлила в жилах, в каждой клеточке. Я рывком вскочил, натянул на босу ногу сапоги и выскочил в одной майке и трусах во двор. Размялся до пота, неистово и самозабвенно. Растерся снегом — лицо, плечи, грудь, и раскаленные капельки воды прокладывали жаркие русла по телу. Позавтракав, торопливо собрался и, никому не сказав ни слова, потопал вверх на Буковинку, гору на противоположной стороне долины, давно запримеченную с Костеривки; там зеленел высокий лес, кривились под снежными шапками стожки пахучего сена и влекла, звала длинная лыжная дорога вниз. Я, разгоряченный подъемом, притопал на место, на самую вершину, к полудню, когда солнце припекало по-летнему, сбросил с плеча тяжелые лыжи и плюхнулся в снег под стожком, надежно прикрывавшим с севера, откуда нет-нет, да резанет ледяной февральский ветер-забияка. Я полулежал в снегу, и солнце обжигало лицо, и оно горело жарко, и мне довелось остужать его снегом, и ледяные ручейки забегали за ворот свитера, но мне лень было даже пошевелиться. Я думал о том, что непременно поеду в Токио и буду блуждать по его улицам, забредать в синтоистские храмы и непременно сыграю в пачинко, чтоб узнать, действительно ли это так мерзко, как писали некоторые журналисты, возвратившиеся из Японии и взахлеб излагавшие в путевых заметках, опубликованных в «Вечерке», свои негативные впечатления. Когда холод незаметно вполз сквозь невидимые щели под свитер и закоченели ноги, я без колебаний поднялся, затянул крепления, занял стартовую позу и, прежде чем кинуться вниз, глазами ощупал будущую трассу, и… сомнения вползли в душу. Мне никогда прежде не доводилось скатываться с такой высокой горы. А, была не была! Я понесся вниз и потом, когда все было позади, вспоминал, вновь и вновь переживая ощущения ужаса и счастья, когда лишь чудом удерживался на ногах на крутых изломах, как вписывался в узкие проходы в заборах из колючей проволоки, огораживавшей поля крестьян, как подбрасывало вверх на невидимых трамплинах и я летел в воздухе с остановившимся сердцем; как оторопели, а затем кинулись врассыпную туристы, тянувшиеся вверх, когда я заорал не своим голосом: «С дороги!», несясь на бедолаг, точно курьерский, сорвавший тормоза; как почувствовал — еще минута, и ноги сами собой, не повинуясь мне, подломятся от усталости, ножевой болью пронзавшей мышцы, и я покачусь, теряя лыжи, палки, самого себя… Но я устоял, и сердце налилось отвагой. Да разве есть сила, которую мне не одолеть?! Когда однажды появился я в Лужниках, меня встретили, будто пришельца с того света: ведь я не выступал нигде на крупных соревнованиях с того самого прошлогоднего тбилисского сбора. Мои «заместители» в команде, пустившие глубокие корни самоуверенности, пробовали сопротивляться лишь на первой сотне метров, а затем я ушел вперед и финишировал первым, и рекорд был самым веским аргументом, выдвинутым в оправдание своего столь долгого отсутствия. В Токио я был в прекрасной форме, и не будь мое внимание сосредоточено не на том, на ком было нужно, не прозевал бы я рывок долговязого американца, унесшего из-под самого моего носа золотую медаль… Впрочем, разве в этом дело? И вот спустя двадцать лет я снова лечу в Японию. Гаснет за иллюминатором прямо на глазах горячечный отсвет уходящего солнца, и горизонт наливается сочной, плотной чернотой, от нее невозможно оторвать глаза. Есть в этом поднебесном мире, непонятном и таинственном для человека, как далеко не летал бы он в космос, неизъяснимое, притягивающее и зовущее, непонятное и не объясненное еще никем могущество… — Поспим, ночь на дворе, — пробормотал, сладко зевнув и потянувшись, сосед справа, заглядывая через мое плечо в иллюминатор. На меня пахнуло чем-то сладким, приторным — не то лосьоном после бритья, не то духами далеко не мужского качества. Впрочем, он всегда любил все броское: костюмы и рубашки, галстуки и носки, хотя нельзя отказать ему во вкусе. Вот и опять он в новеньком, с иголочки, светло-сером костюме-тройке, в модной рубашке с серебряной иголкой, скрепляющей воротничок. Мы с ним одногодки, но выглядит он куда солиднее — круглое, как надутый воздушный шарик, лицо, редеющая шевелюра без единого седого волоска аккуратно зачесана; слова не произносит — цедит солидно, веско, каждое — точно на вес золота, так, я уверен, думает он. Есть категория людей, не нуждающихся в представлении: глаз сразу выделит такого из числа других — он может занимать пост в горисполкоме или в Госплане, быть редактором газеты или секретарем республиканского комитета профсоюза, спортивным деятелем союзного масштаба или сотрудником Госкино… Есть у всех одна объединяющая черта — некая обособленность, отъединенность от иных, не обремененных высокими заботами, кои выпали на их долю. Нет, это отнюдь не свидетельствует, что человек худ или глуп, неумен или болезненно самолюбив; среди этих людей встречается немало хороших, деятельных личностей, коих объединяет с остальными, им подобными, разве что общая внешняя форма… Об этом тоже не скажешь ничего плохого. Я его помню еще по университету, хотя и учились мы на разных факультетах: он — на юридическом, я — на журналистике. Но выступали в одной команде — он плавал на спине где-то на уровне твердого, что по тогдашним временам считалось хорошим достижением, второго разряда. Дружить не дружили, но за одним столом сиживали, отношения складывались ровные и позже, когда после окончания курса обучения ушли работать: я — в редакцию «Рабочей газеты», а он — в райком комсомола. Потом занимал пост в горспорткомитете, откуда его повысили до зампреда республиканского совета спортивногообщества, а вот уже три года он обитает в Москве, в ЦС. Кто его знает, но скорее всего сыграло роль наше многолетнее знакомство, потому что именно к нему я позвонил первому, когда случилась эта история с Виктором Добротвором, и он сразу, без каких-либо отговорок, пожалуй, даже с явной радостью согласился встретиться. Ну, а уж разговор я запомнил на всю оставшуюся жизнь, это как пить дать.
— Сколько лет, сколько зим! — воскликнул он, выходя из-за стола, улыбаясь самой дружеской улыбкой, и поспешил мне навстречу по рубиново-красной ковровой дорожке своего просторного, с четырехметровой высоты потолком кабинета. Он блестяще смотрелся на фоне стеллажа во всю стену, уставленного кубками, вазами, памятными сувенирами, испещренных надписями на разных языках народов мира — крепкий, солидный, розовощеко-свежий — ни дать ни взять только что из сауны. — Привет, Миколя, — по старой студенческой привычке обратился я, и легкая тень проскользнула по его приветливому лицу. — Без дела заходить не люблю, а по-дружески, кто его знает, как встретишь. — Скажешь такое, Олег Иванович! — Он назвал меня по имени-отчеству? С чего бы это? И почему он знает мое отчество? Такое начало заставило насторожиться. — Мы ведь одним миром мазаны, — продолжал он. — Сколько лет выступали в одной команде, разве такое забывается? — Мы, я это знал доподлинно, вместе выступали не так уж часто — на первенстве города среди вузов раз в году да однажды, кажется, на Всесоюзной студенческой спартакиаде… — Как говорится, что было… — Нет, нет, мы должны всегда и во всем помогать друг другу, как там говорят на нашей Украине, — спилкуватыся! Ну, а как же иначе? — Он все еще излучал радушие. Обошел стол, водрузил себя в кресло, привычным начальственным жестом указав на стул за длинным столом для совещаний, примыкавшем к его полированному «аэродрому» с полудюжиной телефонных аппаратов слева. Я вспомнил, как однажды мой приятель-американец был поражен таким обилием телефонов и не мог взять в толк, каким это образом можно говорить сразу в несколько трубок. Ну, то их, американские, заботы… — Как я понял по столь быстрому согласию на встречу, ты действительно помнишь старое… Спасибо. Как живешь-можешь в Москве? — Белка в колесе, — охотно пожаловался он. — Слуга всех господ, да-да. Ведь у меня студенческий спорт — от Сахалина до Риги, прибавь еще выход в мир, сам знаешь, наши соревнования с каждым годом приобретают все больший размах и авторитет. Вот, кстати, Универсиада в Кобе — представительство, считай, не слабее Олимпиады в Лос-Анджелесе. Американцы, так те просто все пороги обили — интересовались, поедем ли мы в Кобе. Вишь, как наш бойкот ихних Игр обеспокоил, забегали, паршивцы! — Что касается нашего отсутствия в Лос-Анджелесе, не лучший был выбран вариант. — Как это понимать? Нет, тут ты мне не совет — это было политическое решение. Этим мы хотели показать тем силам, что стояли за Рейганом накануне выборов, что мы никаких дел иметь с ним не желаем. — Достигли же обратного эффекта — шовинизм вырос в Штатах до неимоверных размеров, и Рейган буквально разгромил остальных претендентов на Белый дом. И «блестящая» победа американцев на Олимпиаде — тоже сослужила неплохую службу в этом. Нет, ты меня прости, но Олимпийские игры были задуманы как средство объединения народов и без того разъединенных границами, языками, политическими системами, военными блоками и т. д., а уж не как способ усиления конфронтации! — Ну, Олег Иванович, вы ведь против официальной пинии идете, — мягко, но очень-очень холодно произнес он. — Ну да не на партсобрании… Ведь ты не за тем пришел, чтоб обсуждать дела минувших дней. Кстати, ты в Кобе будешь? — Собираюсь. — Лады, увидишь нашу Универсиаду — стоящее зрелище, я тебе скажу. Слушаю тебя. Самым внимательным образом. — Николай, ты в курсе дел Добротвора. Ему нужно помочь. — Добротвору? А какое отношение мы к нему или он к нам имеет? — Виктор Добротвор вырос в обществе, работал на него — на его славу и авторитет… — Сраму до сих пор не можем обобраться! — Он явно был раздражен, но пока сдерживал себя. — Пусть скажет спасибо, что в тюрьму не угодил. — Не спеши. Я не пытаюсь оправдать его поступок никоим образом. Но ведь нужно протянуть человеку руку, чтоб он окончательно не свернул на дурную дорожку… У него сынишка во второй класс пошел, живет с ним, потому что жена ушла еще два года назад… — Видишь, жена раньше других раскусила его! А ты защищаешь… — Да не защищаю — жить-то ему нужно, а из университета, где он работал почасовиком на кафедре физкультуры, его уволили. — Правильно поступили. Таким ли типам доверять воспитание молодежи? На каком примере? На предательстве интересов страны? — Не перегибай, Николай, не нужно. Тем более в его истории есть еще неясные мотивы… — После этих моих слов он совсем озверел и едва скрывал свое настроение. — Неясные, для кого неясные? — Для меня! — Извините, Олег Иванович, а вы, собственно, какое имеете отношение к Добротвору? Кажись, юридический не кончали, и мне странно видеть вас, известного спортсмена, уважаемого публициста, в роли адвоката… преступника. П-Р-Е-С-Т-У-П-Н-И-К-А! — Вы ведь юрист, конечно же, знаете, что называть человека преступником без приговора суда нельзя? — Я попытался сбить накал страстей — не затем, вовсе не затем явился в этот кабинет. — Для меня, для всех честных советских людей он — преступник, и иной оценки быть не может, и закончим эту бесплодную дискуссию. — Согласен, закончим. Но я прошу помочь Добротвору с работой. Ему нужно жить, кормить и одевать, воспитывать, в конце концов, сына. А никто не хочет палец о палец ударить, чтоб дать человеку подняться. Ну, оступился, не убивать же его! — Общество, наше спортивное общество, никакого отношения к Добротвору не имеет. Мы не знаем такого спортсмена. — Голосу его мог позавидовать прокурор. — Вон за твоей спиной кубок, да-да, тот, с серебряной розой на овале! Он завоеван Виктором Добротвором на первенстве Европы. И прославлял он не одного себя — весь наш спорт. Почему же так легко сбрасываем человека со счетов, вычеркиваем из жизни? Разве не такие, как Виктор Добротвор, своими успехами, своим трудом — тяжким, нередко опасным для здоровья — не работали на нас всех, на тебя, Миколя? В конце-концов, он твою зарплату тоже отрабатывал. Не по-нашему, не по-советски поступаете: вышел спортсмен в тираж — и скатертью дорога. А как мы молодежь будем звать в спорт, чем привлекать? Выжали и выбросили? — Я еще раз повторяю, Олег Иванович, не по адресу обратились… — Его не пробьешь, как это я не догадался сразу, едва вступив в кабинет и увидев то неуловимое, что выдает, выделяет среди других людей начальников, уверовавших, что кресло обеспечивает им беспрекословное право распоряжаться судьбами людей… — Жаль. Жаль потраченного времени. — Я вышел не попрощавшись. И вот теперь мы летим в одном самолете, сидим рядом, и он ни словом, ни взглядом не напомнил о том полугодовой давности разговоре. А я его не мог забыть — и все тут. Как не мог забыть ничего, малейшей детали добротворовской истории, в которую был втянут волей случая, а теперь уже не мог представить себе отступления, в какой бы благоприятной форме оно не состоялось…
2
Тогда, поздним декабрьским вечером 1984 года, я позвонил Виктору Добротвору буквально через пять минут после того, как переступил порог дома. Никто долго не брал трубку, и я уже подумал, что Виктор ушел, когда раздался знакомый низкий, чуть хрипловатый баритон. Но как он изменился! Мне почудилось, что я разговариваю со смертельно больным человеком, подводящим итог жизни. У меня спазм сдавил горло, и я не сразу смог ответить на вопрос Добротвора: — Что нужно? — Здравствуй, Витя, это Олег Романько. Я только что из Монреаля, хотел бы с тобой встретиться. — Зачем? — Нужно поговорить с тобой. — У меня нет свободного времени. — Виктор, да ведь это я, Олег! — Слышу, не глухой. — Я еще раз повторяю: мне крайне нужно с тобой встретиться. Кое о чем спросить. — Возьмите газету, там есть ответы на все ваши вопросы, — прохрипел Добротвор и повесил трубку. — С кем это ты? — спросила Наташка, увидев мое вконец обескураженное лицо. — Что с тобой, Олег? — Я разговаривал с Виктором Добротвором. — Это с бывшим боксером? Я сохранила для тебя газету, ты прочти, меня статья просто убила. Как мог такой великий спортсмен так низко пасть! — Не нужно, Натали, не спеши… Ему и без твоих слов, без твоих обвинений плохо… А я не уверен, что дело было так, как сложилось нынче… — Я ничего не понимаю. Ты прочтешь статью, и мы тогда поговорим, — сказала Наташа мягко, и в голосе ее я уловил тревогу, и это было хорошо, потому что очень плохо, когда чужая беда не задевает нас. — Я — на кухню ужин готовить, о’кей? — О’кей! — сказал я и рассмеялся, потому что теперь наконец-то почувствовал себя дома, это словечко было у нас с Наткой как добрая присказка, объединявшая наши настроения. — Где газета, подруга дней моих суровых? — У тебя на столе, в кабинете. Так я пошла? — Вперед, за работу, товарищ! Я обнаружил статью сразу, едва заглянул на четвертую страницу. Заголовок на полполосы вещал: «Взлет и падение Виктора Добротвора». Чем дальше читал, тем сильнее поднималась волна раздражения и возмущения на автора, впрочем, не на него самого, — на его кавалерийский темп, на его разящую саблю — до чего безответственно и лихо он ею размахивал. И каждое слово причиняло мне боль, ведь я это знал по себе — одинаковые слова могут быть по-разному окрашены, и палитра у журналиста никак не беднее, чем у живописца. А когда один-единственный черный-черный цвет, это угнетает, рождает чувство протеста — в самой темной ночи есть просветы, нужно только уметь видеть. Правда, спорт для него всегда был тайной за семью печатями. Бывший саксофонист, он в свое время написал письмо в редакцию о неблагополучных делах с физкультурой среди музыкантов; письмо опубликовали в газете. Видно, это дало автору такой мощный эмоциональный заряд, что вскоре он забросил свою трубу, а заодно и распрощался с джаз-бандой, и вскоре фамилия А. Пекарь замелькала на страницах газеты, впервые приютившей его. Он писал бойко, смело берясь за самые сложные темы, но от его писаний за версту несло холодом стороннего наблюдателя, если не сказать — бесстрастного судьи. Увы, в спортивной журналистике такие почему-то встречаются нередко… «Один ли он виноват в этом, — подумал я. — Не учили ли нас, не воспитывали на конкретных примерах, что врага (а кого мы только не записывали в этот разряд!) нужно разоблачать, здесь любые средства — благо, благо для других, кто должен учиться на таких вот фактах ненавидеть ложь, двоедушие, измену, своекорыстие, отход от выверенных оценок и наперед определенных дорог! Мы и по сей день считаем, что с отступниками любого ранга, а Виктор Добротвор был именно отступником, нужно рассчитываться жестоко, чтоб другим неповадно было…» Я вспомнил последний в жизни Добротвора бой, и монреальский ринг выпукло предстал перед глазами; и Виктор — само благородство, сама утонченность и мужество одновременно, легко пляшущий перед соперником, наносящий ему точные, но не убийственные удары, хоть одного-единственного хука было бы достаточно, чтоб уложить обессиленного, измочаленного схваткой Гонзалеса на пол. Даже местная публика, воспитанная на жестокости профессионального ринга, не раз взрывавшаяся негодованием, топотом и свистом толкавшая боксера на последний, убийственный удар, так и не дождавшись кровавой драмы, в конце концов оценила благородство Виктора Добротвора и стоя приветствовала победителя. Автор же, рисуя характер Добротвора, не мудрствуя лукаво, писал:«Этому человеку рукоплескали тысячи и тысячи зрителей у нас в стране и за рубежом, славя в его лице благородство и чистоту советского спорта, видя в нем пример нового человека, воспитанного партией, всем укладом нашей жизни. А в душе у чемпиона уже зрели плевелы плесени, что день за днем поражала сердце, мозг; ему всего было мало — квартиры в центре города, полученной вне очереди, легкового автомобиля, тоже предоставленного по первому требованию, денег, и немалых денег, коими оплачивались его золотые медали; наше общество не скупилось на высокие оценки его труда. Но перерождение наступило…»Приводились и высказывания людей, близко соприкасавшихся с Добротвором. Старший тренер сборной Никита Викторович Мазай, пожалуй, был единственным, кто остался сдержан и даже взял часть вины на себя:
«Мы видели в нем лишь великого боксера, но, наверное, где-то, когда-то проглядели человека, в этом и наша, тренеров, вина. Что и говорить, в последние годы все мы больше уповаем на результат спортсмена и меньше стремимся «лепить» его душу. Хотя, если откровенно, для меня поступок Добротвора («Он не сказал: преступление», — отметил я про себя) — полнейшая неожиданность. Наверное, это тем более суровый урок для тренеров: нужно всегда быть начеку, уметь вовремя заметить дурное и удержать человека от падения…»Зато Семен Храпченко, ездивший с Виктором в Канаду, был предельно критичен:
«Не могу простить себе, что жил с этим человеком в одной комнате на сборах, радовался, когда удавалось вместе поселиться и за границей. Он был моим идеалом, и такое разочарование. Таких, как Добротвор, на пушечный выстрел нельзя подпускать к нашему спорту. Может, и слишком резко звучит, но для меня он — предатель!»Семена я тоже знал, правда, не так хорошо, как Виктора, но много лет наблюдал за его спортивной карьерой. Многие считали его осторожным боксером-тактиком, а мне он почему-то виделся просто трусливым, это особенно явственно проявлялось, едва он убеждался, что легкой победы не будет. А в Канаде? Более позорного зрелища я не видел: Храпченко просто бегал от соперника, не давая тому приблизиться на удар… Впрочем, это все не имело никакого значения. Вечером, когда мы с Наташкой вконец устали друг от друга, от утоленного чувства переполнявшего нас счастья, настроение у меня вдруг беспричинно испортилось. Я не сразу раскусил, в чем тут дело, но разгадка лежала на поверхности: у меня из головы не шла та статья. Я представил, что чувствовал Виктор Добротвор, вчитываясь в черные строки… На следующее утро я позвонил Савченко из своего редакционного кабинета. — Прилетел? Ну, заходи. Когда буду? Целый день, только с пятнадцати тридцати до восемнадцати — коллегия. После шести буду — доклад нужно готовить, в Днепропетровск еду, — проинформировал меня Павел. Феодосьевич. Ледяной воздух гулял по кабинету Савченко — окно, как обычно, распахнуто чуть не настежь, несмотря на морозец, потрескивавший легким снежком под ногами. Я первым делом решительно захлопнул раму. — Вот эти мне неженки! — добродушно пробурчал Савченко. — А еще спортсмен! — Бывший, это раз. Во-вторых, еще со времен спорта боюсь сквозняков. — Закаляться надо. Как долетел? — Прекрасно. — А мы сели вместо Москвы в Киеве, два часа торчали, а потом Москва открылась и мы приземлились во Внуково. — В Шереметьево… — Нет, Шереметьево было по-прежнему закрыто, во Внуково. Ну что, оценили наше выступление на пять баллов, высший класс. Я полагаю, ребята заслужили такую оценку, сумели собраться, постоять за себя, как и нужно советским спортсменам. — Я давно обнаружил за Павлом эту привычку: разговаривать даже с близкими ему людьми, словно выступая перед большой аудиторией. Сначала недоумевал, потом понял: должность накладывает отпечаток даже на такого неординарного человека, как Савченко. — Оценка, бесспорно, заслуженная. Три из четырех золотых выиграть — такое нам давно не удавалось. Паша… — Я сделал паузу. — Расскажи, что решили с Виктором Добротвором. Он помрачнел. — Сняли звание заслуженного, пожизненная дисквалификация со всеми вытекающими… — Разобрались? В чем причины, как он на это решился? — Что там разбираться! Сделал — получи. — Голос Савченко был жесток и обжигал, как декабрьский мороз. — Что же теперь ему делать? — Что и все люди делают. Работать. — А возьмут? — Тренером? — Савченко замялся. — Пока не хотят… — Ты мне обещал, что разберешься в этой истории… — Уже разобрались… — Паша, ты ведь знаешь, что он не преступник, не было за ним никогда ничего подобного! Даже малейшего отступления — никогда! Ты же помнишь, а если забыл об этом, позвони — пусть зайдет гостренер по боксу, начальник управления международных связей, спроси их, были ли какие сигналы, нарекания на его поведение дома или за границей. Это же нужно учитывать, нельзя смахивать человека, как проигранную пешку с шахматной доски! — Я чуть не кричал. — Успокойся. — Странно, но мой тон, мое возбуждение подействовало на Савченко, как вода на огонь. Голос его зазвучал привычно. — Раз обещал — значит, постараюсь помочь Добротвору. Пусть работает, реабилитирует себя, опыта ему не занимать. Забегая вперед, скажу, что ни Савченко, ни мне, ни еще кое-кому, кто продолжал интересоваться судьбой Виктора Добротвора, так и не удалось помочь: туда, куда его скрепя сердце брали по нашим настойчивым просьбам и уламываниям, он не шел, там, куда пошел бы, не хотели и слышать о нем. В конце концов Виктор Добротвор заделался грузчиком в мебельном магазине на Русановке. Пьяным его не видели, хотя до меня и долетали слухи, что он пьет… Да все это было еще впереди. Прежде же мне удалось встретиться с ним.
3
Несколько дней подряд настойчиво, с раннего утра, перед тем как убежать на пятикилометровый кросс по склонам Владимирской горки, мимо Андреевской церкви, величаво плывшей в вымороженном синем небе, вниз к Подолу и обратно, я набирал номер телефона Виктора; потом в течение дня и до одиннадцати — позже совесть не позволяла — названивал, но безрезультатно. Отвечал обычно тонкий детский голосок: «Папы нет, он на работе. Звоните, пожалуйста, еще». Однажды, это было уже после Нового года, я услышал в трубке хриплый добротворовский голос: — Слушаю… — Виктор, это Романько. Мне нужно с тобой переговорить. Хватит играть в молчанку. — Приходите. — Когда? — Да хоть немедля… — Я выезжаю. — Давайте. Виктор Добротвор жил в одном из новых домов, что построили на Печерске на месте старинного ипподрома, в свое время едва ль не самого известного во всем Киеве. От тех времен уберегли лишь красивое, в стиле украинского барокко, длинное здание, своими утонченными формами, портиками и колоннами резко контрастировавшее с современными бетонными коробками. В просторном вестибюле — вполне можно было соорудить небольшой спортзал — чисто, ни битых тебе стекол, ни ободранных стен. Лифт подкатил неслышно, внутри кабины уютно, половичок под ногами, зеркало на стенке, приятный аромат не то део, не то хорошего табака. Появился Виктор в этом доме не сразу, до него ни один спортсмен не жил здесь прежде. Но высокий авторитет Добротвора в конце концов сыграл-таки роль, и он получил трехкомнатную квартиру на десятом этаже, окнами прямо на золотые купола Лавры. Когда я позвонил, дверь долго не открывали. Я даже обеспокоился, а не сыграл ли Виктор со мной шутку: пригласил, а сам удрал. Но тут щелкнул замок. — Входите. — Привет, Витя… — Здравствуйте, Олег Иванович! В продолговатой прихожей, отделанной деревом, обожженным паяльной лампой, а потом покрытым лаком, было пусто, точно хозяева устроили генеральную уборку или собрались переезжать; не было даже элементарной вешалки — Виктор взял из моих рук дубленку и повесил на один из трех больших, сантиметров по пятнадцать, гвоздей, вбитых в доски. Под высоким потолком, тоже отделанным «вагонкой», ярко светила лампочка без абажура ватт на сто пятьдесят, заливая коридор белым светом. В ее лучах Виктор показался мне бледным, с нездоровым цветом лица, темные заливы под настороженными, усталыми глазами, словом, будто человек перенес тяжелую болезнь. — Проходите, — пригласил Виктор и рукой показал на открытую дверь в комнату. — Кофе? — Лучше чай, на дворе морозец что надо. — Можно чай. Никогда мне не приходилось видеть такую неприглядную обстановку. Огромная, с двумя широкими окнами (одно выходило на лоджию) комната была пуста — хоть шаром покати, если не считать убогого стула с плоским дерматиновым сидением и двух коек-раскладушек, аккуратно прикрытых зелеными тонкими, но новыми одеялами. На подоконниках горой лежали книги, учебники, сиротливо жались к стеклам кубки. На полу, блистающем новеньким лаком, — ни дорожки, ни ковра. Опять же лампа под потолком — без абажура. Виктор появился с двумя гранеными стаканами без подстаканников с густым черным чаем. Под мышкой он зажимал начатую пачку прессованного рафинада. — Извините. Можно поставить на подоконник или вот — на стул, — без тени смущения сказал Виктор. — Садитесь прямо на кровать. Не удивляйтесь, это работа Марины. — Марины? Да ведь, кажется, ты давно развелся? — Верно. Она отправилась к матушке с батюшкой, у них, слава богу, на троих пять комнат. Видно, обстановки не хватило, вот она и забрала, — горько пошутил Добротвор. — Ничего не понимаю. Ведь она оставила тебе сына. — А тут и понимать нечего. Как вся эта история приключилась, Марина и заявилась, в наше отсутствие, правда, и все подчистую увезла, посуды — и той не оставила. Мы с Зорькой уже приспособились, ничего. Сына Виктора назвали редким именем Зорик, Зарий Викторович; это была затея Марины, пронзительно красивой брюнетки со злыми, недобрыми глазами. Когда она смотрела на тебя, ты чувствовал себя неуютно под этим пронизывающим взглядом. Но для Виктора не существовало женщины прекрасней… — Да как же она?.. — Это пустяки, правда, и с деньгами она посадила нас с Зорькой на мель — до последнего рубля сняла с книжки. Но ничего, вот-вот продам «Волгу», покупатель уже сыскался, не пропадем. Я позвонил ей сначала, подумал, честное слово, ограбили, говорю так и так, Марина. Она просто сказала: это я забрала, ты теперь пить станешь, а ценности все — Зорика. С чего она решила, что пить начну? Я вообще, кроме кофе да чая, никаких крепких напитков не употреблял, а тут — пить! Странная она… Мне стало до того обидно за Виктора Добротвора, что забыл, зачем и явился. Но Виктор напомнил. — Вы о чем-то хотели спросить, Олег… — Скажи, Витя, только как на духу: кто, а может, что толкнуло тебя на этот безрассудный шаг? Я обрадовался, когда он назвал меня по имени, решив, что Виктор снова, как в прежние времена, расположен ко мне и разговор получится откровенный. Но ошибся. — Олег Иванович, в тридцать человек сам выбирает поступки. Правда, говорят, что еще блаженный Августин, коего чтят как первого христианского философа, утверждал: человек творит дела свои помимо воли своей, и вообще уверял, что в основе нашей жизни лежит грех. — Бог с ним, с Августином. Я тебя хотел услышать. — Я не молчу, говорю. Но ничего нового к уже известному добавить не могу. — Ни тогда, ни теперь не верю, чтоб Виктор Добротвор мог сотворить такое с холодной головой, заранее рассчитав прибыли и степень риска! — неумолимо возразил я. — И на том спасибо. — Твое молчание и нежелание помочь разобраться в этой истории друзьям, тем, кто хотел бы помочь тебе, не идет на пользу ни тебе, ни твоему сыну… — Сына вы не трожьте! — Голос Добротвора дрогнул, но не задрожал, а зазвенел, как сталь, — Не трожьте! С остальным — сам разберусь… Уж поверьте мне… — Что ты заладил: сам, ничего не нужно! — взорвался я и тут же пожалел об этом. — Олег Иванович, посидели мы с вами, чайком побаловались — и до свиданья. Мне более признаваться не в чем. Подонок и предатель Добротвор, чего тут голову сушить! Мне осталось только подняться, сказать как можно мягче, без обиды, хотя она так и клокотала в груди: — Будь здоров, Витя. Если что нужно, не стесняйся, я всегда готов помочь. — Нет, не нужно. Спасибо, но не нужно. В дверях я обернулся: Виктор застыл в проеме, чуть не подпирая головой перекладину, — в синем тренировочном костюме с буквами «СССР» над сердцем, крепкий, статный, гордый, но не сломленный и не раздавленный случившимся. И это гордое спокойствие, сквозившее в его взгляде, уверенность, с которой он держался, снова обеспокоили, разбередили душу. Да полноте, человек, свершивший столь страшный поступок, не способен так открыто смотреть людям в глаза! Нет, не может! Больше мы с Виктором не встретились…Я летел в Кобе, на Универсиаду, но мысли были не о будущих соревнованиях, не о предстоящей встрече со страной, к которой испытывал смешанное чувство любви и разочарования: любви, потому что она поразила меня своими доброжелательными и приветливыми людьми, аккуратностью и порядком, крошечными садиками с камнями, рощами и водопадами, удивительно естественно уживавшимися на нескольких квадратных метрах площади, домиками без внутренних стен, олимпийскими сооружениями и даже обгоревшей, черной вершиной Фудзи, почитаемой верхом совершенства и красоты; разочарования, потому что все здесь выглядело в моих глазах немым укором нам, что мы так расточительно самонадеянны и самоуверенны, и розовые очки буквально приросли к нашим глазам, мешая трезво рассмотреть окружающий, пусть и не наш мир, где тоже немало творений рук человеческих, заслуживающих понимания, уважения и, возможно, наследования их опыта для нашей же пользы… Мысли крутились вокруг двух писем-докладов, полученных от Джона Микитюка, привез их в Киев Власенко, прилетевший из Канады навестить мать. Он завалился ко мне в редакцию где-то около двенадцати, а уж дышал свежим коньячным духом, настроение у Анатолия было безоблачным и любвеобильным. Он долго и радостно тискал меня, а мне было немного жаль его, потому что на моей памяти было немало ребят, начинавших с праздников, а потом терявших над собой контроль и в будни. Многие из них уже на Байковом… Мне стало как-то неловко, даже стыдно (отчего мы стыдимся себя, когда честны?), что встречаю друга, пусть в душе, но осуждая его, как бы подчеркивая этим собственную чистоту и благоразумие. Да ведь я если что и ненавидел в жизни, так это благоразумие, розовое и холодное, как февральское солнце! Ведь именно оно чаще всего и оборачивается предательством самого себя и других! — Кончай трудиться, старина! От работы кони дохнут, помнишь нашу присказку? — вскричал Власенко, решительно сгребая на моем столе в одну кучу гранки завтрашней четвертой полосы, подготовленные к вычитке, авторские письма, статьи, принесенные моими сотрудниками, свежие газеты, журналы, папки с вырезками и документами. — Не могу сейчас, номер нужно сдать! — взмолился я. — Не можешь? Так я сейчас пойду к редактору и скажу: отпустите, пожалуйста, Олега Ивановича Романько со мной, консулом СССР в Канаде, прибывшим на отдых и отмечающим нынче свой день рождения. Спорю, отпустит! — День рождения? Не врешь? — Гляди! — Власенко вынул из внутреннего кармана светло-голубого, ладно сидящего на нем костюме дипломатический паспорт и сунул мне в руку. — Без балды — 12 июля. Сорок лет — как один день! — Поздравляю, Толя… — растерянно поздравил я. — Посиди минутку, я схожу к шефу… — Может, и мне с тобой? — Посиди, отвечай на телефонные звонки, что сейчас буду… У входа в комбинат «Радянська Україна» на солнце раскалилось такси. Мы сели сзади. — Погоняй, шеф, в «Курени», — распорядился Власенко. Я редко захаживал в этот ресторан на днепровских склонах. Как и в других киевских ресторанах, кормили здесь плохо, может быть, даже хуже, чем на Крещатике. Возможно, это объяснялось изобилием свежего днепровского воздуха, что сам по себе, по мысли местного руководства, был способен сдобрить любую, самую невкусную еду. — А, старина, не обжираться ведь пришли — поговорить! — отмахнулся Власенко от моего замечания. — Звонил Люси — жаль, со студентами на практике. А то было бы здорово, как в прежние добрые времена, — вместе. Ну, ладно, ты рядом, скучать не станем. Как я и ожидал, выбор яств явно не соответствовал названию «ресторан», зато с выпивкой никаких проблем. Власенко сам выбрал закуски, горячее, он же, не спросив моего желания, заказал бутылку «Ахтамара», пожалуй, самого лучшего армянского коньяка, и мускатное шампанское. — Коньяк, воду — сразу, — предупредил он официантку, подобострастно закивавшую головой. Достал запечатанную пачку «Данхилла», ногтем ловко поддел красный кончик отрывной ленточки и вскрыл пачку. Щелчком выбил сигарету, бросил ее в рот и пыхнул зажигалкой. Затянувшись пару раз, сказал задумчиво: — Почему мы идем от лучшего к худшему? Когда плавал, на курцов смотрел почти с презрением: как это люди не могут совладать с пагубной привычкой? Сейчас просыпаюсь — первым делом тянусь за сигаретой, не дай бог, если вдруг не обнаружу — паника, точно тебя лишили кислорода и ты сейчас задохнешься… А ты проскочил мимо этой привычки? — Милю. Особых усилий не предпринимал, чтоб избежать сигарет, просто не тянуло. — Счастливчик. Я по меньшей мере раз двадцать бросал, даже курс патентованных уколов принял. Куда там — еще сильнее захотелось! Особенно — когда жена в Москву уехала и один закуковал в четырех стенах… — Что у тебя с ней? — Кто в этом разберется? Кажется, что нужно: квартира в столице, квартира в Монреале, все, что требуется для жизни, есть, а самой жизни — нет. — Плывешь по течению? Ты-то никогда слюнтяем не был, Влас, я ведь тебя знаю, ты мог собраться и выиграть у рекордсмена, к результатам которого не подходил и близко. Что с тобой? — У-у… — протянул Анатолий с болью и тоской. Мне стало стыдно, что рубанул с плеча. Не стоило. — Прав, прав ты, старина. Плыть не плыву, но чует мое сердце, что добром это не кончится. Хорошо еще, что работой и сам, и начальники мои довольны. А что мне еще остается? «Работа не волк, в лес не убежит», — любил говаривать Анатолий Агафьевич Драпей и шкандыбал на своей раненой ноге на старт, чтоб установить новый мировой рекорд. Помнишь? — Разве такое забывается… — Могучий был пловец. А жизнь подставила ему ножку на ровной дорожке… Вот иной раз и о себе думаю: не подставит ли и мне она? — А ты не дайся, не дайся… Официантка, круглолицее и розовощекое создание лет 30, само очарование и любезность, не поставила — мягко посадила бутылку с коньяком, открыла оболонскую, тщательно протерла и без того отливающие голубизной хрустальные бокалы и рюмочки и прощебетала что-то насчет приятного аппетита и счастливого пребывания. Как это они так тонко чувствуют клиента? Власенко разлил коньяк, загасил сигарету, жадно выпил бокал ледяной воды и поднял рюмку. — Молчи, знаю, тосты должны говорить другие, а имениннику положено смиренно слушать, — опередил он меня. — Я сам ведаю, чем хорош и сколько во мне дерьма. Да не о том речь! Давай выпьем за нашу спортивную юность — самые прекрасные годы жизни! Мы тяжко, до кровавых мозолей на сердце вкалывали, но гордились волей и умением управлять своими слабостями и мышцами. Так дай бог, чтоб мы могли сохранить эти качества как можно дольше! Потом разговор перебрасывался, как водится, с одного на другое, сегодняшний день соседствовал с почти забытыми днями, люди, давно растворившиеся в прошлом, снова были с нами: мы вспоминали их слова, жесты, привычки, и в них, как в зеркале, отражались наши слова, жесты, привычки, и эта неразрывность прошлого и настоящего волновала нас, заставляла сильнее биться сердца. Когда мы наконец угомонились, а головы наши утомились переваривать царское пиршество воспоминаний, Власенко воскликнул: — Во, чудак, два уха! Начисто забыл, тебе послания есть от твоего Джона, как там его? — Микитюка? — Точно. От боксера. Он теперь чемпион мира, правда, среди «профи», а это — не наши люди. Власенко из того же внутреннего кармана пиджака, откуда доставал паспорт, извлек два одинаковых конверта и протянул мне. — Ничего нового нет. Так, пустяки. Ты никак не позабудешь ту историю? — Помню. — А что Добротвор? — Грузчиком работает. — А меня и в грузчики не возьмут в случае чего… Хлипок… Я раскрыл конверт — он был не запечатан.
«Уважаемый сэр! Прежде всего хочу сообщить Вам, что мне удалось победить не только Бенни Говарда, Чета Льюиса и Норманна Гида, которые, хотя никогда и не были чемпионами мира, но опытом и мастерством известны среди боксеров, посвятивших себя этой профессии. В финале я выиграл в тринадцатом раунде — нокаутом! У прежнего чемпиона ВФБ Боба Тейлора. Правда, признаюсь, досталось это мне нелегко, чему свидетельство четыре нокдауна в первых трех раундах. Погонял он меня по рингу, поколотил изрядно — врагу своему не пожелаешь. Да, по всему видно, посчитал дело сделанным, а я больше чем на роль мешка с тырсой для битья не гожусь. Мне это очень не понравилось, и я дал себе слово, что буду драться отчаянно — разве что мертвым с ринга унесут. Тем более что мой менеджер посоветовал — в моих же интересах — не падать раньше двенадцатого раунда, потому что это может кое-кому не понравиться. Кому — вы догадываетесь. Мне по секрету сообщили, что ставки на меня делались именно до двенадцатого раунда. Но не это волновало — меня вывел из себя сам Боб и никто другой, клянусь вам пресвятой божьей матерью. После моего удара снизу слева в тринадцатом раунде он даже не пошевелился на полу. Его так неподвижного и унесли, беднягу. Словом, я сейчас в фаворе. Наше общее дело застыло на мертвой точке. Больше того — боюсь, что до истины нам не докопаться, потому что парень освободился из тюрьмы и как сквозь землю провалился. Даже на похороны матери не объявился. Боюсь, не убрали его? Я догадываюсь, мистер Олег, что разочаровал Вас… Извините.Ваш Д. М.
18 апреля 1985 г.».Анатолий задумчиво смотрел на Днепр, туда, где когда-то мерно покачивался голубой дебаркадер «Водника» и мы, пацаны с Подола, переплыв на открытом, широкобортном катере-лапте, спешили плюхнуться в воду, чтоб плавать и плавать из конца в конец бассейна, чтобы побеждать и устанавливать рекорды. Давно списали эти бассейны, исчезли тренеры с пляжей, высматривавшие будущие таланты, как исчезли и белые паруса с днепровских просторов, — вместо всего этого праздно валяющиеся на песке тела, ленивый плеск в воде, и никакого спорта, лишь скука, царящая на Трухановом острове… Я взялся за второй конверт.
«Мистер Олег, спешу сообщить Вам новости. Я обнаружил следы исчезнувшего Тэда Макинроя. Правда, возможно, «след» — слишком громко сказано, потому что добраться до него я не смогу в этом году, так как в Японию меня еще не приглашали. Так вот, Тэд теперь никакой не Тэд, а Властимил Горт, под этим именем обретается он в частной школе бокса где-то в Кобе, адрес мне не известен. Вот что важно: он чем-то оказался неугоден тем, кто завербовал его для того дела, и ему довелось скрыться. Это мне под страшным секретом сообщила его девушка, Мэри. Но если это станет известно боссам, добра не жди. Вот что еще, сэр! Тэд как-то проболтался своей девушке, что очень сожалеет о том, что так предательски «продал» (это его слова) русского парня, хотя не хотел этого делать, потому что и сейчас уважает его безмерно. «Даже еще больше после того, как он повел себя в этой истории, выгораживая подонка», — это тоже слова Тэда, но мне их смысл совершенно непонятен. Кого он имел в виду? Себя? Вот та малость, что попала мне в руки. Извините. Мне хотелось бы узнать, что с Виктором. Если это возможно, передайте через Вашего друга здесь, в Монреале. Спасибо.Джон.
6 июля 1985 г.».— Ничего особенного, правда? — поинтересовался Власенко. — Если не считать, что я лечу двадцать второго августа в Кобе… — Шутишь? — Правда. На Универсиаду. — Это серьезно? — Власенко озабоченно посмотрел на меня — он был абсолютно трезв. Поразительно! — Не гляди на меня так. Это, — он небрежно махнул на почти пустую бутылку, — не объем. Слушай меня. Ты по свету покатался, а я пожил в заграницах поболее твоего. Не разыскивай того парня — вот мой совет! Он тебе вряд ли что расскажет. Да если и откроется, как на исповеди, кому ты ее представишь? В Спорткомитет? Тебя на смех поднимут и будут правы. Суд в Монреале и приговор Виктору Добротвору документально засвидетельствованы. Даже если Тэд, или Властимил, — придумал же себе чешское имя! — скажет, что Виктор тут ни при чем, это все равно будет гласом вопиющего в пустыне. Пойми! — Логика твоя не железная — стальная. Но я навсегда потерял бы уважение к себе, если б не попытался добраться до истины. Что потом сделаю с этой информацией, если она окажется вдруг хоть чуть-чуть реабилитирующей Добротвора, пока не догадываюсь. Но она не пропадет, поверь мне. Разве правда может пропасть бесследно? Затеряться… на время, да. Но не исчезнуть окончательно! — Тебя не переубедить. Тогда еще совет: будь предельно осторожен. Если парень вынужден дать драла из родных пенатов, были, видать, на то серьезные основания. — Все будет о’кей, Толя! — У меня было так светло, так празднично на душе, словно дело Виктора Добротвора благополучно устроилось и имя его вновь так же чисто, каким было еще недавно. Хотя чему радоваться, если разобраться трезво? Ну, удрал тот подонок в Японию, сменив имя. Ну, скажет мне, что во всем повинен он один, а Виктор — только жертва… Что изменится? — Вот-вот, и я говорю, — точно читая мои мысли, произнес Власенко. — Что изменится? Я промолчал. Пустые красивые слова не любил произносить никогда, даже на собраниях. Мы долго не могли расстаться с Анатолием. Перешли через мост на остров, повел я его взглянуть на жалкие остатки водниковского дебаркадера в Матвеевском заливе — жуткое зрелище. Потом, поймав такси на Петровской аллее, подъехали к стадиону и постояли на неровном, торопливо уложенном асфальте там, где когда-то радовал спортсменов тесный, но такой уютный, «домашний» 25-метровый бассейн, где мы плавали в юности. Взошли и на Владимирскую горку и в сгущающейся синеве смотрели туда, за Днепр, где некогда блистали озера и тянулись до горизонта луга, а теперь зажигались огнями Русановка, Березняки, а еще дальше — Троещина… — Нет, верно говорят, — сказал Власенко, — никогда не возвращайтесь в свое детство. Ничего, кроме разочарований… Святой Владимир безучастно глядел туда, где утонула в невозвратном наша молодость.
4
Я с трудом обнаружил отель «Мизуками», где мне зарезервировали номер. Поднявшись наверх со станции метро, я разочарованно огляделся: одно-, двухэтажные домишки — невыразительные, пожалуй, даже убогие, и если б не разнообразные, с выдумкой украшенные витрины, улица выглядела бы серой, однотонной и безнадежно скучной. Ни деревца, тротуар так узок, что два человека с трудом расходятся. Зато машины спрессованы, оставляя лишь узкую полоску для проезда, и незатейливый трамвайчик — такие у нас ходили до войны — катит осторожно, как бы на ощупь, чтоб ненароком не задеть бампер какой-нибудь «тоёты» или «холдена». Из открывшейся двери, чуть не сбив меня с ног, выскочил парнишка в белом накрахмаленном сюртучке, в белых полотняных штанах и резиновых гета на босу ногу, с круглым подносом на руках, где на белоснежной салфетке возвышались два бокала кока-колы со льдом и две крошечные чашечки с кофе. — Эй, парень! — крикнул я ему вслед, не слишком надеясь, что он остановится, но парнишка тут же стал как вкопанный и повернул голову в мою сторону. В черных глазах не сыскать ни удивления, ни растерянности — спокойствие и вежливое ожидание. — Может, вы скажете, где находится отель «Мизуками?» — Здравствуйте, мистер, вы стоите как раз у гостиницы, и сейчас я открою вам дверь! Он возвратился на два шага назад, решительно дернул на себя стеклянную дверь, по ошибке принятую мной за продолжение витрины, где на стеллажах живописно расположились натуральные японские блюда, банки с пивом, кока-колой и бутылка виски «Саппоро», что и ввело меня в заблуждение. Однако витрина была отгорожена от входа, на что и указал официант. В тесном вестибюле за узкой, как одиночный окоп, стойкой находилась молодая черноволосая женщина, мило улыбаясь и всем своим видом показывая, как она рада видеть меня. — Добрый день, мисс! Меня ждет номер в вашем отеле. Мое имя — Романько, — сказал я, опуская на искусственный алый ковер, покрывавший пол, спортивную сумку и чемодан, где камнями лежали пишущая машинка и досье, портативный диктофон, кассеты, запасные батареи и еще кое-что, что я больше всего боялся разбить, и потому потянул чемодан, к вящему неудовольствию стюардесс, в салон самолета, чтоб лично устроить в багажном отсеке. — Здравствуйте, мистер Романько! — Женщина за стойкой сделала глубокий поклон, сложив вместе ладошки на груди. — Вы будете жить на пятом этаже, 413-й номер (фу, черт, подумал я, что это меня преследует цифра «тринадцать»?), телевизор, кондишн, ванная. Холодильника у нас нет. Вам выписать счет на все время или вы хотите по дням? — Спасибо. Я оплачу до четвертого сентября. — Благодарю вас. У вас чек, «амэрикен экспресс»? — Нет, наличные, доллары. — О, благодарю вас. Процедура заполнения регистрационной карточки, где содержалось четыре вопроса — фамилия, год рождения, место рождения и национальность, заняла минуту. Еще минута ушла на то, чтобы компьютер выдал счет, а я отсчитал доллары. И вот я уже поднимаюсь на пятый этаж в тесном, но вполне современном скоростном лифте, сразу нахожу свой номер — как раз наискосок от выхода из лифта, открываю дверь. Да, в таких апартаментах мне жить не доводилось: пять-шесть квадратных метров, где, прижимаясь друг к другу, уместились узкая кровать с тумбочкой, узенький письменный стол с телефоном, средних размеров «Сони» на специальном кронштейне на стене на уровне груди — телеприемник можно было поворачивать в любую сторону. Кондишн чуть ощутимо подавал воздух,правда, не слишком-то отличный от уличного. Возле широкого — почти во всю стену — окна едва умещалось низкое кресло и такой же низенький столик. С трудом пробравшись к окну, я бросил заинтересованный взгляд на окружающую меня местность. Крыши, множество проводов и телеантенн, кое-где на крошечных плоских пространствах умудрялись соседствовать кухонная плита и целая оранжерея, где кустились пальмы и вызревали овощи. На веревках, как флаги расцвечивания, раскачивались под порывами ветерка рубашки, майки, носки. На здании в отдалении, несмотря на дневной свет, красным неоном светилась многометровая надпись «Мицубиси». Еще дальше, смахивая на парижскую, широко расставила свои опоры местная Эйфелева башня, утыканная разномастными антеннами. Первым делом я принял душ, смывая с себя почти суточную усталость и пот. Вылетев из Москвы в 18.40, спустя двенадцать часов мы приземлились в токийском аэропорту «Нарита», и меня тут же повезли на вокзал, где мы с другом моего друга Анатолия Власенко, работником торгпредства, приятным, стройным, седоголовым, успели перекусить в ресторане и под сенью мощного кондишна отдышаться от липкой, почти сорокаградусной жары. Тут и подоспела посадка на экспресс. В вагоне, похожем на нашу электричку, отделанном преимущественно светлыми красками и материалами, было даже прохладно, а когда «монстр» понесся через японскую равнину к Кобе со скоростью 250 километров в час, стало и вовсе холодно и довелось даже одеть пиджак. Быстро сменив дорожный костюм на джинсы, кроссовки и легкую белую безрукавку, захватив необходимые документы, я сбежал вниз по лестнице. За стойкой уже хозяйничал парень, у которого я спрашивал, как разыскать «Мизуками», но теперь он был облачен в строгий темный костюм. Он приветливо улыбнулся и на плане-схеме местного метрополитена показал, как добраться до Острова и найти пресс-центр Универсиады. Еще посоветовал выбрать из двух линий метрополитена частную, что хоть и стоит дороже на полдоллара, но зато сократит путь по меньшей мере на пятнадцать — семнадцать минут. Поблагодарив юношу, я вышел из отеля и сразу окунулся, как в омут, в парной, остро нашпигованный отработанными газами автомобилей студенистый воздух. Свернув налево, где находилась станция частного метро, я купил билет до Санномии, где мне следовало пересесть на поезд-автомат, связывавший Кобе с Маринатауном, то есть морским городом, выстроенным японцами несколько лет назад на трехстах гектарах, отвоеванных у моря. Этот «культурный город в море», как называли его многочисленные рекламы, виделся создателям прототипом поселений XXI века. Спускаясь по лестнице в неглубокий тоннель-станцию, я обратил внимание, что отделка — сплошь металл, покрытый пластмассой светло-серого цвета, так рационально отштампованный, без острых углов и потаенных закоулков, что не требует никакого ручного труда, а достаточно пустить автомат-мойщик, и один человек справится с вместительным помещением станции за несколько рабочих часов. «Двадцать лет назад токийское метро выглядело куда мрачнее и непригляднее, — отметил я про себя. Японцы почему-то выстраивались в очереди друг другу строго в затылок, на определенном расстоянии одна очередь от другой. Не слишком понимая, что это должно означать, все же решил не лезть в чужой монастырь со своим уставом и пристроился в хвост очереди за юной матерью с двумя детишками — старшая, лет трех, крутилась возле ее ног, чувствуя себя вполне независимо и самостоятельно, а вторая, совсем крошка, уложив головку на материнское плечо, глазами-бусинками с любопытством разглядывала меня. Лишь когда бесшумно подкатил поезд, ярко освещенный и почти сплошь состоящий из стекла, так, во всяком случае, мне показалось, я понял, почему японцы придерживались определенных мест, — как раз напротив очереди открывались двери. Без толкотни все быстро разместились в вагоне. Я с любопытством рассматривал окружающих меня людей. Японцы стали выглядеть более по-европейски, чем двадцать лет назад. Одеты легко, удобно, спокойны, как спокойны и дети: малышка, самостоятельно юркнувшая в вагон, также беспрепятственно — без окриков и вскриков «Да куда ты запропастилась?!» — изучала вагон, смело выглядывала из открытой двери на станциях. На европейцев — в вагоне, помимо меня, находилось еще трое или четверо «белолицых» — уже не взирали как на диво. Я припомнил слова, буквально ошарашившие меня в Токио. Я спросил Толиного друга что-то насчет местных нравов и обычаев: как одеваться — официально или по погоде. Он рассмеялся и ответил: «Мы, европейцы, ну, и американцы в том числе, люди третьего сорта. Да, именно третьего. Первый сорт, то есть именно люди, — это японцы, второй сорт — китайцы. Ну, а мы — третьего. Соответственно и отношение: если вы явитесь на прием, где будет, скажем, наследный принц, в тапочках и в шортах, и вообще даже без майки, никто не обратит на вас внимания… Что, мол, с них возьмешь! Вот так-то! Замечу, что эта мысль исподволь, но упорно вдалбливается в юные головы — Япония, Япония превыше всего… Хотя — это я вам говорю однозначно — они никогда не подадут и виду, что относятся к вам, как к третьесортному. Вежливость — норма местной жизни…» Японец преклонного возраста мягко отстранился, пропуская меня к двери на Санномии, хотя точно такое же движение первым сделал я. Указатели надежно вывели меня к выходу из метро — именно к тому, что вел к наземной станции экспресса на Остров, хотя поначалу я слегка растерялся в тысячных толпах, входящих и выходящих из прибывающих по нескольким линиям поездов, в лабиринте подземных магазинов, блистающих роскошными витринами универмагов, видеосалонов и кафе, наполненных ароматами готовящейся еды, табака и духов, звуками музыки и неумолчным прибоем голосов. Лишь на площади я вздохнул свободно, хотя здесь было по-прежнему душно, даже соленое дыхание моря не освежало воздух. Я купил жесткую картонку — билет в автомате, затем сунул картонку в прорезь автомата-контролера, и он пропустил меня через стальной турникет. Поднявшись на второй этаж на коротком эскалаторе, я попал к составу из четырех вагонов с открытыми дверями, куда и поспешил вскочить. После троекратного объявления по-японски створки дверей бесшумно соединились и поезд двинулся в путь. Эстакада была проложена на высоте минимум пятого этажа, и улицы Кобе, примыкающие к порту, поплыли внизу. Вскоре под ногами заплескались мутноватые волны залива; раздвигая тупым носом воду, продымил под нами буксир с красной трубой. Потом пошли дома, выстроенные на искусственной почве, завезенной сюда из трех срытых начисто гор в окрестностях Кобе (на их месте разместились теперь жилые кварталы): разностильные и разновысокие — от сорока этажей суперсовременного отеля «Портопия», формой напоминающего трубу исполинского океанского лайнера (издали Остров смотрится, как корабль, устремленный в просторы моря), до вычурных, в викторианском стиле коттеджей — они были аккуратно расставлены из конца в конец Острова. На моей станции, опять же не встретив ни единого человека, обслуживавшего поезд, я спустился вниз, предварительно втолкнув билет в магнитный зев контрольного устройства, убедившегося в законности моего проезда и раскрывшего стальную дверцу-решетку. В пресс-центре, куда я попал пару минут спустя, приятно холодил свежий воздух. Полицейский на входе, увидев карточку с предварительной аккредитацией, вежливо отступил в сторону, пропуская вовнутрь помещения с очень высоким потолком. Ряды столов с пишущими машинками, где сидели одинокие репортеры, выдававшие на-гора первые репортажи с еще не открывшейся Универсиады. Из бара слева — там за столиками народу было погуще — доносились приглушенные звуки музыки. Оглядевшись, я обнаружил искомое: вдоль стены тянулись кабинки с надписями мировых агентств и местных изданий. Я легко нашел «Йомиури», нажал на ручку и… нос к носу столкнулся с тем, кого приготовился долго разыскивать. — Яша! — вскричал я. — Олег! — заорал невысокий, черноволосый японец в белой рубашке с короткими рукавами, при галстуке. Это был Яшао Сузуки, сорокалетний бывший московский корреспондент токийской газеты «Йомиури», по-спортивному подтянутый и легкий на ногу, заядлый теннисист, попортивший мне в свое время немало крови на корте в Лужниках, потому что я долго не мог найти к нему подход, — он левша, и его неожиданные крученые подачи были столь резки, что я не успевал поначалу даже проводить мяч глазами. Правда, со временем мы приноровились друг к другу, и я нащупал слабые места в обороне Сузуки, и мы стали играть с переменным успехом. Впрочем, это случалось не так часто, потому что Сузуки жил в Москве до конца 1981-го, а потом его перевели в Нью-Йорк, где с ним и познакомился в интерпрессклубе Серж Казанкини. Он-то мне и проговорился как-то о Сузуки и был страшно удивлен, что и я знаком с Яшей (так он сам просил себя называть), и сообщил также, что японец в начале января возвратился домой. В Токио я позвонил в редакцию «Йомиури», и мне любезно сообщили, что заместитель заведующего международным отделом находится в Кобе, где возглавляет бригаду газетчиков на Универсиаде. И вот мы обнимаем друг друга. — Олег, ты в Японии, подумать только! — восклицал Сузуки, буквально ошалевший от встречи. — Не сообщил ничего! — Куда, на деревню бабушке? Ты ведь после Москвы словно растворился. А может, тебе просто не с руки встречаться с советским журналистом? Так ты скажи прямо. — Я, конечно, разыгрывал Яшу, потому как знал, что уж в чем-чем, а в настороженности или предубежденности к нашей стране и ее людям его не заподозрить. Яша гордился своим приличным русским, выученным самостоятельно. Его старший сын — мы с ним однажды сразились на корте — владеет русским лучше, чем отец: пока они жили в Москве, он ходил в советскую школу. — Олег! Как ты можешь… — Могу, могу! А как иначе относиться к друзьям, исчезающим бесследно? — Да, да… — согласно закивал головой Яша. — У тебя есть проблемы? — Мне нужно получить аккредитацию. — Это в другом здании. Пойдем проведу. Пока мы переходили в технический корпус пресс-центра (он располагался в подтрибунном помещении велотрека), Сузуки успел выложить новости: дома все в порядке, сыновья учатся — старший в университете Васеда, младший еще ходит в школу и увлекается каратэ, отца перерос на голову (акселерация нигде так явственно, так наглядно не видна, как в Японии, где народ традиционно был ниже среднего, по нашим понятиям, роста, а теперь 180-сантиметровые парни не редкость, есть и повыше). Сам же Яша после Москвы, оказывается, успел поработать в Таиланде и только после этого попал в Штаты. Америка не пришлась ему по душе, он — я это почувствовал — остался русофилом, качество, редко встречающееся в Японии. — В Москву не собираешься? — Хочу, — признался Яша, и в его голосе прозвучала плохо скрытая тоска. — В Лужниках по-прежнему играешь в теннис? — Иногда. Но редко. — Здесь сыграем? — В этом пекле? Ты ведь меня разгромишь, это нечестно. — Мы сыграем вечером, когда спадет жара. Здесь, на Острове, есть корты у моря, там свежо. Ну? — Ракетку дашь? — На выбор. — Тогда условились. Как только акклиматизируюсь. Процесс аккредитации занял ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы нажать кнопки компьютера и получить исходные данные моего документа, а затем извлечь упакованную в пластмассу мою картонку из металлического пенала, продеть в прорези тонкую цепочку, и вот уже ладанка, дающая право беспрепятственно проходить в ложу прессы состязаний Универсиады-85, легла на мою грудь. — Ты что намерен делать вечером? — поинтересовался Яша. — Ничего. Работа начнется завтра. — Тогда я хочу тебя угостить японской кухней в типично японском ресторанчике. Идет? Потолкавшись еще какое-то время в пресс-центре, мы возвратились на поезде-автомате на берег, в город. Яша поймал такси. В салоне было прохладно. Водитель в строгом темно-синем костюме и в белой рубашке с галстуком, в белых нитяных перчатках прежде всего нажал кнопку телевизора, и перед нами засветился цветной экран. Передавали очередной матч первенства страны по гольфу — игра для меня малопонятная и потому неинтересная. Мне оставалось лишь удивляться, чему так бурно восхищаются трибуны, набитые до предела болельщиками. — Эта американская игра просто-таки переполошила Японию, — сказал Сузуки, приглушая звук телевизора. — Эпидемия какая-то — и только. Специальные магазины со снаряжением, кстати, стоящем безумно дорого, журналы, многочасовые передачи, спортлото и сумасшедшие болельщики… Я не хожу на матчи… «Спартак» — «Динамо» — это зрелище! — Ты имел в виду киевское «Динамо»? — спросил я строго. — Можно и киевское, — немного растерянно ответил Сузуки. — Только киевское! Разве ты не знаешь, что оно снова возвратилось в лидеры советского футбола, хотя еще год назад никто не сомневался, что команда агонизирует. Подумать только, десятое место в розыгрыше первенства страны! — Там по-прежнему Лобановский, так, кажется, зовут тренера? — Снова Лобановский. Он походил некоторое время в старших тренерах сборной СССР, но стоило ему проиграть один-единственный матч, как его уволили без выходного пособия. — Что значит «без выходного пособия»? Без пенсии? Ведь он, кажется, молод? — Это значит, что вообще хотели запретить тренировать команды высшей лиги. — Разве такое возможно? — искренне удивился Сузуки. — Разве он совершил преступление? — Кое-кто думал, что возможно. Но, слава богу, не все и у нас теперь решается единолично… Мы вышли на какую-то узкую, заставленную выгородками и лотками улицу. На уровне третьего этажа по старинной, кирпичной кладки эстакаде прогрохотал поезд городской электрички. Мы перебрели улочку, вступили в полутемную прихожую и оказались внутри густо заселенного столами и людьми ресторана. Щекотали ноздри ароматы еды, было шумно, гремевшие над головой вагоны заставляли людей разговаривать громко и суетливо. Столики были заняты, и мы устроились на высоких, но удобных вращающихся креслах за стойкой, где разливали пиво, выдавали официантам блюда с пищей, вели переговоры с кухней трое ребят — двое похожих парней с утомленными, лоснящимися от пота лицами и миловидная девчушка в белом кокетливом передничке. Они с такой быстротой выбрасывали продукцию, что напоминали автоматы: ни секунды простоя, даже словом не обменяются, ни единого лишнего движения. Яша негромко сказал что-то — я и то едва расслышал, а парень, на секунду отвлекшийся к нам, успел все записать на листке-счете, что тут же положил перед нами, и уже отпрянул назад, крикнув что-то в темный кухонный зев, быстро наполнил два толстостенных бокала пивом и, бросив картонные кругляши перед нами, аккуратно опустил кружки. — Считай, типичное японское кафе, Олег. Его держат студенты во время летних каникул, а возможно, и чуть дольше, если есть необходимость. Полный хозрасчет, видишь, им некогда даже перекинуться словом друг с другом. А еда отменная. Мы ели что-то острое, — с пряным ароматом из морских моллюсков, с ломтиками сушеной водоросли — ламинарии, и запивали холодным пивом. — Я сюда хожу ужинать, друзья в Токио насоветовали, и не жалею. Быстро, да и дешевле, чем в обычном ресторане. Когда мы выбрались наружу, было совсем темно. Уличного освещения тут никогда не существовало, но зато по-прежнему светились разноцветными фонариками магазины, забегаловки, пачинко. Лица людей казались разукрашенными на манер американских индейцев, с той лишь разницей, что расцветка их постоянно менялась. Попадались возбужденные парни с бегающим взглядом, что-то бормотавшие на ходу. Они никого не замечали. — Наркотики и в Японии не редкость, — пояснил Яша. — Конечно, не так, как в Штатах. Я сразу будто отрезвел и забыл обо всем другом, и одна мысль застряла в мозгах — Тэд Макинрой, он же Властимил Горт, Тэд Макинрой, Властимил Горт… Властимил Горт… Я пропустил мимо ушей слова Сузуки, и он застопорил, и я наткнулся на него. — Ты совсем не слушаешь меня, Олег, — обиделся Сузуки. — Где ты живешь? — А, извини, Яша. Задумался. В гостинице «Мизуками». Это далеко, нужно на метро, и такси нет смысла брать. — Нет, — сказал Яша. — Поедем на такси. — Слушай, Яша. Мне такси действительно ни к чему. Я мечтаю побродить по Кобе. Ты поезжай в пресс-центр и засядь за телефон. — Яша недоуменно уставился на меня. — Мне нужно, чтобы ты разыскал одного человека. Это крайне важно, Яша, поверь мне! Его зовут Властимил Горт. Он — тренер местной школы бокса. Но единственное условие: представься как хочешь и кем хочешь, но ни у него, ни у его хозяина не должно возникнуть и тени сомнения, что парня разыскивают по какому-то пустяковому делу. Придумай, я не знаю ваших законов и обычаев, ну, скажи, что ты фининспектор, или водопроводчик, или просто вознамерился записаться в школу, чтобы пройти курс бокса… Словом, на твое усмотрение! Мне же нужно только узнать, где он обретается и когда бывает на работе. Понял? — Не совсем. — Я пока не стану ничего объяснять. Это, во-первых, долго. Во-вторых, без моего разговора с этим человеком все равно не поймешь. Как, впрочем, и я еще многое не понимаю. Будь осторожен: если он что-то заподозрит, то немедленно скроется. — Почему скроется? Ты его преследуешь? — Если б я… Словом, мне нужен точный адрес школы бокса, где работает Горт. Для ориентировки: 29 лет, классный боксер, выступал даже за сборную страны, в Японии, думаю, месяца три-четыре. Тщательно скрывает, откуда он и кто по национальности… — Задал ты мне вопросик, Олег. — Сузуки явно был озадачен и обеспокоен. По натуре Яша не труслив, но осторожен, лишнего шагу не сделает, не убедившись, что это шаг — правильный. Но таким я его знал в Москве, за границей. А здесь-то он дома! Мне не очень-то улыбалась перспектива ставить в затруднительное положение моего приятеля, но иного выхода не было. Никто, кроме Яши, не сможет помочь. По-японски я не знал ни слова. И хотя многие японцы отлично владеют английским, иностранцы все равно есть иностранцы, и к ним отношение настороженное. «Любопытно, — подумал я, — как ко мне относится Яша: как к человеку третьего сорта?» Но спрашивать не стал: Сузуки и так выглядел озабоченным, чтоб еще и этим вопросом усугублять его сложное положение. — Это нужно непременно сегодня? Ведь уже поздно… — спросил Яша, хватаясь за соломинку. — Чем быстрее, тем лучше. Я прошу тебя, Яша… Мы расстались у станции метро. Это была отправная точка, откуда я решил, сверяясь с планом-схемой города, двинуться по направлению к гостинице. Всегда нужно иметь запасной путь для отступления…5
Универсиада началась грандиозным парадом на новеньком стадионе на юго-востоке Кобе, в районе перспективной застройки этого огромного промышленного центра страны. Организаторы не скрывали своего удовлетворения, больше того — гордости, что им удалось собрать под голубое знамя с огромной буквой «у» практически всех сильнейших спортсменов-студентов пяти континентов. Участие сборных СССР и США спустя год после Лос-Анджелеса, когда связи двух крупнейших спортивных держав мира виделись испорченными надолго, воодушевляло истинных приверженцев спортивных форумов. Газеты пестрели заголовками, где Япония выглядела едва ль не миротворцем. Специально для прощупывания обстановки в связи с предстоящей Олимпиадой в Южной Корее прилетела делегация Сеула. Улыбчивый лев — символ будущих Игр — зашагал по страницам газет и журналов, мягко порыкивал с экранов телевизоров, заполонил своими изображениями свободные стены в пресс-центре. Я сидел на трибуне среди знакомых и незнакомых лиц. Давно заприметил, что существует некое неформальное сообщество спортивных журналистов-международников, что, как правило, аккредитуются на большинстве крупных состязаний и уж непременно встречаются на Олимпиадах и Универсиадах. Под звуки тысячного оркестра одна за другой вступали на дорожку стадиона колонны участников. Организаторы побеспокоились, чтобы каждый почувствовал себя как дома, и составили сложную программу музыкального сопровождения из попурри национальных песен и мелодий. Но, видимо, график движения где-то нарушился, что-то сбилось, и вот пошли австралийцы под афганскую мелодию, англичане вышагивали в такт греческой сиртаки. Под наши «Очи черные» и «Подмосковные вечера» вышагивала делегация КНР… Среди журналистов царило веселое оживление. А у меня на сердце кошки скребли. Вот уже два дня как исчез Яша. Напрасно несколько раз на день заглядывал я в выгородку «Йомиури» — сидевшие там недоуменно пожимали плечами и отвечали неопределенно: не был, когда будет — не знаем. Мне чудилось, что они обо всем осведомлены и с осуждением смотрят на меня. Неприязнь, казалось, сквозила в их черных, непроглядных глазах. Время летело, а я ни на йоту не продвинулся к цели. По ночам мне снился один и тот же сон: я догоняю и никак не могу догнать человека, лица которого не вижу, но уверен, что это — Тэд Макинрой, он же Властимил Горт… Связь с Киевом, на удивление, оказалась преотличной, и редакционная стенографистка появлялась точно в назначенное время — минута в минуту, хоть часы проверяй. И слышимость была преотличной, мало что часть пути мои слова проделывали по воздуху — по радиотелефону. Но все равно, пока передавал материал, сидел как на иголках и готов был подгонять Зинаиду Михайловну, несмотря на то, что она вообще не делала ни единой паузы и не переспрашивала — наш разговор параллельно записывался на магнитную ленту. Мне казалось, что именно в эти минуты, когда я разговаривал с Киевом, звонил и не мог дозвониться Яшао Сузуки. «Если сегодня, нет, завтра утром Яша не объявится, нужно начинать поиски самостоятельно, — рассуждал я, сидя на трибуне. — Ну и что с того, что ни бэ ни мэ по-японски! Нужно взять телефонные справочники на английском, должны быть таковые, и страничку за страничкой изучать, пока не наткнусь на боксерскую школу». Это напоминало бы поиск иголки в стоге сена, если учесть, что телефонная книга — я встречал такие в пресс-центре — Кобе насчитывала более 1000 страниц убористого текста! Но иного выхода у меня не было. — Олег. — Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я оглянулся и едва не заорал на весь стадион: Яша! — Яша… — Голос мой прозвучал так, словно мне в горло вогнали кляп. — Извини, Олег, — забеспокоился Яша и развел руками, как бы прося прощения за бестактность. — Выйдем отсюда, — предложил я нетерпеливо. Мы спустились вниз, молча миновали лужайку, где расположились девушки-гимнастки, готовившиеся к показательным выступлениям, спустились к искусственному водоемчику с огромным гранитным валуном, отполированным веками и напоминавшим один из камней знаменитого каменного сада Рендзю в Киото. — Извини, Олег, но я никак не мог раньше, — виновато повторил Яша. — Ерунда, — великодушно простил я Сузуки. — Нашел? — Да. Но для этого мне понадобилось съездить в Токио — здесь, в Кобе, у меня нет ни друзей, ни знакомых. Таких школ оказалось полдюжины, они разбросаны в разных концах города. Увы, не всегда удавалось добраться до искомого по телефону. Я еще не разобрался и сам, по-видимому, некоторые из этих заведений далеко не столь безобидны, как может показаться, потому что не слишком-то спешат обнародовать свое существование. Пришлось поколесить… — Нашел его? — Это оказалось труднее всего. — Он снова сменил имя? — Его имени вообще нигде не называли. «Такого не знаем», — был ответ. — Где Горт? — Мы завтра утром поедем туда. Если… если он не сбежит, как ты опасаешься. И не вини меня за это: он чем-то очень напуган, хотя мой друг чуть-чуть знаком с хозяином спортзала и мог разговаривать без лишних рекомендаций. Он представился клиентом, готовым заплатить хорошие деньги за ускоренный — три недели — курс бокса. Его познакомили с Гортом, но тот почему-то насторожился, и я не уверен, что моему другу удалось полностью рассеять сомнения парня. Как бы там ни было, встреча назначена на завтра, на восемь утра. Я заеду за тобой в семь пятнадцать… — Спасибо, Яша… — Я не знал, что еще сказать, чтобы выразить мою благодарность этому похожему на европейца сыну Страны восходящего солнца — немногословному и обязательному. А ведь еще несколько минут назад я готов был заподозрить его в элементарной трусости и бегстве. — Я старался, Олег… Что здесь произошло интересного за это время? — Ничего. Вот разве открытие Универсиады. Может, пойдем досмотрим? — Если ты не возражаешь… Мы возвратились на трибуну, и теперь действо, разворачивавшееся на салатной свежести поле стадиона, показалось мне таким прекрасным, что я готов был признать, что ничего совершеннейшего и захватывающего не видел. — Это не уступает открытию Олимпийских игр, — только и сказал я. — Ты думаешь действительно так? — искренне обрадовался Яша. — Без преувеличений! — Позволишь привести твои слова в моем репортаже? — Можешь еще сказать множество слов, лишь бы они хвалили организаторов. — Я был добр и расточителен. — Спасибо, Олег… В «Мизуками», куда я возвратился за полночь, меня ждал еще один приятный сюрприз: портье протянул записку, где сообщался номер телефона Сержа Казанкини и содержалась просьба непременно позвонить в любое время. Я поднялся к себе, принял прохладный душ, облачился в свежее, выглаженное кимоно, ежедневно сменяемое, как и постельное белье, вытащил из широкого раструба кондишна, служившего мне холодильником, банки с консервированным пивом, сервировал низенький столик у окна — вилка, нож, два ломтя черного бородинского хлеба, горка кружочков сухой копченой колбасы, помидор, плавленый сырок и два краснобоких яблока — и подтянул на кровать телефон. С удовольствием и чувством выполненного долга — репортаж об открытии передал из пресс-центра стадиона, завтра свободный день — воскресенье — щелкнул крышечкой серебристой баночки, украшенной краснокрылым журавлем, стоящим на верхней ступеньке пьедестала почета — «Саппоро-бир» была официальным спонсором Универсиады-85. И лишь после этого набрал номер телефона. — Кого это черти… — начал было не слишком приветливо Серж, но вдруг сообразил и заорал: — Олег, о ля-ля! — Я, мистер Казанкини, собственной персоной, добрый вечер, а вернее — ночь. — Здравствуй, Олег, какая радость! — Он был искренен, мой веселый француз итальянского происхождения. — Не знаю, как ты, а я действительно радуюсь: во-первых, только возвратился со стадиона и решил устроить себе поздний ужин, а во-вторых, потому что ты объявился. На Универсиаду прилетел? — А то куда еще? — обидчиво вспыхнул Серж. — Я теперь снова исключительно спортивный журналист. Слушай, может, поужинаем вместе? Где находится твоя обитель? Я назвал адрес. Серж надолго замолчал — изучал карту-схему Кобе. Наконец он снова объявился. — Да ведь это у черта на куличках! Опять тебя занесло… Туда и до утра не доберешься… А, ладно, жди! — И положил трубку. Я слегка расстроился: уже предвкушал спокойный отдых, а Серж умеет превращать ночь в день. Так что — покой мне только снился… Серж добрался до меня куда быстрее, чем я мог предположить. Он ввалился в комнату, подозрительно оглядываясь по сторонам, точно опасаясь, как бы кто не набросился на него из темного угла. — Ты чего, Серж? — спросил я, обнаружив, что мой приятель изрядно возбужден. — Вечно ты устраиваешься в каких-то закоулках. Вышел из такси, смотрю, вход ярко освещен, люди толкутся, я и вперся… Едва ноги унес, там не женщины — фурии, впору подумать, что они раскусили, что я — француз! Теперь пришел черед мне проглотить язык. Потом неистовый хохот напал на меня, я заливался до слез, представив Сержа в объятиях девиц из соседнего заведения, носившего игривое название «Сад любви» и с наступлением сумерек утопавшего в водопадах красного, как размытая кровь, света… Серж недолго хмурился и вскоре смеялся вместе со мной, подбрасывая в огонь новые и новые подробности своего случайного приключения. Наконец он умолк, вытащил свою знаменитую трубку, набил ее «Кланом» и плотоядно затянулся ароматным дымом. Потом он подозрительно, двумя пальцами, поднял баночку с пивом и настороженно рассматривал ее, точно держал взрывоопасный предмет, а затем брезгливо поставил на место, как бы говоря: и пьют же такую дрянь люди. Серж был ярым противником пива. Мне оставалось лишь полезть в чемодан за припасенной бутылкой с Богданом на черной этикетке. …— Вот я и говорю: возвратился в редакцию и дал себе слово — больше ни в какие там заграничные командировки ни ногой. Сам посуди: что я там, в этих Штатах, не видел? Нью-Йорк с его грязным Бродвеем — боже, как могут люди так врать, ведь сколько был наслышан — Бродвей, ах, Бродвей! Я-то уши развесил, старый чурбан, ну, что-то на манер наших Елисейских полей — публика, неторопливый шаг и веселый смех, прекрасные женщины, цветы, и ночью и днем вечный праздник… А тут тебе — вонь, колдобины, толпы куда-то несущихся людей и оборвыши, валяющиеся просто под ногами… А квартира на 5-й стрит? Пока замки отопрешь, взопреешь… «Нет, дома, в Париже, или нигде», — сказал я шефу. — Серж пускал клубы дыма и размышлял вслух. — Твердо решил. Шеф тоже не полез в бутылку: мол, отдохните Казанкини, развейтесь, вспомните, что у вас там в загашнике залежалось, предложите, нужно же отписаться после такой поездки… Я и возомнил, что мои дела в ажуре, и укатил в Испанию, под Барселону, купаюсь, нежусь, когда — телеграммка. Серж сердито засопел, заурчал, как перегретый самовар, выбил в пепельницу трубку, напрессовал в нее табак и снова без перерыва задымил. Я уже и окно раскрыл — кондишн не был готов к таким перегрузкам, — но свежий воздух Кобе тоже был напитан горечью бензинного перегара, дымом порта и еще тысячью запахов большого города. — «Телеграммка… Вам, сэр, из Парижа», — сует мне в руки портье и смотрит на меня, как кот на сало. Дал я ему на чай, хотя мысль так и сверлила: не хватай ты эту бумажку, скажи портье, чтоб выбросил ее на помойку, у тебя законный отдых… О слабости человечьи, о любопытство, что родилось раньше нас! — запричитал Серж. — Раскрываю… «Вам надлежит быть в Париже… билет Сеул… утверждены специальным корреспондентом на Играх XXIV Олимпиады… Агентство выражает надежду, что вы с вашим опытом…» Фу, еще сегодня становится жарко, как вспомню, что я в тот миг почувствовал… Вот и обретаюсь теперь в Сеуле, и торчать мне там до 2 октября 1988 года и ни часом дольше! — Поздравляю, Серж! Ведь это так интересно. — И ты, Брут… — тяжко вздохнул Серж. — Мне проще, я приеду в Сеул на три недели, вполне достаточно, — бодреньким тоном произнес я, в душе завидуя счастливчику-толстяку. — А может, ты еще до Игр заявишься? — с надеждой полюбопытствовал Казанкини. — Я для тебя там такое организую! Уже начал обрастать связями и знакомыми, к Играм буду своим человеком в Сеуле… — Если Игры вообще состоятся… — Состоятся. Даже если вы снова не приедете. О ля-ля, они были бы рады, кабы могли б окончательно отлучить вас от Олимпиад! — Кто это они? — прикинулся я дурачком. — Много их, разных. И политики, и мафия. Помнишь, мы с тобой в Лейк-Плэсиде… постой, постой, а что с тем парнем, вашим боксером, ну, которого судили в Монреале? — Дисквалифицировали. Грузчиком работает. Серж насупился, потемнел лицом — это всегда служило у него признаком гнева. — Жалко парня, такой спортсмен… И ты ничем не мог ему пособить? — Ничем. — Как же так? — Он совершил преступление и несет заслуженное наказание, — сказал кто-то чужой моими устами. — Я тоже не терял времени даром в Штатах, да и здесь в Сеуле. Кое-что привез тебе любопытное. Захватил так, на всякий случай, надеялся, авось ты заявишься на Универсиаду… Завтра встретимся в пресс-центре… — Хорошо, Серж, — отчужденно сказал я, уносясь в мыслях в предстоящую через несколько часов встречу с Тэдом. Что-то она мне принесет? — Я, пожалуй, пойду… Поздно уже… Я не задерживал Сержа. Последнее, что я услышал, когда дверь захлопнулась за Сержем, был грохот опрокинутой металлической пепельницы с песком на высокой ножке, торчавшей на площадке. Но подниматься не стал, Серж сам разберется.6
В низкосидящей, с удлиненным, хищным носом, как у гончей, учуявшей след, темно-вишневой «тоёте», что беззвучно застопорила у моих ног, рядом с водителем сидел Яшао Сузуки. Он перевесился через сидение и открыл заднюю дверцу, впуская меня. В салоне было отменно чисто и прохладно. Яша тоже был отглажен и важен, как премьер-министр, в черном строгом костюме и безукоризненно белой рубашке. Черные волосы были тщательно приглажены и чуть отблескивали сизым оттенком вороньего крыла. — Привет, Яша! — бодро воскликнул я, стараясь скрыть нервное возбуждение. — Хелло, Олег! — Яша пожал мою руку и, не отпуская, потянул ее влево и буквально вложил в руку водителя. — Знакомься, это Такаси, он знает хозяина зала. Водитель повернулся ко мне, и я увидел продолговатое с сухими, пожалуй, даже впалыми щеками, с небольшим острым носиком лицо, чуть обозначенные бледные губы и мощный, как таран, подбородок человека, способного выдержать прямой удар тяжеловеса. Его пожатие, как он ни старался, буквально склеило мои пальцы, и еще несколько мгновений они оставались безжизненными. Я непроизвольно взялся разминать их пальцами левой, и Яша беззаботно и весело, как ребенок, которому удалось подшутить над приятелем, расхохотался своим мелким, квохчущим смешком. — Я позабыл тебе сообщить, что у Такаси — восьмой дан и он один из самых популярных в Японии каратистов, — сквозь хохот объяснил Сузуки. Владелец восьмого дана между тем остался холоден и беспристрастен, точно речь шла не о нем. — В путь! — крикнул Яша, и Такаси включил мотор с автоматической передачей и, прежде чем тронуться, надел зеркальные очки. Я заметил, что пока мы выруливали на трассу, водитель неоднократно задерживал свой взгляд в овальном широком зеркальце, висевшем слева над его головой. — Если б мне еще пару дней назад напророчили, что я стану заниматься подобным делом, я рассмеялся бы говорившему в лицо! — самодовольно выпалил Яша, развернувшись ко мне назад настолько, насколько позволяли жесткие ремни безопасности спортивной машины, способной развивать скорость в 240 километров в час, — во всяком случае, эти цифры были на серебристо-молочной приборной доске. — В журналистской жизни всякое бывает, — индифферентно буркнул я, не догадываясь, в какую сторону гнет Яша. — С кем угодно, но только не с Сузуки, — разом отбрасывая, словно маску, веселье, холодно отрезал Яша. — Осторожность и предусмотрительность — черты японского характера. — Уж не начинаешь ли ты жалеть о содеянном? — спросил я, стараясь раскачать Яшу, — больше всего мне не нравилась неопределенность. — Возможно. Но не от излишней предусмотрительности или осторожности, хотя и это присутствует в нашем характере. Ты не посвятил меня в суть дела, и именно это меня беспокоит. А вдруг ты втягиваешь меня в какую-нибудь противозаконную акцию? — Извини, Яша, только и впрямь до встречи с тем парнем ничего рассказать тебе не могу. Мне даже трудно предположить, что откроет мне этот визит. Поверь, не темню. Но разговор многое может проявить и расставить все, что я пока имею, по своим местам. Тогда я и введу тебя в курс дела… Надеюсь, ты не подвержен шпиономании? В противном случае мне останется лишь попросить тебя остановить автомобиль и высадить меня… — Я достаточно долго жил в Москве, и у меня много советских знакомых и друзей, чтобы навсегда избавиться от этого комплекса. — В голосе Сузуки всплеснулась обида. — Вот и лады, Яша. Давай лучше условимся, как поведем себя на месте. Мне не хотелось бы подводить парня… У него положение, кажись, незавидное, и, честное слово, мне вовсе не улыбается перспектива усугублять его, особенно если он согласится. Сузуки, говорить… — Мы с Такаси в твоем полном распоряжении, — великодушно объявил Яша. — В английском он не силен, а уж русского вообще не знает, подробностей ему я сообщать не стал, и он даже не догадывается, что ты из СССР. Так для него будет спокойней, не правда ли? — Тебе виднее, Яша, — согласился я, хотя в душе почувствовал укор совести — как-никак, человек лишен правдивой информации, а значит, выбора. Но выбирать и мне не приходилось, и я полностью положился на Яшу — в конце концов, это его друг. Освободившись от неуместных сейчас сомнений я обратился к Сузуки: — Давай-ка продолжим разговор о нашем поведении на месте… Итак, ты собираешься укатить за границу и потому решил нанять преподавателя бокса. Мы — твои приятели, лица незаинтересованные, словом, зеваки. Идет? — А предположим, он упрется и скажет, что никак не может, ну, скажем, занят сверх всякой меры, и хозяин порекомендует другого? — Ты должен настаивать именно на Горте, тебе нужен преподаватель-европеец, ведь ты отправляешься надолго работать за границу. А Горт, помнится, ты таксе говорил, единственный иностранец в школе. Выходит, как ни крути, он и никто другой! — Пусть будет так, — согласился Яша и что-то быстро выпалил своему приятелю. Тот молча выслушал, но не повернул в его сторону даже головы, внимательно следя за дорогой, несмотря на ранний час, забитой автомобилями. Я уже давно обратил внимание, что несущиеся навстречу грузовики, легковушки, автобусы и трайлеры, контейнеровозы и автокраны сплошь японского производства. Такого единодушия на европейских или американских трассах не увидишь. Водитель только раз едва заметно кивнул головой в знак согласия со словами Сузуки, но губ так и не разлепил. — Я попросил Такаси быть предельно внимательным, но без надобности не встревать, — объяснил мне Яша и добавил: — Хотя предупреждать его излишне — у этого молчаливого и неповоротливого, на первый взгляд, субъекта феноменальная реакция на опасность. Поверь мне, я с ним вырос, учился в одной школе, но никогда не услышал десяти слов, произнесенных за раз. Разговаривая, я тем не менее по въевшейся за годы странствий по заграницам привычке краем глаз цепко следил за дорогой, запоминая ее. Сначала мы завернули в центр, сделали поворот на площади, где я обычно выхожу из подземки на станции Санномия, чтобы перебраться в автоматический поезд на Остров. Потом долго катили по верхнему ярусу трехэтажной скоростной дороги на бетонных опорах. Внизу мелькали какие-то склады, подъездные пути, справа вскоре заплескались отливающие расплавленным оловом воды залива; на горизонте, распустив павлиний хвост белого дыма, застыл пароход. Машина неожиданно нырнула вниз, разворачиваясь вправо, и Такаси снова на несколько секунд впился взглядом в зеркальце. Нет, в случае чего выбираться будет нелегко, хотя я и приметил парочку ориентиров — телевизионную башню и далекую трубу отеля на Острове: находясь в их створе, можно будет хотя бы приблизительно наметить направление движения. Когда мы вкатили в узкую и пустынную, точно жители ее давным-давно вымерли — ни прохожего, ни собаки, улочку, тесно заставленную одноэтажными фанерными домишками, смахивавшими друг на друга, как близнецы, я невольно поежился, представив, как бы здесь выглядел, начни поиск самостоятельно. Миновав перекресток, мы въехали на небольшую овальную площадь, залитую асфальтом. Две лавки зеленщиков с вынесенными лотками были завалены дарами местной земли, и несколько женщин в кимоно неторопливо выбирали овощи. На наше появление никто не отреагировал. Мы остановились. Первым выбрался Яша и, разминая затекшие ноги, направился к ближайшей лавке. Он вежливо поклонился, здороваясь, и продавец, и покупатели глубокими поклонами отозвались на его слова. Продавец выскочил из магазинчика и, кланяясь, рукой показывал в переулок, уходящий влево. Мы снова двинулись вперед и метров через сто пятьдесят остановились у длинного приземистого здания под красной черепичной крышей со стеклянными дверями посередине. Несколько японских иероглифов из гнутых неоновых ламп, по-видимому, сообщали, что это и есть «Школа бокса Яманака». Вокруг больше ни двери, ни окна: какие-то пакгаузы с металлическими раздвижными воротами, грязный, замусоренный асфальт, мрачная, гнетущая тишина дополняла общую картину. Здесь только гангстерские фильмы снимать, подумал я, и запоздалое раскаяние готово было завладеть мыслями и чувствами. Нет, страха я не испытывал хотя бы потому, что был не один. Правда, таинственный и малопонятный мне восьмой дан совершенно незнакомого Такаси скорее настораживал, чем успокаивал: раз уж Яша пригласил с собой этого каратиста, значит, даже ему поездка сюда не казалась невинным путешествием. Я не любил себя в минуты колебаний и потому, не дав разыграться воображению, решительно открыл дверцу… Сузуки что-то сказал водителю, и тот зачем-то несколько раз включил и выключил мотор, прислушался к его мерному урчанию и лишь затем заглушил окончательно, но ключ из замка зажигания не вытащил. — Ну, что ж, мы — у цели, — неуверенно пробормотал Сузуки, и я уловил в его голосе плохо скрытое волнение, даже скорее — обеспокоенность. Мы втроем какое-то время в нерешительности потоптались на месте, выжидая не объявится ли кто, но потом Яша взбежал по трехступенчатой лестнице и нажал на белую фарфоровую кнопку звонка. Где-то в глубине раздалась тихая нежная трель. Дверь почти тут же распахнулась, и на пороге вырос — другого слова я не подберу, так неожиданно он появился — немолодой, некогда могучего телосложения низенький человек: бицепсы его вряд ли охватишь двумя руками, а голову, вросшую в шею, он поворачивал вместе с плечами; человек был лыс, безбров, полное лицо и маленькие, заплывшие жиром глазки дополняли портрет. «Он похож на старого сенбернара», — почему-то подумал я, вспомнив огромную собаку, что жила у нас в гостинице в Гштаде, в Швейцарских Альпах, ежедневно будившую всех громоподобным лаем, бросаясь за серой, изящной кошечкой, принадлежавшей американской туристке такого преклонного возраста, что оставалось загадкой, для чего она прилетела из-за океана на этот известный горнолыжный курорт, да ещев разгар сезона. Она не то что на лыжах — на ногах едва держалась. Но встретивший нас тип осклабился, и подобострастная улыбка не улыбка, но нечто, должное придать некоторую мягкость его гангстерскому обличию, появилось на одутловатом, лоснящемся лице. — Добрый день! — сказал он по-английски и низко наклонился, чего никак нельзя было ожидать от его бочкообразного тела. — Здравствуйте, господин… Яманака, если не ошибаюсь? — Да, да, господин… — Сузуки. — Сузуки-сан, — произнес «бочонок». — Благодарю вас за любезное согласие оказать мне услугу и надеюсь, что мы сговоримся с тренером. — Я догадался, что Яша намеренно завел разговор по-английски, чтобы я слышал, о чем идет речь. — Можете быть уверены, господин… Этот тип мне явно не нравился. — Сузуки… — …господин Сузуки, — на довольно прилично английском отвечал хозяин. Мне не понравились и его глаза: они были липки, как липучка, на которую ловят летом мух, и одновременно быстры, умны и… насторожены. — Итак, займемся делом, — добродушно, по-видимому, избавившись от опасений, бросил Яша и шагнул вовнутрь помещения. Мы последовали за Сузуки, и хозяин прикрыл за нами дверь. Я держался рядом с Яшей и с интересом разглядывал простую, но рациональную обстановку зала. Вдоль стен располагалось большое количество различных тренажеров — стоявших, лежавших, подвешенных к потолку; пожалуй, эти никелированные устройства позволяли, не выходя из зала, получать нагрузку марафонца, тяжелоатлета и гимнаста. Широкая зеркальная стена отражала весь зал, и одновременно любой спортсмен мог видеть каждое свое движение. Чисто было, как в операционной: простой некрашеный пол с тщательно, как на корабельной палубе, пригнанными и выдраенными до светло-золотого цвета досками, пахло свежими матами, пеньковыми канатами и еще чем-то неуловимым, что присуще только спортивному залу с его особым ароматом — запахом крепкого тела и соперничества. Между тем хозяин ввел нас в другую, меньшую комнату, служившую, по-видимому, для отдыха и волевой закалки: стены сплошь — от пола до потолка — завешаны портретами боксеров в полный рост, над каждым портретом было что-то написано иероглифами, а над некоторыми были даже укреплены венки из искусственного лавра. — Это галерея наших выпускников, — объяснил хозяин и почему-то поклонился портретам. — О, господа, моя школа дала трех чемпионов Японии, двух победителей Азиатских игр… — Вам не хватает, Яманака-сан, одного-двух олимпийских чемпионов, — произнес я. Хозяин бросил на меня быстрый, колючий взгляд и, чуть поклонившись, воскликнул: — О, мы верим, что дух нашей школы поможет ее ученикам достичь и подобных вершин! Вполне возможно, — добавил он, — что такое случится в Сеуле. Трое моих парней входят в состав олимпийского резерва страны. Но вообще-то мы — школа для профессиональных боксеров и для любителей вроде господина Сузуки, коим льстит заниматься рядом со «звездами»… — Да, это действительно воодушевляет! — надулся петухом Яша, напрочь забыв, что уж кто-кто, а он не собирается подставлять свою физиономию под чьи-то, даже смягченные перчатками, кулаки. — Я оставлю вас на минутку и приглашу господина Горта, он переодевается, — сказал Яманака и, снова отвесив нижайший поклон, выкатился из парадной залы, как я окрестил комнату отдыха. — Все идет прекрасно, — с гордостью сказал Яша, оборачиваясь ко мне. Но я увидел, что Такаси не разделял его настроения. Японец напряженно изучал не портреты, нет — выходы из зальца, словно оттуда могли появиться непрошеные гости. Я тоже осмотрелся: два входа — одна дверь, через которую мы вошли, другая вела вовнутрь помещения, за ней скрылся Яманака. Ни окна, ни выступа, ловушка и только! — Хелло! — не очень-то доброжелательно приветствовал нас среднего роста шатен с искривленным, типично боксерским носом. Он был в тренировочном цвета бордо костюме «Тайгер», в кроссовках на толстой подошве той же фирмы и весил не более восьмидесяти килограммов. — О, мистер Горт! — воскликнул Сузуки, направляясь к нему. — Я рад с вами познакомиться! — Добрый день, сэр! Чтоб не крутить-вертеть, сразу скажу, что вообще-то не слишком понимаю, почему вам понадобился именно я? И еще: каким образом вы определили, что я работаю в этой школе? — Парень явно не верил в байку, рассказанную Сузуки по телефону. Однако в следующий момент я обнаружил, что недооценил своего токийского приятеля. — Вы ведь хорошо знакомы с Фурукава-сан, не правда ли? — спросил загадочно и многозначительно Яша, поигрывая, как актриса перед зеркалом, своими черными глазами. — Точно, он брал у меня уроки и остался доволен. Способный человек, сбросить бы ему лет двадцать, далеко пошел бы! — Тэд явно отмякал. — Вот видите, это мой старинный друг, и мы частенько видимся с ним. Он и присоветовал обратиться именно к вам. Я, знаете ли, надолго уезжаю работать в Штаты, и мне, сами понимаете, нужно быть в хорошей форме. Нет-нет, сразу оговорюсь: на ринге выступать не собираюсь. Мне слишком дорог мой нос! — пошутил Сузуки и рассмеялся. Улыбнулся, совсем оттаивая, и Тэд. Честно говоря, после всего случившегося я представлял его иным: мрачным, заговорщицкого типа болваном с каменным выражением лица и стальными мышцами. А тут передо мной переминался с ноги на ногу приятный молодой человек, судя по всему, неглупый и общительный. Если мне удастся его разговорить, обрадовался я, он мне многое выложит. — Сколько раз в неделю вы сможете тренироваться и в какое вам время удобно приезжать? — деловито осведомился Тэд Макинрой. — Два раза — не мало? — Яша во все глаза смотрел на учителя, точно задался целью наперед понравиться ему и таким образом получить минимум шишек. — Не реже, — твердо сказал Тэд. — Иначе трудно в течение короткого времени довести приемы до автоматизма. Но вам, предупреждаю, Сузуки-сан, доведется кое-что делать и дома. — Согласен. — Итак, когда вы… Но тут обе двери одновременно распахнулись и в комнату славы ввалились сразу четверо, в намерениях которых трудно было ошибиться. Куда только делась приветливая подобострастность господина Яманаки! Это была глыба звериной злости и ненависти, покатившаяся на нас. Я успел заметить, как оторопел Тэд. Лишь значительно позже догадался, что он раньше нас сообразил, в чем дело, ведь во время своих бегов он ежеминутно ждал разоблачения. И все же оказался не готовым к опасности… Потому-то удар, нанесенный ему самим хозяином, застал врасплох — Тэд беззвучно сложился в пояснице и рухнул на пол. Следующей была бы очередь Сузуки — он ближе других находился к выходной двери, и один из двух, ворвавшихся через нее в комнату, пошел на удар. Но Такаси каким-то нечеловеческим прыжком преодолел метра три-четыре, отделявшие его от нападавшего, — он не напрасно предусмотрительно занял пост в углу, где на него нельзя было напасть неожиданно. То, что произошло в следующие несколько секунд, как я не пытался позже восстановить события, так и осталось для меня загадкой. Я не могу даже с уверенностью сказать, чем бил Такаси своих соперников — руками, ногами или бодался на манер валенсийского быка, но только гнусная четверка — я их и разглядеть-то толком не успел! — во главе с хозяином уже корчилась на золотистом полу, обагряя его кровью. — Быстрее отсюда! — закричал Такаси и толкнул к двери застывшего, как статуя, Сузуки. — Нужно забрать Горта, они убьют его! — Да! — выдохнул согласие Сузуки, и это было приказом для Такаси. Он легко, как пушинку, подхватил стонущего боксера, перекинул послушное тело через левое плечо и, пятясь, прикрывал наше отступление из зала славы. Мы беспрепятственно выбрались на улицу. Секундным делом было уложить Тэда сзади. Я устроился рядом. Сузуки бросился на переднее сидение. Взревев всеми своими двумястами лошадиных, сил, «тоёта», совершив головокружительный разворот почти на месте, рванула так, что меня вжало в пружины. Сколько мы кружили по улочкам и безымянным переулкам, не скажу. Высади меня тогда из машины, я вообще не сказал бы, в какой стороне находится Кобе. От резких бросков и поворотов у меня кружилась голова. До тошноты пахло свежей кровью — у Тэда был разбит подбородок, разорван нос. — Перевязать они! — на ходу крикнул Такаси на ломаном английском, одной рукой протягивая мне портфельчик с аптечкой первой помощи. Тэд уже очнулся, лежал молча и только кривился, когда я начал промокать его раны. — Дайте я сам, — сказал он наконец и вырвал из моих рук пук ваты, обильно политой спиртом. Он решительно приложил вату к ранам, и боль буквально сотрясла его тело. «Крепок, ничего не скажешь», — промелькнуло у меня. Когда мы вылетели на автостраду и Такаси убедился, что погони за нами нет, он что-то сказал Сузуки, тот — ему, потом они оба помолчали и снова заговорили, перебивая друг друга. Впрочем, перебивал собеседника Сузуки — водитель лишь изредка бросал отдельные слова, то ли соглашаясь, то ли возражая Яше. Я, естественно, не понимал, о чем речь, но догадывался по быстрым, бросаемым на меня и Тэда взглядам Сузуки, что говорят о нас. — Что, Яша? — выбрал я паузу, чтобы вклиниться в спор. — Нужно куда-то увезти его, и прежде всего к врачу… — Не нужно никакого врача, — едва шевеля разбитыми губами, сказал Тэд. — В порт меня. У меня заказано место на теплоход до Рио… — В порт? — растерялся Яша. — Да, черт меня дернул с вами встречаться… Я чувствовал, что за мной уже идут по пятам, а когда вы позвонили, решил, что настал час расплаты… — Я ничего не понимаю. — Сузуки действительно ничего не понимал. — Я хотел смыться еще вчера, да хозяин только сегодня должен был выплатить месячную зарплату. Деньги, вот что меня удержало. — Он разговорился и уже не кривился от боли, лишь время от времени промокал кровь на губах. — Эх, балда! Ну, слава богу, вы-то, кажется, не из той компании? Вы действительно хотели брать уроки бокса? — Конечно, — быстро подтвердил Яша, все еще находясь в роли. — Нет, Тэд, совсем с другой целью… — Когда я назвал его по имени, он посмотрел на меня с такой тоской загнанного в угол раненого животного, и я пожалел его и не стал наслаждаться произведенным впечатлением. — Нет, Тэд, вам привет от Джона. Джона Микитюка… — Так это он вывел на меня? — В голосе его одновременно прозвучали облегчение и тревога, — О боже, о святая мать-заступница… Помоги мне! — Помочь себе вы сможете только сам, Тэд. Если… если наш разговор будет искренен… — О чем разговор? — О ком, Тэд… — Да, о ком? — О Викторе Добротворе… — О Викторе… — голос его прозвучал тихо, голова Тэда, лежащая у меня на коленях, бессильно упала, и он закрыл глаза…7
До отхода итальянского лайнера «Еугенио С» («47 тысяч тонн водоизмещения, палуба — люкс, два бассейна, три ресторана, теннисные корты, два джаз-оркестра и «звезда» стриптиза миссис Штерн», — как сообщалось в рекламном проспекте, приложенном к билету) оставалось шесть с половиной часов, когда «тоёта» подрулила к многоэтажному дому где-то на Острове; я пока не сориентировался, и Такаси в последний раз огляделся по сторонам, ощупывая взглядом редких прохожих. Пустынная улица — зеленая, светлая, чем-то похожая на русаковскую набережную с цветниками и детской площадкой перед домом — просматривалась из конца в конец. — Здесь мы пересидим это время, — сказал Яша. — Пойдемте. Такаси двинулся вперед, ключом отпер дверь в подъезд, вызвал лифт, еще минута — и мы очутились на двенадцатом этаже, на лестничной площадке с одной-единственной дверью, украшенной каким-то размашистым черным иероглифом. Наш спаситель уверенно отворил и эту дверь, и мы очутились в прихожей современной квартиры, какую можно встретить в Париже и Барселоне, в Риме или Москве, на Ленинском проспекте. Хозяин увел Тэда в ванную комнату, предложив нам располагаться в просторном зале, служившем, по-видимому, столовой — во всяком случае, на такую возможность указывал расположенный в центре круглый неполированный стол из ясеня, где красовалась низкая ваза с роскошным букетом, составленным по малопонятным мне правилам икебаны. — Объясни наконец-то, во что это ты меня втянул, — оторвал меня от созерцания цветов резкий и недовольный голос Яши. Вид его не предвещал ничего хорошего, и я решил не юлить: испытанием, выпавшим на его долю, Сузуки вполне заслужил предельной откровенности. — Не суди меня строго, Яша. Поверь, мной руководят самые благородные намерения. Тэд Макинрой сбежал от преследующей его банды. Он жил в Монреале, там у него была мать и любимая девушка. Мать умерла или ее убили, такое тоже нельзя исключать, девушку он вряд ли сможет увидеть, если… если ему дорога жизнь… — Это — другое дело, — повеселел мой приятель. — Помочь человеку… — Не спеши, Яша. Тэд — тоже из их банды. — Глаза Яшао Сузуки полезли на лоб, и я догадался, что творилось в его светлой, умевшей просчитывать каждый шаг со скоростью и точностью «ПК» — персонального компьютера — голове. Мало того, что слишком близкое общение с советским журналистом вряд ли придется по нутру его боссам, кое-кто из тех редко выплываемых на поверхность специальных служб мог бы заподозрить и более серьезные вещи. Увы, в наш перенасыщенный подозрениями — мнимыми и реальными — век иной раз самые искренние человеческие побуждения могут привести прямо к противоположным результатам. — Я прошу извинить меня, Яша. Если ты скажешь, мы с Тэдом тут же покинем этот дом. Просто не имею права навлекать на тебя и твоего друга неприятности — он и так сегодня сделал для нас слишком много. — Куда вы пойдете? Наверняка город уже находится под следствием — якудза не потерпят подобной неудачи. Я немного знаком с нашими нравами. Нужно отсидеться, а потом прорываться в порт… Хотя, — Яша запнулся, — я так и не понял, что толкнуло тебя помогать преступнику? — Не собирался и не собираюсь помогать преступнику! Я изо всех сил стараюсь помочь… своему другу в Киеве, чья судьба сейчас зависит от того, что скажет Тэд. — О боги! Ты так все запутал, что у меня голова идет кругом! — Ладно, у нас будет время, чтоб обсудить это дело подробнее, и пока давай решать, как мы доберемся до порта. Это вне Острова? — Да, в городе. Вещи, деньги? Как заполучить их, если наверняка квартира парня давно под наблюдением? — Спроси у Тэда. Вот, кстати, они возвращаются… Не знаю, что предпринял молчаливый Такаси, но он оказался настоящим волшебником. Лицо Тэда хоть и не стало красивым, как у Алена Делона, но рана на носу была аккуратно заклеена тоненьким, почти незаметным кусочком розового пластыря, а губы так умело подкрашены, что, кажется, стали красивее, чем прежде. При близком рассмотрении, конечно, обнаружить неестественность цвета кожи не составляло труда, но макияж был сделан не хуже, чем в знаменитых парижских салонах. Самым же главным было появление черных щегольских усиков и кока на голове, до неузнаваемости изменивших облик парня. — Ого! — воскликнул Яша. На лице Такаси не промелькнуло и тени гордости или самодовольства. Он что-то коротко бросил Яше, повернулся, и я услышал, как защелкнулся за ним замок двери. — Такаси поставит машину в гараж. Вряд ли они успели запомнить номер, но береженого не любят черти, как говорят у нас. Заодно он посмотрит, что делается поблизости. Послушайте, молодой человек, — обратился Яша к Тэду, застывшему посреди комнаты. — А ваши вещи, деньги? — Не беспокойтесь, — каким-то незнакомым глухим голосом ответил Тэд, и я увидел, что и левый уголок рта тоже был ловко заклеен и закрашен. Это-то и мешало ему говорить свободно. — Мои манатки, и деньги в том числе, на морском вокзале в автоматической камере. Я же говорил, что собирался рвать когти после вашего звонка… Вот только в этом спортивном костюме… — Тэд с сомнением осмотрел красный тренировочный костюм. — Впрочем, я успею переодеться на месте… Если, конечно, вы меня отпустите. — Он обвел нас с Сузуки не слишком-то вежливым взглядом. — Тэд, ты отправишься в Рио. Никто не собирается тебя задерживать, да и не вправе мы этого делать, — сказал я. — В полицию мы тоже звонить не собираемся, — вмешался Яша. — Но и вы — вы тоже должны войти в наше положение… — Да, Тэд, Микитюк просил передать вам, что ваша подружка ждет… — Мэри… — не сказал, а простонал парень, и мне стало его жаль — молодой, крепкий, полный жизни, он вынужден скитаться по белу свету, как гонимый волк, — Кто вы? — Он повернулся ко мне. — Да, вы! — Я — советский журналист, Олег Романько. — Какое вам дело до Добротвора? — Человек попал в беду… И вы, Тэд, как мне видится, имеете к этому самое прямое отношение. Не так ли? — Так. Но ведь вы — журналист, и стоит мне открыть рот, как вы распишете мою историю по всему миру, и мне нигде не найдется укрытия! — вскричал он, если можно было назвать криком свистящие звуки, вылетавшие из его заклеенного рта. — У меня нет намерения причинять вам вред, Тэд, хотя вы сделали подобное в отношении моего друга — Виктора Добротвора, и я был бы прав, ответив ударом на удар. Согласны? — Попробуй не согласиться, — буркнул Макинрой. — Не вы в моих, а я в ваших руках… Мне нужно подумать… — Думайте, Тэд… Хотя, наверное, думать следовало бы раньше. — Послушайте, вы мне на мозги не капайте! Что вы знаете обо мне?! Вольны говорить все, что вам в голову взбредет… — Еще раз повторяю, Тэд Макинрой, — взяв себя в руки, как можно спокойнее, буквально чеканя каждое слово, произнес я. А ведь меня так и подмывало врезать ему в его опухшую, заклеенную рожу и закричать: «Подлец! Ты человеку жизнь исковеркал ни за что ни про что, обманом втянул его в грязную историю и еще ломаешься как девица…» Но позволь я себе подобное, никогда бы не простил такой слабости. — Вы можете выбирать: будете говорить или нет… — А если я предпочту молчание? — Как и условились, вы уедете в Рио. — Тогда я предпочитаю молчать. Мне же лучше будет! — Он явно обретал уверенность в себе. — Эй, парень, не знаю, о чем там ведет речь мистер Романько, а я тебе скажу вот что, — неожиданно вмешался в наш диалог Сузуки. — Ты же не подлец, это видно и невооруженным глазом. У тебя была мать — и ты ее предал, у тебя была девушка — и ты предаешь ее. Как жить собираешься? Вот чего я меньше всего ожидал! Тэд Макинрой разрыдался. В считанные мгновения творение рук Сузуки поплыло под градом слез, катившихся из глаз Тэда, он еще усугубил дело, кулаками вытирая их; глухие, рвущие, душу рыдания сотрясали сильное, мускулистое тело. Наконец он совладал со своими чувствами. — Не могли бы вы дать чашечку черного кофе? — обратился он к Яше, и тот поднялся и направился на кухню. — Я расскажу вам, мистер Романько, все расскажу, ничего не утаю. Хотя для меня это может обернуться бедой. Впрочем, она и без того стоит за моими плечами… Прав японец: я предал и себя, и своих близких… — Вы разрешите, Тэд, записать рассказ на пленку? — Хоть на видео…— Я, Тэд Макинрой, двадцати девяти лет от роду, из Монреаля, сын Патриции Харрисон и Мориса Макинроя, находясь в трезвом рассудке и обладая полной свободой выбора, сообщаю все эти факты советскому журналисту Олегу Романько и предоставляю ему полное право распоряжаться ими по собственному усмотрению, — торжественно, но немного мрачновато, начал Тэд, чем немало смутил меня — я, естественно, не ожидал от парня такой точности. Он перевел дух, сделал пару глотков кофе и продолжал: — Я уже входил в сборную Канады по боксу, когда впервые познакомился с человеком по имени Фрэд Маклоугли. Лет 40—42, он выглядел преуспевающим дельцом, что, впрочем, вполне соответствовало его положению в обществе. Он дождался, когда я закончил тренировку, представился и сказал, что был бы очень рад поговорить со мной. Я поинтересовался, о чем пойдет речь. Он заверил, что речь пойдет обо мне и о моей дальнейшей судьбе, спортивной, в первую очередь. Еще он сказал, что такой талантливый боксер не имеет права остаться за бортом настоящего спорта. «Профессионального?» — спросил я. «Да», — подтвердил Маклоугли. Честно говоря, я уже подумывал тогда о переходе: дела мои в университете шли ни шатко ни валко, сказывались частые отлучки на тренировки да соревнования, отец мой умер давно, и мы с матерью перебивались на скудные гроши, что выделяла мне наша федерация. Разве я не понимал, что на этом будущее не построишь? Тэд умолк, словно провалившись в бездну — бездну воспоминаний, и я обеспокоился, как бы он не замолчал вообще. Я поспешил сказать: — Тэд, ближе к теме, интересующей меня. — Не торопите завтрашний день, как говорят у нас, мистер Романько, потому что неизвестно, каким он обернется. Все, что я говорю, имеет прямое отношение к делу. Вы крепко ошибаетесь, оценивая роль вашего друга в случившемся тогда в «Мирабель». — Ошибаюсь? Вы о ком? — О Викторе Добротворе. Так вы будете слушать? — Да. Продолжайте, — спокойно сказал я, а на душе кошки скребли. Мне вдруг беспричинно стало так больно, так грустно, ну, хоть плачь. Неужто я и впрямь идеализировал Виктора? Можно ли так обманываться в человеке? — У Фрэда был шикарный лейландовский «триумф», такой шикарный, что мне даже сесть в него сразу было трудно решиться. Фрэд заметил мою неуверенность, безошибочно вычислил мои мысли и сказал: «У тебя такая штука тоже может быть, Тэд». Мы поколесили по городу и отаборились в небольшом, но дорогом — я заглянул в меню, у меня в глазах потемнело от цен! — ресторанчике. Новый знакомый предложил выбирать, но я слишком обалдел, чтоб шикануть как положено. Тогда Маклоугли сам начал диктовать, ого, получился список как для веселой компашки… — Кто такой Фрэд Маклоугли? — Не знаю… — Вот тебе и на! — Представьте себе! Чтоб мне никогда не увидеть родной земли! Не знаю. Свой человек в боксерском бизнесе, это точно, не раз встречал его и в Федерации бокса. Видел и с боссами мафии, с ним запросто здоровались люди из НОКа*["8] Канады. Кто он в действительности, не могу ручаться. Но то, что он обладает властью над другими, убедился на собственном опыте… На печальном собственном опыте… Встретиться бы мне с ним еще разок, да в безлюдном месте, разговор бы получился… — голос Тэда окрасился зубовным скрежетом. — Ну да, видно, не судьба… — Так это он повинен в ваших бедах? — спросил дотоле молчавший Сузуки. — Наверняка! Итак, мы славно провели время в светской беседе. Фрэд не предлагал мне ни контракта, что, честно вам скажу, крепко разочаровало меня, ни вообще не рисовал никаких радужных перспектив. Просто эдакий светский треп, и я даже пожалел, что потратил время попусту. Так и распрощались ни с чем, когда он довез меня до нашей с матерью хибары в районе порта. Я продолжал тренироваться, мать все болела — у нее была тяжелая, неизлечимая форма астмы, деньги, что я выручал от своих выступлений, почти целиком уходили на лекарства. Чтоб не окочуриться с голоду, стал тыкаться в профессиональные клубы, предлагая свои услуги, но неожиданно повсюду получал отказ, едва называл свое имя. Это действительно было для меня неожиданным, ведь еще недавно ко мне подкатывалось несколько менеджеров, не первого сорта, ясное дело, но все же достаточно авторитетных, предлагая свои услуги. Тогда я отказывал им, теперь они, точно сговорившись, начисто отвергали мои притязания. Я залез в долги по уши, но наша любительская федерация ничем не могла мне помочь, Тогда решил бросить бокс и искать себе занятие понадежнее. Поеду, решил, в последний раз выступлю на турнире в Москве — и гуд бай, мистер Бокс! Вот тут-то и появился человек от Маклоугли, привет от него передал. Спросил, не хочу ли я заработать, хорошо заработать. «Как?» — без лишних расспросов ухватился я за предложение, потому что дошел до ручки — вот-вот могли нас с матерью вышвырнуть из квартиры. «Захватишь с собой немного «снежка», у русских контроль на это дело слаб, у них наркотиков как бы не существует, и они свято верят в это, значит, риска — ноль, — сказал посланец Фрэда так просто, будто речь шла о сущем пустяке, а не о деле, за которое вполне можно схлопотать лет десять тюрьмы. — Вернешься, пять кусков — твои». Мне бы рявкнуть «нет!» да взашей выгнать этого современного данайца… Я сказал «нет», но оно прозвучало как «да». «Нет, — сказал я, — деньги вперед». — «Хорошо, — согласился тот. — Половину сейчас, вторую — после возвращения и получения сигнала, что передача достигла адресата». На том и порешили… — Когда это было? — спросил я. — Кажись, в восемьдесят втором, в конце лета… — Вы взяли передачу? — Взял, перевез без всяких забот. У вас на таможне вообще никто не спросил, что в чемоданах. Цветы, приветствия… Мне даже как-то совестно стало на душе: привез страшный яд, у нас я насмотрелся на его последствия… — И тем не менее привезли… — Но я себя успокоил быстро: раз русским это нужно, значит, пусть они сами и решают собственные проблемы… — Гениальное решение, ничего не скажешь. — В груди у меня нарастала волна ненависти к этому хлысту. А я еще его пожалел: мать больная, бедность… — Самое простое, какое только можно придумать, сэр. — Без всякого сожаления или раскаяния в голосе подтвердил Тэд. — Не успел отабориться в отеле, как телефонный звоночек. Эдакий игривый девичий голосок поинтересовался, кстати, на довольно-таки приличном английском, не буду ли я так добр пригласить мистера Рейгана. Я ответил, что мистер Рейган правит в Штатах и что она ошиблась адресом. Девица извинилась и положила трубку. То был условный код, засвидетельствовавший, что меня ждут. Проваландался в ожидании два дня, никто так и не подвалил ко мне. Я тренировался, перезнакомился с боксерами, с вашими, мистер Романько, тоже… — Тэд сделал паузу. Я сжался, точно хотел провалиться сквозь землю, потому что понял: сейчас он назовет имя Виктора Добротвора… Я не выдержал: — Вы познакомились с Виктором Добротвором? — В первый же день! Я передал ему привет от Джона Микитюка, его канадского знакомца. Славный парень! Затаскал меня по Москве, даже в музей завел… — Вы попросили, чтоб он привез вам лекарство для больной матери… — Какое еще лекарство? — Эфедрин. Тот, с которым его задержали в аэропорту «Мирабель»? — Еще чего! Добротвор в этой игре не участвовал, не-е… Так я лучше по порядку, хорошо? — Давайте. — Я плохо слышал, что рассказывал Макинрой, но, слава богу, «Сони» работал исправно и надежно. — Он объявился в последний день, в день финала, когда я уже подумывал, как бы избавиться от «подарка». Не везти же его назад: в «Мирабель» меня бы мгновенно сцапали… Когда перед самым выходом на ринг я отключился, собираясь перед боем, явился тот, кого я и ждать перестал. «Привет, Тэд! — сказал он. — Чтоб у тебя легче было на душе, отдай мне «снежок». Я ожидал кого угодно, но только не этого парня… Ведь через несколько минут мы должны были встретиться с ним на ринге… — Кто? — Нет, не Виктор Добротвор. И слава богу, что не он! Виктор мне нравился больше других. Добрый, чуткий… — Кто?! — Его звали Семен Храпченко, с ним я не обмолвился до этого ни словом… какой-то насупленный… может, оттого что мы выступали в одной весовой категории, но я не испытал к нему прилива чувств… А он же в этот момент, когда я передавал ему «подарочек», просто-таки трясся от страха. Хотя, думаю, брал не в первый раз… — Тэд Макинрой продолжал говорить, но я ничего не слышал и не видел, я оглох и потерял способность реально мыслить, и мозг нес какой-то бред, точно в ЭВМ взяли да засунули нарочно перепутанную программу. Не Виктор — Храпченко? Но почему же тогда в Монреале арестовали Добротвора? Чего же тогда стоят слова Храпченко, приведенные в той статье? Меня спас Тэд, догадавшийся, что творилось у меня на сердце. — И та злосчастная передача, из-за которой и случился монреальский сыр-бор, была храпченковская. Ему приказали — кто и как не знаю, не буду гадать, наверное, те, кто получал «снежок», — подложить это добро в спортивную сумку Добротвора. Что и сделал Храпченко в самолете, ведь сумки-то у них, если вы помните, совершенно одинаковые. Погоди, погоди… Я увидел ярко освещенный таможенный стол в «Мирабель», два адидаса, длинные и вместительные, что твой сундук, сумки, стоявшие рядышком, — распахнутая на всю чуть ли не полутораметровую длину добротворовская и намертво затянутая молнией — храпченковская. К ней таможенник даже не притронулся, точно знал наверняка, что там ничегошеньки, кроме спортивных причиндалов, нет. НЕТ! — Вот только до сих пор в толк не возьму, почему это все случилось в аэропорту, а не в гостинице, не в номере Добротвора, куда я должен был явиться, а вслед за мной — полиция. Его должны были задержать при передаче наркотиков со всеми вытекающими из очень суровых канадских законов последствиями за такие дола… — Друг Виктора Добротвора… Настоящий друг, — подчеркнул я, — позвонил в полицию и в редакции газет. Это — единственное, что он мог сделать доброго для Виктора. — Я не стал называть имя Джона Микитюка. — Так вот в чем разгадка… Спасибо тому человеку, что он хоть частично снял грех с моей души… Вы можете спросить, как я докатился до такой жизни… — Это понятно и без ваших оправданий. Ты согласен, Яша? — Подонок… — Вы правы — подонок. Но когда на шее человека затягивается петля, он хватается за соломинку, чтоб не задохнуться. Попробуйте это уразуметь. — Человек должен оставаться человеком, а не превращаться в скота! — заорал Сузуки, удивив даже меня этим взрывом возмущения. — Тэд, проясните одну деталь. Как вы очутились в тюрьме? — Меня наказали за драку на улице. Это было в тот же вечер, когда Виктора арестовали в аэропорту, и я нутром уразумел, что операция сорвалась и мне несдобровать. Мне позвонили, вызвали на улицу, и не успел я выйти, набросилось трое. Я и ударить-то не успел, как откуда ни возьмись — полицейский патруль. Да что там гадать — меня просто-напросто упрятали в тюрьму, чтоб не проболтался… Я поверил им, что так нужно, и не слишком огорчился… Верил, что не оставят в беде мать. А она скончалась в страшных муках, одна, без лекарств, брошенная на произвол судьбы… Когда меня выпустили из тюрьмы, я смекнул: теперь мой черед… Купил первые попавшиеся документы и удрал подальше… Но, видимо, не слишком далеко, раз вы разыскали… — Непонятно, Тэд, лишь одно: зачем понадобилось это «переодевание» сумок, в чем провинился Виктор? Ему предлагали тоже участвовать в контрабанде, а он отказался — или как? — Кому-то нужно, очень нужно было запачкать грязью его имя — Добротвор ведь великий спортсмен, и его знали в мире… — Минутку, Тэд. Это ваши домыслы или для такого заявления имеются веские основания? — Имеются, — после некоторого колебания ответил Макинрой. — Фрэд Маклоугли поделился со мной однажды радостью — он к тому времени ничего не скрывал от меня, доверял. Так вот, он как-то похвастал, что начинаются преотличные времена для тех, кто любит спорт. Тогда я доподлинно знал, какой он любит спорт и что любит в нем, и потому не сомневался, что затевается очередная пакость. Пакость, — это я говорю сейчас. Тогда я был одним из них и мыслил так, как они. Это было за год до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Создали комитет, или совет, не знаю точно, это держалось в секрете. Туда вошли такие, как Фрэд, с одной стороны, с другой — люди поважнее, из другой парафии… — Рассказчик умолк. Мы с Сузуки тоже молчали. — Из ЦРУ, — твердо, точно решившись на что-то очень важное для себя, сказал Тэд. — Это объединение ставило целью не допустить русских на Олимпиаду в Америку, а в дальнейшем вести дело на развал Игр путем коммерциализации, допуска профессионалов, приручения спортивных «звезд» с помощью спонсоров и неофициальных гонораров. Я видел Фрэда после Лос-Анджелеса — он пребывал на седьмом небе от счастья… Что касается наркотиков, то в профессиональном спорте они уже приносят немалые барыши. — Выходит, на очереди у них таки любительский спорт? — спросил Яша. Он был всерьез расстроен, грустен. Для него это оказалось открытием в полном смысле слова, открытием вдвойне тяжелым, потому что Сузуки был искренним спортивным болельщиком. — Он давно уже на очереди, — подтвердил Тэд. — Если у вас больше нет ко мне вопросов, то могу ли я попросить вас об одолжении? — У меня нет. — У меня — тем более, — сказал Яша. — Тогда прошу вас не публиковать ваши статьи раньше, чем спустя две недели. За это время я успею закопаться поглубже, где-нибудь в южноамериканской сельве… И не сообщайте, что я направился в Южную Америку. Прошу вас, я хочу жить… — едва слышно закончил Тэд Макинрой, бывший боксер и некогда честный человек, не сумевший удержаться от первого пагубного шага. Вслед за ним последовали другие, в результате чего вряд ли кто взялся бы сейчас поручиться за его жизнь. Меня же поразило другое: он сказал больше, чем я просил его. — Вы, Тэд, выложили много такого, чего и не было в моем вопросе. И тем значительно усугубили свое положение. Чем вызвана такая откровенность? — Да, я упал, и упал очень низко, господа. Но я многое передумал. Потому-то и сказал вам все, что знал. Виктор Добротвор, взявший на себя вину предавшего его товарища, сыграл в таком решении тоже не последнюю роль… Такаси вызвал такси, снова подкрасил физиономию Тэда Макинроя и увез его в порт. Мы с Яшей решили, что провожать его не только нет смысла, но и было бы слишком большой честью.
8
Универсиада подходила к концу. Как-то, выходя из гимнастического зала, где только что закончили выступления гимнастки и счастливые девчонки из сборной СССР дружно по-бабьи плакали в коридоре, я поймал себя на мысли, что немножко завидую им. Это были такие искренние, светлые и очищающие слезы радости, что я действительно позавидовал им — беспредельно уставшим, выложившимся, как говорится, до дна. Они еще даже не осознали, что золотые медали принадлежат им, и в Москве их ждут почести, и они смогут заикнуться наконец-то о повседневных своих проблемах и заботах, с коими — это доподлинно известно — к начальству без вот таких достижений и соваться незачем. В их незавидном положении великовозрастных (а ведь самой старшей едва минуло 20) спортсменок, вытесненных из главной, национальной сборной страны юными отчаянными сорвиголовами, чья смелость, как и беспредельное доверие к тренеру, заменившему и отца, и мать, и школу, не ведала никаких границ, Универсиада была настоящим эликсиром спортивной молодости. Без нее они давно были бы списаны окончательно и бесповоротно, и слава богу, если нашлось бы в их жизни дело, на какое можно сразу переключиться, порвав со спортом, чтобы не разорвать себе сердце неизбывной тоской по таким прекрасным, таким счастливым дням… И еще решил, что мне нравятся эти состязания именно по причине их взрослости, что здесь, на Универсиаде, — женская гимнастика, а не детская, здесь — женское плавание, а не состязание бездумных первоклассниц… И как бы не утверждали, что спорт способствует более быстрому созреванию личности, это ускорение, увы, несет в себе такие опасные задатки психологического рака, что, право же, не грех задуматься: справедливо ли нам, взрослым, умудренным опытом людям, бросать в раскаленное горнило страстей чистые, мягкие, доверчивые души мальчишек и девчонок, на авось надеясь, что они не сломаются и не будут потом всю долгую жизнь недобрым словом вспоминать свое «золотое» детство… Я медленно двинулся по аллее, ведущей из Дворца спорта к пресс-центру. Сфотографировался от нечего делать в обнимку с плюшевым красноголовым журавлем, расхаживавшим среди зевак, собравшихся у выхода поглазеть на гимнасток, дал пару автографов. Парило, небо в какой уж раз за день затягивали не слишком мрачные, но обильные дождевые тучи. Идти в пресс-центр тем не менее не хотелось: изрядно надоел ритуал, который ты начинал исполнять, стоило лишь показать охраннику ладанку и переступить порог. Пройдя вдоль стеллажа и набрав кучу протоколов, сообщений и уведомлений, во множестве поступавших сюда из самых разных служб и организаций — от очередного запрещения пожарной охраны не курить в неположенных местах до приглашения на брифинг представителя сеульского ООК — Организационного олимпийского комитета, — ты направишься к одной из машинок фирмы «Бразерс» с русским шрифтом. Вывалив всю эту макулатуру на стол, за работу садиться не спешишь. После жары тебя бросает в дрожь от переохлажденного воздуха. Потому-го сначала нужно сходить к автоматам, разливавшим чай или кофе, а заодно потолкаться среди пишущей братии — глядишь, набредешь на свежую информацию, пока не спеша прихлебываешь крепкий двойной кофе. Лишь после этого можно было усаживаться за машинку, чтобы начать работу, изредка прерываемую на минуту-другую, чтоб взглянуть на один из трех экранов телевизоров, что стояли вдоль стены на высоких подставках. Со времени отъезда Тэда Макинроя на «Еугении С» минуло несколько дней, и тревога постепенно ушла из сердца, и я уже не оглядывался по сторонам, прежде чем свернуть в темную улочку, что вела к моей гостинице, и не ходил, прижимаясь к стенам домов, прислушиваясь к «голосу» каждого автомобиля, нагоняющего тебя. С Яшей мы виделись почти ежедневно, он тоже, как я догадался, первые дни чувствовал себя не в своей тарелке и не слишком был уверен в собственной безопасности. Но теперь, как и я, избавлялся от этого комплекса. Однажды я столкнулся и с Такаси — он сидел на трибуне теннисного стадиона и отчаянно болел за соотечественницу, сражавшуюся, правда, без особого успеха, с американкой, известной в недавнем прошлом «звездой». Он не заметил меня или сделал вид, что не заметил, и я не подошел к нему, рассудив, что вряд ли наша встреча добавит что-то новое к тому, о чем мы оба хорошо осведомлены. Зато Серж Казанкини чуть не ежедневно вылавливал меня в пресс-центре и, привязавшись, как собачонка, послушно тянулся вслед за мной — на гимнастику так на гимнастику, на легкую атлетику так на легкую атлетику, куда угодно, хоть к черту на кулички, как признался он однажды. Ему было отчаянно скучно на Универсиаде, потому что передавать он, за исключением одной информации о пресс-конференции сеульской делегации, ничего не передавал. «Франс Пресс» Универсиада не интересовала. — Если б не ты, Олег, загнуться бы мне с тоски, — признался Серж, когда я однажды попытался отшить его, ссылаясь на невообразимо большой объем работы. — Ты работай, а я возле тебя тихонько посижу, ну, не гони меня… Что тут скажешь? Я не мог обидеть его, хотя этот постоянный хвост мог изрядно надоесть и человеку куда более сдержанному. Но я терпел Сержа и даже по его просьбе составлял ему компанию в пресс-баре, где подавали японское виски «Саппоро» — о качестве его мог судить лишь со слов Казанкини, а тот был не слишком вежлив по отношению к подношениям фирмы, бесплатно угощавшей журналистов ежедневно с 18 до 20.00 по местному времени. Я не стал посвящать Сержа в перипетии истории с Виктором Добротвором, хотя однажды обмолвился, что Виктор — чист, как стеклышко, я докопался до истины и теперь жду не дождусь, когда возвращусь в Киев, изложу все это на бумаге и добьюсь, чтоб статью опубликовала та самая газета, что так поиздевалась над ним после возвращения из Монреаля. Серж не стал доискиваться до деталей, ибо, судя по всему, та давняя история для него давно стала действительно историей, но тем не менее резонно заметил: — Ты тоже не слишком-то кати бочку на коллег. Они пользовались официальной информацией, и тут они чисты перед собственной совестью, согласись. Если мы станем дожидаться, когда вскроются какие-то детали, — и вскроются ли они вообще? — товар безнадежно устареет… — Наверное, ты прав. Хотя по мне лучше десять раз отмерить, чем один раз отрезать… по живому. Верить нужно человеку, его прошлому, его послужному списку, что ли, ну, конечно, не в канцелярском значении этого слова… жизненному послужному списку… Никогда не взрастет чертополох из ничего. А у Виктора ведь была такая незапятнанная биография! — Никто не знает, что делается в душе. Снаружи — ангел, а внутри давно сидит дьявол… — Молиться нужно чаще! — Да вы ведь русские — безбожники? — Молиться нужно правде. Всю жизнь! — О ля-ля! — ехидно рассмеялся Серж. — О ля-ля, мой друг, так нетрудно и лоб расколотить! — Лучше лоб разбить, чем совесть. — Нет, твой максимализм не знает предела, и я выхожу из спора. Пароль к жизненной истине есть терпимость и еще раз терпимость — к себе, к другим, к врагам и друзьям. — Нет, Серж, пароль к истине — правда. И только правда, какой бы тяжелой порой она не оказывалась для человека… Серж было дернулся, намереваясь заспорить, но мгновенно передумал. Уткнул нос в бокал с «Саппоро» и смаковал напиток, столь поносимый им, когда кончалось объявленное фирмой бесплатное время. Я подумал, что как ни трудно было Виктору все это время, но теперь уже близок час истины и его доброе имя вновь будет чистым и незапятнанным. Я предвкушал, как зайду в кабинет к Савченко, сяду в кресло, попрошу Валюшу — его секретаршу — никого не впускать и не переключать телефон, выну под недоуменные взгляды Павла магнитофон и на полную мощь включу запись рассказа Тэда и тут же стану переводить. Нет, сделаю по-другому: я перепишу запись и на фон голоса Макинроя наложу свой перевод, чтоб Савченко сразу понял, о чем речь. А потом уже попрошу вызвать в комитет на определенное время Храпченко и еще кое-кого, кому по делам службы нужно знать о таком, и вновь прокручу запись…За два дня до отлета в Токио — мне предстояло пожить еще там трое суток — ни свет ни заря позволил Серж. — Хелло, сэр! — заорал он в трубку так, что задребезжала мембрана. — Ты уже поднялся? — Не только поднялся, во и даже, успел сделать зарядку. Да не ори ты так, телефон сломаешь! — О ля-ля, извините, сэр! — У Сержа было игривое настроение, и я заподозрил, что он только что возвратился после какого-нибудь приема и решил вообще не ложиться спать — это было в духе Казанкини, хотя второго такого лежебоку в жизни своей не встречал. — Что там у тебя, Серж? У меня вода льется в душе. — Давай встретимся. — Давай. Я буду в пресс-центре в десять — началеодиннадцатого. — О’кей. Только обязательно! Есть для тебя сюрпризик. Честно говоря, я менее всего жаждал сюрпризов — и без того дел хватало. Я мысленно перебрал все достойные и необидные причины, чтоб каким-то образом избежать сюрприза, но Серж как в воду глядел: — Скажу заранее, ты будешь доволен. Вот тогда ты поймешь, кто такой Серж Казанкини и на что он способен! Против таких авансов у меня не нашлось веских доводов, и я согласился, решив, что, к сожалению, давно обещанную Яше поездку в национальный парк Рокко снова придется отложить. Нет, и впрямь Серж стал здесь в Кобе моим злым гением — ну, просто проходу не дает. Вот с такими не слишком-то лояльными мыслями я направился в пресс-центр. Ефим Рубцов вынырнул откуда-то из спешащей к началу состязаний во Дворце спорта толпы и чуть не наткнулся на меня. Он резко изменил направление, развернулся и исчез среди людей, точно его и не было еще секунду назад. «А этого-то что сюда принесло — Универсиада уже почти закончилась? — с неприятным ощущением, точно напоролся на змею, подумал я. — Он же никогда и нигде не появляется просто так, без определенной цели. К нашим он вряд ли сунется… Тогда зачем?» Так и не решив эту проблему, ухудшившую и без того не слишком-то хорошее настроение, вызванное в немалой степени и обидой, высказанной мне Сузуки, когда я сообщил ему новость («Олег, я ведь здесь не турист, и мне тоже нелегко было выкроить эти несколько часов, чтобы побывать в Рокко… Даже не уверен, сумею ли сделать это в будущем», — холодно, как никогда прежде, отрезал Яша), вошел в пресс-центр. Сержа увидел сразу, издали: он восседал на своем любимом месте напротив бармена — высокого, статного и по-настоящему красивого японца лет 30 в черном строгом смокинге, чья грудь была похожа на средневековый панцирь — она была впритык увешана бесчисленными значками, подаренными ему иностранными журналистами. Были там и два моих: Спартакиада Украины — по весу и размеру, наверное, самый большой значок, и динамовский футбольный мяч. — Ну вот, ты спешишь, отменяешь дела, а он прохлаждается в баре! Может, в этом и был твой сюрприз? — набросился я на Казанкини. Серж растерялся, он никак не ожидал такого начала, открыл рот и ошалело уставился на меня. — Что ты смотришь, как баран на новые ворота? — Не знаю, почему ты нервничаешь, но если б я знал, что ты так отнесешься к моему предложению, никогда не занимался бы этой встречей, — наконец вымолвил Серж с глубочайшей обидой в голосе. «Ну вот, что это сегодня со мной? Второго человека обидел ни за что ни про что!» — запоздало охладил я свой пыл. — Извини, Серж… Просто увидел тебя здесь… — …и решил, что Серж просто веселый трепач. Правда же, решил? Ну! — Сознаюсь, был такой грех. — Ты же знаешь — в пресс-центр ни под каким соусом посторонних не пускают. Мой сюрприз ждет нас в баре напротив, в здании велотрека. Пошли.
Сюрпризом оказался высокий худощавый человек с прямыми широкими плечами, выдававшими в нем в прошлом спортсмена. Незнакомцу было лет 45, никак не меньше, но выглядел он моложаво, и если б не седые виски, вряд ли дал бы ему больше сорока… Он был в шортах, в белой тайгеровской майке и резиновых японских гета на босу ногу. Перед ним на столике стояли чашечка с кофе, рюмка с коньяком и стакан воды с кусочками белого льда. Он поднялся, когда мы направились к нему, широкая улыбка высветила ровные, как у голливудской кинозвезды, белые зубы, глаза смотрели прямо, приветливо. Я подумал, что он похож на типичного американца, и не ошибся. — Майкл Дивер, — представился он. — Олег Романько. Он с силой пожал мне руку. — Наверное, я видел вас в Мехико-сити, на Играх, — сказал он. — Я не пропустил ни одного финала по плаванию. Был там в составе американской делегации, помощником олимпийского атташе. К тому же сам — бывший пловец, правда, до Олимпийских игр мне добраться не посчастливилось. — Я понял, что Серж успел дать мне исчерпывающую характеристику и таким образом упростил ритуал знакомства. — Что будете пить? Виски, коньяк? — Спасибо. Сержу, насколько я в курсе дел, коньяк надоел еще во Франции, потому ему — виски. Мне — баночку пива. — О’кей. И кофе! — Мистер Казанкини много рассказал мне о вас, — сказал Майкл Дивер и сделал легкий наклон головы в сторону Сержа. — У нас с вами, мистер Романько, есть общая тема — Олимпийские игры, олимпизм и все, что связано с «олимпийской семьей». Поэтому я согласился с предложением… — …просьбой, — перебил его Казанкини. — …просьбой мистера Казанкини, — поправился американец, — рассказать вам о некоторых аспектах современного олимпийского движения, я так думаю, вам малоизвестных. Нет-нет, я никоим образом не хочу умалить ваш опыт, но, поверьте мне, об этих делах пока знают или догадываются немногие… — Я весь внимание, Майкл. Вы разрешите называть вас так запросто? — Буду вам признателен. Итак, речь идет о существующем заговоре против олимпизма. Олимпизма в том изначальном смысле, коий был вложен в него древними греками и возрожден Пьером де Кубертеном. Я в Мехико представлял не НОК США, хотя и работал под его крышей, а Центральное разведывательное управление, и задачи передо мной были поставлены в несколько иной плоскости, чем ставят тренеры задачи перед спортсменами. Хотя было и кое-что общее: они хотели выиграть золотые медали, я же хотел кое-что выиграть в политической игре. Преуспел ли я там, не мне судить. Но мое начальство достаточно высоко оценило мои труды… Увы, я подвел их ожидания и сошел с их корабля. — Как это следует понимать, Майкл? — В прямом смысле. Сразу после Игр в Мехико-сити я отправился не в Вашингтон, а сел на корабль в порту Веракрус и… с тех пор путешествую по миру. Я собираю свидетельства и свидетелей, чтобы подтвердить мое заявление о существующем заговоре против Игр. Я неоднократно выступал с разоблачениями усилий, предпринимаемыми в этом направлении некоторыми странами, слишком близко к сердцу принимающими поражения своих спортсменов от русских, восточных немцев и других. В первую очередь это исходит от влиятельных кругов моей страны… — Я читал некоторые ваши статьи, Майкл, и рад познакомиться с вами лично. Я могу записать интервью с вами? — Увы, я не готов для серьезной беседы. Я здесь проездом, а рукопись своей новой книги, как и документы, добытые мной в последнее время, особенно после Игр в Лос-Анджелесе, храню, как всякий уважающий себя американец, в банке… В одной нейтральной стране, так скажем… Я готов буду поделиться с вами некоторой информацией или даже дать вам экземпляр моей новой рукописи — публикация в вашей прессе будет стоящей рекламой. Ну, скажем, через два месяца. Устроит? — Мне не выбирать, Майкл. Через два месяца… значит, через два месяца… Как это организовать? — Вы не собираетесь быть в Европе? — Возможно, в конце ноября в Лондоне, если наш футбольный клуб выйдет в одну восьмую Кубка кубков… — Вы мне тогда дайте знать! Вот по этому адресу и на это имя. Я буду неподалеку, в Париже, и смогу прилететь на денек в Лондон. К тому времени с легкой руки и с помощью мистера Казанкини моя книга уже будет, как говорится, испечена… — А, понимаю, беседа со мной — дань мистеру Казанкини. — В немалой степени. Хотя такая встреча полезна и для меня. Моя цель — привлечь как можно более широкое внимание мировой общественности к опасности, нависшей над Играми. Ведь теперь объединились самые черные силы — политики, бизнесмены и мафия. Мне страшно даже подумать, что они способны натворить с этим едва ли не самым прекрасным в наше критическое время творением человечества! Допинги, наркотики, подкуп спортсменов… — Жаль, что мы не можем сейчас побеседовать на эту тему. — Я привык подкреплять слова документами. Я это сделаю, обещаю вам. Кое о чем вы сможете рассказать первым, потому что даже я не решусь обнародовать некоторые факты… Только у вас в стране, которая является гарантом чистоты Игр, ее идей и традиций, это возможно. — Благодарю вас, Майкл! — Ну, вот, а ты чуть меня не разорвал, — вставил слово Серж, улыбаясь во весь рот. — Спасибо, Серж, мы ведь с тобой не конкуренты! Мы дружески попрощались с Майклом Дивером, и мне приятно было ощутить его крепкое, мужественное рукопожатие, и белозубая, открытая улыбка этого американца еще долго стояла перед глазами — такой человек не мог не понравиться, и я был благодарен Сержу за встречу. — По этому случаю ты мне составишь компанию в баре пресс-центра? — спросил Казанкини и выжидательно уставился на меня. — Куда от тебя денешься…
9
Я заблудился. От моей пятнадцатиэтажной гостиницы «Дай-ичи» до Гинзы — рукой подать. Правда, за двадцать лет-главная улица японской столицы неузнаваемо изменилась — выросла ввысь, расширилась, двух- и трехэтажные строения уступили место современным высотным зданиям, конторам и банкам, универсальным магазинам, витрины которых стали зеркалом процветающей страны, вовсю стремящейся «догнать и обогнать» старушку Европу, чей пример послевоенного процветания был взят местными нуворишами за образец для наследования не без тайной мысли сделать еще лучше, потихоньку обойти на повороте образец, чтобы… той же самой Франции и Италии, Испании и Люксембургу, Швейцарии и Великобритании продавать одежду, способную поспорить с моделями мадам Риччи и Кардена, автомобили почище «фиата» и «рено», радиотехнику, шагающую на шаг впереди «Сименса» и «Филиппса». Они с этой же целью построили в центре Токио собственную Эйфелеву башню, копию, конечно, но копию столь совершенную, что она затмила парижскую по всем статьям — и чуть не в половину легче, и пропускная способность выше, и средствами безопасности оснащена более надежными… Яша говорил мне, что и токийский Дисней-Лэнд — тоже копия американского — намного современнее в техническом отношении. Сохранив в незыблемости форму, японцы насытили ее такой техникой и ЭВМ, что первопроходцам «лэнда» оставалось только почесывать затылки, высчитывая, в какую кругленькую сумму обойдется им модернизация собственной сказочной страны на японский манер… Но было в Токио место, где мало что изменилось, и дух прошлого — такого блестящего и воодушевляющего — не выветрился и поныне, спустя два десятилетия. И этот дух, живший в моем сердце, как спящий до поры до времени вулкан, вдруг пробудился, и меня неудержимо потянуло туда — в страну моей юности, навсегда запечатленной в душе образами и ароматами, — в Олимпийский парк. Не мешкая, я собрался, без сожаления выключил первую программу местного телевидения — местной ее можно было назвать лишь с большой натяжкой, потому что вот уже несколько лет отдана она ретранслируемой по спутнику связи программе Эн-Би-Си из США. Она идет на английском языке практически круглые сутки, и многие японцы начинают и заканчивают день под гортанную американскую речь, передающую последние известия, в том числе из Японии, нередко опережая хозяев. «Дай-ичи» — отель, давший мне приют на эти трое суток, с раннего утра был по-праздничному освещен и полон жизни — уже открылись дорогие фирменные магазинчики в вестибюле, толпы стареющих американок и американцев, дымя сигарами и трубками, распуская шлейфы из дорогих духов и громко разговаривая, заполоняли зимний сад и просторный холл на втором этаже. На удивление — в ресторане оказалось довольно малолюдно. Я поставил на поднос блюдечко с двумя крутыми яйцами, на другое бросил несколько ломтей ветчины и тонко нарезанного желтого, как сливочное масло, сыра, налил бокал апельсинового сока, положил столовые приборы. Немного задержался у шведского стола, окидывая взглядом зал и выбирая место. Столик у окна, покрытый накрахмаленной, хрустящей темно-бордовой скатертью и украшенный крошечным, но совершенным по форме букетиком неярких цветов, показался мне самым привлекательным. Быстро — эта пагубная привычка сохранилась со времен спорта, и мне так и не удалось избавиться от нее и в более поздние времена — поел, сходил к столу, чтобы налить из тяжелого стального цвета металлического термоса парующий ароматный кофе, и вышел из ресторана. Не дожидаясь лифта, сбежал вниз — «и ветер дальних странствий дохнул ему в лицо». Я вышел на Гинзу где-то в центре, почти возле круглого здания — башни фирмы «Мицубиси», минуту размышлял, в какую сторону двинуться, решил — влево и побрел походкой туриста, привыкшего крутить головой, чтоб, не приведи господи, не пропустить что-нибудь стоящее. Дошел до знакомого моста городской железной дороги, пересекавшего Гинзу, — он был уже и тогда, в 1964-м. То ли память мне изменила, то ли тут так все изменилось, но я не узнавал знакомых мест, где бывал и днем, и поздней ночью, — мы ходили глазеть на колдунов и гадальщиков. Освещенные колеблющимися огоньками высоких свечей, они устраивались на мрачной, облезлой и грязной улочке с домами без окон. Молодые и старые, мужчины и женщины, одетые кто во что горазд — от кимоно музейной ценности до обшарпанных бумажных рубах и мятых, давно потерявших цвет штанов, — они сидели вдоль стен, как изваяния — молчаливые и неподвижные. И лица сплошь разные: от иных глаз не оторвать — изможденные, с какими-то черными знаками-полосами на щеках, с лихорадочно горящими, нет, светящимися, как у сов, глазами, точно заглядывающими к вам в душу и перебирающими, наподобие скупого рыцаря, ее нетленные богатства. Лишь губы, точно жившие отдельной жизнью от лиц, что-то шептали, смоктали и присмактывали. И клиенты — все больше бедный, трудовой люд с усталыми, поникшими фигурами и угасшими глазами — подпадали под этот дьявольский взгляд и цепенели, внимая беззвучно словам, что срывались с едва заметно движущихся уст. Это было поистине потустороннее пиршество, заставлявшее человека забывать, что тут, рядышком, в какой-нибудь сотне метров, гремела автомобилями, блистала шикарными витринами и шелестела тысячами разноязыких голосов Гинза — бесконечная река современной жизни, по которой с отвагой и тайными замыслами неслась непонятная для европейца, побежденная, но непокоренная Япония; ее Олимпиада стала не одним лишь спортивным событием — она открыла миру новую страну, уже заглянувшую в будущее… Я хотел увидеть вновь Олимпийский парк со стадионом, где в последний день Игр, перемешавшись и перепутавшись, американцы, итальянцы, таиландцы и кувейтцы, бразильцы и французы, норвежцы, чилийцы, индусы и жители Барбадоса, русские, грузины, украинцы, армяне шагали вперемежку с болгарскими, венгерскими, польскими спортсменами; мы были единой, нераздельной мировой семьей, осознавшей свое человеческое родство и опьяненной этим открытием; и не сыскать среди нас человека, способного в тот миг вскрикнуть: «Ненавижу черных!», «Ненавижу белых!», «Ненавижу коммунистов!», «Ненавижу капиталистов!» Такое было просто невозможно в той атмосфере всеобщей любви, радости и братства. Олимпийский парк был пуст и по-осеннему тих. Сюда не долетали звуки многомиллионного города, взявшего его в сплошное кольцо улиц и небоскребов. Входы на стадион были прочно закрыты стальными решетками с автоматическими замками. Я постоял у решетки, вглядываясь в прошлое. Стадион напоминал человека, утомленного долгим, трудным путем и сознающего, что его звездный час миновал и впереди лишь забвение. Мне стало грустно, и, возможно, впервые я с внезапно открывшейся четкостью осознал, что и мой спорт, и моя юность остались где-то там, за невидимыми отсюда дорожками стадиона, где есть и вмятинка от твоих шагов, но попробуй дотронься, пройдись, как тогда… Бассейн, похожий на старинную ладью, тоже оказался под замком и дышал запустением, и я поспешил ретироваться, решив, что незачем травить душу, ведь верно говорят: никогда не возвращайся в свою молодость, ничего, кроме разочарований, не ждет тебя. Но было еще одно местечко, где остался кусочек моего сердца, и там я не мог не побывать… И заблудился… Это было рядом с Гинзой, во всяком случае, неподалеку, и мне казалось, что я легко отыщу дорогу туда, где плыл сквозь время крошечный скверик со склоненной над искусственным ровным овалом озерца с темной, но чистой и свежей родниковой водой японской ивой; в глубине отливал золотом в лучах заходящего солнца бамбуковый домик, где обитали духи давно стершихся в памяти веков, и клочок сине-белого облачка, застывшего в озерце, и тихий голос Фумико: «Вы уедете, а я стану думать о вас и вспоминать…» У нее было фарфоровой чистоты славянское лицо и черные как смоль гладкие волосы, полные, чувственные губы розовой свежести, тонкая, идеально изваянная фигурка — все свидетельствовало о славянском совершенстве, и лишь темные, чуть удлиненные глаза выдавали ее восточное происхождение. Ее мать — русская дворянка из Подмосковья, отец — японец, профессор стилистики Токийского университета Васеда; правда, когда они познакомились в Шанхае, он еще был не профессором, а студентом-практикантом, до безумия влюбившимся в терпящую лишения русскую беженку. У них родилось трое детей: две дочери и сын — он появился на свет последним. Вскоре родители разошлись — негоже оказалось профессору японского университета иметь жену-иноземку. Сын жил с отцом, и не знал я, что этот шестнадцатилетний крепыш с коротким спортивным бобриком жестких волос, с широкой, тяжелой челюстью каратиста, ни слова не понимавший по-русски, — брат Фумико, говорящей на чистейшем, изысканнейшем языке дворянских салонов начала века; старшая сестра тоже получила больше японской крови, хотя довольно сносно говорила на языке матери. Я увидел Фумико в Олимпийской деревне, когда возвращался из бассейна после плавания — усталый, измочаленный, как обычно, когда дело близится к завершению и ты в мыслях и раздумьях — весь в будущем, сокрытом от тебя тайной, но ты стремишься заглянуть под ее непроницаемый полог и потому из кожи лезешь на тренировках, чтоб по долям секунды, по каким-то неуловимым нюансам самочувствия, душевного настроя решить, как выступишь. В такие часы ты отрешен от всего, что не входит в сферу твоих спортивных интересов. Я увидел ее и остолбенел. Она тоже растерялась, и какое-то мгновение мы молча пожирали друг друга глазами, и первой опомнилась Фумико. Она так обворожительно и обезоруживающе улыбнулась, что жаркая радость затопила мое сердце. — Здравствуйте! — пропела девушка, и на меня словно повеяло ветерком, сорвавшимся с поверхности горной речушки, несущейся в диком ущелье. — Здравствуйте! — повторила она, и я совсем растерялся и молчал, как истукан. — Я работаю переводчицей в советской делегации. Меня зовут Фумико… — Фумико? Но ваш язык… — Я — японка, мама у меня — русская… А вы кто? — Меня зовут Олег. — Я — пловец из Киева… — Я знаю, это на Украине. — Вы никогда не были у нас в стране? — Никогда. — Ее лицо омрачила мимолетная грусть. — И очень хочу побывать. Мне обещали прислать вызов, чтобы я могла учиться в Московском университете. Тут я узнал, что Фумико работает личной переводчицей руководителя советской делегации, председателя Комитета по физкультуре и спорту; я проникся к нему недобрым чувством, оно потом всегда преследовало меня, когда мы встречались с ним, — будь то на приеме сборной перед отъездом на международные состязания или в неофициальной обстановке, когда он запросто являлся к нам в раздевалку, никогда не испытывая смущения от того, что он в костюме и при галстуке (председатель комитета обожал красиво одеваться, нужно отдать ему должное), а мы — голяки, только что из-под душа. Мы-то и встречались с Фумико дважды: тогда, в первый раз, в Олимпийской деревне и потом за день до отъезда, когда она отпросилась у своего начальника и повела показывать мне Токио. Мы бродили по парку Уэно и пытались понять, о чем задумался знаменитый роденовский «Мыслитель», в одиночестве восседавший на зеленой лужайке, отгороженный от нас не только своими вечными думами, но и торчащим поблизости полицейским. Омыв лица теплым дымком священного огня у древнего храма Асакуса, что тяжелой горной глыбой застыл в глубине ушедших столетий, пили кока-колу у уличного бродячего торговца и угощались миниатюрными шашлыками из печени ласточки; Фумико рассказывала, что у них дома, где она живет с матерью и старшей сестрой, в углу висят иконы русских святых — чудотворцев и горит лампадка, а мать — она уже не выходит из квартиры — подолгу стоит на коленях, вымаливая прощения у бога. И ей, Фумико, становится страшно: а вдруг этот бородатый, мрачный святой, застывший на потемневшем от времени дереве, и впрямь оживет и спросит у нее сурово: «Ты почему не чтишь меня?», и она не будет знать, как ответить ему, чтоб не обиделся на нее и на маму и не причинил им зла. Поэтому она тоже тайком от остальных украдкой молится и просит святого быть к ним подобрее… А потом, — тут Фумико заговорщицки посмотрела на меня — не выдам ли ее тайну? — потом бегу сюда, в этот синтоистский храм, чтобы помолиться весеннему небу, прорастающему бамбуку, осеннему дождю и желтым листьям, первому снегу и первой весенней молнии и попросить у них счастья, потому что она так хочет быть счастливой… Как мы набрели на этот заброшенный скверик, не помню, но только мы уселись на скамью, прижавшись друг к другу, и я вдыхал свежесть ее губ, аромат волос, чувствовал жаркое тело; мы потерянно молчали, словно забыли все слова на свете, но сердца наши понимали друг друга без всяких слов. — Я приеду в Москву, ты встретишь меня? — спросила Фумико на прощание. — Я буду ждать тебя, Фумико. Только обязательно приезжай! Я получил от нее новогоднюю поздравительную открытку, в ней она также сообщала, что летом, верно, прилетит в Москву. И больше я не видел Фумико. Однажды поинтересовался у администрации университета на Ленинских горах, нет ли среди иностранных студентов знакомой девушки из Японии, но ответ был отрицательный… И вот сейчас, как не кружил я поблизости от того озерца, так и не нашел его, а спросить было не у кого. В очередной раз очутившись на Гинзе, я вдруг с потрясшей меня до глубины души ясностью подумал: «А было ли вообще то озерцо, и золотой домик из бамбука, и девушка с фарфоровым личиком по имени Фумико?» Нет, и впрямь не стоит возвращаться в юность… — Ну, где еще встретишь советского человека? На Гинзе! — кто-то сильно и бесцеремонно похлопал меня по плечу. Я обернулся. А мог бы и не оборачиваться — передо мной стоял Миколя, Николай Владимирович, зампред ЦС собственной персоной. Похоже, он и впрямь рад меня видеть. Неужто заграница так действует на людей, что любой братом покажется? — Приветив. Гуляешь? — Знакомлюсь. Первый раз в Токио, спрашивать будут, как там Гинза. Ничего особенного, скажу тебе. Елисейские поля куда больше впечатляют. Хотя, скажу тебе, япошки прут на Европу, еще как прут! Ты только взгляни вокруг — блеск! — Ты ведь говоришь: ничего особенного? — Не придирайся к словам, Олег. Вообще давно хочу спросить тебя: какая это кошка между нами пробежала? Старые товарищи, вместе спорт в университете делали (он так и сказал — «делали», не занимались спортом, тренировались, выступали, выигрывали и терпели поражения, нет — «делали»), как-никак земляки. Убей, не пойму! — Не убивайся, Миколя. — Я увидел, как его передернуло от такой фамильярности, но, честное слово, мне было наплевать на его ощущения, он перестал быть для меня человеком с того самого памятного разговора о судьбе Виктора Добротвора. — Не убивайся. Живи. — Ну, вот, я с тобой всерьез, а ты отшучиваешься. Ведь не мальчик. — Не сердись, Миколя. Но скажу тебе неприятную новость… Он сразу изменился в лице, испугался ли — не стану утверждать, но то, что Николай Владимирович напрягся, собрался, внутренне задрожал, — это как пить дать. Да по лицу, по глазам можно было безошибочно прочесть: он не любит плохих вестей. — Успокойся. Может, я и не прав. Вполне логично будет, если ты вместе со мной порадуешься и осудишь свою ошибку, — беззаботно болтал я, в открытую издеваясь над ним. И он понял это, но ничего поделать не мог: ждал новость и приготовился к отражению опасности. Люди его положения всегда готовы к такому обороту событий, должны быть готовы… Молчание затягивалось. Он уже сверлил меня ненавидящими глазами, и я догадывался, что он ни за что не простит мне этого унижения — ни сейчас, ни в обозримом будущем. И пусть! Так и хотелось выпалить: «Пепел судьбы Добротвора стучит в мое сердце…» Но сдержался, потому что Миколя мог не понять намека, и потому сказал: — Виктор Добротвор не виновен. — То есть как не виновен? — Я понял, что наши мысли были настроены на одну волну, и Николай Владимирович своим вскриком, возмущением подтвердил это. — Вот так — не виновен. Чист, как первый снег. — Кто сказал? — Я. — Это уже доказано? — Доказательства? — Я похлопал по адидасовской сумке, перекинутой через плечо, где лежала 90-минутная пленка «Сони» с записью исповеди Тэда Макинроя. Там было и имя того, кто предал Виктора. — Вот здесь! — Но имя Семена Храпченко намеренно не назвал. Пусть это будет ему следующим сюрпризом: я слышал, что именно Храпченко ходит у Миколи в любимцах, об этом знает весь ЦС… — И что, что там? — Он, по-моему, уловил каким-то звериным чутьем, что в этой сумке замерла и его беда. Я опять подумал стихами: «Так вот где таилась погибель моя…» — Скоро узнаешь, Миколя. Прощай. Я повернулся и влился в толпу оживленных, беззаботно бредущих по Гинзе людей, среди них редко-редко попадались японцы. В это время суток Гинза отдается заезжим, и они хозяйничают в ее магазинах, барах и кафе, торчат на перекрестках, пытаясь что-то выудить из карт-схем, и озабоченно вертят головами из стороны в сторону… Я тоже проторчал битый час на буйном перекрестке, вглядываясь в лица и вслушиваясь в голоса, точно мог увидеть или услышать Фумико…10
Сеял мелкий холодный дождь, небо темнело так низко и зловеще над головой, что хотелось побыстрее поднять воротник плаща, бегом проскочить открытое пространство и нырнуть — куда угодно нырнуть: в универмаг, в кафе, в двери троллейбуса с запотевшими стеклами — лишь бы избавиться от этого всепроникающего, угнетающего чувства бесцельности и безысходности, что не покидало меня с той самой минуты, когда Савченко, не глядя мне в глаза, как-то мертво произнес: — Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… Я как опустился в твердое кресло у продолговатого столика, примыкавшего к письменному столу зампреда, так и прирос к нему, и тело стало каким-то свинцовым, неподвижным, и даже мысли текли вязко, как твердеющая черпая смола, именно черная, потому что весь мир потерял иные краски в ту минуту, когда я услышал савченковскую новость. Нет, не так представлял я себе миг торжества, когда, ворвавшись в кабинет Савченко, поведаю ему потрясающую историю падения и возвышения Виктора Добротвора и мы вместе от души порадуемся не только за парня, что на поверку оказался действительно таким, каким мы его себе представляли, но и за самих себя, что не уплыли по течению слухов и домыслов, коими давно обросла та монреальская история. Как важно в жизни быть твердым и как невероятно трудно им быть! Савченко встретил меня приветливо, порывисто, с искренней радостью обнял, живо поинтересовался, как съездилось в Японию и многое ли там в действительности выглядит так, как пишут и рассказывают с экранов телевизоров, или это только парадная сторона медали — для иностранцев, для паблисити, для авторитета страны. Павел Феодосьевич несколько сбил меня с заранее выбранного пути, намеченного еще в Токио и не однажды апробированного в мыслях в самолете по дороге в Москву. Пока я, замешкавшись, думал, как покороче, но так, чтоб не обидеть скороговоркой, суммировать японские впечатления, Савченко воскликнул: — Э, да ты там не впервой! Выступал же в Токио на Играх, выступал? Тем более любопытно услышать твое мнение, ведь есть с чем сравнивать… Тут телефонный звонок обернулся спасительной передышкой. С чего начать? Ведь главное — Добротвор, вот самая потрясающая новость. С нее и нужно начинать! Савченко, выслушав говорившего, недовольно, непривычно желчно бросил невидимому собеседнику: — А ты и выкладывай начистоту, как было. В кусты, а, востер! Кому же отдуваться прикажешь? Когда славой чужой прикрываться, ты тут как тут. Нет, Иван, ты мне голову не крути: он был твоим спортсменом в первую очередь, значит, тебе и первому держать ответ. Не стращай, не нужно, я не из трусливых. Да, защищал, да, помогал! Значит, ошибся. Бывай… Медленно, точно оттягивая время, тщательно уложил трубку, но было видно, что внутри у него все кипело и он с трудом сдерживал себя. — Что, Паша? — Как не любим мы смотреть правде в глаза… — Ты о чем? — Впрочем, ты, кажись, тоже был моим единомышленником, тоже принимал участие в его судьбе… — В чьей судьбе? — догадка уже притормозила бег сердца. — Добротвора… — Что еще с ним произошло? — Умер… — Умер? — Мне померещилось, что я проваливаюсь куда-то вниз. — Да, от слишком большой дозы наркотиков… — Что ты говоришь, Паша? Добротвор — наркоман? — Выходит, ошиблись мы с тобой в нем… Проскочили мимо сада-огорода… История получилась грязная, хотя такую возможность я никогда не сбрасывал со счетов. Слишком уж мы увлеклись в последнее время профессионализацией. Да и от вас, журналистов, только и слышно: профессионально выступил, профессионально силен, профессионально… А ведь о главном, о человеческой сути, стали забывать. Совершит спортсмен проступок, так у него легион заступников на самых разных уровнях: Простить, побеседовать, пусть даст слово, что больше никогда не будет… он ведь такой мастер, такой профессионал. Что ж тут удивляться, когда чертополохом эгоизма и вседозволенности зарастает чистое поле совести… Я почти не слышал Савченко. И рука моя не потянулась к синей нейлоновой сумке, где лежал магнитофон с записью признаний Тэда Макинроя… Зачем она теперь? — Когда это случилось? — только и смог выдавить я, когда Савченко умолк. — Три дня назад… В квартире обнаружен целый арсенал — шприцы, наркотики — готовые и полуфабрикаты… Заведено дело… Если тебе интересно, могу свести со следователем. Пожалуй, даже в этом есть смысл, ты ведь тоже знал, и знал неплохо, Добротвора, твои показания будут полезны. Словно спеша избавиться от неприятной темы, не ожидая моего согласия, Савченко набрал телефонный номер. Когда ответили, нажал кнопку громкоговорителя, чтоб я мог слышать разговор. — Леонид Иванович, Савченко. Есть новости? — Здравствуйте, Павел Феодосьевич, — громко и отчетливо, точно человек находился с нами в комнате, но вдруг стал невидимкой, прозвучал голос. Знакомый голос Леонида Ивановича Салатко, заместителя начальника управления уголовного розыска, а для меня просто Леньки Салатко, с коим столько спортивной соли съедено. Он уже подполковник, располнел, выглядел солидно, как и полагается подполковнику, я даже слегка робел,, когда видел его в форме. — Работаем. — Леонид Иванович, я хочу вам порекомендовать побеседовать с журналистом Олегом Ивановичем Романько. Он у меня сидит. Кстати, был свидетелем того происшествия в Монреале, да и вообще знал Добротвора чуть не с пеленок. Возможно, его показания тоще будут полезны. Я, не вставая из кресла, протянул руку, и Савченко сунул мне трубку. — Привет, Лень, рад тебя слышать, век не виделись! — Здравствуй, Олежек, увидеть бы тебя. Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Ты, читал, в Японии обретался? И когда тебе надоест скитаться по разным там заграницам? Я не был за границей ни разу, ну, Болгарию же ты заграницей не назовешь? — а в другие не тянет… Когда сможешь заглянуть? — Как-нибудь попозже… Отпишусь, отчитаюсь за командировку и тогда зайду. — Ну, гляди, жду тебя в любой день, Олежек! Савченко выключил микрофон. — Я же забыл, — виновато произнес он, — что куда ни кинь — всюду бывшие спортсмены окопались. А еще говорят, что спорт — забава. Людей воспитываем, и неплохих. — Я знал эту привычку Савченко говорить и возбуждаться от звука собственного голоса. Но тут он быстро спохватился: — Бывает, бывает, и брак выдаем… Я вскоре распрощался с гостеприимным зампредом, вышел из Комитета и побрел куда глаза глядят. Потом зарядил нудный, холодный дождь, и это свинцовое небо — все было под стать настроению. Хотелось проснуться и убедиться, что все случившееся три дня назад — сон, дурной сон, когда ты вскидываешься посреди ночи и никак не можешь уразуметь — во сне или наяву происходит действо. Я потолкался в сыром, душном помещении магазина тканей на Крещатике. Меня кто-то толкал, кому-то я наступал на ноги и извинялся. Зачем-то брал в руки и мял совершенно ненужные мне шерстяные ткани, просил показать тюк, лежавший на верхней полке, чем вызвал недовольство продавщицы с перевязанным платком горлом и сиплым голосом; ткнулся в кафе при метро, но к кофеварке было не протолкнуться — цены на мировом рынке на кофе, говорят, никак не могут упасть. Поймал себя на мысли, что в разгар рабочего дня народу как в праздник. Но вот в кафе-мороженом — ни души, и закутанная в толстую шаль пожилая продавщица равнодушно выдавила из автомата некое подобие светло-коричневого «Монблана». Не забыла сунуть пластмассовую ложечку, налила стакан ледяного виноградного сока из автомата-холодильника. Отсюда, со второго этажа, Крещатик выглядел вовсе осенним — лужи, кое-где уже и желтые листья поплыли, как кораблики в бурном море… Мороженое я есть не стал, а вот сок выпил с удовольствием, и он несколько охладил перегретый мозг. — Надо к Марине зайти, теперь пацан-то к ней перешел, — подумал я вслух. — Может, чем и помочь нужно. — И хотя бывшая жена Добротвора и прежде не вызывала во мне симпатий, а после «ограбления» квартиры Виктора я вообще воспылал к ней презрением, тем не менее теперь от нее зависела судьба семилетнего славного мальчишки, в коем отец не чаял души. Чем больше я сидел на открытой веранде кафе, тем сильнее крепло мое решение. Чтоб не откладывать дело в долгий ящик, решил зайти немедленно, тем более что жила Марина рядышком, на Заньковецкой. Мне случалось пару раз бывать в ее родительском доме еще тогда, когда они только поженились и Виктор перебрался к жене «в приймы», как он говорил. Впрочем, без квартиры Добротвор оставался недолго: он стал тогда быстро выдвигаться и вскоре стал лидером в своей весовой категории не только у нас в стране. Ему шли навстречу во всем. Но прежде я заскочил в телефонную будку и позвонил в редакцию. Предупредил, что буду к трем, не позже. Это было как раз время, когда дежурный редактор по номеру приступал к своим обязанностям и должен был находиться в кабинете. Я прошел через пассаж: мимо бронзовых досок с барельефами и бюстами выдающихся людей, имевших счастье жить в самом что ни есть центре города, сквозь плотную толпу покупателей, штурмующих детские магазины и равнодушно взирающих на памятные доски, и вышел на Меринговскую. Здесь, чуть выше, в доме с аптекой, жила Марина. Я поднялся на десять ступенек вверх — квартира располагалась в бельэтаже. Было непривычно чисто в подъезде, на подоконнике даже стояли цветы в вазонах. Дверь Марининой квартиры оббита искусственной светло-коричневой кожей, в центре красовалась надраенная до золотого блеска латунная пластинка с номером. На чуть слышно донесшийся изнутри звонок никто долго не отзывался, и я расстроился, что никого нет дома. Так, на всякий случай, нажал еще раз, и дверь тут же распахнулась, и на пороге застыла Марина в легком цветастом домашнем халатике, не скрывавшем ее ладную, крепкую фигурку. Но волосы были растрепаны, лицо отекшее, несвежее, точно с похмелья. Марина растерялась, но только на миг. В следующий — бросилась ко мне на шею и обхватила с такой силой, что причинила боль. И — разрыдалась. Ее буквально сотрясало, и вместе с ней трясло меня. Мы так и торчали в коридоре, и хорошо, что подъезд был пуст. — Марина, успокойся, — сумел я наконец выбрать момент, когда рыдания ушли вовнутрь и она немного расслабила объятия. — Олег Иванович, дорогой… извините… Олег Иванович… да как же это так… почему… это так страшно… Олег Иванович… Нет, нет, он не покончил с собой… его убили… Олег Иванович… что делать… что делать… я не знаю, куда мне пойти, кому сказать… Ведь Алешка… я боюсь за Алешку… ой, как я боюсь!.. Олег Иванович… — Мне показалось, что она бредила. От неожиданности я тоже поддался ее настроению, и это в одно мгновение растопило лед неприязни. Я понял, что ошибался, принимая ее за наглую, самоуверенную «леди с Крещатика», что только и знает танцы, вечеринки, рестораны и прочий «светский бомон», бездушную куклу, сломавшую любовь Виктора. (Странно, но даже после всего приключившегося я не думал о нем с омерзением или раздражением, а искренне горевал, и сердце мое было разбито, если можно выразить словами весь комплекс моих чувств и мыслей о Добротворе). Верно говорят: чужая душа — потемки. Мы вошли в квартиру, и Марина закрыла дверь на ключ, дважды повернув его. Она любила порядок, а сейчас в просторной комнате, выходящей широкими окнами на Заньковецкую, царил хаос — на стульях небрежно висели и лежали вещи, Алешкины игрушки путались под ногами, на круглом ореховом столе возвышалась полупустая бутылка коньяка, в тарелках застыли остатки еды вперемежку с окурками и кофейные чашечки с затвердевшей черной гущей — словом, все носило следы полного безразличия хозяев. — Кофе? — спросила Марина, немного успокоившись, но еще всхлипывая. — И покрепче. Пока Марина возилась на кухне, я осмотрелся и обнаружил множество знакомых предметов из квартиры Добротвора на Московской: небольшой женский портрет Николая Пимоненко, видимо, набросок к картине — Виктор очень любил живопись, сам немного писал, но больше — спорт, а Пимоненко и Васильковский были его любимыми художниками. Я повнимательнее осмотрел полутемную комнату — свет с улицы едва сочился, а электричество Марина не сочла нужным включить. Так и есть — «Гайдамаки» висели у окна, над столиком, где стоял и добротворовский видео. Во мне снова поднялась волна неприязни к Марине, и хорошо, что не оказалось рядом Алешки — ему вовсе ни к чему было слышать то, что я собирался высказать его матери… Но Марина спутала мои планы. — Вы простите меня, Олег Иванович, — начала она прямо с порога, неся зеленый китайский лаковый поднос (тоже из квартиры Добротвора, впрочем, они жили одной семьей и не мне разбираться, что кому принадлежало, это правда) с двумя темно-коричневыми керамическими чашками. Я заметил, что Марина успела причесаться и, кажется, припудрила лицо — во всяком случае, оно уже не выглядело таким помятым. — Как мама с Алешкой уехали, это в тот же день, когда мы узнали о смерти… — губы ее снова предательски задрожали, но она все же сдержалась, — …узнали о смерти Вити, я не выходила из квартиры… Я открыла вам потому, что увидела в глазок, что это вы, Олег Иванович. Я так благодарна вам, что вы пришли… — Алешка уехал? Это ты правильно сделала… Незачем ему тут сейчас находиться. — Нет, Алешка уехал с мамой по требованию Вити. Он приказал увезти сына… — Почему Виктор так решил? Ведь Алешке, как я понимаю, во второй класс? — Да, он привез его ко мне. Сказал: ни о чем не спрашивай, но чтоб сегодня же Алешки в Киеве не было. Дал деньги на билеты, и мама отправилась в Москву к родственникам, вы ведь знаете, мама всегда принимала сторону Вити… — Но зачем это Виктору понадобилось? — Он чего-то или кого-то очень боялся. Мне так показалось. Ведь сказать он никогда такого не сказал бы, даже если бы ему угрожала смертельная опасность. Вы ведь знаете его характер — все сам… сам… своими силами… — Подробнее, Марина, пожалуйста… Успокойся и постарайся вспомнить все, что показалось тебе настораживающим или необычным в поведении Виктора в последнее время, …даже, скажем, после декабря прошлого года. Ты поняла, о чем я прошу? — Поняла, но… — Марина растерянно посмотрела на меня. Сказала неуверенно: — Ведь вы знаете, мы уже два года не живем вместе… Не знаю… Я, конечно, заходила к нему, ведь Алешка жил с отцом — это было требование Виктора при разводе… Да, Витя очень переживал случившееся. Однажды сказал странную вещь, она поразила меня, но я ничего не поняла и теперь не понимаю. Подождите, как он сказал… Вот почти дословно: «Ведь как бывает в жизни: скажешь правду — тебя обвинят в клевете, в подлости по отношению к другому, хотя я-то голову готов дать на отсечение, что он — подлец, подонок… Промолчишь — сам окажешься подлецом…» Но нет, нет, Олег Иванович, Виктор не был наркоманом, ведь он даже не пил, хотя мне говорили о нем обратное. Но он в рот капли не брал. Я спрашивала, допытывалась у Алешки, сын даже обиделся на меня и долго не разговаривал, не хотел — из-за того, что сразу не поверила ему… И вдруг — слишком большая доза наркотиков… Нет, не верю… — Вспоминай, Марина, пожалуйста, прошу. — Я чувствовал, как прихожу в себя, трезвею с каждым мгновением, и профессиональное чутье настраивает: будь внимателен, думай, следи, это — серьезно. — Мне показалось… Я не уверена… но он с кем-то хотел рассчитаться. Но за что? — Марина, а что сказал Виктор, когда потребовал увезти Алешку? — Сказал… он потребовал… — Она мучительно вспоминала какую-то важную подробность, слово, но никак не могла сосредоточиться. Сделала два глотка кофе, машинально вытащила длинными наманикюренными кроваво-красными ногтями сигарету, закурила, глубоко втянула дым, задержала дыхание и вместе с клубом дыма выдохнула: — Да, да, Витя сказал, чтоб я берегла сына, ему угрожает опасность, берегла, даже если сам он вынужден будет скрыться на некоторое время… Я плохо помню подробности, он свалился, как снег на голову, а я… я пришла после дня… дня рождения подруги, ну, словом, не совсем трезвая… Запомнила только, что Алешку нужно немедленно отправить из Киева и никому не сообщать, где он находится, кто бы ни спрашивал. Я вам первому сказала… Даже следователю ни слова… Больше Марина, сколько я не пытался, ничего путного вспомнить не смогла. Я распрощался с ней, попросив в случае чего позвонить мне в редакцию или домой… Я не успел войти в кабинет, как раздался звонок. Решив,что это редактор — он шел по коридору и видел, как я направлялся в кабинет, — сказал со всей возможной вежливостью и уважением: — Я уже на месте, Николай Константинович, приступаю… — я хотел сказать — «к дежурству», но меня перебили: — Это Марина, Олег Иванович, я не вовремя? Но вы сказали, чтоб я звонила… — Я слушаю тебя, Марина. — Мне позвонили, едва вы ушли. Я еще подумала, что это вы что-то забыли спросить. Но это были не вы. Он сказал… можно, я передам его словами? — Чьими словами? — растерялся я. — Того, звонившего… Это и вас касается… — Говори, Марина, как можно точнее. — Это мне уже начинало нравиться! — Он сказал: «Зачем этот писака заявился?» — А ты что ответила? — Сказала… вы зашли, чтоб узнать, не нужна ли в чем помощь. Тогда он пригрозил: «Смотри, сука». Да, он так и обозвал меня… «Смотри, — Марина тяжело вздохнула, — сука, если начнешь болтать без меры и что не нужно, пеняй на себя. Последыша добротворовского из-под земли разыщу! Запомни и всем подтверждай: Добротвор был наркоманом, и ты знала об этом, потому и разошлась с ним. Повтори!» Я повторила, как попка: «Добротвор был наркоманом…» Еще он сказал: «Бери трубку, когда подряд будет три звонка. Я буду следить за тобой. Смотри…» — Это все? — Все… — Вот что, Марина, это действительно серьезно, судя по всему. Не выходи без нужды из дома, потерпи немного. Ты можешь взять на это время отпуск за свой счет? — Я и так в отпуску… Уже три недели… Вот такой у меня отпуск. Извините, опять не то говорю. Я буду вам звонить, хорошо, вы не обидитесь? Кому нужны чужие беды… — Марина, звони в любое время дня и ночи. До свиданья! Постарайся заснуть, но без… Ты понимаешь?.. Тебе этот допинг сейчас вовсе не нужен… — Хорошо, — согласилась она послушно, как напроказничавшая школьница. Я немедленно набрал номер телефона Салатко. — А, Олежек, что? — Мне нужно сейчас же увидеться. По неотложному делу. — Ну, когда пресса требует встречи по неотложному делу, лучше пойти ей навстречу, — попытался сбалагурить Салатко, но тут же сказал строго и серьезно: — Я выписываю пропуск. Нужно было утрясти вопрос с дежурством. Я позвонил заведующему отделом партийной жизни. Парень он был нудный, но человек безотказный. — Во, вечно у этих спортсменов горящие дела! — пробасил он добродушно. — Ладно, погода сегодня — хуже не бывает, так и быть, посижу за тебя. Но, — он сделал паузу, — будешь дежурить в субботу, согласен? Да, суббота — не лучший вариант, мы с Наташкой условились, что поедем поужинаем в «Праге», придется извиняться. Дело непростое — три недели отсутствовал и снова исчезаю. «Ну да поймет, если любит». — Последние слова я со смехом произнес в трубку. — Ты чего там мелешь? — спросил зав. — Согласен. Спасибо. Салатко проявил максимум уважения: внизу, на проходной, меня ждал его сотрудник в светло-синем костюме. Он и отвел меня к Леониду. — Привет, привет путешественникам! А в родных пенатах краше, чего таить? — Краше. — Присаживайся. Кофейка дернем? Я еще с утра не пил. Должен тебе сказать, что приходится сокращать дозы — давленьице, видите ли, гуляет. Как тебе это нравится? — Не правится. Ты глянь на себя, так сказать, невооруженным взглядом. Килограмм десять лишних как минимум нахватал, круглый, как морж, усы только осталось отрастить и — в зоопарк! Салатко явно опешил не столько от моих слов, сколько от резкого, недоброго тона. Он отошел к окну, оперся за спиной двумя руками о подоконник и уставился на меня, покачивая годовой и присмоктывая полными, чувственными губами. — Ладно, не буравь меня проникновенным милицейским взглядом, видали мы таких, и тащи кофе! — продолжал я. — Семенов! — крикнул Салатко через закрытую дверь. — Подавай! Видно, у них было условлено, потому что дверь тут же распахнулась и тот же самый парень в светло-синем костюме и в рубашке без галстука, похожий на молодого инженера из НИИ, вихрастый и улыбчивый, внес на жестяном подносе кофе и бутылку оболонской. — Ну, пока будем пить, я включу кое-какую любопытную «музыку», — сказал я и, не дожидаясь согласия Салатко, вытащил из сумки портативный «Сони» с пленкой — той самой, что намеревался с триумфом прокрутить Савченко. — Гляди, Семенов, во гости пошли — со своей музыкой! Но я не был настроен шутить и сказал: — Извини, Леонид Иванович, я хотел бы прослушать без посторонних. — Ну, Семенов, положим, не посторонний, а моя правая рука. Но если ты настаиваешь… — Я у себя, Леонид Иванович, — ничуть не обидевшись, все так же улыбаясь, сказал Семенов и вышел, тихо притворив дверь. Когда началась английская речь, Салатко с недоумением посмотрел на меня, но стоило лишь прозвучать фамилии Добротвора, как он встрепенулся, застыл, уставившись в аппарат, словно надеясь увидеть говорившего. Тут пошел мой перевод: «Я, Тэд Макинрой, находясь в здравом рассудке…», и Салатко словно окаменел. И только когда была названа фамилия Семена Храпченко, Салатко проворно, точно подброшенный пружиной, — и откуда только прыть в этом стокилограммовом теле? — вскочил с места, крикнув: «Останови!» Нажал кнопку на селекторном аппарате и сказал спокойно: — Семенов, быстренько ко мне. Кажись, по твоей линии… Когда Семенов внимательно, мне даже пришлось некоторые места прокручивать дважды, прослушал — нет, впитал в себя каждое слово записи, Салатко спросил: — Вот она, ниточка, ты понял, Семен? — Понял, Леонид Иванович. Цены нет этой пленочке. — Но тут же спохватился и строго — куда и улыбочка подевалась — спросил у меня: — Этому заявителю доверять можно? — Думаю, что можно. Ему не было смысла врать. — И я рассказал обо всем, что приключилось в Кобе. — Вот как! — удивился Салатко. — А я-то, дурень, считал: заграница — приемы тебе, виски с содовой, секс-шопы и прочая развеселая жизнь… Рисковый ты парень, Олежек, как погляжу. Хотя… я бы на твоем месте поступил так же, если нужно было бы правду добыть. Рискнул бы… — Это еще не все. — Я подробно обрисовал недавнюю встречу в квартире на Заньковецкой, вспомнил и звонок Марины, ускоривший мое появление здесь. — Семен, — Салатко поднял голову, уставился на своего помощника, — нервничать начинают твои подопечные. А? Семенов согласно кивнул головой. — Вот что. — Голос Салатко был иным — твердым, без смешинок. — Немедленно установить, где находится Храпченко, взять, под наблюдение. Этого фрукта мы в поле зрения не имели, точно. Тем более не спускать с него глаз. Остальное — усилить и ускорить. Да, подумай, как вести нам себя с Мариной Добротвор. Доложишь свои соображения. Когда Семенов, получив необходимые инструкции, вышел, Салатко сказал: — Олежек, ты уж извини, но я не могу тебе подробности и тому подобное… Пока… Одно только скажу: поостерегись и не предпринимай никаких самостоятельных действий, ты не за границей, а дома, тут есть кому заниматься подобными делами. Усек? Даешь слово? — Ты уж совсем меня за недоросля держишь, — готов был обидеться я. — Я знаю, кто там — за барьером, по ту сторону баррикады, потому прошу. Они готовы на все. Добротвор… его трагедия, я хотел сказать, — тому пример, предупреждение, вернее…11
…И тогда все в этой запутанной истории встало на свои места. Нет, пока будет жив человек, никакой искусственный интеллект не способен заменить мысль, таинство рождения которой сокрыто в бездонных галактиках и «млечных путях» нашего мозга. Мы можем только констатировать рождение мысли, но никак не сыскать ее истоки! Я отложил в сторону томик Булгакова, но Мастер продолжал оставаться рядом со мной, — невидимый, неощутимый, как свет и тень, но тем не менее реально живший в мыслях, он подсказывал, куда идти и что делать. Славно, что не оказалось дома Наташки, иначе увязалась бы вслед, а время позднее, хотя часы едва отстучали восемь, да ведь осень — глухая пора ранних сумерек и плотных ночных часов. «Любимая пора философов и стихотворцев», — подумал я. Не спешил, не поторапливал себя, ибо мысль продолжала работать, очищаться от плевел сомнений и неясностей, рожденных этими сомнениями, хотя ноги просто-таки сами несли в прихожую… Но нет, я сдержал страсти, бушевавшие в душе. Сварил крепкий кофе (бессонная ночь обеспечена, это точно), не присаживаясь, стоя у окна, выпил, и ветви растущего буйного клена царапались в стекло, как запоздавший путник в ночи просится на постой. Сколько мне случалось повоевать, отстаивая клен от погибели, от вездесущих любителей солнца, готовых рубить живую плоть дерева, но отстоял, и теперь вот эти веточки точно просились в летнее тепло дома… Как это я сразу не сообразил, что он просто не мог очутиться в стороне, не быть непричастным к этому всему, ведь происходило оно в его кругу, пусть и отринувшем его в свое время и не позволившем больше выйти на знакомую орбиту. Он все равно оставался рядом, соприкасаясь с тем миром, что был некогда и его миром: поддерживал связи, появляясь в гостевой ложе престижных состязаний, что проводились в Киеве, и где быть нужно, был непременно, чтоб не забыли окончательно, это с одной стороны, с другой — чтоб видеть и знать, кто на что способен и кто может пригодиться. И с его присутствием как-то свыклись, позабыли случившееся, хоть и не позволили возвратиться на круги своя, но и не отвернулись раз и навсегда. Наверное, такова суть человеческой натуры: не держать зла! Или наше равнодушие — моя хата с краю — тому первопричина? Но я ведь тоже с ним здоровался, пускай не за руку, как в прежние времена, когда мы выступали в сборной республики на Спартакиаде народов СССР, а так — кивком головы. Но разве с годами я сам не стал даже перебрасываться с ним словом-другим, ничего не значащими, но свидетельствовавшими если не о полной реабилитации, то по меньшей мере определенном забвении прошлого? Что ж тогда — век помнить дурное? А если оно стряслось в недобрую минуту душевной слабости и человек понес жестокое наказание — расплатился за грех? Нужно быть твердым, но легко ли быть твердым? Не юли, парень, не ищи оправданий, сказал я себе. Было более чем достаточно настораживающих деталей, цена каждой — нуль в базарный день, но если сложить, суммировать и проанализировать, разве не связались бы они в цепочку, откуда уже был один шаг к пониманию нынешней сущности человека. Помнишь, однажды ты увидел его в фойе кинотеатра «Киев» разговаривающим запросто с белокурым красавцем, чей послужной список деяний, по-видимому, даже милиция со стопроцентной ответственностью и полнотой не могла бы составить. Нет, он не стоял рядом с ним и не демонстрировал дружеские отношения, только вскользь обменялись быстрыми фразами и разошлись в стороны. Ладно, согласен, что у белокурого была слабость — спортивные именитости, он любил крутиться на состязаниях и здороваться со «звездами» — не все ведь были осведомлены о его «профессии». Другой факт: ты увидел его в компании профессиональных картежников, промышлявших в поездах, — тебе в свое время довелось ехать с одним из них в двухместном СВ из Москвы. Или взять близкую дружбу с сынком высокопоставленного деятеля, балбесом и наглецом, пьяницей и вымогателем — ты-то еще по университету знал о «моральных» высотах подонка. Разве это — не звенья одной цепи? И тем не менее ты, Романько, здоровался с ним, он иногда позволял себе хвалебные слова по поводу твоих статей. Согласен, его мнение не представляло для тебя ценности, но ты ведь самодовольно кивал головой… Вот так-то, старина… Я оделся, выключил свет в прихожей и уже шагнул было за дверь. Да остановился и после коротких раздумий возвратился («Неудача? А, будь что будет!»), снова включил свет, нашел под зеркалом на столике листок из блокнота и написал:«Натали! Буду чуть позже, решил встретиться с одним старым знакомцем и кое о чем с ним поговорить. Это Николай, Турок, я тебе о нем как-то рассказывал — бывший боксер. Не засыпай, дождись меня. Целую. Я».И лишь после этого с чувством исполненного долга захлопнул за собой дверь и лихо сбежал по лестнице, в темноте наугад попадая на ступеньки — сколько живу здесь, столько помню: горит свет днем, при ярком солнце, и отсутствует ночью, по-видимому, с целью экономии. Я пошлепал по лужам вниз — по Андреевскому спуску. Редкие фонари, раскачивавшиеся под порывами ледяного ветра, скользкая, неровная мостовая, старательно переложенная умельцами в годовщину 1500-летия Киева, уже успела кое-где просесть, и ручейки, стекавшие сверху — с Десятинной и Владимирской, завихрялись в крошечных омутах всамделишними водоворотами. Зловеще смотрели неживые окна пустующих домов, и за ними чудилось движение, нечистая сила, а скорее всего шевелились бездомные бродяги, плясавшие рок для «сугреву». До домика Булгакова я не доскользил, а свернул влево, на Воздвиженку; она и вовсе была запущенной, лишенной каких бы то ни было признаков жизни — многие домишки зияли провалившимися крышками и выбитыми окнами, их собирались реставрировать, а пока они должны были окончательно умереть, чтоб потом восстать из пепла: пожары здесь не редкость. Я миновал Трехсвятительскую церквушку с чистыми, светящимися свежей белизной стенами, где когда-то вошел в «мир божий раб Михаил, сын Булгакова». Явился, чтоб рассказать людям то, чего они не знали ни о себе, ни об окружающем их мире, рассказать с единственной целью — сделать людей лучше и счастливее; но самому ему познать счастье не удалось потому, по-видимому, что некто, кто был нашей совестью, нашим недостижимым идеалом и нашим пророком, воспротивился появлению еще одного пророка… Я пересек блестевшие в свете уличных фонарей трамвайные пути, покарабкался по крутой, разбитой и размытой брусчатке Олеговской. Идти сюда оказалось еще труднее, чем ехать на автомобиле, — однажды пришлось, не по своей воле, естественно, вползать на «Волге» вверх, разыскивая районную ГАИ. Он обитал здесь, во вросшем в землю, покосившемся на один бок деревянном с мансардой домике, спрятавшемся в густом, буйно заросшем по причине давнишней заброшенности саду. Калитка была распахнута, и в глубине, за голыми кустами и деревьями, чуть-чуть светилось окошко. Тишина давила так, что, казалось, распухли уши. Пожалуй, впервые у меня возникло сомнение: зачем я здесь? На душе было неспокойно, но виной тому скорее всего ненастная погода, затерянность и таинственность этого глухого подворья, откуда даже собаки сбежали. Что он может мне сказать? Что знал всю подноготную? А почему он должен был мне докладывать? Сомнения, конечно же, не укрепляли моей решимости, и она таяла с каждой минутой. Я решительно пресек колебания, на ощупь двинулся по тропинке, осклизлой и крученой, на тусклый, огонек. Тяжелая, тоже вросшая в землю вместе с домом дверь была заперта изнутри. Звонка не нащупал и стукнул в набрякшую, мокрую доску раз, другой, но никто не спешил открывать, и я грохнул посильнее, потом затарабанил нагло и требовательно — испугался, что мне вообще не откроют: хорош я был бы тогда со своими сомнениями и выводами, со своими страхами и опасениями. Вот бы Салатко посмеялся над доморощенным Шерлоком… Что-то кольнуло в сердце, когда я вспомнил Леонида Ивановича — в общем-то нарушал данное ему слово… — Хто? — раздался едва слышный, точно из подземелья идущий голос. — Откройте! Мне нужен Николай… — Хто? — снова донесся голос с того света. — Знакомый его… За дверью исчезли звуки. — Эй, да откройте наконец! — заорал я и стукнул кулаком в доску так, что заломило в кости. Дверь распахнулась неожиданно легко, точно провалилась вовнутрь. И увидел его — собственной персоной. Лица не разглядел — оно скрывалось в тени, но голос выдал: он явно не ожидал увидеть меня и растерялся. — Романько? — Он самый. — Ты один? — Ты же меня не приглашал, потому без жены, — попытался я взять ерническо-шутливый тон, но он мне плохо удался. — Шагай. Гостем, ха, будешь… Я шагнул в темноту, дверь за мной тут же беззвучно возвратилась на место, и засов звонко ударился металлом об металл. Я двинулся на ощупь на свет и очутился в просторной — чуть не на всю избу — комнате с широкой печью-лежанкой в углу, в ней жарко горели толстые чурбаки. Тусклая настольная лампочка выкрасила белый круг на столе и… шприцы, стальной кювет для кипячения игл перед инъекцией, кучки какого-то желтого порошка, несколько сухих головок мака, тут же стояла и новенькая кофемолка, контрастировавшая своей чистотой и совершенством с грязной, замусоренной и засаленной крышкой стола. На кровати под занавешенным окном, разметавшись во сне, спал худой, какой-то сморщенный парнишка, совсем еще юный, и рядышком в одной нижней рубахе, сквозь которую выпирали торчавшие сосками груди, безучастно сидела, точно грезила наяву, девушка с потным, каким-то растерянным лицом. И только подняв взгляд, я обнаружил человека, скрывавшегося в тени, — он стоял, прислонившись плечом к печи. Под два метра ростом, он, казалось, головой подпирал низкий потолок. Сухое темнокожее лицо, почти невидимые в глубоких, чуть раскосых глазницах глаза, мощный разлет плечей и длинные, свисавшие до колен, руки. Он или только пришел, или собрался уходить — был одет в светлую кожаную модную куртку со множеством молний, в светло-коричневые джинсы, вправленные в высокие, щегольские сапоги. — Вот какой гость у тебя, Турок! Хозяин, известный и мне под этим прозвищем, приклеившимся за ним еще со времен спорта за привычку по поводу и без оного вставлять: «Теперь я турок — не казак!» — Сам не ожидал. — В голосе Николая и впрямь сквозило неприкрытое удивление, если не растерянность. — Как принимать будешь, Турок? — Незнакомцу, кажется, доставляло удовольствие называть его по кличке. — Да вот кумекаю, что их светлости предложить: «снежок» — гость-то высокий — или, может, мак для первого раза? — Ладно, Николай, кончай травить. У меня к тебе есть несколько вопросов… — Нет, это у нас… — тот, у печки, подчеркнул голосом «у нас», — есть к тебе вопросики. Не мы у тебя, а ты у нас в гостях! — Что же это за вопросы? — Первый такой: что знаешь о смерти Добротвора? — Кто-то убил его, а решил изобразить самоубийство наркомана. — Я пошел ва-банк. — Ну, вроде тех, что под окошком вон прохлаждаются… — Убил? А доказательства? — Есть у меня и доказательства… — Я блефовал. Комната погрузилась в тишину, только постреливали дровишки в печи. Этим-то заявлением и подписал я себе приговор, да сообразил поздно. А слово — не воробей… — Что тебе еще известно? — Не сомневайся, и о Семене — тоже. — Мне отступать было некуда — только вперед. — О нем? — В голосе Турка всплеснулся неприкрытый страх. — Что с ним делать будем, Хан? — Вытрясти и выбросить. Пожертвуешь хорошую порцию «белой леди». Удар Турок сохранил, ничего не скажешь, — я не успел уйти от хука снизу и с раскалывающейся от боли грудью отлетел к печи… «Вот ты и попался, старина… И никто ничем не поможет тебе, — подумал я, отлеживаясь на сыром земляном полу. И какое-то ощущение пустоты лишало последних сил. — Никто ведь не догадывается, куда это я забрался… Глупо… Толку — нуль, проку — еще меньше…» Турок и второй — Хан — дело свое знали, нужно отдать им должное. Не убивали, сознания не лишали, но тело, мозг, каждая живая клеточка раскалывались, разламывались на части от боли — острой и не приглушенной беспамятством. Я догадался по их репликам, что они выследили меня, когда ездил к Салатко, ну, о том, что был у Марины Добротвор, и подавно знали, искали и не могли найти со мной контакт без свидетелей. Впрочем, сейчас необходимость в этом и вовсе отпала: они намылились смываться — далеко, сам черт не сыщет. Хан похвалялся не от глупости своей, ясное дело, а затем, чтоб поглубже достать меня, лишить внутренней силы, что еще как-то позволяла держаться, похвалялся, что как только закончат валандаться со мной, — на машину и в Харьков, а оттуда — билетик на самолет до Барнаула, ну, а дальше — там дом, горы и лощины, там свои: никто не продаст и не выдаст. А мне припомнился далекий сентябрь — золотое бабье лето и отяжелевший от буйного урожая сад, притихший, словно напуганный собственным плодородием, этот сад и этот дом, где лежал я теперь, раздираемый болью, на глиняном, неровном и заплеванном полу. Мы — Николай, Ленька Салатко и я только что приехали после последнего старта чемпионата республики, где мне удалось наконец-то преодолеть барьер на двухсотметровке, и те несколько десятых секунды, вырванных в результате года упорной, умопомрачительной работы, переполнили счастьем и неизбывной верой в собственные силы. Николай (Турком мы его, чемпиона Украины, тогда еще не прозвали) — он с детства дружил с Салатко, учились в одной школе и, кажется, даже родились в одном доме на Рыбальском острове — зазвал к себе, к бабке на пироги с антоновскими яблоками. Дом на Олеговской, сразу за поворотом, горделиво смотрелся на тенистую тихую улочку чистыми окнами и кустами герани в глиняных горшках с Житнего рынка, где с восходом солнца появлялись телеги из Опошни с незатейливой, но бесконечно прекрасной в своей простоте посудой. Лучи предвечернего теплого, но уже не жаркого солнца мягко золотили потемневшие от времени, растрескавшиеся доски веранды, ветви желтеющих яблонь и вспыхивали огнем в лакированных боках больших, с добрый кулак, антоновских яблок. Пахло горьковатой калиной, росшей за погребом, жужжали поздние пчелы, со стороны Днепра время от времени долетали низкие басовые гудки колесных пароходов, веяло покоем и совершенством жизни. И мы пили чай с вишневым вареньем и больше молчали, чем говорили, зачарованные, убаюканные этой красотой, собственным превосходством над другими, рожденным спортом, тренировками и поклонницами… Как давно это было… — А ты, падаль, будешь здесь загорать, пока не прокоптишься, — разъяренно прошипел мне в лицо, плюясь слюной, Турок. — Попробуешь «леди», напоследок хапанешь кайфа… Я с тоской понял, что вместе со мной уйдет, исчезнет, растворится важнейшая информация, и не все станет — пусть и с запозданием — на свои места и в судьбе Виктора. Но еще горше мне было из-за Наташки — бросил на произвол судьбы, как она будет без меня… — Очнись, падло, — теребил меня Турок. — Не помер, вижу, не прикидывайся. Говори, кто продал? Одно меня радовало, что она оставались в неведении масштабов затеянной против них операции (впрочем, честно говоря, и сам мог разве что догадываться о ней), а значит, еще оставляют себе лазейки, чтоб возвратиться… Время летело с космической скоростью — оно же тянулось, как чумацкий воз в степи… Разок мне все же удалось взять реванш, и удар ногой снизу по зазевавшемуся или расслабившемуся Турку исторг из него такой звериный рев, что я даже пожалел эту такую слабую на поверку тварь. Зато Хан бил профессионально…
Спасла меня Наташка, ее любовь… Не разумом — ну, разве впервые уходить мне из дому по делу и оставлять записку? — душой учуяла она смертельную опасность и кинулась разыскивать телефон Салатко, а его, как назло, не было в моей домашней записной книжке. Нашла по справочной — домашний, не отвечал. Позвонила в милицию, оперативный дежурный помог разыскать его в машине по радиотелефону. Салатко мгновенно все понял, едва она произнесла Николай — Турок. Как раз днем тому удалось уйти из-под наблюдения, хотя держали они его цепко — он был одной из ключевых фигур в деле. Об этой квартире на Олеговской они не знали, он там редко объявлялся, хотя и числился домовладельцем — получил по наследству от умершей бабки. Салатко потом рассказывал мне, что, растерявшись в первую минуту, он тут же неожиданно для самого себя решительно сказал: «Да что тут думать! На Олеговской он, где ему еще быть! Знаешь, как наваждение, вспомнил с такой отчетливостью — слюнки потекли! — тот вечер на веранде у Турка и пироги с антоновкой…» Явись они на полчаса позже, кайфовать бы мне до смерти в объятиях «белой леди», видеть сладкие сны и удаляться все дальше и дальше от нашей бренной земли в межзвездное пространство, населенное такими же бедолашными душами, как моя. …Турок, долго отходивший от удара, готовил наркотик. Непредвиденная задержка и спасла меня, потому что, как это ни странно, но Хан, заправлявший разветвленной сетью наркобизнеса, увы, и это иноземное словосочетание нужно нам взять на вооружение, сам не умел ни готовить порцию, ни тем паче «посадить на иглу»: он в своей жизни ничего крепче черного кофе не пил. Появление милиции прогремело для них громом средь ясного дня. Но и для Салатко Хан — таинственный, легендарный босс, от одного упоминания о котором прямо-таки бросало в дрожь его подручных, — был полной неожиданностью, и они — он потом признался мне — чуть было не поверили Турку, что он — случайный гонец из Азии, мелкий наркофарцовщик, не более, потому что даже словесного портрета его не имели. — Выходит, я тоже не напрасно муки принимал, — попытался я пошутить в присутствии Салатко (дело было спустя несколько дней, когда мне позволили чуть-чуть передвигать собственные конечности без посторонней помощи). Он на меня так глянул, что всякая охота продолжать разговор в том же духе начисто отпала. Я догадался: Салатко не мог себе простить, что из-за своей доверчивости — поверил моему честному слову, что не стану лезть, куда не следует! — едва не стал причиной трагедии. Многое открылось мне после того, как почитал протоколы допросов. Не обо всем еще могу говорить открыто — следствие продолжается, банда оказалась куда серьезнее, чем предполагалось прежде; заграничные концы вообще только начинали разрабатываться, не без помощи тамошних служб, занимающихся борьбой с наркотиками… Я узнал, чем шантажировали они Добротвора, — грозили выкрасть сына; Виктор же искал способ свести счеты в одиночку, потому что тоже видел врага лишь в Храпченко, корень зла в нем, мелкой сошке на самом деле… Виктор Добротвор уже там, в аэропорту «Мирабель», догадался, чьих рук дело — появление в его сумке наркотика. Но вынужден был взять вину на себя, потому что никаких доказательств обратного у него не было. Их нужно было добыть, и он стал шаг за шагом добираться до Храпченко и добрался. Оказывается, за сутки до смерти он побывал в том же самом доме, куда заявился и я, виделся с Турком, но тот не посмел — струсил пойти на Виктора один на один. Они убили его, предварительно подсыпав снотворного в чай, когда зашел разговор в пустой квартире Добротвора, а затем вкололи лошадиную дозу героина…
12
Незадолго до отъезда в Лондон — я летел в Шотландию, в Глазго, где должна была играть наша футбольная команда в европейском Кубке, — получил письмо из Парижа от Сержа Казанкини.«Мой дорогой друг! — писал Серж. — Рад тебе сообщить, что книга «Друзья и враги Олимпийских игр» Майкла Дивера уже в наборе, шум вокруг нее приличный. Пришлось даже обращаться в суд, потому что ее пытались заблокировать на официальном уровне — у тех, кто стремился это сделать, поверь мне, денег куры не клюют. Правая пресса — та просто с цепи сорвалась, пишет, что Дивер «продался красным», называют даже сумму, во что обошлась «коммунистическому блоку» рукопись, — миллион долларов. Спасибо, сэр, вы хорошо платите, нет ли для меня какой-никакой подходящей работенки? Но это, конечно, шутки. На самом деле Майклу пришлось отказаться от публикации некоторых наиболее острых и взрывных документов, особенно — касающихся подготовки к Играм в Сеуле. Его принудили, и он отступил, потому что иначе не сносить бы ему головы. Ты знаешь, у нас за этим дело не станет, если понадобится… Понимаю, что у тебя от того «миллиона» не осталось ни шиша и ты не сможешь заплатить американцу за информацию, не так ли? Я ему это прямо и выложил, чтоб не существовало никаких недоговоренностей. Он немного помялся и согласился передать тебе «во имя блага и процветания Олимпийских игр» (это не мои — Майкла слова) ОРИГИНАЛЫ (чуешь, как это серьезно, если человек даже боится их хранить у себя?) документов, подтверждающие наличие широко разветвленного заговора с целью УНИЧТОЖЕНИЯ олимпизма. Я очень надеюсь, что ты будешь в Лондоне в то время, о котором сообщал ранее. Позвонишь мне оттуда.Письмо я взял с собой, как и спортивную газету, где в официальном разделе сообщалось, что коллегия Комитета по физкультуре и спорту восстановила звание «Заслуженный мастер спорта СССР» В. Добротвору (посмертно), а киевская ДЮСШ теперь носит его имя…Твой верный оруженосец (я недавно путешествовал по Испании и стал просто одержим дон-кихотством) Париж, 22 октября. Серж Казанкини».
В лондонском Гайд-парке цвели гладиолусы, небо светилось густой осенней голубизной и ничто не предвещало приближающейся непогоды — густого, липкого тумана, в котором, как в вате, тонули звуки и от которого на душе становилось сумрачно, вот как в этом старинном пабе на Бейкер-стрит, куда я заглянул перекусить. Паб мне знаком еще с тех давних времен, когда меня водил сюда Дима Зотов — это, если память не изменяет, было чуть ли не десять лет назад; когда-то, сюда любил захаживать Диккенс, о чем свидетельствовали пожелтевшие страницы его рукописей в черных рамочках под стеклом, развешанных по дубовым панелям; это место было любимо газетчиками из близлежащих редакций и местными писателями, маститыми и начинающими. Дима, помнится, не сразу выбрал место, хотя в зале в тот предобеденный час было пусто, сонно, и тишину нарушали лишь звуки срывающихся с места автомобилей на перекрестке перед светофором. Пахло ароматным табаком и терпким мужским одеколоном. Зотов — он тогда работал в русской службе Би-би-си спортивным комментатором — был невысок, сух, с нездоровым, типично лондонским цветом лица — поискал кого-то глазами, выждал, пока появился официант в черном новом смокинге, и спросил: «Посадишь нас в мой угол?» Официант, похожий на премьер-министра или на клерка из Сити, приветливо улыбнулся и широким жестом пригласил нас в дальний угол, где над деревянным, без скатерти, столиком свисал на кованой цепи изящный фонарь. — Я сюда забегаю поработать, когда нужно что-то срочное выдать, — сообщил Зотов, когда мы уселись друг против друга. — В редакции дым столбом и шумно, как в воскресный день на заячьих гонках в Уэмбли. А здесь — покой. Я помнится, тогда с сомнением воспринял Димино заявление — в пабе стало многолюдно, накурено, изрядно шумно. Но потом понял, что в его укромных уголках действительно можно уединиться: никто не мешал, не приставал, не спрашивал свободный стул и не пытался лезть в душу. Зотов возбуждал во мне интерес: бывший ленинградец, превратности войны забросили его далеко от родины, о которой Дима так заинтересованно расспрашивал и тоска по которой, как я догадался несколько позже, буквально сжигала его. Правда, ему было лет четырнадцать, когда не по своей воле он очутился на чужбине — Дима жил с матерью (отец, военный, был репрессирован еще в 37-м), и она сама выбирала свои жизненные дороги. Потом мы встречались с Зотовым не раз — ив Лондоне, и в иных столицах, Дима становился мне все ближе и понятнее… И вот теперь, едва заскочив в номер, чтобы наскоро принять душ и сменить рубашку, я переступил порог знакомого паба на Бейкер-стрит. И нужно же такому случиться! — столик в углу оказался свободным, и я поспешил туда, не дожидаясь официанта (теперь здесь уже не носят смокинги и обслуживают в основном иммигранты — поляки, югославы, испанцы), расположился на «своем» месте. Заказал традиционный английский завтрак — яичницу с беконом, стакан абрикосового сока, джем, булочку и черный кофе. Я думал о предстоящей встрече с американцем, втайне надеясь, что сумеет выбраться в Лондон и Серж Казанкини: мне было непривычно одиноко и пусто в этом огромном городе: накатила грусть-тоска. Может, это потому, что нет уже в живых Димы Зотова. Он погиб еще в 1979-м, выбросившись из окна клиники, — так, во всяком случае, выглядела официальная версия. Но ни я, ни Димина жена — гречанка из Мариуполя, написавшая мне о трагедии, не поверили в это. И хотя никаких официальных свидетельств у меня не было, не сомневался, что с Зотовым расправились: репортер залез слишком глубоко в одну историю, докопался до вещей, вытаскивать на свет которые, как оказалось, было слишком опасно. Но Зотов, понимая, что смертельно рискует, все же сделал этот шаг, чем укрепил мое мнение о нем, как о честном, смелом человеке, Это было накануне Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде в США в 1980 году, и история касалась непосредственно подготовки к Играм, вернее, подготовки «особой встречи» советских спортсменов, которая, по мысли ее организаторов, должна была если не сорвать, то значительно затруднить Олимпиаду в Москве. Впрочем, все это в прошлом… Когда принесли кофе, я спросил официанта, где телефон. Он провел меня за штору, отгораживающую кабинку от зала и, заглянув в книгу, сообщил код Парижа. Не успел угаснуть первый же звонок, как я услышал близкий голос Сержа. — Казанкини. — Привет, Серж. — Олег? О ля-ля! — вскричал он. — Ты когда приедешь? — Я уже приехал. — Куда приехал? — растерялся Серж. — В Лондон. Звоню тебе с Бейкер-стрит. — Как долго пробудешь в Лондоне? — Послезавтра утром улетаю в Глазго. На матч. Как наши дела? — Блестяще! Все бумаги и верстка книги у меня в сейфе. Я вылетаю к тебе первым же самолетом. Минутку, сейчас я узнаю, на когда можно зарезервировать билет. — Я услышал, как Серж на противоположном конце провода набирает номер, услышал его вопрос и узнал, что Казанкини бронирует место на сегодня, на 14-часовый рейс «Алиталия». А это значит, что Серж прибудет в Лондон и даже у меня в отеле появится — около шести часов, не позже. — Ты понял — в шесть жди меня у себя! — сказал напоследок Серж. — Эй, парень, — запоздало выкрикнул он, — только, чур, не забывать, что мы — не конкуренты! Я сделаю интервью с тобой для Франс Пресс, а опубликую его сразу же после того, как ты выступишь с разоблачением у себя в газете. Договорились? — Договорились, Серж. Я повесил трубку и еще несколько мгновений стоял в кабинке. Мне не хотелось уходить и снова оставаться наедине со своими мыслями. «Ладно, кончай грустить, — сказал я сам себе. — Грустить в Лондоне — позор!» Я решил, что пойду бродить по городу — не торчать же в гостинице, в четырех стенах. Послоняюсь по Пиккадилли, потолкаюсь в Гайд-парке, послушаю речи ораторов. Конечно, неплохо было бы смотаться в Сент-Джеймское предместье, там удивительно красивый парк с лебедями. А может, забраться в кинотеатр да поглядеть какой-нибудь экстра-фильм вроде «Ганди» или «Инопланетянина», о которых я наслышался дома? Решение повлияло и на настроение, я бодро направился к своему столику. Увы, меня ждало разочарование; в мое отсутствие за столик подсел средних лет человек в серой куртке и в серой рубашке без галстука. У него были помятые уши, что сразу выдало бывшего борца, и неприятный взгляд бесцветных глаз любителя спиртного. — Извините, я без вашего согласия… — начал он. — Пожалуйста, я уже заканчиваю. — Вот и мне парень, то есть, простите, официант, так и сказал. Что, значит, кончаете… Я, значит, не помешал… — Нет-нет, не помешали. Я быстро допил остывший кофе и поднялся. Мой непрошеный сосед оторвался от яичницы, которую поедал с жадностью узника Освенцима, и уставился на меня. Я кивнул ему на прощание и вышел.
Серж не появился в назначенное время. Я позвонил в справочное аэропорта, и автоматический диспетчер ответил, что по метеоусловиям Лондон закрыт до 22 часов. Впрочем, я и без диспетчера знал об этом — достаточно было взглянуть в окно, чтобы убедиться в стопроцентной точности прогноза, переданного в это солнечное утро: густой туман, моросящий дождь, сиротливо полощущиеся под порывами ветра листья мощного каштана, растущего напротив. Непогода внесла существенные коррективы в мои планы. «Впрочем, — решил я, — даже если Серж не прилетит нынче вечером, то утром — наверняка. Но даже если он не успеет к моему отъезду, мы встретимся позже, после возвращения из Глазго, ведь в Москву все одно доведется вылетать из Лондона». Но что-то кольнуло в сердце: я вспомнил, как неприятно поразило меня появление в вестибюле гостиницы того типа с мятыми ушами, что подсел за мой столик в пабе на Бейкер-стрит. Впрочем, возможно, я ошибся, потому что мой визави мелькнул и тут же скрылся в толпе…
* * *
О т а в т о р а: Лондонская газета «Тайм энд ньюс» поместила на первой полосе следующую заметку:«Исчезновение советского журналиста: выбрал свободу или похищен? В минувший четверг, приблизительно в 20.30, советский спортивный журналист, в прошлом известный олимпиец Олег И. Романько, остановившийся в Лондоне проездом в Глазго на матч за европейский Кубок, вышел из отеля «Ватерлоо», что вблизи Гайд-парка, и не возвратился. Полиция по требованию советского посольства начала расследование инцидента. Сообщили, что Олег И. Романько исчез и местонахождение его пока неизвестно. Он вышел, судя по тому, что не взял с собой ничего из вещей, за исключением магнитофона (в вещах имеются запасные чистые кассеты), на заранее обусловленную встречу. Полиция продолжает розыски и сообщает приметы исчезнувшего: 42 года, роста чуть выше среднего, блондин, спортивного телосложения, лицо чуть удлиненное, нос ровный, глаза карие…»
Заседа Игорь Без названия
1
"...В начале пятого утра во вторник 22 июля 1980 года вместе с первыми лучами солнца, позолотившими неповторимые купола кремлевских храмов, Бен воскликнул: "Вперед, мальчики!" Двадцать девять израильских коммандос, тайно прибывших в Советский Союз под видом туристов из Парижа, в короткой отчаянной схватке овладели корпусом "В" в олимпийской деревне и захватили семьсот заложников. Бен решительно отверг помощь и, даже не покривившись, одним движением оторвал фалангу указательного пальца на левой руке, почти откушенную в рукопашной русским чекистом с монголоидным лицом (его труп все еще перекрывал лестницу, ведущую наверх), и быстро перевязал рану. "А теперь, мальчики, устроим им варфоломеевскую ночь, если они будут несговорчивы!" Ледяной вихрь с Бродвея дохнул в лицо колкой снежной крупкой и едким зловонием выхлопных газов. Занавеска, взлетев чуть не до потолка, птицей ринулась вниз. Моя титаническая работа по закупорке старого двухполовинчатого окна, сквозь сантиметровые щели которого мороз и ветер свободно проникали в номер нью-йоркской гостиницы "Пикадилли", пошла прахом. Я отбросил в сторону книгу, выбрался из-под тонкого летнего одеяла и, проклиная на чем свет стоит энергетический кризис, заставляющий хозяев экономить на здоровье жильцов, и самих хозяев, не додумавшихся до самого элементарного - законопатить или заклеить щели, открыл замки чемодана, извлек оттуда шерстяной тренировочный костюм, лыжную шапочку и поспешно натянул все это на себя. Какое-то время решал, надевать или нет кожаные перчатки: пальцы так мерзли, что книжка вываливалась из рук. "Нет, это уже свинство, - обозлился я. - Драть за паршивый номер, единственное теплое место в котором - тесный туалет, полтинник, да еще делать вид, что они тебя осчастливили!" Но в конце концов оставил перчатки в покое. Шел третий час ночи, минуло не менее часа со времени приезда в Нью-Йорк, но глаз я так и не сомкнул, хотя минувший день легким никак не назовешь. Сначала самолет задержали в Москве из-за погоды, и долго довелось неприкаянно толкаться по пассажирскому залу в старом Шереметьево (новое здание международного аэропорта виднелось вдали огромным темным кубом - его должны были "попробовать" олимпийцы, что съедутся в Москву летом...), не слишком-то приспособленном для длительного пребывания в нем. Затем, после многочасового перелета через океан, Ил-62, выполнявший рейс SU-315, арестовали в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке: самолет загнали в дальний угол, окружили сворой желто-красных автомобилей, за опущенными стеклами которых сидели дюжие полицейские в темных очках и не спуская глаз наблюдали за нами. Кто его знает, чем бы эта история закончилась! Но у наших пилотов, прекрасно знавших местные нравы, истощилось терпение, и они задумали улететь в Вашингтон, где, по имевшимся сведениям, антисоветская истерия пока не затуманила головы окончательно. Само по себе простое решение выполнить было не так-то просто, ибо улететь из аэропорта, где каждые тридцать секунд садится или взмывает лайнер, без диспетчерского обеспечения, штука, скажем прямо, не только рискованная, но и смертельно опасная. В те дни февраля 1980 года никто не мог поручиться, как далеко зайдут американцы в очередной провокации. Ил-62, едва не наезжая на полицейские "форды", двинулся к взлетной полосе. В салоне установилась тишина, буквально ощутимая в реве набиравших мощь двигателей. Я мельком оглянулся на пассажиров: одних я знал давно по прежним журналистским скитаниям по миру или по спорту в далекие времена, когда нас объединяла сборная СССР, другие были незнакомы, но все мы были советскими людьми, волею судьбы сплоченными опасностью под хрупкой вибрирующей "крышей" самолета. Нам оставалось ждать. Ил-62 уже ревел турбинами на взлетной полосе, когда последний полицейский "форд" свернул с нашего пути. Как хотелось бы узнать, что происходило в диспетчерской, в круглой стеклянной башне, возвышавшейся там, где остался аэропорт имени Кеннеди, где ждал меня Дик Грегори, где увядали гвоздики, - я был уверен, что если цветы, то непременно гвоздики, которые Наташка увезет с собой в квартиру на седьмом этаже в советской колонии в нью-йоркском пригороде Ривердейл... Сердце сжалось в дурном предчувствии, как тогда, в семидесятом, когда мы возвращались из Мехико-сити после чемпионата мира по футболу и в Гандере, где наш самолет должен был заправляться, испортилась погода такое на Ньюфаундленде случается нередко, а ближайший аэродром находился тысячи за полторы, горючее же было на исходе. Наверное, каждый, кто много летает, испытал это чувство неуверенности и необъяснимой нервозности: тебято в жар, то в ледяной холод бросает, и ты начинаешь вспоминать все, что с тобой случалось прежде. Но приходит спокойствие и какая-то отрешенность. Ты углубляешься в себя, и вдруг ярко, словно только об этом и думал, видишь перед глазами свой маленький мир - письменный стол в углу кабинета, пастельно-синюю глущенковскую осеннюю аллею с двумя легкими размытыми фигурами - она висит низко над столом, почти на уровне глаз, и ты всегда останавливал на ней взгляд, когда строка не ложилась к строке. Ты знаешь: чем дольше смотришь на эту картину, даже скорее набросок, этюд мастера, хотевшего запечатлеть что-то на память, да так и не вернувшегося к нему, тем покойнее становится на душе, исчезает ощущение пустоты и рождается что-то, заставляющее тебя облегченно улыбнуться или по крайней мере прийти в нормальное расположение духа... Я выглянул в круглое окошко, чуть притененное от лучей зимнего солнца пластмассовым фильтром. Поземка сдувала с бетона крупные искрящиеся снежинки, осколком зеркала блистала ледяная корочка у кромки полосы. Поодаль, держась на почтительном расстоянии, замерли большие длинноносые полицейские "форды". Дверца одного из них распахнулась, вытолкнутая сильной рукой, и высокий, в черной форме и широкополой стетсоновской шляпе человек с серебристой бляхой над сердцем, появившийся из машины, навел на самолет бинокль. Мне почудилось, что он впился в меня взглядом, и стало больно глазам, и я дернул фильтр вниз до упора. Точно уловив это движение, полицейский опустил бинокль, наклонился к кабине, в руке у него появился микрофон, и он что-то говорил, время от времени взмахивая рукой. Я подумал о Наташке. Если что-нибудь со мной случится, для нее это будет смертельным ударом. Когда мы вдруг поверили, что у нас есть общее будущее, а поверив, снова обрели прекрасный мир, что зовется жизнью, это было бы бесчеловечно, жестоко. Она где-то там, я знаю, чувствую, в толпе встречающих, в своем коротком полушубке на "рыбьем меху". Наверное, ей холодно, и ледяной ветер пробирает насквозь, а она не хочет уходить, еще надеясь, что все образуется, и те, от кого зависит наш выход, образумятся, не могут же они не образумиться наконец... "Эх, Натали, Натали, кажись, на сей раз попали мы в историю. Это тебе не в Славском, когда ты умудрилась проскочить поворот после пятнадцатой опоры и унеслась... словом, унеслась туда, куда уноситься не следовало. Начинался буран, мороз крепчал, и народу-то на горе - ни души. Нет, была живая душа, чудом оказавшаяся в том медвежьем углу. Как он тебя дотащил вниз, не берусь и сегодня объяснить. Но донес. Пришел на помощь... Здесь другой мир, Натали, никто на помощь не придет, это уж как пить дать". Между тем ИЛ-62 ревел двигателями, и лишь тормоза - а может, летчики еще на что-то надеялись? - удерживали его на нью-йоркской земле. Но по напряженному, стиснутому в кулачок личику стюардессы я понял никаких известий, что американские диспетчеры вспомнили о своем профессиональном долге, нет. Девчушка - и зачем только таких молодых берут в стюардессы? - окинула взглядом салон, остановив взор на запасных выходах... - Поехали, - тихо, едва пошевелив губами, прошептал Виктор. И хоть он сидел рядом со мной, локоть к локтю, ей-богу, в другой обстановке я даже не догадался бы, что он сказал, а тут просто резануло слух. Ил-62 действительно, набирая скорость, покатил по взлетной полосе. Что там сейчас в диспетчерской башне? Все быстрее, все неистовее понеслись наперегонки с нами красные сигнальные огни, самолет задрожал, словно не желая отрываться от земли, но вдруг круто встал на дыбы и рванулся вверх. Сразу стало тише, и стюардесса несмело улыбнулась, еще не веря, что, кажется, главное испытание позади. В Вашингтоне было спокойно. Сонный аэродром, равнодушные, молча, без единого слова ставящие штампы в наших паспортах сотрудники иммиграционной службы. Когда мы по тоннелю поднимались к выходу, к автобусам, что доставят пассажиров в Нью-Йорк, то попали в перекрестие прожекторов и десяток телевизионщиков с переносными камерами уставились на нас зеркальными "глазами", словно мы были выходцами с того света. Я вздохнул с облегчением: Наташка наверняка увидит нашу встречу по каналу Си-би-эс (эти буквы я прочел на одной из камер), а увидев, поймет, что все о'кей. Не люблю, просто-таки ненавижу, когда из-за меня переживают, испытывают чувство тревоги, в таких случаях я мучаюсь щемящей тоской, тем более сильной, когда нет возможности исправить содеянное - мною или другими... В Нью-Йорк мы попали около полуночи. Расселились быстро, без волокиты, кажется, даже без заполнения анкет. Бросив чемоданы в номерах, мы с Виктором и еще с несколькими московскими попутчиками (украшала нашу мужскую компанию знаменитая Лидия Скобликова) отправились вниз в бар полутемный, отделанный дубом, затянутый потемневшим от времени бархатом. Там пахло затхлостью помещения, где не существовало ни единого окна, и потому запахи как бы консервировались, густели с годами, и в них чудились далекие довоенные времена, когда отель вознес на двадцать шесть этажей свои апартаменты в самом центре Нью-Йорка и останавливаться в нем было престижно. Потом отель прославился тем, что ранним туманным утром в парикмахерской, окна которой и поныне выходят на театральный проулочек, был прострочен автоматной очередью джентльмен в белой манишке, с намыленным подбородком; это убийство тоже способствовало рекламе заведения - как-никак, расстрелянным оказался сам Анастазиа, о нем в Америке помнят и взрослые, и дети: один из самых черных (великих, как говорят американцы) гангстеров, кои только появлялись в этой не обделенной подобными типами стране... Но, видно, в последние годы отель переживал упадок: тут и там выпирали многочисленные потертости в некогда шикарном персидском ковре в вестибюле, двери в номера с их вычурными дребезжащими латунными ручками из-за толстого слоя краски выглядели уже не деревянными, а почти пластмассовыми; даже выражение лица портье, на котором появилось лишь подобие широко разрекламированной американской улыбки, было кислым и жалким. Я уж не говорю, что в номере стыдливо пряталась за старенькими шторами ледяная крошечная батарейка с краником, и мои отчаянные попытки выдавить из нее хотя бы каплю тепла при помощи этого самого краника не увенчались успехом. Правда, цены - в сравнении с другими, более современными, из стекла и алюминия отелями - были божескими, что само по себе считалось в среде командировочных немаловажным фактором, ибо наша бухгалтерия никогда не поспевала за стремительно растущими ценами, и Анатолий Федосеевич, главный бухгалтер и удивительно милый человек, только понимающе вздергивал плечами и обезоруживающе улыбался в ответ на самые веские доводы в пользу увеличения кредитов, даже подкрепленных документами, привезенными из странствий. - Я съем что-нибудь полегче, - сказал Виктор Синявский, мой старый закадычный друг, отличный журналист, репортер по натуре, в коем исследовательская жилка и скрупулезность, столь не свойственная истым репортерам, сочетались с точным и быстрым проникновением в суть факта. - После таких волнений? - возразил я. - Стейк, да еще с кровью. Пару банок пива впридачу. Салат непременно, можно даже продублировать его! - Ты далеко пойдешь со своими... - Виктор не сразу подобрал слово помягче, - со своими троглодитскими запросами. Пиво на ночь глядя? Нет, просто поразительно, что за люди на Украине! Синявский сам был прежде киевлянином (я говорю "прежде", имея в виду довоенное время, о котором у меня нет никаких воспоминаний), жил в старинном двухэтажном домике в Десятинном переулке, и воспоминания о тех годах служили непременным десертом наших бесконечных разговоров ночью, когда нам случалось жить в одном номере где-нибудь в Стокгольме или Берне, Мехико-сити или Париже. Виктор семнадцатилетним парнем добровольцем пошел на фронт и однажды с гордостью показал полученную спустя много лет медаль "За оборону Киева". - Пиво непременно, - подтвердил я, а сам подумал, что у Наташки в холодильнике припасен не один блок этих серебристых, золотистых или просто стального цвета третьлитровых баночек. Она ждала меня к обеду, а теперь и ужин минул, и мне стало грустно. Я едва не поднялся из-за стола и не ринулся к телефону-автомату, который заприметил в вестибюле. Но подошел официант, принял заказ, и Виктор Косичкин, таинственно подмигнув с противоположного конца стола, тихо сказал: - Как, братья-журналисты, насчет "Московской"? По самой махонькой, чтоб только по усам текло... Синявский тяжело вздохнул: один с пивом, другой - с водкой, не люди а сплошные здоровяки, нет у них ни почек, ни печени, ни сердца, в конце концов. Он тяжело качнул головой из стороны в сторону, чтобы не видеть блеска, родившегося в глазах тренеров по фигурному катанию да, наверное, и в моих... - Ну разве только, чтобы усы смочить, - в тон Косичкину ответил я. ...Я позвонил Наташке из Киева, разговор дали ранним утром, а в Нью-Йорке заканчивался рабочий день. Голос был слышен так четко и явственно, как будто она находилась в соседней комнате. "Здравствуй, Малыш, добрый тебе вечер, - сказал я, услышав ее. Но в ответ донеслось лишь тонкое посвистывание тысячекилометровых расстояний, а может, это был глас Атлантического океана, по дну которого проложен кабель и над которым мне еще предстояло лететь. - Алло, Натали?" - я испугался, что разговор прервали, но тут же услышал ее. "Ты... ты... я просто не поверила, когда подняла трубку, мне померещилось, что ты рядышком, прячешься за шторой... Ты..." - Я. Правда, не материализованный, а в виде духа, домчавшегося к тебе сквозь время... Ведь ты даже еще не жила в том времени, которое я уже прожил навсегда... Натали, не стану интриговать. Я буду в Лейк-Плэсиде, на олимпиаде. Вопрос решен окончательно, хотя до сегодняшнего дня он висел в воздухе. Нет, нет, у меня все о'кей, дело было в американцах, они что-то чудили, впрочем, и еще продолжают чудить с визами, хотя по правилам обязаны беспрекословно впускать аккредитованную на Играх прессу..." - "Я слышала, у нас говорят, что после объявленного президентом бойкота Московской олимпиады советских людей вообще не пустят в Лейк-Плэсид. Но это, наверное, чепуха, мало что тут пишется в газетах, сам знаешь. Впрочем, товарищ из посольства..." - "Это что там еще за товарищ из посольства? - закричал я как оголтелый. - Сколько лет, имя, женат холост?" - "Перестань дурачиться, - я слышал, ей-богу, слышал, как Наташа засмеялась. - Время - деньги, как говорят американцы, а ты о чепухе..." "Почему это ты думаешь, что только американцы так относятся ко времени? Я тоже гляжу на секундомер, что лежит передо мной, и высчитываю, во сколько влетит мне беседа с некой девушкой по имени Натали, двадцати двух лет, блондинкой, рост 168, бюст номер... Впрочем, стоп - о номере вовсе не обязательно знать посторонним..." - "Если ты считаешь, что дорого обхожусь тебе, я отключаюсь..." - "Минуточку, минуточку, девушка, я не успел вам сообщить самого главного - я прилетаю в Нью-Йорк рейсом SU-135, в шестнадцать часов с какими-то минутами... Жаль отрываться от телефона и бежать в соседнюю комнату за билетом. Это еще не все. В моему прибытию прошу запастись дюжиной консервированного пива, лучше всего американского производства, а еще лучше всего фирмы "Степли", у нее, как я слышал, единственное в мире пиво без консервантов, а в моем возрасте уже следует подумывать о здоровье..." - Хелло, сэр, вернитесь на бренную землю и примите каплю живительного нектара, в обмен на который американцы столь любезно подарили нам право разливать исключительный химический напиток, напоминающий разведенную на воде ваксу, именуемый пепси-кола. - Голос Косичкина, произнесшего эту длинную тираду и протягивающего через стол рюмку водки (впрочем, водку он налил в двухсотграммовый бокал за неимением лафитничка), оторвал меня от воспоминаний. - Ты и впрямь заснул, - проворчал Виктор, принимаясь за курицу и искоса поглядывая на мой сочный зажаристый кусок натурального мяса, аппетитно возлежавшего на мейсенской фарфоровой тарелке в окружении свежесваренной стручковой фасоли и нарезанного соломкой поджаристого картофеля. Рядом с тарелкой стояли две запотевшие банки с пивом. - Итак, друзья-путешественники, - сказал Косичкин, - учитывая то немаловажное обстоятельство, что в нашей мужской компании блистает звезда первой величины, как окрестили нашу несравненную - ни тогда, в дни потрясающего триумфа, ни нынче, когда триумфаторов развелось, как кур... прошу прощения, стало гораздо больше, я хотел сказать, - Лидочку Скобликову, требую поднять первый бокал не за то, что мы благополучно прибыли в не столь уж благополучную, судя по некоторым самым последним событиям, с коими мы лично имели несчастье, а может быть, и счастье столкнуться, ведь все познается в сравнении, страну, а за нашу звезду путеводную. За Лидию Павловну Скобликову! Лида раскраснелась, смущенная такой напыщенной речью, опустила глаза и сразу напомнила ту хрупкую девчушку, что в 1964 году в Инсбруке повергла ниц всю европейскую журналистскую братию, привыкшую видеть в чемпионатах неких роботоподобных девиц неопределенного возраста. - Ты не можешь без штучек... - отмахнулась она. - Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! - дурачась, воскликнул Косичкин. Прошу друзей журналистов зафиксировать выпад против меня, как личности, ибо сначала обвиняют в "штучках", а потом вообще объявят "штучкой", что в нашем коллективе, объединенном, как я понимаю, одним профсоюзом работников культуры, может вызвать нездоровую реакцию в мой адрес... - Витя, кончай, - нетерпеливо потребовал один из тренеров по фигурному катанию, утонченный молодой человек в модном, отлично облегающем его тонкую фигурку кожаном пиджаке. - Наливай! - Лидочка, я переношу решение нашего общественного спора на более благоприятные времена и приступаю к действию, которое все ожидают от меня с нетерпением... Я пить не стал, хватит с меня и пива, но тост за успех на зимней олимпиаде поддержал. Да и как могло быть иначе, если мы стремились сюда, за тридевять земель, чтобы увидеть, как будут бороться за медали наши ребята, ибо именно в борьбе-то непреходящая ценность спорта. В ней обретают силу не только те, кто выходит на лыжню или ледяную арену, а все мы - причастные и непричастные к спорту. В раскованности и открытости физических и духовных схваток мы черпаем уверенность в нашем будущем и силу, чтоб достичь его. И олимпиадам тут отведена особая, весомая роль, и это с каждым новым четырехлетием, именуемым олимпийским циклом, становится все зримее, все определеннее. Подумав так, я и не предполагал, как скоро эта мысль обретет трагическую реальность, куда будут вовлечены многие люди, и лишь чудом не будет преодолена та грань, за которой чернеет бездонная пропасть катастрофы... После ужина поднялся в номер. Телефон буквально магнитом тянул к себе, и я готов был взять трубку и произнести лишь три слова: "Я уже здесь". Но не стал этого делать, хотя и клял себя последними словами. Наташка и так достаточно намаялась за минувший день и теперь, успокоенная репортажем Си-би-эс о нашем благополучном приземлении, спала, будучи уверенной, что и я в Вашингтоне отдыхаю после бурного дня. Если б я позвонил ей, то не утерпел бы и понесся на край города, в советскую колонию, но там - в этом не могло быть сомнений - в такое время суток не слишком охотно раскрывают ворота для посторонних. Довелось бы поднимать на ноги коменданта и еще кого-то, кто ответственен за внутренний режим, словом, втягивать в свои заботы ни в чем не повинных людей... Я улегся в кровать и раскрыл роман Джеймса Петтерсона "Зов Иерихона". Но прежде чем раскрыть его, долго рассматривал глянцеватую обложку, откуда эдакий супермен в темных зеркальных очках и в полувоенном костюме цвета хаки от живота целится в меня коротким автоматным дулом, а позади молодчика поблескивали маковки собора Василия Блаженного. Книжицу дал в Москве, в аэропорту, мой давний приятель, буквально два дня как вернувшийся из США. "Почитай, какой они представляют себе нашу Московскую олимпиаду, - сказал он. - Это, так сказать, информация для размышления. Как говорится, сказка - ложь, да в ней намек... А там без намеков, прямиком рекомендуют, что нужно делать... Впрочем, сам поймешь..." Правда, пока летели, я так и не раскрыл книжку, и она всю дорогу провалялась в спортивной сумке поверх московских сувениров, которые я вез друзьям. Но первые же страницы чтива засвидетельствовали, что их автор не только элементарно не знаком с законами литературы, но и вообще с трудом ориентируется, подбирая слова, не говоря уж о ситуациях, которые он пытается создать. Впрочем, это на мой взгляд, а на американца, знающего нередко о нашей стране самый минимум - в СССР живут только красные, по улице Горького в Москве еще можно встретить разгуливающего медведя, ведь недаром русские взяли олимпийским символом этого симпатягу мишку, - на американца этот, с позволения сказать, роман вполне способен подействовать. Еще бы - там столько истинно русского! И расстегаи с черной икрой, и бесценные сокровища Кремля, коими пришел полюбоваться Бен с молодчиками, правда, только с самыми наиприближенными, так как остальные и не догадывались даже, что им уготована роль героев-смертников, - ведь, как подлинно известно, красные чекисты конечно же не примут ультиматума и будут драться насмерть, что для них жизнь, если они не отдадут ее во имя процветания родины, то есть коммунистических Советов? Была там и русская девушка по имени Наташа, которая с первого взгляда влюбилась в красавца Бена и стала его верной помощницей... Словом, чушь на постном масле тиражом - я заглянул в выходные данные - 250 тысяч экземпляров... Резкий телефонный звонок буквально сдул меня с постели. Натали! - Алло, Олег! - услышал я в трубке сочный мужской баритон. - Здесь Дик Грегори. - О, Дик, как я рад слышать тебя! - Для этого есть помер моего нью-йоркского телефона, черт подери! Мало того что я промаялся полдня в аэропорту, вторую половину пришлось убить, чтобы выяснить, где ты находишься, ведь в Нью-Йорке гостиниц столько, что за неделю не обзвонишь! - Извини, Дик, не решился беспокоить так поздно. - Слушай и запоминай: два часа ночи в Нью-Йорке - это как у вас восемь вечера. Мы поздно ложимся. - Беру на заметку! - Что ты изволишь теперь делать? - Пытаюсь уснуть. А что? - Если хочешь, я через сорок минут буду у тебя - к сожалению, мой дом далеко от центра. Бар в вашей гостинице работает всю ночь... - Нет, Дик, перенесем встречу на завтра... Голова трещит, - соврал я. По-прежнему сна не было ни в одном глазу, но я никого не желал видеть в Нью-Йорке прежде, чем увижу Натали... - О'кей, бай-бай, Олег. Звоню завтра в десять. Есть кое-что любопытное... Ого! Дик Грегори времени напрасно не теряет.2
Миниатюрный домик напоминал строения викторианской эпохи, столь часто встречающиеся в Лондоне, стоило сделать несколько шагов к югу от Пикадилли, не говоря уже о Челси или районе Портобелло-роуд. Перед домиком, как и положено, был разбит собственный газончик, тщательно подстриженный и, по-видимому, являвшийся предметом особой гордости хозяев. Два окна, выходившие на дорогу, блистали прозрачной чистотой, и дорожка тоже блистала ухоженностью - посыпанная красным кирпичным песком и аккуратно отделенная от газона барьерчиком, она притягивала взгляд и создавала ощущение праздничности. На лужайке - с ладонь, каких-нибудь пять-шесть квадратных метров - возвышался белый металлический стул с кружевной спинкой, но по его нетронутой белизне легко было предположить, что на нем никогда не сидят, и он - просто дань моде, привычка выглядеть не хуже, чем соседи. Достаточно было взглянуть налево и направо, чтобы увидеть похожие, как сестры-близнецы, крошечные газончики и металлические стулья. - Нет, это бутафория, реклама преуспевания, не больше, чистосердечно признался Дима, уловив мой повышенный интерес к пейзажу. - Я люблю только розы, белые розы... - Послушайте, Зотов, - прогремел баритон Дика Грегори, - можно подумать, что на этом пятачке - да здесь и семерым гномам не уместиться, не говоря уж о Белоснежке, - есть где расти розам! - А как же! - с обидой в голосе отозвался Дима. - У меня есть сад. Конечно, по вашим, по американским, масштабам он может показаться пустяковым, но для меня пять кустов роз - считай, целая жизнь. Я сейчас вам покажу, сюда, пожалуйста! С Димой Зотовым я познакомился давно. Всякий раз, встречаясь, вглядывался в него с пытливостью хирурга, знающего, что его пациент безнадежно болен. В том, что это так, я не сомневался ни на секунду, но упаси вас бог увидеть во мне жестокого и бездушного эгоиста, что может холодно рассуждать о судьбе человека, которого знаешь много лет и относишься к нему с добрым чувством. Речь идет вовсе не о каком-то хроническом заболевании, хотя Дима не отличался атлетическим здоровьем, к тому же много пил, - во всяком случае куда больше, чем нужно человеку, чтобы просто искусственно взбодрить себя. Всем напиткам на свете он предпочитал водку, обыкновенную "Московскую" водку, при одном лишь ее виде глаза его увлажнялись от избытка чувств. Он был русским человеком, чья судьба оказалась изломанной сначала войной, затем исковеркана многими и многими обстоятельствами и людьми, приложившими руку, чтобы сделать из него то, что он представлял из себя сегодня. Это был невысокий худой мужчина лет сорока пяти с нездоровым цветом чуть продолговатого лица, где выделялись большие серые глаза - в них никогда ничего не прочтешь: раз и навсегда застывшее выражение словно было заслонкой, закрывавшей от посторонних смятенную душу. Он родился в Ленинграде, кажется, и поныне живет там его отец, война застала Диму с матерью в Запорожье или под Запорожьем, где они гостили у дальней родственницы. Что случилось с матерью, Дима не рассказывал (вообще, он был осторожен в воспоминаниях и если уж начинал говорить, то это служило первым признаком сильного опьянения, а, скажу вам, за несколько лет знакомства я не видел его пьяным, хотя, повторяю, он редко просыхал), но, по-видимому, женщина надломилась, не выдержала тяжких испытаний и пошла по самому верному, как ей казалось, пути... Словом, из Запорожья они с матерью уехали вместе с поспешно отступавшими в октябре сорок третьего оккупантами. Очутились в Германии, в Мюнхене, вскоре после войны мать Димы погибла или покончила с собой, я так толком и не знаю, и Зотову пришлось пройти все круги ада: он был бутлегером, официантом, вышибалой в борделе, служащим в какой-то американской миссии, киноактером и еще бог весть сколько "профессий" испробовал, прежде чем ему удалось выкарабкаться на поверхность. Не знаю и не хочу гадать, чем ему пришлось заплатить за это, но только уверен, что если он и запродал кому душу свою, то никак не добровольно и не по убеждению. Когда мы с ним встретились на чемпионате мира по хоккею, если мне не изменяет память, это было в Женеве ранней весной семьдесят первого, он уже был спортивным обозревателем Би-би-си русского отдела Би-би-си. - Я брал интервью у Виктора Александровича Маслова, когда "Динамо" приезжало играть с "Селтиком", - сразу сообщил он, едва узнал, что я из Киева. - То была сенсационная победа, "Динамо" сразу встало в один ряд с европейскими грандами. Я имел счастье принимать Виктора Александровича у себя в гостях! В той поспешности, явно сквозившем стремлении упредить нежеланные вопросы, открыть свое истинное лицо виделось стремление расположить к себе собеседника. Что же до меня, то я не помышлял поворачиваться к нему спиной - он интересовал бы меня, будь даже откровенным врагом: разве нужно объяснять, что моя профессия в том и состоит, чтобы изучать человека, кем бы он ни был. Мне не терпелось понять его суть, так сказать, внутренний фундамент человека, потерявшего родину, а значит, по моему глубокому убеждению, потерявшего опору в жизни, цель и смысл ее, словом, потерявшего все... - Я близко был знаком с Масловым и думаю, что это - великий тренер... - поддержал я разговор. - Вот-вот, именно так я и комментировал его интервью... Жаль, что "Динамо" играет сейчас слабее, чем прежде... Потом были встречи еще и еще, в разных странах, при разных обстоятельствах, и меня тянуло к Зотову, он волновал мое воображение недосказанностью, что была характерна для его поведения; я видел, чуял глубокий и трагический разлад в его жизни, но никак не мог ухватить главное, то есть не догадки, не предположения, а суть, факты, и ждал, когда Зотов расскажет обо всем сам. Мне это казалось важным, тем самым недостающим звеном, чтобы напрочь связать его прошлое и настоящее и уж затем выносить окончательный приговор... Впрочем, я не мог ни в чем упрекнуть Зотова: он не только при встречах, но и в передачах по Би-би-си старался держаться лояльно (если это слово вообще применительно к передачам, несущим в себе прежде всего политические мотивы и идеи Запада, направленные против моей страны...), но все же нет-нет да проскользнет фраза, слово, намек, явно сказанные с чужого голоса. Впрочем, я не заблуждался, что не будь этого, Зотова вряд ли бы держали в Би-би-си... Но в Лондон я приехал впервые в августе прошлого года. В английской столице как раз оказался Дик Грегори - он несколько лет работал в Англии корреспондентом. Когда Грегори возвратился в США, то вскоре прославился на Уотергейтском деле: поговаривали, что он был одним из первых, кто докопался до истины. С той поры Грегори стал независимым журналистом на договорных началах, и страсть к "раскопкам", как он называл всякого рода расследования, превратилась в главную цель его жизни. Впрочем, тогда, в августе семьдесят девятого, встретившись с Грегори, я толком не знал, чем он занимается теперь и что волнует кудрявую красивую голову. - Не обессудь, но, по-моему, я посягаю на твой хлеб, - усмехнулся Грегори, когда мы уселись на заднем сидении старомодного такси, нанятого Зотовым (Дима никогда не держал собственную машину из-за непреодолимой страсти к спиртному). - Переквалифицировался в спортивные журналисты? Да ведь ты не знаешь, чем европейский футбол отличается от американского, а Пеле для тебя африканский набоб, а лучший в мире хоккей - в Рио! - развеселившись, выпалил я. - О Пеле я слышал, и этого для меня вполне достаточно, - отрезал Дик. Он не обиделся, но и не откликнулся на шутку. - Но спортом я действительно занялся. Правда, не спортом вообще, а Олимпийскими играми, а не Играми вообще, а Московской олимпиадой. - Ты собираешься приехать к нам на олимпиаду? Милости просим! - Нет, на олимпиаду к вам я не приеду. Извини, к сожалению. - Что ж так? - У меня есть серьезные опасения, что она вообще не состоится в вашей столице! - Как это не состоится? - растерялся я. - Только что закончилась Спартакиада народов СССР, тысячи зарубежных спортсменов увидели, что Москва готова к Играм, а ты утверждаешь, что олимпиада не состоится! От тебя я подобных заявлений не ожидал, Дик Грегори! - Удивительный вы народ, русские! Просто сатанеете, стоит произнести что-то не соответствующее вашим догмам! - Такие уж есть, извини! - Я не на шутку разозлился. Одно дело встречаться с подобными типами в пресс-центрах - там в выборе выражений не стесняешься и называешь вещи своими именами, но совсем иное - садиться с таким субчиком за один стол, да еще угощать икрой, которую вез в подарок Юле - Диминой жене, я с ней был знаком заочно. Настроение у меня готово было окончательно испортиться, и я уже волком вызверился на ничего не понимающего Диму, хотя тот вообще не слышал нашего разговора, занятый объяснением таксисту, как лучше проехать на его Холландпарк-авеню. - Ого, если я сейчас не схлопочу по физиономии, то лишь потому, что поспешу объясниться! - расхохотался Грегори. Но тут же лицо его посерьезнело. - Мне было бы крайне тяжело узнать, что Игры будут сорваны. Хотя бы потому, что по горло сыт нашими приготовлениями к новой войне. Я никогда не увлекался спортом, это правда, но не такой уж законченный дурак, чтобы не уразуметь: чем больше будет таких встреч, как олимпиады, тем значительнее станут шансы, что наша крошечная планетка не провалится в тартарары. Словом, я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы ваши Игры состоялись. - С этого бы и начинал! - с облегчением сказал я. - Удивительный народ вы, американцы, - передразнил Дика, - нет бы начать с конца... - Послушай, Олег, дело не так просто, как тебе кажется. Существуют силы, способные торпедировать олимпиаду в Москве... - Знаю. Год тому назад один из не очень уважаемых мною английских министров уже призывал бойкотировать Московскую олимпиаду. И что из этого вышло? Пшик. Даже английские газеты не поддержали этого заявления. - Не спеши. Все куда сложнее, чем тебе видится. Поверь мне на слово пока я ничего конкретно не могу тебе сказать. Только не забывай, что когда у нас стреляют в президента, то это отнюдь не является волеизъявлением народа. Скорее наоборот! Кто бы мог предположить, что пройдет всего лишь чуть больше четырех месяцев, и опасения Дика Грегори обретут реальные черты, и мир станет свидетелем разворачивающейся по всем законам детективного жанра драмы, в которую будут вовлечены сотни и тысячи людей; включат на полную мощь свои возможности разные организации, что предпочитают действовать в "темноте", и вопрос о том, быть или не быть Московским Играм, из чисто спортивной проблемы перерастет в политическую, и мир разделится на тех, кто перед лицом реальной угрозы отбросит прочь сомнения и ринется на защиту Игр, и на тех, кто станет изо дня в день накалять обстановку и, наконец, дойдет до последней черты... Впрочем, об этом рассказ лишь предстоит. А тогда, теплым августовским предвечерьем, когда клонящееся к западу солнце заливало округу неярким прозрачным светом и мир выглядел таким прекрасным и добрым, мы выбрались из старенького, дребезжащего таксомотора, и навстречу нам вышла Юля - худющая, темноволосая и смуглолицая женщина, похожая на девочку-подростка, с тонкими длинными руками и каким-то мягким, материнским выражением лица. Дима сразу переменился, весь его гонор растворился в ее доброте, и он превратился в простого и бесхитростного парня, у которого если есть в жизни свет в окне - так это Юля. У меня вдруг сжалось до боли сердце, когда я, сам того не желая, проник в тайну страшного одиночества этого человека... Мы познакомились. Юля говорила на чистом русском языке, и Дима, уловив мое недоумение, объяснил: - Юля - гречанка, но родилась и выросла в Мариуполе, это такой красивый город на море, название которого я позабыл. - На Азовском. И не такое уж оно и маленькое, в Жданов - так теперь называется Мариуполь - заходят даже английские корабли, - сказал я. - Вы бывали в Мариуполе? - вспыхнула Юля. - Бывал? Там прошло мое детство... - А мы жили на Слободке. Отец рыбачил, и еще у нас был собственный виноградник. - Она счастливо рассмеялась. Видимо, воспоминания захватили ее, разволновали, мне показалось, что у Юли на щеках появился румянец. Он катал меня на лодке, когда море цвело. Мы словно плыли по зеленому зеркалу. У него были вот такой толщины руки... - Она оглянулась, ища глазами, с чем бы сравнить, но не нашла и снова беззаботно рассмеялась. Очень большие, я двумя руками не могла обхватить его бицепсы... Но папы уже нет... нет... - Юля, ну что ты, родная. Успокойся... - Дима не на шутку встревожился. Женщина-подросток уже взяла себя в руки и снова улыбнулась, а в уголках глаз блеснули две слезинки. - Мы еще поговорим о Мариуполе, ладно? - спросила Юля и с такой надеждой взглянула на меня, что я поспешил согласно кивнуть головой. - А маме, она живет в Пирее, знаете, есть такой город в Греции, он тоже у самого моря, я обязательно напишу, что встретилась с человеком, который жил там. Боже, как она обрадуется! Я вас покину совсем ненадолго, у меня все готово, Дима еще третьего дня предупредил, что вы будете у нас в гостях. Он обязательно должен показать вам свои розы... Зотов проводил нас через небольшую, уютно обставленную комнатку, служившую, по-видимому, кабинетом-приемной (на небольшом низком столике я выделил взглядом портативную пишущую машинку), прямо на веранду, узенькую, как турецкий кинжал, а с веранды мы попали в... сад. Это был крошечный участочек земли между домом и высоким забором, отгораживающим Димино "поместье" от пустыря, где начинались невысокие холмы, сплошь покрытые непролазными зарослями вереска. Пять кустиков были ухожены, политы, и земля под ними вспушена до песочной тонкости, но выглядели они, словно дети, выросшие в подвале, куда солнце заглядывает на час в день. Розы были зрелые и в то же время напоминали молодые саженцы - невысокие, не очень густые кустики, на каждом из которых матово блестели три-четыре красных цветка средней величины. - Когда приходится уезжать из Лондона, мне так недостает этих роз, тихо сказал Дима, любовно притрагиваясь самыми кончиками пальцев к каждому цветку, словно это живые существа, ждавшие ласки. Я видел, как подрагивали его пальцы. - Розы - самые прекрасные цветы, - сказал я, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. - И ты тоже так считаешь? - вырвалось у Зотова. - Гляди, Дима, не превратись в Нарцисса, - неудачно пошутил Дик, но Зотов даже не обернулся в его сторону. - Ей-богу, они чувствуют мое прикосновение, - сказал Дима. Когда мы вернулись в гостиную, Дима как-то поспешно, торопясь, словно боялся, что у него не будет другого времени, стал показывать свои реликвии. - Эту книгу мне подарил Георг Геккенштадт. - Дима протянул небольшую, скромно изданную книжку на английском языке. - Я первый разыскал старика здесь, в Англии. Потрясающий русский богатырь, рекордсмен и чемпион по поднятию тяжестей. Он оказался совсем древним и просто не поверил, что его помнят в СССР. Я сделал о нем получасовую передачу на Би-би-си. А этого человека ты узнаешь? Виктор Александрович Маслов на приеме по случаю победы над "Селтиком". Вот его автограф... В Диминой коллекции была книга известного советского шахматиста, бутылка грузинского коньяка, подаренная артистами Государственного ансамбля Грузии, когда они гостили в Лондоне, и пластмассовая копия Петропавловской крепости. - Трудно стало работать на Би-би-си, - вдруг сказал Дима. - Многое изменилось в последнее время... Появилась Юля, быстро и ловко накрыла стол. Я понял: самое время доставать подарки. Юля радовалась, как ребенок, каждой мелочи: прежде чем отложить подарок, она чуть-чуть дольше, чем нужно, задерживала его в руке, обласкивала. Черную икру и водку тут же водрузила на стол. - Русский пир в Лондоне, или наглядное свидетельство, что русские продолжают удерживать монополию на два самых дорогих в мире продукта черную икру и водку! - во всю мощь своего баритона воскликнул Дик Грегори. ...Уезжали мы поздно. Дима вызвал по телефону машину из какого-то "подпольного" частного гаража, объяснив, что такими такси пользуется едва ли не половина Лондона. "Это, знаешь, удобно, - объяснил он. - Дешевле, потому что как бы нелегалы, то есть незарегистрированные. Потому не удивляйся, что в машине нет таксометра..." Подпольный таксист оказался рыжеволосым парнем явно ирландского происхождения. Вел он машину мастерски, но от чаевых отказался, сказав, что уже заплачено. Мы распрощались с Диком Грегори, он ехал дальше. - Теперь до встречи в Лейк-Плэсиде, - сказал я. - Желаю тебе удачи, Дик. - И тебе удачи, Олег! Согрелся я лишь утром, когда после бритья принял горячий душ. В запыленное окно пробивались лучи неяркого зимнего солнца, отчего в комнате стало чуть теплее, во всяком случае мне так показалось. Включил телевизор - передавали очередное выступление президента на пресс-конференции в Белом доме. Журналистов в относительно небольшом зале было как сельдей в бочке. Они поднимали звериный рев, стоило президенту закончить ответ на вопрос и обратить свой взгляд к присутствующим, чтобы из сотен рук выбрать именно ту, которая ему нужна. Я заметил, что это "тыкание" наобум не было таким уж рефлекторным, как кое-кто пытался представить: всякий раз уверенно задавался нужный вопрос, хотя, по логике вещей, любой в зале мог сказать, что указующий перст обращен непосредственно к нему. Впрочем, секрета давно уже не существовало: помощники президента заранее раздавали вопросы некоторым журналистам. На сей раз пресс-конференция превратилась в монолог президента с короткими паузами, в этих-то паузах и успевали выстрелить очередной вопрос, и хозяин Белого дома тут же, без раскачки или раздумий, словно бы продолжая речь, монотонно втолковывал сидящим, а заодно с ними и миллионам телезрителей, истины, действительная ценность которых была весьма и весьма сомнительна. Речь шла об олимпиаде. Я понял причину беспокойства: дело с бойкотом Московской олимпиады принимало серьезный оборот, и лишь теперь я увидел пропасть, куда толкали олимпийское движение, причем это обставлялось таким образом, что простому смертному никак не разобраться, что вместе с крахом олимпизма человечество еще на шаг приближалось к пропасти - к термоядерной. Я набрал номер телефона Дика Грегори. - Офис мистера Грегори слушает, - раздался милый девичий голосок. - Мне нужен мистер Дик Грегори, - сказал я. - Назовите, пожалуйста, себя. - Олег Романько. - Здравствуйте, мистер Олег Романько. Шеф просил передать вам, что он будет у вас в отеле в 10:15. Если вы возражаете против этого срока, сообщите, пожалуйста, мне, я успею еще передать вашу просьбу мистеру Грегори. Я взглянул на часы - 9:37. - Спасибо, я буду на месте. - До свидания, мистер Романько. Чтобы не терять времени, я спустился вниз. Проулок, куда выходил парадный вход отеля, был пуст, узок, и слабая поземка обнимала ноги одиноких прохожих. Солнце, закрытое громадами темных зданий, затерялось где-то за пиками небоскребов и угадывалось лишь в отражениях стеклянных панелей, которыми был отделан дом (как-то не вязалось это точное и объемное определение с выстроенной человеческими руками неприступной "горой") напротив. Я заглянул в широкое зеркальное окно парикмахерской, словно надеялся увидеть окровавленный труп Анастазиа. Но в кресле мирно посапывал толстяк с закрытыми глазами, и брадобрей быстро срезал белую пену с его щек. Медленно проехала громыхающая мусоросборочная машина. Два высоких негра в синих джинсовых фирменных костюмах на ходу соскочили с запяток, ухватили по два черных пластиковых мешка, куда ньюйоркцы складывают мусор, на бегу ловко забросили их в открытый "зев" машины, и она медленно стала уминать их в ненасытную трубу. Я свернул на Бродвей. Знакомая реклама фирмы "Сони" перекрывала улицу, и Бродвей раздваивался, словно бы река, наткнувшаяся на каменный уступ. Было неуютно, грязно. Люди шли торопливо, почти бежали, изредка задерживались у открытых газетных киосков, быстро выбирали из вороха газет и журналов нужное и снова спешили вперед. Без единого слова, без лишнего жеста. Когда я вернулся к гостинице, Дик Грегори как раз выходил из темно-красного "олдсмобиля" - приземистого стремительного автомобиля, похожего на гончую, вдруг застывшую на лету. Дик Грегори всегда был престижным малым, и я не мог представить своего друга на каком-нибудь захудалом "фордишке" 1978 года выпуска. - Хелло, бой! - шутливо воскликнул Грегори. - Надеюсь, в этом чертовом леднике ты не отморозил пальцы! Если да, то пеняй на себя, видит бог, я хотел спасти тебя вчера ночью, но ты, как и все русские, свято соблюдаешь ветхозаветный режим дня... - Порядок, Дик, я жив, и пальцы в норме, уже просто чешутся, чтобы отстучать на машинке первые впечатления. - Никогда не делай этого, первые впечатления всегда обманчивы. Сначала нужно подумать, а затем лишь писать. - Эге, это слишком большая роскошь для газетчика! Думать нужно на ходу. - Не согласен. Но наш схоластический спор мы можем продолжить в более уютном месте, тем более что твой покорный слуга еще не ложился спать. Ты меня очень бы огорчил, если бы признался, что успел позавтракать. - Охотно принимаю твое предложение. - Тогда в машину! Я впервые попал в Нью-Йорк, и потому мне трудно было проследить путь, проделанный Диком к тому маленькому ресторанчику где-то в районе Гринвич-виллидж, о котором он успел лишь сказать, что это, конечно, не "Плаза", где бывают кинозвезды, но вполне уютно и прилично. Швейцар в золоченых позументах распахнул дверь и поклонился. Потом он закрыл дверь, проводил нас к гардеробу и передал из рук в руки темнокожему мужчине средних лет, тоже в золоченых галунах. У входа в зал нас встретил метрдотель: в черном сюртуке, с гладко зачесанными редкими волосами, он был воплощением непробиваемой уверенности в собственной неотразимости, и я подумал, что он вполне мог сойти за премьер-министра какого-нибудь не очень большого европейского государства. Дик Грегори, нисколько не обеспокоенный солидностью метрдотеля, шагнул в зал и, вытягивая голову, что-то поискал глазами. Убедившись, что все на месте, он довольно ухмыльнулся и сказал: - Спасибо, Гарри, что вы сохранили столик в неприкосновенности! - Вы же просили меня об этом, мистер Грегори! Я сейчас пришлю официанта. Мы сели за столик на двоих, отгороженный от почти заполненного даже в столь раннее время зала деревянной панелью, увитой какими-то экзотическими лианоподобными ветвями, усеянными крошечными, как колокольчики, голубыми цветами. Пока Дик на собственное усмотрение выбирал блюда, предварительно осведомившись, не придерживаюсь ли я по утрам диеты, мы не разговаривали, но стоило официанту отойти, как буквально набросились друг на друга. - Как живешь, Олег? - О'кей, Дик. А ты? - Я думаю, что неплохо. Работы много, а это главное. Когда у человека есть работа и он ее любит - значит, он живет не напрасно. - Ты завел собственный офис? - О, давно. Знаешь, у нас, если хочешь иметь солидные заказы, ты должен иметь солидное лицо. У меня даже есть несколько репортеров, впрочем, чаще всего их роль заканчивается в тот момент, когда они выложат необходимую информацию. У ребят лисьи физиономии и собачий нюх. К тому же я им хорошо плачу, и гонорар зависит в прямой пропорции от ценности сообщения. Они это хорошо усвоили, так же, как и то, что я их никогда не надувал... - И все же, это неблагодарная роль для журналиста - таскать каштаны из огня для других. - Не согласен. Кто-то, более талантливый, должен делать главное. Тем более в нашем газетном мире знают имя Дика Грегори. Оно само по себе гарантия первосортности материала. - Извини, Дик, где здесь телефон-автомат? - перебил я Грегори, поняв, что больше не в состоянии терпеть, хотя и дал себе слово, что, пока не встречусь с Диком, не стану звонить ей. -Там, где мы сдавали пальто, слева. Возьми монеты! Я вышел в вестибюль и легко нашел кабины. Одна из них была, на счастье, пуста. Набрал номер. Пока никто не брал трубку и далекий зуммер эхом возвращался ко мне, сердце у меня стучало с такой неистовой силой, что я ощущал его удары в горле. Совсем как после трудного заплыва, когда ты отдал всего себя до конца.. - Вас слушают. - Холеный женский голос даже отдаленно не напоминал мягкий, сладкий голосок Натали. - Вас слушают! - Доброе утро, - сказал я как можно равнодушней, ибо уже догадался, что трубку взяла Любовь Филипповна, мать Наташи. Она не слишком одобрительно относится ко мне, хотя мы еще не имели возможности встретиться, - семья Наташи несколько лет жила в Нью-Йорке, где отец работал в советском торгпредстве. - Я бы хотел услышать Наташу. Теперь настал черед онеметь Любови Филипповне, конечно же, знавшей о моем приезде. Я не стал торопить, хотя меня так и подмывало крикнуть: "Да позовите же Натали!" Но моя Натали сама услышала мой внутренний глас. - Ты? - раздалось в трубке. У меня перехватило дыхание. - Я, Натали... Я, мой родной... моя Сказонька... - Где ты? В Нью-Йорке? - Нет, я скоро вылетаю... Еще в Вашингтоне... Буду и обеду... - Все это произносил мой язык под диктовку разума, а сердце просто обливалось кровью от этой чудовищной лжи и спокойного, ровного голоса. О, кто тебя создал, человек?! - Уже больше ничего не случится? - Ничего, мой родной, обещаю. - Я сажусь под дверью и жду, Я не сдвинусь с места, пока не увижу тебя. Я знал Наташку: она действительно усядется под дверью, как собачка, и будет прислушиваться к каждому шороху, к каждой остановке лифта на этаже. Отговаривать я не стал, это было совершенно бесполезно. Вернулся в зал, сел за стол, и Дик сразу уловил перемену в моем настроении: - Что-то случилось? - Ничего, кроме хорошего, самого прекрасного, - ответил я и улыбнулся. - Если ты улыбаешься, значит, и впрямь о'кей. Тогда - за встречу!.. Ты когда намереваешься отправиться в Лейк-Плэсид? - спросил Дик. - Завтра. Вот только пока не решил, как туда добираться. Городишко-то, как мне ясно, где-то у черта на куличках, советовали даже лететь через Монреаль - оттуда ближе. - Если завтра, то поедем со мной. Я тоже качу в те края. - Последние слова Дик произнес с ожесточением. - Ты аккредитирован на Играх? - Нет, в этом нет необходимости. Ты ведь знаешь - я политический обозреватель. - Тогда что влечет тебя в те места, куда даже "Нью-Йорк таймс" не советовала ехать согражданам? - Работа, Олег. - Ты говоришь загадками. - Нет, я излагаю истинные намерения, но... не раскрываю цель. Нет, нет, не думай, что я таюсь от тебя, - мы с тобой живем на разных политических планетах... - Но на одной земле.. - Это я помню хорошо. Именно это и заставляет меня лезть головой в петлю, черт возьми! - Снова загадки... Не болит ли у тебя голова от... от излишних возлияний минувшей ночью, которую, как я правильно догадался, ты провел не у себя в постели? - Голова болит, но вовсе не от перепоя, если я правильно понял твои слова. Почти не пил, но мне пришлось много работать. Я уперся в тупик, хотя знаю, что выход из лабиринта существует. Больше всего боюсь, меня просто охватывает ужас, что кто-то уже готовится выйти на свет божий и устроить... словом, я на распутье. Ничего, понимаешь, ничего не могу поделать! Такого со мной не случалось никогда... даже когда занимался Уотергейтом. Кстати, мне недавно довелось выступать в одном южном колледже вместе с Никсоном. Он подошел ко мне после встречи и сказал: "Никогда не мог предположить, что вам удастся докопаться!" Я ответил ему: "Здесь нет ничего особенного, я лишь журналист и обнаружил самые кончики ниточек, ведущих к тайне. Не больше! Дергали за них уже другие!" Сейчас же у меня исчезли даже кончики ниточек, а ведь еще несколько дней назад я был уверен, что держу их в руках! - Давай переменим пластинку. Мне не нравится, когда со мной говорят загадками, но, по-видимому, ты не можешь сказать правду. Я не в обиде. В конце концов тебе решать, что говорить, а чего нет. Ты мне лучше скажи, что стоит за всей этой шумихой с бойкотом? - Стоят очень серьезные силы. Они готовы на крайности. - Но ведь они не в состоянии запугать человечество и навязать ему свою злую волю! - Ты ведь не ребенок, Олег, и не настолько наивен. В наше время человечество меньше всего принимается в расчет. Они хотят создать ситуацию, когда человечество будет поставлено перед свершившимся фактом. Не забывай, что нынешний год для Америки - особый, год выборов президента. А ты думаешь, нынешний хозяин Белого дома не помнит, что одним из наиболее болезненных провалов, буквально потрясших нацию, было поражение американских атлетов на Играх в Монреале - от ваших ребят да еще восточных немцев? Форд потерял президентство в том числе и из-за этого... - Ну, знаешь ли, если каждый американский президент будет связывать свои перевыборы с победой или поражением на Играх и соответственно избирать для себя норму поведения... - К сожалению, этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но, думаю, не только опасение неудачи на Играх ведет сегодня нашего хозяина. За всей этой кампанией кроются другие, более серьезные и далекоидущие цели... - Что касается олимпиады в Москве, то я уверен, что она состоится, Не могут не повлиять на наше поведение различные угрозы, с коими американская сторона обращалась к нам. То, видите ли, не могут принять всю советскую делегацию в олимпийской деревне, то не смогут прокормить спортсменов, то вообще "пужают" отсутствием надежной безопасности... - Что касается последнего, - прервал меня Дик, - это гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. - Нам не привыкать, Дик. На последних олимпиадах всегда находились люди, готовые пакостить. Что там говорить, в этом проявляется бессильная злоба... - Не такая уж бессильная... Впрочем, я готов потерять то, что я вложил в эту "раскопку", лишь бы оказаться посрамленным в твоих глазах. За твою победу! Мы выпили. Я представил Наташку, сидящую под дверью, и невольно усмехнулся - сколько в ней еще детского, непосредственного. "Может, вы удочерите меня?" - "К несчастью, не могу, всего лишь шестнадцать лет разницы, могут дурно понять". - "А жаль, я была бы такой послушной..." "Не люблю послушных, люблю умеющих слушать, ведь я законченный болтун..." - "Ты будешь рассказывать мне сказки, как охотился на акул в Тихом океане, в Акапулько?" - "Вот видишь, какая ты! Я тебе поведал быль, а ты посчитала меня лгуном?" - "Нет, просто - сочинителем, ведь это - твоя профессия..." - "Прикуси язычок, неверная, или я вынужден буду покарать тебя за оскорбление моей самой нужной, самой лучшей на земле профессии!" - "Слушаю и повинуюсь!" - Дик, - прервал я воспоминания, - как там Дима поживает? Он что-то замолчал, даже на Новый год слова не черкнул... Прислал осенью благодарность Брайана за перевод его рассказа и как в воду канул... - У Димы дела - хуже не бывает. Он лежит в больнице и больше не работает в Би-би-си... - Спился? - В больнице, кажись, с этим диагнозом, но кризис наступил уже после того, как его выкинули из русской службы. Он просто оказался им не нужен со своими устаревшими знаниями советской действительности... - И кто же занял его место? - Некий Ефим Рубинов, бывший советский спортивный журналист. Я сразу представил себе немолодого уже человека с вечно насупленным, недовольным лицом, с обезьяньей, выпирающей нижней губой и услышал его наглый, самоуверенный голос, нередко ставивший в тупик людей, когда он брал у них интервью. Он никогда не занимался спортом, да что там спортом гантели за всю свою жизнь в руки не взял, я в этом глубоко убежден! Но нужно было видеть, с какой потрясающей самоуверенностью он брался наставлять видавших виды тренеров и как бесцеремонно, как бесчеловечно готов был растоптать спортсмена, стоило только тому сделать неверный шаг или оступиться. Он просто-таки торжествовал, когда ему удавалось разыскать еще одно проявление "звездной" болезни. Он превращался в прокурора-обличителя, и высокие слова слетали с его пера. Его не любили и побаивались, сторонились даже собратья по перу. - Что же Юля? - Она уехала в Грецию. Хочу признаться тебе, что есть и моя вина в случившемся. Впрочем, я неправильно выразился: просто то, о чем рассказал мне Зотов, слишком большая тайна, чтобы ее разглашение прощалось. Дима знал, на что идет... Я не вымогал у него ничего... Даже предупредил о возможных последствиях. Он ответил решительным отказом принять предупреждение и добавил, что больше так жить не может. - А розы, наверное, завяли, ухаживать за ними некому... - О каких розах ты говоришь? - не понял Дик. - О Диминых, он больше всего любил розы. Расставаясь, мы уговорились, что встречаемся завтра у моей гостиницы в восемь утра. - Может, у тебя есть проблемы в Нью-Йорке? - спросил на прощание Дик Грегори. - После 16:00 я смогу уделить тебе время. - Все о'кей, Дик, - махнул я ему рукой. - Никаких проблем!3
"Олдсмобиль" был подготовлен к длительному путешествию: помимо двух чемоданов, здесь уже находились желтая спортивная сумка "Арена", серебристые лыжи "К-2", какие-то пакеты и картонные ящики. Я в недоумении и некоторой растерянности остановился перед автомобилем, не зная, куда же ткнуть собственные вещи. - Давай, давай, - поторапливал меня Грегори. Без всякого почтения к коробкам и пакетам он забросил наверх мой довольно тяжелый чемодан, потом с такой же беззаботностью устроил мою спортивную сумку, что мало отличалась по весу и размерам от чемодана. Единственное, что пожалел Грегори, так это лыжи. Я проникся к нему еще большим уважением, когда увидел, как бережно он сначала вытащил, а затем снова положил "К-2", так, чтобы ничто не поцарапало поверхность и, конечно, не угрожало их целости. Для меня горные лыжи - живые существа, они тоже испытывают боль и разочарование, если с ними обращаются, как с куском металла, залитого смолой, идущей, говорят, на космические аппараты. Нью-Йорк мне не понравился, возможно, потому, что я слишком мало видел, но первые впечатления - пусть обманчивые - проникают в самую душу, и нужно немало времени, чтобы выкорчевать их из потаенных глубин души; город оставил ощущение какой-то аморфности и заброшенности, где никому нет ни до чего дела (так оно на самом деле и было), и жизнь течет здесь в замкнутых орбитах, не позволяя посторонним проникать в их тесный мирок, и никто не задумывается над тем, что происходит за его пределами. - Если ничто тебя больше не удерживает здесь, то вперед! - воскликнул Грегори. - До встречи в Лейк-Плэсиде, Витя! - Я крепко обнял Синявского и почувствовал на своей щеке жесткую щетину его бороды. Хоть прощались мы максимум на два-три дня, а все же грустно было оставлять товарища. Но его ждали встречи и дела в Нью-Йорке, и он не мог присоединиться к нам. "Впрочем, наверное, оно и к лучшему, иначе Вите пришлось бы ехать на крыше или в багажнике "олдсмобиля", - подумал я, еще не догадываясь, что и багажник был забит, что называется, под самую завязку. С Наташкой мы расстались час тому назад, она возможно, обиделась, но я терпеть не могу, когда меня провожают. Не могу, и все тут. Себя не переделаешь... Город еще только оживал, вместо ревущего, подобно горному водопаду, потока машин сейчас по улицам текли сонные ручейки, и Грегори ловко и уверенно лавировал на перекрестках. Мы молчали, я искоса рассматривал Дика. Узкое скуластое лицо, большие и глубокие, как степные костры, темные глаза. В них вспыхивали - я знал яростные языки пламени, стоило лишь задеть его за живое; высокий лоб с неглубокими залысинами охватывала густая темная шевелюра. Я подумал, что Грегори вовсе не обязательно носить лыжную шапочку в горах - ему мороз нипочем. Он, пожалуй, выше меня, где-то в пределах 190 сантиметров, но рост его не бросался в глаза, так как Дик сутулился - бич людей моей профессии, слишком много времени проводящих за письменным столом. Руки у Дика крепкие, жилистые, с пальцами, что в случае нужды сливались в один стальной кулак, встреча с которым вряд ли принесла бы только "легкие телесные повреждения". Грегори было под сорок или все сорок, но он выглядел старше, чему в немалой степени способствовало замкнутое выражение лица - человеку незнакомому он вполне мог показаться нелюдимым и суровым. Однако это не соответствовало действительности, ибо Дик Грегори был жизнерадостным и веселым человеком, без особых усилий в любой компании он становился душой общества: много ездивший по миру, много повидавший, он к тому же и превосходно рассказывал (мне даже думалось, что он заранее, в уме, складывает каждую историю в полноценный рассказ с завязкой, кульминацией и развязкой). "Я перепробовал на этой земле все, что только можно испробовать, когда у тебя есть деньги и когда ты не лезешь в карман за сдачей, если тебя бьют по физиономии, - сказал как-то Дик и весело рассмеялся, от чего в его бездонных глазищах запрыгали бесики. - Мне бы в космос слетать!" - Знаешь, заедем-ка мы в Олбани, - нарушил молчание впервые за полчаса Дик. - Да, обязательно в Олбани - повстречаюсь с одним парнем. Только бы он был на месте. Кстати, и тебе польза - сможешь записать в актив пребывание или посещение, как тебе заблагорассудится это назвать, столицы штата Нью-Йорк. Ведь большинство, приезжая в Штаты, наивно полагает, что Нью-Йорк - и есть столица. Олбани не произвел на меня никакого впечатления. Заштатный городишко, где несколько высотных зданий, небоскребами их не назовешь и с натяжкой, лишь подчеркивали провинциальность столицы: жизнь здесь катилась подобно тихой равнинной реке, даже автомобили, почудилось мне, не издавали такого рева, как в Нью-Йорке. Дик затормозил у первого же таксофона, забрался под его прозрачное розовое "ухо", набрал номер и переговорил с кем-то. Довольный, он вернулся в "олдсмобиль", и машина с визгом сорвалась с места. У невзрачного двухэтажного строения, где нижний этаж, судя по широким зеркальным витринам, занимал офис без вывески, Грегори остановился, но, прежде чем выйти из автомобиля, посмотрел в зеркало заднего вида, несколько секунд внимательно изучал перекресток с мигающим светофором и, оставшись довольным, выбрался из кабины, бросив: "Две минуты, Олег, всего лишь две, о'кей?", быстрым шагом преодолел тротуар и скрылся за дверью... У Наташки было растерянное лицо и слезы в уголках глаз. В светлых джинсах и легком шерстяном бежевом свитерке с засученными по локоть рукавами - она вся какая-то светлая, воздушная. Немая сцена длилась довольно долго, потому что из комнаты раздался голос Любови Филипповны: "Наташа, кто там?" - Ну, здравствуй, Малыш, - выдавил я, а сам не мог оторвать глаз от Наташки, как, впрочем, и ноги от пола, чтобы сделать тот последний шаг, который отделял нас друг от друга. Она вдруг взвизгнула, бросилась мне на шею и повисла, до боли сжав руками так, что мне стало трудно дышать. - Я не могу, больше никуда никогда тебя не отпущу! Никогда! Пусть все летит к черту, куда угодно, но я должна быть с тобой. Мы улетим отсюда вместе, к тебе в Киев или еще куда ты захочешь, но только вместе! И не говори, что еще не время, что еще нужно подождать! Нет! - Вместе, только вместе, - повторил я ее слова. И почувствовал на своей щеке ее слезу, буквально обжегшую меня. - Здравствуйте, Олег Иванович! - Голос Любови Филипповны, в котором звенел лед, оторвал нас друг от друга. "Уж заодно и фамилию произнесли бы!" - едва не вырвалось у меня, но вслух я спокойно сказал: - Добрый день, Любовь Филипповна, искренне рад вас видеть! - Протянул ей букет ярких (и потому выглядевших неживыми) белых роз. Любовь Филипповна, по-видимому, ожидала чего угодно, но только не цветов, растерялась, и по лицу ее пошли красные пятна. По всему было видно, что чувствует она себя школьницей, которую застали за списыванием контрольной. Мой расчет оказался безошибочным, и первый, самый трудный миг нашего знакомства был благополучно преодолен. - Что же мы стоим на пороге? - нашлась наконец-то Любовь Филипповна. - Наташенька, приглашай Олега... - запнулась на полуслове, но с честью вышла из сложного положения: - Приглашай гостя в комнату. - Не угодно ли вам, сэр, войти? - съязвила Наташка, просто-таки убитая моим тактическим ходом, - мне почудилось, что она ревниво отнеслась к тому, что розы попали не к ней в руки. Когда Любовь Филипповна величаво уплыла, оставив нас одних в прихожей, Наташка прошипела: - Ну и хитрец, ну и донжуан! Тебе бы только за престарелыми матронами ухаживать! - Все было в этой жизни, пройденный этап! - Как это было, а почему я не знаю ничего? - просто-таки подскочила Наташка на месте. - Ничего, Малыш, у тебя достаточно будет времени в будущем, дабы досконально изучить мое прошлое. Я предоставлю в твое распоряжение необходимые свидетельства. О'кей? - Нет, ты мне положительно нравишься сегодня... - Если так, то мне положен хотя бы один поцелуй. - Боже, - прошептала Наташка, - мы ведь еще не целовались... Тут я увидел Дика Грегори, появившегося в дверях офиса с крепко сбитым парнем в потертых синих джинсах и такой же синей рубахе, расстегнутой почти до пупа. У парня было широкое круглое лицо, наглые, глядящие в упор глаза (я буквально физически ощутил прикосновение его изучающего взгляда) и походка профессионального боксера. Впрочем, нос у него и впрямь был слегка деформирован. На вид ему больше тридцати не дашь. Дик что-то сказал на прощание, парень кивнул согласно головой, а его ощупывающий недобрый взгляд по-прежнему был прикован ко мне. "Какого черта!" - захотелось рявкнуть мне. Грегори сел за руль, включил зажигание, и снова машина рванула вперед с неприятным визгом покрышек. Он даже мимолетно не взглянул на того, кто я видел в боковом зеркале - остался стоять на тротуаре, провожая взглядом автомобиль, пока мы не свернули на другую улочку. - Хорош, - сказал я, чтобы насколько разрядить обстановку. - Ему бы ковбоя играть в вестерне из жизни дикого Запада! - Ты угадал. Стив Уильямс действительно потомственный ковбой, сказал Грегори, не поворачивая головы. - Сейчас он - мой лучший, самый пронырливый репортер, "раскопщик". Кого меньше всего напоминал подчиненный Грегори, так это журналиста! - Тебя смутил его внешний вид? Как это у вас говорят - блатной? - Пожалуй, - согласился я, несколько сбитый с толку. - Парень хлебнул в жизни, это точно. Служил актером в Голливуде, потом был профессиональным кетчистом, одно время подвизался в частной сыскной конторе, наркотиками занимался, был "подставным" в цепи не то в Турции, не то в Ливане, толком я не знаю. Его "вычислили" - он едва унес ноги. Ко мне он заявился два года назад - и без обиняков: "Шеф, я слышал о вас много дурного - дурного с точки зрения тех, кто и мне не нравится, но я многое повидал и выработал собственную точку зрения на людей. Я хочу быть репортером и, поверьте, не буду обузой в вашем деле". - "Ты написал в своей жизни хотя бы информацию на пять строк?" - не слишком мягко спросил я. "То, чем я занимался, исключает какие-либо записи". - "Так какого дьявола ты прешься в журналистику?" Я тогда был не в духе, у меня случились крупные неприятности с одной фирмой, она подала на меня в суд из-за разоблачительной статьи. "Не спешите, шеф, - охладил он мой пыл. Выгнать вы меня всегда успеете!" А он прав, подумал, остывая, выгнать его я действительно успею. К тому же, если память мне не изменяет, Джек Лондон тоже слыл отпетым парнем. "Хорошо, обещай мне лишь одно - никогда не лгать. Лучше уйди, если не сможешь быть честным". - "В этом вы можете не сомневаться, шеф. Я слишком много брехал в жизни и насмотрелся на разные подлости, родившиеся из-за лжи. Меня воротит от этого всего!" Так он стал работать на меня. И первое, что раскопал Уильямс, когда прошелся по некоторым своим прошлым связям, - ты и представить себе не можешь! Грегори оторвал взгляд от зеркала заднего вида (я давно понял, почему Дик устремился в одну точку, и, честно говоря, его озабоченность, не преследует ли нас кто, не могла не встревожить меня. Но почему нас должны преследовать?) и улыбнулся как заговорщик. - Не интригуй. - Сынка президента. То, что он не прочь принять ЛСД [очень сильное наркотическое средство], было известно давно, но он еще и прикрывал - не безвозмездно, естественно, кое-кого из оптовых торговцев наркотиками. Моя статья вызвала переполох в Белом доме. - Ого, вот за что ты берешься! - Я тоже ненавижу ложь, - жестко отрезал Грегори и надолго замолчал. Но даже после рассказа Дика я не почувствовал симпатии к Уильямсу. "Олдсмобиль" между тем глотал километры ровного, как натянутая струна, шоссе, правда, не превышая дозволенных 55 миль в час. Дик включил приемник, и волны симфоджаза закачали меня. Странно, но мой ледяной нью-йоркский номер будто бы стал уютнее, стоило в нем появиться Наташке. Я вытащил из сумки бутылку мускатного шампанского, привезенного из Киева, и коробку конфет. Натали принялась распаковывать пластиковую сумку, назначение которой я не угадал, когда мы уезжали из дома, где Любовь Филипповна просто-таки не находила себе места, как только узнала, что ее дочь собирается со мной. Я молча наблюдал, как Наташа сервирует стол в моей дыре и как номер превращается в праздничный зал, а когда она вытащила три свечи, зажгла их от газового "ронсона", я понял, что пришла радость, и сердце мое распахнулось ей навстречу. - Малыш, - только и смог прошептать я, когда наконец моя маленькая хозяйка повернулась ко мне. Я вдруг живо припомнил, как два года назад увидел старого вуйка, который нес на закорках что-то неживое, облепленное снегом, да еще волок за собой красные пластиковые лыжи. Мне не нужно объяснять, в чем тут дело, достаточно было бросить взгляд на старый дырявый полушубок вуйка и красный нейлоновый комбинезон... - Давайте, вуйко, помогу! - Допоможи, допоможи, сынок, нема моих бильше сил, - с трудом проговорил старик. - Що б було, якбы не занесла нелегка доля мене в той кут? Я взял неожиданно легкое тело девушки, она даже не пошевелилась, и меня пронзила мысль, что она скончалась. Это заставило поспешно опустить ее на снег и сдернуть с головы капюшон вместе с вязаной шапочкой "Кнейсл". Лицо девушки побелело, и я принялся растирать его снегом. Минуло немало времени, прежде чем она застонала и сказала: "Больно..." Я до того обрадовался, что готов был ее расцеловать. - Треба до ликаря, сынку, сыл моих бильш нема... - Зараз, зараз, вуйко, - сказал я и принялся поспешно ощупывать ее руки - сначала левую, потом правую. Девушка молчала, ее закрытые глаза не открывались, но когда я тронул левую ногу у щиколотки, она закричала, глаза ее распахнулись мне навстречу, и я увидел, какие они нее синие, словно небо в июне... - Все, больше не буду... Где вы живете? Но девушка не ответила, видно, снова от боли потеряла сознание. Я взвалил ее на плечи и, крикнув: "Вуйко, захватите лыжи, пожалуйста, отдайте на динамовской базе дежурной...", почти бегом устремился вдоль насыпи железной дороги. Снег сыпал и сыпал, в долине гулял ветер, лицо у меня мерзло, но некогда было даже остановиться, чтобы передохнуть. Я поднялся с девушкой к себе в номер - благо, у меня были две комнаты, номер-люкс, принадлежавший самому Вадиму Мартынчику, местному "боссу" и моему давнему другу по спорту. Это был чудесный номер, окна его выходили на горную речку и на молчаливый белый храм с кладбищем, где на рождество в бездвижном воздухе таинственно светились до первых лучей солнца сотни свечей. Еще внизу я крикнул дежурной, чтобы разыскала врача и прислала ко мне. Молодой застенчивый фельдшер, однажды уже обезболивавший мне травмированные связки, без лишних слов принялся за дело. - Ушиб и сильное растяжение голеностопа. Лежать! - сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. - Вам нужно лежать! - сказал я как можно тверже. - Но... - Девушка растерянно переводила синие, полные слез глаза то на врача, то на меня. - Ведь мне нужно домой, сказать... там будут беспокоиться. - Вы уверены? - А как же иначе? Ведь это мой... мой друзья, - совсем растерявшись, пролепетала она. Не стану врать, я решил оставить ее у себя в номере, чего бы мне это ни стоило. Не мог, просто не мог отпустить ее к друзьям. - Если вы хотите, я могу сходить и сказать, что с вами приключилось. - Пожалуйста, это недалеко отсюда: по улице за кладбищем, третий дом - там елка у крыльца. Взял куртку, шапочку и, не одеваясь, вышел. Мне нужно было разобраться с мыслями, привести их хотя бы в относительный порядок. Что-то произошло со мной, но что - понять не мог. Я не пошел в обход, к мосту, а напрямик - через речку по льду, правда, в одном месте пришлось прыгать, и лед проломился. Там оказалось неглубоко, но все же слегка зачерпнул ледяной водицы. Дом разыскал сразу. Поднялся по ступенькам. Уже на пороге меня встретили громкие звуки джаза. На мой стук никто не отозвался, и я толкнул дверь. По доносящимся звукам легко разыскал нужную дверь. В комнате десятка полтора парней и девчат: кто в свитерах, кто в легких майках, в носках и сапогах лихо отплясывали рок; дым - хоть топор вешай, спертый винный дух ударил в лицо. На меня долго никто не обращал внимания, пока не кончилась музыка и раскрасневшаяся девушка, затянувшись и выпустив струю дыма в мою сторону, сказала: "А у нас гости...". Тут ко мне обернулись и остальные. Внезапно я вспомнил, что не знаю, как зовут девушку, лежавшую в моем номере. - Вы кого-то ищете, - с небрежным вызовом спросил высокий статный парень с красивым до отвращения лицом. - У вас есть подруга, блондинка с большими голубыми глазами? спросил я, тут же устыдившись подробностей. - Вить, а это ведь про Наташу, - сказала все та же девушка, что первой увидела меня. - Вы имеете в виду Наташу? - еще наглее спросил парень. - Не знаю, как ее зовут, но знаю, что вы ее бросили на верную смерть! - О чем это он говорит, Вить? - О чем это вы, молодой человек? - Парень не унимался. Я понял, что еще слово - и он познакомится с моим кулаком, как бы глупо это ни выглядело... - Да ни о чем, прощайте. - Я повернулся и вышел, с силой захлопнув за собой дверь. Уже возле калитки меня догнала девушка. - Вы не обижайтесь. Где Наташа? - На базе "Динамо". 312-я комната. Когда я возвратился, моя гостья уже пришла в себя - на лице появился румянец, а в глазах - дерзкая независимость. "Ну и черт с тобой!" мысленно обругал я ее, чувствуя доводящую до бешенства собственную уязвимость. - Я сообщил, где вы находитесь. - И что же? - Она просто-таки вспыхнула, ожидая моего ответа. - Не знаю. Они не выразили определенных намерений. Мои слова застали ее врасплох, она замолчала, откинувшись на подушку головой. Глаза ее устремились в одну точку. Я снова вдруг ощутил пустоту, едва представил, что сейчас заявятся ее друзья и заберут с собой. Не станешь же удерживать силой? Взглянул на себя как бы со стороны, и настроение вовсе испортилось: юная девушка и зрелый мужчина, правда, уже не обремененный семьей, но еще и не свободный... Они и впрямь ввалились вскоре, человек пять-шесть, немного растревоженные, но веселье все равно так и пробивалось сквозь обеспокоенность, еще сквозившую в первых словах. Они набросились на девушку с расспросами, затормошили ее. Высокий красавец как-то виновато держался за спинами других, но глаз с Наташи не спускал. Она лишь однажды остановила на нем взгляд и тут же отвела. Лицо ее как-то окаменело. - Поблагодарим товарища за помощь, - сказал, обретая утраченную было уверенность, красавец, - и - о-ля-ля - прямо домой! - Я здесь ни при чем. Благодарить нужно старика, это он наткнулся на нее, - сказал я как можно равнодушней. - А все ты, Виктор, - вдруг взорвалась девушка, которая проводила меня до калитки. - Ты ведь клялся, что видел, как Натка катит следом за тобой. А сам сел в машину и уехал... - Откуда я знал, что ее угораздит спускаться не там где нужно! огрызнулся парень. - Машина стояла внизу, что мне, упускать ее?.. Тем более, водитель сказал, что через пять минут вездеход будет возле подъемника. И вообще, ребята, стоит ли устраивать весь этот сыр-бор на отдыхе, ведь мы приехали не искать себе лишних трудностей, не так ли? - Я останусь здесь... врач запретил мне двигаться... По крайней мере сегодня, - она сказала тихо-тихо, но ее слова прозвучали громом, и еще она взглянула на меня, и я поспешил глазами сказать, умолить - да, да, да! - Мы тебя в один присест донесем, чего это ты, Нат? - раздались голоса. Они еще пошумели, покричали, но поняли, что изменить решение подруги не удастся. В дверях высокий спросил: - По каким дням посещение больной? - По субботам, юноша, по субботам! - рявкнул я. - И дверь закройте с той стороны! А случилось это в понедельник... - Ты где будешь жить? - спросил Грегори. - В мотеле "Олд стар". - Это, кажется, недалеко от пресс-центра. Вполне прилично по нынешним временам, когда, я слышал, журналистов устраивают за сто километров от Лейк-Плэсида, в Платсбурге... - А ты? - Я буду жить в бунгало на противоположной стороне Зеркального озера. Это конура приятеля, он любезно уступил мне на время Игр. Сам он решил смотреть олимпиаду по телевизору. Я думаю, это правильное решение. - Одно мне непонятно, Дик, что тебя несет в этот богом забытый край? Аккредитации у тебя нет, билеты, насколько мне известно, стоят уйму денег, лыжные трассы закрыты, - словом, никуда не пробьешься. Да и питание, говорят, тоже не слишком хорошо там организовано. На что уж спортсмены, и тех не обещают кормить как следует... - Да, Олег, вот что я хотел тебе сказать... Пойми меня правильно и пока не спрашивай лишнего. Пока. Наступит время, когда я готов буду ответить на любой твой вопрос. Мое предисловие вот к чему: я не довезу тебя до мотеля, а высажу в непосредственной близости, ничего, ты здоров, как бык, дотащишь свою водку в целости и сохранности. Такая осведомленность Дика Грегори меня рассмешила, и я не стал себя сдерживать. Ледок, образовавшийся после первых его слов, растаял. - Это во-первых. Когда ненароком доведется встретить меня на улице ну, на Мейн-стрит, скажем, не подходи ко мне и ничем не выказывай, что мы с тобой знакомы. Если нужно, я сам подойду к тебе или кто-то скажет, как найти меня. Это во-вторых. - Все? - Пока все. - Ты чем-то обеспокоен? - Не будем об этом, мы ведь условились. Меня беспокоит лишь одно как бы не опоздать... Времени осталось совсем, совсем мало, в обрез. Дьявол бы побрал этого плантатора, выращивал бы свои земляные орешки... всем на радость. - Знаешь, я хочу пива, - чтобы перевести разговор на другую тему, сказал я. - Ящик у тебя за спиной. Кстати, и мне откупорь банку. В горле действительно пересохло. Я щелкнул крышкой, и в машине установилась тишина, нарушаемая лишь мерным гудением мощного мотора. Вечером, когда Лейк-Плэсид погрузился во тьму, я подходил к "Овалу". Лед был ярко освещен, конькобежцы в блестящих, обтягивающих костюмах мерно накручивали километры, тренеры, застывшие по кромке, оживали, когда спортсмен проносился мимо, что-то кричали или показывали на пальцах и снова замирали. На флагштоках, вытянутых в одну линию вдоль Ледового дворца, у входов в который толпился народ - билеты продавали даже на тренировки, - полоскались на сильном ветру государственные флаги стран участниц ХIII зимних Олимпийских игр. Снега почти не было, дорожки и улица, по которой я только что шагал, были грязными и пыльными, мороз высушивал ноздреватые сугробики и хватал за щеки. Пресс-центр светился окнами всех четырех этажей. Я вошел в здание. Никто не задержал меня, не спросил документы. Впрочем, пресс-центр, расположившийся в местной школе, еще официально не работал, о чем можно было легко догадаться по нагромождениям ящиков в узких проходах; парни в комбинезонах, переругиваясь, таскали цветные телевизоры "Сони" и спускались с ними в подвал. Я потолкался по этажам, таблички "Аккредитация" не обнаружил и обратился за помощью к мужчине в лыжной шапочке. Он посмотрел на меня словно на марсианина и развел руками: - Понятия не имею, я здесь сам двадцать минут. Да, двадцать, повторил он, для верности взглянув на часы. Еще две попытки выяснить местонахождение аккредитационной комнаты ни к чему не привели. Мои хаотические толкания по этажам и комнатам все же дали положительный результат. На четвертом этаже я увидел знакомые буквы "ТАСС" и толкнул дверь. В просторной комнате стояли три стола, несколько стульев, телевизор, стучал телетайп, раскладывая по полу бесконечную ленту, было тепло, и немолодая усталая женщина знакомым московским говорком объяснила: - Это вам нужно выйти во двор, по центральной лестнице. Впереди справа вы увидите одноэтажный деревянный барак. Там аккредитуют. А вы откуда? - полюбопытствовала она. - Из Киева. - Вот уже из Киева приезжают, а где мои - ума не приложу. Нет, я не в ТАССе, я из "Советского спорта", Николай Семенович уже приехал, а другие не то в Нью-Йорке застряли, не то в Монреале... Здесь такая неразбериха, вы даже представить себе не можете! Ни спросить не у кого, ни обратиться, если что-то нужно. Единственный надежный человек, и тот - полицейский, этот как часы в шесть приходит закрывать комнату... Это, конечно, только сейчас в шесть, пока олимпиада не началась, а потом мы будем круглые сутки работать, ведь это телетайпы ТАСС, мы у них арендуем. Да еще, говорят, и АПН собирается передавать. Когда мы только управимся? Видно, женщине так надоело сидеть все одной да одной в этой пустой комнате, где даже простого дивана, чтоб прилечь, не было, что она никак не хотела отпускать меня. Я успел за те несколько минут, пока находился в комнате, узнать, что Роднину и Зайцева встретили здесь по высшему классу сплошное внимание, но только все у них спрашивают, как они будут чувствовать себя на льду, когда выйдут Бабилония и Гарднер. "Нет, вы только подумайте, - нет спросить бы, как нужно чувствовать себя американцам в их присутствии! Ой, мне кажется, что судьи будут ставить нам подножки! Как-то нехорошо пишут в местных газетах про своих - нахваливают, превозносят до небес, а что они сделали-то в фигурном катании? Стали в прошлом году в Вене чемпионами мира? Так ведь в отсутствие Родниной, это же понимать надо! А что они о нашей олимпиаде: что ни газета, что ни передача - сплошная грязь, ругань, как они так могут! Мы так стараемся, так ждем эту олимпиаду, вся Москва словно наново на свет рождается... Неужто им удастся отобрать у нас Игры? Как вы думаете?" - Руки коротки. - Я поспешил распрощаться. - Вот и я так думаю, - донеслось мне вслед. Барак действительно оказался самым настоящим бараком из дерева и фанеры, носившим во всем своем облике обреченность на слом, стоит лишь закончиться олимпиаде. В проходной комнате, перегороженной надвое деревянной стойкой, было накурено, но малолюдно. Два средних лет "ковбоя", а иначе их никак не назовешь - в широкополых шляпах, в джинсах, вставленных в короткие сапожки на высоченнейших каблуках, менее всего напоминали служащих пресс-центра, да еще ведающих аккредитацией. Но я ошибся. - Да, сэр, аккредитации выдают здесь. Эй, Джо, поищи-ка карточку Олег Романько, - сказал один из них, пониже и покрепче, рассматривая мою физиономию на фотографии временного удостоверения, полученного еще в Москве. - Есть! Прошу, сэр, сюда, - сказал Джо, доставая из железного ящика вторую половину удостоверения - копию той, что держал в руках его напарник. "Ковбой" указал на стул в глубине комнаты, а сам направился к "поляроиду", укрепленному на штативе. - Да я же выслал дюжину цветных фото! - сказал я. - О'кей! - легкомысленно отмахнулся американец. - Падайте в кресло, сэр! Я даже не снял дубленку, не успел напустить на лицо достойное момента выражение, как вспыхнул блиц, потом еще и еще раз, и веселый "ковбой" взмахнул рукой. - О'кей, сэр! Русская водка и черная икра! - О, русская водка! - радостно подхватил второй. Мне эти приемчики были давно знакомы, не случайно же я прихватил с собой бутылку "Столичной", но еще никогда у меня не извлекали ее столь лихо. Да, с такими не соскучишься! Я поставил на барьер бутылку, и глаза у американцев готовы были вылезти из орбит. Затмение длилось считанные секунды, в следующий момент они набросились на мое удостоверение, словно коршуны в предчувствии богатой добычи: один молниеносно ножницами раскромсал блок фотографий, на которых меня было так же трудно узнать, как различить в темную ночь, какая из двух кошек, чьи глаза блистали во тьме, серее, другой схватил пластмассовый вкладыш, засунул туда часть удостоверения, намазал переданное ему фото клеем, прихлопнул для верности кулаком, отчего вся стойка жалобно содрогнулась, тут же сунул вкладыш в специальный аппаратик, точно катком прокатившийся по моей фотофизиономии, не успел он вытащить навечно запрессованную фотографию, как второй уже подавал ему металлическую цепочку, что в мгновение ока была продернута сквозь отверстия, закреплена, и удостоверение было вручено мне. Оставалось лишь надеть "ладанку" на шею, чтобы сразу почувствовать себя полноправным участником олимпиады. - Гуд бай, сэр! Да здравствует русская водка! - такими были последние услышанные мною слова, когда я покидал общество двух развеселых "ковбоев", направлявшихся в служебный закуток, что был как раз напротив барьера...4
Утром, когда я вновь появился в пресс-центре, мало что изменилось разве стало больше людей, снующих по этажам, да автомобилей, доставлявших различный груз - от пишущих машинок "Оливетти" до стойки бара, с трудом внесенной в узкие, отнюдь не рассчитанные на подобные габариты, школьные двери. Сколько я ни пытался узнать, когда и откуда отправится автобус в олимпийскую деревню, никто толком так и не смог мне ответить. Комната ТАСС оказалась на замке, словоохотливая телетайпистка, по-видимому, еще досматривала последние сны. Было от чего прийти в отчаяние! - Конечно, газета не торопила меня, был уговор, что на свое усмотрение я передам два репортажа до начала Игр: один - о самом Лейк-Плэсиде и о подготовке к состязаниям, разные там байки, коими обычно богата вокруголимпийская жизнь, второй - о сессии МОК, где, по настоянию американской делегации, будет поставлен на голосование вопрос почти гамлетовского звучания - быть или не быть Московской олимпиаде. Правда, в частных беседах члены МОК в один голос твердили, что не может быть и речи о переносе Игр или об изменении сроков их проведения. Но мы уже были научены горьким опытом, когда однажды, наслушавшись дифирамбов в адрес нашей столицы, не сомневались, что выбор падет на нее; но голосование 1970 года отдало предпочтение Монреалю, который, казалось, не шел ни в какое сравнение с Москвой. Поэтому нужно было ожидать окончания сессии МОК, чтобы уж со всей определенностью сказать: Игры состоятся. Но сессия лишь предстояла. Члены МОК, съезжавшиеся в Лейк-Плэсид, были растревожены тем, что какой-то местный герострат пытался поджечь трехэтажный скромный отель с громким названием "Хилтон", что само по себе вызвало улыбку, ибо во всех крупнейших столицах мира отели фирмы "Хилтон" были всегда многоэтажными небоскребами, возведенными по последнему слову архитектурной, инженерной, ну и, естественно, гостиничной мысли. Помимо этой, скажем прямо, не ахти какой "байки", у меня в запасе был эпизод с проворовавшимся поставщиком продуктов для олимпийской деревни, попавшим под полицейское следствие, в результате чего он был отстранен от исполнения своих обязанностей, и, как писала местная пресса, это уже начало сказываться на питании спортсменов. Остальные новости отдавали душком: это были факты, густо рассыпанные по страницам газет, вновь и вновь рисовавшие беды, ожидающие тех, кто приехал в олимпийскую столицу состязаться, и в еще большей степени тех, кто собирался наслаждаться этими состязаниями. Писали о двух десятках коек, коими обладал Лейк-Плэсид в крошечной местной больнице, жаловались на из рук вон плохо работавший транспорт, на отсутствие снега (правда, на сей случай организаторы подстраховали себя и установили вдоль лыжных трасс машины искусственного снега, что, говорили, влетело им в кругленькую сумму - 100 тысяч долларов), сетовали на то, что, по самым скромным подсчетам, приблизительно две трети журналистов так и не смогут найти себе места в рабочих комнатах пресс-центра. Пессимизм, словом, сквозил в каждой строке, и, кажется, единственным, что дышало в те дни непоколебимым оптимизмом, была неоновая надпись, укрепленная у входа в "Овал": "Добро пожаловать, мир! Мы готовы!" Честно говоря, мне вовсе не хотелось писать о трудностях или злословить по их поводу; право же, меньше всего в создавшемся положении можно было упрекнуть организаторов Игр: они буквально, как рыба подо льдом, задыхались в тисках финансовых неурядиц. Пытались даже умолить правительство выделить им недостающие суммы, но Картер, который громогласно пообещал 500 миллионов долларов любой стране, любому городу, который согласился бы принять у себя летние Игры, ответил отказом. Кровь из носу, мне нужно было попасть в олимпийскую деревню. Хотелось начать репортаж из этого тюремного общежития, собравшего под своими крышами спортсменов многих стран мира. Была еще одна потаенная мысль, но о ней я предпочитал не признаваться даже самому себе. - Вы, сдается, собрались в деревню? - услышал я незнакомый голос за спиной. Я обернулся. Розовощекий невысокий лысый толстяк, сплошь увешанный фотоаппаратурой, в красной фирменной нейлоновой куртке с черными буквами "Никон", насмешливо уставился на меня. - Или ошибся? - переспросил он. - Собрался, - неопределенно ответил я. - Тогда вперед, у меня внизу машина. Мы спустились по лестнице вниз, переждали, пока внесут очередной телетайп, очутились у зеленого, похожего на жука, автомобильчика. Мой провожатый открыл дверцу справа, помог вписаться в очень ограниченные габариты кабины, захлопнул дверцу и, весело насвистывая, обошел машину спереди, протер рукавом куртки и без того чистое стекло. Потом небрежно забросил на заднее сидение аппараты, не слишком заботясь об их сохранности, и тяжело плюхнулся рядом со мной. - Хелло, меня зовут Джон Макнамара! Я невольно усмехнулся. - Я чем-то вас удивил? - Нет, просто фамилия у вас известная. - Известная? - Толстячок оживился. - Был у вас в Штатах министр обороны, Роберт Макнамара. Очень воинственный... - Вот уж и не подозревал! Впрочем, оно и не удивительно, если я что и читаю в газетах, так только не политическую трескотню. Спорт, на худой конец - какая-нибудь содрогательная история про современного вурдалака или еще что в таком роде... А политика - нет, увольте. Да, откуда вы приехали? - Из Советского Союза. У толстячка, казалось, глаза выскочатиз орбит. Но он быстро взял себя в руки и просто-таки обворожительно, как умеют улыбаться лишь полнолицые люди, улыбнулся, отчего его маленькие глазки почти закрылись. - Кажется, русским здесь труднее всего... - Почему же... Пока терпимо. - И на том спасибо! Здесь кто ни придет, первым делом покроет посильнее организаторов. Да разве мы виноваты? - Мой собеседник с каждыми словом распалялся. - Я в оргкомитете, считай, два года, знали б вы, как мы из кожи лезли, чтобы не повторить печальную историю Денвера. Можно подумать, что Лейк-Плэсид - не в Америке, а где-нибудь на Марсе, сам по себе, а Соединенные Штаты сами по себе. - Денежки по центу собирали, экономили на чем только могли. Как мы это все вытянули, до сих пор не представляю! Он лихо отъехал от пресс-центра, чем вызвал недовольство высокого, как каланча, полицейского, который едва успел выпрыгнуть из-под несущегося на него автомобиля. Но Макнамара и глазом не моргнул. Мы свернули налево, обогнули "Овал", выбрались на параллельную со стадионом улочку и устремились вниз по крутому спуску. Американец гнал машину, словно торопился на пожар, на поворотах тормоза визжали, а нас спасало, по-видимому, лишь то, что на улицах городка не было ни грамма снега. - Вы думаете, мне нужен был этот оргкомитет? Денег - гроши, работы по самое горло, со всех сторон тебя ругают и клянут, а ты должен строить из себя шута и улыбаться. Да еще твердить, как попугай: "Все начнется, все будет в порядке!" Хотел бы я сейчас заснуть с какой-нибудь пышной (он оторвал руки от баранки и показал желаемые размеры) мэм в обнимочку и проснуться на следующий день, когда вся эта история кончится... - Главное, чтоб Игры состоялись, ведь в конце концов важно, чтобы спортсмены могли реализовать все, на что они способны, - сказал я, решив несколько пригасить пыл толстяка. Мне просто не улыбалась перспектива свалиться с какого-нибудь небольшого обрывчика, коих немало попадалось на нашем пути - справа и слева от дороги. - Э, нет, не говорите, спортивные базы у нас - о'кей! Без дураков! Макнамара поднял вверх большой палец правой руки, и машину повело влево, навстречу мчавшемуся тяжелому туристическому автобусу "Грей хаунд". Однако толстяк знал свое дело: он не только успел увернуться под мощнейший трубный глас автобусной сирены, но и нисколько не умерил пыл. - "Овал" лед как зеркало! Напрасно, что ли, мы выписали из Европы того парня, что делает лед... Ледовый дворец - тоже не чета хеннинскому, в старом, где были Игры тридцать второго, будут тренироваться да еще играть второстепенные матчи. Уайтфейс - гора, какую еще нужно поискать! Там победят лишь парни с крепкими нервами. Снега, скажете, маловато на лыжных трассах? Поверьте моему опыту, я ведь в Адирондакских горах родился, здесь все мне знакомо с детства, - снег будет, и сколько нужно. Я говорил нашим, чтоб не пороли горячку, не выбрасывали деньги коту под хвост, дак нет стали насыпать искусственный снег. Плакали денежки... Макнамара не закрывал рта и порядком утомил меня, его местный сленг был малопонятен, к тому же он умудрялся глотать гласные, и я постоянно должен был напрягаться, чтобы понять, о чем он тарахтит. Наконец мы подкатили к олимпийской деревне. - Спасибо, Джон! До встречи! - Бай-бай, парень! Если что понадобится, ты только скажи в пресс-центре, меня тут же разыщут. Ты мне понравился, свой в доску! кричал он, уже наполовину просунувшись в автомобиль и выуживая оттуда фотоаппараты, отчего его круглый зад и короткие ножки смешно дергались взад-вперед. На проходной я отдал "ладанку", полицейский вручил мне временный пропуск и открыл турникет, ведущий в деревню. Разные мне пришлось видеть на своем веку олимпийские деревни, но еще ни одна не производила столь гнетущего впечатления. Приземистые, темносерые корпуса, почти лишенные окон, безлюдные дорожки, высокий металлический забор. Картину дополняла сама местность - темный суровый лес вдали словно присматривался к тем, кто решился ступить на его землю. Низкое свинцовое небо, что никак не могло разрешиться белым праздничным снегом, лежало на крышах зданий. Я спросил у вынырнувшего из-за угла полицейского в коротком сером полушубке и в широкой ковбойской шляпе, где расположились советские спортсмены. Он молча ткнул в направлении одного из тюремных зданий. - Добрый день, я журналист из Киева, мне нужно видеть Валерия Семененко, - быстро представился я дежурному по штабу делегации. Розовощекий парень в форменной красной куртке с золотым гербом СССР над сердцем приветливо улыбнулся и сказал, обращаясь к товарищу, что сидел в углу: - Толя, смотайся на второй этаж. Вторая камера направо. - Он многозначительно улыбнулся. - Это горнолыжник, тренер. Скажи, чтоб сошел вниз. Я говорю, что есть он, они еще никуда не уезжали, а с завтрака уже возвратились! Толя не слишком охотно поднялся, но все же отправился наверх, и спустя минуту оттуда с воплем: "Ого-го, старина! Кого я вижу!", - свалился на меня Валерка. Он был черный от загара, словно коптился на июльском пляже в Ялте, весь подтянутый, крепкий, какой-то до зависти спортивный. Последний раз мы виделись с ним в Славском год назад, где проводился динамовский сбор, и с тех пор он мало изменился. Мы обнялись, расцеловались. Я давно заметил, что за границей чувства обострены и каждый даже мало-мальски знакомый советский человек кажется тебе близким родственником. А что говорить о нас с Валеркой, если мы знаем друг друга сто лет, и именно он был моим крестным отцом в горных лыжах. Когда я распрощался с плаванием, то долго "маялся дурью", как выразился один некогда близкий мне человек: все искал, чем бы заменить спорт, который еще сидел в каждой клеточке тела и заставлял просыпаться по ночам в холодном поту, когда во сне я вновь и вновь выходил на старт и никак не мог прыгнуть с тумбочки... Пытался играть в теннис, и что-то получалось, во всяком случае мой бывший одноклассник и великий знаток тенниса Йосиф Айзенштадт всякий раз качал головой и говорил, слегка заикаясь: "Т-такой т-талант за-загубило плавание!" Потом увлекся подводной охотой, да какая у нас охота, когда даже на Черном море, помимо зеленух, разве что "собак" стрелять. Одно лето провел начальником подводной экспедиции - искали на дне погибшие во время войны корабли... Но все это временно. Нужно было нечто такое, что захватило бы меня всего и давало бы возможность тренироваться, стремиться к чему-то. Когда я впервые встал на лыжи, а случилось это в том прекрасном и славном поселке, что зовется так ласково - Ясиня, на мягкой горке Косторивке, то понял: нет, жизнь еще не кончается! Всему, что знал и что умел в горных лыжах, меня научил Валерий Семененко. - Поднимемся ко мне, там, правда, не ахти, но жить можно, - сказал он. В маленькой неуютной (да и какой уют в тюремной камере?) комнатушке с крохотным продолговатым окошком где-то под самым потолком было жарко, как в парилке. Я поспешил раздеться. - Садись, - сказал Валерка, указывая рукой на нижние нары. - Стульев, извини, организаторы не предусмотрели. Впрочем, и правильно - куда поставишь? Разве что на голову. Ну, рассказывай, как там в Киеве, ведь я, считай, полгода не был в родных пенатах. Жена пишет: если такое будет продолжаться - разведусь. Ну а что я могу поделать? В июле - на Эльбрус, потом - под Алма-Ату. Не успели возвратиться в Москву, нужно выезжать в Австрию. И пошло-поехало! Я ей, родненькой, пишу, что олимпийский сезон бывает раз в четыре года, а она мне свое - у тебя каждый месяц олимпийский. Что за люди эти женщины? Представляю, как она меня встретит, когда возвращусь... - Ладно, не бери в голову, - успокоил я своего друга. - Женщины народ отходчивый, к тому же любят подарки. Ты что-нибудь подбери ей по вкусу, да так, чтоб к лицу... - Разве что, - согласился Валерка. - Как дела? - Многого с нас не возьмешь, сам знаешь, мы только три-четыре года как всерьез занимаемся лыжами. А люди здесь по десятку-полтора катаются на кубках да чемпионах мира, на Играх и прочих "критериумах". Но ребята в порядке, особенно мне по душе Цыган - Цыганков. Нет у парня страха ну ни на йоту. Стенмарк и тот как-то подходит и спрашивает: откуда этот парень? Во до чего мы дожили! Валерка деланно серьезно развел руками. - А ты-то как? Наташку видел? - Видел. - Порядок? - Порядок. - Слушай, ты что - не завтракал? Двух слов произнести не можешь самостоятельно. - Если угостишь кофе, не откажусь. И бутерброд с икрой не помешает... - Заворот кишок у тебя не случится? Видите ли, с икоркой ему! Ты права не качай, икорка у меня для парней, чтобы кровь играла у них на старте. А кофе сейчас будет! Валерка вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью. - Где ты ее выискал? Да на ней только воду возить! Не девчонка, а ведьма! Ну скажи на милость, что я такое выдал, чтоб набрасываться на меня, словно нанес ей самое тяжкое оскорбление? - Семененко был расстроен, и я понимал его, но ничего объяснять не стал, потому что и сам ничего толком не понимал. Это произошло, кажется, на третий день пребывания Наташки в моем номере. До того злополучного вечера между нами не то что черная кошка серый котенок не пробегал: я по ее просьбе сходил за вещами, заодно привел подругу, с ней она долго и таинственно шепталась, хотя я и вышел в другую комнату. По утрам заглядывал лекарь и менял ей повязки на ноге. Утром третьего дня Наташка поднялась самостоятельно, без костылей. Была весела, в меру язвительна, и ее колкости в мой адрес не переходили границ допустимого. Мы обращались друг к другу на "вы", и я относил на почту письма с нью-йоркским адресом - маме. По вечерам чинно сидели у телевизора, который я просто-таки вымолил у директора детской горнолыжной школы Вили Школьникова. Говорили о чем угодно, но не касались наших личных дел. Правда, Наташка попросила меня не пускать на порог того высокого красавца, что я и выполнил с превеликим удовольствием, когда он ткнулся было в номер. Как раз в гостях у меня сидел Виля, я ему подмигнул, он все понял, вывел аккуратненько парня в коридор, что-то ему вежливо, потому что никаких подозрительных шумов не донеслось, сказал, и тот позабыл к нам дорогу. Впрочем, чего уж теперь таиться и темнить? Я готов был днем и ночью прислушиваться к каждому ее слову. Она заканчивала институт, профессия у нее - художник-модельер, что-то она там сделала стоящее, потому что ее уже пригласили во Всесоюзный Дом моделей. Меня же меньше всего интересовало, кем и чем она будет. Она была рядом, и я просто не мог себе представить, что наступит момент, когда мы разъедемся в разные стороны. Но и будущего у нас не было, не могло быть, я это знал твердо... В тот вечер заявился Семененко. Он был слегка навеселе, хотя к выпивке относился с предубеждением и признавал лишь шампанское, да и то разве что по торжественному поводу. В тот вечер повод был: его команда выиграла первенство Центрального совета "Динамо", и в "Верховине", на втором этаже, в небольшом и уютном зале, отделанном светлым деревом и украшенном удивительными картинами - фресками местного художника-умельца, состоялся скромный ужин в честь победителей. Меня тоже пригласили, но я отказался - без Наташки не мог сделать ни шагу, два последних дня даже на гору не поднимался с лыжами... - Привет молодоженам! - закричал Валерка, открывая дверь. В следующий миг Наташку словно подбросило в воздух, она спрыгнула с дивана, где лежала, уставившись в телевизор, схватила костыль, что стоял у стены, и с такой неистовой силой запустила им в Валерку... Его счастье, что она не попала. От удара отвалился здоровенный кусок штукатурки. - Олег, - совершенно спокойным, просто-таки ледяным голосом сказала она, - купите мне на завтра, пожалуйста, билет до Москвы. Деньги я вам сейчас дам! - Наташа, но ведь это нелепо. Если вы хотите, Валерий сейчас же извинится. - Если вы не купите билет, я уеду сама. Я вышел в коридор. У Валерки был такой побитый вид, что того и гляди расплачется. - Брось, старина, ты тут ни при чем, - успокоил я его. - Все это действительно глупо. - Но ведь я вижу - ты не можешь без нее. Посмотрел бы на себя со стороны. Тень, а не человек. Даже говоришь так, словно у тебя перехватило горло. - Ладно. Кончим этот разговор. Позвони своему знакомому, ну, Петровичу, начальнику станции, попроси на завтра один билет... Нет, впрочем, два, да, да - два до Москвы, на чоповский, забронировать. Пусть разобьется, но достанет! - Ты уезжаешь? Отпуск только начался, и ты уже укатываешь? - Валерка, добрая и бесхитростная душа, снова впал в уныние. - Я вернусь. Провожу Наташу и вернусь. Я даже лыжи не буду брать. Ты скажешь Мартыну, чтоб он не отдавал номер никому. Договорились? - Дело хозяйское... - Ну, вот и твой кофе! - сказал, входя, Семененко, держа в одной руке чашечку с дымящимся кофе, а в другой на салфетке - два бутерброда с черной икрой. - У меня нет слов, - простонал я. - Да тут, у соседей, они как раз завтракали, позаимствовал. Им это ни к чему - и без того лишних килограммов предостаточно, а ты ведь с дороги... Когда кофе был выпит, а бутерброды съедены, я приступил к главному. - Валера, достань мне лыжи, а? Просто страсть как хочется скатить разок-другой с Уайтфейс. Быть на олимпиаде и не прокатить по трассе согласись, непростительно. Я думал, что он будет сопротивляться, и приготовился к длительной осаде. Но все образовалось само собой. - Возьми мои. Размер-то у нас один. Тебе какие дать - хот-доги или нормальной длины? - Дай нормальные. Я из-за твоих хот-догов уже лечил месяц коленку, так то было дома, а здесь мне нельзя рисковать. - Тогда пошли. Потом Валерий проводил меня к проходной. Мы не успели еще и промерзнуть, как подошел автобус и из него вывалилась компания журналистов. - До встречи, Валер! Я обязательно буду на горе, когда твои пойдут! - Смотри! - Еще бы! - Эй, Олег! Наташке ты все-таки от меня привет передай, добро? - Передам! Автобус стрельнул раз-другой и нехотя сдвинулся с места. Снег повалил, видимо, после полуночи, так как почти до двух я смотрел фильм о марсианах, что-то писал между делом в блокнот. Словом, проводил время в сладкой праздности, которая через день-другой закончится, и начнутся сумасшедшие будни, когда не то что в телевизор, в зеркало заглянуть - побрит ты или нет - будет некогда. Во всяком случае когда перед сном я вышел на веранду, небо было чистое, мохнатые сверкающие звезды висели над уснувшим Лейк-Плэсидом, черные сосны тихо нашептывали друг другу, и ни единый посторонний звук не тревожил чуткую горную тишину. Морозец пощипывал кожу, но уходить не хотелось, и я подумал о Наташке и еще о том, как было бы хорошо, если б она приехала ко мне. Но тут же отбросил эту мысль. Ибо когда начнется бешеная гонка, в сравнении с которой состязания на пятьдесят километров, называемые лыжным марафоном, могут показаться развлечением, так как он кончается в тот же день, а наш журналистский марафон растянут на все тринадцать, каждый день придется выкладываться полностью. Одни только расстояния между местами состязаний, скажем, от бобслейной трассы до Уайтфейс или от Уайтфейс до "Овала", вытягивались в десятки километров, а автобусы, судя по первым признакам, будут ходить далеко не так, чтобы можно точно рассчитать время, и ты будешь опаздывать к телефону, а потом ждать, ждать и ждать нового вызова... Впрочем, сейчас думать об этом не хотелось. Утром я проснулся словно от внезапного толчка, будто кто-то грубо разбудил меня. Открыв глаза, я понял, что в природе произошли чудесные, давно и нетерпеливо ожидаемые перемены: в окно лились потоки солнца, они расчертили комнату длинными тонкими лучами, высветили темные уголки и вливались в сердце бурлящей радостью. Я забыл попросить у Валерия защитные очки, но напротив мотеля был фирменный спортивный магазин "Адидас". Нужно зайти купить очки последней, олимпийской марки. Наскоро перекусив банкой паштета и двумя ломтиками упоительно пахнущего черного бородинского хлеба, оделся по форме, взвалил на плечо лыжи с пристегнутыми ботинками и вышел на воздух. До пресс-центра минут пятнадцать ходьбы по Мейн-стрит. Солнце и выпавший ночью снег преобразили облик скучного и убогого поселка. Принарядились и похорошели одноэтажные (редко двухзтажные) домишки, выпукло приблизились сосны на противоположном берегу озера, где таинственно поблескивали окна вилл и дач; стало оживленнее на главной улице - появились толпы праздношатающихся людей в длинных шубах и легких джинсовых костюмах, в полушубках и нейлоновых куртках, на ногах у большинства были разноцветные неуклюжие, на первый взгляд, пластиковые "лунники" - зимние сапоги, скопированные с тех, в которых американские астронавты бродили по Луне. Оживились торговцы сувенирами: еще не бойко, но уже уверенно торговали они олимпийскими брелоками, наклейками, зажигалками, шапочками и майками, очками, марками, тарелками и кружками словом, всей той дребеденью, что в принципе не имеет ценности, но чье существование освящено пятью переплетенными кольцами и олимпийскими символами вроде симпатичного, чем-то напоминающего известного с детства Кота в сапогах, Бобра, ставшего шуточным символом зимней олимпиады. И уж совсем неожиданно - я даже глазам своим не поверил! - появилась длинная череда красочных, ярких плакатов Московской олимпиады, которые уличный торговец развесил прямо на стене ресторана. Я не утерпел и подошел и какое-то время с тайным наслаждением наблюдал, как покупали плакаты, как бережно торговец скручивал их в трубочку и заклеивал скотчем и как подходили все новые и новые люди... - Доброго ранку, друже Романько! Я так резко обернулся на незнакомый голос, что едва не сбил с ног пожилую туристку в оранжевом стеганом нейлоновом пальто, здорово напоминавшем ночные халаты, не так давно распространенные у нас, да и не только у нас. Я увидел невысокого чернобородого парня в темных очках. Он приветливо улыбался. - С каких это пор я стал вашим другом? - Я до вас з витанням, а вы так нечемно поводытеся, дружке Олег! - А, старый знакомый... Жив курилка! - А що зи мною трапыться? Живемо, ось, бачите, знов на олимииади из вами зустричаемося, пане Романько, якщо хочете... - И чем теперь будете здесь заниматься? Монреаль, кажется, не слишком удачным был для вашей братии, если вы докатились до того, что били стекла в представительстве "Аэрофлота". От бессильной злобы, не так ли? - Я рассмеялся в лицо человеку, потому что на Играх в Монреале Ричард Лозинский, или как там его в действительности звали, подкатывался ко мне несколько раз, и однажды в пресс-центре (диву даюсь, как такие типы прорываются в целом здоровое общество аккредитованных на Играх журналистов) у нас вышел с ним диспут не диспут, а школа политграмоты для человека, выдававшего себя за украинца и практически ничего не знавшего о земле предков. - Зачем же так грубо, господин Романько? - он перешел на английский, видя, что я упорно отказываюсь разговаривать с ним на моем родном языке. Я и тогда и теперь говорю, что битье стекол - отнюдь не метод политической борьбы. Но мы не контролируем свободное волеизъявление наших людей. - Ловко это у вас получается: подчеркнув, что это "наши люди", вы в это время говорите, что не контролируете их. Где же логика, господин Лозинский? - Вы знаете, господин Романько, не все так просто поддается объяснению, как хотелось бы. Впрочем, если вы не возражаете, мы можем продолжить нашу монреальскую беседу... - А с чем вы приехали сюда, в Лейк-Плэсид, только начистоту? поставил я вопрос напрямик, хотя заранее знал, что дождаться от него правды - все равно, что увидеть, как гаснет солнце. - Мы хотим привлечь общественное мнение к Московской олимпиаде, глядя прямо в глаза, сказал Лозинский. - Мы сделаем все, чтобы она не состоялась. - Руки у вас коротки... Я повернулся и зашагал по Мейн-стрит к пресс-центру, стараясь побыстрее избавиться от воспоминаний об этой встрече и снова вернуть приподнятое расположение духа, родившееся утром вместе с первыми лучами солнца. Но тревога, посеянная последними словами Лозинского, не исчезла. Знать бы тогда, что это не пустой разговор, а случайно прорвавшееся чувство злорадства. Лозинский, вероятно, уже знал о событиях, которые только должны были произойти и о которых я даже не мог и догадываться... У пресс-центра встретили "пинкертоны" - двое ребят лет по 16-ти и серьезная толстушка в специальной полувоенной форме с нашивками на левом рукаве несли службу по наблюдению за порядком. Они внимательно сверили идентичность моей физиономии с фотографией на "ладанке", чему-то улыбнулись, но вежливо разрешили войти в здание. Я поставил в углу лыжи и попросил ребят присмотреть за ними (они согласно закивали головами), поднялся на второй этаж, в местное отделение банка, чтобы обменять чек, полученный в Москве, на доллары. Процедура неожиданно затянулась: девушка, принявшая чек, рассматривала его и так и эдак, потом изучала меня, затем поднялась и ушла в дальний конец комнаты к мужчине, сидевшему в одной рубашке за столом спиной ко мне, что-то объясняла ему, потом оба помолчали, и, наконец, мужчина, оказавшийся совсем молодым человеком, поднялся, подошел к стойке и вежливо попросил показать журналистское удостоверение. Как я догадался, они в жизни никогда не видели внешторгбанковских чеков и даже не догадывались об их существовании. Однако после ознакомления с моей "ладанкой" деньги были незамедлительно выданы, девушка мило попрощалась и пригласила воспользоваться услугами банка и в будущем. Я поблагодарил ее. У выхода столкнулся с Сержем Казанкини. Мы не виделись четыре года и напоминали друг другу о существовании лишь короткими новогодними открытками. Серж мало изменился. - Хелло, Олег! Хелло, дружище! Мы снова на олимпиаде, значит, мы живем и здравствуем! Ты когда приехал? Устроился в гостинице? Это не олимпиада, а несчастье какое-то! Я поселился в пятнадцати километрах от Лейк-Плэсида, и это когда в городе полным-полно свободных номеров! набросился на меня Серж Казанкини. Не дожидаясь ответа, а скорее стремясь опередить его, он поспешно заключил: - Э, да что же это мы тут стоим как неприкаянные... По такому случаю не грех и по рюмке. Скажу тебе по секрету: я тут поблизости кое-что разнюхал, вполне приличное заведение, и главное - бесплатно... - Прости, Серж, никак не могу. Я собрался на Уайтфейс. Лыжи внизу, ты же понимаешь, что это такое для меня... Давай вечерком, скажем, часиков в восемь встретимся здесь же и отправимся в то благословенное местечко. - Собрался, собрался, - без особой радости передразнил Серж Казанкини. - За тобой вечно волки гонятся, до олимпиады целых четыре дня, а ты уже весь в долгах, как в шелках... - Ну, не сердись, Серж, - как можно мягче, с просительно-извинительными нотками в голосе сказал я. - До встречи! Вечером мы наговоримся всласть! - Только гляди, чтобы без обмана! - Слово! Я сбежал вниз, подхватил лыжи и вылетел на солнце. Снег, пышным ковром укрывший округу, бередил душу, стоило только представить, каково там, в горах. Красный допотопный автобус с написанной от руки табличкой "Уайтфейс" пыхтел напротив выхода из пресс-центра, и водитель уже взялся за ручку передачи. Он кивнул утвердительно на мой вопрос, в горы ли направляется автобус, и закрыл двери. Помимо меня, здесь оказалось еще трое - фотокорреспондент-американец и двое рыжебородых земляков Стенмарка. Американец дремал, шведы курили и громко обсуждали свои проблемы. Что мне было до них! Я устроился в конце салона, вытянул, насколько позволяло место, ноги и блаженно развалился на жестком сидении. Автобус долго колесил по улочкам Лейк-Плэсида. Промелькнули ажурные, собранные из металлических труб, трибуны стадиона, где состоится парад открытия. Еще долго, если обернуться, можно было видеть отчетливо выделявшийся на фоне ослепительно синего неба черный раструб чаши, где спустя четыре дня вспыхнет олимпийский огонь. Он уж был в Штатах, доставленный самолетом из Греции, с Олимпа, зажженный от лучей солнца Марией Масколиу, величавой красавицей, словно сошедшей с древних фресок, раскопанных в земле Олимпии. Я запомнил ее еще по Монреалю, когда она приехала в пресс-центр, чтобы рассказать, как много в ее жизни значат эти олимпийские мгновения... Слева и справа от дороги тянулись присыпанные свежим снежком сосны, иногда дорога прижималась к горной речушке, почти пересохшее русло которой было усеяно огромными мшистыми валунами, превращенными снегопадом в сказочные замки, где обитали гномы и Белоснежка... Белоснежка... - Ты моя Белоснежка, - сказал я и отвернулся, потому что грусть, возникшая в глубине сердца, подкатила под самое горло, мешая дышать. Уже не радовала солнечная морозная погода, установившаяся после трех дней кряду лившего и лившего дождя, ни снег, слепивший глаза, ни причудливо вылепленные ветром из стройных елочек, что чудом удерживались на самой макушке Менчула, загадочные фигуры, поражающие неистовым размахом фантазии природы. А вокруг была такая неописуемая красота, такой бесконечный простор, что сердце замирало, не в состоянии вместить ее в себя, и волновалось, рвалось, как птица, у которой обрезали крылья. Карпаты лежали у наших ног, сверкая в лучах солнца дальними полонинами, словно бы залитыми прозрачным белым льдом, опушенные сине-зелеными, переходящими в черное дальними лесами; где-то внизу из невидимой хижины поднимался ровный, как карандаш, столб дыма, подчеркивая мудрость и совершенство природы, не принимавшей, не желающей принять в свой чистый и светлый мир этот след угасшей жизни; дым медленно, словно нехотя, прорастал в безбрежность синего неба и таял в высоте. Красные опоры подъемника и красные же покачивающиеся люльки как бы навечно зависли в воздухе, не в состоянии преодолеть его недвижность. Белый шлейф тянулся, как утренний туман, за ногами лыжника, ринувшегося по снежной целине. Солнце обпекало наши лица, но еще больше обжигала нас изнутри неумолимая боль расставания. ...В тот вечер, после стычки с Валеркой Семененко, Наташка не уехала. Не уехала она и на следующий, потом полил дождь и вообще не хотелось высовывать носа из теплой комнаты; но что-то нарушилось в наших хрупких отношениях и не поправилось, хотя внешне мы сохраняли ту же дружескую манеру разговаривать, но уже не позволяли незло, как прежде, подшучивать друг над другом, и оттого пропала непринужденность и что-то постоянно сдерживало нас, словно тормоз на крутом спуске. Все это вносило в душу тревогу, разлад. Этим вечером Наташка уезжала и захотела попрощаться с горами. Нога у нее еще болела, я позвал врача, и он сделал обезболивающих укол новокаина. Наташка радостно запрыгала, и мне пришлось ей напомнить, что это не так уж и безопасно. Вездеход довез нас вместе с веселой компанией лыжников к подъемнику, и вскоре мы раскачивались над лесом. Мы не стали кататься по восточному склону, а ушли на север, где почти не видно людей и оглушала тишина, лишь поскрипывание колес подъемника изредка нарушало покой. Мы чувствовали: нам нужно что-то сказать друг другу, но слов не находили. Мы о чем-то болтали, смеялись. А на душе залегли холод и пустота, как бывает, когда ты знаешь, что теряешь дорогое, непоправимо теряешь, но ничего поделать с этим не можешь. Пропасть лежала между нами, и мы это прекрасно понимали. - Ты оставь мне номер телефона, - сказал я неуверенно, пытаясь навести мост через бурную реку. - Нет, это ни к чему. - Она ответила спокойно, но как отрезала. - Ты мне дашь свои координаты... Служебные, конечно. Если у меня появится желание, я позвоню. И обещай, что не сделаешь и малейшего шага, чтобы разыскать меня. - Обещаю. - Вот и отлично! - В голосе ее прорвалась, как мне почудилось, радость, словно она избавилась от чего-то, что угнетало ее. - А теперь вниз! - Не гони. Помни, что отсутствие боли в ноге еще не признак здоровья. Ты умеешь по целине ходить? - Не умею. Я боюсь свежего снега. Но сегодня - нет! - Откинься назад и чуть сильнее обычного проворачивай лыжи на поворотах. Если понесет, сделай длинный подрез склона и кати, пока не остановишься. - А ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Я посмотрел в ее глаза. В них блеснули слезы. - Ненавижу тот миг, когда встретилась с тобой. Лучше б мне замерзнуть тогда в буран... - Натали... Она резко, как спортсмен на старте, оттолкнулась палками и рванулась вниз почти по прямой, и снег запуржил, заметался вслед за ней и никак не мог догнать... Я не стал провожать Наташку глазами и подумал, что лучше бы ей исчезнуть навсегда - как во сне, раствориться в воздухе, утонуть в снегу... Медленно заскользил вниз, куда глаза глядят, но с каждой новой секундой все больше отдавался тому прекрасному ощущению полета, которое дарит только горные лыжи, и ничто больше... В тот день уезжала и ее компания. Высокий красавец никак не решался подойти к Наташке, и она сама позвала его. Он принесся, как собачка, виляя хвостом, заглядывал ей в глаза и покорно кивал головой. Я не слышал, о чем они беседовали, но мне достаточно было видеть на ее лице оживление, чтобы почувствовать в сердце такую боль, словно в него медленно, миллиметр за миллиметром, вгоняли раскаленный нож... В Славском поезд останавливается на минуту, но эти секунды показались мне вечностью, в мыслях я подгонял, поторапливал поезд, а он стоял и стоял, а Наташка не уходила из тамбура и смотрела на меня. Я, как мог, охлаждал свое горящее лицо, а оно просто-таки пылало, и мне было стыдно, что она видит это. Наконец поезд дернулся, вагон медленно поплыл мимо перрона. И Наташка поплыла и молчала. И даже не взмахнула рукой. Я повернулся и пошел, сдерживая себя, чтобы не побежать за поездом, не заорать в бессильной тоске во всю мощь, разрывая легкие и горло: "Натали!!!" Она была уже так далеко, что ее голос едва слышно донесся до меня: "Олег! Олег! Я найду тебя...". - Финиш, - сказал водитель, резко затормозив. Автобус замер на просторной, по-видимому, недавно расчищенной в лесу площадке. Пусто, лишь в дальнем углу примостилась стеклянная будочка, возле нее, прислонившись к деревянному стояку, застыл парень с рацией в руках. Водитель махнул ему рукой, тот, не переставая быстро говорить в микрофон, помахал в ответ. Шведы, все так же громко и оживленно споря, выпрыгнули из автобуса вслед за американцем. Я переждал всех, чтобы не загромождать выход лыжами. Где находились трассы, догадался без труда: сквозь верхушки деревьев просматривалась гора - черная там, где был сплошной лес, и прорезанная белыми, длинными, извилистыми и крутыми стоками трасс. Я не спешил к подъемнику, мне хотелось просмотреть весь спуск - сверху донизу - и представить, как буду идти. Новая гора заставила разволноваться, потому что она таила в себе опасности и неожиданности, которые невозможно предусмотреть. Пожалуй, признался я себе, мне еще не доводилось спускаться по таким крутым склонам, да еще такой длины. Взвалив тяжелые лыжи на плечо, я двинулся догонять ушедших вперед американца и шведов. Ноги скользили в начавшем подтаивать снегу, к тому же спускаться пришлось по крутой тропинке, проложенной прямо по размокшей глине; не удержаться бы мне на ногах, не окажись слева предусмотрительно натянутой веревки. С грехом пополам я оказался внизу и с разочарованием посмотрел на комбинезон, перепачканный глиной. Американец вообще проехал часть спуска на пятой точке и теперь, чертыхаясь, пытался с помощью носового платка и снега отмыть грязь с брюк. В самом низу, в полусотне метров от кресельной подъемной дороги, прижался к круто уходящему вверх склону приземистый двухэтажный дом. У входа слева и справа были устроены стойки для лыж, и я с облегчением поставил свои "кнайслы" рядом с десятком других пар. Надпись на двери "Пресса" указывала на наличие пресс-центра, и я спустился по лестнице в полуподвал без окон. Там было тесно от столов, уставленных пишущими машинками, вращающихся кресел, в дальнем углу поблескивал большой выносной телезкран; на стеллажах, где спустя несколько дней будут лежать протоколы, пока пусто; за стойкой, однако, сидели две девушки и что-то писали. Народу набралось немного, но некоторые журналисты усиленно стучали на машинках... Знакомых не было, и это обрадовало - меня неудержимо влекло на гору, откуда этот домик вообще не будет виден. Я без сожаления покинул душное помещение и выбрался на воздух. Солнце скрылось за быстро бегущими по небу сизыми облаками, даже здесь, внизу, чувствовалось ледяное дыхание ветра. Отметил про себя, что вовремя купил очки - без них нечего было и мечтать спуститься вниз, через десять метров в глаза словно песку насыпят. У подъемника, безостановочной лентой уходившего вверх, служитель помог мне устроиться в кресле и запахнул на коленях одеяло, предусмотрительно положенное на сидение. Пожалуй, без него я бы околел, почти полчаса поднимаясь на самый верх Уайтфейс, особенно на втором этапе, когда ветер буквально набросился на меня и стал с бешеной силой раскачивать кресло из стороны в сторону. Честно говоря, я даже не предполагал, что ветер просто-таки штормовой, и это подпортило настроение, ибо когда ты едешь на гору, чтобы получить ни с чем не сравнимое удовольствие спуска, перспектива борьбы со стихией никак не способствует праздничности. Лишь запоздало обнаружил, что спортсмены тренируются на нижнем участке, который начинался от круглого стеклянного павильона, где скрывались время от времени тренеры да и сами спортсмены, и где, конечно же, был буфет и подавали горячий кофе с прекрасными горячими сосисками, вложенными в разрезанную надвое булочку и политыми сверху кисло-сладкой горчицей. Наверху ветер выл, как голодный зверь. - Сэр, - сказал канатчик, когда я спрыгнул на твердый, словно лед, снег, - я сейчас отключу дорогу. Очень опасно. Если вы передумаете катить вниз, а я вам посоветовал бы отказаться от этой затеи, я еще подожду, пока вы спуститесь до нижней станции. Так что скажете? - Отключайте! - закричал я, пересиливая ветер. - Я покачу вниз! - Дело хозяйское, сэр! Но советовал бы спуститься на канатке! Я положил лыжи на снег. Ботинки застыли, нога никак не влазила в их стальную твердость, и я порядком намучился. Ногу сразу же сковало: совсем нетрудно было представить, что такое средневековая пытка под названием "сапог". Разум подсказывал, что куда благоразумнее спуститься, тихо-мирно, в кресле подъемника, к круглому стеклянному зданию, войти в его теплую сухость, разыскать Валерия и поболтать за чашкой кофе - право же, никто не осудит меня за осмотрительность. Только новички или асфальтовые шарнуны, впервые дорвавшиеся до гор, могут позволить себе не задумываться о последствиях. Им это простительно в силу наивности и самоуверенности. Опытному же человеку, немало повидавшему на своем веку поломанных лыж и ног и обмороженных за один спуск лиц, такая осмотрительность не только нужна, но даже обязательна... Честно говоря, обо всем этом я думал скорее для очистки совести. Ибо ни разу, какие бы причины не были, я не отказывался от спуска. Второй ботинок надел легче, потому что минут пять дышал в него и он чуть отмяк. Сапоги, что сиротливо мерзли на снегу, сунул в прихваченный предусмотрительно рюкзак - верный спутник моих скитаний по горам. Желтый фильтр очков был весьма кстати, потому что резко потемнело, повалил снег. Да, погодка, скажем прямо, не из лучших для того, чтобы испытывать новый, не известный тебе склон, подумал я. Канатчик помахал рукой - мол, желаю удачи, и все же не удержался осуждающе покачал головой. - Вперед! - вскричал я и устремился в снежную круговерть, что немедленно втянула меня в свою белую утробу, скрыв с глаз и канатку, и лес по обочинам склона. Мне довелось вовсю работать руками, ногами, головой, чтобы не вылететь с трассы, которая, набирая уклон, неудержимо несла вниз. Когда я почувствовал, что плохо справляюсь со скоростью, сделал два резких поворота влево-вправо, безжалостно врезаясь острыми, как бритва, стальными кантами в снег, и остановился. Сердце готово было выскочить из груди, и мне пришлось немного постоять, чтобы отдышаться. Внизу по-прежнему ни зги, а проскочил я, по моим расчетам, никак не больше трети дистанции, и главные испытания все еще впереди. Запоздалое раскаяние заморочило было голову, и я поспешил тронуться с места, но теперь уже контролировал скорость. Склон оказался хорошо укатан, без единой ямки и бугорка, а свежий снежок покрыл его тонким нежным слоем. Кажется, это и приглушило мою бдительность. Трасса к тому же шла в глубокой ложбине, ветер остался где-то вверху, и видно было далеко-далеко. Сам того не замечая, я мчался все быстрее, едва срезая на поворотах снег, почти не тормозя. Когда же меня вынесло в тот кулуар, я каким-то шестым чувством понял, что мне грозит опасность. Но было уже поздно. Я не смог сбить скорость, меня подбросило - только в ушах засвистело, последовал резкий удар о твердый наст, стремительное неуправляемое движение вперед, и вдруг передо мной выросла почти отвесная стена. За ней был обрыв - я не увидел, а почувствовал его и сделал отчаянный прыжок в сторону, чтобы изменить направление движения, но тут меня снова катапультировало вверх, и при приземлении удержаться на ногах я не смог... Меня ударило головой о твердый наст, только звон пошел, и из глаз посыпались искры, потом еще раз поставило на ноги и еще раз на голову, лыжи, отстрелянные в сторону маркерами, исчезли, а я покатился по крутому снегу, теряя рюкзак, очки, перчатки... Какое-то время я пролежал без движения, еще не веря, что падение закончилось. Это обрадовало, но не надолго. Все тело пронзала боль, словно его разломали на куски. Боялся пошевелиться, потому что знал: без переломов такие падения редко обходятся. Шапочка тоже пропала, и по голове, по лицу струились ручейки воды от растаявшего снега. Открыл глаза. Ресницы были густо опушены снегом, но я рассмотрел над головой верхушку сосны, раскачиваемую ветром. Пошевелил правой рукой и убедился, что она действует без боли. Тогда, все еще лежа, протер глаза и осмотрелся. Это была круглая полянка с нетронутым снегом, деревья виднелись чуть ниже и правее, и я подумал, что, к счастью, остановился раньше, чем докатился до них. Иначе дело могло кончиться вообще худо. Впрочем, радоваться было рано - правая нога нестерпимо болела. Набрав в легкие побольше воздуха, как человек, бросающийся в ледяной омут, рывком перевернулся на левый бок, и боль тут же исчезла. Догадался, что просто неудачно, подогнув под себя ногу, упал. Пошевелил сначала правой, потом левой ногой и понял, что они целы. Как ни странно, но целы. Даже если что-то и случилось с левой рукой, то это уже не смертельно. Но тут я почувствовал на губах привкус - соленый, ни с чем не сравнимый привкус крови. Поспешно провел рукой по лицу и обнаружил, что правая щека расцарапана. Я встал на ноги. Они дрожали, кружилась голова. Нужно было разыскивать снаряжение. "Не хватало только потерять Валеркины лыжи", - испугался я, забыв, что минуту назад мог потерять жизнь. Но падения забываются быстро. Теперь меня волновало только снаряжение, разбросанное по горе. Шапочку увидел прямо под ногами. Отряхнул ее и натянул на голову. В первый момент стало еще холоднее, потому что ткань была буквально пропитана снегом. Я полез вверх, на трассу, карабкаясь на четвереньках и радуясь, что никого нет, кто вдоволь бы посмеялся над незадачливым покорителем Уайтфейс. Рюкзак зацепился за дерево, и я забросил его за спину. Палки тоже нашлись, но ремни, куда продеваешь кисти, были разорваны. Левую лыжу и очки мне долго не удавалось разыскать. Впрочем, перчатки тоже. Правда, без очков и перчаток еще можно было скатить вниз, а вот без "кнайслов"... Я устал, и равнодушное смирение охватило меня. Снег, набившийся под куртку и брюки, таял. Было зябко и неуютно. Нужно спускаться на своих двоих, что куда опаснее, чем на лыжах. Там меня спасают стальные канты, а на неуклюжих ботинках, уже успевших "обрасти" с подошв снегом, - сущее наказание. Но ничего не поделаешь. Я заскользил вниз, к полянке, где упал, или, вернее, где прекратилось падение. На пригорке, за деревом, где свежий снег был выметен начисто и проглядывал старый желтый, как воск, наст, мое внимание привлекли несколько стреляных гильз, вдавленных в снег. Они тускло поблескивали еще не успевшими потемнеть золотистыми боками. "Странно, - подумал я, неужели здесь разрешена охота? Впрочем, а почему бы и нет!" Я механически ковырнул носком ботинка и увидел, что это не пустая гильза, а патрон. Острие пули было окрашено в красный цвет. Поднял находку, покрутил ее в руках и сунул в карман. Но тут меня словно толкнуло - под сосной валялась лыжа, которую я искал далеко вверху. Через минуту я осторожно катил вниз - очки так и не нашлись. Входя в стеклянное здание, я не сомневался, что увижу Семененко. Так оно и оказалось: не успел осмотреться, как Валерка уже обнимал меня за плечи. - Решил покататься? Ну, ты даешь! Псих! Я своих ребят давно вниз отправил... Постой, постой, да ты никак доездился? - Он притронулся к ссадине на щеке. - Слегка пополировал склон, - махнул я рукой - мол, ничего, пустяки. - Ты что - сверху спускался? - вдруг дошло до моего друга. - Ну, знал бы, что полезешь вверх, черта лысого дал бы тебе лыжи. Да там "труба", от которой у Стенмарка дух захватывает! - Так то у Стенмарка, он вообще спуск не любит, - попробовал отшутиться я. - Хватит, где лыжи? - Стоят у входа... - Спустишься на подъемнике, - решительно сказал Валерка. - Лыжи я забираю. - Ладно, забирай, но только в самом низу... И без угроз, понял? - Угрозы! - обиделся Валерка. - Тебе как человеку говорю, а ты... - Не обижайся, я просто еще не отошел от этого спуска. Клянусь тебе, ничего подобного раньше не испытывал. - Если бы ты только физиономией по снегу не ерзал, - не удержался съязвить Валерка. - Давай-ка возьмем сосиски и кофе. Я вытащил пятерку и сказал: - Сегодня угощаю я... Возвращаясь в автобусе в Лейк-Плзсид, нащупал в кармане куртки пулю. Хотел выбросить - зачем она мне? - но окна были закупорены наглухо, не станешь же бросать под ноги... В Лейк-Плэсиде я сошел на Мейн-стрит и к глубокому своему разочарованию обнаружил, что у двух небольших ресторанчиков скопились десятки людей, терпеливо-обреченно выстаивавших право отобедать. У меня были твердые намерения хоть раз за два дня нормально поесть, - ситуация же складывалась явно не в мою пользу. Сержа я увидел в комнате с табличкой "Франс Пресс". Он мрачно развалился в одном из двух кресел, имевшихся в комнате с телетайпами, и дымил сигаретой, чем, по-видимому, немало досаждал пожилой худой матроне в сером шерстяном платье: по брезгливо-раздраженному выражению еелица можно было понять, что присутствие моего друга не доставляет ей удовольствия. Впрочем, возможно, я ошибся, потому что, когда Серж, увидев меня в дверях, с воплем радости вскочил на ноги и поспешно затушил сигарету, мадам показала все свои тридцать два ослепительных зуба и что-то весело прощебетала вслед Сержу. Но он даже не удостоил ее прощального кивка, что никак не соответствовало глубочайшей воспитанности этого экспансивного итальянца французского происхождения. - Тут умираешь с голоду, а явишься ты или нет - одному аллаху известно! - запричитал он на ходу. - Но ты меня знаешь: если я дал слово лучше умру, а не сойду с места! Я ухмыльнулся про себя, потому что, глядя на Сержа Казанкини, никак не скажешь, что ему грозит смерть от истощения, скорее наоборот - пухлый, круглый животик мерно покачивался в такт его широким шагам. - Если ты направляешься в ресторан, то твои надежды напрасны, охладил я пыл Сержа. - А ты откуда знаешь, уже отобедал? - Казанкини остановился. - Нет, просто проходил мимо и понял, что нужно около часа проторчать на улице и, по-видимому, не меньше - внутри... - И черт меня дернул пить китайскую водку! - ругнулся Серж, все еще не сходя с места. - Ты когда-нибудь пил эту дрянь? - Если это дрянь, то кто мешал тебе отказаться от нее? - Отказаться.... Был я у китайцев, принимал руководитель делегации, знаешь, такой скользкий, приторно-сладкий восточный тип. Ну, естественно, пришел я туда вовсе не за тем, чтобы пить. Хотел взять интервью у руководителя делегации страны, впервые приславшей спортсменов на Олимпийские игры. И что же, ты думаешь, он мне сходу выложил? Мы, заявил этот тип с манерами профессионального метрдотеля, сделаем все от нас зависящее, чтобы правое дело Америки восторжествовало. Я сразу не понял, о чем он. Наверное, недоумение было слишком явно написано на моей, в общем-то, непроницаемой физиономии - китаец разулыбался и объяснил: мы за бойкот Московской олимпиады! Меня просто тряхануло от возмущения: впервые приняв участие в Играх, они тут же взялись разрушать этот и без того непрочный дом! - Что касается прочности дома, тут я с тобой не согласен... - У нас разные взгляды на олимпийское движение, хотя, должен честно заметить, пока чаще прав бываешь ты. Ну, да дело не в этом! Магнитофон фиксирует его лепет, а сам мучительно думаю, о чем же мне писать? Не китайские же демарши против Олимпиады популяризировать! Чтоб не выглядеть полным кретином, сижу и пью эту самую водку... Фу, большей дряни никогда во рту не держал! А тут ты еще своим сообщением о ресторане доконал... Не день, а сплошные разочарования... Да, но что же делать? Мы стояли в коридоре. Мимо нас проходили люди с такими же "ладанками", как у меня и Сержа, на груди. Со стаканчиком кофе проплыла стройная девушка. Она почему-то задержала взгляд на Казанкини, и старый ловелас просто-таки расцвел - грудь колесом, голову вздернул. Но красотка прошествовала мимо, не удостоив и малейшим вниманием старания Сержа. - Слушай, есть идея! Там вряд ли дадут бифштекс с кровью, но перекусить холодными закусками мы сможем. - Где это? - У тебя есть жетон? - Жетон? - Ну, лыжного, вернее, горнолыжного союза. - Серж извлек из кармана куртки пластмассовый жетон чуть больше стандартного редакционного удостоверения. - Кажется, есть, но не подозревал, что это пропуск в бар, - ответил я и зашарил по карманам. Жетон лежал в верхнем нагрудном кармашке. - Хоть с этим без проколов. Ты читал, по крайней мере, что там написано? - Серж с чувством продекламировал: - "...вы будете желанным гостем в резиденции союза ежедневно с 12:00 до 01:00 с 1-го по 29 февраля 1980 года". - Ну и что? - Потопали, там обо всем и поговорим. Это рядышком! Мы вышли из пресс-центра, обогнули "Овал", где уже зажглись прожекторы и конькобежцы стартовали в тренировочных состязаниях. Сквозь сетку, ограждавшую ледовый стадион, я разглядел Евгения Куликова, серебряного призера Инсбрука и, пожалуй, нашу единственную надежду на медаль высшего достоинства в этом виде олимпийской программы. С тех пор, как в конькобежном спорте появился фанатичный американец Эрик Хайден, остальным спортсменам отводилась роль фона. Я знал, что после Инсбрука у Жени хватало трудностей - неудачи сыпались, как из злого рога изобилия. Другой бы сломался, не выдержал, бросил, тем более что возраст у Куликова - далеко не юношеский. Другой бы, но не Куликов. Я следил за ним, когда он начал медленно, очень трудно подниматься от старта к старту. Радовался каждому его - самому скромному, самому заурядному! - успеху, сколько бы мне ни твердили, что Куликов - это вчерашний день нашего конькобежного спорта, его время, мол, ушло. Мы часто спешим списывать атлетов, а ведь они, чаще всего, в расцвете сил, полны опыта и желания, это настоящие бойцы. Я был просто счастлив, когда узнал, что Женю Куликова включили в состав олимпийской команды СССР. Мы даже не вышли на Мейн-стрит - одноэтажный домик, арендованный горнолыжным союзом, оказался прямо на площади, где днем останавливаются автобусы. У входа спросили жетоны, мы с Сержем дружно показали, и двери широко распахнулись перед нами. Слева в комнате царил таинственный полумрак, негромко журчала музыка, в табачном дыму я разглядел молодых широкоплечих ребят, по-домашнему сидевших прямо на полу, устеленном желтым, как куриная слепота, ковром. Но Серж увлек меня вправо, здесь в комнатушке было и вовсе тесно - за двумя крошечными столиками, густо уставленными пустыми и наполненными бокалами, устроилось человек пятнадцать, один к одному - кто в куртках, кто в свитерах, но все с загорелыми обветренными лицами, по чему можно было сразу определить - эти люди в горах не редкие гости. Я устремился за Сержем, он уверенно прошел комнату, и мы очутились в крошечной кухоньке, где на двух столах, вытянутых вдоль стены и у окна, красовались подносы с тонко нарезанной колбасой, ветчиной и сыром. Тут же лежали хлеб, вилки и пластмассовые тарелки. Загорелый парень в распахнутой на груди рубашке приветствовал нас и поинтересовался - будем мы пить пиво или вино. - Сосиски тоже будем, - сказал Серж тоном завсегдатая, и парень кивнул в знак согласия головой. Он быстро налил из бочонка, стоявшего на полу, бутыль белого вина, протянул ее нам и ушел. Серж выбирал закуски, а я налил бокалы. После сегодняшних приключений меня мучила жажда. - Э, так не годится! - возразил Серж. - Это не по правилам. Прежде всего - за встречу! Последний раз когда я тебя видел? Пятого августа 1976 года в монреальском аэропорту Мирабепь, где ты выкладывал последние центы в баре. Точно? - Погоди, а почему я тебя не приметил? - Потому что ты уже был в нейтральной зоне, а я - за чертой иммиграционной службы. А потом решил тебя не беспокоить, подумал, а вдруг ты меня снова в какую-нибудь заварушку втянешь? - Серж громко, так что стали оглядываться на нас из соседней комнаты, расхохотался. Возвратился парень, с подносом, где густо лежали сосиски. Он поставил поднос на стол и собрался уходить, но Серж удержал его за рукав. - Я - француз, - начал он издалека. Я очень люблю вино, просто-таки обожаю. Но мой русский друг - да, да, вы видите перед собой человека из СССР! - он предпочитает что-нибудь покрепче! Водку, виски, на худой конец! - Серж так быстро перешел в наступление, что я не успел и рта открыть, как парень уже унесся выполнять просьбу Казанкини. - Спокойно, спокойно, замахал Серж руками, видя, что я готов взорваться от такой наглости. Знаю, что не пьешь виски, но я его просто-таки обожествляю! Поверь мне, здесь так принято! Мне пришлось согласиться. Когда в бокал была налита тройная порция виски, Серж Казанкини посерьезнел, лицо его стало торжественно-величаво. - Прежде всего, выпьем за светлую память барона Пьера де Кубертена, сказал Серж. - Не выдумай он Олимпийские игры, разве могли бы мы дружить и встречаться, пусть раз в четыре года, но встречаться? Ибо когда есть желание понять друг друга, люди всегда добьются цели. И пусть маоисты не надеются, что им удастся протянуть Великую китайскую стену между Западом и Востоком! Я сделал вид, будто бы полностью увлечен едой, что было не таким уж далеким от истины. Мир выглядел все приятнее, и даже табачный дым, вползавший из соседней комнаты, не раздражал, как вначале. Олимпиада была близка, а это - самое важное, потому что ждешь ее четыре года, и она приходит как праздник души и еще долго потом согревает воспоминаниями. - ...и еще я тебе скажу: ничего у Вашингтона из этой затеи не выйдет. Своих, скажем, они еще могут запугать, хотя и в этом я сомневаюсь, а других - да кто пойдет за ними, сейчас не сорок восьмой год. - Голос Сержа долетал до меня словно сквозь вату. - Ты совсем не слушаешь! - Слушаю, Серж, и согласен с тобой. Кстати, ты приедешь в Москву? - Спрашиваешь! - с горькой обидой воскликнул Серж. - Недавно получил подтверждение об аккредитации! - Это будет самая блестящая олимпиада! - Если только ее не испортят... - Не выйдет у них ничего. - Я тоже так думаю! В кухню заходили, наливали вино, делали бутерброды и брали сосиски, а мы все сидели. Да и куда торопиться, куда спешить, если здесь было тепло и можно напивать пенящийся напиток прямо из бочонка, стоило лишь повернуть краник, и говорить, спорить... - Сэр! - Средних лет мужчина в черном пушистом свитере притронулся к моему плечу. - На два слова! - Минутку, Серж, я сейчас вернусь! - Вам привет от Грегори! Это еще не все, - решительно подавил мое желание задавать вопросы неизвестный. - Он ждет вас сегодня, в любое удобное для вас время, хоть среди ночи. Обязательно. Вот здесь, - он протянул и быстро вложил мне в руку клочок бумаги, - адрес и план, как попасть на виллу. И постарайтесь, чтобы никто не шел за вами! Вы поняли меня? - Понял, - сказал я, хотя ровным счетом ничего не понимал. Неужто Грегори не мог сам разыскать меня, ведь это проще простого - телефон дадут немедленно, нужно лишь набрать номер коммутатора мотеля, - Дик ведь знает, где я остановился? Взглянул на часы: без семнадцати десять. Самое время закругляться, ибо Серж уже входил в раж. Я еще для приличия поболтал с Казанкини и распрощался. Когда выбрался на площадь, из Ледового дворца выплеснулась огромная толпа - по-видимому, закончился товарищеский матч по хоккею. Холодало, мороз пощипывал щеки, и первые снежинки кружились в притихшем загустевшем воздухе. К гостинице "Холидей-инн", взревев на крутом подъеме, проехала полицейская машина с красной тревожной мигалкой на крыше, потом - еще одна. Я постоял у ограды приземистой скромной церквушки, что приткнулась на обрывчике над озером. Даже в неясном свете фонарей можно было легко прочесть надпись на белом листе бумаги от руки - на английском, немецком и русском - "Приглашаем к нам на чашку кофе. Бесплатно!" Мне привиделось, наверное, что от дома лыжного союза, откуда я только что вышел, отделилась неясная тень, замерла, словно присматриваясь, и исчезла. Улица уходила вниз, к озеру, и темнела пустотой. Тишина, казалось, струилась оттуда вверх - к площади, где беспокойные и шутливые толпы туристов с боем брали длинный и высокий автобус. Я осторожно двинулся вниз, придерживаясь левой стороны, потому что на плане, нарисованном Грегори, мне надлежало свернуть на лед, оставив справа церемониальную площадь, где, спустя несколько дней, поднимутся на пьедестал почета первые чемпионы Игр. Сейчас площадь, а попросту огромный кусок расчищенного льда озера, была пустынна, лишь высокая арка, под которой пройдут триумфаторы олимпиады, смутно вырисовывалась в темноте. Только пятиметровые разноцветные кольца, отлитые из хрустального льда, высвечивались лучами двух прожекторов; они точно плыли сквозь тьму, притягивая взгляд совершенством форм и радугой, горевшей внутри каждого кольца. Чем дальше оставалась позади центральная часть Лейк-Плэсида, полугородка-полудеревни, где все - дома, площади, магазины, даже костел и церковь - были миниатюрными, какими-то нереально-игрушечными, - тем глуше звучали шаги по асфальтированной мостовой. Голые деревья стояли как окаменевшие, и тоже чудилось, что они отлиты из льда и жизнь давно покинула их. Поймал себя на мысли, что никак не могу отделаться от внутренней напряженности, не покидавшей меня с той минуты, когда незнакомец передал приглашение Дика Грегори. Нет, меня изумила и встревожила не сама форма приглашения и даже не то, что он поручил это сделать совершенно не знакомому мне человеку, а то, что Грегори вынужден даже со мной, иностранцем, встречаться тайно. Все это выглядело подозрительным, и, не знай я Дика много лет, вряд ли бы откликнулся на его просьбу. Что греха таить, трудно, нередко опасно работается советским людям за рубежом, и тут всегда следует быть начеку. "Э, грош тебе цена, если бы ты не воспользовался случаем узнать нечто новое, что может сыграть свою роль в беспокойной журналистской жизни", - сказал наконец сам себе. Когда я ступил на лед, укатанный и утоптанный собачьими упряжками, пересекавшими озеро вдоль и поперек с туристами в "настоящих" северных санях, мне снова почудилось, что кто-то крадется вслед за мной. Остановился в тени деревьев и прислушался. Снег падал все гуще, все плотнее, и далекие звуки олимпийского центра едва доносились сквозь ватный воздух. "Ну вот, Романько, и ты стал пуглив, и тебе снятся призраки! рассмеялся я в душе, убедившись, что только снег да пустынное озеро окружают меня. - Очнись! Ведь ты - в столице олимпиады, где царят мир и праздничное ожидание!" На противоположном берегу снова оглянулся и увидел, что лед пуст и ни единая черная точка не нарушает его матовую белизну. Минут пять я поднимался в гору, мимо летних заколоченных дач. Вокруг было уныло и пусто. Над головой глухо роптали сосны, с тихим шелестом падал снег. Когда я подумал, что заблудился, стали попадаться коттеджи с освещенными окнами, вырывались звуки джазовой музыки, залаяла и сразу умолкла собака. Идти стало веселее. Я вглядывался в даль, чтобы заметить и не пропустить поворот влево - снова к озеру или, вернее, вдоль озера до часовенки с крестом, - как было обозначено в плане Дика Грегори. Вскоре я подошел к повороту. Дальше тянулся не асфальт, а накатанная в твердой каменистой почве неширокая дорога. Темно, хоть глаз выколи, и пришлось пробираться чуть ли не на ощупь. Но вот я разглядел за деревьями двухэтажный коттедж. К нему вела лестница. Передняя стенка дома - сплошь из стекла - ярко освещена, но задернута изнутри плотной шторой. Над крышей из невидимой трубы поднимался белесый дым. Снег присыпал дорожку и высокие кусты, окружавшие коттедж. Стоило мне подняться по лестнице на первую каменную ступеньку, как наверху распахнулась дверь и раздался знакомый баритон Дика Грегори: - Хелло, Олег! Я подумал, что самое время для твоего появления! - Почему ты так решил? - спросил я и крепко пожал его руку. - Мне позвонил приятель сразу же после встречи с тобой и предупредил, что передал записку. Остальное - проще простого. Как всякий журналист, ты не лишен авантюризма, и тайна влечет нас. Отсюда напрашивался вывод: ты не станешь оттягивать встречу, разве случись дела поважнее. Но, как мне известно, вы болтали с толстяком, который чрезвычайно увлекается виски! - Ничего не скажешь: служба у тебя поставлена - только держись! - не сумев скрыть удивления, сказал я, входя в комнату. Это была продолговатая уютная гостиная с диваном-кроватью, застеленным неярким шотландским пледом, цветной "Сони" на вращающейся ножке застыл как раз посредине комнаты, низкий журнальный столик, два мягких кресла рядом. На одном из них, по-видимому, только что сидел, укутавшись в плед, Дик. На столике лежал толстый блокнот, из него выглядывала шариковая ручка. Телевизор был включен, но звук почти убран, и нужно напрячь слух, чтобы расслышать, о чем там спорили два ковбоя в стереотипном салуне времен освоения дикого Запада... - Раздевайся! - сказал Дик. Он забрал мою куртку с шапочкой и унес в соседнюю комнату. Да, я забыл сказать, что слева от телевизора пылал небольшой камин, сложенный из серого речного камня. Огонь жадно облизывал белые березовые поленья, и тепло обволакивало, расслабляло. - Что будешь пить? - Пожалуй, пиво. - О'кей! - Дик скрылся за дверью, я услышал, как мягко хлопнула дверца холодильника, и вскоре вернулся, неся на подносе блок из шести запечатанных пластмассовой крышкой банок с пивом, тарелочку с мелкими ломтями ветчины и горкой тонко нарезанного сыра. - Я буду виски. Как ты в такой холод пьешь эту ледяную жидкость? Впрочем, слышал, у вас даже зимой едят на улице мороженое... Я усмехнулся. Дик по-своему понял это и сказал примирительным тоном: - А может, оттого вы все такие здоровяки. Видел вчера ваших ребят на "Овале" - кровь с молоком! Дик достал из настенного бара начатую бутылку "Баллантайна", щедро долил себе в бокал и плеснул чуть содовой. - Рад тебя видеть, Олег! Как ты устроился? - По сравнению с некоторыми моими коллегами, получившими жилье в ста километрах от Лейк-Плэсида, я, считай, живу, как у бога за пазухой. - Счастливчик! Не многие могут похвастаться подобными условиями. Знаю Лейк-Плэсид как свои пять пальцев, - не было еще ни одной зимы, чтобы я не катался на Уайтфейс. Мои друзья чаще, правда, летят в Калифорнию, там и зимой солнечно, но мне больше нравится здесь. Знаешь, чем хороши Адирондакские горы? Здесь никогда - разве за исключением олимпийского сезона - нет наплыва туристов. Тихо и покойно, что в наше время, согласись, кое-что да значит. Впрочем, если уж начистоту... - Дик сделал паузу. По выражению его лица я догадался, что он хочет сообщить мне что-то важное. Видимо, решившись, Дик как ни в чем не бывало продолжил: ...Нынче я приехал сюда не кататься и не глазеть на олимпийцев. У меня дело посерьезнее. Больше того, оно касается и тебя. - Он уловил мой вопросительный взгляд и объяснил: - Тебя как гражданина СССР. И еще как человека, которому не безразлична судьба олимпийского движения вообще. - Ты имеешь в виду бойкот? - Отчасти. Тебе уже известно, что на сессию МОК прибывает государственный секретарь Соединенных Штатов господин Вэнс? - Нет, но что в том особенного?! Давно известно, что сессии МОК открывают государственные деятели страны, где она проводится. Роль его формальна, как я понимаю, он выйдет на трибуну и провозгласит: "Объявляю сессию МОК открытой!" - Так вот! Вэнс заявится сюда с личным заданием президента, и роль его меньше всего будет напоминать роль свадебного генерала, - голос Дика Грегори был жесток. - Он привезет специальное послание Картера, а в этом послании - мне доподлинно известно - обещано 500 миллионов долларов любому городу мира за согласие провести, точнее - взять на себя заботу о летних Играх-80. - Это уже новость, - растерялся я. - Дело тут посложнее, чем простое желание сорвать Московские игры, которые, скорее всего, не принесут желанных лавров сборной команде США. По подсчетам, их можно найти в некоторых наших спортивных изданиях, борьба за командное первое место вновь развернется между СССР и ГДР, а Штатам отводится роль статиста. - Ну, спорт есть спорт, кто возьмется заранее разложить все по полочкам? - сказал я уклончиво, хотя не сомневался, что так оно и будет. - В Америке существуют силы, которые хотят превратить олимпийское движение в своеобразного "заложника" и с его помощью решать сложнейшие политические вопросы. За призывом бойкота Игр последуют нажим и шантаж западных союзников и Японии. Тем, поверь мне, ничего другого не останется, как последовать за Вашингтоном. Что это будет означать, недолго объяснять: ухудшение отношений между Западом и Востоком и, как следствие, - желанное, конечно, для организаторов этой далекоидущей акции! - новые расходы на оборону. Да еще какие! Я скоро опубликую статью, где расскажу, что уже в следующем финансовом году Пентагон намерен закрутить спираль расходов на вооружение до фантастических высот! - Погоди, погоди, Дик. Как-то не вяжется все это с Олимпийскими играми... Ну, понимаешь, масштабы несопоставимы... А потом, извини меня, я не верю, что МОК проголосует за бойкот. - Тут-то и зарыта собака! Наши деятели тоже не слишком полагаются на сговорчивость МОК. Вот потому-то задача представляется в том, чтобы заставить Советский Союз, поставив его в безвыходное положение, сделать такой шаг, который был бы расценен как нарушение олимпийской хартии, как невыполнение международных обязательств, а уж наша пресса мгновенно обвинит СССР во всех грехах! - Ну, ну, не перегибай! Ничего из этого не выйдет! Ставили палки в колеса и раньше! Мы уже в Лейк-Плэсиде, и советские спортсмены будут выступать на Играх. Разве у кого-нибудь существует сомнение на сей счет? - У меня, например. Я смотрел на Дика Грегори, стараясь проникнуть в его потаенные мысли. Он недоговаривал, я это видел, он как бы разрывался между желанием выложить все без обиняков и опасением, что это может привести к противоположным результатам. Ведь, как ни крути, я был для Дика человеком из другого мира, и наши пути, сходясь, никогда не сливались. Он этого не забывал ни на минуту. Но что тогда толкало Грегори ко мне? Ведь не впустую велись эти разговоры, не впустую хотел как-то подготовить меня - и боялся, опасался открыться до конца. Стало грустно, настроение готово было испортиться окончательно: между нами все явственнее раздвигалась пропасть... Пропасть недоверия... Некоторое время мы сидели молча, углубившись в собственные мысли. Пиво нагрелось, его можно было пить большими глотками, и я никак не мог утолить жажду, преследовавшую меня весь день. Голова была легкой и светлой. Поленья в камине почти догорели, я поднялся, подбросил свежих из поленницы, что высилась рядом с металлической оградкой. Помешал уголья длинными медными щипцами, совсем новыми - у них даже кончики не обгорели. - Мне сегодня позвонили из Лондона; - вдруг сказал Дик Грегори. Зотова больше нет... Его слова поразили меня. - Ты помнишь, я говорил, когда ты прилетел в Нью-Йорк, что Дима находился в больнице. Вчера получил телеграмму от Юли. Зотов погиб, выбросившись из окна клиники с седьмого этажа. Официальная версия - рак печени, узнав об этом, он покончил с собой. Почуял - это идут по моим следам... Не спрашивай у меня ничего, Олег! - вскричал Грегори. - Пойми, я ничего не могу сказать тебе! Пока! Это просто-таки убивает меня, ибо как раз тебе, и никому другому, мне нужно рассказать все! Но... потерпи еще день-другой, и ты оправдаешь мои действия! Грегори вскочил на ноги и достал бутылку из бара. Налил и поставил ее на стол. Потом снова встал, вышел в соседнюю комнату и вернулся с трубкой. Дик курил мало, только трубку, и я уже установил, что делает он это в двух случаях: в состоянии полного благодушия или крайней напряженности. Сладковатый дым ароматизированного "Копенгагена", темно-зеленую банку с которым он принес с собой, поплыл по комнате... - Я не ошибся, Олег. Диму Зотова просто выбросили из окна. Ты спросишь - за что? Нет, понятное дело, Би-би-си тут ни при чем. Сдержанный критицизм Зотова по отношению к СССР показался теперь лояльностью или даже сочувствием, в этом была причина его увольнения. Но его смерть - это из другой оперы! Думаю, однако, ты догадывался, что Дима Зотов был не так чист, как могло показаться с его слов. Хочу отдать Зотову должное: Дима из кожи лез, чтобы вырваться из клоаки, куда столкнула его жизнь. На этом пути ему пришлось кое-что и потерять. Я знаю: он хотел стать честным человеком... Только так могу расценить передачу мне документов, в результате чего я оказался здесь, в Лейк-Плэсиде, а Дима - в могиле... - Поездка в Лондон дала тебе новые факты? - спросил я, потрясенный услышанным. Да, очень серьезные. Именно поэтому я решил встретиться с тобой... Словом, Олег, существует заговор против... против Олимпийских игр в Москве, и он начал осуществляться... Нет, речь не о бойкоте... Словом, мне было видно, как трудно давались эти слова Дику Грегори, - предупреди ваших, чтобы они держались здесь начеку... Все, больше - хоть убей - ни слова! - Дик, с крупными каплями пота на лбу, взъерошенный, обессиленно откинулся на спинку кресла. Мне никогда не приходилось видеть его в таком состоянии. Долго не мог заснуть: крутился с боку на бок, вставал, пил коку, снова пытался успокоиться, но услышанное не шло из головы. Включил свет и раскрыл "Мастера и Маргариту", но бал у сатаны только усугубил мрачное настроение. Нажал кнопку телевизора. Фильм с убийствами и погонями. По другой программе шел концерт с участием популярного конферансье Литлрока. Его плоские шуточки и ужимки раздражали... Телефонный звонок буквально приковал меня к постели. Дик? Телефон разрывался. Я поднял трубку. - Олег, ты? - раздался голос, от которого у меня что-то дрогнуло внутри. - Малыш... - Что с тобой? Я весь вечер обрываю телефон, а тебя все нет и нет! - Олимпиада, Малыш, разве ты не знаешь? - как можно спокойнее сказал я, а у самого мурашки по коже пошли - как это она почувствовала, что со мной что-то стряслось. На таком расстоянии! - Ты говоришь правду? Правду? - И только правду! - заверил я Наташку. - Все - о'кей! Уже пошел снег, и олимпиада наконец-то станет белой, как ей и положено. Народ съезжается отовсюду. Много знакомых. Работы пока, правда, нет, но передал небольшой репортаж. А вечером... вечером я гостил у моего давнего приятеля... сидели у камина и пили пиво... - У камина? Как у меня тогда? - Нет, Малыш, разве можно сравнивать несравнимые вещи! - Тогда спи. Я целую тебя, слышишь, родной мой? - Слышу. Покойной ночи, Малыш... Я тогда вернулся в Киев - до конца отпуска досидеть не удалось: что-то мешало мне наслаждаться лыжами и великолепными склонами - после дождя ударил мороз, потом присыпал легкий снежок и наст держал крепко, можно было спускаться там, где никто обычно не катается. Валерка проводил к поезду, помахал рукой и напомнил на прощание, что мы условились встретиться в марте - на пару денечков заскочить в Славское, на весенний снег. "Ну, если невтерпеж, рвани в Москву, - сказал он тогда. - Ведь не дети вы!" - "Вот потому, что не дети, никуда не поеду! - не слишком любезно отрезал я, чем, верю, обидел друга. - Пустое это все..." Уже несколько дней я работал, даже собрался в командировку в Харьков, когда раздался звонок из Москвы. Час был поздний, около одиннадцати, и я задержался в кабинете лишь потому, что был дежурным редактором по номеру. - Да, Романько слушает. - Это я, - послышался тихий, приглушенный не только расстоянием голос. - Наташа?! - Я совсем извелась и стала похожа на ведьму. Бросаюсь на людей, и меня скоро отвезут в "психушку". Должна тебя увидеть, ну, хоть на час... Ты не мог бы прилететь в Москву? Я молчал, потеряв голову. Она поняла мое молчание по-своему. Голос у нее задрожал. - Умоляю тебя... - Завтра я буду в Москве... - Улица Горького, четырнадцать, квартира семь... Это как раз над магазином "Грузия", у площади Маяковского... Я бросил трубку, но тут же схватил ее снова. Набрал знакомый редакторский домашний номер. - Ефим Антонович? Это Романько. - Добрый вечер, Олег Иванович, что-нибудь по номеру? - Нет, с номером порядок. Подписал по графику, жду сигнальный. Мне нужно завтра срочно уехать, на два дня... - У вас, кажется, есть еще неиспользованные дни отпуска? - Есть. - Счастливого пути, Олег Иванович! - Спасибо. ...В Москве трещала, обметала ноги поземкой настоящая зима - повсюду огромные сугробы, мороз под двадцать, да еще с ветром. Пока доехал из Внуково, у меня околели ноги - так было холодно в такси. Дом на улице Горького я знал хорошо, по соседству когда-то жил друг моей спортивной юности Серега Скворцов. Вход со двора, подъезд нашел сразу. Но дверь была закрыта, и мне пришлось звонить. Выглянула лифтерша - в пуховом платке и валенках, поинтересовалась, в какую квартиру иду, и лишь затем впустила. В подъезде было тепло, я постоял, отогреваясь. Поднялся на четвертый этаж и нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась сразу, как будто меня ждали. У Наташки были сумасшедшие глаза, она прикусила губы, словно боялась проронить хоть одно слово. Мы стояли, смотрели друг на друга, и никто не решался первым пошевелиться. - Вот и я... Спортивная сумка выпала на пол, мы почти одновременно, расставив руки, бросились друг к другу. От Наташкиных волос пахло июльской луговой свежестью, я целовал ее и не мог нацеловаться, и голова пошла кругом словно прильнул к прозрачному ручью в иссушающий полдень после долгого и трудного пути. - Ты, ты... - шептала Наташка. - Я глупая, какая я глупая - столько мучаться, когда это так просто, так прекрасно - прижаться к тебе... Я люблю тебя... готова на все, как ты скажешь, как прикажешь, так и будет... буду твоей любовницей, наложницей, кем угодно... только бы видеть тебя хоть изредка, только слышать твой голос... Она шептала и шептала, а сердце мое разрывалось на части, потому что оно предчувствовало разлуку, конец всему, я потерплю крах в жизни и уже никогда - знал это наверняка! - никогда не поднимусь. Пусть говорят, что так не бывает, но с той минуты, как увидел ее глаза там, в Карпатах, вдруг понял, что не жить мне без этой девчушки; и оттого что знал - у нас нет будущего, было так горько - хоть на край света беги. Да разве убежишь от самого себя? - Мы вместе, Натали, вместе, и никто не разлучит нас. - Ты веришь в это? - Пока ты этого будешь хотеть... - Ты плохо знаешь меня. Да, я и впрямь не знал ее, и мои представления базировались на собственном опыте, а в моем возрасте уже трудно быть без опыта, который предсказывал, что все это непрочно и призрачно, как тень от свечи или лунная дорожка: не тронь их - они есть, а попытайся поймать, ощутить - и ты схватишь пустоту. Двадцатилетняя девчушка, наивно верящая в святые каноны любви, когда с милым - и в шалаше рай, но вовсе не представляющая, что для одной любви - жизнь слишком длинная штука. Незвано приходит привычка, а с ней - холодок в отношениях, и кажется - все есть: дом, интересная работа, друзья, а люди незаметно, по сантиметру, удаляются друг от друга, и у каждого образуется собственный мир, куда другому становится все труднее и труднее проникнуть. А потом и вовсе худо - ты оттягиваешь час, когда нужно возвращаться домой, и радуешься, что можно уехать на неделю, а то и на две в командировку... Но ничего этого Наташке я не сказал. Она отпустила меня. - Раздевайся, вот вешалка. Мы прошли в комнату, и я увидел камин, самый настоящий, облицованный мраморными плитками и черный изнутри.. - А дрова? - спросил я. - А магазин "Грузия" зачем? - вопросом на вопрос ответила Наташка. Не одевая куртку, кинулся вниз, не дожидаясь лифта. Лифтерша подозрительно посмотрела на меня, но ничего не сказала ("Наверное, все же произвожу солидное впечатление", - подумал я). Выскочил во двор и выбрал два пустых ящика из-под вина. Ломать их не стал, так целиком и потащил наверх. - Да вы бы в лифте, только стенки не поцарапайте, - сказала женщина и открыла дверцу. Нетрудно догадаться - я не первый в этом доме прибегал к услугам магазина. Это был сказочный день, вечер, ночь и еще день, а потом Наташка провожала меня на Киевский вокзал. Она надела серо-голубую короткую шубку, джинсы заправила в высокие сапожки, и я не мог налюбоваться ею, и меня злило, что ей вслед оборачивались мужчины. - Если б ты мог не уезжать, мы пошли бы сегодня в Большой, на "Лебединое озеро", - сказала она.5
Оставались последние два дня перед открытием Игр. Пресс-центр напоминал теперь переполненный гудящий улей: в комнатах и комнатушках, в разгороженных стенками коридорах, в спортивном зале лицея, переоборудованном под рабочую комнату пишущей братии, теснились люди молодые и пожилые, одетые изысканно, словно собрались на званый бал, и без всякого почтения к Играм - в жеваных рубашках и поношенных джинсах; кто-то курил, стряхивая пепел прямо на пол, кто-то бросил под ноги пустую пластмассовую чашечку из-под кофе, кто-то просто дремал в кресле... Нужно отдать должное хозяевам: они держались со стоицизмом людей, которые решили, что самое страшное позади и теперь никакими криками, обидами и угрозами их не прошибешь. Дудки! Мы сделали эти Игры, через считанные часы они начнут отсчет времени, а что еще требовалось от нас? как бы говорили их лица. Приехал Виктор Синявский, ребята из Риги и Таллина, Ленинграда и Алма-Аты. Мы обменивались первыми впечатлениями и первыми неприятностями. - Хорош гусь, - незлобиво проворчал Виктор, рассматривая мое жилье. А каково нам? Сто километров туда да сто километров обратно, в автобусе спим, кушаем, готовимся к передачам. Да еще ирод американский на нашу голову попался - водитель наш Джон Хенд, такая ку-клукс-клановская штучка, что держись! У нас есть еще три негра - тоже водители, ты бы посмотрел, как он ими помыкает. А ребята терпят, сносят все молча. Хорошие парни, честные. Сегодня утром два автобуса запоздали, приехали почти на полчаса позже. Мы, знаешь наших, в крик: безобразие, еще, называется, точность. А один из них - худенький такой, как тростиночка, извиняется, глаза виноватые-виноватые, словно мать родную обманул, и говорит: "Мистер Джон уговаривал, чтоб мы объявили забастовку и не возили красных в Лейк-Плэсид, а мы отказались!" Ты только вдумайся: мы наняли эти автобусы, заплатили деньги, а он - бастовать! - Да, не приходилось нам с тобой видеть подобных олимпиад. Куда ни ткнешься, сплошные накладки - ни пресс-бюллетеней, ни информационной службы, да что говорить, - поработать и то негде присесть! - Ты знаешь, у меня складывается впечатление, что им эта Олимпиада совершенно не нужна. То есть, оргкомитету нужна, они там просто из кожи лезут, чтобы залатать дыры, а вот Америке, великой и богатой стране, нет. И все тут! Да еще и за нашу Олимпиаду принялись! Но руки, руки, господа, коротки! - Виктор вошел в раж, и теперь его не остановить. Я подумал, что меня не покидает двойственное ощущение: радуюсь, что Игры накануне открытия, и в то же время гложет тревога. С той минуты, когда я услышал, что Зотова убили, мой оптимизм быстро испаряется. - Ты поедешь на открытие сессии МОК? - А как же! Не пойдут члены МОК у американцев на поводу. Я рассуждаю: любят они нас или нет - это их личное дело. Но если они выступят против Московской олимпиады, то подрубят сук, на котором сами сидят. Не иначе! Ведь проголосовать против Игр - значит торпедировать олимпийское движение вообще. - Я уверен, что МОК подтвердит свои прежние решения. Лорд Килланин вот действительно кремень во всем, что касается олимпизма. Да будь у власти Брендедж, ого куда мы уже закатились бы! Рассиживаться было некогда, и мы собрались уходить. Я запирал дверь, когда услышал телефонный звонок. - Минутку, Виктор. Поднял трубку. - Алло. - Я хотел бы услышать мистера Романько. - Он у телефона. - Ваш друг, который живет за озером, просил прийти к нему после обеда. У него есть важные сведения для вас. Прощайте! Взглянул на часы: двенадцать ноль три. - Вот что, Витя. Ты без меня на сессию отправляйся. Расскажешь, что и как. А мне нужно позарез смотаться в олимпийскую деревню, - соврал я. Постараюсь обернуться в срок, но ты ведь знаешь, как здесь ходят автобусы, час, минимум, уйдет... - А чего там в деревне? - В нем заговорила репортерская жилка. - В случае чего - не поскупись, а? - Какие разговоры! - Тогда порядок. По дороге к пресс-центру заглянули в "Австрийский дом" - двухэтажный, похожий на "летающую тарелку". Сложенный из золотистой сосны, с огромными стеклянными окнами-стенами, пронизанный солнцем, он встретил густым ароматом кофе, сладковатым табачным дымком и тихой приглушенной музыкой. Мы сбросили куртки и блаженствовали в креслах, попивая кофе и заодно изучая последние новости австрийской олимпийской команды, вся сила которой была в горнолыжниках. Этот прекрасный спорт давно обернулся прибыльным делом, за ним стояла мощнейшая индустрия, выпускавшая миллионы пар новейших пластиковых лыж, ботинок, перчаток и костюмов, очков и приспособлений для перевозки лыж на крышах автомобилей. Прибыли находились в прямой зависимости от того, на каких лыжах выступали чемпионы - "Кнайсл" или "Динамик", "К-2" или "Россиньоль". В последние годы в западный альянс неожиданно ворвалась югославская "Элан" - своими завоеваниями на мировом рынке она обязана шведскому горнолыжнику Ингемару Стенмарку, которому и здесь прочили победу. Я вспомнил ту злополучную "трубу" на трассе скоростного спуска и подумал, что недаром даже Стенмарк отказался выступать в этом виде соревнований. Спусковики - это лыжные камикадзе, говорил Семененко. Кто-кто, а он мог об этом судить не по рассказам других - Валерий в свое время становился чемпионом СССР в спуске, и, кажется, его рекорд скорости - за сто пятьдесят километров в час! - не побит и по сей день... - Виктор, ты на открытие пойдешь? - спросил я. - А куда, по-твоему, я направляюсь? - он с недоумением посмотрел на меня. - Да нет, на открытие олимпиады, послезавтра? - Сейчас, только взгляну на расписание передач. - Полез в сумку, вытащил пухлый исписанный блокнот, быстро нашел нужное и разочарованно сжал губы. - Нет, у меня как раз передача. Придется в пресс-центре по телеку глядеть... - Тогда свой билет отдашь мне! - Да разве ты не получил? Ведь положено... - Мне нужен еще один. - Возьми, - Виктор достал из того же блокнота сине-желтый кусочек плотной бумаги, где на обратной стороне помещалась реклама "Спортс иллюстрейтед" - крупнейшего спортивного журнала не только в США, но и, по-видимому, в мире. Реклама отнюдь не бескорыстная, - журнал, как и всякий уважающий себя бизнесмен в том мире, не поскупился на расходы и откупил у оргкомитета право напечатать билеты. У меня еще оставалось время заскочить в пресс-центр. Нью-Йорк набирался по автомату, и я сразу услышал Наташкин голос, точно она сидела у телефона и ждала звонка. Всплеск ее радости долетел до меня сквозь сотни американских миль и обдал горячей волной. - Натали, жду тебя на открытие Игр! - выпалил я, не успев даже сказать "здравствуй". - Это нужно увидеть хоть раз в жизни! Теперь мне остается как можно точнее и скрупулезнее описать события тех двадцати четырех часов, которые предшествовали открытию ХIII зимних Олимпийских игр, потому что был момент, когда я усомнился, состоится ли оно вообще... Серж Казанкини вырвался из внезапно распахнувшейся двери пресс-центра, куда я хотел зайти, боднул меня лбом, едва не сбив с ног, и в довершение так наступил на ногу, что в глазах потемнело от боли. - О, Олег! - вскричал он. - Нет, ты только подумай! Ты только подумай! - даже не извинившись, набросился на меня Серж. - Так можно было и стенку пробить! - А, какая там стенка! - отмахнулся он. - Китайцы! Нет, ты только послушай заявление главы делегации! - Серж продекламировал, изобразив на своем круглом лице прищуренные глазки и сладчайшую улыбку: - Мы торжественно приглашаем олимпиаду-80 в Пекин! - С таким же успехом ты мог бы пригласить ее к себе домой в парижский пригород Орли! - Да ведь это всерьез! Нет, не понимаю, что делается в нашем мире и когда наконец люди образумятся, станут серьезнее! Нельзя же обладать такой идиотской наивностью! - Это далеко не наивность, Серж... - Наверное, ты прав... Да, ты спешишь? - Мне нужно зайти к приятелю... - Не возражаешь, если я тебя провожу? У меня голова кругом идет, нужно проветриться. - Пойдем. Лейк-Плэсид, присыпанный снежком, уже превратившимся в хлюпающую под ногами жижу, укрытый сверху темными неприветливыми тучами, изо всех сил старался не показать, как он волнуется и ждет открытия олимпиады. На легком ветерке полоскались разноцветные знамена тридцати семи стран мира, принявших приглашение этого затерянного в горах поселка; лозунги типа "Тай и Ренди! Вы и только вы достойны золотых медалей!", "Самые лучшие лыжи "Кестль"! - пересекали улицу на уровне второго этажа. Продавцы "горячих собак" под гроздьями воздушных шариков, украшенных переплетенными кольцами, взывали к толпам возбужденных, никуда не спешащих людей, одетых во что попало - куртки, шубы, меховые безрукавки. Все это двигалось, шумело, кричало, волновалось, охваченное общим возбуждением. Нас толкали, разъединяли, приходилось останавливаться и ждать, пока Серж своим плотным животиком протаранит толпу и догонит. Он пыхтел, кричал издалека, если ему никак не удавалось пробиться ко мне. Лишь когда мы свернули за костелом вниз, к озеру, стало спокойнее. Всякий раз, когда я попадаю на очередную олимпиаду, не перестаю поражаться: откуда столько энергии, столько желания у этих людей, съезжающихся, слетающихся, наконец, просто пешком приходящих, чтобы увидеть то, что куда легче и проще посмотреть на экране телевизора. - Что в этом странного? Человеку нужно стать соучастником, сопереживать, чтобы всколыхнуть душу, острее, глубже почувствовать, как прекрасна жизнь! - Ты, как всегда, в своем репертуаре! - отмахнулся Серж. Неисправимый романтик. - Если не быть романтиком, жизнь превратится в беспросветные будни. Озеро с легким шелестом полозьев пересекали собачьи упряжки, подгоняемые нетерпеливыми каюрами. Мы поднимались вгору, скоро должен был показаться дом Грегори, и я уже подумывал, как безболезненнее отделаться от Сержа: мне почему-то стало немного жаль его - беспокойного, нервного, суетящегося толстяка с грустными глазами. Но что-то удерживало меня. Мы подходили к знакомой лестнице, и днем все вокруг выглядело иначе, чем в темноте, - прозрачнее, свободнее было в сосновом бору. - Я пришел, Серж... - Уже? Ты долго? Если что, так я подожду... - Он явно не хотел расставаться, потому что стоило ему остаться без дела, как его нестерпимо тянуло в Париж, домой... - Не знаю, Серж... - Словом, полчасика тут поброжу, красиво как... - Он повернулся ко мне спиной, чтобы я не сказал ему "нет", и засеменил по дороге - круглый, как колобок, в нелепой, чем-то напоминающей русские боярские шапки времен Ивана Грозного, меховой треуголке. Я почти взбежал по лестнице вверх и увидел широко распахнутую дверь. Не знаю почему, но именно открытая настежь дверь, за которой начиналась темнота, насторожила меня. Невольно замедлил шаг и осторожно позвал: - Дик... Ответа не последовало. - Грегори, - голос прозвучал как-то приглушенно. Я шагнул вперед, переступил порог и зажмурил глаза, чтобы привыкнуть к полутемноте комнаты, окна которой оказались затянутыми плотной шторой. Мне почудился тихий вздох. - Есть здесь кто живой? - спросил я, еще не зная, что попал в самую точку и жизнь покинула этот дом и человека, который еще недавно назывался Диком Грегори, американским журналистом и моим другом, с которым у нас было много общего, хотянередко мы чувствовали, что не можем понять друг друга. Дик полулежал в том же кресле, где он сидел в прошлый мой приход. Я увидел бессильно откинутую назад голову и расползшееся на груди темное пятно, подчеркнутое ослепительно-белым свитером. Руки, бессильно опущенные на колени, еще держали ручку, но ни листочка бумаги на столе не было. Эта бессмысленная ручка в пальцах мертвеца заставила меня осмотреться. В полумраке я разглядел перевернутый и выпотрошенный кожаный чемодан, разбросанные по полу вещи Дика, открытую дверцу бара. Я попятился на лестницу, и оттуда, сверху, закричал: - Серж! Казанкини буквально прилетел на мой зов и сразу понял, что мы здесь лишние. - Кто это? - спросил он сдавленным голосом. - Дик Грегори, журналист... - Ему уже ничем нельзя помочь? - Думаю, что нет... Серж засопел, что выдавало крайнюю степень его волнения, но ничего спрашивать не стал. Да и что я мог ему ответить? - Пошли, - сказал я. Мы почти бегом удалялись от дома. Я мучительно думал, что же мне предпринять теперь. Полиция, расследование, вопросы. Мне не хотелось никому ничего рассказывать - ни о Дике, ни о его опасениях, тем более что я действительно ничего толком не знал, да и, по-видимому, никогда не узнаю. - Вот что Серж, ты пока никому об этом ни слова... - ??? - За этим стоит что-то очень серьезное, но, поверь, толком не знаю что. - Ты не обманываешь? - Ну вот, даже Серж сомневается в моей правдивости, - я сделал попытку изобразить на губах усмешку. - Я-то не сомневаюсь, но так хочется узнать, что же это такое? - Наверное, внутренние счеты. Дик кому-то перешел дорогу. Я так думаю. Он в последнее время занимался одной историей. Дик Грегори был настоящим журналистом, поверь мне, Серж, из тех, кто лезет к черту на рога, лишь бы добыть истину! - Слава богу, я занимаюсь спортивной журналистикой! - сказал Серж. Но только ты мне даешь слово, что расскажешь, если дело прояснится! - Обещаю! - легко согласился я, зная, что никогда и ничего не расскажу Сержу потому, что сам никогда не узнаю, что же в действительности случилось. Со смертью Грегори и тайна гибели Зотова тоже покрывалась беспросветным мраком. Напротив старого Ледового дворца, помнившего еще триумф Сопи Хени, мы, буркнув несколько слов на прощание, разбежались в разные стороны. То, что случилось в десяти минутах ходьбы отсюда, казалось плохим сном, который хотелось поскорее забыть. Без цели я пошел по Мейн-стрит. Кто-то наступал мне на ноги, кто-то толкал меня, кого-то толкал и кому-то наступал на ноги я, мне вслед летели не всегда вежливые выражения, но я брел и брел вперед, словно там, вдали, можно обрести спокойствие. Ни одной мысли в голове, сплошная сумятица. Было холодно, слякотно, сырой ветер проникал сквозь куртку и леденил тело, замерзли руки и, кажется, посинел нос, - во всяком случае, из него текло, и мне поминутно приходилось доставать платок. Задержался у передвижной эстрады, где четверо лихих ковбоев в широченных шляпах лихо дули в трубы, стучали в тарелки, и музыка "кантри" вызывала в памяти дикие прерии и неунывающих переселенцев, греющихся у костра, - сколько раз я видел их на экранах. Ребята на телеге, куда были впряжены два спокойных битюга, старались вовсю, и люди приплясывали, согреваясь. Забрел в магазин, где показывали новинки горнолыжного снаряжения фирмы "Кабер". Вместо итальянцев за прилавком стояли обыкновенные американцы, один из них спросил: "Вы хотели бы получить информацию, сэр?" - но я отрицательно покрутил головой, и они снова уткнулись в цветной экран телевизора, показывавшего утреннюю тренировку горнолыжников. Из магазина я снова выбрался на людную Мейн-стрит. Не покидало ощущение, что кто-то идет за мной следом, я чувствовал устремленный в спину тяжелый, колючий взгляд. Ноги сами занесли меня в церквушку, где к черной доске, на которой обычно пишется расписание богослужения, была приколота бумажка с приглашением зайти на чашку кофе. В небольшой комнате стояло пять или шесть столов, от камина исходило тепло, сидели и тихо разговаривали туристы, так же, как и я, заглянувшие сюда, чтобы согреться. Перед каждым дымила белая чашечка с кофе, а между столами неслышно передвигался средних лет высокий священник в черном. Подошел он и ко мне, приветливо предложил кофе и пригласил принять участие в беседе. Я попросил чашечку и добавил, что просто посижу, послушаю. Он согласно кивнул головой и отошел в угол, где виднелась небольшая кофеварка. Кофе получился горячим, ароматным. Запоздалое сожаление шевельнулось в душе. Мне почудилось, что будь я понастойчивее, Дик бы открыл мне правду и - кто знает! - не удалось бы мне уберечь его от беды. - ...Мне быть бы сыщиком, Олег. - Дик посмотрел на меня, и глаза его лучились от, с трудом сдерживаемого, смеха. - Знаешь, эдаким современным Пинкертоном или отцом Брауном. Меня просто-таки тянет, неудержимо влечет туда, где пахнет опасностью... - Тогда займись полицейской журналистикой, пиши об убийствах и ограблениях. - Э, нет, мне противен ореол героизма, создаваемый вокруг элементарных подонков, - решительно отрезал Дик. - Меня тянет в политику. Там сегодня совершаются самые респектабельные преступления, и концы этих преступлений упрятаны так глубоко... - А стоит ли игра свечей? - усомнился я. - Ты рисковал жизнью, раскапывая Уотергейт. Разве что-нибудь изменилось к лучшему в результате разоблачения? - Пессимизм - не самый верный маяк в жизни, - возразил Грегори. Далеко не лучший, если не сказать - самый подлый, какой я только знаю. Ибо он ведет прямо на острые подводные камни, спасения от которых нет. Окажись я пессимистом, давно бы повесился или пустил пулю в лоб. Нет, я верю, что люди - пока они остаются людьми! - должны бороться, ибо без борьбы нет победы, согласись! - Только не в вашем обществе, прости... - И тем не менее нужно бороться, будить уснувшие человеческие души, а как же иначе, Олег? Ведь в противном случае верх всегда будут брать подлецы... - У вас, сын мой, какие-то неприятности, - услышал густой баритон священника, замершего рядом со мной. - Не противьтесь влечению души, оно приведет вас к богу, а в боге истина и отдохновение... смиритесь, сын мой... - Да, да, наверное, смирения-то и не хватает в вашем мире, святой отец. Как бы не так! - не слишком вежливо сказал я: Дик стоял рядом перед моими глазами как наваждение. - Спасибо за кофе! Я вышел на улицу. Сыпал снежок, мимо церкви медленно прокатила телега с веселыми музыкантами. Они дудели и гремели медными тарелками, точно приглашая всех, кто уступал им дорогу, за собой - в мир, где нет ни горя, ни печали. И люди шли за ними, смеясь и притопывая в такт музыке. Остаток дня я провел в пресс-центре - читал телетайпные ленты в комнате ТАСС, и приветливая телетайпистка угощала бутербродами. Кто-то входил и выходил, появлялись знакомые ребята, мы о чем-то болтали, сообщались новости и сплетни, именуемые в журналистской среде байками, непременный "гарнир" к сухим фактам, секундам и баллам, а у меня из головы не шел Дик Грегори... Дверь моей комнаты выходила прямо на улицу, я открыл ее ключом и шагнул в темноту. Рука привычно потянулась к выключателю, но тихий и властный голос остановил ее на полпути: - Не зажигайте свет! - Кто здесь? - Задерните штору. Да не торчите вы в двери как истукан! Я захлопнул дверь. - О'кей! Теперь включайте. На одной из кроватей, закинув ноги в заляпанных грязью "лунниках" прямо на покрывало, развалился Стив Уильямс - я его сразу узнал. Парень был все в том же поношенном джинсовом костюме, изрядно потертый светло-коричневый полушубок валялся прямо на полу. - Меня зовут Стив Уильямс, - поднимаясь, сказал он. - Знаю! Как вы сюда попали? - Через дверь. - Но ведь она была... а, черт... какая разница, как это у вас получилось... Вы знаете, что с Диком? - Да. - Кто убил его? Как это произошло? - Просто. Вошли и всадили две пули в сердце. Но я не буду Стивом Уильямсом, если не доберусь до них! В его голосе взорвалась ярость. Как отзвук клокочущего вулкана. - Вы сообщили в полицию? - Нет, сэр, с полицией у меня собственные счеты, и мне не хотелось бы отвечать на некоторые вопросы... не относящиеся к этому делу... Обратиться в полицию - не лучший способ добиться справедливости. - Послушайте, Уильямс, если хотите - говорите, но не заставляйте, словно клещами, тащить каждое слово! Вы можете толком объяснить все, как есть, по порядку? - Могу. - Уильямс невозмутим, как скала, о которую в бессилии разбиваются волны. - Был бы, сэр, благодарен вам за рюмку водки. Я бросился к холодильнику, выхватил бутылку "Столичной", ринулся в туалет за стаканом, ополоснул его и возвратился в комнату. Потом вспомнил, что не взял никакой закуски, и повернулся было снова к холодильнику, но Уильямс остановил меня: - Не беспокойтесь, сэр! Мне достаточно одной водки! Я налил ему полстакана. Уильямс вытащил из заднего кармана помятую пачку "Кента", закурил. Отхлебнул большой глоток водки, не поморщившись, и сделал глубокую затяжку. - Это я звонил вам... По поручению мистера Грегори. Я пришел к нему незадолго перед вами - мне оставалось еще кое-что выяснить... Там уже лежала тишина... Чистая работа! Никаких следов, поверьте. Я ведь тоже когда-то якшался со всяким сбродом - меня не проведешь. Это были они... Мне не дает покоя мысль, что я навел их на след мистера Грегори, ведь не исключено, что следили за мной от самого Олбани... - Кто они? Вы опять говорите загадками! - разозлился я. - О'кей, сэр! Я постараюсь не избегать подробностей, как учил мистер Грегори, а вы не стесняйтесь, перебивайте, когда чего не поймете. Память у меня что надо. - Начните с самого-самого начала, конечно, если знаете... - Кому, как не мне, знать, если это я потянул первую ниточку. История показалась мне заурядной. Самой что ни есть заурядной, не заслуживающей внимания. В начале ноября, а еще точнее - седьмого, около полудня, я встретился у "Бешеного Джо" - это бар на Таймс-сквер - с собственным осведомителем. Платить ему оказалось не за что - он ничего путного не принес. Наркотики мистера Грегори тогда уже не интересовали. Видать, парню очень нужен был четвертак, потому что он рыскал по собственной памяти, как голодный волк по степи. И тогда он случайно упомянул о снайпере из "бригады 2506": мол, вызвали из Техаса, затевается какое-то важное убийство. Я пропустил сообщение мимо ушей - мистер Грегори оставался равнодушным к убийствам. Мы потолковали еще минут пять, выпили по второму виски и разбежались в разные стороны. Когда я докладывал мистеру Грегори о новостях, он вдруг говорит: "Эти парни, из кубинцев, чаще всего занимаются политикой. Поинтересуйся". Стив Уильямс ловко стряхнул пепел с сигареты, сделал крошечный глоток водки. Я уже не чувствовал к нему неприязни. Я рассмотрел его и увидел светло-карие добрые глаза, застенчивую, как у ребенка, улыбку - почти незаметную, скорее - тень улыбки. - Мне довелось пройтись по старым связям. Уже тогда понял - дело готовят серьезное. Законспирированы они, скажу вам, по высшему классу. На что уж мой давний приятель - человек без лишних сантиментов, и тот поначалу уперся: "Уильямс, я тебя люблю, но голову за тебя подставлять не стану". Рассказать-то мне он рассказал, но предупредил, что если ему прикажут, он меня уберет, чего бы это ему ни стоило... Так получилась первая ниточка... Следующий кончик мы ухватили в Мюнхене, да, да, не удивляйтесь... Мистер Грегори обратился за помощью к мистеру Зотову. Кажись, у мистера Зотова тоже не все чисто в прошлом. Иначе откуда ему добраться бы до них? Копнул он глубоко - не всякий на такое способен. Словом, тогда и появился на свет божий Филипп Хефнер, бывший олимпийский атташе США, он же Джордж Хьюгл, агент ЦРУ. Хьюгл - руководитель операции. Но до сути самой операции мы с мистером Грегори добрались недавно. Правда, это стоило жизни мистеру Зотову... У меня голова пошла кругом. Хефнер, этот красавчик, слова не произносивший без роскошной "американской" улыбки, рубаха-парень, вспоминавший, как он занимался спортом в университете (для участия в Играх у него не хватило таланта), представляет весь американский спорт на олимпиаде. Хефнер - агент ЦРУ? Невероятно! Обычно на должность атташе попадают люди, давно и прочно связанные с олимпийским движением. Ведь утвердить человека в таком ранге имеет право лишь Национальный олимпийский комитет! - Вас что-то смутило в моем рассказе? - Уильямс уловил мое замешательство. - Я давно знаком с Хефнером, но никогда не мог подумать. - Не сомневайтесь! Это так же верно, как и то, что мистера Зотова выбросили с седьмого этажа за передачу информации - информации о группе. Когда это случилось, мистер Грегори сказал: "Мы с тобой, Стив, кажись, влипли в историю... Веришь, если б можно было забыть ее, я бы это сделал немедленно, да и тебе посоветовал то же самое. Если они докопаются, что мы пронюхали кое-что, - пощады не жди". - "Это еще как сказать, мистер Грегори! Я сдуру голову под пулю не подставлю, - ответил я ему тогда. - Но делать нам нечего - прикованы к ним цепью". - "Это ты верно подметил, рассмеялся мистер Грегори. - Отступать нам теперь некуда...". Вы не удивляетесь, почему я выкладываю вам это? - Еще как! - признался я. - Мистер Грегори сказал мне тогда, в Олбани: "От этого парня я ничего не скрывал бы, знай все определенно. Впрочем, Стив, я ему скажу, когда буду знать, что нужно. Еще добавил: "Он хоть из другого мира, но ему можно доверять как себе!" Знаете, мистер Романько, если уж начистоту, - и слова не сказал бы вам, не случись этого с мистером Грегори. - Не то, что я вам не доверяю, просто люди из вашего странного и малопонятного нам мира меня настораживают... Ну, да это так, к слову... Мы-таки докопались до сути, и здесь, - Уильямс похлопал себя по нагрудному карману, - есть то, что искали молодчики, застрелившие мистера Грегори. Они хоть и перевернули вверх дном весь дом, тайник так и не обнаружили. Это - единственное, что я взял на память о мистере Грегори... - Что там? - Ничего особого. Кое-какие бумажки, подтверждающие, что кое-кто очень заинтересован в этом выстреле. - В каком? Убившем Дика? - Нет, мистер Романько... Убить этим выстрелом собираются вашего советского спортсмена... - По-видимому, на моем лице проявилось такое, что Стив Уильямс поспешил сказать: - А что тут непонятного? Когда русский спортсмен упадет с простреленным сердцем - все тут перевернется. Разве сможет ваша команда выступать в Лейк-Плэсиде, когда свинцовый гроб будет давить на психику каждого, кто выйдет на старт? Конечно же, русские тут же покинут олимпиаду, и без того не слишком славные отношения между Советами и США станут хуже некуда. Кое-кто будет потирать руки... - Что вы намерены делать? У Стива Уильямса, кажется, даже лицо почернело. - Я сбился с ног - не знаю, где это должно произойти... Они опередили меня! Мистер Грегори сказал, когда мы разговаривали с ним по телефону: "О'кей, Стив! Мы - на коне, я уточнил место!" Лейк-Плэсид мал, чтобы заблудиться, но слишком велик, чтобы найти надежное местечко и без помех пальнуть из снайперской винтовки... А тот парень, кубинец из "бригады 2506", дело свое знает, чтоб мне с этого места не сойти! То, что я услышал, выглядело чудовищно, но не было таким уж невероятным. Нужно знать Америку, где стреляют в собственных президентов, чтобы не сомневаться, насколько реально появление убийцы, который поднимет винтовку против спортсмена. Мне почудилось, что я слышу выстрел, эхо от которого прокатится по миру, потому что это будет выстрел не столько в олимпиаду, сколько в хрупкий, неустойчивый мир. "Ты уж совсем спятил, - одернул я себя. - Ерунда какая!" - Это всерьез, сэр, - сказал Стив Уильямс, словно прочитав мои мысли. - Давайте документы, и мы обратимся с официальным протестом, попробуем... - Так можно сделать у вас дома. Не забывайте, что вы - в Америке, охладил Уильямс. - А потом, мистер Романько, с этими парнями у меня собственные счеты. Мистер Грегори был для меня не просто шефом. Он поверил, что я - человек, а не подонок, хоть я не скрыл от него ничего, что делал прежде. И будь у меня десять жизней - все бы отдал, чтоб отомстить. - Я, кажется, могу помочь вам, Уильямс... Стив Уильямс посмотрел на меня как на сумасшедшего. Я встал из кресла и пошел к шкафу, где висела моя куртка. Залез в правый карман и нащупал патрон, найденный на полянке. Подошел к Стиву Уильямсу почти вплотную и протянул ему кулак. Он недоумевающе смотрел то на меня, то на стиснутые пальцы, удерживающие что-то. Сердце у меня захлебывалось в груди. Я медленно разжал кулак. Уильямса точно подбросило на месте. - Откуда у вас это? - вскричал он, выхватив патрон. Подскочил поближе к настенному бра и крутил его, едва не обнюхивая. - Откуда?! - С Уайтфейс, - сказал я и коротко рассказал о приключении в горах, о вытоптанной полянке и гильзах, валявшихся в снегу. - Теперь бы их ни за что не найти, там снегу намело... - проговорил, углубившись в собственные мысли, Уильямс. - Так вот где они выбрали местечко... тем лучше... тем лучше... Да, но как я сам найду его? Уильямс повернулся ко мне. - Сэр... мистер Романько... понимаю, что вы... - Я тоже любил Дика Грегори, Уильямс, я покажу, где это место. Только нам понадобятся лыжи - вам и мне. Завтра на рассвете мы отправимся в путь, потому что мне непременно нужно быть на открытии олимпиады... и даже чуть раньше. - В шесть утра машина будет ждать внизу - у магазина "Адидас" знаете? - Знаю... День тринадцатого февраля выдался ветреным, мороз пробирал, несмотря на то, что солнце выглянуло с самого раннего утра; я долго не мог отогреться, меня лихорадило. Но, видно, дело не в погоде - не в ней одной, во всяком случае. Лейк-Плэсид, еще вчера мрачный и недовольный, сегодня шумно праздновал начало волнующего, радостного и чуть-чуть ярмарочного двухнеделья, знаменовавшего очередные зимние Олимпийские игры: толпы людей переполнили улицы, и машины отступили перед этим человеческим нашествием, без движения застыли вдоль обочин дорог, а то и посередине, их обтекали живые реки и уносились прочь. Лица у людей добрые, веселые, не сыщешь разочарованной или скучной физиономии. Играли, не переставая, оркестры, бессильные перед человеческой лавиной полицейские давно перестали руководить движением и лишь подсказывали, куда лучше свернуть, чтобы попасть на нужную трибуну на стадионе, где вот-вот начнется церемония открытия Игр. Нас с Наташкой толкали, со смехом извинялись, кого-то толкали мы, и Натали еще теснее прижималась ко мне. В этом вавилонском столпотворении еще острее чувствовали, как мы нужны друг другу. - Ты меня любишь? - вдруг спросила Наташка. - Мне без тебя просто нет жизни, - сказал я, и в этом не было ни грамма преувеличения. Хотелось рассказать, как вдруг меня охватила тревога там, на Уайтфейс, застала врасплох, и я остановился на полдороге, и Уильямс, едва не налетевший на меня на полной скорости, сумел затормозить и бросился, быстро-быстро перепрыгивая на лыжах, вверх, ко мне. Глаза его хищно ощупывали склоны гор, ища опасность. "Что?" - вскричал он. "Нет, ничего, сердце зашлось, наверное, от скорости..." Он успокоился, но я-то знал, что не от скорости: внезапно с пронзительной ясностью увидел Наташку и подумал: "Да как же она без меня?" И не свойственный людям эгоизм, не чувство собственника, осознавшего, что он может потерять самое ценное, не страх сковали меня на горе каким-то душевным параличом, - я понял, как велика моя любовь к Наташе. Наверно, подобное чувство испытывает человек, бесконечно долго пробиравшийся по раскаленной пустыне и, завидев зеркальце родниковой воды, вдруг осознавший, что ему не дано сделать эти несколько последних шагов. Я понимал всю рискованность нашего появления на горе... "Полегчало?" спросил Уильямс. "Да". Он поправил на спине спальный мешок и проверил пояс. Мы вновь понеслись вниз, никем не замеченные, потому что люди собрались внизу, в Лейк-Плэсиде, готовились к торжеству открытия... - Ты совсем не смотришь под ноги, - сказала Наташка. - Зачем? У меня есть поводырь. - Нет, на роль поводыря я не согласна. - Отчего же? - Это подразумевает зависимость одного от другого. - Что ж в этом плохого? - продолжал я разыгрывать Наташку. - Если один человек зависит от другого, он теряет самого себя. Я люблю тебя больше жизни, хотя бы потому, что не представляю ее без тебя... Но мы должны быть единым целым, раствориться друг в друге... - Ты у меня еще и философ... - Что поделаешь: с кем поведешься, - в тон мне ответила Наташка. Мы отыскали свои места на трибуне. Ветер свободно гулял в ажурных конструкциях. Я подумал, что Стиву Уильямсу сейчас не позавидуешь - там, наверное, бушует пурга, снег молочной пеленой затягивает склоны, и нелегко различить черную фигуру, выходящую из лесу. Но нет, Уильямс не упустит своего шанса, не промахнется - в этом я был уверен. Подумал о странном, почти фантастическом скрещении путей наших и пожелал Стиву - в какой уже раз! - удачи. - Олег, хелло! - Еще не обернувшись, узнал Сержа. - Хелло, старина! Вот мы с тобой дожили еще до одной олимпиады разве это не здорово? - Прав, как всегда! Казалось, сколько их, прекрасных красавиц, мы перевидели на своем веку... - Серж коварно улыбнулся, бросив исподлобья взгляд в сторону Наташки, но, уловив мое изменившееся выражение лица, поспешил добавить: - ...красавиц олимпиад, а все же всякий раз волнуешься, как новичок! - Это Наташа, познакомься, - сказал я, и Натали улыбнулась моему другу такой обворожительной улыбкой, что Сержа бросило в краску. - Моя Натали! - сказал я твердо. Серж уловил тайный смысл слов и одобряюще подмигнул. - Вы прекрасны, девушка! - сказал он, и теперь покраснела Наташка, а я потерял дар речи, потому что никак не ожидал такого от Сержа - балагура, отличного репортера, неунывающего человека, никогда прежде и словом не обмолвившегося о женщине. - Завтра, Серж, может, послезавтра, я расскажу тебе кое-что интересное... - Ты не шутишь? - В нем сразу проснулся охотник за новостями. - Нет. - И ты, как мы давно уговорились, никому ни слова, о'кей? - Ты узнаешь обо всем первым, мы ведь с тобой - не конкуренты, не правда ли, Серж? - Еще бы! - заулыбался он, но все же настороженно спросил: - Надеюсь, мне не придется разыскивать тебя на кладбище? - закончил он вопросом, напоминавшим мне нашу монреальскую одиссею. - На каком кладбище? - обеспокоенно спросила Наташка. - Автомобильном. Я расскажу тебе, Малыш, как-нибудь о той давней истории... Ведь времени у нас будет теперь предостаточно. Начался парад, пошли делегации, и сразу стало жарко - ледяной ветер лишь приятно обдувал разгоряченные лица. Что таится в них, в Олимпийских играх, возрожденных Пьером де Кубертеном, добрым человеком с парижской улицы Удино, где - я представил себе - осенью тихо кружатся золотые каштановые листья и незримо живет дух человека, заглянувшего в будущее? Теперь тысячи и миллионы живут в этом прекрасном настоящем, потому что здесь, на Играх, человечество словно обретает себя в нашем сложном мире. Разве найдется хоть один честный человек, хоть раз испытавший на себе объединяющее и вдохновляющее влияние олимпиады, который бы сказал, что это никому не нужно? Вот потому-то в этот самый миг и заряжает свою винтовку с оптическим прицелом некто с пустыми глазами и целится, целится... в нас с вами, в наше будущее, в наши мечты. И когда олимпийский огонь, набирая силу, разгорался в чаше, медленно поднимавшейся вверх, к солнцу и белым облакам, я крепко прижался к Натали, к моей единственной и вечной Натали.Кошечкин Георгий. Бриллиант раджи Сальников Николай. Тревога на рассвете
ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА
Григорий Кошечкин БРИЛЛИАНТ РАДЖИ Повесть
ЭТОТ субботний вечер ничем не отличался от остальных дней недели. Дежурная часть городского управления внутренних дел жила своей обычной жизнью, не знающей спадов, зависящих от времени суток, чутко прислушиваясь к пульсу огромного города. В приемной помощника дежурного по городу майор милиции Муравьев подводил итоги уходящего дня. Вечерняя прохлада вливалась в окно кабинета. Было тихо. Неожиданно дверь приемной распахнулась, на пороге появился взволнованный мужчина лет двадцати пяти. Увидев Муравьева, он почти бегом направился в его сторону. — Товарищ майор!.. — послышался дрожащий голос. — Что случилось? — Муравьев оторвался от лежащих перед ним бумаг. Посетитель едва ли не плакал. — Все деньги отдал… говорили, что бриллиант… а вместо него стекляшку подсунули!.. — Успокойтесь, — решительно потребовал майор. И, выдержав паузу, уже мягче спросил: — Когда это случилось? — Утром… — Почему сразу не пришли? — Да я сразу-то не сообразил к оценщику пойти…В ЭТОТ город Сергей Пыжлов приезжал уже в четвертый раз. Прямо с вокзала он обычно сразу же ехал в комиссионный магазин по продаже автомобилей. Его мечтой было приобрести «Жигули». Он подолгу слонялся по живописным автомобильным рядам, прислушивался к разговорам, иногда торговался, но так ничего пока не подобрал. Машины были, да все неподходящие: то на краске червоточинка завелась, то резина старовата, то еще чего. Не брать же первую попавшуюся. Денег поднакопил достаточно. Можно выбрать то, что нравится, — даже цвет кузова. Тут торопливость ни к чему. Поспешишь — людей насмешишь… В коридоре вагона послышался голос проводницы, объявлявшей о скором прибытии на конечную остановку. Сергей быстро переложил бумажник из брюк, в которых спал, в пиджак, заколол карман английской булавкой и стал собираться. Едва поезд остановился, Пыжлов торопливо сошел на перрон и зашагал к зданию вокзала. Надо было спешить. Ведь кроме покупки автомобиля приходилось думать, как покрыть путевые расходы. Не ближний свет пятый раз сюда катать. Считай, не одна сотня на разъездах набежала. Эх, купить бы какого дефициту да и перепродать: джинсы или это… как его… сафари. Будут ботинки на высоком каблуке — и их можно. С руками оторвут, только покажи… Решив подкрепиться перед обещавшим быть суматошным днем, Сергей забежал в вокзальный буфет. Расположился за круглым столиком в уголке. Поглощая холодную курицу и запивая ее кофе, Сергей обратил внимание на парня, стоящего по соседству. Тот что-то искал в спортивной сумке, и Сергей успел заметить, как в ее недрах мелькнули новенькие джинсы. Чувствуя, что их владелец вот-вот уйдет, Сергей придвинулся к нему. — Привет, друг! Парень поднял глаза и, словно только и ожидал Сергея, улыбнулся: — Здорово! Сергей кивнул на сумку. — Не скажешь, где брючата купил? — Это джинсы-то «брючата»? Сказанул. — Продай, а? — Не могу. Сам с трудом достал… — Тогда хоть присоветуй, где такие купить? — У студентов-иностранцев можно попытаться. Они со мной в общежитии живут. Иногда кое-что продают. Сергей обрадовался. — Слушай, друг, познакомь меня с каким-нибудь. Может, и мне повезет. Не думай — за мной не пропадет. — Не могу, извини. На лекцию опаздываю. — А вечером? — Времени нет. После лекции сразу в библиотеку. — Может, днем, перед библиотекой? Я сейчас в автомагазин, а потом подъеду, куда скажешь. — Машину покупаешь? — «Жигули». Хочу последнюю модель присмотреть. — О-о! Будь здоров! — уважительно отозвался парень и задумался. — Конечно, негоже учебный год с прогулов начинать, да что с тобой поделаешь. Уговорил. Едем быстро в общежитие. Только я сейчас приятелю позвоню, чтоб он меня в журнале посещений лекций отметил. — Как тебя зовут? — не смог скрыть радость Сергей, стаскивая с крючка под стойкой свой портфель. — Аликом. — Меня Серегой. Айда! Они вышли на площадь перед вокзалом. Алик направился в ближайшую телефонную будку, переговорил с приятелем. Появился довольный: — Все в порядке. Трогаем! В такси, взять которое настоял Сергей, ехали молча. Пыжлов уже начал обдумывать, кому же он сбудет купленные джинсы и все остальное, что сможет приобрести… Его размышления прервал голос Алика. Нагнувшись через спинку сиденья, он сказал водителю: — Вот на этом углу, пожалуйста… Алик, несмотря на свой небольшой рост, шагал широкими шагами. Сергей еле поспевал за ним. Возле попавшейся им на пути гостиницы «Интурист» он невольно приостановился, пропуская выходившую из подъезда группу оживленно переговаривающихся иностранцев. Они пересекли тротуар, направляясь в автобус. Женщина-гид, смеясь, что-то говорила в микрофон, обращаясь к туристам, уже расположившимся в салоне. Идущий поодаль от группы высокий парень в потертых джинсах и меховой распахнутой безрукавке, сплошь увешанной значками, вдруг остановился, поглядел по сторонам, а затем нерешительно обратился к Сергею, оказавшемуся в этот момент перед ним. — Я отшень извьиняйт. — Акцент сразу выдал в нем немца. — Ви не скажет, где есть можно продать драгоценность? Студент, видно, тоже услышал голос немца. Он обернулся и быстро подошел к ним. — Пойдем, пойдем, — он взял Сергея за рукав. — И так времени нет… — Погодь, он хочет продать драгоценность. — О, я отшень и отшень извьиняйт, — повторил немец, уже обращаясь к Алику. — Я хотель продать бриллиант. — Вы ищете скупку? — Скупко, скупко, — закивал иностранец. Алик начал было объяснять, как пройти к пункту скупки изделий из драгоценных металлов, а затем, будто что-то вдруг решив, вопросительно посмотрел на Сергея. — Зачем скупка? Может, я… вернее, мы приобретем? — О, гешефт? — Немец широко улыбнулся и достал из кармана небольшую темно-зеленую коробку. В ней лежали несколько золотых колец с рубинами, массивный отливавший краснотой мужской перстень-печатка с готической монограммой, еще что-то. Немец вынул оттуда и положил на ладонь камень. Это был изумительной красоты бриллиант. — За сколько… вы хотите… продать?.. — У Алика даже голос сел от волнения. — О, майн гот! Я не хотель продать памьять свой дед, но мне нужен совьетский киноаппаратур. Зер гут! Я затрудняйс зи шпрехен цена… ну восьм… десьят тысяча рубель. — Он неопределенно пожал плечами. Услышав сумму, Сергей даже зажмурился: — Ничего себе, целый автомобиль! Алик тихо сказал: — Голову на отсечение, немец не представляет настоящей ценности камня… Но и Пыжлов в этом нисколько не сомневался. Не так давно в его присутствии один приятель заплатил большие деньги за неказистое колечко с махоньким алмазиком, всего с булавочную головку. А этот… Вот бы купить! Он незаметно пощупал локтем карман в котором был бумажник. — Дайте взглянуть. Если камень стоящий — мы возьмем, — сказал вдруг Алик. Немец нехотя, словно в чем-то сомневаясь, протянул камень Алику. — Это есть Индия… Калькутта. Мой дед… как сказать… — Он защелкал пальцами, подбирая нужное слово. — Официрен… арбайт у индийской… э… раджа. Это есть подарок за хороший служба. — Но он расколот, — промолвил Алик, разглядывая плоскость с одной стороны камня. — И будь здоров как! — Так, так, — закивал турист. — Когда-то биль гросс, отшень много карат. Он треснуль, я даваль остаток. — Немец бережно опустил камень обратно в коробку. — Купим? — Алик вопросительно глянул на Пыжлова. Сергей в ответ пожал плечами: — Надо б оценить, — произнес он, движимый неуверенностью и огромным желанием овладеть осколком подарка индийского раджи. И Алик решился. — Мы возьмем камень и покажем оценщику. О цене договоримся потом. По-другому купить не можем. — Я хотель залог… — Сколько? — Пьять тысяча. — Даем? — спросил Алик Сергея. Пыжлов будто всем телом ощутил в нагрудном кармане пачку денег, отложенных на автомобиль, и отчаянно соврал: — С собой не взял, надо в сберкассу сгонять. Алик недоверчиво нахмурился. — Как хочешь. Я сам заплачу. — И повернулся к немцу: — У меня всего полторы тысячи. Через два часа встретимся на этом месте. Опасаясь, что тот его не поймет, показал туристу часы и ногтем отчеркнул цифру десять. Однако немец засомневался. Залог в полторы тысячи рублей показался ему явно недостаточным. — Это есть мало. Битте залог паспорт. Я хочу знайт, кто есть ви. — А, черт с тобой! — решился Алик, переходя с иностранцем на «ты». — Бери и паспорт, да смотри не потеряй. …В такси Алик пригнулся и деловито зашептал Сергею: — Я знаю одного ювелира — толковый мужик. Перстень мне делал — двадцать два грамма девяносто шестой пробы. Попросим его оценить, и будь здоров. Для верности сначала заскочим к нему домой, не застанем — на работу. Вскоре машина свернула на узкую улицу с высокими старинными домами. Алик глянул по сторонам, попросил шофера ехать помедленней. — Стой! По-моему, здесь! Они расплатились и вышли из автомобиля. — Вот этот дом! Шестой этаж. Они вбежали в подъезд, чуть не сбив женщину, подметавшую площадку. Извинившись, Алик устремился наверх. Сергеи за ним. На третьем этаже навстречу им попался солидный пожилой мужчина с аккуратной бородкой. — Так это же он! — вдруг спохватился Алик, когда они поднялись еще на этаж. — Темно тут после улицы, я его сразу не узнал. Они ринулись вниз. — Федор Борисович! Подождите! Мужчина, стоявший с газетой в руке возле почтовых ящиков, посмотрел поверх очков в их сторону и удивленно вымолвил: — Алик! Какими судьбами? — К вам, Федор Борисович! — Потом, потом, по дороге расскажешь. — Поднеся палец к губам, мужчина показал глазами в сторону уборщицы. Затем окликнул ее: — Полина! — Чего, Федор Борисович? — Женщина перестала мести, выпрямилась. — Полина, у меня к тебе просьба. Я дома буду в семь. Ты не уберешься в квартире к моему возвращению? — Для вас с большим удовольствием. — Тогда держи. — Федор Борисович покопался в кармане, достал связку ключей и, сняв с колечка один, передал ей, приложив к нему три рубля. — Не беспокойтесь. — Уборщица опустила ключ и деньги в передник. На улице Федор Борисович глянул на Алика. — С чем пришел? — Камешек надо оценить. Будь здоров камешек! — Ну, ну, посмотрим. Обогнув здание, они пересекли скверик, выбрали дальнюю лавочку.
 Алик достал камень, и Сергей заметил, как задрожали пальцы Федора Борисовича, когда он увидел бриллиант. Правая рука словно автоматически опустилась в карман, извлекла маленькую сильную лупу в перламутровой оправе.
Наконец Федор Борисович оторвался от лупы и с минуту молча любовался изумительными световыми переливами. Потом медленно повернулся к Сергею.
— Ваш камень?
Сергей замялся, не зная, что ответить. Но Федор Борисович, видно, понял без слов.
— Жаль. Были бы богатым человеком. — Он откинулся на спинку скамейки. — Это, ребята, индийский бриллиант чистейшей воды. Похоже, с калькуттских алмазных копей. Он когда-то составлял единое целое с крупным бриллиантом не менее девяносто карат, но, к сожалению, был расколот по плоскости спайности…
— Сколько же он стоит? — нетерпеливо поинтересовался Алик.
— Не буду играть с вами в темную. Продайте камень мне. Учитывая дефект, плачу не очень много, но… двадцать пять тысяч дам. Десять хоть сию минуту. — Толстые пальцы ювелира, украшенные массивным золотым перстнем, извлекли кожаный бумажник, и Сергеи увидел в одном из отделений пачку сторублевых купюр в банковской упаковке. Остальные вечером.
Названная сумма, видно, так огорошила Алика, что он стал заикаться.
— Н-н-нет, н-не могу.
Сергей растерянно смотрел на ювелира. Только сейчас он почувствовал всю безмерность своей глупости. Ведь он не заплатил за камень ни копейки. Алик вообще может не взять в долю и будет прав.
— Решайте. — Федор Борисович достал сигареты, закурил. — Надумаете — приходите ко мне. Квартира сорок вторая. Деньги тут же из рук в руки. Я не прощаюсь. — Ювелир поднялся и, сутулясь, пошел по дорожке.
Взрыв произошел сразу же, как только Федор Борисович скрылся за углом. Сергей толкнул Алика в плечо:
— Какого черта ты не продал? Поделили бы деньги, немца побоку…
— А ты чего? — зло сказал Алик. — Ты хоть червонец дал на дело, чтоб делить? Немца побоку!.. Ты вспомни, паспорт у него чей остался? Скупердяй чертов! Видите ли, денег у него нет. А машину на что собирался купить? Не пожалел бы трех тысяч, и бриллиант, будь здоров, наш был бы…
Препираясь, они и не заметили, как оказались на улице. Первым пошел на примирение Алик.
— Кончай базарить. Все одно поздно. Давай подумаем, как быть дальше. Турист уж небось заждался, икру мечет… К Федору Борисовичу вернемся, когда заплатим немцу деньги и заберем мой паспорт.
— Скольку немцу-то платить?
— Семь тысяч за глаза хватит, — ответил Алик. — Скажем, больше не дают. Кстати, если у тебя нет денег, — я найду. Но тогда — будь здоров! Понял?
Сергей ответил с готовностью:
— Свою долю внесу.
Когда Алик с Сергеем добрались до места встречи, немец со всех ног бросился к ним.
— Зашем ви обманываль? Ви опоздаль на целый час. Битте, ваш залог. Я не иметь дел с нетшестный человек!
— Что вы кричите? Мы же не сбежали.
— Я благодарен ваш сервис, — высокомерно сказал он. — Услюг больше не нуждаюсь. Я уже нашел покупатель. За камень будут платить десьят тысяч рубель.
— Сколько? — деланно изумляясь, протянул Алик и незаметно подмигнул Сергею.
— Мы ходили к оценщику. На вашем камне есть трещина, снижающая стоимость. Больше девяти тысяч дать за него не можем.
Цена, названная Аликом, превосходила обговоренную. Сергеи хотел было вмешаться в разговор, сказать, что не согласен, но, вспомнив о двадцати пяти тысячах, обещанных старым ювелиром, махнул рукой.
— Ну хорошо, — неожиданно согласился немец. — Я есть много спешить…
Они отошли в малолюдное место. Алик пересчитал свои полторы тысячи, возвращенные иностранцем. Сергей помялся, вспомнив, как он обманул Алика, сказав, что у него денег при себе нет, и достал бумажник. Купюры уже были разложены по тысячам. Отсчитав восемь таких пачек, он вытащил из одной пять сотен, опустил их в карман брюк. Остальные протянул Алику.
— Можешь не считать, семь пятьсот.
Получив деньги и отдав камень, турист распрощался. Переждав минуту-другую, Алик сказал:
— Жмем к Федору Борисовичу. Продаем ему подарок раджи за двадцать пять тысяч и будь здоров! — Он хитро засмеялся. — Не было ни гроша — да вдруг алтын. Камешек я спрячу, ненароком не потерять бы.
— Погоди, не прячь. Давай-ка его мне, я больше платил.
Студент смерил его подозрительным взглядом.
— Что ж, будь здоров, тащи сам. Все равно барыш поделим поровну. Верно ведь?
Они шли по улице. Алик по-прежнему впереди. Сергей за ним еле поспевал. И чем дальше он уходил от гостиницы, тем больше изначальное чувство признательности к Алику, взявшему его в долю, подавлялось невесть откуда наплывающим раздражением. Хитрец! Из девяти сунул немцу только полторы тысячи, а барыш норовит поровну. Уж не думает ли за знакомство с Федором Борисовичем сорвать? И Сергея внезапно озарило. Зачем ему нужен Федор Борисович? Неужто на нем свет клином сошелся? Бриллиант продать любому ювелиру можно. И двадцать пять тысяч ни с кем делить не придется.
А Алик уходил все дальше. И тут подвернувшийся проходной двор подвел итог рассуждений Пыжлова. Он бросил последний взгляд в спину Алику и метнулся в подворотню.
Алик достал камень, и Сергей заметил, как задрожали пальцы Федора Борисовича, когда он увидел бриллиант. Правая рука словно автоматически опустилась в карман, извлекла маленькую сильную лупу в перламутровой оправе.
Наконец Федор Борисович оторвался от лупы и с минуту молча любовался изумительными световыми переливами. Потом медленно повернулся к Сергею.
— Ваш камень?
Сергей замялся, не зная, что ответить. Но Федор Борисович, видно, понял без слов.
— Жаль. Были бы богатым человеком. — Он откинулся на спинку скамейки. — Это, ребята, индийский бриллиант чистейшей воды. Похоже, с калькуттских алмазных копей. Он когда-то составлял единое целое с крупным бриллиантом не менее девяносто карат, но, к сожалению, был расколот по плоскости спайности…
— Сколько же он стоит? — нетерпеливо поинтересовался Алик.
— Не буду играть с вами в темную. Продайте камень мне. Учитывая дефект, плачу не очень много, но… двадцать пять тысяч дам. Десять хоть сию минуту. — Толстые пальцы ювелира, украшенные массивным золотым перстнем, извлекли кожаный бумажник, и Сергеи увидел в одном из отделений пачку сторублевых купюр в банковской упаковке. Остальные вечером.
Названная сумма, видно, так огорошила Алика, что он стал заикаться.
— Н-н-нет, н-не могу.
Сергей растерянно смотрел на ювелира. Только сейчас он почувствовал всю безмерность своей глупости. Ведь он не заплатил за камень ни копейки. Алик вообще может не взять в долю и будет прав.
— Решайте. — Федор Борисович достал сигареты, закурил. — Надумаете — приходите ко мне. Квартира сорок вторая. Деньги тут же из рук в руки. Я не прощаюсь. — Ювелир поднялся и, сутулясь, пошел по дорожке.
Взрыв произошел сразу же, как только Федор Борисович скрылся за углом. Сергей толкнул Алика в плечо:
— Какого черта ты не продал? Поделили бы деньги, немца побоку…
— А ты чего? — зло сказал Алик. — Ты хоть червонец дал на дело, чтоб делить? Немца побоку!.. Ты вспомни, паспорт у него чей остался? Скупердяй чертов! Видите ли, денег у него нет. А машину на что собирался купить? Не пожалел бы трех тысяч, и бриллиант, будь здоров, наш был бы…
Препираясь, они и не заметили, как оказались на улице. Первым пошел на примирение Алик.
— Кончай базарить. Все одно поздно. Давай подумаем, как быть дальше. Турист уж небось заждался, икру мечет… К Федору Борисовичу вернемся, когда заплатим немцу деньги и заберем мой паспорт.
— Скольку немцу-то платить?
— Семь тысяч за глаза хватит, — ответил Алик. — Скажем, больше не дают. Кстати, если у тебя нет денег, — я найду. Но тогда — будь здоров! Понял?
Сергей ответил с готовностью:
— Свою долю внесу.
Когда Алик с Сергеем добрались до места встречи, немец со всех ног бросился к ним.
— Зашем ви обманываль? Ви опоздаль на целый час. Битте, ваш залог. Я не иметь дел с нетшестный человек!
— Что вы кричите? Мы же не сбежали.
— Я благодарен ваш сервис, — высокомерно сказал он. — Услюг больше не нуждаюсь. Я уже нашел покупатель. За камень будут платить десьят тысяч рубель.
— Сколько? — деланно изумляясь, протянул Алик и незаметно подмигнул Сергею.
— Мы ходили к оценщику. На вашем камне есть трещина, снижающая стоимость. Больше девяти тысяч дать за него не можем.
Цена, названная Аликом, превосходила обговоренную. Сергеи хотел было вмешаться в разговор, сказать, что не согласен, но, вспомнив о двадцати пяти тысячах, обещанных старым ювелиром, махнул рукой.
— Ну хорошо, — неожиданно согласился немец. — Я есть много спешить…
Они отошли в малолюдное место. Алик пересчитал свои полторы тысячи, возвращенные иностранцем. Сергей помялся, вспомнив, как он обманул Алика, сказав, что у него денег при себе нет, и достал бумажник. Купюры уже были разложены по тысячам. Отсчитав восемь таких пачек, он вытащил из одной пять сотен, опустил их в карман брюк. Остальные протянул Алику.
— Можешь не считать, семь пятьсот.
Получив деньги и отдав камень, турист распрощался. Переждав минуту-другую, Алик сказал:
— Жмем к Федору Борисовичу. Продаем ему подарок раджи за двадцать пять тысяч и будь здоров! — Он хитро засмеялся. — Не было ни гроша — да вдруг алтын. Камешек я спрячу, ненароком не потерять бы.
— Погоди, не прячь. Давай-ка его мне, я больше платил.
Студент смерил его подозрительным взглядом.
— Что ж, будь здоров, тащи сам. Все равно барыш поделим поровну. Верно ведь?
Они шли по улице. Алик по-прежнему впереди. Сергей за ним еле поспевал. И чем дальше он уходил от гостиницы, тем больше изначальное чувство признательности к Алику, взявшему его в долю, подавлялось невесть откуда наплывающим раздражением. Хитрец! Из девяти сунул немцу только полторы тысячи, а барыш норовит поровну. Уж не думает ли за знакомство с Федором Борисовичем сорвать? И Сергея внезапно озарило. Зачем ему нужен Федор Борисович? Неужто на нем свет клином сошелся? Бриллиант продать любому ювелиру можно. И двадцать пять тысяч ни с кем делить не придется.
А Алик уходил все дальше. И тут подвернувшийся проходной двор подвел итог рассуждений Пыжлова. Он бросил последний взгляд в спину Алику и метнулся в подворотню.
УЗНАВ, что в дежурную часть поступило заявление о мошенничестве, следователь капитан милиции Купашов попросил пригласить потерпевшего к себе и немедленно связался с майором милиции Решетовым, старшим инспектором уголовного розыска, вот уже много лет специализирующимся на раскрытии таких преступлений. …Пыжлов выглядел жалко. Взлохмаченные волосы, на потемневшем лице с бесцветными запавшими глазами выражение беспомощности. — Располагайтесь. — Капитан показал на стул. — Подождем немного, товарищ должен прийти. Тогда все и расскажете. Сергей сел, сжался. Его потерянный взгляд уперся в пол. Вскоре пришел майор Решетов. Он коротко глянул в сторону Пыжлова: — Он? — Да, — кивнул Купашов. — Что ж, послушаем молодого человека. …Сергей рассказывал бессвязно, путал места встреч, перескакивал с одного не другое, никак не мог припомнить в точности детали. Помогая ему восстановить картину происшедшего, офицеры вновь и вновь возвращали его к недавнему событию. — Можете показать место, где передавали деньги? — Возле гостиницы «Интурист» где-то.Попробую найти. — Из каких букв состояла монограмма на перстне Алика? Пыжлов виновато опустил глаза: — Не разглядел. — А у Федора Борисовича? — Не знаю. — Номера такси, фамилии водителей помните? Перед вашими глазами в машине была прикреплена табличка. — И на ум не взбрело… — Не было ли у них татуировки, родинок? Сергей отрицательно мотнул головой. — Вы не обратили внимания на особенности поведения Алика? — Ничего особенного… Так, шплинт вертлявый. — А других: Федора Борисовича, иностранца, уборщицы? Сергей молчал. — Бывает, — попытался помочь ему Решетов, — люди горбятся, хромают и этим выделяются среди других. Или в разговоре картавят, жестикулируют, присказки не к месту произносят… — Ничего такого вроде не приметил. Говорят, как все… — Хорошо, — вздохнул следователь. — Номер квартиры ювелира вы сообщили. А дом? Улица? Пыжлов уже в который раз вытер взмокший лоб. — К чему мне? Думал, поеду вместе с Аликом. Я у вас в городе плохо ориентируюсь. — А сами от него сбежали. Сергей промолчал. Решетов хмуро посмотрел на него. — Эх, Пыжлов. Вот вы считаете себя обиженным, обманутым. А ведь в лапы мошенников вас толкнуло желание нажиться. Будь на месте одного из них настоящий иностранец, он бы, выходит, начал знакомиться с нашей страной с вашего обмана. Все к тому, как вы думали, и шло. — Майор встал и добавил: — Подождите нас в приемной. Поедем все вместе искать улицу, где живет ваш «ювелир».
УЖЕ ПЯТЬ часов они колесили по городу, отыскивая место, где произошла встреча с «ювелиром». Еще в самом начале поездки капитан спросил Сергея: — Долго от гостиницы ехали? — Минут пятнадцать — двадцать, не больше. Да у светофоров стояли. «Где-то рядом, километрах в десяти, примерно», — отметил про себя Решетов и, проверяя догадку, поинтересовался: — Шоферу такси сколько заплатили? — Когда туда ехали, Алик рубля два выложил. А сколько набило, не знаю. — А обратно? — Столько же, не больше. Пыжлов говорил, чувствуя на себе сосредоточенные взгляды работников милиции. — Отсюда поехали прямо, — он показал в сторону железнодорожного вокзала. — Потом направо, мимо низеньких домишек… Видел трамваи… хлебозавод… железная дорога слева… а, может справа… Оставалось разыскивать, надеясь на наблюдательность Пыжлова. Каждый раз, двигаясь по новому маршруту, Купашов с надеждой смотрел на Сергея: вдруг узнает какой-либо ориентир? Время бежало, а результатов не было. С наступлением ночи город пустел на глазах. Поубавилось пешеходов, схлынули потоки машин. Внезапно погасла часть уличных фонарей. Жилые массивы распались на отдельные дома, зеленые зоны. Поиски продолжались. Каждый раз Пыжлов, выходя во время коротких остановок, возвращался и говорил: — Не здесь. Последний раз Сергей ходил очень долго. Озираясь и вытягивая шею, будто принюхиваясь, он обошел большие здания, как бы нависшие над сквериком, а вернувшись, виновато произнес: — Может, на сегодня хватит? Замучил я вас. Купашов понял: парень выдохся, находится на последнем пределе своих возможностей. Вести розыски дальше не имело смысла. Он обернулся к Решетову: — Павел Васильевич, Пыжлов прав. В такой темени можно проехать мимо и не заметить. — Ну, что ж, — пробурчал майор, — продолжим завтра с девяти.
ПОИСК возобновили, как и условились, с утра. Купашов на сей раз не поехал. Начали опять от гостиницы «Интурист». Решетов опустился на заднее сиденье. Пыжлову предложил сесть рядом с водителем: там виднее. Вырвавшись из плотного транспортного потока на магистрали, машина свернула на улицу потише. Майор слегка тронул Пыжлова. — Слева бани. Не они? — Нет. «Волга» неторопливо катила по улице. Сергея вдруг заинтересовал появившийся впереди переулок. Что-то в нем показалось знакомым: то ли овощной киоск на углу, а может, старые деревья вдоль тротуаров. — Свернем, а? — обратился он к водителю. Не миновала машина и ста метров, как Сергей возбужденно закричал. — Вот он! Тормозите! Видите дверь с выбитым стеклом? Сергей повернулся к майору. Ему было удивительно, что Решетов не выразил своей радости по этому поводу. Хлопнув дверцей, Сергеи было рванулся к знакомому подъезду. Однако его догнал резкий окрик майора: — Куда?! — В сорок вторую квартиру. — А зачем? — спокойно спросил Решетов. Пыжлов остановился, медленно обернулся. — Вы думаете, он… не живет здесь? — Уверен. И вообще, нужно меньше суетиться. Давайте договоримся, от меня ни на шаг. А для порядка сначала заглянем в жэк. В жилищно-эксплуатационной конторе, расположенной на соседней улице в двухэтажной пристройке, они застали техника-смотрителя, невысокую женщину лет сорока. — Розанова Фаина Александровна, — представилась она. — Чем могу помочь? — Скажите, кто проживает в сорок второй квартире в восьмом доме? — Одну минуту. Она раскрыла шкаф, выдвинула ящик с лицевыми счетами, вытащила карточку, перечеркнутую крест-накрест красным карандашом. — В сорок второй — никто. Ответственный квартиросъемщик полгода назад умер. Квартира опечатана. Решетов чуть насмешливо посмотрел на Пыжлова. — У вас еще что-нибудь? — поинтересовалась Розанова, видя, что майор не уходит, раздумывает. — Да. Кто в восьмом доме убирает подъезды? — Наша дворник Масличкина. — Как ее зовут? Не Полиной, случайно? — Татьяна Герасимовна. — Ясно. — И майор вновь кинул взгляд на Сергея. — Где она живет? — В том же доме, квартира пятьдесят третья. — Я попрошу вас об одолжении. Проводите нас к ней.
…В пятьдесят третьей квартире, судя по всему, кипела «битва». Даже на лестничной площадке были слышны воинственные клики, треск игрушечных автоматов и беспрестанный топот детских ног. — На голове ходят, — засмеялась Розанова. Она сильно постучала в дверь, потом еще. — У Масличкиной всегда так. С ума сойти — шесть внуков! Щелкнул открываемый замок, и Решетов увидел полную пожилую женщину в фартуке и с ремнем в руках. — Фаина Александровна! Здравствуй, миленькая! Ой, да ты не одна, — протянула она. — Товарищи из милиции. Поговорить с тобой хотят. — Пожалуйста, заходите. Переступив порог, Решетов вдруг заметил, как лицо Татьяны Герасимовны удивленно вытянулось, едва ее взгляд упал на Пыжлова. — Фая, и этот тоже… из милиции? — она кивнула в сторону Сергея. — Из милиции я, — Решетов предъявил удостоверение. — А это — потерпевший. — Потерпевший? — Она сострадательно покачала головой. — Я так понял, что вы уже раньше с ним встречались. — Ну да! Если вам и впрямь охота послушать, я расскажу… Вчера, как Игорька уложила днем в постель, я со Славиком, другим внучком, вышла погулять. Славик в песке копается, куличи делает. Глядь, а за кустами появляются трое. Они мне и ни к чему, да говорили-то больно уж громко. — О чем они говорили? — Я не очень прислушивалась. Парень, Аликом его называли, бриллиант продавал. Видать, хороший, из Индии. За сколько, не скажу — на языке все тыщи, тыщи. Мужчина хотел купить, за ценой не стоял. А вот этот «пострадавший» — он ко мне лицом стоял Алика все подбивал отдать и не торговаться. Я их разговоры было приняла за чистую монету. Уж потом в разум вошла — аферисты собрались. — Почему вы так решили? — удивился майор наблюдательности женщины. — Да как же! Мужчина за деньгами зовет к себе домой в сорок вторую квартиру, а сам отродясь в ней не жил. Честный человек разве выдаст чужое жилье за свое? Ничего у них не вышло. Алик понял, что его объегорить хотят, и бриллиант не продал. Уж как потом вот этот, — она кивнула на Сергея, — Алика костерил. Дескать, хорошую цену давали. Чуть не подрались. — Татьяна Герасимовна, вы не могли бы описать тех двух? — Нет. Спиной ко мне они сидели… — Дворник виновато замялась. — Уж простите меня, старую. Никак в толк не возьму. Охмуряли Алика, а в пострадавших другой оказался. Ишь ведь как бывает. — Бывает, — коротко согласился Павел Васильевич, но объяснять ничего не стал. Они вышли из сумрачного подъезда. Решетов неторопливо достал сигарету, прикурил и, сделав глубокую затяжку, попросил: — Покажите, где торговались. — И уже на детской площадке поинтересовался: — Дрались здесь? — Да не дрались мы! — Будем считать, повздорили. Суть не в этом. Меня интересует причина ссоры. — Из-за денег: почему, дескать, я иностранцу ни копейки не заплатил. Алик разорался и пригрозил: если я не внесу доли, то он, будь здоров, сам заплатит… Последняя фраза заставила Решетова насторожиться. Взгляд резко уперся в Пыжлова. — Как Алик сказал? Повторите! — разделяя слова, медленно переспросил он. — Он сказал… если я не внесу своей доли, то он, будь здоров… — Что же вы раньше молчали? — внезапно раздражаясь оборвал Сергея Решетов. — Я же спрашивал про их словечки, присказки… Едем в управление.
ВЕРНУВШИСЬ к себе, Решетов, не теряя времени, подготовил протокол опознания по фотографии, пригласил понятых, и Пыжлов опознал Алика. Им оказался дважды судимый за мошенничество Запрудный Петр Евдокимович по кличке Будьздоров. Информационный центр незамедлительно сообщил, что несколько месяцев назад он освобожден по отбытии срока наказания, однако к выбранному им месту жительства не прибыл до настоящего времени.
РЕШЕТОВ застал Купашова, когда следователь собирался в научно-технический отдел. Увидев инспектора, капитан воскликнул: — Павел Васильевич, дорогой, у меня для тебя новость! Из районов на нашу ориентировку подвезли два уголовных дела. Оказалось, есть еще такие же случаи. Способ мошенничества аналогичен. Та же цепочка: студент, иностранец, ювелир и женщина — уборщица подъезда. — «Бриллианты» исследовались? — По заключению экспертов, — это мастерски отшлифованные и ограненные осколки хрусталя. Исходным материалом послужила пепельница. — Ловкачи! — засмеялся Павел Васильевич. — Если их не остановить, они всю пепельницу распродадут таким вот пыжловым. — Кстати, как твоя поездка? Вспомнил Пыжлов что-нибудь? — Представьте себе, вспомнил. — Майор протянул следователю протокол опознания по фотографии и справку информационного центра. Прочитав, Купашов одобрительно хмыкнул. — Как ты вышел на Запрудного? — Его подвела привычка к месту и не к месту говорить «Будь здоров». Из-за этого и кличка прилипла. — Ты с ним встречался раньше? — Довелось. Я его задерживал несколько лет назад при попытке сбыть поддельные доллары. — Что он собой представляет? — Проходимец, — убежденно ответил Павел Васильевич, — пробы негде поставить. Да и дружки в ту пору у него подобрались такие же… — А кто, по твоему мнению, в его компании сейчас? Майор оживился. — Скорее, он в чьей-нибудь. Запрудный по натуре исполнитель. Им нужно обязательно руководить. У меня сложилось впечатление, что лидером является ювелир, называющий себя Федором Борисовичем. — У тебя есть предположения, кто это может быть? — К сожалению, только одни предположения. — На чем они основаны? — Когда ничего реального нет, говорят — на интуиции. Впрочем, кто бы этот ювелир ни был, у нас есть более реальная зацепка — Будьздоров. Через него выйдем на остальных. — Его самого еще нужно искать. — Найдем, — по-житейски просто ответил майор. — А для начала наведаюсь-ка я к одной своей старой знакомой.
ВЕЧЕРОМ похолодало. Было ветрено. Выйдя из автобуса, Решетов поднял воротник плаща и зашагал по бульварной аллее. Затем свернул на узкую улочку. Здесь стало потише, донимавший ветер ослаб. Через пару кварталов майор скользнул взглядом по верхнему этажу большого серого здания. Из знакомой квартиры сквозь плотные шторы пробивался свет. Хозяйка была дома. Высокие и от этого казавшиеся узкими окна напомнили Решетову, сколько бессонных ночей провел он со своими товарищами в окрестных переулках, чтобы выявить, а потом и обезвредить долго орудовавшую группу мошенников. Хозяйка квартиры Наталья Супрягина оказалась связанной с ними. …Беда к ней нагрянула неожиданно. В автомобильной катастрофе погибли отец и мать. Трагедия настолько потрясла девушку, что ее пришлось положить в больницу. Лишившись дорогих людей, Наташа затосковала, целиком уйдя в неизбывное горе. Помогли друзья, одноклассники, педагоги школы, где она проучилась десять лет. Ее навещали в больнице, после выписки помогли поступить в профессионально-техническое училище. Казалось бы, все складывалось нормально. Но как-то вечером на улице к ней подошел довольно симпатичный парень, попробовал вступить в разговор. Наташа попросила оставить ее в покое. Ухажер оказался настырным. На следующий день он встретил девушку возле автобуса, преподнес скромный букетик подснежников. Потом коробку недорогих конфет. Петр — так звали нового знакомого — представился аспирантом. Постепенно Наташа привыкла к тому, что она нужна, что ее ожидают в любую погоду. Однажды Петр пригласил ее в ресторан. Возвращались поздно. В эту ночь он впервые остался у нее. Вскоре Петр познакомил ее со своими друзьями, стал часто приглашать их в дом. Выпивки от случая к случаю превратились в попойки. «Красивая» жизнь выбила Наташу из колеи. За прогулы и неуспеваемость исключили из училища. Пошла работать, но и там не удержалась. Незаметно для себя Супрягина превратилась в тунеядку… Похмелье оказалось горьким. Только у следователя она узнала, что ее Петя никакой не аспирант, а мошенник. Она не была причастна к совершавшимся преступлениям, но среда засосала ее крепко. Надо было заставить Наташу взглянуть на себя со стороны, показать глубину падения и помочь выкарабкаться из ямы, в которую столкнул ее Запрудный. Помог ей в этом инспектор уголовного розыска Решетов. Любил ли ее Запрудный? Майор был убежден, что Запрудному нужна была лишь Наташина квартира, где бы он мог время от времени скрываться после очередного преступления. Но, находясь в местах лишения свободы, Петр продолжал переписываться с Наташей. Не мог он ее миновать и после последнего освобождения. На это и рассчитывал Решетов, направляясь к Супрягиной.
НАТАША опешила от неожиданности. В старом халатике, в стоптанных тапочках на босу ногу она стояла перед майором, прижав ладони к щекам. — Что ж не приглашаешь? — улыбнулся Решетов. — Павел Васильевич, милый, да вы что! Заходите. Прямо к чаю угодили. С хворостом. Сама напекла. Опомнившись от минутного замешательства, она решительно забрала у него шляпу, помогла снять плащ. — Мокрый-то! Давайте в ванную повешу, хоть немного подсохнет. Я уж к вам собиралась. — Никак стряслось что-нибудь? — Да нет. Похвастаться? Меня на Доску почета сфотографировали. В сентябре, — радостно сообщила она, появляясь из ванной уже в темном платье, — октябрьский план выполнила. На месяц с опережением. Таких на комбинате раз, два и обчелся. В нашем цеху всего шесть человек. Так что я, — Наташа горделиво передернула остренькими плечиками, — передовик производства. При всем честном народе премию вручили. Ее получить — ого-го! И вообще вы мной гордиться можете. Не подвела вас. Ой! Что же мы стоим! Схватив Решетова за рукав, она потащила его в комнату. Довольный и встречей, и тем, что у его бывшей подшефной все в порядке, он опустился в кресло возле журнального столика. Наташа мигом расстелила крохотную скатерку, поставила чашки, сахарницу, блюдо с хворостом. Убежала на кухню и оттуда все продолжала рассказывать о торжественной церемонии вручения премии во время обеденного перерыва. Пользуясь ее отсутствием, Решетов огляделся. Вокруг новая обстановка, за стеклом, в горке, хрусталь. На стене репродукции левитановской «Осени» и «Материнства» Пикассо. Через открытую дверь в другой комнате виден письменный стол с книгами. Небо и земля! Когда-то в этой квартире все было не так. Повсюду следы неухоженности, грязь, побитая мебель. По углам батареи пустых бутылок. Неужели сюда опять хочет вернуться Запрудный?.. Наташа появилась с кипящим самоварчиком. — Откуда у тебя книги? — Он кивнул в сторону смежной комнаты. — Ой! — просияла Наташа. — Совсем забыла! Я ведь в текстильный техникум поступила, по вечерам на второй курс хожу. Восторженным восклицаниям не было конца. Ее рассказ с лекций перескакивал на ткацкие машины, челноки, затем на семинары, а с них на пряжу, используемую для основы. Но чем дальше слушал Решетов, тем больше убеждался, что Наташа что-то недоговаривает. Настораживала несколько излишняя веселость, явная возбужденность. — Учеба-то — дело нужное, — вставил он, уловив паузу. — Нынче без нее нельзя. Сейчас тебя учат, потом, глядишь, и ты наставником для других будешь. — И как бы невзначай добавил: — А замуж-то когда? От него не ускользнуло, как дрогнула в ее руке ложечка, которой она размешивала сахар. — Не собираюсь, мне и одной неплохо, — ответила Наташа каким-то чужим, охрипшим голосом. — Почему это одной? А Петька? Разве ты его не ждешь? — Ждала. Думала устроить жизнь, как у всех людей… Да толку… — Что так?.. — Выгнала я его. — Не сдержавшись, она зарыдала, по-детски, кулачком размазывая побежавшие слезы. — С другой спутался… Решетов почувствовал себя беспомощным при виде ее слез. Он полез за сигаретами, но не закурил, а выложил перед собой. Наташа все не могла остановиться. Чтобы успокоить ее, майор спросил: — Откуда знаешь? Поймала, что ль? — Нет. Гляжу, пропадать начал неделями. Поначалу сказал, что устроился проводником на железную дорогу. Проверила — оказалось, обманул. Как до объяснений дошло, изворачиваться начал. Потом пошли то рыбалка, то охота. Последний раз мотался-где-то с полмесяца. Спрашиваю, уж не за тиграми ли ездил? Засопел и говорит: «Пятнадцать суток отбывал». А сам в свежей рубашке с золочеными запонками. Не выдержала я, психанула, скандал ему устроила… С тем и выставила за дверь. — Наташа подняла покрасневшие глаза. — За что мне такое, Павел Васильевич? Неужели я заслужила? — Кто же она, эта разлучница? — Симка Халюзина. — Халюзина? — Инспектор посмотрел на Наташу. — Не может быть! — Может, Павел Васильевич. Я сама видела, как он к ней в дом входил. Противно, конечно, следить, но пришлось… Они еще посидели некоторое время. Майор, отхлебнув остывшего чая, взглянул на часы, поднялся. — Спасибо, Наташенька, за угощение. Мне пора. — Не за что. На здоровье. — Женщина грустно улыбнулась: — Заглядывайте, вы совсем меня забыли. — Зайду. Выберу минутку посвободней и загляну. — И уже в коридоре, принимая подсохший плащ, одобрительно произнес: — Петьке правильно от ворот поворот показала. Поверь мне, больше он к тебе не заявится. Майор сосредоточенно шел по вечерним улицам, не обращая внимания на спешивших мимо людей. Дождь перестал. Очистившись от туч, небо мерцало холодной россыпью звезд. Обдумывая сказанное Супрягиной, Решетов пришел к выводу: Запрудный скрывает от нее свое знакомство с Халюзиной. И неспроста. Но вовсе не потому, что он любовник Серафимы. Причина иная: в преступной группе верховодит давнишний сожитель Халюзиной — Штихин Яков Иванович, матерый мошенник, по профессии ювелир. Давая ей заработать, Штихин вполне мог привлечь ее к исполнению в его сценарии роли уборщицы подъезда. Все как будто бы было логичным. А раз так, то неизвестным оставался только «иностранец». Но придет и его черед — в этом инспектор уголовного розыска не сомневался.
С ПЛАНОМ задержания преступной группы Решетов познакомил следователя Купашова поздно вечером, накануне назначенной к проведению операции. Инспектор выложил перед капитаном две тощие папки, однако уместившие в себе плоды напряженной трехсуточной работы уголовного розыска. — Читай. Узнаешь, чем тут мы занимаемся, — пошутил он. В тишине кабинета отчетливо слышался шелест переворачиваемых страниц. За полузакрытыми окнами угадывались звуки отходившего ко сну города. Наконец Купашов отложил папки в сторону, помолчал, затем спросил: — Выходит, Штихин — мошенник со стажем? — Еще с каким! И ведь наказывали его не раз, да крепко, но… — По-твоему, он у них руководитель? — Убежден. Штихин привык подчинять себе людей, да и по характеру их общения другого не предположишь. К тому же, он виртуоз в ювелирном деле. Кто, кроме него, так мастерски изготовит «бриллианты»? — Ты установил, где он живет? — После очередного освобождения Штихин решил, видимо, исчезнуть из поля зрения милиции. Однако это не очень вышло. Сейчас нам известно, что по документам он значится Мартыновым Иннокентием Гавриловичем, находящимся в нашем городе в длительной командировке от медеплавильного комбината из Казахстана. Держит отдельный номер в гостинице «Юбилейная». На всякий случай. В основном же пропадает у Серафимы Халюзиной. — Что с Запрудным? — Ему можно «позавидовать». Подыскал молодящуюся особу, осел у нее на правах жениха, выдает себя за молодого ученого, доцента. В общем, все пришло на круги своя. Новая квартира совершенно безопасна, не то что у Супрягиной. Майор неторопливо прошелся по кабинету и испытующе посмотрел на следователя. — Тебя, конечно, интересует «иностранец»? Меня тоже. К сожалению, о нем мы знаем меньше, чем о других. Известно лишь, что у него «Жигули» цвета «белая ночь». Номерные знаки — за последние дни их было два — городской автоинспекцией не выдавались. Документы же проверить не удалось. Из-за этого стал невозможен арест каждого в отдельности. У нас есть сведения, что сегодня Запрудный договорился с очередным любителем джинсов о поездке в «общежитие». В доверие вошел при «случайной» встрече возле магазина «Ковры». Так что завтра попытаемся задержать с поличным в момент получения денег. Кстати, за эти дни Штихин, Запрудный и «иностранец» в поисках подходящего подъезда для «квартиры ювелира» обшарили один из новых микрорайонов. Штихин с Будьздоров побывали домах в пятнадцати, а «немец» из машины носа так и не показал. Хитер… — На каком варианте они остановились? — Забыл спросить, — ответил Решетов. Оба засмеялись, затем следователь, беспокоясь за исход операции, поинтересовался: — Павел Васильевич, сколько человек в твоей группе? — Вместе со мной четверо. Двоих ты знаешь: Казанов и Перегонов. Ребята опытные, не подкачают. Третий — стажер, курсант школы милиции Садовников. При упоминании о курсанте следователь откровенно засомневался. — Боюсь, не справится. Может, заменить… попросить назначить другого? — Не беспокойся, он самбист, первенство школы держит. Да и… откуда иначе смену себе возьмем, если молодежь готовить не будем. Против такого довода Купашов возражать не стал.
ИЗ ДОМА Запрудный вышел в семнадцать пятьдесят три. Казанов, находившийся неподалеку, привычно отметил время. Знакомство с Будьздоровом, разумеется, одностороннее, состоялось трое суток назад, когда тот вместе с Халюзиной покупал билеты в кино. Запрудный шел стремительно. Вот он пересек проезд, срезал угол газона по тропинке. Игорь перевел рычажок переносной миниатюрной рации на режим передачи. — «Шестой», я «Тула»… С Аликом встретился. Одет — зеленая куртка на «молнии» с двумя белыми поперечными полосками на рукавах, серые брюки. Через плечо синяя сумка с надписью «Аэрофлот». Казанов увидел, как, приняв его сообщение, Перегонов отделился от киоска возле соседнего дома. Оба, и Перегонов и Запрудный, скрылись за углом. «Теперь не отставать!» Игорь быстро спустился вниз, прошел вдоль низенькой изгороди и оказался на улице. Краем глаза заметил Перегонова и Алика, ждущих на остановке приближающийся трамвай. Будьздоров и не отстающий от него инспектор уголовного розыска сели в прицепной вагон. Казанов в последний момент ухватился за поручни переднего. Сквозь грохот несущихся вагонов оба инспектора услышали голос Решетова. — Я «Нара»… Двигаюсь за вами в пределах видимости.
…Сообщив о себе, майор опустил микрофон и, обращаясь к Садовникову, шутливо сказал: — Итак, операция «Бриллиант раджи» началась. — Затем, не отрывая глаз от качавшегося из стороны в сторону вагона, вполне серьезно продолжил: — Ты, Алексей, только начинаешь работать в милиции. Сразу приучай себя к внимательности, к самодисциплине, старайся всегда быть готовым к любым неожиданностям. Понял? — Ясно, товарищ майор. — Но главное — наблюдательность. Примечай, казалось бы, самую ненужную деталь. Прошляпил — напряженная работа, твоя и твоих товарищей, пойдет насмарку. В борьбе с преступностью мелочей не бывает… Почему молчит «Донецк»? — без всякого перехода вдруг спросил он. Под этим позывным работали еще два инспектора — Канищев и Лаптев. Опасаясь за успешный исход операции, Решетов решил увеличить численность группы. По плану на этих сотрудников возлагалось блокирование квартиры Халюзиной, откуда, как предполагали, Штихин вместе со своей сожительницей должен был направиться в условленное место для встречи с жертвой. Решетов включил микрофон. — «Донецк», я «Нара». Сообщите результаты визита в гости. Перехожу на прием. В ответ послышался низкий с хрипотцой голос: — «Нара», я «Донецк». Хозяев нет дома. Жду указаний. — Будьте на месте. «Неужели не ночевали? — озадаченно подумал майор. — Где же тогда они болтались? В гостинице Штихин в эту ночь не появлялся». Решетов досадливо кашлянул. Рвалась одна из ниточек, зримо тянувшаяся к задержанию с поличным. Оставался Запрудный. …Будьздоров, словно почувствовав неладное, сделал несколько пересадок с трамвая на трамвай. Видимо, на всякий случай. Это стало ясным, когда он, пересев на очередной маршрут, оказался на одной площадке с Казановым. Вагон все больше наполнялся пассажирами. Зажатый со всех сторон, Запрудный оглядывал стоявших вокруг людей. Трамвай медленно поднимался из-под железнодорожного моста. На повороте Алик вдруг вытянул шею и закричал: — Ой! Да я же проехал! Граждане, пропустите! Работая локтями, он проложил себе дорогу к двери и, рывком отжав ее, спрыгнул. Сотрудники уголовного розыска оказались в невыгодной ситуации. Прыгать за ним с трамвая нельзя — заметит, а из вагона не видно, куда он побежит. Из машины его тоже не увидят: она пока еще за перекрестком. К тому же Запрудного от нее закрывает поворачивающий вагон. Казанов подал по рации сигнал тревоги. Павел Васильевич поймет… Но куда может бежать Запрудный? Конечно, туда, где больше прохожих. Справа бензоколонка, там скрыться трудно. Слева обувной магазин, киоски и рынок. Возле них много народу. В последнюю секунду Казанов успел заметить: Запрудный мчался к рынку. Мгновение, и его проглотила рыночная толчея. …Сигнал тревоги прозвучал неожиданно. До медленно поворачивающегося трамвая было метров триста. Автомобиль резко набирал скорость. В поле зрения вновь появился вихляющий задний вагон. В эфире послышался голос Казанова: — «Нара», я «Тула». Алик на рынке. …Осмотрены павильоны, оживленные ряды, магазины, проверены все закоулки. Рынок для Запрудного не конечная цель, на нем он не пробудет и лишней минуты. Но все надеются — вдруг задержался. Однако в буднях уголовного розыска чудес не бывает. Запрудный скрылся. Сотрудники собрались поодаль от выхода. Решетов обвел взглядом понурые лица и, ни к кому не обращаясь, сказал: — Почувствовали школу Штихина? Натаскал парня, ничего не скажешь. Майор потер жесткий подбородок. Все ждали, какое решение он примет. — Ну, вот что. Задерживать придется в другом месте. Где сегодня будет разыгрываться спектакль с продажей «бриллианта», нам не известно. Зато известно, что Запрудный избавляется от жертвы последним, он даже не предполагает, где и когда должна наступить развязка. Поскольку Штихин, в отличие от своих коллег по промыслу, не пьяница, он, зная их слабинку, прежде всего требует от них свою долю и причитающуюся его сожительнице. Раньше дележ происходил на квартире Халюзиной. Скорее всего, так будет и на этот раз. Такие, как Штихин, не меняют своих привычек. Задержим всех у нее.
ХАЛЮЗИНА жила на третьем этаже девятиэтажного дома в глубине двора. Перегонов, которому уже приходилось у нее бывать, не выходя из автомобиля, набросал план квартиры. Заканчивая расстановку, майор повернулся к Казанову: — Канищева и Лаптева я возьму с собой. Поэтому тебе придется остаться в скверике. Имей в виду, мы не знаем, что за птица этот «иностранец». Нужно предполагать самое худшее. Он может пойти на все, лишь бы остаться на свободе. Твоя задача — пресечь попытку побега. — Решетов обернулся к Садовникову. — Ты, Алексей, будешь находиться в помещении лифтера. Твоя задача в случае нужды подстраховать Казанова. Задерживать придется возле дверей. От них ни на шаг. Понял? — Понял. Майор еще хотел что-то сказать, но в это время в эфир вышел «Донецк». Лаптев сообщал, что Халюзина вернулась домой. С веником. — «Донецк», я «Нара». Находитесь на месте, ждите нас. Опустив микрофон, майор посмотрел на часы. — Ну что ж, скоро вся компания соберется. Надо звонить Купашову.
НА ЗВОНОК Серафима откликнулась сразу. — Одну минутку… иду-у! — игриво пропела она, спеша в прихожую. Дверь распахнулась. Увидев незнакомых людей, Халюзина растерялась, по лицу ее мгновенно разлилась бледность. Инстинктивно она сделала попытку захлопнуть дверь. Но было поздно. Один из мужчин уже перенес ногу за порог. Только сейчас она узнала в нем инспектора уголовного розыска Перегонова. — Милиция, Серафима Андреевна. — Да я уж вас признала, Василий Степанович. — Голос ее дрогнул, опустился до шепота. Не раз уж сводила ее с инспектором судьба скупщицы краденого. «Зачем они здесь? Неужто пронюхали? Что им известно?» Мысли путались. «А может, зря она трясется? Что, если пришли только по ее грешки, без связи с Яшкой?» Догадка вспыхнула крохотной искрой надежды, но действительность тут же ее погасила. Ей показалось знакомым лицо пожилого мужчины, вошедшего вслед за Перегоновым. Где она его видела? Память воскресила августовский вечер на Кавказе. Ресторан в горной расселине, интимный полумрак. По скалам, омывая причудливо изогнутые корневища, струится вода. На уступах сработанные из огромных плах столы, чурбаки вместо стульев… Яшка провернул тогда какое-то дело. Был при деньгах. Под звуки «Тбилисо» он обнимал ее и что-то шептал, еле касаясь губами мочки уха. Ничто не предвещало беды. Слушая его, она даже не заметила сразу официанта, который, виновато извиняясь, попросил Яшку зайти к администратору. Узнав, что от него хотят, Яшка поднялся, обнажил в улыбке крупные зубы. «Я мигом, роднуля». Кто знал, что оброненное им «мигом» продлит долгих десять лет! Из кабинета администратора его вывели двое. Был среди них и этот седой. Он и сейчас пришел за Яшкой. Другой цели его визита она и представить не могла. Подтверждались худшие предположения. Вошедший последним представился: — Следователь Купашов. Вы одна дома? — Да. И от того, как она твердо произнесла это, вдруг пришла решимость не говорить ни слова правды. Что, впервой, что ли, ей расхлебывать конфликты с милицией? — Я должен произвести у вас обыск, — продолжал Купашов. — Попрошу ознакомиться с постановлением и расписаться. Серафима прочитала и молча расписалась. — Покажите нам вашу квартиру. Она, не протестуя, повела по комнатам. Повсюду ковры, хрусталь, серебро, в гостиной огромная, не вписывающаяся в интерьер, люстра. — Вот, смотрите, никого у меня нет. Она не задумывалась над тем, что говорит непрошеным гостям. В голове роились наставления Штихина: «В случае опасности ты никого не знаешь, ни в чем не участвовала. Подопрет — в первую очередь уничтожай вещественные доказательства». Значит, сначала Яшкин портфель, что лежит на антресолях. Но как его взять?.. Ей предложили присесть возле стола в гостиной. — Штихина Якова Ивановича знаете? — Нет. Серафима сразу увидела — ей не верят. «Ну и черт с ними. Пусть не верят». — И о Петре Запрудном не слышали? — Впервые от вас слышу. — В таком случае, может быть, знакомы с лицом по кличке Будьздоров? — У меня и своих друзей хватает. Не обращая внимания на ее вызывающий тон следователь задал следующий вопрос. — Вы ждете кого-нибудь? — Меня ждут! — зло бросила она. — Уходить мне надо, а тут с вами рассиживаю. — Придется визит отложить, — вмешался в разговор пожилой. — Пока вы будете находиться вместе с нами. И вообще, изберите правильный тон. Нам с вами еще работать и работать. Она прекрасно знала, о какой «работе» он говорит, поэтому тут же отпарировала: — Не на ту напали, не дура. Никаких показаний давать не буду. — Ваше дело, — спокойно, несколько даже флегматично отозвался он. Серафима разнервничалась, на глазах появились слезинки. Достав платок, она долго всхлипывала. Затем, найдя момент подходящим, скорбно промолвила: — Разрешите воды… хоть глоток. Халюзина пригубила из поданного ей стакана, а возвращая его Перегонову, выронила. Стакан разбился, во все стороны полетели брызги. — Простите, я взволнована, — объяснила она свою неловкость и подобрала край ковра, под которым натекла лужица. Сопровождаемая Перегоновым, она принесла из ванной халат промокнула им мокрое пятно, замела в него осколки. Прибравшись поспешила на кухню. Перегонов в последний момент успел перехватить скрученный в жгут халат с веником, которые она с силой заталкивала в мусоросборник. — Зачем же так? — инспектор с силой захлопнул крышку. — Эти вещи нам еще пригодятся. Обозленная неудачей, Халюзина швырнула сверток в угол.
ПОТЯНУЛИСЬ минуты томительного ожидания. Халюзина, вжавшись в угол широкого кресла, покусывая ногти, невидяще смотрела перед собой. Сотрудники разместились кто где. Слышно было, как о стекло бьется одинокая пчела. Наконец прозвучал всеми ожидаемый звонок. Капитан Купашов выразительно глянул на майора — при проведении операций действиями сотрудников всегда руководил Решетов. Не ожидая приказания, Лаптев занял место за входной дверью. Перегонов встал в коридоре, ведущем из прихожей на кухню. — Серафима Андреевна, — глухо произнес Решетов. Услышав свое имя, Халюзина напряглась. — Вы сейчас откроете дверь и молча, ни о чем не предупреждая, впустите идущего к вам человека. Халюзина испуганно заморгала. Она ждала и боялась этого момента. Как быть? Если она откроет дверь, то Яшка, ничего не подозревая, войдет, потреплет по щеке, чего доброго, полезет целоваться. Доказывай тогда, что они не знакомы. Решение пришло неожиданно. Увидев посторонних, Яшка сам сообразит, что делать. — Я не буду открывать. Вам надо — сами и отпирайте. По квартире вновь разнесся длинный требовательный звонок. Решетов сделал знак Лаптеву. Скрипнула открываемая дверь. Штихин вошел уверенно, хозяином, хотел что-то сказать по поводу долгого ожидания на площадке, где могли быть соседи, но припухшие глаза ювелира встретились с насмешливым взглядом Лаптева. Ювелир понял, что попался. Он судорожно перебирал варианты спасения, а их было до обидного мало. Бежать — глупо. Остается хитрить. Он облизнул предательски пересохшие губы, но усилием воли взял себя в руки. — Я могу видеть Григория Семеновича? — назвал он первое пришедшее на ум имя и, не ожидая ответа, с учтивой готовностью попятился назад. — Простите, я, кажется, не туда попал. И тут в прихожую вышел Решетов. При виде майора Штихину стало не по себе. Он был готов встретиться с кем угодно, только не с инспектором. Но и на сей раз быстро сработала защитная реакция. На лице ювелира расплылась добродушная улыбка, он всплеснул руками. — Кого я вижу? Павел Васильевич! — Поистине мир тесен, Яков Иванович! — Ох, и не говорите! Сколько лет, сколько зим! — Поди, по десять будет, Яков Иванович, тех и других, а может, и больше. — Да, да, не меньше. — Штихин снял шляпу, покачал изрядно поседевшей головой. — Что ж мы в дверях стоим? — спохватился Решетов и хлебосольно добавил: — Проходите. Штихин сделал несколько шагов навстречу майору. — Между прочим, Яков Иванович, не понял вашего юмора. Объясните. Пришли к Халюзиной, а спрашиваете бог знает кого. — Вы правы, я действительно не знаю никакого Григория Семеновича. Но не думайте, что я хотел вас надуть. — А как считать иначе? — Я все объясню, — с готовностью воскликнул Штихин. — Тут вот какое дело. Перед моим освобождением в колонию попал Квасов Колька. Вы его знаете. Ну, вот от него я узнал, что Симка моя замуж вышла. Нашла какого-то залетного приятеля. Обиделся я на нее. На волю вышел, к ней даже не пошел. — Штихин нахмурился, переживая случившееся. — А тут решил заглянуть. Сердце-то гложет. Решил хоть глазком посмотреть, как она живет. — Вы хотите сказать, что навестили Серафиму Андреевну первый раз за много лет? — Именно, дорогой Павел Васильевич. — Штихин рассказывал громко, рассчитывая, что Халюзина услышит и, конечно, подтвердит его рассказ. — Звоню. Открывает незнакомый мужик. Меня как пыльным мешком из-за угла — не соврал Колька. Откуда мне было знать, что он, — Штихин кивнул в сторону Лаптева, — ваш сотрудник, а не Симкин муж. На лбу у него не написано. Вот я и придумал Григория Семеновича. Пусть, думаю, Симка будет счастлива. А вы, Павел Васильевич, если не секрет, что здесь у нее делаете? Или попалась? Не поверите, сколько я ей говорил, направлял на путь истинный. Решетов ничего не ответил словоохотливому гостю. Не желая, чтобы встреча Штихина и Халюзиной произошла раньше, чем нужно, майор прошел с ним в маленькую изолированную комнату. — Побудем пока здесь. — Инспектор усадил ювелира на небольшой диванчик, а сам устроился на стуле перед ним. — Где трудитесь-то, Яков Иванович? — Пока не работаю. Я ведь мастер-ювелир высокой квалификации, да биография подкачала. Доверяют булыжники гранить, а я не хочу. Вот и мыкаюсь без дела. — Ну, а с прошлым как? — Покончено, Павел Васильевич. Покончено решительно и бесповоротно. К старому возврата не будет. К тому же и возраст. Пора бы образумиться. У меня ж, старого дурака, ни кола, ни двора. От жалости к самому себе Штихин расчувствовался, глаза повлажнели. Он громко хлюпнул покрасневшим носом и стал доставать из пиджака носовой платок. Но сделал это так неловко, что от Решетова не ускользнула его попытка запихнуть под подушку дивана извлеченный вместе с платком черный бумажник. — Решили на всякий случай избавиться? — О чем вы? — взвизгнул Штихин.
 — Я о бумажнике. Отодвиньтесь о сторону. Перегонов, пригласите понятых!
Штихин не по годам резво вскочил, замахал руками.
— Я не позволю! Кошелек не мой. Он здесь так и лежал!
— Чей же он?
— Откуда мне знать?!
— Не кричите, Яков Иванович. Сейчас выясним, кому он принадлежит.
Майор раскрыл бумажник и извлек из него паспорт.
— Действительно, документ не ваш. Выдавался Мартынову Иннокентию Гавриловичу. Единственно, что вам, Штихин, придется объяснить, почему в паспорте оказалась вклеенной ваша фотография. Э-э, да тут целый «клад»!
И майор вытряхнул на столик несколько стекляшек, отшлифованных под бриллиант, наподобие сбытого Пыжлову. Рядом с ними упала так называемая «кукла» — пачка аккуратно нарезанной и раскрашенной бумаги, прикрытая сверху и снизу настоящими сторублевками и заклеенная банковской лентой. В перепалке Штихин совсем забыл о вклеенной в паспорт Мартынова своей фотографии. Теперь же она надежно привязала его и к десятитысячной «кукле» и к фальшивым бриллиантам.
Обыск подходил к концу. На столе, стоявшем посреди комнаты, росла гора драгоценностей и денег. В тайнике, устроенном в кухонной двери, капитан Купашов нашел завернутые в вату перстни, кольца, кулоны, серьги. В трубчатых креплениях гардин оказались облигации трехпроцентного займа. И деньги. Их доставали из вентиляции, из-под линолеума на кухне, из оснований настольной лампы и торшера…
— Я о бумажнике. Отодвиньтесь о сторону. Перегонов, пригласите понятых!
Штихин не по годам резво вскочил, замахал руками.
— Я не позволю! Кошелек не мой. Он здесь так и лежал!
— Чей же он?
— Откуда мне знать?!
— Не кричите, Яков Иванович. Сейчас выясним, кому он принадлежит.
Майор раскрыл бумажник и извлек из него паспорт.
— Действительно, документ не ваш. Выдавался Мартынову Иннокентию Гавриловичу. Единственно, что вам, Штихин, придется объяснить, почему в паспорте оказалась вклеенной ваша фотография. Э-э, да тут целый «клад»!
И майор вытряхнул на столик несколько стекляшек, отшлифованных под бриллиант, наподобие сбытого Пыжлову. Рядом с ними упала так называемая «кукла» — пачка аккуратно нарезанной и раскрашенной бумаги, прикрытая сверху и снизу настоящими сторублевками и заклеенная банковской лентой. В перепалке Штихин совсем забыл о вклеенной в паспорт Мартынова своей фотографии. Теперь же она надежно привязала его и к десятитысячной «кукле» и к фальшивым бриллиантам.
Обыск подходил к концу. На столе, стоявшем посреди комнаты, росла гора драгоценностей и денег. В тайнике, устроенном в кухонной двери, капитан Купашов нашел завернутые в вату перстни, кольца, кулоны, серьги. В трубчатых креплениях гардин оказались облигации трехпроцентного займа. И деньги. Их доставали из вентиляции, из-под линолеума на кухне, из оснований настольной лампы и торшера…
МИХАИЛ Базырин по кличке Барон вот уже больше часа ждал Будьздорова, загнав автомобиль в один из дворов довольно тихой улицы. Яркая оранжевая рубашка, меховая безрукавка со значками, темные очки — все было снято и уложено в толстокожий кофр. Вряд ли кто из тех, с кем ему приходилось встречаться в течение дня, признал бы его за иностранного туриста. Десять тысяч, полученные утром от доверчивого покупателя «Волги», лежат в кожаной сумке, брошенной в передний багажник. Барон нервничает. Не так, как он всегда это делает, разыгрывая паникующего иностранца, лишившегося своего бриллианта, а по-настоящему. Его беспокоит долгое отсутствие Алика. Что, если обманутый покупатель «Волги» заподозрит неладное до того, как Будьздоров от него скроется? Тогда плохо… Но вот из подворотни вынырнула знакомая зеленая куртка. Базырин нажал на акселератор. «Жигули» рванулись с места. Резко притормозив, Барон распахнул дверцу, и радостно улыбавшийся Запрудный плюхнулся на сиденье. — Уф! — выдохнул он, расслабляясь. — Ну и тип попался, еле отделался! Едем, а он все канючит: нехорошо, мол, обманывать, давай вернем камень немцу… Пришлось самому от него сбегать. Вот так, будь здоров!.. Дальше они ехали молча, думая каждый о своем. …«Жигули» резко подкатили к подъезду. Запрудный, не ожидая пока Барон закроет машину, скользнул безразличным взглядом по мужчине, сидевшему с авоськой на скамейке, и двинулся наверх. Базырин шел за ним, отстав на один лестничный марш. Возле двери Запрудный перевел дыхание, решительно надавил на кнопку звонка. Дверь открылась, однако вместо ожидаемого Штихина в проеме стоял незнакомый человек. Он панически боялся нового ареста. Слишком много неприятностей он сулил. Запрудный по-разному представлял этот момент. Он продумал его до мелочей и был готов выкрутиться при любой ситуации: будь то на вокзале, в гостинице, на улице, в троллейбусе. Но он никогда не предполагал, что все случится здесь, на квартире Халюзиной, где он всегда чувствовал себя в полной безопасности… Надо бежать! Он молниеносно развернулся и едва не наткнулся на другого незнакомца, стоявшего сзади. Не долго думая, Запрудный размахнулся и изо всех сил опустил кулак на голову парня, загородившемуему путь. Но произошло вовсе неожиданное. Его кулак обрушился в пустоту, затем кисть словно попала в тиски, острая боль отдалась во всей руке. Перед глазами поплыло, и Запрудный опустился на колени. — Барон! — хрипло вырвалось у него — то ли призыв о помощи, то ли предупреждение об опасности. Базырин услышал голос Запрудного. Решение пришло мгновенно: вниз, к автомобилю! Черт с ним, с Петькой, самому надо ноги уносить. По топоту, раздавшемуся сверху, Садовников догадался: из двух пришедших парней один мчится обратно. Алексей устремился вверх. Он рассчитал: надо встретить парня на площадке между первым и вторым этажами. Но Садовников чуть-чуть опаздывал и поэтому оказывался в момент столкновения на одну-две ступени ниже. Позиция неудачная, но он не сомневался в успехе. И тут произошло непредвиденное. Парень не свернул в его сторону, а проскочил прямо, выбил плечом оконный переплет, вылетел на козырек над входом в подъезд, упруго спрыгнул на газон, миновав таким образом еще и Казанова, стоявшего у дверей. Однако инспектор сразу сообразил, что к чему, увидев убегающего от дома человека, и бросился следом. Базырин мчался, на бегу доставая из сумки финский нож: он понял, что к машине не успеть. Расстояние между бегущими сокращается. Вот преследователь уже рядом. И тогда Барон резко остановился и, взмахнув ножом, бросился на инспектора. Избегая удара, Казанов слегка присел, поставил отработанный на занятиях самбо блок. Звякнул о бортовой камень нож. Барон, скрючившись, упал на асфальт. Рядом уже стоял Садовников.
КОГДА задержанных доставили в управление, капитану Купашову позвонил дежурный по городу. — Юрий Александрович, есть интересные новости. Пару часов назад к администратору гостиницы «Юность» обратился гражданин с просьбой помочь ему отыскать иностранного туриста, у которого он за бесценок купил бриллиант. Заявитель хотел бы вернуть владельцу его камень и получить обратно свои десять тысяч рублей. — Он до сих пор не знает, что обманут мошенниками? — удивился следователь. — Даже не предполагает. — Что ж, направь его ко мне. Придется ему объяснить, а заодно и устроить встречу с «иностранцем», которого он ищет.
Николай Сальников ТРЕВОГА НА РАССВЕТЕ Рассказ
ПЕРВЫЕ ПЕТУХИ пропели голосисто, на всю округу, будто соревнуясь между собой. И хоть Пелагее Никитичне уже под семьдесят, и слух у нее не такой обостренный, она через стекла конторы услышала петушиное пение. Пелагея Никитична — худенькая маленькая старушка с толстыми стеклами очков, чудом держащихся на кончике носа, очень подвижная и малость смешная в ту ночь даже глаз не сомкнула. Она вообще на ночном дежурстве не спит, хотя, быть может, спать и не воспрещается. Не то, что ее сменщицы-молодухи: закроют дверь на ключ, насытятся чайком с вареньем и давай сны разглядывать. До рассвета проспят, хоть из пушки пали. Нет, она не такая. Уж какой тут сон, коли в мозгу засело: большие деньги в бухгалтерии. А деньги — вещь опасная, того и жди беды. Что и говорить — немалая ответственность. Ишь как разрослась контора птицефабрики. В три этажа. И Пелагея Никитична здесь вроде бы самая главная фигура в ночное время. И потом, если уж говорить откровенно, мучил ее тот страшный ночной визитер. Дело было месяц назад, когда электричество отключили. После полуночи она открыла ключом дверь конторы, чтобы подышать свежим ночным воздухом. И вдруг откуда ни возьмись этот дылда. Вырвал у нее связку ключей и потащил ее за собой, — вероятно, опасался, что она позвонит в милицию. Быстро открыл комнатку, где находился сейф, подошел к нему, стронул с места, попробовал поднять — не получилось, больно тяжел. Пелагея Никитична стояла, будто окаменев, не в силах вымолвить слова. Ноги стали ватными. — Ну вот что, божий одуванчик, — зло сказал незнакомец, вытаскивая финку. — Молчать будешь или, может, участковому стукнешь? А? Знай, — голос его звучал угрожающе, — если трепанешь кому о моем визите, ну, что я приходил сюда и ящик трогал, дух выпущу. Либо сам, своими руками задушу, либо кореша мои это сделают. Скажешь? — и он поднес финку к ее лицу. — Не губи, голубчик. Вот те крест — молчать буду, — растягивая слова и делая ударение на «о», испуганно проговорила старуха. — Цыц, — вполголоса прикрикнул на нее ночной визитер. — В бога веруешь? — Как не верить-то, касатик? — Побожись, что никому не скажешь. Никому! Ни дома, ни на работе. Она стала судорожно креститься, взирая на него, как на икону. — Ладно, ладно, убедила, — отошел он. Спрятал нож, бросил ей под ноги связку ключей и направился к выходу. У двери обернулся: — В общем, смотри у меня… О ночном происшествии она не сказала никому, боясь нарушить свое обещание и, конечно, опасаясь мщения. Но тревога не покидала ее. Вот почему, услышав пение петухов, она подумала, что ночь скоро кончится, до рассвета не так уж далеко. «Поднакоплю деньжат на холодильник, — размышляла Пелагея Никитична, заваривая чай, — и уйду, уйду, уйду. Хватит с меня». Ее размышления прервал мягкий стук, будто кто-то забарабанил костяшками пальцев по оконному стеклу. Пелагея Никитична вышла из своего застекленного закутка и засеменила к двери. — Кого еще нелегкая несет? — пробурчала недовольно и услышала за дверью мужской голос: — Бабушка, милая, мать у меня умирает. Уж ты позволь по телефону позвонить, врача вызвать. — Ишь какой, — нарочито строго ответила она. — Ступай на проходную да звони. — Что же я бегать-то буду, коли человек при смерти, — опять кто-то жалобно заговорил за дверью. — Открой, неужели у тебя сердце каменное? — Отвяжись, худая жись, — она повысила голос. — И давай уходи отседова, не то я милицию позову. За дверью стихло. Пелагея Никитична прошла в помещение бухгалтерии, включила свет, села на стул. По правде говоря, она испугалась, хоть и виду не подала. «А голос вроде знакомый. Чей же, дай бог памяти». И вдруг сердце екнуло: «А-а, да это же тот высоченный парень… Который ночью приходил». Страх обуял бабку. Она вспомнила, как ее наставлял молоденький розовощекий участковый инспектор, когда вечером однажды приходил проверять службу. — Ты, бабуля, никого не бойся, — говорил лейтенант, стараясь придать своему девичьему голосу металлический оттенок, — Если кто к тебе рваться будет, хулиганить или еще что, сразу выдай нам сигнальчик. «Да, надо позвонить, — подумала Пелагея Никитична, — мало ли чего?» Она встала, быстрыми шажками пошла в свою каморку. И в это время дверь с шумом открылась, и перед нею будто злые джины, выросли двое. Рослые, плечистые. Лица обтянуты черным капроном дамских чулок. «Свят, свят…» — только и успела подумать она. Один верзила приставил к ее лицу нож, другой ловко связал руки бельевой веревкой. Вдвоем они подхватили сторожа, как пушинку, и бросили в тесный закуток… Только позже узнает Пелагея Никитична, что, не сумев разжалобить ее сказкой об умирающей матери, преступники с тыльной стороны здания взломают дверь запасного выхода, поднимутся по лестнице на второй этаж, пройдут по коридору и спустятся вниз. Затем взвалят на свои плечи тяжеленный сейф, в котором находилось 60 тысяч рублей, и через передние двери конторы вынесут его на улицу, к машине…ДНЯ ЗА ТРИ до ограбления кассы, когда заместитель начальника УВД города майор милиции Яраданов проводил служебное совещание, позвонил дежурный — капитан Шальнов. — Сергей Яковлевич, не очень приятные новости… — Ты так говоришь, Владимир Николаевич, будто мы когда-то приятные получали, — тихо ответил майор, повернувшись к переговорному устройству. — Не томи, выкладывай… — Из таксомоторного сообщают: в парк не вернулся водитель Павел Мыльников. Он прошлой ночью работал. Молодой, двадцати трех лет. Таксисты сами, своими силами город прочесали и нашли машину. В тихой такой улочке, знаете, где завод металлоконструкций? — Ну, ну… Они хоть ничего там не трогали? — Говорят, не трогали. Даже пост выставили — до приезда милиции. Майор прервал совещание и вместе со старшим экспертом-криминалистом Лукосеевым и сотрудником уголовного розыска Индустриального райотдела Жилиным выехал на место происшествия. Их встретил диспетчер таксомоторного парка, которого Яраданов, поблагодарив, тут же отпустил, поскольку тот опаздывал на работу. Беспризорная «Волга» стояла мокрая — ночью шел дождь, но была исправна, только сорвана зеленая контрольная лампочка. Открыли багажник — дно совершенно влажное, будто здесь лежало что-то сырое. И травинки на дне — зеленые, совсем свежие. — А это что? — Яраданов нагнулся, достал из угла багажника какой-то предмет, похожий на значок. Это действительно был значок, причем оригинальный. На подвеске, выполненной в виде ленты к ордену Красного Знамени, был прикреплен золотистого цвета пятигранник с изображением красной звезды. В центре, на голубой эмали, — позолоченный силуэт самолета. И ниже цифры: 1943—1973. — Такие значки обычно носят ветераны войны, — сказал Яраданов и, завернув значок в бумагу, положил его в карман. — А что? Возможно, это серьезная зацепка, — ответил Жилин. Они еще раз осмотрели место водителя, багажник. — Посмотрите, товарищ майор, — эксперт Лукосеев показал на обработанные порошком нечеткие следы пальцев рук, оставленные на стекле машины с левой стороны. — Впечатление такое, будто это следы борьбы. Наверное, тюкнули таксиста. Помните, год назад на такого же напали, только в живых оставили, к дереву привязали. — Не исключено, Юрий Вениаминович, не исключено, — отозвался Яраданов. — Давайте осмотрим местность. И во-он те небольшие карьеры, затопленные водой. Возьмем шесты и поищем тело, на ощупь. Осмотр ничего не дал, и Яраданов с экспертом и оперативным работником поехал в управление. В пути связался по рации с дежурной частью: — Шальнов? Слушай, Владимир Николаевич, разыщи адрес жены таксиста. Кстати, узнай, как ее зовут. Хочу сам с ней поговорить. — Она, Сергей Яковлевич, нам уже дважды звонила, — ответил дежурный. — Очень переживает. Голос прямо-таки дрожит. Ведь у них ребенок месяц назад родился. А тут муж пропал… — Это все понятно. Адрес, адрес! — Чаплыгина, 31, квартира 17. Аллой Геннадьевной зовут. Неподалеку от управления Яраданов высадил Лукосеева и Жилина, дав последнему особое задание по делу, и поехал на улицу Чаплыгина — на другой конец города. Настроение было подавленным. Чутье оперативного работника подсказывало, что случилось непоправимое, что рано или поздно труп Мыльникова будет найден. И если сейчас жена таксиста надеется на лучший исход, звонит, теребит милицию, ему от этих надежд не легче. Да, были в его практике случаи: ищут пропавшего мужа, а тот в компании пьяненьких дружков сидит и в ус не дует. Но здесь особый. Брошенная машина. Явные следы борьбы. Загадочный значок. Чей он? Преступника? Тогда, возможно, искать его следует среди авиаторов, которых в городе довольно-таки много? А может, значок принадлежит таксисту? Тогда ясно, почему этот предмет оказался в неподходящем месте. Водителя могли убить, а тело запрятать в багажник, чтобы отвезти и выбросить, где придется. Уж он-то, Яраданов, знает: такое, к сожалению, бывает. Но ведь все может оказаться проще. Возможно, значок не имеет никакого отношения к исчезновению таксиста. Скажем, открыл однажды водитель багажник, а какой-нибудь дошкольник взял да и кинул туда значок, подаренный внуку дедом-ветераном. Да мало ли как могло быть? — Внимание, «шестнадцатый». Я — «Вулкан», — прохрипела рация. Это Шальнов вызывал на связь Яраданова. — «Шестнадцатый» слушает. Какие новости? — На Безымянной, на окраине города, в старом разобранном доме найден полуживой человек… — Мыльников? — Майор давно ждал сообщений о нем, и хотя это слово, в спешке сказанное дежурным, — «полуживой» — потрясло его, все же он испытывал удовлетворение от того, что водитель жив, что теперь раскрыть преступление не составит большого труда. — Алло, «шестнадцатый», — снова затрещала рация, — вы меня не поняли. Не Мыльников, не таксист. О нем пока ничего не известно. Найден рабочий завода «Кондиционер» Травин. Как слышите. — Что с ним, с Травиным? — Пока ясно лишь одно: вчера была зарплата, домой он не пришел. А сегодня в полдень в развалинах старого дома на него случайно наткнулся слесарь Карабасов. Искал вроде бы рамы для дачи, а нашел своего коллегу. Вызвал милицию. Приехали, осмотрели. Человек без сознания, в карманах пусто. Доставили в больницу. — Поднимай фрунзенцев. Пусть Корытин срочно займется этим делом. Я подключусь позже. — Есть, — спокойно ответил Шальнов. Майор откинулся на спинку сиденья, глубоко вздохнул. — Час от часу не легче, — сказал в сердцах. — Вот ведь как бывает, Саша, — обратился к милиционеру-водителю Скоринову. — Тихо. День, другой, третий. Дежурные не нарадуются: благодать. По ночам в шахматы режутся — делать нечего. В такие дни и ночи я тревожусь. Есть крылатое выражение, его любят повторять фронтовики: «Тишина обманчива». Верно. Обманчив этот мнимый покой. Ну, сам посуди. Неделю не было никаких ЧП. И вдруг началось: у какой-то бабки пропала коза, кто-то кому-то посчитал ребра, загадочно исчез таксист, напали на рабочего человека. Что еще ожидать? — Раскроете, Сергей Яковлевич, — улыбнулся старший сержант. — Вы хороший оперативный работник. Говорят, вы родились сыщиком. — Э, нет, Саша. О работе в милиции я никогда не задумывался. Чего там! Недолюбливал ее. Жил я тогда в Тбилиси, на заводе трудился. — Так вы из Грузии? А я считал — из Баку, — удивился Скоринов. — Из Грузии. А по национальности — азербайджанец. И зовут меня, Саша, не Сергеем Яковлевичем, а Салманом Ярадан оглы. Что я знал о милиции? Ничего. Свой труд — рабочего человека — ценил. А труд милиционера? Мы за глаза называли его нехорошими словами. Рабочий потеет, материальные ценности создает, а этот… В общем, подтрунивали. До поры до времени. Пока сами не убедились. Рассказал Яраданов, как однажды в их бригаде несчастье случилось: обокрали квартиру одного рабочего — Гурама Тамадзе. Как человек места себе не находил. Как это сразу же сказалось на его труде. И даже на работе всей бригады. — Все-то у него валилось из рук, — продолжал майор. — Помню, мы возмущались: куда смотрит милиция, уж неделя прошла, а воров не поймали. «И не поймают, — говорил Тамадзе, — не верю я им». Но вот как-то приходит Гурам сияющий. Оказывается, нашли субчиков! Мы всей бригадой в милицию — расскажите, как дело было, кто отличился и так далее. Пришли к нам на встречу сотрудник уголовного розыска Леванидзе и следователь Бараташвили. И такое рассказали о своей работе, чего мы никогда и знать не знали. И что-то сдвинулось в нашем представлении о милиции. И когда мы подводили итоги за квартал, к слову сказать, они были внушительными, нам казалось, что и милиция вместе с нами выполняла этот производственный план. Вот так-то, Саша… А потом… — майор тяжело вздохнул. — Потом мы вместе с милицией, всем заводом хоронили капитана Леванидзе. Он задерживал вооруженного преступника и в схватке с ним получил смертельное ранение. Мы провожали его в последний путь и плакали. И не только женщины. Мы, мужчины, плакали. Потому что Леванидзе был наш, он словно состоял в нашей бригаде — веселый, обаятельный, умный. Помолчали. — А как же в России оказались? — спросил милиционер. — Очень просто. Призвали в армию, служил здесь, в Челновске. Тут и свою Танечку нашел. Ну и, выражаясь морским языком, якорь бросил. — Приехали, Сергей Яковлевич, — сказал Скоринов, остановившись у подъезда многоэтажного, по всему видать, недавно построенного дома с надписью: «Улица Чаплыгина, 31». «Значит, Алла Геннадьевна, — подумал он, вспомнив имя жены Мыльникова. — Ох, нелегкая эта миссия — разговаривать с человеком, у которого такое горе». Короткие два звонка, и сразу же дверь открыла миловидная худенькая женщина в цветастом халате. В ее глазах майор уловил жгучее нетерпение увидеть человека, которого она ждала. Поэтому так заметно было ее разочарование, когда перед нею предстал незнакомец в штатском костюме. — Я из милиции, — поспешил сказать Яраданов, чувствуя неловкость положения. — Что с Пашей? — спросила она, пристально глядя незнакомцу в глаза, боясь услышать страшные слова. — Пока не знаем. — А я так обрадовалась, думала, звонит он. Два коротких — это его позывные… Она была рада, что страшные слова, которые вертелись у нее на языке, не были сказаны этим элегантным милиционером. — Что ж мы стоим? — спохватилась. — Проходите, пожалуйста. — Давайте поговорим в прихожей, — предложил Яраданов. — У вас так чисто, а ботинки мои зашнурованы капитально. В комнате заплакал ребенок. Тотчас к нему устремилась пожилая женщина, хлопотавшая на кухне. — Пашина мама, Ирина Васильевна, — сказала Алла Геннадьевна, перехватив взгляд работника милиции. — Меня успокаивает, а сама плачет украдкой, чтобы я не видела. Майор спросил, не было ли у Павла каких-либо драгоценностей — кольца золотого, дорогостоящего перстня… — Ой, что вы! — удивилась она. — Паша не выносит никаких украшений. И одет просто. В обычной куртке. Он, знаете, магнитофон с собою взял. Он всегда его берет. У него чудесные записи. Анну Герман любит. — А какой марки магнитофон? — Марки? Я ведь не разбираюсь в них, честное слово… Ирина Васильевна, — она позвала свекровь, — где паспорт на магнитофон. Вышла пожилая довольно статная женщина с ребенком на руках. Кивнула головой, приветствуя работника милиции. — Без паспорта знаю, — сказала она. — «Спутник-403». Вместе с Павликом покупали. — Да, совсем забыл,-спохватился Яраданов, доставая кармана завернутый в бумагу значок и обращаясь к Алле Геннадьевне. — Что можете сказать об этом предмете? — Где вы его взяли? — Алла Геннадьевна, я прошу не задавать мне вопросов. Лучше отвечайте на мои. — Это Пашин значок. Видите ли, Паша у нас коллекционер. Фалерист — кажется так это по-научному. В армии он служил в авиационной части, и с тех пор собирает значки на авиационную тему. У него их около тысячи. Каждое воскресенье посещает клуб коллекционеров Что на Ниженке. В последний выходной пришел довольный: выменял хороший знак необыкновенной какой-то эскадрильи. Взял его с собой. Я заметила: в первые дни после обмена он часто рассматривает свое приобретение, кладет в карман, снова достает, смотрит. Как бы наслаждается им… «Это что же — верна моя догадка? — подумал майор. — Выходит, Мыльникова убили, а тело спрятали в багажник — вот значок и выпал из кармана». — Все-таки скажите, — как-то необыкновенно мягко и жалостливо проговорила она, — откуда у вас эта находка? — Попозже, Алла Геннадьевна. Договорились? Вы разрешите, я от вас позвоню? И не дожидаясь согласия, взял телефонную трубку, набрал номер начальника райотдела майора Болотникова: — Борис Алексеевич, Яраданов говорит. По факту исчезновения таксиста Мыльникова. Кто в оперативной группе? Записываю: Бабарыкин, слушай, Ба или Бо? Все-таки Ба? Дальше? Жилин и Черемшанцев? Значит, такая задача… Пусть они наведаются в таксомоторный, поговорят с водителями, со всеми, кто вчера ночью работал: когда в последний раз видели Павла на трассе. И еще: может, кто-то из подозреваемых подходил к ним, просил подвезти куда-нибудь в глубинку. В общем, пусть разведают, Борис Алексеевич. Ну, удачи! Положил трубку. Извинился за беспокойство и хотел было выйти из квартиры. Но его остановила вышедшая из комнаты мать Павла Мыльникова. — Алла, — обратилась она к невестке, — оставь нас, пожалуйста, одних… Я вот что хочу вам сказать, молодой человек, — тихо произнесла Ирина Васильевна, когда Алла ушла на кухню. Яраданов взглянул на опухшее от слез лицо женщины и вдруг почувствовал, как непонятно откуда взявшаяся робость сковала его движения, он не знал, как стоять, куда девать руки. — Я — мама Паши, — сказала она твердо. — И сердце мое мне подсказывает: я не увижу его живым… Она помолчала, пытаясь, видимо, справиться со своим волнением, но не смогла, не осилила себя и зарыдала так громко, что выбежала невестка, где-то в глубине квартиры заплакал ребенок. — Алла, оставь нас одних, — потребовала она, придав лицу строгое выражение. — Я прошу вас только об одном, — продолжала Ирина Васильевна, — найдите убийцу! Его покарает наш суд. Это будет слабым утешением матери. Найдите! Вы не имеете права не найти! Иначе, — она сделала небольшую паузу, — грош вам цена. Вы поняли меня?.. Я прошу вас, молодой человек, умоляю. Ради матери, которая потеряла единственного сына… Не на войне, а здесь, под мирным небом… Она уткнулась ему в плечо. Пожалуй, давно он не слышал такого трогательного напутствия матери погибшего, а в том, что Мыльников погиб, Яраданов почти не сомневался. И здесь, в коридоре квартиры, как-то неловко гладя руку пожилой женщины, убитой горем, неумело успокаивая ее, он мысленно дал клятву: найти убийцу. Он думал о том, что работник милиции всегда должен остро ощущать беду человека и воспринимать ее как свою собственную. Вспомнил, как лет десять назад, будучи совсем молодым сотрудником уголовного розыска и занимаясь делом об убийстве ученика 7 класса Володи Негорошко, предстал перед начальником областного УВД. Старый, собравшийся на пенсию генерал скрупулезно интересовался подробностями дела, проверяя компетентность молодого инспектора. Затем, отложив в сторону распухшую папку, с которой пришел Яраданов, участливо спросил: «Вы прониклись горем этой семьи? Испытываете ли вы неукротимое, сильное негодование по поводу действий преступника? Сына, конечно, им не вернуть, но вас не волнует тот факт, что убийца безнаказанно ходит по земле, что попрана святая святых — справедливость?» Слушая генерала, взад-вперед ходившего по своему огромному кабинету, Яраданов поддакивал ему, кивал головой, дескать, проникся, испытываю, волнует. Но этот старый мудрец с лампасами на брюках все понял. Понял, что не дозрел еще молодой инспектор до самостоятельного уголовного дела. «Нет, товарищ лейтенант, — строго сказал генерал-майор милиции, — вы еще не готовы раскрывать это преступление. Сходите в семью Негорошко, побеседуйте со всеми, особенно с матерью погибшего юноши. Ощутите их горе. Оно должно стать вашим. Только тогда вы станете раскрывать преступление не по приказу сверху, а по зову собственной совести. А это, поверьте мне, гораздо результативнее. Вот и сейчас, ощущая горе матери, он думал только об одном: о справедливом возмездии.
ВЕЧЕРОМ того же дня Яраданов собрал в своем кабинете оперативных работников, участковых инспекторов. Но пока он задерживался у начальника УВД, и в ожидании его разговор как-то само собой перешел на международные темы. На всех присутствующих произвела сильное впечатление вчерашняя передача Центрального телевидения о пресс-конференции по поводу инцидента с южнокорейским самолетом. Особенно заявление на конференции маршала Огаркова. — Вот помяните мое слово, — говорил участковый инспектор капитан милиции Опарин, тучный человек с белыми, будто посыпанными мукой ресницами, лицом напоминавший киноартиста Ивана Рыжова. — Неспроста это. Право слово, неспроста. Рейган хочет обострить обстановку, разжечь ненависть к нам. И он еще придумает что-нибудь гнусное, вот поверьте мне… — Уму непостижимо, — отозвался инспектор Дудин. — Послать самолет с пассажирами на верную гибель… И во имя чего? Ради своих политических делишек… — А ты не удивляйся, молодой человек — снова заговорил Опарин. — У них, у империалистов, испокон веков так было. И будет. Это их природа. Вошел Яраданов, жестом показал, чтобы присутствующие не вставали. — Что? Международные дела обсуждаем? — сказал тихо обведя взглядом всех. — Это хорошо, это нужно. Но давайте все-таки от дел внешних перейдем к чисто внутренним. Итак, друзья мои, работать будем на два «фронта»: искать пропавшего таксиста и разбираться в преступлении, совершенном против рабочего. Кстати, Травин не пришел в сознание? — Яраданов обратился к начальнику отделения уголовного розыска Фрунзенского райотдела Корытину. — Нет, Сергей Яковлевич, — встал во весь свой исполинский рост Корытин. — Травин в очень тяжелом состоянии. — Мотивы преступления? Виктор Петрович, — он снова повернулся к Корытину, — ваше мнение? — Судя по всему, ограбление, — ответил тот. — Потерпевший вчера получил зарплату, так что домой шел с деньгами, а в карманах, как мы успели убедиться, — ни рубля не оказалось. — Ну, Виктор Петрович, это не довод, — возразил майор. — Разве одно отсутствие денег в кармане может свидетельствовать об ограблении? Жене отдал, долги погасил. Да мало ли как бывает? — В том-то и дело, — не унимался Корытин, — что не отдавал он денег жене. Напротив, она очень ждала его вчера и просила ни копейки не тратить. — Да и в цехе, где работал Травин, — вступил в разговор инспектор уголовного розыска Дудин, — все утверждают, что он получил в конце смены зарплату — 160 рублей и после заседания в завкоме отправился домой. — Надо опросить жителей всех домов, неподалеку от которых найден человек, — вставил Корытин. — Думаю, следует установить круг лиц, хорошо знавших Травина, — добавил Дудин. — А что скажут участковые? Какие у них подозрения? Говорили по очереди, но особых зацепок не было. Наибольший интерес представил рассказ капитана милиции Опарина. — Тут у меня на участке свои Кукрыниксы объявились, право слово, — начал Опарин. — А точнее — Кукрыниклы: Кулагин, Крысин и Никитка Лыриков. Устроили, значит, в одном сараюшке вроде бы художественную мастерскую. Как узнал? Прибегает ко мне свой человек и говорит: «Иди, Свиридыч, разберись: в сарайчике, что напротив баньки, дым коромыслом, как бы пожар не случился». Я туда. Вижу: Никитка Лыриков, клубный оформитель, с дружками, из художников доморощенных. Пьют, смолят, картины внутри сарая поразвесили. Да какие картины! Женщины обнаженные. Правда, вид вполне приличный. Но… в чем мать родила. Право слово. Одна, значит, на песочке греется, у ручейка лежит, под березкой. Другая в постельке нежится, одеяло откинула. Пожалте, любуйтесь на нее. К картинам, чего там говорить, претензий нет. А вот что люди пьют в неположенном месте да чадят, того гляди сарай подожгут, мне это было не по нутру. Предупредил. Ребята, которые с Никиткой, — Кулагин и Крысин, хорошие. Я отцов их знаю. Отцы — работящие, уважаемые люди. «Что ж вы, — говорю ребятам, — к зелью-то прикасаетесь, не стыдно? Отцы-то ваши совсем непьющие. Право слово. А Кулагин в ответ: «Рождение общества обмываем. Мы теперь — Кукрыниклы». — Не вижу связи с темой разговора, — устало вымолвил Яраданов. — Скажите определенней: ваши художники могут быть причастны к совершению преступления? — Думаю, что Кулагин с Крысиным не могут. А за Никитку Лырикова ручаться не могу. Загадочный он какой-то. Право слово. Деньжата у него водятся, прямо скажу, не по зарплате. Черт его знает, может и он выследил Травина, — сделал неожиданный вывод Опарин и сел тяжело дыша. — А может, и не он, — уже с места, выждав паузу, выкрикнул участковый. — Непрофессиональный разговор у нас, — окидывая взором всех присутствующих, с обидой в голосе проговорил Яраданов. Передразнил: — Может, он, а может, и не он. Я прошу более четко выражать свои мысли. И потом. Что за творческое объединение на вашем участке? Вы интересовались их целями? Уж не они ли это делают копии известных мастеров кисти, а потом сбывают их? Копии, прямо скажем, сомнительного качества. Надо посерьезнее относиться к проявлениям такого рода творчества, а не взирать на этих людей с умилением. — Я вас понял, товарищ майор, — приподнялся с места Опарин.
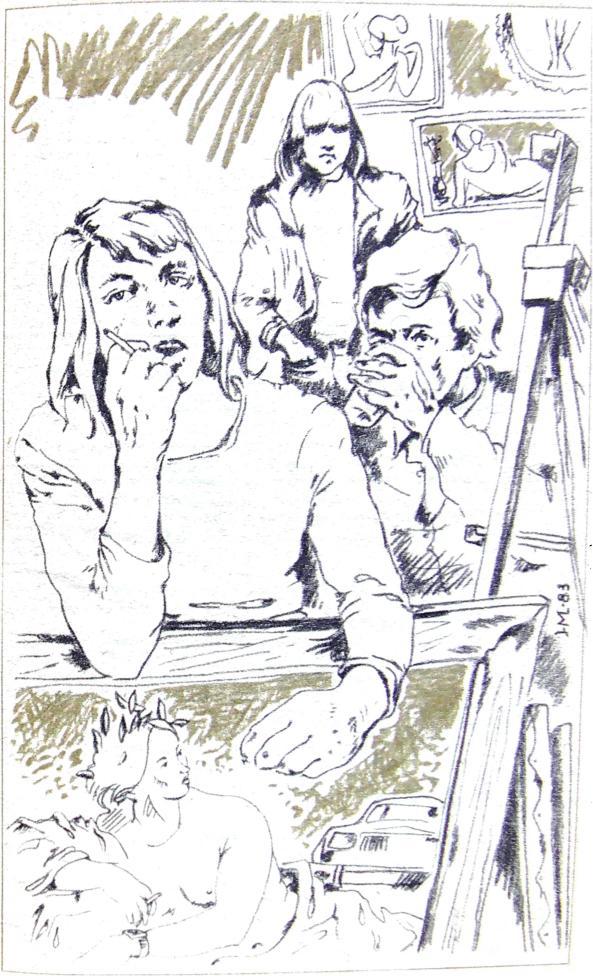 Отпустив участковых инспекторов, Яраданов будто ушел в себя. Он словно не слышал голосов своих коллег — иногда возбужденных, иногда деланно равнодушных. Они звучали в стороне, и звуки их словно не касались его ушей. Когда он думал о нападении на Травина, мозг его сверлила одна неотступная мысль: что, если это тот самый случай, о котором он читал в учебнике криминалистики?
— Сергей Яковлевич, вы спите, что ли? — удивленно спросил Корытин.
— Разве с вами уснешь, — улыбнулся Яраданов. — Подняли тут гвалт, как на базаре. Вот что: все версии, которые наметили, надо, естественно, отработать. А вас к тому же, Виктор Петрович, прошу выяснить, какими деньгами выдавалась на предприятии зарплата — старыми купюрами или новыми, которые в ходу еще не были?
— Какая разница? — удивился Дудин. — Лишняя-то работа зачем, товарищ майор?
Яраданов сделал вид, что не слышал реплики.
— Вы уж, Виктор Петрович, еще раз побывайте на предприятии, — повторил он настойчиво, — и узнайте, какими деньгами выдавалась зарплата. Пожалуйста, лично убедитесь в этом.
— Вечно у него причуды, у нашего Салмана, — говорил Дудин, когда все, не торопясь, выходили из управления. — Деньги… Старые, новые. Какое это имеет отношение к личности убийцы?
— Не горячись, Володя, — отвечал Корытин. — Значит, имеет. Не стал бы он гонять человека понапрасну.
— Тогда пусть объяснит, что к чему.
— А какой резон трезвонить загодя? Всему свое время…
Едва сотрудники вышли из кабинета Яраданова, как в приемную влетел Жилин. В руках он держал миниатюрный магнитофон.
— Наташенька, — крикнул секретарше, — пропусти без очереди. Срочно!
— Заходите, — сказала она, прихорашиваясь. — У него абсолютно никого.
— Сергей Яковлевич, — с порога заговорил Жилин, — кое-что проясняется, Мы опросили нескольких таксистов, в самое разное время. И все заявили, как сговорились: примерно в час ночи в районе автовокзала к ним подходили два рослых парня, один темноволосый, другой белесый, просили подкинуть до деревни Болотино.
— Так, так, любопытно…
— Ну, а таксисты знаете какие? Капризные… До Болотино не поехали, дескать, далеко. Вот тут я одного частника записал, Бубенцова, колоритная, скажу вам, личность. Хотите послушать?
Жилин включил магнитофон.
«Сижу я, значит, в своих «Жигулях», супругу ожидаю, — зазвучал глуховатый певучий голос — Подходят двое, рослые, здоровенные: «Мужик, до Болотино подбросишь?» «А сколь дадите?» — спрашиваю. «Считай, что четвертной у тебя в кармане», — говорит чернявый. «Дак это нормально», — отвечаю. И предлагаю садиться. Сели. Тот, который потемней, на переднее сиденье, другой — сзади. «Ну, чего застыл, трогай», — зашумели. Говорю, чуток обождите, ребятки, должон супругу дождаться. Тот, что рядом сел, нахальный такой, глазищи вытаращил: «Что, старик, баба с нами? Э, нет, баба — это к несчастью». И пулей из машины…»
— Молодец, Константин Андреевич, — удовлетворенно сказал майор. — Что записал — молодец. А теперь давай подумаем… Знаешь, что в рассказе Бубенцова наводит на размышление?
— Что они женщины испугались…
— Правильно. Но дело не в женщине. Они испугались второго лица. Зачем же им убирать с дороги сразу двоих? И дальше. Значит, если они могли подойти к Бубенцову, к другим водителям, точно так же могли попросить Мыльникова?
— Конечно.
— Слушай, Андреич. — Яраданов привстал из-за стола, глаза его загорелись. — Скажи мне, как выглядел Бубенцов? Какой он — толстый, грузный, массивный или…
— Хиляк он. Кожа да кости.
— А другие водители, с которыми Бабарыкин и Черемшанцев беседовали?
— Такие же тощие, Сергей Яковлевич, мы ж вместе ходили… Ясно, ясно, к чему вы клоните. Мыльников тоже телосложения хлипкого.
— Лет десять назад, — стал рассказывать Яраданов, — пришлось мне допрашивать одного типа, нападавшего на таксистов. И вот сейчас я вдруг отчетливо вспомнил его. У него, знаешь ли, была своя незатейливая логика. Он выбирал в жертву человека заведомо слабого, по крайней мере, производящего такое впечатление. С ним, дескать, легче управиться. Хотя, по правде говоря, преступник просчитался: один из «хилых» водителей оказался великолепным спортсменом, перворазрядником по боксу. Он так отхлестал нападавшего, что превратил его в бифштекс, честное слово. И сам же доставил в милицию.
— Эти парни тоже, видать, искали слабого, — отозвался Жилин. — И, кажется, нашли.
Вернулся Корытин. Приоткрыв дверь, доложил:
— Сергей Яковлевич, деньги выдавались новые, прямо-таки хрустящие. В пачках, перевязанных крест-накрест бумажными полосками. Купюры — пятирублевые.
— Неужели? — Яраданов заулыбался, потирая руки от удовольствия. В этот момент он был похож на мальчишку, который, не скрывая чувств, радуется предстоящей удаче. Теперь такое же слово «неужели» — произнес Корытин:
— Неужели это так важно, Сергей Яковлевич.
— Важно! Архиважно! — горячо заговорил майор. — Это, Виктор Петрович, заметно упрощает дело. Смотрите. Деньги новые, в пачках. Значит, располагались в определенной последовательности. Надо непременно узнать, кто получал зарплату перед Травиным или после него. А зная номера денег его товарища, произвести несложные подсчеты.
— Тогда мы узнаем, какие деньги, под какими номерами, следует искать. Я правильно понял?..
Отпустив участковых инспекторов, Яраданов будто ушел в себя. Он словно не слышал голосов своих коллег — иногда возбужденных, иногда деланно равнодушных. Они звучали в стороне, и звуки их словно не касались его ушей. Когда он думал о нападении на Травина, мозг его сверлила одна неотступная мысль: что, если это тот самый случай, о котором он читал в учебнике криминалистики?
— Сергей Яковлевич, вы спите, что ли? — удивленно спросил Корытин.
— Разве с вами уснешь, — улыбнулся Яраданов. — Подняли тут гвалт, как на базаре. Вот что: все версии, которые наметили, надо, естественно, отработать. А вас к тому же, Виктор Петрович, прошу выяснить, какими деньгами выдавалась на предприятии зарплата — старыми купюрами или новыми, которые в ходу еще не были?
— Какая разница? — удивился Дудин. — Лишняя-то работа зачем, товарищ майор?
Яраданов сделал вид, что не слышал реплики.
— Вы уж, Виктор Петрович, еще раз побывайте на предприятии, — повторил он настойчиво, — и узнайте, какими деньгами выдавалась зарплата. Пожалуйста, лично убедитесь в этом.
— Вечно у него причуды, у нашего Салмана, — говорил Дудин, когда все, не торопясь, выходили из управления. — Деньги… Старые, новые. Какое это имеет отношение к личности убийцы?
— Не горячись, Володя, — отвечал Корытин. — Значит, имеет. Не стал бы он гонять человека понапрасну.
— Тогда пусть объяснит, что к чему.
— А какой резон трезвонить загодя? Всему свое время…
Едва сотрудники вышли из кабинета Яраданова, как в приемную влетел Жилин. В руках он держал миниатюрный магнитофон.
— Наташенька, — крикнул секретарше, — пропусти без очереди. Срочно!
— Заходите, — сказала она, прихорашиваясь. — У него абсолютно никого.
— Сергей Яковлевич, — с порога заговорил Жилин, — кое-что проясняется, Мы опросили нескольких таксистов, в самое разное время. И все заявили, как сговорились: примерно в час ночи в районе автовокзала к ним подходили два рослых парня, один темноволосый, другой белесый, просили подкинуть до деревни Болотино.
— Так, так, любопытно…
— Ну, а таксисты знаете какие? Капризные… До Болотино не поехали, дескать, далеко. Вот тут я одного частника записал, Бубенцова, колоритная, скажу вам, личность. Хотите послушать?
Жилин включил магнитофон.
«Сижу я, значит, в своих «Жигулях», супругу ожидаю, — зазвучал глуховатый певучий голос — Подходят двое, рослые, здоровенные: «Мужик, до Болотино подбросишь?» «А сколь дадите?» — спрашиваю. «Считай, что четвертной у тебя в кармане», — говорит чернявый. «Дак это нормально», — отвечаю. И предлагаю садиться. Сели. Тот, который потемней, на переднее сиденье, другой — сзади. «Ну, чего застыл, трогай», — зашумели. Говорю, чуток обождите, ребятки, должон супругу дождаться. Тот, что рядом сел, нахальный такой, глазищи вытаращил: «Что, старик, баба с нами? Э, нет, баба — это к несчастью». И пулей из машины…»
— Молодец, Константин Андреевич, — удовлетворенно сказал майор. — Что записал — молодец. А теперь давай подумаем… Знаешь, что в рассказе Бубенцова наводит на размышление?
— Что они женщины испугались…
— Правильно. Но дело не в женщине. Они испугались второго лица. Зачем же им убирать с дороги сразу двоих? И дальше. Значит, если они могли подойти к Бубенцову, к другим водителям, точно так же могли попросить Мыльникова?
— Конечно.
— Слушай, Андреич. — Яраданов привстал из-за стола, глаза его загорелись. — Скажи мне, как выглядел Бубенцов? Какой он — толстый, грузный, массивный или…
— Хиляк он. Кожа да кости.
— А другие водители, с которыми Бабарыкин и Черемшанцев беседовали?
— Такие же тощие, Сергей Яковлевич, мы ж вместе ходили… Ясно, ясно, к чему вы клоните. Мыльников тоже телосложения хлипкого.
— Лет десять назад, — стал рассказывать Яраданов, — пришлось мне допрашивать одного типа, нападавшего на таксистов. И вот сейчас я вдруг отчетливо вспомнил его. У него, знаешь ли, была своя незатейливая логика. Он выбирал в жертву человека заведомо слабого, по крайней мере, производящего такое впечатление. С ним, дескать, легче управиться. Хотя, по правде говоря, преступник просчитался: один из «хилых» водителей оказался великолепным спортсменом, перворазрядником по боксу. Он так отхлестал нападавшего, что превратил его в бифштекс, честное слово. И сам же доставил в милицию.
— Эти парни тоже, видать, искали слабого, — отозвался Жилин. — И, кажется, нашли.
Вернулся Корытин. Приоткрыв дверь, доложил:
— Сергей Яковлевич, деньги выдавались новые, прямо-таки хрустящие. В пачках, перевязанных крест-накрест бумажными полосками. Купюры — пятирублевые.
— Неужели? — Яраданов заулыбался, потирая руки от удовольствия. В этот момент он был похож на мальчишку, который, не скрывая чувств, радуется предстоящей удаче. Теперь такое же слово «неужели» — произнес Корытин:
— Неужели это так важно, Сергей Яковлевич.
— Важно! Архиважно! — горячо заговорил майор. — Это, Виктор Петрович, заметно упрощает дело. Смотрите. Деньги новые, в пачках. Значит, располагались в определенной последовательности. Надо непременно узнать, кто получал зарплату перед Травиным или после него. А зная номера денег его товарища, произвести несложные подсчеты.
— Тогда мы узнаем, какие деньги, под какими номерами, следует искать. Я правильно понял?..
КОГДА Пелагею Никитичну связали и бросили в небольшой грязный закуток, где хранились веники, тряпки и прочий хлам, сначала она буквально онемела от страха. Но придя в себя, стала кричать, звать на помощь. Никто не отозвался. Потом поняла, что связаны только руки. Ногой открыла дверцу, с трудом приподнялась. Так, связанная по рукам, и прибежала к дочери. Дверь открыл зять, ахнул: «Маманя, что с тобой?» Дочь запричитала: «И зачем тебе эта работа? Говорила ведь, бросай… Что у нас, денег нету? На холодильник не наберем?» Зять тут же по «02» связался с милицией. И вот уже телефонный звонок дежурного по УВД майора милиции Кравца поднимает с постели майора милиции Яраданова. — В поселке Раздольное, на птицефабрике, ограблена касса, — отчетливо, как диктор на вокзале, говорил Кравец. — Сторожа связали, сейф увезли… Начальник УВД города был вызван в областной центр, и Яраданов принял командование на себя. На место происшествия выехали оперативные сотрудники, следователь, эксперт-криминалист, кинолог. В числе первых оказался там работник дежурной части УВД Завадский. Бывший сотрудник ГАИ, он сразу же обнаружил неподалеку от конторы свежий след протектора, оставленный «Москвичом». «Надо сообщить дежурному, — подумал Завадский, — что искать следует «Москвич». — Валерий Васильевич! — Завадский обернулся на голос и увидел растерянного Женю Борисова, местного шофера, которого хорошо знал. — Валерий Васильевич, а у меня гараж взломан и мой «каблучок» угнали. Завадский мгновенно сориентировался: «каблучком» водители называют машину «ИЖ», у которой колесная основа «Москвича». Значит, след оставил не «Москвич», а именно «ИЖ». Он побежал в контору, к телефону. — Искать надо «каблучок», — сообщил в дежурную часть. Номер: 40—49 ЧОП. Перекрывались дороги, ведущие на соседние областные города, перекрестки, паромная переправа через реку Шершавку. Поднимался в воздух вертолет. На месте происшествия в поте лица трудилась следственно-оперативная группа. Накануне ограбления кассы коридор второго этажа был тщательно вымыт, и эксперту Любови Жигульской не составляло особого труда обнаружить целую дорожку «пылевых» следов. Причем, одни были оставлены подошвами, другие — какой-то мягкой тканью. У эксперта возникло предположение, что кто-то из преступников снял обувь и шел в носках. — И еще одна деталь, Михаил Федорович, — докладывала Жигульская начальнику экспертно-криминалистического отдела Селиверстову. — В подметочной части обуви левой ноги есть характерная особенность, вроде бы шов. Просматривается четко. Работник уголовного розыска расспрашивал сторожа. Напуганная до смерти Пелагея Никитична жалобно всплескивала руками, повторяя одно и то же: — Ой, умру, не выдюжу. Ой, судить меня мало… — Успокойся, бабушка. Как они выглядели? — Они ж, анчихристы, бабьи чулки на свои рожи понапялили… Ну, прямо пантомасы. О, господи! Ты прости меня, мать царица небесная, понаделали кин всяких… — Ты, бабушка, не отвлекайся. Скажи, сами-то они какие? — Длинные дылды… Как столбы телеграфные. Плечищи — во! Одного я запомнила, он раньше приходил вроде бы на разведку. Она опять запричитала, «запела» по-волжски: — Что ж я, дура, молчала-то? Ой, грех какой, прости меня, господи. Спрашивашь, какой из себя? Лицо худое, злобное. Волосы темные, курчавые, как у барашка. Ты токо слови — узнаю враз! А тем временем в УВД города поступило сообщение: одна гражданка, собирая на опушке леса грибы (примерно в 40 километрах от Челновска), обнаружила труп мужчины. Это, как выяснилось, был водитель такси Павел Мыльников. Дело к своему производству приняла прокуратура.
КАПИТАНУ Корытину действительно не составляло особого труда установить очередность получения зарплаты. Кассир Железнякова пояснила: — Сам Травин деньги не получал. Он торопился на заседание завкома и попросил своего напарника — Григорьева Николая Демьяновича. У нас такое разрешается и, представьте себе, никаких недоразумений. Сначала Николай Демьянович свои получил, а уж потом за Травина расписался. Очень хорошо помню. К Корытину подошла молодая дородная женщина. Представилась: Строганова, из отдела кадров. — Вы уж про Николая Демьяновича не подумайте что плохого, — несколько обиженно, как показалось Корытину, проговорила она. Сама видела, как передавал он деньги Травину. Токарь Николай Демьянович Григорьев встретил сотрудника милиции доброжелательно. Узнав, что для раскрытия преступления необходимо знать номера его денег, тотчас достал кошелек. — Почти все целехоньки. Лишь пятерку разменял. Жена у меня в отпуске, в деревню поехали, вот и ношу зарплату с собой. — Скажите, Николай Демьянович, Травин никому не отдавал денег? Мог же он долги вернуть, взносы заплатить. — Нет, нет. Когда он с завкома пришел, мы с Натальей Петровной Строгановой, из отдела кадров, разговаривали в цеху. Тут я ему и отдал деньги. Смена заканчивалась, и взносы уже никто не принимал. Вскоре Травин ушел домой… Вы скажите, он будет жить? Корытин не ответил, лишь плечами пожал. Затем переписал номера банкнот, принадлежавших Григорьеву, и сразу же вычислил, как того требовал Яраданов, последующие номера пятирублевок, которые должны были находиться в кармане Травина. Прибыв в управление, он протянул Яраданову лист бумаги с выписанными в столбик цифрами. Майор проводил «оперативку» и был весь в делах. — Извините, Сергей Яковлевич, я, наверное, не вовремя, — смутился Корытин. — У нас все дела важны, Виктор Петрович, — спокойно ответил заместитель начальника УВД. Посмотрел на цифры. — Превосходно. Теперь будем думать дальше… В тот же вечер с помощью целой группы сотрудников милиции он поставил в известность всех работников магазинов, закусочных и кафе, всех торговых точек города. Указав номера денег, которыми завладел преступник, майор особо подчеркнул: каждый, кто сообщит об этом, будет поощрен руководством УВД. Хотя работа велась и по другим направлениям, сам Яраданов на следующий день напряженно ждал, ни на минуту не выходя из кабинета. Каждый телефонный звонок он воспринимал с волнением. «Из магазина», — екало сердце. Но звонили по самым разным поводам и самые разные люди. И только часам к семи вечера, когда измученный ожиданием, уставший и голодный, он, оставив за себя инспектора, направился было к двери, раздался этот важный для него звонок. Он почувствовал всем своим нутром, что звонят именно по тому делу, и бросился к аппарату сломя голову, словно боялся, что там, на дальнем конце провода, не дождутся, положат трубку. — Яраданов слушает! — Вас мне и надо, — ответил мягкий женский голос. — Задержали… Приезжайте по адресу… Задержанным оказался двадцатитрехлетний киномеханик Анатолий Климушин, которого доставили в соседний райотдел. Туда и прибыл Яраданов. — Объясните, молодой человек, — обратился к нему майор, — почему деньги, имеющие такую нумерацию, оказались в ваших руках. Дело в том, что они принадлежат другому человеку, которого ограбили и покалечили. Климушин широко раскрыл глаза: — Как? Нет, вы это серьезно? Да меня ж Никита Лыриков послал… Ах, он… То-то я гляжу, у него этих пятирублевок — хоть квартиру оклеивай. «Сам, — говорю, — что ли, наделал?» «Почему сам, — отвечает, — подкалымил». Он и послал меня за тремя бутылками. Через некоторое время был задержан клубный оформитель, один из членов общества «Кукрыниклы» Никита Лыриков. В карманах его тужурки нашли почти всю зарплату, принадлежавшую Травину. Казалось, Лыриков был парализован. Вначале он ничего не говорил, лишь растерянно хлопал глазами. Постепенно пришел в себя. В райотделе, в кабинете Корытина, его допросили. — Откуда у вас эти деньги? — Мои, кровные, — с вызовом и даже как-то визгливо ответил Лыриков. — Зарплату получил. Ну и приработок у меня. А-а, вон оно что… Догадываюсь, почему вы меня взяли. Дескать, откуда приработок. А у меня талант. Понимаете? Талант! Которого у вас нету. Иначе бы вы не хватали невинного человека. Да, я рисую и продаю. Это мой труд… — Никита Васильевич, — миролюбиво сказал Яраданов, — вы, пожалуйста, успокойтесь. Что касается продажи картин, разберемся. Но сейчас речь не об этом. Нас интересуют купюры, которые находились в вашем кармане. Они принадлежат другому человеку. На него напали, ограбили. И сейчас за его жизнь борются врачи. — Так бы и сказали. А то хватают, понимаешь, от искусства отрывают. Стремясь продолжить разговор в нужном русле, Яраданов поспешил согласиться: — Да, конечно, товарищ Лыриков, вы — человек искусства, и мы это понимаем, только убедительная просьба говорить по существу. — Деньги я получил от Карабаса-Барабаса, — громко сказал Лыриков. — То бишь от слесаря завода «Кондиционер» Карабасова Бориса Валерьяновича. За две мои, сознаюсь, перерисованные картины, правда, не помню какого автора, но я дополнил их своими, созданными лично мною, деталями. — Он, Сергей Яковлевич, «Спящую Венеру» Джорджоне изобразил с электронными, часами, — сказал Корытин. — Карабасова? — переспросил Яраданов, подумав при этом, что такую фамилию он где-то слышал. Вспомнил: о Карабасове говорилпо радиосвязи дежурный Шальнов, когда информировал о нападении на Травина. Он, Карабасов, что-то искал в разрушенном доме и обнаружил человека в бессознательном состоянии. Выходит, Карабасов напал на своего коллегу и сам же сообщил в милицию? Ловко. «А впрочем, чему удивляться — и такое бывает», — подумал майор. Задержанный Карабасов, узнав о причине интереса милиции к его скромной персоне, долго молчал, опустив голову, и капитан Корытин, не желая попусту тратить время, напомнил молодому, щегольски одетому мужчине, что надо, видимо, сознаться и подробно рассказать о том, как он напал на Травина и ограбил его, как на другой день вроде бы случайно обнаружил потерпевшего. — Ну, зачем вы так, Виктор Петрович? — укоризненно сказал Яраданов. Возможно, он и сам считал, что перед ним преступник, но предпочел другую манеру разговора. Майор милиции осуждал прямолинейные атаки на тех, кого по долгу службы приходилось допрашивать. — Вся сложность… моего положения… заключается в том, что… — Карабасов говорил, словно клещами вытягивал из себя слова. — Мне трудно… защищаться. Я в дурацком положении… Заерзал на стуле Корытин: — Да поймите же: вы расплатились с Лыриковым деньгами Травина. Как они оказались у вас? — Моим россказням… вы можете не поверить, — закусив губу проговорил Карабасов, — а человек, который мне эти деньги одолжил наверняка откажется, Тем более, он судимый. Зачем ему… добровольно хомут… на себя надевать. И вся вина… ляжет на меня. Но у меня алиби… Если на него напали… четырнадцатого вечером… я находился… Вы проверьте… — Борис Валерьянович, не говорите загадками, — попросил Яраданов. — Кто вам одолжил деньги? — Игорь Зяблин. Он вернулся… из мест лишения… Вы его знаете, он в милиции отмечался… и сам товарищ Корытин с ним беседу проводил — так мне Зяблин сказал. Ведет он себя тише воды, ниже травы, правда, спиртным увлекается. Но я не думаю, что Игорь напал на Травина. Однако деньги такими купюрами дал мне Зяблин.
Карабасов успокоился и не казался таким косноязычным, как ранее. — Игорь, — продолжал он, — зашел ко мне, когда я рассматривал картину «Купальщица», которую Лыриков оставил мне на вечер, — он ее срисовал с какого-то оригинала. Попросил за нее 160 рублей. Я коллекционер, причем редкий: собираю картины обнаженных женщин… Вот вы улыбаетесь. А напрасно. Нынче все что-нибудь собирают. В Англии, например, один джентльмен трамвайные вагоны коллекционирует. А Тимирязев, да будет вам известно, чемоданы собирал. И это факт доподлинный. Так вот. Я посетовал, что не имею таких денег. Тогда Зяблин и выручил меня. Он отсчитал 32 пятирублевки. Я еще пошутил, а нельзя ли рублями. «Такими в колонии дали», — ответил. Вошел сержант. Четко, по-уставному обратился к Яраданову: — Товарищ майор, гражданин Лыриков, который в соседнем кабинете, изъявляет желание, чтобы его отпустили. — Что ж, — поднялся Яраданов, — перед Никитой Васильевичем надо извиниться. Зашел в кабинет, где Лыриков вел какую-то беседу «за жизнь» с одним из работников уголовного розыска, сказал прямо с порога: — Вы, Никита Васильевич, на нас не обижайтесь. Уж такие обстоятельства. — Да я что, непонятливый разве? Я все понимаю, — поднялся со стула клубный оформитель. — Но сбытом картин вы все же не занимайтесь. Мы ведь это дело так не оставим. — Когда я работаю, то испытываю огромное счастье от своего труда, — снова на высокой ноте заговорил Лыриков. — А вы хотите лишить меня этого счастья. Знаете, что сказал Горький? «Человек рожден для счастья, как птица для полета». — Слова действительно хорошие, — согласился Яраданов. — Только позвольте маленькую поправочку внести, совсем, можно сказать, несущественную: слова эти принадлежат писателю Короленко. — Разве? — округлил глаза один из «Кукрыниклов».
ЗЯБЛИНА задержали при типичных для него обстоятельствах: во дворе жилого квартала, рядом с кустами акации он в одиночку, приняв позу горниста, тянул из горлышка бутылки вино местного производства. — Вот жизнь настала, — сетовал он, обращаясь к сопровождающему его сотруднику милиции. — Бедному человеку и выпить нельзя. Ну оштрафуйте, ну мораль прочтите, но зачем же в милицию тащить? В райотделе Зяблина ждал капитан Корытин. К этому времени он уже навел справки о всех, кто был ранее задержан. И лишний раз убедился, что были они вне всяких подозрений. Зяблин четырнадцатого вечером болтался примерно в том районе, где произошло нападение на Травина. Его видели повсюду — мальчишки, старушки-пенсионерки, сидевшие на лавочках.
Корытин, любивший действовать с кавалерийского наскока, сразу же пошел в атаку, нажимая на голосовые связки: — Откуда у вас деньги — тридцать две пятерки, которые вы одолжили слесарю Карабасову? Предупреждаю: не врать! В колонии вам таких денег не выдавали, мне это известно. — Деньги? — Зяблин переспросил, видимо, желая собраться с мыслями. Растерянность его исчислялась какими-то секундами — не больше. — У меня был японский транзистор… Он откашлялся и продолжал говорить ровно, спокойно: — Поношенный, правда. Кореш один подарил. Эту прелестную вещицу я и продал одному из парней. Если фамилией будете интересоваться, то не назову. С тем парнем встретился случайно. Ехал в вагоне местного поезда. — Когда ехали? — прервал его Корытин. — Утром пятнадцатого. «А ведь похоже на правду, — подумал Корытин. — На Травина напали четырнадцатого вечером, а утром пятнадцатого Зяблин действительно уезжал из Челновска в Березняки к тетке на именины и вернулся в тот же день». — Словом, мы разговорились, — продолжал Зяблин. — Ему транзистор мой приглянулся. Ну, а вам я по секрету скажу, что в транзисторе куча неисправностей. В общем, сошлись на сходной цене. А потом эти деньги Карабасу-Барабасу одолжил. У него бзик в голове: живых, натуральных женщин презирает, а картинами обнаженных увлекается. Тоже мне пижон… — Кто подарил вам транзистор? Фамилия? — наступал Корытин. — Пожалуйста. Могу и фамилию назвать: Болдин. Гена Болдин. Только вам его ни за что не найти. Он в бегах. Сами же объявление повесили. Был условно освобожденным в комендатуре нашего города. Сбежал. Теперь по свету мается. И потом он хитрый — Генка. Умный. Вы его, клянусь свободой, не поймаете… Корытин рассматривал изъятый у Зяблина новенький блокнот с алфавитными буквами — для телефонных разговоров. Его страницы были чисты. И только на странице с буквой «Ч» стояла запись — Чокнутый. В скобках имя — Валя. И номер телефона. — Кто это — Валентин Чокнутый? — спросил капитан. Зяблин вдруг заулыбался: — Да так, знакомый. — Фамилия, что ли? Или кличка? — Просто зовут так за некоторые его странности… Через какой-то час после допроса Зяблина Корытин уже знал: Валя — это Валя Валунова, одинокая двадцатисемилетняя женщина, проживающая в рабочем общежитии, а «чокнутый» — тот самый Геннадий Болдин, Валин дружок, которого давно разыскивает челновская милиция.
ЛЕЙТЕНАНТ милиции Кулаев поднялся быстро, едва в прихожей раздалась мелодичная трель звонка. «Тревога!» — услышал за дверью знакомый голос работника дежурной части. Жена, Людмила, тоже проснулась. Немного поворчала: «Ну что они там? Тридцать лет человеку, а гоняют, как мальчишку». Лишь Виталька, шестилетний малыш, мерно посапывая, продолжал спать в своей кроватке. Виктор Кулаев завел «Москвич», выделенный совхозом специально для него, участкового инспектора, и помчался к своему райотделу. Конечно, надо бы завернуть в УВД, где хранился его «макаров», — Индустриальный РОВД создан совсем недавно, условий хранения оружия там пока еще нет, но сержант, приехавший за Кулаевым, передал приказ, чтобы в райотдел участковый прибыл как можно быстрее. Начальник РОВД майор милиции Болотников, введя в курс дела и поставив задачу, подчеркнул: — Искать машину «ИЖ» под номером 40—49 ЧОП, лимонного цвета, угнанную из гаража… Кулаев выбежал из райотдела, завел «Москвич» и понесся на свой участок в поселок Таболо, чтобы поднять своих активистов и перекрыть строящийся мост. Рассвело. Внезапно увидел своего помощника Льва Панфиловича Спиридонова, ехавшего на мотоцикле, внештатного участкового инспектора, крепкого, кряжистого мужчину лет пятидесяти. Работал он всегда на совесть, обстановку в поселке знал досконально. — Привет, Лев Панфилыч! — Кулаев приоткрыл дверцу. — Рад видеть. — Я чего на ногах-то, Николаич? — перебил его Спиридонов. — Неспокойно в поселке. Сдается мне, чужаки залетные нагрянули. Двое, на машине. То в один конец газанут, то в другой. Заблудились, может? Да и то сказать, у нас тут за Шершавкой и заблудиться нетрудно. Особливо нездешним. — Что за машина? Номер запомнили? — Как не запомнить: 40—49 ЧОП. — Так мы же ищем ее, — обрадованно крикнул лейтенант. — Где она? — В ту сторону укатила. — Спиридонов показал в направлении турбазы. — Вот что, Лев Панфилыч, давайте искать вместе. Я поеду по этой дороге, а вы на мотоцикле в объезд по той. Если вы их повстречаете, прошу ничего не предпринимайте, они могут быть вооружены. Сделайте вид, что вас они абсолютно не интересуют. Но мне сигнал дайте. А я пока передам в дежурную часть, что «каблучок» в нашем районе. Снял милицейский китель, поверх форменной рубашки надел старую кожаную куртку — для маскировки. Вот только брюки милицейские с красным кантом. Но что же делать? По лесной извилистой дороге проехал до самой Черной речки — так называли здесь говорливый узкий ручеек, петлявший в глубине леса. Остановил машину возле каких-то кустов. Спрыгнул на землю, пошел прямиком к речке. Он знал, что туда нередко приезжают водители, мотоциклисты, чтобы освежиться холодной водой, отдохнуть на бережку. В лесу было тихо, прохладно. Вглядываясь в даль, Кулаев не заметил, как сбил ногою гриб. Это был молодой красношляпый подосиновик. Еще один. Ба! Да сколько их здесь! Жаль, не время собирать. Надо как-нибудь с Людой приехать сюда. Показалась речка. Кулаев оглядел местность, и сердце его дрогнуло, когда в зелени травы и деревьев он увидел лимонный цвет автомашины. «Ну конечно же, — «каблучок»! А вот и они, два здоровенных парня. Удобно расположились на траве, что-то жуют и о чем-то тихо беседуют. Рядом бутылки, на обрывке газетной бумаги — закуска. Треснул сучок под сапогом Кулаева, и моментально вскочили те двое, побежали к машине. Лейтенант вел себя спокойно. Изображая из себя грибника, не спеша отошел назад и, лишь когда оказался за кустом, бросил зажатые в ладони грибы и стремглав побежал к своей машине. Виктор слышал, как там, у речки, завелся «каблучок», как рванулся он с места и поехал в сторону Табола. Кулаев крепко сжал зубы: ну теперь-то он их догонит. И все-таки он потерял преступников из виду. Слишком велика была скорость, которую они развили. Эта скорость, по замыслу, должна была выручить их, но она их погубила. Преследуя угнанный автомобиль, Кулаев заметил на дороге огромное темное пятно. Подъехав, увидел разлитое машинное масло. Рядом топорщилась бетонная плита. Нетрудно было догадаться, что машина налетела на приподнявшийся край плиты и разбила картер двигателя, «значит, больше километра не проедут», — подумал Кулаев. И действительно: вскоре, миновав место аварии, он увидел разбитый «каблучок». Возле него хлопотали те двое. Лейтенант подъехал как можно ближе. Из машины решил не выходить, потому что красный кант на серых брюках мог его выдать. Только теперь Виктор отчетливо увидел их. Да, это преступники. Черноволосый судорожно перекладывает пачки денег в белое полотенце, быстро заворачивает их и оглядывается, интересуясь подъехавшим водителем. На вид ему — лет двадцать пять. Лицо в крови. Откуда кровь, — Кулаев узнает позже: в момент аварии тот, кто вел машину, сильно ударится переносицей о руль. Вот они оба встали, распрямились. Участковый инспектор видит, какие они рослые, крепкие. Он и сам не маленький — 1 метр 80 сантиметров. Но эти выше и, чувствуется, физически сильней его. Что делать? Вступить в единоборство? Одному против двоих, на безлюдной лесной дороге? Убьют, завладеют его машиной… Нет, такой план не годится. Уж сколько раз говорилось и в райотделе, и в УВД, и в союзном министерстве, чтобы без нужды на пулю не лезть, чтобы трезво оценивать обстановку, идти на хитрость, проявлять смекалку. «Думайте о тактике своих действий, — неустанно повторял Яраданов. — Иной раз можно и отступить, это не зазорно, с тем, чтобы впоследствии взять преступника наверняка. Главное, не бросайтесь, как пишут в иных газетах, «не долго думая», а по-нашему — очертя голову. Думать надо всегда». Так что поспешность ни к чему. Машина у них разбита. Они уже в западне и далеко все равно не уйдут. — Здорово, браты! Бензинчику не одолжите? Ведерко. Кулаев был абсолютно уверен, что не одолжат. Не до услуг им. Но он учел и дополнительный вариант на случай, если преступники согласятся помочь. Тогда нужно выходить из машины, и красный кант на брюках может испортить дело. Значит, он, Кулаев, не выйдет, а скажет: «Я вижу, у вас своих хлопот невпроворот. Ладно. Как-нибудь дотяну до хаты». Получилось проще. В ответ черноволосый огрызнулся: — Проваливай отсюда. Видишь, сели на прикол. Кулаев какие-то секунды помедлил, желая лучше рассмотреть лица парней. Затем включил газ: — А-а, ну извиняйте. И быстро уехал. Теперь его занимало только одно: где взять подмогу? И чего медлит дежурный, где обещанные им силы? Кулаев не знал, что Яраданов и прибывшая из областного центра группа руководящих работников во главе с заместителем начальника УВД полковником милиции Давыдовым уже перебрасывают силы и средства милиции в район Табола. Он остановился, вышел из машины, чтобы оглядеться. Услышал шум работающего двигателя. О, радость! Его догонял голубой «Москвич-412» Афанасия Миронова, сельского дружинника, одного из лучших тружеников села. Конечно же, Афанасий возвращался с рыбалки, он любит на зорьке заняться этим делом. Парень он покладистый. Да и здоровьем не обижен. На него можно положиться. Миронов остановил машину, подошел к участковому. — Что случилось, Виктор Николаевич? — встряхнув головой, поправил пальцами рук свои густые черные волосы. — Ты видел… этих… двоих? — У ребят несчастье, видно. Хотел помочь, но они на меня как цыкнули… — Афоня, это — опасные преступники, их надо задержать во что бы то ни стало, помоги мне, — он выпалил одним духом, боясь, что Миронов не согласится, оставит одного. Но Афанасий сказал удивительно просто: — У меня топор есть, Виктор Николаевич. — Отлично. Только это в крайнем случае. Ты же крепкий парень, спортивный. — Лады. Едем на вашей машине? — Нет, Афоня, на моей нельзя. Кажется, они меня уже заподозрили. Давай уж на твоей… Кулаев пересел в машину Миронова и повел ее сам. Вскоре показался разбитый лимонный «каблучок». Но где же его пассажиры? — Ушли, Виктор Николаевич, — вздохнул Миронов. — Не могли они далеко уйти, — ответил участковый инспектор. Он осмотрелся и увидел, как метрах в трехстах от дороги по берегу Шершавки устало тащились двое. Они! — Кажется, выходят на бетонку, — сказал Миронов. — Куда ж им еще выходить? — отозвался участковый. — Так что, Афоня, будем брать. Он наскоро проинструктировал его. Малость подождали, чтобы преступники ступили на дорогу. Кулаев круто развернулся и повел машину, догоняя спокойно шагавших грабителей. Все меньше расстояние до них, все тревожнее стучит сердце. Вот оба, заслышав шум мотора, почти одновременно обернулись и, давая возможность проехать автомобилю, расступились по разным сторонам дороги. «Афоня, это ж великолепно, — шепчет Кулаев. — Твой — справа, мой — слева. Только сразу, мгновенно…» Все произошло в считанные секунды. Машина встала, как вкопанная, и Кулаев стрелой метнулся к рослому детине. Молниеносный прием, и преступник опрокинут в дорожную пыль. Но он отчаянно сопротивляется, Кулаев чувствует его недюжинную силу, и все-таки сказывается мастерство самбиста. Лейтенанту удается прижать детину к земле, провести болевой прием и уже за спиной преступника защелкнуть наручники, которые он предусмотрительно положил в карман куртки. А что же Миронов? Ах, какая досада — не успел Афанасий. Видимо, сноровки не хватило. Не было стремительности в его действиях, и черноволосый, со свертком в полотенце, успел отскочить в сторону, увернуться от удара. Будто затравленный зверь, кинулся он в кусты. Первым желанием Кулаева было оставить задержанного на попечение Миронова и броситься в погоню. Но обожгла тревога, а вдруг и этот уйдет? Нет, нельзя рисковать… — Слушать мою команду, — крепко держа преступника, властно сказал лейтенант…
ЗАДЕРЖАННЫЙ Шатров ничего, не говорил о своем сообщнике. Зло ругаясь, повторял одно и то же: — Вы еще ответите за свои вольности, вы еще меня узнаете. Беззаконие! — Кто с вами был, почему он убежал? — спрашивал полковник Давыдов. — Знать не знаю, понятно? — кричал Шатров. — Шел по дороге, увидел машину, попросил помочь. А потом эта дурацкая авария. Человек нос перебил. Не мог же я его бросить! — Ладно, пусть успокоится, — распорядился Давыдов. Шатрова увели. — Обувь его осмотрели? — Да, Василий Иванович, — сказал старший эксперт УВД области майор милиции Менской. — След, изъятый Жигульской с места ограбления кассы, оставлен левым ботинком Шатрова. Тут все ясно. Взгляните на этот шов. — Хорошо, Марк Михайлович. Сейчас важно найти второго. Сергей Яковлевич, — обратился Давыдов к Яраданову, — как вы думаете, кто второй? — Болдин, условно освобожденный, по кличке «Чокнутый». Сбежал из комендатуры, его давно мы ищем. Вот и УВД области выдало информацию: к ограблению кассы может быть причастен Болдин. — А что говорят Кулаев и Миронов? Они же видели его в метре от себя. — Совершенно верно. Когда им показали фотографию Болдина, воскликнули в один голос: он. Кроме того, Болдина опознали по фотографии водитель-частник Бубенцов, сторож Пелагея Никитична и некий Зяблин, подозреваемый в совершении другого преступления. После поимки Шатрова весь день искали второго преступника. Прочесывали лесные массивы, дежурили на перекрестках, на пароме. Кулаев нашел в лесу взломанный сейф, в котором находился целый ворох обугленных бумаг, преимущественно ведомостей. Преступника, однако, и след простыл. Вечером того же дня группа Давыдова собралась в кабинете майора Яраданова. Было высказано предположение, что Болдину, вероятно, удалось проскочить через Шершавку в город, поскольку в лесу ему находиться просто опасно. Деньги, мол, имеются, так что мог подговорить какого-нибудь лодочника переправить его на тот берег. Разрабатывался план задержания Болдина. Вспомнили про сведения, добытые капитаном милиции Корытиным: Болдин мог скрываться у Валентины Валуновой. Поэтому утром следующего дня за общежитием установили контроль, в засаде находилась оперативная группа. Примерно в 10 часов утра заместитель начальника Индустриального райотдела капитан милиции Муравлянский вызвал к себе в кабинет Валунову. — Валентина Васильевна, — сказал он, — мы разыскиваем Геннадия Болдина, вашего приятеля. Где он может находиться? — Ой, не знаю, — ответила Валунова. — Он давно уже не приходил. — Валентина Васильевна, это правда? — спросил Муравлянский. Она замялась, засмущалась: — А что он такого натворил? — Не нравятся нам его связи с женщинами легкого поведения, — не говоря правды, Николай Владимирович Муравлянский в то же время не лгал, поскольку Болдин действительно не отличался разборчивостью связей. — Надо его несколько одернуть, приструнить. И вы нам должны помочь. У нас просьба: как только он придет в общежитие, обязательно сообщите нам. Хорошо? Она согласно кивнула головой, и Муравлянский отпустил ее.
Группа, находившаяся в засаде, не смыкала глаз. Болдина не было. Неутешительные вести приходили из лесу: обшарили, кажется, все. Нигде нет. Проверялись другие связи. Безрезультатно. И все же Муравлянский продолжал держать под наблюдением комнату Валуновой. Ровно через сутки после первого разговора с ней капитан вызвал ее повторно. — Ну что, Валентина Васильевна, не приходил Геннадий? — Вы знаете… приходил. — Так что ж вы не сообщили? Мы ж договорились. — Муравлянский сделал вид, что сообщение Валуновой расстроило его. — Не могу я… — она потупила голову. — Он жениться на мне обещал. А знаете, как нелегко одной-то жить? «Приходил? — подумал Муравлянский. — Как же он мог прийти незамеченным? Выходит, опергруппа проглядела? Но это исключается — ребята надежные. А может, неправду говорит Валентина, может, вовсе не приходил? Впрочем, сейчас проверю». — Скажите, Валя, как выглядел Геннадии в тот момент, когда он пришел к вам? Она ответила не мешкая, и, как показалось Муравлянскому, весьма доверительно: — Вы знаете, с ним что-то случилось. Лицо было в крови, нос перебит. Сказал, что подрался с кем-то. Я ему еще помощь оказывала. — И куда он ушел? Валунова на мгновение замолкла, задумалась. — Не знаю, — сказала отрешенно. — Ушел и все. Едва за Валуновой захлопнулась дверь, как Николай Владимирович шумно встал, потирая руки. Лицо его светилось. Он позвал начальника отделения уголовного розыска старшего лейтенанта милиции Покотило, рассказал ему о разговоре. — Валунову надо понять, — продолжал Муравлянский. — Она и нас вроде бы не желает обманывать, и Болдина выдать не может. Но вот какая штука получается. Наша оперативная группа смотрит, как говорится, в оба. Значит, Болдин не мог прийти в двадцатую квартиру. Так? Так. Но это с одной стороны. А с другой, вроде бы приходил, иначе откуда бы Валунова знала о перебитом носе? У меня такие соображения: Болдин находится у Валуновой, возможно даже, она его прячет. А пришел он, знаешь когда? В ту первую ночь после задержания Шатрова. — Правильно, он опередил нас, — сказал Покотило. — Мы ведь засаду только утром устроили. А Болдин уже, видимо, прятался в двадцатой. Оперативная группа в составе Покотило, инспекторов уголовного розыска Жилина и Черемшанцева была сформирована моментально. Через десять минут машина доставила ее в тупичок, находившийся невдалеке от общежития. Покотило открыл дверь и быстро прошел к балкону, чтобы отрезать путь возможного отступления преступника. Болдин стоял за шифоньером со стороны балкона. Увидев Покотило и, видимо, услышав топот ног вошедших людей, метнулся к кровати, на которой спал двухмесячный ребенок соседки Валуновой, схватил его и занес над ним финку. — Не подходи — убью ребенка! — исступленно заорал он. Секундное оцепенение. Пронзительно закричали женщины. Кажется, застыли Покотило, Жилин, Черемшанцев. И вдруг молниеносный рывок Константина Андреевича Жилина, и точный нокаутирующий удар боксера поверг преступника. Покотило выхватил ребенка, Черемшанцев — финку. Щелкнули наручники. Вошел Яраданов, вытащил из-под кровати сверток с деньгами. Пригласили понятых — в свертке оказалось около 60 тысяч. Когда Болдина увели, Яраданов облегченно вздохнул. Глаза его сияли. — Представляешь, Саша, — он положил руку на плечо Покотило, — как нелегко было смотреть в глаза матери Павла Мыльникова. Что ж, справедливость все-таки восторжествовала. Вернее, восторжествует. Кстати, слышал новость? Травин пришел в себя. — Что вы говорите? Будто камень с души. — А знаешь, какие были первые слова, которые он произнес. А? «Задержите Зяблина». Мы уже у прокурора нашего — Рязанцевой — побывали и обыск на квартире этого самого «Зяблика» провели. О! Сколько улик… Сейчас он показывает нашим ребятам ломик, который спрятал в кирпичах. Из-под другой кровати Покотило выволок целый ворох веревок. Одна окровавлена, и позднее экспертиза установит, что кровь на ней — таксиста Павла Мыльникова, что бурая краска, частицы которой эксперт найдет в носках преступника Болдина, и та, которой окрашена нижняя часть похищенного сейфа, идентичны. Будет доказано, что магнитофон «Спутник-403», подаренный Болдиным Валуновой, принадлежал убитому таксисту, что часы на руке Шатрова тоже шофера такси. И только тогда, рыдая, как младенец, Болдин станет рассказывать, как готовился с Шатровым и Зяблиным к ограблению кассы, как Зяблин в самый последний момент пошел на попятную, заявив, что лично ему не нужны огромные суммы, что себе «на молочишко» он раздобудет более легким путем. Расскажет Болдин, как зря убили таксиста, бросив тело в багажник машины. Он так и скажет «зря», дескать, машина не понадобилась, — оказывается, деньги в контору в тот вечер не завезли, и тело Мыльникова пришлось отвезти далеко за город. И только через несколько дней им удастся задуманное. Тут Болдин вытрет слезы, сплюнет с досады и скажет: — Когда б не этот хитрый милиционер, который попался нам в лесу, у речки…
Николай Новый ПРОФЕССИЯ: СЛЕДОВАТЕЛЬ Повесть
НАЧАЛАСЬ моя следственная работа с того, что старший лейтенант милиции Климов вытащил из сейфа и грохнул на стол восемь коричневых папок с надписью на титульном листе: «Уголовное дело №». Далее следовали фамилия, имя, отчество обвиняемого. — Вот тебе для начала. Только смотри, брат, сроки поджимают. Придется крутиться на полные обороты. Каждый день по одному-два дела будут подбрасывать. Только успевай. Кстати, начни вот с этого. Лебедкин. Задержан по статье 122 УПК РСФСР. Нарушитель паспортного режима. А вообще-то тунеядец, алкоголик. Есть протоколы, решения административной комиссии. Думаю, прокурор даст санкцию на арест. Идем в камеру за Лебедкиным. Грязный, оборванный, заросший мужик, на вид лет шестидесяти. Мешки под глазами. Весь в татуировках. На самом деле ему нет еще и пятидесяти. — Гражданин Лебедкин, я буду вести дело. Мне надо вас допросить. — Что ж, допрашивай, начальник. Меня уж столько допрашивали. Разом больше, разом меньше. Все не в камере сидеть. Валяй, начальник! Валяй! Только сперва хочу заявление сделать. Участковый Воронков не сообщил мне второй раз, что решением административной комиссии на меня наложен штраф. Три рубля. Поэтому я штраф и не заплатил. Если бы знать, так бы не вышло. А значит, и привлекать меня за нарушение паспортных правил вроде бы нельзя. Правильно я говорю, старшой? — Все-то ты знаешь, Лебедкин. Все. Только сейчас тебе не отвертеться. — И уже мне: — По поводу заявления Лебедкина надо провести прямо сегодня очные ставки с участковым инспектором Воронковым и сожительницей Лебедкина, Марией Демченко. Она, кстати, с утра в отделе околачивается. Мария Демченко, худая, какая-то выцветшая, морщинистая, я бы сказал, безликая женщина, вошла в кабинет суетливо. — Мария Ивановна, — начал я, — к вам приходил пятнадцатого сентября участковый инспектор Воронков? Объявил он гражданину Лебедкину решение административной комиссии? — Чево? — Говорил Воронков, что Лебедкина оштрафовали? — Как же, как же — говорил. Лебедкин еще ругался. Орал, что с него все равно взятки гладки. — Дура! — рявкнул Лебедкин. — Не дурее тебя! — отрезала Демченко. — Распишитесь, — подвинул я ей протокол очной ставки. Демченко торопливо подбежала к столу. Быстро расписалась и, не взглянув на Лебедкина, выскочила из кабинета. Очная ставка с Воронковым была еще более короткой. — Как же я ему не говорил? Предложил расписаться. Он от подписи отказался. Я об этом написал, и соседи расписались. Бумага-то в исполкоме, наверное, и сейчас лежит. Взять надо. — Возьмем, — пообещал я.НА ЭТОМ закончилась моя первая очная ставка. Потом было их множество, допросов — и того более. Мастерство следователя шлифуется годами. Не сразу приходит опыт. Мне выпало счастье учиться этому сложному ремеслу у полковника милиции Германа Михайловича Первухина. Полковник учил нас разговаривать с людьми, добывать доказательства, строить версии, умению вырабатывать верный план. Познакомился я с ним при обстановке чрезвычайной. Задержали мы хулигана, который учинил драку у общежития, оказал сопротивление дружинникам и работникам милиции. Дежурный наряд собрал исчерпывающий, на мой взгляд, материал: составил протокол осмотра места происшествия, допросил свидетелей. А вот следователь, которому передали уголовное дело, что называется, тянул его. Задержанного отпустил, даже материалы на его арест прокурору не представил. Расследование вел медленно, проводил никчемные очные ставки, искал новых свидетелей. Обо всем этом я и рассказал Герману Михайловичу. Нажаловался, одним словом, на следователя. — Что ж, посмотрим, — спокойно, слегка картавя, проговорил мой собеседник. — Только одно запомни, дорогой мой. Запомни твердо. Допускаю, что, возможно, в этой ситуации следователь в чем-то не прав. Но обязанность его — работать по расследованию преступления, не жалея времени. Бывает, что обстоятельства, упущенные вначале, какой-то штрих, которому не придали значения, потом уже не вернуть. Нужна полнота расследования. Может быть, над этим и работает сейчас следователь. Полковник Первухин принял в изучении дела самое активное участие. Оказалось — прав следователь. Задержанный нами гражданин Шаимов не был инициатором драки. Он просто пытался разнять дерущихся пьяных хулиганов. Но Шаимов тоже был в нетрезвом состоянии. Хулиганы начали избивать его. На шум сбежались жильцы общежития. А когда приехал наряд милиции, дебоширы сбежали. Шаимова задержали. Следователь все-таки установил и изобличил преступников. Они понесли наказание по всей строгости закона, а я на всю жизнь запомнил этот урок. Урок человечности и мудрости. Тогда Герман Михайлович сказал мне: «Запомни, главное для нас — уметь разговаривать с людьми. Не простое это дело — найти общий язык с каждым. Найти подход. Такому учатся всю жизнь…» В справедливости слов моего наставника я убедился, когда считал себя уже достаточно опытным следователем. Два здоровых шестнадцатилетних парня жестоко избили троих шестиклассников, отобрали деньги. При этом они так ребятишек запугали, что те давали запутанные, противоречивые показания. Сами же преступники свою вину категорически отрицали. Я бился над этим делом несколько дней, но ни на шаг не приблизился к истине. Пришел к прокурору. — Боюсь, ничего у меня не выйдет, — признался честно. Прокурор прочитал дело. Спросил: — Ты твердо уверен, что они избили? — Уверен, но ведь мою уверенность к делу не пришьешь. — Хорошо, — подумав, подытожил прокурор. — Передай дело следователю Тихомирову. Тихомиров, невысокий, худощавый, начинающий седеть человек с доверчивым взглядом светлых глаз, подробно расспросил о случившемся, о ходе расследования. Оказывается, Александр Сергеевич отлично знает обоих подозреваемых. Я много слышал об уникальном мастерстве следователя Тихомирова, о его умении дойти до душевных глубин человека. Разве я мог отказаться от выпавшей мне удачи — посмотреть и послушать, как работает Александр Сергеевич Тихомиров? Он встретил подозреваемого как старого знакомого. Потекла неторопливая беседа. Следователь с глубоким интересом расспрашивал парня о делах житейских, о семье, о планах на будущее. Вскользь, как бы между прочим, упомянул о старых грехах, а потом среди неторопливого, задушевного разговора вдруг неожиданно, как грозовой разряд, — вопрос по существу. Вздрогнул парень, глаза забегали. Опять размеренная беседа — и снова неожиданный, острый вопрос. Потом уточнил какую-то мелочь. Александр Сергеевич разговаривал обо всем. Записки протокола допроса вел практикант, студент юридического института. Так постепенно в беседе, в разговоре рождался документ, устанавливалась истина. А когда разговор был окончен и Тихомиров протянул подозреваемому протокол допроса, стало ясно, что в этом документе скрупулезно запечатлены все детали совершенного преступления. Для меня это был предметный урок вести разговор, находить уязвимые места в частоколе лжи, выстраиваемом преступником, умения просеять гору словесной шелухи, чтобы найти один-единственный крошечный, кажется, совсем незначительный факт, который станет потом мощной логической опорой, разящим оружием следователя. Александр Сергеевич — не только опытный, грамотный, умелый, тактичный следователь. Он — кладезь житейской мудрости. Для него дело становится ясным только тогда, когда он узнает, чем живет каждый, кто так или иначе связан с происшедшим, каково его гражданское лицо, его «нутро». И тогда Александр Сергеевич скажет: — Этот совершил преступление случайно. Для него это — большое горе, тяжкий груз на сердце. Больше он такого не повторит и внукам закажет… Или: — Чрезвычайно трудный тип. От него можно ожидать всяких неприятностей. Боюсь, что выводов правильных он из случившегося не сделает… Не помню случая, чтобы следователь Тихомиров ошибся в характеристике, даваемой им людям. Каждая из них доказывала: он — тонкий психолог. Поражала и удивляла в нем какая-то ребячливая искренность, умение по-детски переживать, волноваться, восхищаться. В беседах с преступниками он никогда не позволял себе обмануть обвиняемого, слукавить. Говорил только правду. Тяжелую, суровую правду прямо в глаза. И те, чьи дела он расследовал, безгранично доверяли ему. Они засыпали его просьбами. А он каждую из них, этих просьб, не выходя, конечно, за рамки закона, выполнял. Следователь, казалось мне вначале, — должность строгая. Его задача — изобличить преступника, собрать доказательства, найти факты, добиться торжества справедливости. Все это должно наложить отпечаток на человека подобной профессии. Какую-то особую суровость, непреклонность, строгость. Встретившись с Александром Сергеевичем, увидел: нет суровости и непреклонности. Есть искренность и доброта, желание помочь. Спрашиваю одного из подследственных Тихомирова: «Кто он для таких, сбившихся с пути?» Тот ответил кратко: «Учитель». Пожалуй, это верно — учитель. Учитель жизни. Учит требовательно. Спрашивает строго. Учит ответственности перед людьми, перед самим собой. Учит заботливости и внимательности, умению думать и переживать. И еще тогда я понял: доброта должна быть строгой. Только такая доброта лечит.
…ЭТО СЛУЧИЛОСЬ в марте. Дело было несложным. Двадцатилетняя цветущая девушка Наташа нигде не работала. Выражаясь юридическим языком, «вела паразитический, антиобщественный образ жизни». Папа и мама кормили, обували, одевали дочь. Денег хватало даже на кино, вино и другие развлечения. И вот мы с нею в кабинете прокурора, — скорее всего, должна быть санкция на ее арест. Надо сказать, Наташа откровенно и честно рассказала о своем образе жизни. Вроде бы даже раскаялась. Объяснила легкомыслием, глупостью, отсутствием требовательности со стороны родителей. Мне понравилась ее добрая мягкая улыбка. Подкупала непосредственность, искренность. Честно говоря, не хотелось представлять Наташу на арест. Но ничего не поделаешь, должен. Тем более, участковый инспектор Иван Гасников прямо заявил, что она на участке «воду мутит и житья не дает хорошим людям». В глубине души я надеялся, что прокурор не арестует девушку, — уж очень молода, всего двадцать лет. Не каждого ведь арестовывают. Порой верят и отпускают, взяв подписку о невыезде. И все же я должен — есть все основания для этого — представить на арест Наташу Васину. Вот и представляю. Как это ни удивительно, но Кузьма Матвеевич Рыбченков, прокурор района, непререкаемый авторитет для меня, с Наташей почти совсем не разговаривал. — Пьешь? — спросил строго. — Да, — коротко ответила она. — Гуляешь? — Да. Ну, прямо как в басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». — Теперь будет время одуматься. С этими словами он шумно дохнул на печать и резко пришлепнул ее на постановление об аресте. Положил я постановление в папку, вышел с Наташей на улицу. Машина наша уже уехала. Можно, конечно, позвонить в райотдел. Да когда они пришлют! Можно, наконец, доехать до отдела на трамвае. Но погода выдалась на удивление солнечная, теплая — прямо как в мае! — Давайте, Наташа, прогуляемся до отдела, — предлагаю своей спутнице. — Давайте, — соглашается она. Идем по проспекту Ленина. Ярко светит солнце. Тает снег. Звенит капель. Мы идем рядом. Говорим о погоде, о последних фильмах. Наташа рассказывает мне о школе, о родителях, о своих друзьях и подругах. — А как с Вовкой мы поссорились, все и пошло кувырком. Стала выпивать. Старые друзья от меня отвернулись. Нашлись новые. Вот и поехала жизнь — балдеж да похмелье, похмелье да балдеж. С работы уволилась. Что поделаешь, сама виновата. «Странно, — размышляю я, — она как будто не понимает, что арестована, что сегодня ее увезут в следственный изолятор, потом суд, колония». — Вы, наверное, думаете: вот дура — разболталась? — словно прочитав мои мысли, говорит Наташа. — Последний раз иду по улице. Погода хорошая, и вы мне, по правде говоря, понравились. Я вижу, что вам меня жалко. — Гм… — выдавливаю из себя. Что еще скажешь? Мне действительно жалко молодую, запутавшуюся и, как мне кажется, неплохую женщину. — Теперь уж ничего не поделаешь, — мямлю. — Будете работать, учиться. Выйдете — твердо становитесь на ноги. Найдите свое место в жизни и будете счастливы. Себя найдите. Вы молодая, красивая, умная. Будете и счастливой. Только за счастье сражаться над Наталья Ивановна. Наташе смотрит на меня и улыбается светло и просто. Вечером приехал автозак. Мы по-товарищески, по-доброму прощаемся. Бывает же такое! Но что делать, если мне глубоко симпатичен мой подследственный. Я не нарушил свой долг, не покривил душой. Просто искренне сочувствовал. Мне было по-настоящему жаль молодую женщину, которая жить-то еще не начала. Прошел год. — Тебя спрашивают, — сообщили мне однажды во время дежурства в райотделе. Выхожу в приемную — глазам своим не верю: Наташа! Повзрослевшая, серьезная, даже какая-то строгая. — Здравствуйте, Николай Николаевич! Зашла отметиться. Работаю. Вышла замуж. Поступила на вечернее отделение строительного техникума. — Рад, Наташа, очень рад за вас! Откровенно скажу: верил, что у вас все будет хорошо. — Может быть, потому хорошо и вышло, что вы верили. Помните тот мартовский день? Он у меня навсегда в памяти останется самым счастливым. Вот уж действительно нарочно не придумаешь: самый счастливый день, когда тебя арестовали! Не верится… Но ведь это правда. Вот она стоит передо мной, Наташа, и говорит о самом счастливом дне в своей жизни. Счастливым почувствовал себя тогда и я.
НО, ЧЕГО греха таить, работа следователя приносит порой немало неприятностей и огорчений. Запомнился один случай. Сергей Пестеров работал шофером не автобазе. Только вернулся из армии. Мне пришлось расследовать дело о совершенном им хулиганстве. Все было обыденно. Рядовое, ничем не примечательное дело. Но именно эта обыденность и угнетала, и потрясала. Сергей пришел на работу пьяный. Механик сказал, что доложит руководству об этом. Сергей молча выслушал, а потом дважды ударил немолодого уже человека кулаком в лицо. Механик упал. Сергей пнул его и как ни в чем не бывало отправился домой. Когда его арестовали, мать, захлебываясь в рыданиях, причитала: «Растила сына, отказывала себе во всем, не давала в обиду, откуда у него такая жестокость?» Я ответил, что жестокость — от ее воспитания. Она оторопела, посмотрела на меня, потом, поджав губы, бросила: «Вы бессердечный человек! Вы не понимаете материнского сердца!» Быть может, я действительно чего-то не понял. Но в одном, главном, абсолютно уверен: мать сама вырастила под родительским крылышком равнодушного, самовлюбленного, слепого и глухого к добру человека. Тяжело говорить об этом, но, что поделаешь, надо! Работа…
Однажды в Верх-Исетский ОВД обратился мужчина, занимавший, как я узнал несколько позднее, довольно высокий пост в одном из свердловских трестов. Он сообщил, что его 13-летнего сына среди бела дня жестоко избили неизвестные хулиганы у Дворца молодежи за то, что он отказался пить с ними вино. После избиения его насильно напоили и оставили одного, беспомощного, в сквере. Было над чем призадуматься! И все же я усомнился в справедливости слов заявителя. Дело вот в чем: мальчика, по словам отца, подобрала бригада «скорой помощи» и доставила в детскую больницу № 11. Но в этот день сообщений о нанесении телесных повреждений (тем более, ребенку) не поступало. Я, как мог, осторожно высказал свои сомнения отцу. Лучше бы я этого не делал! Что тут началось!.. Отец обвинил меня в черствости, эгоизме и бездушии. Заявил, что о случившемся ему рассказал сын, который никогда родителей не обманывал. Возмущенный папа кричал, что дома у них всегда стоит вино, но сын не позволял себе ни разу к нему прикоснуться и т. д. и т. п. К вечеру я отыскал друзей Вити — его сына. Ребята рассказали, что в тот день Витя принес из дома пять рублей и предложил купить вина. Они купили три бутылки вермута и выпили их в сквере у Дворца молодежи, после чего Витя, который выпил больше всех, опьянел и тут же, на траве, уснул, а они ушли домой. Рассказали мне мальчишки и о том, что пили вино по инициативе Вити уже не раз. Случалось такое и у него дома. Я поехал в больницу. Витя — высокий, стройный, черноволосый и черноглазый паренек — приятно удивил меня своим широким кругозором, знаниями в области науки, техники и литературы, независимостью и категоричностью суждений. Однако особенно меня поразило его пренебрежительное отношение к родителям, нотки иждивенчества и эгоизма, присущие крайне избалованным детям. Он рассказал мне, что частенько приглашал друзей домой, и они понемногу выпивали из многочисленных бутылок с вином, которые не переводились у Витиного отца. Мальчик никогда не знал отказа в деньгах. Получал любую понравившуюся ему вещь. Родителям Вити не хватало искренности и откровенности в общении между собой, окружающими людьми, в контактах с сыном. С откровенным цинизмом мальчишка заявил, что у папы на всякие случаи жизни есть в запасе не менее десяти дежурных фраз — для мамы, для сына, для сослуживцев, для родственников и т. д. — Вся жизнь — сплошное вранье! — подытожил он. Переубедить его было просто невозможно. То, что вдалбливалось годами, атмосфера лживости,иждивенчества, эгоизма, в которой он воспитывался, — все впитывалось так, что и десятками самых хороших педагогических бесед делу не поможешь… Весь следственный материал мы направили по месту работы Витиного отца, чтобы попытаться заставить его пересмотреть свои взгляды на воспитание сына. Позже я несколько раз встречал Витю в инспекции по делам несовершеннолетних. Его поставили на учет. Дело закончилось тем, что за участие в групповом хулиганстве Виктор был осужден, отправлен в воспитательно-трудовую колонию. …Спустя шесть лет я встретился с Виктором. Он рассказал, что женился, работает на заводе, в семье растет дочь. — Что говорить о прошлом! — Виктор махнул рукой. — Если бы не отец с матерью… В его словах я услышал упрек и в свой адрес. Ведь это я, следователь, должен был сделать все, бить во все колокола, чтобы не случилось несчастье.
ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ, ответственная, хлопотливая работа. А сколько неприятностей, недоразумений возникло в собственной семье первое время. — День и ночь на работе пропадаешь! Ребенок забыл совсем, как папа выглядит! — выговаривает жена. Я понимал справедливость упреков. Но что поделаешь, если служба такая? Теперь, видать, вся жизнь суматошная будет. А менять не хочется! Что-то все-таки есть в этой службе привлекательное. Вспоминаю, как ушел из отдела очень толковый, опытный, грамотный следователь — Капустин. Тяжело показалось… Встретил его через год. — Не могу, — говорит, — назад тянет. Сердце щемит. Никакого покоя. Чем она приковала меня? Действительно, чем? Когда думаешь о пройденном пути, то вспоминаются не бессонные ночи, не беготня, не выезды на места происшествия и тонны исписанной бумаги… Вспоминаются люди. И вот что удивительно: самый плохой человек — дорог, потому что он — частичка твоей жизни. Потому что ты по долгу службы должен был знать о нем все до мельчайших подробностей. Должен был увидеть, как человек рос, учился. Кто был возле него, что привело его на скамью подсудимых? …Дело Семена Реброва запомнилось потому, что пришлось с ним изрядно повозиться. Три дня дома не был. В субботу собирался с братом на рыбалку. Пришлось отложить. Воскресенье к тому же совпало с моим днем рождения. Жена накрыла дома стол. Ждали именинника. А именинник вел долгие беседы с Ребровым, его родителями, соседями, сожительницей Анной Максименко. Казалось, конца этим беседам не будет. Началась эта история в пятницу, 30 мая. Получил я материал, из которого следовало, что ранее судимый за хулиганство Семен Ребров, 35 лет, неженатый, проживает в поселке Широкая Речка с родителями, избивал престарелых отца и мать. После побоев у отца ухудшилось зрение. А в четверг Семен угрожал убийством Анне Максименко, на которой неделю назад хотел жениться. Два заявления: от родителей и гражданки Максименко. На одном из них пометка прокурора: «Рассмотреть материал и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. ст. 109, 207 УК РСФСР». Отец видел, как Семен точил какой-то нож. Анна Максименко говорила о том, что Ребров накануне угрожал ее убить. «Из ревности», — дополняла далее заявительница. Вечером Семен стоял у клуба. При задержании у него изъяли нож… Но ведь это еще не повод, чтобы подозревать человека в том, что он собирался напасть на кого-то с ножом. Первый разговор с Ребровым. В кабинет вихляющей походкой вошел щуплый, встрепанный мужичок с всклокоченной бородкой. Что-то наигранное, неестественное было во всем его внешнем облике, манере держаться. Какая-то показная решительность, напористость. Смотрит — как будто не он, а я в чем-то виноват. Ну и тип! Из материалов дела я знаю, что Семен Ребров закончил 9 классов, по специальности электромонтер, слесарь. Трижды судим: за хулиганство, тунеядство, нанесение телесных повреждений. Месяц назад вернулся из мест лишения свободы. В течение этого месяца и произошли события, которые изложены в заявлениях родителей и гражданки Максименко. — Когда и за что вы избили отца? — начал я разговор. — Я родителей никогда пальцем не трогал. — Как же заявление отца? — Это он со злости, что я решил жениться. — Жениться? На ком? — На Анне Потаповне. — В таком случае, почему вы угрожали убить Анну Потаповну? — Как вы можете говорить такое? Я люблю эту женщину… Пришлось ехать в Широкую Речку, разговаривать с соседями, с родственниками. В общем, надо работать, искать доказательства. В одном уверен твердо: отпустить Реброва я не могу. От такого можно ожидать чего угодно. Но и держать его, не располагая твердыми, неопровержимыми доказательствами, тоже не в праве. Выход один: искать, доказывать… Домой хочется — сил нет! Семья ждет, трехлетняя дочурка подарок, поди, приготовила, а тут… Итак, еду на Широкую Речку. Василий Никифорович (отец Семена), седой, сгорбленный, с удивительно доверчивым взглядом старичок, вздыхая и постоянно ероша белые волосы, рассказал неохотно, морщась как от боли: — Как пришел из колонии, так все угрожает, кричит, дерется. И мать бил, и меня… Да чего там… Сын ведь… Горе-то какое… Евдокия Пантелеевна, сухонькая, живая, энергичная, только рукой махнула: — Что обо мне-то говорить? Бил, конечно, угрожал. Отца по глазам щелкал. Старик-то теперь совсем плохо видеть стал. Недавно операцию перенес. Катаракту… Анна Потаповна, полная, высокая, крашеная, молодящаяся блондинка, загадочно усмехаясь, проронила: — Кто его знает, может, и убить хотел. Дурной… Вы не думайте, я его не боюсь. Где ему со мной справиться! У меня на него даже сердца нет. Соседи Реброва рассказали, что родители жаловались на Семена, что бьет их, угрожает. Сами же они ничего этого не видели. В общем, разговоров много, а толку мало. Надо провод очные ставки. Привез родителей и Анну Потаповну в отдел, объяснил суть предстоящего разговора с Семеном. Первая встреча с Василием Никифоровичем. Входит Семен. — Садитесь, — указываю на стул. — Кем приходится вам этот гражданин? — спрашиваю Василия Никифоровича. — Сын мой, Семен, — глухо отвечает старик, низко наклонив голову. — Я сомневаюсь, что это мой отец, — мрачно произнес Ребров. — Отец никогда бы не стал топить сына. Василий Никифорович закашлялся, затряс головой. Успокаиваю старика. Прошу рассказать, когда и за что избивал его сын. Расспрашиваю о ноже, об угрозе по отношению к гражданке Максименко. — Имей в виду, лейтенант, это не мой отец. Не подсовывай мне всяких подкупленных тобой лжесвидетелей. Ничего не выйдет, — трясет жиденькой бороденкой Семен. Мать Семена плачет, уговаривает сына одуматься. А тот, сверля глазками-буравчиками сухонькую старушку, вещает как заведенный: — Сомневаюсь, что эта женщина моя мать. У меня нет матери. Евдокия Пантелеевна вскрикивает, хватается за сердце, валится на стол. Беру стакан с водой. Хлопочу вокруг нее. А сын, закинув ногу на ногу, продолжает: — Это она притворяется. Ну и артистка! — Прекратите! — не выдерживаю я. — Прекратите, если в вас осталась хоть капля совести! Семен замолчал. Угрюмо отвернулся. Евдокия Пантелеевна медленно поднялась, тяжело опираясь на стол. — Я, сынок, от тебя не отказываюсь. Никуда не денешься: худой да свой. Я тебя родила, вырастила. Человеком сделать не сумела. Поделом мне!.. Прощай, сынок.
 Семен смотрит в окно. Молчит. Вошла Анна. Ребров, привстав, пригладил волосы, оправил бородку.
— Прошу занести в протокол: «Эту женщину я любил», — торжественно заявил он.
— Ох ты, подь ты к черту! Любил! — закатилась смехом Анна. — Брось ты с ним возиться, следователь. Болтун. Трепач. Меня все время убить угрожал, это верно. Так ведь что поделаешь, если язык без костей?
Семен решительно опровергает утверждения Максименко об угрозах в ее адрес.
Заканчиваю последний протокол. Зачитываю. Анна и Семен расписываются. Потом Семен картинно вскакивает, подбегает к Анне, целует ее с разбегу, откидывается назад:
— Прощай, незабвенная! Я буду помнить тебя вечно!
— Прощай, прощай, баламут! — взвизгивая, смеется Анна.
Звонит телефон. Снимаю трубку.
— Папочка, поздравляем тебя с днем рождения, — лепечет дочурка. — У нас все хорошо. Приходи скорее домой. Я очень соскучилась.
— Приду, скоро приду, — успокаиваю девочку. Теплом и радостью наполняется сердце. Дома помнят, ждут. Как невероятно важно при такой сумасшедшей работе, чтобы тебя ждали!..
Надо заканчивать. Все зависит от заключения экспертизы. Сегодня не получится: выходной. А жаль…
Еще неделю пришлось возиться с этим делом. Потом был суд. Семена приговорили к двум годам лишения свободы.
Вот вроде бы дело расследовал так, как надо. Преступник наказан. Справедливость восторжествовала, А покоя все нет… Перед глазами встают Евдокия Пантелеевна и Василий Никифорович — родители Реброва. Им-то каково! Как исправить эту беду? Что сделать? Как помочь?
Горько на душе. Покоя нет.
Семен смотрит в окно. Молчит. Вошла Анна. Ребров, привстав, пригладил волосы, оправил бородку.
— Прошу занести в протокол: «Эту женщину я любил», — торжественно заявил он.
— Ох ты, подь ты к черту! Любил! — закатилась смехом Анна. — Брось ты с ним возиться, следователь. Болтун. Трепач. Меня все время убить угрожал, это верно. Так ведь что поделаешь, если язык без костей?
Семен решительно опровергает утверждения Максименко об угрозах в ее адрес.
Заканчиваю последний протокол. Зачитываю. Анна и Семен расписываются. Потом Семен картинно вскакивает, подбегает к Анне, целует ее с разбегу, откидывается назад:
— Прощай, незабвенная! Я буду помнить тебя вечно!
— Прощай, прощай, баламут! — взвизгивая, смеется Анна.
Звонит телефон. Снимаю трубку.
— Папочка, поздравляем тебя с днем рождения, — лепечет дочурка. — У нас все хорошо. Приходи скорее домой. Я очень соскучилась.
— Приду, скоро приду, — успокаиваю девочку. Теплом и радостью наполняется сердце. Дома помнят, ждут. Как невероятно важно при такой сумасшедшей работе, чтобы тебя ждали!..
Надо заканчивать. Все зависит от заключения экспертизы. Сегодня не получится: выходной. А жаль…
Еще неделю пришлось возиться с этим делом. Потом был суд. Семена приговорили к двум годам лишения свободы.
Вот вроде бы дело расследовал так, как надо. Преступник наказан. Справедливость восторжествовала, А покоя все нет… Перед глазами встают Евдокия Пантелеевна и Василий Никифорович — родители Реброва. Им-то каково! Как исправить эту беду? Что сделать? Как помочь?
Горько на душе. Покоя нет.
…ВСЕ НАЧАЛОСЬ с того, что из госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны пропало два ящика говяжьей тушенки. Хранилась она в подвале. Кто-то ночью сделал подкоп, оторвал доску и утащил консервы. Сама щель, через которую лезли похитители, подтверждала догадку, что это дело рук подростков. И тут же сомнения: чтобы подростки крали тушенку — такого что-то не припоминалось. Представьте себе мальчишку, который ночью тащит тяжелые ящики с железными банками. Ерунда какая-то! Велосипеды, мопеды — это понятно. Ларьки со сладостями, огороды, мелочь разная — это еще куда ни шло. Рыболовный и охотничий инвентарь — с этим тоже приходилось встречаться. Но тушенка?! Инспектор уголовного розыска, тогда еще лейтенант В. Раков, сразу предположил: «Не обошлось без наводчика. Кто-то знал о тушенке, а ребятишки — просто исполнители». …Поздно вечером в дежурную часть зашел усталый и какой-то посеревший Раков. — Ну, что, Володя? Глухо дело? Раков не спеша опустился на стул, сумрачно поглядел на меня, закурил: — Это дело рук Василия Сисигина. Опять за старое принялся. Думаю, на днях его возьмем. Кстати, и за тунеядство его привлекать пора. Но дело не в этом. Он ребятишек на кражу подбил. Скоро мы узнали имена «героев» — Миша, Саша и Олег, ученики младших классов. В инспекции по делам несовершеннолетних, куда мы их доставили, черноволосый, худощавый, чрезвычайно подвижный и смышленый Миша признался сразу: — Ящики мы вынесли из подвала часов в одиннадцать вечера. Дядя Вася сказал, что забыл ключи от подвала, а ящики надо срочно забрать. Вот мы ему и помогли. — А откуда вы знаете дядю Васю, что у вас общего с этим человеком? — Дядя Вася — хороший, добрый. Он всегда нас угощает конфетами, дает деньги. Защищает нас. Иногда играет с нами… — В карты? — Да, и в карты. — А отец с матерью как относятся к этой дружбе? — А они и не знают! — усмехается мальчишка. — Им не до меня. У них своих дел хватает: напьются да дерутся. — А в школе ты не пробовал найти дело по душе? — А что там можно найти? От классного руководителя только и слышишь: «Мальчики, не безобразничайте!» — пропел Миша тонким голоском, передразнивая учительницу. Я слушал откровенные ответы и думал: «Действительно, куда деваться мальчишке? Родителям не до него, в школе постоянные запреты и ограничения. Что же удивительного, что ребята тянутся к дяде Васе. Большому, сильному, щедрому. Он угощает, одаривает, находит время поиграть с мальчишками во взрослые игры. Он с ними на равных. Они чувствуют себя в его компании взрослыми, сильными и самостоятельными. Он поручает им серьезное дело. Ради него они пойдут на все, выполнят любые его указания, любую просьбу». — Дядя Вася просит — значит, надо! — говорит Саша. В отличие от Миши, он больше молчит. Зато кричит его мама, обвиняя всех подряд — школу, товарищей сына. Олег, третий из компании. Родители его не приехали. Отец и мать работают официантами в ресторане и приходят домой поздно. Олег, белобрысый, добродушный, веснушчатый мальчуган, пытается подвести под свой проступок моральную базу: — Другие не тушенкой — тысячами ворочают, а милиция хоть бы что! Вон, Сашкина мать. Во дворе все говорят, что она из магазина сумками таскает… И у меня папка с мамкой из ресторана не только продукты таскают, и деньги — тоже… Дядя Вася не такой. Он честный и добрый. Вот ведь какая ситуация! Сколько нужно было увидеть в жизни равнодушия, черствости и грязи, чтобы неоднократно судимый тунеядец, вор и пьяница показался мальчишкам честным и добрым. Как часто родители подростков ссылаются на влияние улицы: «Мы его этому не учили!» — заявляют они. Конечно, плохому ребят не учили, в прямом смысле, ни в школе, ни дома. Ну, а хорошему сумели научить? Были для них примером, авторитетом? Почему авторитет улицы перевесил? Многие считают, что авторитет взрослого перед ребенком — это что-то от природы данное. Потому что они родители, их положено уважать. Потому что они учителя, их нужно слушать. Помните, как удивилась учительница литературы из кинофильма «Доживем до понедельника», когда ей сказали, что она должна постоянно доказывать ученикам свою справедливость, свой ум, благородство? Увы, это заблуждение многих. А ведь дядя Вася сознательно боролся за свой авторитет у ребят. Он строил его, стараясь при них показывать себя только с хорошей стороны. Плохие планы стояли за этим стремлением, но ведь те качества, которые дети видели у родителей и знакомых, были куда хуже тех, что наблюдались у дяди Васи. А потому ребята безгранично поверили ему. Результат таких ошибок исправить трудно. Правда, Миша и Олег благополучно закончили школу, но Саша продолжал воровать. Так рано и так нелепо сформировавшееся понятие справедливости — по принципу: «раз другим больше дозволено, так мне немногое и подавно простится» — пустило корни в его душе. А ведь окажись рядом — в школе, дома, во дворе — человек действительно честный, справедливый, неравнодушный, который не прошел бы мимо играющих в карты ребят, а остановился бы, поговорил, посоветовал, предложил другое занятие, причем без крика, спокойно и доброжелательно, — все могло бы обернуться иначе.
ТАКОГО СЛЕДОВАТЕЛЬ допускать не имеет права. Знаю… А у меня вот случилось. Сам не понимаю как. Дежурил вечером. Устал зверски. Остался без ужина. Заморочили голову мелкие кражи, семейные скандалы. Словом, суета сует и всяческая суета. Пришел дежурный, старший лейтенант милиции Тимофеев: — Подрались у мусульманского кладбища, возле автозаправки. Четверо напали на троих. Все в нетрезвом состоянии. — Задержали? — Все здесь. Только у них не разберешься, кто прав, а кто виноват. В комнате приема граждан шум и крик. Семеро здоровенных, изрядно подвыпивших мужчин кричат, суетятся, размахивают руками. — Ты первый Мишку ударил. — А кто крикнул: «Отойди, козел!» — А ты меня зачем толкнул? — Иди ты знаешь куда! — Помолчите! — вмешался я, перекрывая возгласы спорящих. Мужички, по-видимому, выяснили отношения не только посредством речи, но и, как мне показалось, небезуспешно путем «самого эффективного» кулачного разговора. Об этом свидетельствовали синяки, шишки, царапины и кровоподтеки на лицах собеседников. Прикинул, у кого больше «медалей», учел сообщение Тимофеева, что четверо напали на троих, проанализировал состояние выяснения отношений в кабинете, и мне сразу стало ясно, кто прав, кто виноват. Прежде чем начинать разбирательство, прикинул я, надо рассортировать собеседников. — Они на вас напали? — спросил я высокого черноволосого кудрявого мужчину лет сорока, в разорванной рубашке, с внушительным «фингалом» под левым глазом. — А кто же еще? — пробасил он, прикрывая глаз, отворачиваясь к окну. В ответ раздался дружный вопль негодования противной стороны. Принял решение, отправляю предполагаемых зачинщиков драки в комнату временно задержанных. Начинаю брать объяснения с тех, кто больше похож на потерпевших. Бьюсь часа два. И чем больше беседую, тем больше ничего не понимаю: кто на кого напал, из-за кого начался весь сыр-бор… Исписано не менее 10 листов бумаги, а ясности не прибавилось ни на йоту. Пока нет сомнений только в одном: обе компании под хмельком, кулаками размахивали те и другие. Вконец запутавшись прошу моих собеседников посидеть в комнате приема граждан. Привожу тех, кого принял за нападающую сторону. Тут меня и огорошили. — Отпустите нас! Оставьте в покое! — кричали они. — Мы никаких заявлений писать не будем! Ничего нам не надо! Что за чертовщина! Начинаю разговор и совсем перестаю что-либо понимать. Решаю снова ввести всю компанию вместе. Иду в комнату приема граждан. Вот так номер! Тех, кто числился у меня потерпевшими уже и след простыл. «Значит, — констатирую про себя, — нападающих я принял за потерпевших, а потерпевших посадил в комнату временно задержанных. Ну и дела!» Тем временем предполагаемые зачинщики драки пишут заявление о том, что заявлять ни о чем не желают, претензий никаких не имеют и просят отпустить их домой. Плохо соображая, зачем мне может это понадобиться, беру с них объяснения и, расставшись чрезвычайно дружески, иду с ворохом бумаг к Тимофееву. Тому уже сообщили о ситуации, в которую попал горе-следователь. Он смотрит на мое растерянное, огорченное лицо и весело, заразительно хохочет: — Ну, как работа, а? Раскрыл преступление? — Николай Ефимович, — обиженно говорю я. — Тут, ей-богу, не до смеха. Во-первых, они могут пожаловаться! И будут правы. А во-вторых, куда мне деть бумаги? — Ну, во-первых, они не пожалуются по той простой причине, что вина обоюдная, без сомнения. А бумаги возьми себе на память. На старости лет будешь писать мемуары! И дежурная часть Верх-Исетского ОВД вновь взрывается раскатами дружного смеха. Не знаю, как насчет мемуаров, но эта нелепая драка стала для меня суровым, предметным уроком на всю жизнь. Уроком внимательности, осмотрительности, учета всех мелочей. Валентин Крохалев, мой товарищ по службе, так выразил происшедшее: «Лопухнулся? Правильно. Не зевай, Фомка, на то и ярмарка! Хорошо так кончилось, а могло…» Да, сколько раз я был свидетелем, когда недосмотр, невнимательность приводили к тяжким, трагическим последствиям. Тут ведь как у саперов: ошибешься — не исправишь!
СЛУЧАЙ с Михаилом Коровиным едва не обернулся для меня дисциплинарным взысканием. Дело было так. Осенний холодный, грязный вечер. Моросит дождь. Погодка, когда «добрый хозяин собаку из дома не выгонит». Мне приказано разобраться с одним гражданином: «кражу заявляет». Мужчина, в затрепанном, измятом пальтишке, стоптанных ботинках, мнет в руках кепку. Он давно не брит, волосы всклокочены, глаза бегают. «Да куда ни кинь, везде клин. Опять принесла нелегкая пьяницу!» — мысленно ругаю я посетителя и говорю, вежливо указывая рукой на стул: — Садитесь, пожалуйста! Мужичок сел. — Рассказывайте. — А чо рассказывать-то, чо рассказывать! Я уже все рассказал. Уехал, значит, позавчера в командировку, с женой. А вчера вернулся из командировки, но уже почему-то без жены. Пока был в командировке, мотоцикл немецкий с красной люлькой у меня украли. Вот. — Откуда украли? — Из дома. Из дома. Только я почему-то в доме-то не живу этом. Живу теперь, понимаете, совсем в другом доме. Да, действительно фрукт. Или — ненормальный. — Посидите, пожалуйста, в кабинете, — прошу заявителя. Высказываю свои соображения Рязанову. — Я тоже так подумал, — улыбается Вадим. — Надо съездить с ним на место предполагаемого происшествия. Чем черт не шутит. Может, и правда что-то есть. Едем с Михаилом Ивановичем, так зовут моего нового знакомого, в заречную часть Верх-Исетского завода. — Здесь, — просит остановить машину Коровин. Ну и картина! Несколько полуразрушенных, наполовину разобранных, «без окон и без дверей» домишек. Даже забор растащили. Нет крыши, огороды вытоптаны… Жильцы, по-видимому, уже давно живут в новых квартирах со всеми удобствами. А Коровин… Коровин подбегает к чудом уцелевшей стене и, воздев руки к небу, трагически закатывает глаза: — Здесь стоял мой немецкий мотоцикл с красной люлькой. «Сумасшедший, точно! — отмечаю я про себя. — Вот уж правда, не повезет, так не повезет». На всякий случай составляю протокол осмотра места происшествия. Поддакиваю Михаилу Ивановичу, сочувствую кивком головы, соглашаюсь со всем, что он говорит. Возвращаемся в отдел. — Он ненормальный, — сообщаю я Рязанову. — Надо вызвать врача. Рязанов выражает сомнение, что посетитель может стать пациентом психиатрической больницы, но все-таки звонит. Приезжает «скорая». Быстро осматривают, толкуют с Коровиным и, удовлетворившись его ответом, забирают с собой. «Слава богу! Кажется, с мотоциклом разобрались», — думал я в тот вечер. Оказалось, рано радовался. Спустя двое суток у меня в кабинете — звонок: — Зайди в дежурную часть. — Что случилось? — Твой знакомый пришел. Посреди дежурной части, смиренно держа кепочку в руках, стоял Михаил Иванович. Тот самый, у которого украли мотоцикл. — Меня уже отпустили, сегодня… — счастливо улыбаясь, сообщил Коровин. — А здоровье как? — растерянно спрашиваю я. — Нормально. Я насчет мотоцикла пришел. Вы его еще не нашли? — Нет еще, — отвечаю, напряженно размышляя, что же теперь делать… Ага придумал! — Михаил Иванович, вы женаты? — Да. — Не могли бы прийти сюда, к нам, с женой? — Мне, значит, не верите! — горько усмехается Коровин. — Да нет, что вы, верим, конечно. Просто с женой надо посоветоваться кое о чем. — Ладно, приведу. — Подождем, что скажет жена о мотоцикле, — успокаивающе говорю я Рязанову. Через час наш знакомый возвращается с женой — темноволосой черноглазой женщиной. Ирина Владимировна, жена Коровина, внесла наконец-то ясность. Действительно, три месяца назад они получили квартиру в новом доме на улице Бардина. Муж у нее и раньше крепко выпивал, а тут, с переездом, еще больше стал. — Мотоцикл-то он в доме оставил на два дня. Хотел гараж сделать. Да куда там! Как он о нем вспомнил, не знаю. Провались пропадом этот мотоцикл! — Ты что болтаешь-то, что болтаешь, дура! — заерепенился Михаил Иванович. — И мотоцикл пусть провалится, и ты вместе с ним и со своей водкой! — категорично отрезала супруга. — Там ведь уже все дома разобрали. Вы об этом знаете? — Знаю, как не знать. Охламон-то мой сруб-то продал, а деньги пропил. Поди, те, кому сруб продал, и мотоцикл заодно прихватили. Да, что ни говори, а мотоцикла нет. Надо брать заявление, регистрировать материал. Хорошо, хоть тогда протокол осмотра составил, сделал кое-какие наброски, посоветовался с инспектором уголовного розыска, нашим главным авторитетом — Михаилом Павловичем Бабушкиным. Он мне даже подсказал, у кого можно тот мотоцикл поискать в случае чего. Заявители уходят. Мы просматриваем ориентировки о задержанном и найденном автомототранспорте. Вечером находим троих дружков: Мишку, Витьку, Вовку. Старшему через месяц исполнится 14. После получасовой беседы выясняем, что весь мальчишеский околоток гонял на мотоцикле недели две. Однажды вечером Витька и Мишка мчались на нем у вокзала. Кончился бензин. Пошли на розыски горючего, а когда вернулись — мотоцикл пропал. Беру объяснение с ребятишек. А еще через два дня в отдел приезжает высокое начальство. Чтобы разобраться и по заслугам наказать лейтенанта милиции Нового. — К вам обращался с заявлением Коровин? — Так точно. — Какие меры приняли по его заявлению? — Выехали на место происшествия… Потом отправили Коровина в психиатрическую больницу… Потом задержали похитителей мотоцикла… — Так, так, — переглядывается начальство. — Вы знали, что мотоцикл найден и находится в Железнодорожном райотделе. — Нет. — Ориентировки читаете? — Так точно. — Плохо читаете, — начальство трясет перед моим носом ориентировкой, и я с ужасом вижу, что она дана в день, когда заявитель приходил к нам с женой, и действительно его мотоцикл найден и находится в Железнодорожном ОВД. Ну что тут скажешь! Просмотрел, растяпа несчастный! Так тебе и надо! — Пишите объяснение. Обо всем пишите подробно, — приказывает проверяющий. — Особенно о том, как вам пришло в голову заявителя в психиатрическую больницу отправлять! Что это за новый способ разбирательства? — Не я же его взял, а психиатр, — пытаюсь оправдаться. — Ладно, разберемся. Разбирались долго. Писал еще одно объяснение. Пришел ко мне Михаил Иванович. — Что, товарищ лейтенант, хлопоты тебе из-за меня? Я ведь им говорил, что правильно вы меня в больницу направили. У меня и справка есть. Вот, пожалуйста, алкогольный психоз. Вы уж меня извините за беспокойство. — Ладно, чего уж там. Прошла неделя. Решил позвонить начальству, справиться. На сердце неспокойно. Виноват все же! — Что звонишь? Чуешь неладное? — в ответ на мое положенное по субординации «здравия желаю» пророкотала трубка. — Признавайся, в чем виноват? — Виноват в одном. Проглядел ориентировку. Непростительная оплошность. В остальном, думаю, любой на моем месте поступил бы точно так же. — Правильно думаешь! Поэтому на первый раз решено тебя не наказывать. Но выводы для себя сделай! Ну, будь здоров! Вывод я сделал на всю жизнь: в работе следователя нет мелочей. Внимательность, осмотрительность, принцип «сто раз отмерь — один отрежь» — таким должен быть стиль работы того, кому предоставлено право вмешиваться в судьбы людей.
КОГДА я сегодня размышляю о работе следователя, его профессиональной пригодности, прежде всего думаю об искусстве понять человека. «Поделом ему! Заслужил!» Я же всегда вспоминаю родных и близких осужденного. Родителей, жену, детей. Всех тех, кто носит передачи, плачет, тоскует, просит о снисхождении и терпеливо ждет. Для них этот хулиган, вор, грабитель остается близким человеком. «Что же, — спросите вы, — выходит, не наказывать преступников? Забыть и простить?!» Нет! Нужно наказывать. Наказывать строго. Важно одно: увидеть мир человека, проникнуть в глубину души. Понять, что есть хорошего у него в сердце. Не думайте, что речь идет о каком-то кусочке жизни, чаще всего мы решаем судьбу, и даже не одну. Потому так сложна, так многообразна жизненная мозаика. Поэтому следует очень внимательно рассмотреть хитросплетение биографий и судеб. …Ночью на электростанции обокрали клуб. Утащили магнитофон, музыкальные инструменты, книги. Даже беглый осмотр места происшествия убедил: дело рук подростков. Дела такого рода не представляют особой сложности и раскрываются как правило, что называется, по горячим следам. Так случилось и на этот раз. К концу дня мы установили, что кражу совершили Володя Васнецов, Игорь Агафонов и Сергей Четвериков. Нашли и краденое. Вещи лежали в сарае у Четверикова. Ребята не запирались. Рассказали, как дождались темноты, как вырезали стеклорезом стекло в раме, потом открыли шпингалеты. Влезли Васнецов и Агафонов. Четвериков караулил их. Свет не зажигали: знали, где и что лежит. Вещи принимал Четвериков. Васнецов задержался: обшаривал столы — искал деньги, авторучки, значки. Потом перетащили краденое в сарай. Вот и все. Преступники задержаны, в краже признались, вещи изъяты. Я смотрел в широко открытые ребячьи глаза и не мог поверить, что эти 14-летние мальчишки совершили кражу. Не мог, и все тут! Что-то здесь не так. Да и то подумать, зачем им, например, барабан, медные тарелки? И еще: надо же было додуматься вырезать стекло, хладнокровно открыть окно… Все расставлено по местам, все предусмотрено. Это и настораживало. Да и ребятишки не какие-нибудь охламоны, «оторви и брось», а нормальные парни, хорошо учатся на учете в милиции не состоят. Володя — заядлый фотограф. Игорь любит животных, у него дома шотландская овчарка Урс. Сережа просто тихий мальчуган. Потому и в окно, наверное, не полез. Не мог я поверить, что такую квалифицированную, тщательно продуманную, хладнокровно проведенную операцию могли мальчишки осуществить самостоятельно. Настораживало и то, что у Сережи была рассечена губа. У Игоря — синяк под глазом. Откуда эти украшения? Я знал, что мальчуганы не драчуны, сами, как говорится, задираться не будут. Значит, кто-то побил. За что? Почему ребята молчат об этом? А время идет, надо решать, что делать с материалом. Решать судьбу, будущее худеньких, тонкошеих, с большими доверчивыми глазами подростков. От моего решения зависит, быть может, весь их дальнейший жизненный путь. «Похоже, лидер у них — Васнецов», — размышлял я, вглядываясь снова и снова в лица моих новых знакомых. Высокий, крепкого сложения, на вопросы отвечает первый, держится уверенно. Отец у Володи офицер, он очень гордится этим. Мечтает и сам стать офицером. Бесспорно, считает себя смелым, решительным. Для него обвинение в трусости, наверное, самая тяжелая обида. — Что-то не так, Владимир, — обратился я к нему. — Крутишь, врешь. Боишься кого-то, струсил? Непохоже на тебя! Ты же здоровый, сильный парень! Кто Игоря с Сережкой разукрасил? Или живете по принципу: «ударили по одной щеке — подставляй другую?» Владимир вспыхнул. — Не боюсь я его. Пусть только попробует, заденет. Агафоша с Серым, может быть, боятся… Ладно. Чего там. Витька Веряев нас научил… Витьку Веряева я знал. У него уже были две «ходки к хозяину». Сидел по 206-й за хулиганство, по 89-й — за кражу из столовой. На электростанции Витька был «королем». Его боялись. Ростом бог парня не обидел, кулаки увесистые. У него водились деньжонки. Он одаривал приятелей вином и сигаретами. В Витькином сарае мальчишки слушали музыку, «балдели». На Витькиной груди красовался орел, на руке якорь и надпись: «Не забуду мать родную», на плече корабль. Тюремные наколки среди ребятни пользовались большим уважением. Эти бесспорные «преимущества» позволяли Витьке «качать права» и верховодить. Володя, Игорь и Сергей вначале наотрез отказались от предложения «навести в клубе шмон». Тогда Сергея избили. На другой день, прямо возле дома, веряевские парни сбили с ног Игоря. Пинали. Володю не трогали. Только как-то, встретив Васнецова у клуба, поигрывая велосипедной цепью, Веряев спросил: — Ну как, не передумал? После кражи Веряев предупредил: — Если капнете, замочу! — Замочить-то он не замочит, — горько усмехнулся Вовка. — Кишка тонка. А навешать где-нибудь может запросто. Веряева задержали вечером. — Бочку катят на меня, начальник. Ни при чем я. Чист, как слеза младенца. Все подтвердят. Зачитал показания Володи, Сергея, Игоря. Витька скривил тонкие губы: — Так они ж напраслину городят. В ссоре мы. Вот и все дела. Я к этим сосункам и близко не подхожу, хоть кого спросите. Пришлось проводить очные ставки. Ребята держались молодцом. Особенно Владимир. — Ну как, — поинтересовался я, когда прокурор дал санкцию на арест Веряева, — сорвалось на этот раз, Виктор Ананьевич? — Веряев дернул плечом, посмотрел на меня ненавидящим взглядом. Промолчал. Сколько уже лет прошло с той поры. Володя, Игорь и Сергей обзавелись семьями, растут дети. Словом, идет жизнь. А я, когда вспоминаю этот случай, испытываю чувство радости. Что ни говори, а выручить человека из беды — счастье, огромная удача следователя. У мальчишек только ведь жизнь начиналась! Веряева с тех пор не встречал, видимо, в город он не вернулся.
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ лет работаю я в милицейском коллективе. Хорошие, честные, самоотверженные люди — мои коллеги. Трудяги… Однако иногда замечаю, что у некоторых сотрудников с годами складываются обвинительные наклонности. Профессиональная деформация — так это по науке называется. Как говорится, издержки профессии. Такого допускать нельзя: мы обязаны в каждом человеке увидеть разностороннюю личность, понять, найти истоки, причины, породившие преступление, быть может, даже защитить, хотя это и не совсем милицейская функция. Нередко следователь вынужден быть и педагогом. Причем, как это ни странно, воспитывать чаще всего приходится взрослых людей, родителей. …За хулиганство и грабеж задержали троих 16-летних юнцов. Преступление было, что называется, самым обычным, заурядным. Но именно эта «обычность» настораживала и тревожила. Они выпили. Пили на деньги, которые дали им родители. Не хватило… Тогда у гастронома на Заводской улице ограбили двух подвыпивших мужчин, отобрали у них около четырех рублей. Выпили еще. Опять не хватило. Решили добавить. Встретили во дворе магазина пожилого человека. Бесцеремонно потребовали у него денег, а когда тот отказался выполнить наглое требование, начали его жестоко избивать. Протрезвев, парни предстали этакими жалкими несмышленышами, несовершеннолетними, не знавшими об ответственности просящими о снисходительном и гуманном отношении к ним. Смешно, но они жалобно тянули: «Простите, мы больше не будем». В райотдел утром пришли их матери. Узнав обстоятельства дела, они стали на крыльце деловито обсуждать происшедшее. — Да они, наверное, сами были пьяные! — это говорилось о потерпевших. — Несмышленые, умишко-то еще детский, — это говорили они уже о своих детях. — Сами виноваты, не надо было давать им деньги… Сразу бы сообщили куда следует! — это опять о потерпевших. Я не мог не вмешаться в этот разговор. — Вы же женщины, матери! Постыдитесь… Представьте себя на месте потерпевших, представьте на их месте своего мужа, отца, брата. Что сказали бы вы тогда? Что вы сказали бы, если родного, близкого вам человека унизили, оскорбили, избили, ограбили? Женщины смутились, замолчали… Подростки были привлечены к уголовной ответственности и понесли справедливое наказание в соответствии с уголовным законодательством. Я же тогда понял, что ребятам не хватало в воспитании элементарного уважения к окружающим людям, понятия о чести, справедливости, об уважении к человеческому достоинству, чувства личной ответственности за свои поступки. Тогда я понял, что следователь обязан быть еще и педагогом. Окончательно убедил меня в этом собственный горький опыт. Однажды должен был я выступить перед учащимися ГПТУ с лекцией на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». За полчаса до начала лекции я был уже на месте, сидел в кабинете замполита, обсуждая наиболее «больные» вопросы правонарушений. Замполит сетовал на критическое положение, сложившееся в училище, просил поговорить с ребятами построже. Я кивал головой и обещал, хотя в душе очень смутно представлял себе, о чем и как говорить «построже» с его питомцами. Потом меня пригласили в зал. Замполит предупредил, что в зале соберутся все учащиеся ГПТУ, которые придут с урока физкультуры, и я засомневался, стоит ли выступать перед такой многочисленной аудиторией. Но то, что я увидел, превзошло все мои опасения. В зале шумели, бегали, хлопали сиденьями, кричали и свистели не менее трех сотен сорванцов. В конце зала, где были установлены два автомата с газированной водой, столпилась большая очередь. Автоматы шипели, рокотали, стаканы звякали, все переговаривались, громко смеялись, не обращая ни малейшего внимания ни на меня, ни на безуспешно пытавшегося перекричать этот шум замполита. Я окончательно растерялся. Шум не утихал. Даже сидевшие в первых рядах ребята громко переговаривались и смеялись, не замечая работника милиции, стоявшего на сцене. Не дождавшись тишины, я как можно громче, стараясь перекричать шум зала, спросил: — Ребята! Знаете ли вы, с какого возраста наступает уголовная ответственность? В зале засмеялись. Несколько голосов выкрикнуло: «Знаем! «С четырнадцати!» Кто-то в передних рядах довольно громко сказал: «Опять лажу будет пороть!» Шум усилился. Я начал говорить, но мои слова об Уголовном кодексе, о недопустимости антиобщественных поступков тонули в общем шуме, и я почувствовал, что перестаю слышать свой голос, теряю нить рассказа, говорю совсем не то, о чем собирался говорить. В третьем ряду слева от меня длинноволосый великовозрастный детина щелкал сидящих впереди ребят по ушам, а когда они дергались, оборачивались, искали глазами обидчика, издевательски громко хохотал, а этот смех отдавался в моих висках. Я на минуту замолчал, вглядываясь в задние ряды. Уйти? Ну нет! Я все-таки заставлю их слушать. И, стараясь перекрыть шум зала, начал:
УГОЛОВНОЕ дело на Данилу Паршукова, обвиняемого в злостном хулиганстве, а попросту в беспробудном пьянстве, издевательстве над женой и сыном, третировании соседей, поручили мне. Не раз Данила выбивал в своей квартире то окно, то двери. Материал собрал полностью. Все есть: протоколы допросов, осмотра места происшествия, заключения медицинской экспертизы Нет только одного: Паршукова. Он умудрялся совершить погром и скрыться до приезда милиции. Безуспешно пытались задержать Данилу участковый инспектор и инспектор уголовного розыска. Когда его жена Лидия Ивановна пришла ко мне в третий раз, заплаканная, с четырехлетним ребенком глазенки которого смотрели испуганно и виновато, как у щенка, который ждет, что сейчас его ударят, я спросил. — Опять приходил? Лидия Ивановна молча кивнула. Тихо сказала: — Двери сломал. Как теперь замок ставить, не знаю: вся дверь разбита. — Когда он обычно заявляется? — Утром, часов в пять — шесть. Иногда днем, когда я не работаю. Как сказочный Иванушка-дурачок, я дважды подходил к дому Лидии Ивановны, когда дворники еще все спят и транспорт не работает, — и безрезультатно. И вот опять, на третье утро, заняв наблюдательный пост на скамейке напротив дома, жду Данилу. Он пришел в половине шестого. Покурил у подъезда, сплюнул, вошел. Я поспешил вслед Успел вовремя. Данила барабанил руками и ногами в дверь: — Открой! — кричал он жене. Здоровый мужик оказался. Хорошо, сосед помог. Вместе связали Данилу ремнем. Лидия Ивановна вызвала милицию. — Дурак, не спится тебе! — процедил в машине Паршуков. — Я хоть за своим хожу. Должок тут у меня остался, а ты… Его мутные, заплывшие глазки алкоголика выражали бессилие и злобу. Я еще раз вспомнил измученное лицо Лидии Ивановны, испуганный взгляд сына Стасика, и волна негодования, презрения захлестнула сердце. В уголовном деле остался и мой рапорт о задержании опустившегося, спившегося, потерявшего право называться человеком Данилы Паршукова. Потом я часто встречал на улице Крауля своих знакомых. Веселее стали глаза матери и сына. Меня искренне радовали эти встречи. А встречи с преступниками, они, конечно, настроения не улучшают, здоровья не прибавляют и жизнь не продляют. Но когда, встречаясь со злом, чувствуешь свою силу и правоту, кажется, — крылья вырастают! Ради этого стоит жить и работать! Как-то на допросе матерый спекулянт, с издевкой глядя мне в лицо, усмехаясь, произнес: — Жалко мне тебя, парень. Окладник ты. Тебе же в жизни не держать столько денег, сколько я за день могу истратить. Что ты видел? Когда ты последний раз был на море, в ресторане? Где твоя машина? — Да, я «окладник», — ответил я ему. — И счастлив тем, что получаю свой оклад за то, что освобождаю общество от таких, как вы. Да, у меня никогда не было много денег и, видимо, никогда не будет. Нет у меня и машины. Но зато я спокойно хожу по родному городу. Вижу, что меня уважают. Ращу детей. Хочу, чтобы они выросли честными. Это огромное счастье не купить ни за какие деньги. Поэтому я неизмеримо богаче вас. Мой собеседник молчал. Не хочу сказать, что я мастер полемики, дискуссий. Но глубоко убежден в одном: правда выстоит в любом споре. Кто такой преступник? Попросту человек, живущий только для себя. Эгоист, приобретатель, жизненный принцип которого — «Пусть мир перевернется, только бы мне было хорошо». Доказать ненужность, бесполезность, никчемность такого существования весьма несложно. Ведь если разобраться детально, рассмотреть преступника таким, как он есть, увидишь нищенскую душонку, убогость мышления, жадность, мелочность, способность на любую подлость во имя низменных интересов. Главная задача милиции, следствия, по-моему, как раз и заключается в том, чтобы показать омерзительность существования для себя за счет других. Когда люди будут негодовать по поводу любого недостойного поступка, когда преступления станут попросту невозможными, тогда мы сможем счистой совестью сказать: «Милиция свою задачу выполнила». И пойдем работать в народное хозяйство. Строить новую жизнь. Милиционеры умеют работать. В этом я убедился. Навсегда останется в памяти дело Игоря Львова. Супруги Кожевниковы написали заявление, в котором обвиняли его в том, что «Львов, будучи в нетрезвом состоянии, учинил в их квартире погром, перебил посуду, ударил по лицу Владимира Кожевникова, оскорблял хозяев нецензурной бранью». На первый взгляд — ничего сложного. Типичное хулиганство. В соответствии с терминологией Уголовного кодекса — статья 206, часть вторая. Да, все было бы именно так, если бы не одно упущение в заявлении потерпевших. Игорь Львов был в доме Кожевниковых гостем. Вместе с Игорем, об этом я узнал позднее, там находился Иван Лапшин. Пригласил их Владимир Кожевников. На кухне «дружки» выпили три бутылки водки. Потом и начался скандал. Было еще одно обстоятельство: Игорь Львов лежал в больнице с переломом левого предплечья и двух ребер. Ездил в больницу к Игорю, беседовал с его матерью, с соседями Кожевниковых, нашел Ивана Лапшина, разыскиваемого как злостного неплательщика алиментов. Провел серию очных ставок. Что же, в конце концов, выяснилось? Действительно, посуды на кухне побили много. Была и нецензурная брань. Все было… Только началась драка, когда хозяин предложил Лапшину и Львову похитить материальные ценности с базы одного из строительных управлений, а впоследствии продать похищенные стройматериалы по спекулятивной цене. Вывезти краденое с базы должен был Львов, шофер грузовой автомашины. Тот наотрез отказался. Вот тогда все и началось. Игорь упал. Владимир пинал его, а потом с помощью Лапшина спилил с пальца Львова золотой перстень: расплата за разбитую посуду. Но прежде чем передо мной предстала истинная картина, прошел месяц напряженного, кропотливого труда. Нужно было увидеть лицо каждого участника драки, узнать ее причины. Дело не совсем простое, если принять во внимание, что участники разыгравшейся в этот вечер драмы ранее судимы. Лапшина к тому же разыскивала милиция. Ну, а про Кожевникова и говорить нечего. Прошел огонь, воду и медные трубы! И все-таки истина восторжествовала. Мне же этот случай особенно памятен не потому, что зло наказали, а потому, что не пострадал Игорь Львов, потому, что человек увидел: на его стороне закон, его защищает милиция. Не знаю, как сложилась дальнейшая судьба Игоря, но тогда я видел счастливое, благодарное лицо. Я видел глаза человека, который понял, что ему верят, что он не одинок. Такое забыть невозможно Как невозможно забыть глаза, которые молят о помощи, требуют справедливости, доброты.
ТЕПЕРЬ, когда я думаю о работе следователя, я вижу главное в ней — борьбу за торжество справедливости. В этой борьбе следователь обязан победить.
БИОГРАФИЯ МУЖЕСТВА
ОБ АВТОРАХ
КОШЕЧКИН Г. И. родился в 1931 году в г. Москве. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал следователем в Главном управлении внутренних дел Мосгорисполкома. В настоящее время — старший следователь Главного следственного управления МВД СССР. Подполковник милиции. Автор нескольких рассказов о сотрудниках органов внутренних дел. САЛЬНИКОВ Н. Ф. родился в 1930 году в Тульской области. Окончил военное училище, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Профессия — журналист. В органах внутренних дел с 1964 года. Полковник милиции. Печатался в различных сборниках, посвященных будням милиции. Член Союза журналистов СССР. Живет и работает и Москве. НОВЫЙ Н. Н. родился в 1948 году в г. Ишиме Тюменской области. Окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В органах внутренних дел с 1970 года. Был участковым инспектором, следователем. Майор милиции. Его очерки, рассказы публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт». Живет и работает в г. Свердловске.Валерий Кузнецов Мы вернемся осенью Повести


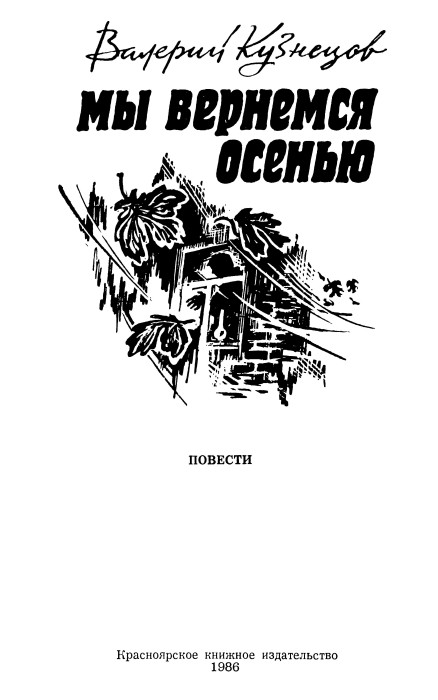
ОБ АВТОРЕ
Валерий Вениаминович Кузнецов родился в 1942 году в Нижнем Тагиле. После окончания средней школы работал на мебельной фабрике, служил в армии, закончил факультет журналистики Уральского университета. Работал на радио в Эвенкии (п. Тура). С 1969 года работает в органах МВД. Первые рассказы и повести «Семейная хроника», «Ученики Сократа» опубликованы в альманахе «Енисей» (1979, 1985), в приложении к журналу «Советская милиция» (1980), рассказы о декабристах и повесть «Мы вернемся осенью» — в газетах «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий». Член Всесоюзного литобъединения «Мужество» при журнале «Советская милиция». Участник зональных семинаров молодых писателей в Москве (1980) и Владивостоке (1982). За повесть «Семейная хроника» награжден дипломом литературного конкурса Союза писателей и МВД (1980).

Семейная хроника
1
...Вызывает также озабоченность состояние дел по розыску без вести пропавших. Управлению уголовного розыска следует активизировать эту работу с тем, чтобы выйти по итогам 9 месяцев хотя бы на уровень прошлого года.В кабинете у розыскников накурено — хоть топор вешай. Коллегия закончилась, но у них шло свое совещание. Отбирали перспективные дела. Виктор вертел в пальцах карточку с номером дела, доставшегося ему, и, наконец, не выдержал: — Я все-таки, убей бог, не пойму, почему дело Сысоева перспективное? Может, Сысоева и можно найти через месяц. Запросы послать, проверить. Через полгода, там... Но две недели. Ведь я же знаю дело: типичный «глухарь». — Ну, чего ты по второму кругу начинаешь, — вздохнул старший инспектор. — Легких дел ни у кого нет. Все вместе выбирали. Легкие и без нас раскроют. И потом — тебе самому не надоело жалобщиков слушать: этого не могут найти, того не ищут? — Как будто их меньше будет, если я Сысоева разыщу, — буркнул Виктор. — Кстати, сожительница его не жалуется, что он потерялся. — И слава богу. Значит, так: разъезжаемся завтра. И вот что, ребята, — старший инспектор помолчал, — я не говорю, что вы все дела раскроете. Но все, что нужно сделать для этого, сделайте. Ясно? Итак, Виктору предстояла командировка. Все текущие дела — побоку. Господи! Это ж после командировки все придется наверстывать: запросы, задания, ответы... Заняться Сысоевым. Изучить досконально материалы, имеющиеся на этого человека. Его друзей, соседей, собутыльников. Выработать оптимальную версию. Отработать ее. В райотделе, конечно, не дураки сидят, работу знают. Но что они проглядели? Из сведений о Сысоеве уцепиться не за что: выпивоха, безобидный человек, работал в коммунхозе, сожительница — буфетчица. Детей нет. Были, конечно, скандалы, но без крика во дворе и прочей атрибутики, которую как-то можно было связать с последующим исчезновением. Плохо, что он несколько раз собирался уйти из дома. Вполне может статься, что ушел. Тогда где его искать? Год как пропал... Виктор досадливо поморщился. Глупо вот так мотаться по привычному кругу вопросов, не имея никакой дополнительной информации. Старший инспектор в таких случаях говорил: «Ну, что ты сам себе руки выкручиваешь?» И — точно: пустое занятие. Надо ехать в райотдел. На месте виднее. Начальник райотдела встретил Виктора настороженно. Просмотрел его план-задание, поднял брови: — Только из-за Сысоева приехали? И все? — И все. — Что — жалоба? Плохо ищем? — Жалобы нет. А ищете плохо, — кивнул головой Виктор. Начальник окинул неприязненным взглядом долговязого представителя управления. — Вот вы нам и поможете... Розыскник в третьем кабинете. Дело у него. Ознакомитесь — заходите, поговорим предметно. Впрочем, — он взглянул на часы, — лучше завтра. Розыскник оказался здоровенным белобрысым парнем, жизнерадостным на вид. Когда Виктор зашел, он как раз откусил от бутерброда и сидел с набитым ртом за столом. Перед ним на газетном листе лежали помидоры, круг колбасы, соль и полбулки хлеба. Парень кивнул головой Виктору — садись, и, продолжая жевать, стал его разглядывать. Виктор открыл было рот, но хозяин кабинета предостерегающе поднял палец, и снова воцарилась тишина. Наконец, с трудом проглотив, розыскник проговорил: — Ты — Голубь, так? По делу Сысоева? Я — Реук. Извини, столовка закрыта. С этими словами он снова занялся бутербродом. «Ну, нахал!» — подумал Виктор, но злости не было. Реук так аппетитно ел, весело поглядывая на него, что Виктор сам сглотнул слюну, хотя недавно обедал. — Ладно, — будто угадав его мысли, вздохнул Реук. — Руководство можно дразнить, но до определенных пределов. Он с сожалением посмотрел на оставшийся хлеб, колбасу, помидоры, затем отчаянно махнул рукой, быстро и ловко свернул все в газету и сунул в стол. Жестом фокусника засучил рукава, вытащил ключ, не глядя, ткнул его в бок и, точно попав в скважину, открыл сейф. Так же, не глядя, вытащил папку, бросил ее перед Виктором. — Сысоев Павел Николаевич, тридцать шестого, дежурный слесарь коммунхоза, беспартийный, несудимый. Поссорившись с сожительницей Квитко Лидией Петровной, буфетчицей столовой, ушел из дома 9 августа прошлого года, о чем заявила через месяц его сестра. Данные ее в деле. Принятыми мерами Сысоев не обнаружен. Разработан дополнительный план мероприятий. Розыск продолжается. Виктор открыл последнюю страницу дела. Это был ответ на запрос из какой-то области. Он пододвинул папку Реуку. Тот покосился на документ. — Запрос по месту жительства его брата. — От какого числа? — Тут написано. — Вижу, — Виктор закрыл папку, — это было полгода назад, а ты говоришь, розыск продолжается. Картину гонишь? Кстати, тебя не удивляет, что сожительница не заявляла о Сысоеве? — Раньше удивляло, — улыбнулся Реук. — Первое время, пока ничего не знал. Голубь сделал вид, что не понял намека, оглянулся. — Где у тебя можно разместиться, дело посмотреть? — А вот, — Реук показал на соседний стол. — Напарник у меня в отпуске. — Значит так: я до вечера с этим делом посижу, ты занимайся своим. Вечером сообразим, что нам предстоит завтра. Реук, будто не замечая холодного тона Виктора, покачиваясь на стуле, доброжелательно смотрел на него. При последних словах он перестал покачиваться и сообщил: — Завтра я уезжаю по заявлению. — Куда? — На Туркан. Там экспедиционный склад обворовали. Тушенку взяли. — На сколько едешь? — Не знаю, дня три-четыре. — Отпадает, — решительно отрезал Виктор. — Будем работать по Сысоеву. — Виктор Георгиевич, — Реук пробарабанил по столу замысловатую дробь, — Сысоева за неделю мы все равно не найдем, а склад тем временем повиснет. — Другой поедет на Туркан. — Другой не поедет, — ласково возразил Реук. — Другой в отпуске. В отделе же штатного розыскника нет, а у меня пять заявлений. И ты тут с Сысоевым. Я с одним задом на три свадьбы не успею, ты уж извини. — Ладно, — буркнул Виктор, — первый тайм за тобой. Вечером продолжим, — и углубился в дело. Он не заметил, как подошел вечер. В кабинете никого не было. Виктор закурил. В Красноярске все выглядело проще. Здесь возникли и цеплялись друг за друга десятки «но». Попробуй разберись. Во-первых, Сысоев оказался не таким уж безнадежным пропойцей. Лет пять назад, еще до того, как сойтись с Квитко, он купил пятистенный дом с погребом. Водопровод в огороде — тоже его рук дело. Далее. Ушел от буфетчицы не с бухты-барахты, а получив от нее предварительно полторы тысячи рублей за половину дома. Необходимые документы на владение оформлены примерно в это время на ее имя. Все тут в порядке. Откуда же сложилось убеждение, что Сысоев — пьяница, опустившийся человек? Это надо выяснить. Виктор сделал пометку на листе бумаги. Сысоев не выписывался, но с работы уволился. Следовательно, он не собирался уезжать надолго. В области у него сестра, но она его не видела. Остальные связи тоже отработаны, кажется, все — нигде не появлялся. Получив деньги за дом, Сысоев еще некоторое время жил с буфетчицей. Почему? Пьянствовал с приятелями (не отсюда ли его характеристика?), жаловался, что чуть ли не клещами вытащил у нее деньги. Наконец, 9 августа собрал пожитки, документы и ушел, заявив Квитко, что она о нем еще услышит. Был пьян, пошел в сторону станции. Судя по времени, должен был сесть на поезд, следующий в западном направлении. Все. Впрочем, не все. Через месяц в отдел пришло заявление от сестры Сысоева, которая ездила в поселок и узнала все от буфетчицы. Вошел Реук. Сел, подперев рукой голову. — Почему Сысоев пьяница? Реук пожал плечами: — Попивать он стал последнее время, когда начал делиться с Лидкой. Левый заработок он любил, а где левый заработок, там водка. Но пьяницей я бы его не назвал. Вот только когда решил уезжать... — Точно решил? Ты уверен? Реук улыбнулся: — Я же местный. Лидку и его знаю, как облупленных. — Почему они разошлись? — Почему? Ну, во-первых, ему за сорок, а ей двадцать пять. Что тут неясного? — А почему сошлись? Реук задумался. — Знаешь что, Виктор Георгиевич, у меня предложение: поехали со мной. — Куда? — На Туркан. — Так, — Виктор даже растерялся от такого нахальства. — А ты знаешь, что я сейчас намерен сделать? — Знаю, — кивнул головой Реук. — Пойдешь к начальнику и попросишь, чтобы кражу на Туркане передали участковому, а меня прикрепили к тебе работать по Сысоеву. Только ничего не выйдет: участковый будет через двое суток, начальник с инспектором БХСС выехали в совхоз, вернутся только послезавтра. И даже если я останусь, мы зря убьем время. — Почему? — Сенокос, — объяснил Реук. — Все на сенокосе. Последние дни. Лидки в поселке тоже нет — умелась куда-то. Так что говорить пока не с кем. Зато на Туркане сейчас ошивается один из бывших приятелей Сысоева. Кстати, исчез сразу после него. Не то, чтобы скрылся, нет: появлялся в течение года то тут, то там, но поймать я его никак не мог. Реук снова взглянул на часы. — А парень любопытный. Судимый. Работал с Сысоевым. Лидку знает. Виктор вздохнул: — Ладно, вроде как уговорил. — Ну, и слава богу, — расцвел Реук. — Двадцать минут осталось, — и, видя изумленное лицо инспектора, объяснил: — Я говорю, до отхода катера на Туркан двадцать минут осталось. Геологи туда должны везти кино и прочее там... А сопровождать у них некому. Ну, я и сказал, что мы вдвоем сопроводим. Туда только раз в неделю катер ходит... — Ну, ты нахал, брат, — изумился Виктор. — Не обижайся, но я таких нахалов не видал еще. — Все зависит от точки зрения, — скромно возразил Реук. — Ты баульчик оставь — на Туркане все, что нужно, есть. Иди к пристани, это метров триста по улице. А мне еще моториста найти надо. — Ты что, издеваешься? Какого моториста? — Виктор Георгиевич, — Реук выразительно прижал руки к груди, — геологам этот Туркан до лампочки. Толь и кино они и через месяц туда завезут. Но нам-то там надо быть или нет? Уходить будешь — дверь прихлопни сильнее. И, не дождавшись ответа, исчез. Подойдя к пристани, Виктор обнаружил Реука уже на катере, отчаянно ругавшегося с мотористом. По залитым водой мосткам Виктор осторожно перебрался на катер. Реук сидел, удобно развалившись. Темная вода мерно плескалась в борт. Виктор уселся рядом и огляделся. Солнце плыло над сопкой, все еще по-летнему жаркое и ослепительное, но от воды тянуло уже холодом. Виктор поежился, представив, как бесшумно и быстро подойдет осень и на реке станет холодно, нелюдно. Благоуханная жаркая тишина в тайге сменится шорохом от постоянно падающих капель дождя. Бр-р! Реук достал откуда-то плащ и передал Виктору: — Накинь! — Зачем? Тепло же! — Когда пойдем, похолодает. И потом, видимо, будет дождь... Так, мы остановились на Лидке. Девушка бывалая, но товарный вид имеет. Почему сошлась с Сысоевым? Сысоев был надежный мужик. Он из совхоза пришел, а там — школа. Нужен тракторист — садись на трактор, нужен сварщик — иди, вари. Все мог делать, но левый заработок любил. Дом у него свой, денег, как пшена. Ей в нос и ударило. Ну, а когда пожила... Сысоев что? С работы на халтуру, с халтуры на работу. В перерыве бутылку с друзьями шарахнет и снова по кольцу. А Лидка, выходит, ему для удовольствия, вместо бутылки. Эта жизнь не по ней. Ей вторых ролей не надо. Да и в угоду Сысоеву поститься она не будет. Вот, видимо, отсюда у них семейный механизм и стал люфтить. Сысоев оставил дом, деньги она ему отдала, и разбежались. — Откуда деньги? — Деньги-то? Семья ее помогла. Она, Лидка, балованная, а старики у нее в достатке живут. Ну, и, конечно, новый ее ухажер тоже посодействовал. Он как раз здесь появился, когда она в Сысоеве разочаровалась. Он осетин, что ли, хотя по паспорту русский, Оергеев Михаил Арканович. — Проверял его? — Да, судимостей нет. С Лидкой живут хорошо. Она им довольна во всех отношениях. — Говоришь, будто у них дома жил, — улыбнулся Виктор. — Деревня, — пожал плечами Реук. — Все про всех знают. — Да, — протянул Виктор. — Порассказал ты на целый роман. Главное, все просто, понятно. — Стараемся, работаем, — потупил глаза Реук. — Вот только одно непонятно, куда Сысоев девался? — Скорее всего его уже нет в живых. Год прошел... — Это я без тебя знаю. Я говорю о том, куда он собрался ехать. Ведь не выписывался. Он не преступник, не бродяга, ему не надо было заметать следы. Понимаешь? Он поехал куда-то недалеко с тем, чтобы вернуться. Куда? — Господи, к сестре! — взорвался Реук. — У него в кармане было полторы тысячи. При его образе жизни в последнее время свободно мог напиться с кем угодно. По дороге убили и обобрали... — Труп сожгли и по ветру пепел развеяли? Чего ты кричишь? Он к станции пошел. На поезд. Если бы так случилось, его бы через два-три дня под откосом обнаружили. Ты куда? Реук нелепо взмахнул рукой, перевернулся на бок и исчез за бортом. В тот же миг Виктор проехал задом к рубке и больно стукнулся головой о какой-то крюк. Мотор стих, были слышны только шлепки волн о борт катера. У борта показалась мокрая голова Реука, отфыркиваясь, он подтянулся на руках и перевалился на палубу. Снял туфли, вылил из них воду. Грустно посмотрел на Виктора. — Что случилось? — спросил Виктор. — Ничего особенного. Моторист неопытный, добросовестно держался левого берега, как я ему сказал, и залез в устье какой-то речки, мы на мели. Сейчас попробуем слезть. Реук нырнул в рубку. Минуты две там раздавались громкие голоса, затем появился моторист, следом Реук. — Понимаешь, ему показалось, что здесь остров, и он решил обойти его с левой стороны, — торжественно провозгласил розыскник и, обращаясь к мотористу, прорычал: — Иди в рубку, чудо самоварное, и моли бога, чтобы нам сняться с мели до ночи. Сняться не удалось, и им пришлось по пояс в воде выгружать толь на берег, затем искать достаточно глубокое место, чтобы катер мог подойти ближе, и снова загружать его толем, теперь уже по горло в воде. Закончив работу, все залезли в крошечную рубку. Реук встал рядом с мотористом. Виктор умостился тут же, и катер осторожно двинулся вниз по течению. Сквозь редкую сетку начавшегося дождя с трудом угадывались очертания берега. Виктор задремал. Он слышал постукивание мотора, голос Реука, потом все пропало, и ему показалось, что он поднимается вверх и плывет по воздуху, не касаясь пола. Потом снова послышались стук и шум, Реук снова что-то говорил ему, помог подняться. В темноте они сошли на берег. — Что это? — спросил Виктор, ему страшно хотелось спать. — Туркан, — ответил Реук, — сегодня переночуем у одной бабки, а завтра с утра на лодке переправимся на ту сторону и будем на месте. — Так партия не здесь? — Нет, на той стороне, километра три по лежневке. Они подошли к какому-то дому. Реук зашел в дом и через некоторое время позвал Виктора с мотористом. В комнате было тепло, даже жарко, пахло березовыми дровами. — С ума сошла бабка, в августе топить, — гудел где-то голос Реука. Он ходил и распоряжался, как у себя дома, отвел куда-то моториста, потом тронул за плечо Виктора: — Пошли. Тот послушно прошел за ним к койке и стал разуваться. — Бабка, где у тебя горлодер? — снова послышался голос Реука. — Тащи его сюда, не то простужу начальство, всю жизнь в лейтенантах придется ходить, а у меня звание на подходе. Старуха подошла со стаканом, дала выпить что-то похожее на водку со свежим привкусом смородины. — И впрямь, что ли, начальник ты ему? — полюбопытствовала она. — Слушайте вы его, — пробормотал Виктор, — товарищи мы по работе. — Не местный, поди? Я их, местных-то, всех знаю, фамилия как? — Нет, не местный, — уже сквозь сон проговорил Виктор. — А фамилия — Голубь. — Ишь ты, — улыбнулась старуха, приняв стакан. Она укрыла Виктора одеялом, что-то приговаривая. — Что вы, бабушка? — Это я так. Ничего. Спи, голубь, спи. И он заснул...(Из доклада начальника управления внутренних дел на служебном совещании)
2
Сдача «единого» идет успешно! За последнюю семидневку собрано сельхозналога по Ачинскому уезду на 84 173 рубля (с начала кампании на 416 320 рублей)...(Из газеты «Красноярский рабочий» за 17 января 1925 года)
12 января возле поселка Березовка в лесу совершено разбойное нападение на почту, похищено 46 000 рублей, сопровождающие убиты...— Голубь! Голубь! Оглох, что ли? К Васильеву! Сейчас, сразу, он просил. Начальник Ачинского угрозыска Тимофей Голубь кивнул кричавшему и стал пробираться к выходу из зала. Съезд начальников милиции только что закончился, все, громко переговариваясь, поднимались с мест. Голубь добрался до подотдела за 15 минут и зашел в кабинет, где полгода назад его утвердили начальником угрозыска. Начальник подотдела Васильев, высокий, плотный мужчина лет сорока, в военной гимнастерке, перетянутой ремнем, пригласил его сесть. — Сводку читал? — Читал. Вы разбой имеете в виду? — Нет, — Васильев перегнулся и показал Голубю отчеркнутое красным карандашом место. — Читай. «Банда Брагина передислоцировалась из Балахтинской волости. По имеющимся сведениям, он направился в сторону Красноярска...» — Я сам эту сводку готовил, — проговорил Голубь. — Когда? — Неделю назад. — С тех пор что о Брагине слышно? Голубь пожал плечами: — Да, слава богу, тихо. Последний раз, когда он записки написал в Трясучую, Курбатово, Парново, ему мужики насобирали денег, не по тысяче рублей с деревни, конечно, но прилично, и он затих. — А ты где был? — Арсений Петрович, что я сделаю? У меня в городе работы не продохнуть. Грабежи замучили, вон, даже в «Красноярском рабочем» по нам проехались. Теперь какой-то взломщик объявился, квартир шесть уже полетело. А на вокзале не знаю, что со «скрипушниками» делать: чистят пассажиров. В Балахте Подопригора есть, вот пусть и пасет Брагина. — Ох и дипломат ты, Тимофей, прямо Чичерин. Подопригора меньше твоего работает. Кстати, в Балахту его вместо Жернявского кто рекомендовал, не ты ли? — Ничего себе рекомендовал, — буркнул Голубь. — Форменный грабеж был... теперь я без стола приводов. Сидит там у меня плашкет — ни два, ни полтора. А у Сашка все горело, даром что молодой. Ну, чем я виноват, что какая-то ворона в Балахте поставила начмилем белого офицера? — Но-но, полегче насчет ворон, — посоветовал ему Васильев. — А коль уж Подопригора твой бывший подчиненный да еще и корешок закадычный, так и держи с ним связь. А то вы Брагина, как худую курицу, гоняете: один шуганет со своего огорода и сидит довольный, пока второй за ним бегает. — Да неправда... — Молчи уж! Ты, к примеру, знаешь связи Брагина по Ачинску? — Что ему в Ачинске делать? — изумился Голубь. — Он же из Парново, вся родня там. — Для чего же он тогда к Красноярску подался? Ачинск-то ближе, милиция послабже, грабь — не хочу. — Не знаю. — Плохо, — Васильев пристукнул ладонью. — Езжай к себе, вызывай Подопригору, что хотите делайте, но по Брагину должна быть ясная картина. Отработайте причастность его к Березовке! Голубь поерзал: — Вряд ли это он. Мелковат для такого дела. Кооперацию или мужика грабануть, девку испортить — это Брагин. А такие деньги... У него ума не хватит. — Это не ответ, — нахмурился Васильев. — Нужны факты. У нас все банды отрабатываются по этому разбою. Понял? Все подними, что можно. Каждого человека проверь. Из Сибкрая звонили. Косиор! Дело у него на заметке. Деньги-то знаешь какие? Продналоговские деньги. Кстати, везла их почта в Ачинск, к вам. Чуешь? — Ясно, — вздохнул Голубь. Он поднялся, невысокий, сухощавый, погладил мягкие черные усики и вдруг улыбнулся. — Ты чего? — удивился Васильев. — Так. Везучий я на пендели. Яркина задержали — красноярский. Скобцева — тоже ваш. А все наша уголовка «плохо работает». — За Скобцева спасибо. Яркина вместе задерживали. Так что не плачься. Парень ты хороший, но за работу спрошу. Иди. Васильев посмотрел ему вслед и тоже улыбнулся: он вспомнил кличку Голубя среди блатных — Хакасенок. Голубь редко повышал голос, никогда не грозил, не пугал. Но воры знали: если Хакасенок вцепится, срок обеспечен. И они боялись этого невысокого худенького парнишку с монгольским разрезом глаз и мягкими черными усиками. В Ачинске Голубь первым делом вызвал Подопригору из Балахты. Тот приехал на вторые сутки. Они долго обсуждали задание Васильева. Подопригора крякал, возмущенно хлопал себя по колену, кричал, что «той проклятый бандюга» надоел ему «гирше смерти», что он, Подопригора, только им и занимается день и ночь. Однако на вопрос, можно ли установить его базу, ответил кратко: — Неможно. — Так, — Голубь внимательно посмотрел на Балахтинского начмиля. — Тогда скажи мне, Саша, куда ушла банда? Не в Красноярск? — Бис его знает, — почесал бровь Подопригора. — Бачили Брагина недели три тому в Парново. Заходил к сродному брату. Шуму не было. Самогону попил и уехал. При коне был, и еще двое конных на краю села ждали его. — А с местным кулачьем связи есть у него? — Нет, — покачал головой начмиль. — Я сам об этом думал. У нас там два заводилы: Кутергин и Мячиков. Главное, он их раньше хорошо знал. А вот не встречается. — Слушай, а почему нельзя его базу найти? — Так я же толкую: это такой бандюга ушлый. Первое дело: ни с кем, кроме родни, не якшается. Куда награбленное девает, — неизвестно: мануфактура, кони — ничего этого у нас не появляется. Имею думку, что где-то у него умный человек есть. Почему так говорю? Он кооперативные лавки берет только с товаром, пустые не трогает. Так что это — два. — А три? — Три? — Подопригора крепко потер шею. — Был у меня пасечник один. Через него я знал кое-что о движении банды. Так Брагин, подлюка, его белым днем убил. Пасечник за каким-то делом в сельсовет шел. Откуда ни возьмись — конный чешет. Поравнялся с ним, выстрелил — и дальше. Даже не оглянулся. Полагаю, сам Брагин это был. Он такие фокусы любит. И стреляет, как артист, с любой руки. — Жалуешься? — Не жалуюсь. А только люди видят, что Брагин — сила. И боятся той силы, чуешь? А я один на всю волость с двумя милиционерами. Только и чести, что начмиль. Вошел Коновалов, начальник секретной части. — Тимофей Демьянович, шибко занят? — Что случилось? — Шпилькин в Ачинске. — Что? — Голубь привстал. — Где? Задержали? — Упаси бог. Проводили до дома. Я человека там оставил. Стрелкова. Подопригора поднялся: — Ну, я пойду. Вам тут теперь без меня забот будет, Парикмахер зря не приедет. — Куда пошел! — рассердился Голубь. — А ну, садись! Что с Брагиным делать будешь? Или опять за тебя от Васильева получать по ушам? Подопригора покачал головой: — Ох же, ты язва, Тима, ох и язва! Скажи тебе, что я собираюсь делать — ты же потом печенку проешь. Есть у меня думка, если поможешь. — Чем? — Людьми. Человека мне надо надежного. — Не темни. — У Брагина сестра живет в Балахте. Молодая девка. Самогонщица — спасу нет. Так я что думаю: с твоими людьми я организую обыск, изымаю всю музыку, и мы с треском и шумом везем ее к вам, в Ачинск. Что тут будет — неважно, может, штрафом отделается. Ты главное — время потяни. Если Брагин узнает, что она задержана и отправлена в Ачинск, он либо сам приедет, либо человека пришлет. А я, конечно, все там на ноги поставлю. Ты жди. Если тебе передадут привет от Бондаря, значит, гонец от меня. Ну, кого даешь? — Жукова. — Жила ты, — вздохнул Подопригора, — хоть Стрелкова еще дай. — Перебьешься. Ступай. Подопригора пожал ему руку, подмигнул Коновалову и вышел. Начальник секретной части посмотрел ему вслед: — Из Сашки начмиль, как из меня шпагоглотатель. — Почему? — поинтересовался Голубь. — Виду нет, — туманно пояснил Коновалов. — Зато у тебя видок, — неприязненно проговорил Голубь. — Вчера опять у Черемухи на «малине» был? — Был, — спокойно ответил Коновалов. — Вчера я у нее был, сегодня она у меня сидит. Душевно беседуем. — Для этого дела работники у тебя есть, — сухо промолвил Голубь. — Жукова ты Подопригоре отдал, — невозмутимо парировал Коновалов, — вместо убитого Неверковича какого-то гимназиста взял, у остальных по пять темнух каждый день... — Хватит. Чтобы я тебя больше ни на одной «малине» не видел. Нечего с блатными в демократию играть. Тоже мне, явление Христа народу. Смотреть тошно было. — Так ты тоже там был? — удивился Коновалов. — Меня никто не видел. Давай, что по Шпилькину. Шпилькин, в прошлом действительно парикмахер, был известен среди воров, как «пасер», «барыга», «темщик» — скупщик и сбытчик краденого. В период колчаковщины он был приговорен к расстрелу за фальшивомонетничество и этот факт своей биографии всегда патетически и многословно излагал при очередном задержании. Уже после изгнания Колчака он проходил по делам фальшивомонетчика Браницкого и бандита Китаева, приговоренных к расстрелу. Сам Шпилькин тогда отделался сущими пустяками. И вот он появился в Ачинске. Зачем? — Хорошо, — Голубь вздохнул. — Готовь депешу в подотдел. Может, у них что есть по Парикмахеру. А пока — водить его, куда бы ни пошел. Упаси бог, если заметит. В коридоре послышался шум, в дверь ввалился Стрелков. Тяжело дыша, проговорил: — Тимофей Демьянович, здравствуйте. Я Шпилькина привез. Голубь некоторое время непонимающе смотрел на него: — Ты с ума сошел? — Так если он на поезд садился! — отчаянно крикнул Стрелков. — Я что должен был делать? — Где он? — В камере. Сейчас его обыскали и в саквояже деньги нашли. Три тысячи без мелочи. Когда Коновалов с работниками вернулся с обыска квартиры, где останавливался Парикмахер, было уже поздно. Выслушав Коновалова, Голубь велел привести Шпилькина. Парикмахер сидел на стуле согнувшись и обхватив руками голову, мерно покачивался. — Михаил Аронович, — Голубь закрыл саквояж, который он рассматривал, и убрал его со стола, — откуда у вас эти деньги? Вы слышите меня? Шпилькин перестал качаться и устало опустил руки. На вид ему было лет пятьдесят. Длинный красный нос его блестел, глаза смотрели печально. Он прерывисто вздохнул и грустно проговорил: — Откуда у вора могут быть деньги, гражданин Голубь? Вы такой умный на вид молодой человек, а спрашиваете такие глупости. Конечно же, украл. Голубь подперся кулаком. В Красноярске им читали тактику допросов по материалам уголовных дел Шпилькина. — Зачем же вы украли их? Шпилькин высморкался и, аккуратно свернув и спрятав платок, так же грустно объяснил: — Я начал воровать, гражданин Голубь, когда ваши мама и папа еще не знали, что из вас получится — мальчик или девочка. Я воровал при Николае Втором, при Керенском, при Колчаке. Почему я должен делать исключение для вас? Кстати, если вы меня так хорошо знаете, что называете по имени-отчеству, вам должно быть известно, что при Колчаке я был приговорен к расстрелу... — Я знаю, Михаил Аронович, — перебил его Голубь, — я спрашиваю не об этом. Я говорю: зачем вы украли именно эти деньги? — А в чем дело? — удивился Парикмахер. — Почему их нельзя украсть? Чем они лучше других? — Эти деньги были собраны в счет единого продовольственного налога. — Ца-ца-ца! — старик протестующе поднял руки. — Только ради бога не берите меня на пушку, гражданин Голубь. Налоги-облоги... Я обыкновенный вор. А вы мне, старому человеку, шьете какую-то политику? Не делайте мне больно за вашу проницательность, гражданин Голубь, честное благородное слово. — Ну, хорошо. Расскажите, где вы украли эту сумку. — Пожалуйста, — с готовностью согласился Парикмахер. — Все очень просто, как в арифметике Пупкина с картинками. На станции Зеледеево стал сходить какой-то «пиджак». Он слез с двумя чемоданами, а этот саквояж остался в тамбуре. Пока он вошкался с чемоданами, я взял саквояж и захлопнул дверь. Тут дали свисток, и я помахал «пиджаку» рукой. — А свидетели?.. — Не было, — кивнул Шпилькин. — Ловко! — А вы как думали, гражданин начальник, — покачал головой Шпилькин, — что я вам поколюсь, как сопливый фраер? Я все сказал. Хотите — проверяйте, хотите — верьте на слово. В последнем случае можете делать с деньгами, что угодно. Вы думаете, если Шпилькин еврей, так он будет плакать за этими бумажками? Ради бога, за свою жизнь... — Михаил Аронович, а почему дочь хозяйки дома, где вы остановились, называет вас отцом? Парикмахер не изменился в лице. Он смотрел мимо Голубя на стену, и только рука на колене у него мелко-мелко затряслась. Голубь поднялся: — Уже поздно. Завтра увидимся. Подумайте пока. — А вы злой человек, гражданин Голубь, — прошептал Шпилькин. — Вы хотите, чтобы я до утра мучился? Голубь сухо ответил: — Те, кого вы убили в Березовке, тоже имели детей... — Я пасер, а не мокрушник, — глядя перед собой, криво усмехнулся Шпилькин. — Учите блатную музыку. Впрочем, делайте вашу работу. — Он привстал и, подойдя к Голубю, сказал: — Каждый должен делать свою работу. Этот порядок не нами установлен. Но если бы вы знали, молодой человек, как бы я хотел жить здесь с Лией и работать портным! И, может, даже вы ходили бы ко мне в гости. Мы бы пили с вами самогон и играли в карты. А Лийка бы делала вид, что вы ей — пустое место. Сколько вам лет? — Двадцать один... — растерялся Голубь. — Вот видите? Только никогда я не буду портным, а вы женихом моей дочери. Да, я плохой человек, безнадежно плохой. Меня не перевоспитаешь, гражданин Голубь, меня можно только уничтожить. Но неужели вы думаете, что через 20-30 лет в мире не будет плохих людей? Извините меня, вы голодранец, гражданин начальник. Вы не видели денег достоинством больше червонца. Вы презираете деньги, еще не научившись ценить то, что они дают. — Шпилькин понизил голос до шепота. — Вы подозреваете меня в убийстве. А сами повесили эту дуру в кобуре для форсу? И никогда не убивали из нее живых людей? Я же помню вас в ЧОНе, гражданин Голубь. Вы меня не помните, так как были увлечены облавой, а я помню. Откуда мне тогда было знать, что сегодня вы так дешево купите меня? Почему никто не сказал мне тогда об этом? Господи, ведь я же просто убил бы вас! — он опустил голову и, покорно заложив руки за спину, вышел в коридор.(Из оперативной сводки по Сибкраю за 1925 год)
* * *
Голубь вернулся в кабинет и увидел Коновалова. Тот ждал его. Тимофей сел на подоконник, стал смотреть в черное оконное стекло, в котором отражалось пламя горящей керосиновой лампы. — Сорвалось? Голубь кивнул. — Кстати, — Коновалов покрутил головой, — дом этот на двух хозяев. Во второй половине бабочка живет, Серова. Оказывается, любовница Жернявского. Ну, того, бывшего начмиля, помнишь? Голубь посмотрел на него. — Нет, нет, — успокоил Коновалов. — Он тут ни при чем. Эта хозяйка, родственница Шпилькина, что его дочку воспитывает, никаких контактов с ней не поддерживает. На дух ее не переносит. Та ей платит тем же. — Красивая? — поинтересовался Голубь. — Что? — Коновалов сплюнул. — Если на карточку снять да корове показать, та месяц к сену не подойдет. Правда, в теле — что есть, то есть. Голубь опять уставился в окно. — А девчонка ничего не знает об отце, — меланхолично продолжал Коновалов, — так что с этой стороны тоже не подобраться. В квартире чисто... — Деньги у Парикмахера с налета в Березовке, — упрямо сказал Голубь. — Это самый крупный налет за последнее время. — Что делать будем? — Отправим в Красноярск. Пусть проверяют. Завтра подробно допросим и отправим.* * *
— Пусть проверяют. Парикмахер не расколется. Жаль денег, что у него взяли. Ну, ничего, я сидеть под лавкой не буду. Не для того в такую даль тащились. — Вы пьяны, Василий Захарович, и не в состоянии трезво оценить положение. Взгляните на календарь: на дворе двадцать пятый год. Миндальничать с вами, как с Соловьевым, не будут. Если вам до сих пор удавалось безнаказанно трясти кооперативные лавки, это совсем не значит, что ваша шалость в Березовке прошла незамеченной. Просто уголовный розыск, видимо, не допускает мысли, что вы с вашими копеечными запросами вдруг в состоянии совершить такой налет, причем вдали от своих баз. И я вас просто умоляю: успокойтесь, посидите тихо месяц. Этот разговор происходил примерно через неделю после задержания Шпилькина, в старом деревянном домике, на краю Красноярска. Беседовали двое. Один, молодой, развалился на лавке у стены. Лицо его было красным, обветренным. Он говорил лениво, рассматривая перстень на мизинце, иногда поправлял им щегольские черные усики. Это был Брагин. Его собеседник, высокий худощавый мужчина лет сорока, сидел напротив него на стуле. Звали его Роман Григорьевич Жернявский. По мере того как Жернявский говорил, Брагин все чаще касался своих усов перстнем, усмехаясь при этом. Но усмешка была злой: Брагин чувствовал издевку в участливом голосе собеседника. Наконец, не выдержал. — Ты со мной так не говори, — продолжая напряженно усмехаться, проговорил он и вдруг выкрикнул: — Ты что, начальник надо мной? Я скажу тебе, кто ты. Давно хотел сказать. Наводчик! И свое место должен... Тот двинул его кулаком в лицо, не вставая со стула, Брагин ударился головой о стену и тут же получил второй удар — в живот. Жернявский, не спеша, поднялся и, подождав, когда Брагин разогнется, снова ударил. Бандит рухнул на пол. Жернявский обошел его, примерился, несколько раз пнул. Потом сел, опершись руками о колени. Наконец, Брагин, постанывая, поднялся на четвереньки. Жернявский вздохнул: — Да... Я еще в Ачинске заметил за вами это желание выяснить отношения. Повода не было поговорить. Вы, Василий Захарович, обуяны гордыней. А между тем без меня вы — ноль. Когда я по недоразумению попал в начмили, вы только начинали шарить в крестьянских телегах и бабьих юбках. Двадцать раз я мог сдать вас большевикам или застрелить, по своему выбору. Когда меня вычистили из начмилей и я занялся бухгалтерией, вы получали от меня точные сведения о том, когда, куда и какой будет завезен товар. Я ни разу не ошибся. Комиссионные я брал самые скромные. Наконец, кто сообщил вам о собранном продналоге? Кто вам выправил документы на Лабзева, чтобы вы со своею любовью к копеечным эффектам не засыпались здесь в первый же день? Кто посоветовал обратиться к Парикмахеру, чтобы обменять облигации? Вы ведь даже не знаете, что государство разрешает крестьянам уплачивать налог облигациями, пуская их затем снова в оборот. Вы и понятия не имеете о том, что этой простой операцией большевики, с одной стороны, стабилизировали конъюнктуру внутреннего рынка, избавив крестьян от необходимости продавать продукты по сниженным ценам для уплаты налога, а с другой — вернули в обращение огромные средства, которые крестьяне всё для того же продналога раньше копили по кубышкам. Для вас это темный лес. Только благодаря мне у вас не было никаких хлопот с облигациями, если не считать последнего случая, когда Шпилькин засыпался с партией вырученных денег. Брагин, кривясь, потрогал разбитое лицо. — Теперь вы хотите наследить, как наследили во время налета, взяв, вопреки моим возражениям, этих местных лопуховв налет да еще прихватив пулемет Шоша? Вы можете на меня обижаться — дело ваше, но, ей-богу, бил я вас ради вашей же пользы... — Ничего, — прошептал Брагин, — я сквитаюсь... — Василий Захарович, видимо, вам голова недорога. В таком случае или я ухожу, или перестаньте размазывать сопли и отвечайте по существу. — Не пугай, — угрюмо проворчал Брагин. Он, кряхтя, поднялся, проковылял к умывальнику и обмыл лицо. Оглядел себя, стряхнул пыль с брюк. — Где ты так драться выучился? — Ну вот, — улыбнулся Жернявский, — нормальный человеческий вопрос. Но, по-моему, сейчас важнее решить другое: что вам нужно сделать? Брагин присел за стол, налил самогонки и выпил. — Ну, и что нужно сделать? — спросил он, морщась и осторожно прикасаясь рукавом к разбитой губе. — У вас задержана сестра в Ачинске? — Подопригора, подлюка, работает. Убью, гада... — Да. Мой преемник горячо взялся за дело. Но это хитрость, достойная азиатов. За самогоноварение ей вряд ли грозит что-либо, сейчас это делают все. Видимо, они вас потеряли и рассчитывают, что, узнав об аресте сестры, вы подадите весточку о себе. — Подам, я им подам... — Подадите, но не так, как вам хочется. Это пока, повторяю, отменяется. — Говори ладом, черт тебя сунул мне! — Вы отправите в Ачинск человека, — заметив недоумение, Жернявский улыбнулся, — да-да. К Голубю. Он хочет знать, где вы? Он узнает это из первых рук.3
Голубь шагал по старым, поросшим кое-где травой бревнышкам лежневки. Он поглядывал на веселую от утреннего солнца, влажную после ночного дождя траву и чувствовал, как понемногу исчезает тупая усталость от бессонной ночи. Запахи нагретой солнцем смородины, хвои, травы кружили голову. Сзади, за верхушками деревьев, блеснула река. Реук, шедший впереди, сошел с лежневки и, стоя по колено в траве, обирал смородину. Голубь присоединился к нему. Красные кисло-сладкие ягоды приятно освежали. Голубь бросил в рот полную горсть и аж передернулся: — Ух, хорошо! Реук подмигнул: — А я что говорю? Приедешь в свой закопченный Красноярск — ты что, кабинет мой будешь вспоминать, розыскное дело? Нет, брат, ты эту лежневку вспомнишь. Путешествие на катере, горлодер бабкин... — А кто она такая? — Так, вроде родственницы мне. — Да, воспоминаний будет хоть отбавляй. Особенно, если Сысоева не разыщем. Только воспоминаниями и придется утешаться. Реук, выбирая на ладони ягоды, философски заметил: — Я все-таки так думаю, Виктор Георгиевич, что торжество истины во многом зависит от того, кто ее защищает. Вот говорят, что теоретически любое преступление можно раскрыть. Но как — вопрос. Один засучит рукава и начнет все крушить. Может, он добудет истину, может, нет, но дров точно наломает. Другой тут тронет, там покопает, здесь качнет... — Не боишься, что прокиснет твоя истина, пока ты подкопы делаешь? — А ты не злись. Я ведь не маленький, понимаю. Ты за эту неделю должен что-то сделать. А что? Конечно, переговорить со всеми. Мнения о людях составить, верно? Но взгляни на это с другой стороны. Прошел год, человека нет, вдруг приезжают из края и снова всех опрашивают. А может, среди них тот, кто знает, где Сысоев? Может, ему неохота вспоминать, где он? — Для этого ты меня и увез? — усмехнулся Голубь. — Не только для этого. Ты вот давеча сказал, я картину кручу, полгода розыском не занимаюсь. Но у меня ведь действительно неоткуда больше взять информации. А этот парень, что сейчас в партии, — единственный, с кем я не работал. Скажет он то же, что другие — и все? — Ну и дальше? — Очень осторожным сейчас нужно быть, Виктор. Не на сроки ориентироваться. Он сейчас что угодно сказать может. А нам нужно, чтобы он сказал правду. — Понял я тебя. Не бойся, — Виктор покачал головой. — И все-таки зря ты всю эту конспирацию разводил. Сидеть нам тут неделю, не меньше. С парнем этим ты бы и без меня поговорил, а я бы тем временем по поселку помотался, хоть на Лидку посмотрел. Что-то больно интересная баба с твоих слов вырисовывается... — А ты ее видел. — Когда? — Сегодня утром. Помнишь, мы к пристани подходили? Она на «Прогрессе» как раз отчаливала. — Чего ж не сказал? Теперь вспомнил. Куда ты убежал тогда? — Звонить. Ты не волнуйся, за Лидкой присмотрят. Будет ли толк, не знаю, но присмотрят... Ну, вот и пришли. Ого! Встречают, как положено. И завскладом тут. Обрати внимание. Самый влиятельный человек. Он недавно чешские палатки получил. Оранжевого цвета и, представь: в тайге сумерки, солнце садится, а в палатку зайдешь — читать можно. Так его сейчас все директора совхозов обхаживают. Как Шехерезаду. «Шехерезада» имела обличье пятидесятилетнего тощего старика. На лице выражение нахальства непостижимым образом сочеталось с подобострастием, только глубоко посаженные обезьяньи глаза внимательно и грустно смотрели. — Да что же это, товарищ Реук! — высоким фальцетом закричал завскладом, подбегая и тряся руку инспектору. — Это сумасшедший дом какой-то, — продолжал он, пожимая руку Виктору. — Калифатиди! — Что? — не понял Виктор. — Я Калифатиди. Непонятно? Фамилия моя такая. — А-а, — Виктор сообразил, что ему предлагают представиться. — Голубь. Калифатиди поднял брови. Реук вмешался: — Он действительно Голубь. Это мой приятель. Калифатиди предупредительно замотал головой: — Понятно. Очень понятно. Голубь, приятель — и больше ничего. Так вот я говорю, что если вы приехали отдохнуть, товарищ Реук, то у вас ничего не выйдет. Я-то думал, что нет ящика, двух, а тут... — Спокойно! — Реук поднял ладонь. — Пойдем тихо и мирно. По дороге все расскажете. Дело было действительно серьезным. Калифатиди, сообщив о краже двух ящиков тушенки, закрыл склад и стал ждать милицию. — Но вчера вечером, товарищ Реук, приехали люди из шестой партии и пристали с ножом к горлу. Я понимаю, что до вас ничего нельзя трогать, но надо же входить в положение. Это вам не ложки-матрешки. Это базовый склад, людей надо кормить. Я подумал: для шестой партии у меня отложены ящики, ничего не будет плохого, если я отпущу им, тем более, это совсем в другом углу. Мы все это оформим актом. Господи, лучше бы они не приезжали! — Не хватило ящиков с тушенкой? — Ха! Если бы не хватило! Там вместо тушенки был зеленый горошек. Наклейку сняли и решили, что Калифатиди можно провести. У меня ноги подкосились, когда я увидел ящики с этой липовой тушенкой. — Замки, окна? — Все цело, как у невесты перед брачной ночью! Я боюсь заходить в склад. У меня такое чувство, что мы сейчас придем и найдем одни стены. Лежневка кончилась. Они прошли по доскам через маленькую речушку. Улучив минуту, Реук шепнул Голубю: — Парень, который нам нужен, — Товарков Сергей. Кличка — Капитан. Курит трубку. Борода у него приметная — рыжая, типа шкиперской. — Понял, — кивнул Голубь. Недалеко от склада он немного отстал от них. Когда Реук с Калифатиди и понятыми зашли в склад, Голубь присел на чурбачок. Возле двери стояло человек семь рабочих. Товаркова среди них не было. Склад представлял из себя рубленую избу, поставленную на столбы. Снизу стены избы обшиты досками, но кое-где зияли дыры. Чердачная дверь на крыше не имела замка, лестница была тут же. Если пол не капитальный, можно проникнуть снизу, если потолок не засыпан — сверху. «Вот тебе и невеста», — усмехнулся Голубь, вспомнив сравнение темпераментного завскладом. Метрах в двадцати от склада стояла большая палатка, видимо, общежитие рабочих. Голубь знал эти палатки — в армии сам жил в таких: пол дощатый, стены — тоже, по периметру присыпаны землей. Под полом должно быть пустое пространство. Если попробовать взглянуть... Когда Реук с завскладом, закончив осмотр, появились в палатке, они увидели там необычную картину: пол в углу был разобран, Голубь сидел на табуретке и внимательно одну за другой рассматривал банки с тушенкой, которые ему подавал кто-то снизу. На кровати недалеко от него сидели двое понятых. — О! — обрадовался Голубь при виде Реука. — У меня дактопленка кончилась и не на чем писать протокол. Помогай! Вечером они сидели у завскладом. Пошарив под кроватью, Калифатиди вытащил бутылку коньяка и торжественно поставил ее на стол. — За что будем пить? — осведомился Реук. — За мастерство! — с пафосом произнес завскладом. — Вы мастер, товарищ Голубь! — и повернулся к Реуку: — Вы тоже. Реук поклонился ему. — Николай Егорович, — спросил Голубь, возвращая бутылку Калифатиди, — зачем похитителям нужно так много тушенки? Завскладом недоуменно повертел бутылку в руках: — А почему вы спрашиваете у меня? Ну — на Туркане продать местным жителям... обменять на водку... Такие случаи были в партии. Но какое это имеет значение? Вы же напали на след? — Продавать жителям тушенку рискованно, да и смысл какой? Деньги? Скоро конец сезона. Заработки здесь — дай бог нам с вами. А водку можно достать только в магазине. Там что, нет тушенки? — Откуда? — Калифатиди безнадежно махнул рукой. — У них же другое снабжение. Они получают тушенку только к зиме. — Значит — продавец? — Голубь взглянул на Реука. — Что продавец? — недоумевая, спросил завскладом. — Имейте в виду, я ничего не утверждаю. Я ее абсолютно не знаю. — А Капитана вы знаете? — полюбопытствовал Реук. — Капитана? А при чем здесь Капитан? Знаю. Он работал раньше в совхозе. — Ну, и какое у вас мнение о нем? Калифатиди пожал плечами: — Никакого. Нормальный человек. Судим, правда, был. Ну, по чистой совести, на меня ваш парень из бэхээс тоже косится, так что я к судимости отношусь философски. Не судите — да не судимы будете. Что еще о Капитане? Попивает... Так опять... относительно. Вспомнил! Приятели они были с этим... Да вот пропал в прошлом году. Сысоев! Говорят, его убили. — Кто вам сказал? — удивился Реук. — Разве я помню? О! Капитан же и говорил! — Прямо так и сказал? — прищурился Голубь. Калифатиди вытащил платок и вытер взмокший лоб. — Вы так спрашиваете... мне даже не по себе. Мы ведь говорили о тушенке. Господи, может, я спутал? Это же каждый может сказать. Год, как о человеке ни слуху ни духу. Не в институт же он поступил! — Ну, а все-таки, — Голубь тронул старика за рукав. — Вспомните, Николай Егорович, где, когда, а главное, в каких выражениях говорил Капитан о том, что Сысоева убили? — Да, да... я понимаю. Сейчас... Так... Он к нам пришел где-то в июне. Примерно через неделю я съездил в райцентр, мы получали для базы кое-что из спецодежды. Ага... Это было после обеда. Мы поели в столовой, а когда вышли, он сказал, что буфетчица похожа на сытую мышь. Я еще, помню, удивился: буфетчица такая милая девушка. И внешне все при ней, как говорится. И я пошутил, сказал, что наверно он был плохой кошкой, раз так зол на нее. Он мне не ответил, а я продолжал дразнить его и сказал, что покажу, как надо обращаться с женщинами. Предложил пари, что познакомлюсь с ней и через неделю приглашу на квартиру к себе. Я немного выпил, знаете, вспомнил молодость... А он усмехнулся и говорит: «Давай, давай. Старичок ты денежный, ей в самый раз. Только смотри, чтобы вскорости не переселиться на другую квартиру». А когда я спросил, какую квартиру он имеет в виду, Капитан ответил: «Ту, в которой сейчас Сысоев обретается». Вот такой был разговор. Калифатиди посмотрел на Реука и Голубя. — Но... я не придал этому значения. Я думал, он имеет в виду... Вы понимаете? И потом, все это говорилось таким тоном... несерьезным. Причем уже и до этого я слыхал, что Сысоева, наверное, убили... Но, ей-богу, не помню, от кого. Обычные досужие разговоры... Предположения. — Ладно! — Голубь встал. — Все это действительно разговоры. Главное — консервы нашлись. Николай Егорович, у вас кино сегодня есть? Мы, пожалуй, сходим. И, не слушая уговоров, они попрощались со стариком. На улице было темно и тихо. Голубь поразился тишине. Это не была тишина заснувшего города, со звонками трамваев, гудками электровозов на станции, гулом невидимых самолетов в ночном небе; или тишина райцентра с шумом редких машин, лаем собак и тихим говором в соседнем палисаднике. Нет, это была первозданная таежная тишина, и сонное бормотание речушки только оттеняло ее. — Ну, что же, — зябко поежился Реук, — надо брать Лидку в оборот. Что-то подозрительно кстати она тут очутилась утром. И Капитан на нее почему-то бочку катит... Хотя, с другой стороны, — пока все слишком случайно. — Как с Товарковым говорить будем? — Лучше тебе. Только прошу: не забудь моих скромных интересов. За тушенкой лазили не раз, да и столько горошку на подмену принести скрытно трудновато. Что-нибудь да знает... если сам не лазил. Имей в виду, проникли через пол. Ты здесь покури, я Капитана по-тихому сейчас вызову из кино. Виктор присел на камень и размял сигарету. Да, это не город и даже не райцентр. Все вызванные днем вели себя крайне связанно. Откровенных показаний практически не было. Понятно — все на виду. Да и сезонники. Бегуны на короткие дистанции. Добегут до финиша, рванут аккредитивы — и держи меня, кто покрепче. В темноте послышались шаги. Кто-то высокий и грузный подошел и остановился рядом. — Здравствуйте. Огонька нет? — Садись, Сергей. Голубь зажег спичку. Товарков осторожно взял ее и поднес к трубке. Огонь осветил спутанные рыжие волосы на лбу, крупный, чуть отвислый нос и впалые щеки, окаймленные шкиперской бородкой. Пустив струю едкого махорочного дыма, Товарков бросил спичку. — У меня к тебе разговор, — начал Голубь. — Если насчет вашего дела, то я вам не помощник, — спокойно ответил Товарков. — Нашего? — Ну да. Вы же из-за склада здесь? — А склад чей? Товарков тягостно вздохнул: — Гражданин начальник, Реук сказал, что у вас дело ко мне. Вы прямо к делу и переходите. А насчет того, что все наше, я еще в школе учил. — Неохота в свидетелях быть? — У меня другая специальность, — буркнул Товарков. — Ну, а доведись — тебя коснется беда какая? Близких твоих? — Сам разберусь, к вам не пойду. Да и близких нет. — Четкая программа. Удобная, надежная... — Да уж пока не подводила, — согласился Товарков. — Четкая программа, — повторил Голубь. — Только врешь ты, Капитан, что не подводила она тебя. Пользуюсь слухом — срок отбывал? За что посадили, если не секрет? — Сперва за решетку, — ухмыльнулся собеседник, — потом за колючую проволоку. А что? — Ничего. Парень ты с виду здоровый, крепкий. Видно, не из тех, кто в зоне ложки моет. А внутри гнилой. Товарков молчал. — Как? Не очень я резко? Можно дальше? — Терпимо, — отозвался Капитан, — валяйте дальше. Правда, чудно, как это вы за пять минут знакомства меня и в фас, и в профиль изобразили. Но все равно интересно. — Ты вот не хочешь со складом связываться. Может, ты и прав. Мы уедем, а ты потом с этими парнями кашу есть будешь. Понятно. Да и не такая это беда. Найдем мы все консервы. И вообще-то я принцип твой хоть и не разделяю, но в этом случае понять могу. Однако объясни мне, куда, в какое место ты свой принцип засунул, когда твоего приятеля замочили? Ты же ни к нам не пошел, ни сам разбираться не стал. Товарков посопел трубкой. — А кто вам сказал, что Сысоева убили? — Не виляй, Капитан! Ты же сам не веришь, что Сысоев жив. Не так? — Кому моя вера нужна? — проворчал Товарков. — Еще раз говорю — не виляй! Ладно, первую неделю ты сомневался, месяц... А потом что? Вы же приятели с Сысоевым были? Что молчишь? — Школу трактористов вместе заканчивали. — Почему же не пришел к нам, когда его искать стали? Ведь ты же его видел в последние дни? Разговаривал? — Почем я знал, что убили его? Может, и вправду с пьяных шаров куда заехал. А потом... После времени-то о чем говорить? Бабьи слухи повторять? — Калифатиди ты другое говорил. — Какому? A-а, насчет Лидки? Товарков выколотил трубку и снова набил ее табаком. — У меня, гражданин начальник, доказательств нет, что она это дело устроила. А были бы — ни одна милиция ее бы не нашла. — Почему ты ее так не любишь? — Тварь она. У любого человека, самого плохого, какие-то правила есть, принципы, как вы говорите. Это, я понимаю, от воспитания идет, от жизни. Какая ни на есть должна быть честность между людьми. Иначе все друг друга опасаться будут. У этой же ничего нет. Мне Пашка рассказывал. Не в тот день, когда я его в последний раз видел, а раньше. Когда у них все вкривь и вкось пошло и собрался он уезжать, Лидка давай его уговаривать, дескать, продай мне свою половину дома. Его они уже до этого поделили. Мол, деньги тебе будут нужны, а так эта половина ни мне, ни тебе пользы не принесет. Пашка согласился. Потом она давай просить, чтобы по частям отдать. Вообще-то у Пашки насчет денег строго, это я еще по совместным шабашкам знаю: закрывать наряды он умел. Ну, а тут он согласился. Я было удивился этому, но потом как-то зашел к нему утром, опохмелиться, что ли, не помню, а она в его кровати лежит! Это они уже врозь жили, у нее хахаль был. Я Пашку тогда еще спросил, не сходиться ли они собрались. Он, пьяный, хохочет, нет, говорит, это она мне проценты за рассрочку выплачивает. А Лидка хоть бы хны! Встала с кровати в одной рубашонке, трюхнулась ему на колени и водку по стаканам разлила. — Интересно, — протянул Голубь. — Ну, и дальше? — Дальше? Стала она ему деньги платить. Половину выплатила, а половину нет. Дом на нее оформлен, она его гонит, а денег не дает. Пашка и запил. Потом написал заявление в суд, чтобы ее попугать — в суд он и не собирался. Наконец, вытянул из нее вторую половину. Вот тогда и зашел ко мне. — Об отъезде разговор был? — Конечно. Он расчет получил, к сестре собирался, а оттуда на юг. Я ему еще посоветовал положить деньги на аккредитив. Он их так в пиджаке и таскал, боялся, что Лидка уведет. — Когда он собирался ехать? Товарков пожал плечами: — Вроде бы на следующий день. Мы тогда порядком нагрузились. Он плотницкий инструмент мне подарил, то есть обещал подарить. — Так и не подарил? — Нет, я его больше не видел. Дня через два зашел к Лидке спросить, где Пашка. Она меня матом через забор — и весь разговор. Понятное дело: она домовладелица, а мы с Пашкой бичи, рвань. Лет восемь назад, когда она на раздаче работала, ее за бутылку водки да за флакон духов можно было на речку сводить, а тут — переродился человек... — Про плотницкий инструмент ты ей не напомнил? — К чему? Пьяный разговор есть пьяный разговор. Я в таком виде что угодно пообещаю. Пили мы утром. Проспаться он до вечера вполне мог. А что уехал сразу — мало какой резон у человека. — Не пойму я тебя что-то, — задумчиво сказал Голубь. У него затекли ноги, и он встал. — Сысоева ты знаешь, по-моему, хорошо, но почему-то верить ему боишься. Не встретились перед его отъездом — ты говоришь: мало ли что ему взбрело в голову. Не отдал тебе обещанный инструмент — ты опять плечами пожимаешь: пьяный разговор. Он что? Болтун? Трепач? Товарков молчал. — Что ты молчишь, Сергей? — А что говорить? Что говорить-то? — Товарков выругался. — Пашка — надежный мужик. Но это не доказательство. Я же говорю: если бы они у меня были, я бы Лидку... — А почему Лидку, а не ее хахаля? Товарков поднял голову: — Начальник, если я не знаю человека, я о нем говорить не буду. Ты в зоне где был? В кабинете у опера? А я внутри был. Там у каждого, даже у самой затюканной шестерки, своя правда. Он уже и за приговор расписался, и срок ему идет, а правда все равно своя. У каждого, понял? Какое же у меня право человека судить, если я его не знаю? Этого даже прокурор не может, а ты с меня спрашиваешь. — Потому и спрашиваю, Капитан, что хоть и разные мы с тобой люди, а правда нас сейчас интересует одна: кто убил Сысоева? — Как дела, мужики? — послышался голос Реука. Голубь обернулся. Инспектор подошел и сунул ему что-то тяжелое, пахнущее овчиной. — Накинь тулуп, простудишься. Ну — кино! Между прочим, из нашей с тобой жизни. Я бы за такие желтые агитки срок давал. Скажи мне спасибо, — повернулся Реук к Товаркову, — что я тебя от этого ширпотреба избавил. — Так я пойду? — вопросительно проговорил Товарков. — Да. Спасибо за откровенный разговор. Не сердись, если что не так, — ответил Голубь. Они разошлись. — Эй! — окликнул Товарков негромко. — Реук! На минутку... Реук вернулся быстро. — Пошли спать, командир, все в порядке. — Что такое? Назвал воров? — Черт с ними, с ворами! Найдем. Он назвал оптового покупателя тушенки. Знаешь кто это? Лидка!4
Ачинским уголовным розыском задержан известный в преступном мире Патюков, он же Потоцкий, кличка «Король ночей»... Потоцкий судился в январе этого года в Ачинске за кражу со взломом и был осужден... По отбытии наказания Потоцкий совершил 8 краж со взломом в Ачинске, куда прибыл из Енисейска...— Товарищ Голубь! Тимофей обернулся. Возле чьего-то палисадника в темноте маячила фигура. Он подошел ближе, разглядел молодую женщину. — Мне с вами поговорить нужно. — Почему здесь, а не в милиции? — удивился Голубь. — Брагин велел только вам... с глазу на глаз. — Брагин? Начальнику Ачинского угрозыска стало не по себе. Засада? — Да здесь никого нет, я одна, — успокоила женщина, заметив его движение. — И все-таки, милая, пошли в милицию.(Из газеты «Красноярский рабочий» за 18 июля 1925 года)
Начальнику подотдела уголовного розыска Васильеву. В Ачинск прибыла Екатерина Масленникова, сожительница Брагина. Она сообщила, что Брагин выехал в Новониколаевск с несколькими членами банды, ее же отправил в Ачинск с поручением сообщить мне об этом, а также о том, чтобы уголовный розыск не преследовал его сестру, так как она никакого участия в его делах не принимала. В случае принятия его условий Брагин обещал, со слов Масленниковой, не появляться в Ачинском уезде. Участие Брагина в Березовском налете Масленникова не подтверждает. В настоящее время Масленникова трудоустроена на станции. Прошу проверить показания Масленниковой по Красноярску. Протокол допроса прилагаю. Начальник Ачинского угрозыска Голубь.Васильев приехал в Ачинск днем. — Как дела, Хакасенок? — улыбаясь, проговорил он, входя к Голубю в кабинет. Тот сидел на стуле и зашивал пиджак. — Воюем, — устало проговорил Тимофей, здороваясь с ним и снова берясь за шитье. — Ночью Потоцкого взяли с дружками и со всем барахлом. Пока возились, допрашивали, то-се, забыл себя в порядок привести. — Пиджачок-то, — поинтересовался Васильев, — он тебе подновил? «Король ночей»? — Да, — вздохнул Голубь, разглаживая законченный шов. — Мне пиджак порвал, а Коновалову такую блямбу поставил — на пол-лица. Смотреть страшно. — Зато пиджак, наверно, цел, — заметил Васильев. Он уселся, рассеянно перебирая бумаги на столе. — Арсений Петрович, — догадался Голубь, — вы из-за Масленниковой приехали? — И из-за нее тоже, — кивнул Васильев. — Кстати, что за бабочка? Голубь пожал плечами: — Ничего. Губа у Брагина не дура. Двадцать лет ей. Спокойная. Спрашивал, знала ли, чем Брагин занимался. — Ну? — Говорит, догадывалась. Сама новоселовская. Жила тут недалеко, под Ачинском, у родственников. — Ну? Голубь непонимающе посмотрел на него. — По разбою в Березовке ничего нового? — Ничего, я же писал в рапорте. Она указывает два красноярских адреса, но в Красноярске не была. Слышала их от Брагина как-то. — Худо. — А что, совсем темно? — спросил Голубь. — Да нет. Троих задержали. Спасибо тебе за Шпилькина. Кое-что из него все-таки вытянули. Он им менял облигации, в налете не участвовал. Но дальше темный лес. Все валят на какого-то Лабзева. А связь с ним поддерживал, якобы, четвертый. Его при задержании в перестрелке убили. Денег у них изъято тысяч восемь — и все. Словом, кого-то они отмазывают. Вот так. А как Масленникова сейчас? — Живет у дальней родственницы, одинокой старухи. Ни с кем не встречается. Проверяем ее связи, которые она называла. В Новоселово человек послан. — А как поживает Жернявский? — Начмиль бывший? Работает бухгалтером в кооперативе. А что? — С ней не встречается? — Нет! — уверенно произнес Голубь. — Я бы сразу знал. — Ты вот что, организуй-ка его сюда. Что-то я его физиономию позабыл.
* * *
— Здравствуйте! Сколько зим, сколько лет! — добродушно приветствовал Жернявский Васильева и Голубя. Сказано это было таким тоном, будто не его вызвали в милицию, а он, Жернявский, принимал у себя долгожданных гостей. — Давненько мы не виделись, Роман Григорьевич, — сказал Васильев, жестом приглашая его садиться. — Давненько. — Жернявский сел, аккуратно поддернув брюки. — С того самого времени, как меня вычистили из начмилей. — Все обиду таите? — Нет, не таю, Арсений Петрович, — весело ответил Жернявский. — Воспринимаю, как неизбежное. Новое вино не хранят в старых мехах. — Ну, вы далеко не старик. Сколько вам лет? — Сорок два. — Вот видите, — расцвет сил. — Расцвет, — согласился Жернявский. — Только почему-то он приходится на закат моей общественно-политической деятельности. — Ага, — усмехнулся Васильев, — все-таки таите зло на нас. — Боже избави! — махнул рукой Жернявский. — Я не девица. Понимаю: белый офицер — начальник рабоче-крестьянской милиции в волости — это же нонсенс! — При чем тут это, — пожал плечами Васильев. — Вы не единственный офицер, пересмотревший свое отношение к нам. Мы готовы к сотрудничеству даже с бывшими политическими противниками, если они осознали ложность своей позиции и готовы сотрудничать не за страх, а за совесть. — Например, Савинков, покончивший жизнь самоубийством, — подсказал Жернявский. — У него руки в крови, — нахмурился Васильев. — А Советская власть не всеядна. Или вы уподобляете себя Савинкову? — Ни в коем случае, — улыбнулся Жернявский. — Савинков понял свою никчемность и вашу силу, поэтому и выбросился из окна. А я, откровенно говоря, в происходящем ни черта не понимаю. У меня такое впечатление, что народ взбеленился. — Не прибедняйтесь, Роман Григорьевич, вы все отлично и правильно поняли. Народ веками, понимаете, веками жил в грязи и лжи. А сейчас он хочет истины, он ищет истину. И он найдет ее! — Каждый человек хочет не просто жить, а жить наилучшим образом. Это в природе человека. И это невозможно без ущемления чьих-то прав. — Вот мы и ущемили ваши права, — улыбнулся Васильев. — Прекрасно! А потом? — не сдавался Жернявский. — Как вы будете решать эту проблему потом, когда исчезнут ненавистные вашему сердцу классовые враги? Недовольные? — Вряд ли недовольные исчезнут, — почесал бровь Васильев. — Обыватель — категория внеклассовая. Во всяком случае, всегда найдутся умники, вроде вас, которые будут есть и пить в свое удовольствие, а в промежутках спрашивать: а что будет потом? Думаю, что с ними будет не меньше возни, чем с классовыми врагами. Впрочем, до этого еще далеко. Пока нас беспокоят не они, а... — Бывшие колчаковцы, — покачал лукаво головой Жернявский. — Бросьте вы, Роман Григорьевич, вериги-то на себя примерять. Не такой уж вы правоверный колчаковец, каким хотите себя изобразить. Если не ошибаюсь, вас в свое время чуть не расстреляли за помощь большевикам? — Ах, это... — Жернявский поморщился. — Помощь моя невелика. И если уж честно — меньше всего я руководствовался идейными соображениями. Товарищи подпольщики предложили мне хороший куш. А при неразберихе, царившей в те дни, да при моей должности помощника городского коменданта заготовить фиктивные требования на выдачу арестованных, а затем спрятать концы в воду было легче легкого. В молодости я был авантюристом. Единственно, чего я не учел, а точнее, не учли мои друзья-подпольщики, это то, что среди троих один оказался провокатором из контрразведки. Так что, как говорится: факир был пьян — фокус не удался. Вряд ли контрразведка оставила их живыми. Повезло мне одному, хотя вполне мог разделить их судьбу. — Представьте, с одним из ваших крестников я позавчера виделся. — Что вы говорите! — удивился Жернявский. — Только никакой он не большевик-подпольщик, а обыкновенный уголовник. — То есть как? — Запамятовали, Роман Григорьевич? Вы заготовили требования не на троих, как утверждаете, а на четверых. Трое политических и один уголовник. Шпилькин! — Шпилькин? — Жернявский нахмурился, припоминая. — Ах, да! Верно, верно. Фальшивомонетчик. Ну, что же, вы, слава богу, не из колчаковской контрразведки, и я теперь могу сознаться, он тоже предложил мне взятку. Кстати сказать, гораздо более крупную. Так, стало быть, он жив? Вот уж действительно дерьмо, простите, не тонет. — А вы разве с тех пор его не встречали? — невинно спросил Васильев. — Я? — Жернявский прищурился. — Арсений Петрович, я, кажется, начинаю догадываться. Мой бывший протеже где-то нашалил, и вы решили... Не ожидал. Если у Советской власти и были ко мне претензии, то скорее в части недостатка активности, чем в ее избытке. Впрочем, ваши орлы, — при этом он кивнул в сторону Голубя, внимательно следившего за разговором, — видимо, следили за мной и подтвердят, что я чист, как родниковая вода, если не считать кое-каких мелких грешков по женской части. — Ох, уж эти мне перезрелые холостяки, — усмехнулся Васильев. — Никто за вами не следит, резвитесь на здоровье, — он поднялся. — Ну, что же, Роман Григорьевич. Не буду задерживать. Думал, правда, что вы сможете прояснить нам что-либо в отношении Шпилькина, но раз не знаете... Нет, нет, — Васильев заметил протестующий жест Жернявского, — ради бога, никаких подозрений! Не знаете — и слава богу. Когда Жернявский, любезно раскланявшись, ушел, Голубь недоуменно взглянул на Васильева: — Почему вы дали ему уйти? Ведь это же враг, разве не видно? Ведь все, что он говорил... — А что он говорил? — внимательно глядя на него, спросил Васильев. — Как — что! — вспыхнул Голубь. — Ведь он... Я, может, чего-то не понимаю. Но он же смеется над нами. Надо всем, что мы делаем! — А что мы делаем? — Васильев по-прежнему внимательно глядел на него. — Мировую революцию! — запальчиво выкрикнул Голубь и, смутившись своей неожиданной горячности, уже спокойнее проговорил: — Вам-то неужели это надо объяснять? — Не надо. Сядь. Васильев достал папиросы. — Ты газеты читаешь? Знаешь, что в Польше творится? А сколько сот коммунистов казнено после взрыва Софийского собора? О майском процессе над румынскими коммунистами что-нибудь слышал? А постановление ЦК о дискуссии, навязанной Троцким, тебе ни о чем не говорит? Васильев зажал зубами папиросу, прикурил и продолжал, как диктант читал: — Мировая революция — не кинематограф: взял билеты и пошел смотреть фильм. Совершать ее, значит хорошо делать свое дело. Мы боремся с преступностью. Кстати, хреново боремся. Жернявский-то верно подметил: лозунги из нас так и лезут. А насчет того, что я отпустил его, так за что его задерживать? — Но ведь у него любовница живет в том доме, где Шпилькин останавливался! Серова! — Ну, спасибо тебе, — поклонился Васильев Голубю. — Вот обрадовал! Почему же, черт возьми, раньше-то молчал? — Мы отрабатывали ее. Никаких стоящих связей, сама — дура. Васильев посопел. — По-твоему, Жернявский — нестоящая связь? — Но я же только сегодня из вашего разговора узнал, что он знаком со Шпилькиным. — Основа сыскной работы — информация. Твоя роль в организации этой работы, между прочим, заключается еще и в том, чтобы отделять мух от котлет, — перспективную информацию от бесперспективной. Мои люди тоже не знали связей Шпилькина, они просто отрабатывали его. Я согласен с тем, что Жернявский — гусь. Но ты слышал, как он говорит? Весь на виду, а не ухватишь. Чем ты его расколешь? Ведь не за что уцепиться, фактов нет. А тут еще Масленникова твоя... Голубь недоуменно посмотрел на Васильева. Тот прошелся по кабинету. — Несколько дней назад при облаве задержали тифозного блатного. Случайно. Щипач. Пименов. Сидел у нас вместе с Парикмахером перед тем, как того перевели в тюрьму. Так вот, когда Пименов умер, при нем нашли записочку. Адресована в Красноярск, Сокольская площадь, дом два. — Васильев остановился перед Голубем и, выдержав паузу, произнес тихо: — Масленниковой. Голубь опустил голову. — В записочке, — продолжал Васильев, — Шпилькин пишет: «Передай своему: второй кусок цел, место знает Приказчик. Лию не трогайте». Понял? — Приказчик — Жернявский? — спросил Голубь. — А вот это я хотел у тебя узнать, — ядовито произнес Васильев. — Для этого предупреждал: отработай каждого! А что ты мне даешь? «Брагину в Ачинске делать нечего. Масленникова под Ачинском жила»? Ну? Сокольская площадь — это Ачинск? Голубь тихонько кашлянул. — Я думаю повторный обыск сделать. У дочки Парикмахера. — Где? Огород вскопаешь? Или крышу разберешь? А может, Жернявского попросишь помочь? Для пользы мировой революции? — Васильев поднялся, поправил ремень и подошел к нему. Неожиданно улыбнулся: — Думай, думай, голова, картуз куплю. Голубь нерешительно взглянул на него. — Арсений Петрович, а что, если записочке... ход дать? — Эк тебя дергает в разные стороны. Какой ход? — Шпилькин боится, что его заподозрят в присвоении второго «куска», поэтому честно уведомляет Брагина: я свое дело сделал. Дальше. Мы даем записке ход. Масленникова связывается с Жернявским. Так мы выходим на Брагина. — Неплохо, — одобрил Васильев. — Только не забудь вот что: нужно без шума переговорить с любовницей Жернявского. Если Серова действительно дура — еще и лучше: ничего не поймет. Цель: информация о связи Жернявского со Шпилькиным во время его приездов. Но, повторяю: без шума! — Сделаю, — кивнул Голубь. — Я это Коновалову поручу. Он на женщин убийственное впечатление производит. — Ну всё? — Васильев подумал и повторил: — Всё. Хочу надеяться, что клубок этот ты размотаешь. Работай осторожно, но быстро. И учти: человек предполагает, а бог располагает. Вы с Брагиным сейчас вслепую идете. Умей маневрировать, если столкнешься с неожиданностью. Я тебе мало чем помогу. И так работы — невпроворот. В Уяре начмиля Гигуля убили. У нас, в Красноярске, Пеляев с дружками братьев Яковлевых среди бела дня зарезал. А разбой в Березовке так и висит пока. Где остальные деньги, кто такой Лабзев, что собою представляет на самом деле Жернявский, какова роль Брагина — шибко я надеюсь, что ты кое-какие из этих вопросов должен прояснить. Ну, бывай. Обо всем сразу докладывай мне. Лично.* * *
Катерине страшно. С того самого дня, как в Красноярске на Сокольской площади тетка познакомила ее с Васькой, Василием Захаровичем. Коренастый, ловкий, он то забрасывал кольцами, отрезами, деньгами, то бил жестоко, молча, с усмешкой. За пустяк: за слово поперек, за молчание некстати, за отказ выпить. То исчезал на месяц-два. Ничего не объяснял. Так же, не объясняя, посадил на поезд, наказал, что говорить в уголовке, где жить... На робкое ее возражение забрал кофту в кулак, защипнув кожу на груди, и, напряженно улыбаясь (усы только ощетинились), тихо и отчетливо произнес: — Удавлю, сука! Ремней из спины нарежу и удавлю на этих ремнях. Поняла? Катерина сглотнула комок в горле и часто закивала головой. Ноги едва держали ее. Здесь, в Ачинске, вздохнула свободнее. В уголовке, вопреки предсказаниям Брагина, никто не грозил ей, не бил. Невысокий, нерусского вида парнишка, пощипывая мягкие темные усики, записал ее рассказ, потом куда-то звонил, просил устроить ее на работу... Катерина даже усмехнулась: надо же, такую фамилию иметь — Голубь. И потом с каждым днем все больше крепла мысль: пойти к нему, к Голубю этому, попросить, чтобы помог избавиться от Брагина. Она представляла, как он, теребя свои мальчишеские усики, слушает ее, потом звонит куда-то... Но когда однажды ночью за воротами послышалось тихое ржание лошади, а потом воровской стук в окно, опять знакомо и тягостно сдавило грудь страхом. Однако Брагин в этот раз не бил, не изгалялся. Спокойно и серьезно выслушал ее отчет о встрече с Голубем, задумался. Похлопал по плечу: молодец, Катерина! Объяснил, с кем и как в случае чего связаться, чтобы передать срочные вести. Оставил денег, и только на вырвавшийся несмелый отказ люто блеснули зубы под щетинкой усов. Обошлось. Утренними сумерками проводила его и долго сидела на лавке, растирая синяки на плечах и груди, тупо глядя перед собой, смаргивая слезы. Нет, никакой Голубь тут не поможет. Куда деваться? Куда спрятаться, чтобы не трястись неведомо отчего, не знать этого страха, любви этой сучьей, будь она... Задребезжало окно. Опять! Катерина набросила полушубок, вышла во двор. — Кто? — Открой, тетка, разговор есть.5
Начальнику подотдела угрозыска Васильеву. Во исполнение вашего указания было организовано вручение записки Масленниковой. Вручение прошло чисто, Масленникова ничего не заподозрила. Из дома вышла утром. На работе звонила по телефону, говорила не более минуты. Удалось установить — звонила на почту. Из отрабатывавшихся там лиц интерес представляет Казанкин, ранее проживавший в Парново, откуда родом Брагин. В ближайшее время туда будет направлен работник для детальной отработки Казанкина. Наблюдением за домом, где был задержан Шпилькин, ничего не установлено. Коновалов познакомился с Серовой. Результаты сообщу дополнительно. Жернявский выехал в Красноярск, выезд мотивированный: сверка отчетов. Голубь.— Здорово, падло! Не отрываясь от газеты, Жернявский вежливо наклонил голову. Он уже давно заметил пятерых человек. Правда, сперва около купе встали с равнодушно-напряженными лицами трое парней. Затем появился еще один, исчез и, наконец, вернулся с Брагиным. Все это время Жернявский делал вид, что читает газету, и его молчаливый кивок сейчас несколько сбил театральный эффект, которого ожидал Брагин. — Какие новости? — ровным голосом спросил Жернявский, складывая газету. — Сейчас узнаешь, — улыбнулся, блеснув зубами, Брагин. Он взглянул в сторону парней, те успокоительно кивнули. В купе зашел четвертый, тот, кто привел Брагина, и бесцеремонно сел рядом с Жернявским, прижав его к окну. Деловито вынул нож. — Где деньги? Где деньги, которые Парикмахер последний раз привез в Ачинск? — напряженно улыбаясь, спросил Брагин. Жернявский смотрел на него молча, покачиваясь в такт движению вагона. — Ну? — тихо проговорил Брагин. — Это надо спросить у Парикмахера, — спокойно ответил Жернявский и, покосившись на соседа, поправил газету на коленях. — Спрошено. Теперь с тебя спрос. На столик перед Жернявским легла записка. Он пробежал ее глазами и улыбнулся: — Василий Захарович, вы же знаете: у нас с Парикмахером была договоренность. А в тот раз, когда его взяли, он мне, видимо, не успел позвонить. Что же я, больной, что ли, лезть в тайник? А если дом под наблюдением? Ведь хозяйка знает, что я иногда ночевал у Серовой, неужели она утаит это от уголовки? Для нее мы с Парикмахером — чужие люди. Меня и так недавно вызывали к Голубю... — Где тайник? Жернявский снова покосился на соседа с ножом. Брагин показал тому глазами выйти. Роман Григорьевич проводил его глазами, на обороте записки нарисовал что-то карандашом и передвинул бумагу Брагину. — Вот, под второй ступенькой. С торца доска отодвигается... Только, Василий Захарович, не советую. — Почему? — Если уголовка знает про тайник — это ловушка, — объяснил Жернявский, — а если не знает, то деньги никто не тронет. — Кроме тебя. Жернявский улыбнулся: опасность миновала, теперь можно и расквитаться. — Правильно утверждает современная педагогика, что битье — не метод воспитания. Вот вложил я вам тогда в Красноярске, а что толку? — Т-ты... — Брагин оглянулся на дверь, побагровел, привстал. — Сядьте! — резко приказал Жернявский. — Сядьте и слушайте... атаман Чуркин. Если там сейчас нет денег, вы, конечно, скажете, что я их взял. А то, что их может взять уголовный розыск, вам не приходит в голову? Когда вы перестанете, как щенок, кидаться за первой же костью? Еще раз говорю: не лезьте туда, где только что спалился человек. Будет время — достанем. — Жернявский помолчал и уже спокойно, деловым тоном продолжал: — В конце июля опять ожидается почта с продналогом. Подробности сообщу, как только узнаю. Налет целесообразно устроить при подъезде почты к Ачинску, на окраине. Думаю, что для Голубя это будет тяжелое испытание. Пока он будет искать вас, я попробую сходить в тайник. Только до той поры — умрите. Договорились? Брагин слушал молча. Вздохнул, коснулся мизинцем щетины усов. — А я ведь тебя, Роман Григорьевич, было порешить хотел. Ох, и ловок ты выкручиваться! Жернявский расхохотался, закинув голову. В купе разом появился один из телохранителей. Он недоуменно посмотрел на Жернявского и исчез только по знаку своего вожака. — Что меня примиряет с вами, Василий Захарович, так это ваша откровенность, — просмеявшись сказал Жернявский и, аккуратно свернув газету, правой рукой убрал ее с колен. Под газетой в левой руке у него был браунинг. Доброжелательно глядя на переменившегося в лице собеседника, Жернявский объяснил: — В молодости в качестве офицера связи частенько приходилось ездить с пакетами в поездах. Так что опыт встречи с налетчиками есть, имейте в виду. А теперь к вам просьба. Дело в том, что меня действительно вызывали в уголовку и, судя по разговору, обнаружили мое давнее знакомство с Парикмахером. Хозяйка квартиры вряд ли добавит что-либо к сказанному в милиции раньше. Вот только одна знакомая... К сожалению, наши интимные встречи иногда совпадали по времени с приездом Парикмахера. А если до этого додумаются мои бывшие коллеги, неприятности грозят не только мне, но и вам, понимаете? Улица там тихая, а она любит сидеть допоздна в саду. Помечтать... Жернявский врал Брагину. Тайник под крыльцом был уже опустошен им. Но Роман Григорьевич знал людей. Главное — все умно расставить. Когда человек не может получить то, чего он хочет, он раздражается. Но если при этом логично и спокойно объяснить временную невозможность выполнения его желаний, он успокаивается и тотчас начинает искать варианты, позволяющие приблизиться к желаемому. И тут надо предложить ему вариант. Горячих, неуравновешенных людей, как правило, устраивает такой исход. А Брагин как раз из этой категории. Жернявский терпеть не мог этого деревенского бандита, но был тут один момент, который прочно удерживал его от действий. Уже будучи бухгалтером, Роман Григорьевич встретился с ним случайно в Ачинске, и Брагин, полагая, что бывший начмиль не преследовал его в свое время из идейных соображений, и считая его чуть ли не собратом по профессии, простодушно предложил ему быть наводчиком. Еще мгновение — и бравый поручик придушил бы бандита, но тут Брагин проболтался. Увлекшись перспективой совместного сотрудничества, он посулил Жернявскому столько же золота, сколько у него спрятано в лесу, возле Парново. — Золото, — усмехнулся Жернявский. — Какие-нибудь бабьи мониста? — Червонцы, — сухо ответил Брагин, обидевшись такой оценке имевшихся у него богатств. И видя, что Жернявский по-прежнему настроен скептически, не выдержал: — Врача помнишь? За станцией жил? Об убийстве врача и ограблении его квартиры в Ачинске знали все. Брагин поднес к лицу Жернявского руку с оттопыренным мизинцем. — Его колечко. Знающие люди говорят, большие деньги за него взять можно. Перстень был действительно редкостной работы. Это и определило решение Жернявского. Он сообщал Брагину о времени завоза товаров в кооперативные лавки, помогал ему готовить налеты. В последний раз ему удалось узнать о том, что в один из дней из Березовки пойдет почта с большой суммой денег и облигаций Крестьянского займа. Жернявский был взбешен, когда Брагин ослушался его и, помимо членов своей банды, использовал в налете несколько знакомых уголовников. Он чувствовал, что бандит выходит из повиновения, а его цель узнать, где расположен брагинский тайник, так и не достигнута. Правда, Жернявский уже знал, что Брагин скрывается обычно верстах в двенадцати от Парново. Но тайник — не изба, как его найдешь? Вот тогда он и избил его. Роман Григорьевич не боялся последствий: без него Брагин был, как без рук. И вот сейчас — очередной бунт. Надо спешить! А кроме того, вызов в уголовный розыск. Это тревожный симптом. Иезуит, этот Васильев, так незаметно подвел к Шпилькину, что не было времени сориентироваться. Теперь гадай, от Парикмахера он это выведал или в архивах нашел. Если в архивах — бог с ним. А вдруг Шпилькин начал колоться? Тогда времени остается мало, ох, мало! Следовало использовать припасенный козырь — Масленникову. Еще тогда, посоветовав Брагину отправить ее в Ачинск, чтобы сбить с толку угрозыск, Жернявский рассчитывал узнать от нее, где может находиться брагинский тайник. Но как сейчас использовать этот козырь? А если она на крючке у уголовки? Здесь была опасность и, пожалуй, пострашней той, которую сулил ему разговор с Васильевым... Так ничего и не решив, раздираемый сомнениями, Жернявский вернулся в Ачинск.
* * *
— Товарищ Голубь! В приоткрытую дверь заглядывал милиционер Суркин и таинственно манил пальцем. Голубь вышел к нему. Суркин повертел головой, хотя коридор был пуст, и отвел его к окну. — Я сейчас на рынке был. Иду сюда — догоняет мужик. Говорит, а сам оглядывается. Просит с вами увидеться. Только не здесь. — Где он? — Я покажу. Увидев крестьянина. Голубь хмыкнул. Тот стоял на углу в напряженной позе, совершенно один на всю улицу и тревожно озирался. Его с любопытством рассматривал беспризорник лет десяти. Мужик время от времени шикал на него и нервно тянулся к сапогу, за который был заткнут кнут. Беспризорник лениво отходил шага на два и снова, бесцеремонно ковыряя в носу, разглядывал его. За версту было видно не только то, что мужик кого-то ожидает, но и то, что он неумело пытается это скрыть. Суркин цыкнул на беспризорника и мигнул мужику. Тот послушно двинулся следом за Голубем. Спустившись улочкой, расположенной между огородами, к Чулыму, Голубь остановился у кустов тальника. Подошел незнакомец. — Вам привет, товарищ Голубь, от... от Бондаря, — он сглотнул слюну и оглянулся. — Ты чего озираешься? — Заозираешься, — угрюмо ответил собеседник. — У Брагина своих людей, что у собаки блох. А мне что-то последнее время жить захотелось — спасу нет. — Ну? — удивился весело Голубь. — Вот совпадение! И я до этого дела любитель. Проходи. Он отодвинул ветку и гостеприимным жестом пригласил посланца в заросли кустов. Мужик, его звали Семеном, привез от Подопригоры не только привет. — Банда Брагина будет здесь двадцать пятого июля. Человек восемь. — Что? — Бондарь велел тебе передать, чтобы ты Брагина ждал в версте за станцией, ввечеру. А он, Подопригора, встретит его на обратном пути, если у вас что не выйдет. Сил-то у него маловато самому на Брагина навалиться, да и поистратится банда людьми и патронами, если с вами встретится. Вот Бондарь после вас и угостит их своим пайком. — Так, — Голубь соображал. — Хорошо хохол придумал. А это точно? Откуда Подопригора узнал? — Он мне не доложил, — почесал бороду Семен, — однако я и без него догадываюсь. У нас недавно пасечника убили. Брагин убил. А сын этого пасечника, Ленька, у кулака работает, у Мячикова, на мельнице. Батрачит. Нынче, перед тем как мне в Ачинск ехать, к Мячикову Нинка, сестра Брагина, приезжала. Ее недавно ваши забирали да отпустили. Полагаю, Ленька что-то слышал. Тем более, мать его я видел, к Подопригоре заходила. — Если у вас такие все сообразительные... — поежился Голубь. — Не, — успокоил Семен. — Дело чистое. Просто я Подопригору хорошо знаю. Он все свои дела в тайности делает. Да и я остерегаюсь. Правда, сейчас чуть не погорел. На бывшего дружка брагинского напоролся, Казанкина, будь он неладен. — Казанкина? — Голубь насторожился. — Ну! Полгода как невесть куда делся из деревни. Мы думали, убили его. Сейчас гляжу — по рынку идет. Я аж по́том умылся. Слава богу, не заметил. — Слушай, зайдем в милицию, ты мне о нем поподробнее расскажешь. — Нет! — как отрубил Семен. — Я свое дело сделал. Не дай бог узнают — всё! И ваша задумка ухнет. Это же брагинцы. Семен сплюнул и поднялся с земли. — Ты, товарищ, от нас шибко далеко, дальше, чем восемнадцатый годок. Это у вас в городе все решено, а в деревне... Оно, вроде, и хорошо: разверстки нет, товарищества организуются, дело на коммуну поворачивается... А как шарахнет такой вот Брагин соседа ночью, да как услышишь наутро бабий вой по мертвому, так заоглядываешься. — Классовая борьба, — неуверенно возразил Голубь. — Во-во, — кивнул Семен. — Уж такая классовая, что спишь и не знаешь, в каком завтра классе очутишься — земном или небесном. Я тебе сейчас про Леньку-батрака говорил, у которого Брагин отца убил. Так вот, до него у Мячикова другой парень батрачил. Хороший парень, золото! А тут в ячейку комсомольскую ходить стал. Мячиков молчит. Парень портрет Ленина вырезал из журнала, на мельнице на стенке повесил. Мячиков молчит. И вот раз на сходке выступил тот парень. Что-то шибко против кулаков говорил. И хозяин его, Мячиков, был на сходке. Сидит, скулы буграми ходят. Так-то, брат... — Что «так-то»? — не понял Голубь. — А ничего, — неохотно проговорил Семен. — Нашли парня дня через три. Глаза выколоты и зубы все повыбиты. А на груди портрет прибит гвоздями. Тот самый, что он на мельнице повесил. — Где нашли? — Известно где. Не у Мячикова же на мельнице. Верстах в пяти от деревни на дороге. Ну, я пошел. Что Бондарю-то сказать? — Все сделаем. Где он засаду устроит? — За Парново верстах в семи дорога в лес заворачивает. Вот в этом месте. Семен тяжело тряхнул руку Голубю, повернулся и исчез в кустах. Двадцать пятого июля, просидев всю ночь со своими людьми и работниками ОГПУ в засаде, Голубь ни с чем вернулся в Ачинск. Голова разламывалась от напряженной бессонной ночи и от вопросов, на которые нужно было найти ответы. Почему Брагина не было? Где он? Может, пройдет завтра? А вдруг он узнал об их замысле? Что теперь делать? Связаться с балахтинским начмилем? Держать засаду? Уточнить, когда пройдет почта из Балахты? А если она уже прошла? Тогда налета не будет? Или у Брагина другие планы? Что сейчас делает Подопригора? Вопросы бились в голове, и Голубю уже казалось, что кто-то их произносит вслух. Добравшись до своего кабинета, не снимая сапог, ремней, он рухнул на стол и заснул, как убитый. Разбудил его Коновалов. — Тимофей, быстрее! Налет — со станции звонят. — Что?! Где? Какой налет? Брагин? Голубь таращил глаза со сна, вскочил, бросился к окну: смеркается, значит, часов десять. — Куда, ч-черт! — прорычал Коновалов, схватив его за ремень. Они ринулись на улицу. По дороге Коновалов прихватил двух милиционеров и подвернувшегося работника угрозыска. Пока звонили в ГПУ, разбирали оружие, седлали лошадей, прошло минут пятнадцать. Галопом кратчайшей дорогой поскакали к станции. Там встретил дежурный, наскоро объяснил: выстрелы слышны недалеко, в версте по тракту. Сейчас как раз время проехать почте... — Рысью! — крикнул Голубь. Вскоре они увидели пролетку на дороге и запутавшуюся в постромках убитую лошадь. В темноте из-под пролетки мелькали огоньки выстрелов: кто-то отстреливался. Справа за дорогой залегли люди. Дальше в кустах Голубь смутно различил лошадей. Банда! — Забирай правее! — крикнул он Коновалову. Тот согласно кивнул, и отряд разделился. Коновалов и еще двое поскакали дальше, заходя в тыл банде. Голубь с сотрудником спешились, залегли, открыли огонь — и в самое время: бандиты, заметив отряд, стали отступать к лошадям. Они не рассчитывали на нападение, кони стояли далеко, и теперь, попав под перекрестный огонь Голубя и неизвестного, стрелявшего из-под пролетки, они бежали к кустам, беспорядочно отстреливаясь. После нескольких выстрелов Голубь довольно улыбнулся. Один из убегавших споткнулся и стал сильно припадать на ногу. Затем еще один упал. Со стороны Коновалова тоже послышались выстрелы. Голубь обернулся к сотруднику, это был Суркин: — На коней! Когда они подъехали к кустам, там уже был Коновалов со своими людьми. Возле кустов стояли привязанные две лошади. Третья, убитая, лежала тут же. Стали искать их хозяев. Одного нашли возле дороги, двух других — в кустах. — Убиты, — вздохнул Коновалов, осмотрев бандитов. — Эй! Вы кто такие? — кричали с дороги, от пролетки. — Угрозыск! — ответил Коновалов. — Не стреляй, парень! — и он двинулся к пролетке. Пока перепрягали лошадь, перевязывали раненого почтаря (второй был убит), тот рассказал, что случилось. Они везли из Балахты продналог и почту. Уже подъезжали к Ачинску, когда навстречу вылетело восемь верховых. Напарник сразу открыл огонь, бандиты залегли. Они хотели прорваться, но с первых же выстрелов убили лошадь. Они с напарником укрылись за ней. — Кабы минут на десять пораньше вам... — вздохнул почтарь, глядя, как укладывают в пролетку мертвого товарища. Левое плечо у него уже было перебинтовано, он курил, и рука, державшая цигарку, мелко вздрагивала. — Бандиты, мать их так! — продолжал он словоохотливо. — Если путем-то, так надо было с двух сторон залечь и ударить. А они на арапа хотели взять. Шпана! Тьфу! — почтарь сплюнул. По дороге домой Голубь рассуждал, покачиваясь в седле: — Масленникова звонила на почту. Там же работает Казанкин. Связной от Подопригоры говорил, что он приятель Брагина. Сейчас снова налет на почту. Причем прибытие почты в Ачинск было уточнено, и налет перенесен с двадцать пятого на двадцать шестое. Понимаешь? Где живет Казанкин? — В общежитии, — ответил Коновалов, — но часто не ночует там. — К Подопригоре не поедем пока, — решил Голубь. — В банде осталось пять человек, и даже если они пробьются через хохла, не страшно. Казанкин — вот что сейчас главное. Он связник Брагина и, видимо, наводчик. Возьмем Казанкина — Брагину конец! И брать нужно как можно скорее! Въехав в город, остановились на какой-то улице: от тряской езды почтарю стало плохо, рана кровоточила. — Гляди-ка! — Коновалов ткнул Голубя. Суркин отошел за дорогу по малой нужде, и бандитские лошади, которых он вел в поводу, стояли одиноко и понуро, изредка всхрапывая. Вдруг одна из них медленно пошла по улице. — Эй! — крикнул из кустов Суркин. — Куда, кривая холера! Застегивая штаны, он выскочил на дорогу, намереваясь догнать лошадь, но Голубь остановил его движением руки: — Погоди! Бери пролетку, почтаря... Езжайте в милицию. А мы с Коноваловым поглядим за этой путешественницей. Лошадь уверенно шла по ночным улицам. За ней на расстоянии ехали Голубь, Коновалов и сотрудник милиции. Вот она свернула в переулок, постояла, снова двинулась. Остановилась возле домика с палисадником. Дернула копытом, вырыв в земле лунку, и негромко заржала. В темном окне приподнялась занавеска. Через некоторое время в избе скрипнула дверь, кто-то прошел к воротам, приоткрыл их. — Манька, зараза! Мужчина в исподнем белье высунулся из ворот, ухватил лошадь за узду и зло ткнул ее в шею: — Тварина, нашла же... давай скорее! — Здорово, папаша! Из-за крупа лошади выглянул Коновалов. Он облокотился о седло и дружелюбно улыбнулся оторопевшему хозяину: — Твоя животина? — Я... ме... какая животина? Вам чего надо? — Как фамилия? Мужчина оглянулся. Сзади стоял Голубь, направив на него наган. — Казанкин. Мужчина зябко переступал ногами и с ужасом глядел на милиционера, который, выйдя из-за палисадника, присоединился к Голубю и Коновалову.6
— Так объясните мне, каким образом в ваших вещах оказались паспорт, военный билет и квалификационное удостоверение на имя Сысоева? Лидка тупо глядела на угол стола и молчала. Она осунулась, посерела. Дежурный сказал — курила всю ночь. Вчера, когда они с Реуком пришли с постановлением на обыск, она, уперев руки в бока, ходила за ними и пронзительным голосом, срываясь на визг, комментировала каждый их шаг: — Гляди, гляд-д-и-и, нахал! Ох, стыда у людей нет! Ох, нет стыда! Ну, чего же ты, лезь в шкаф, не стесняйся! Что там — трусья? Ну, смотри внимательнее, не то, не ровен час, проглядишь что. А то — понюхай, может, и унюхаешь... А вы что жметесь? — накинулась она на совершенно оробевших понятых. — Нет уж, позорить, так позорить, идите сюда, гости дорогие! Вон у меня в корыте исподнее, не стирано еще. Не смотрели? Принести? Реук стушевался. Голубю тоже было не по себе. Чертова баба ходила по пятам, явно провоцировала скандал, и ничего нельзя было сделать. И только когда он, выдвинув один из ящиков тяжелого комода и погрузив туда руки, нащупал в белье банки с тушенкой, только тогда Лидка приутихла. Понятые ожили: помогали выпутывать банки из белья, считали и, опасливо поглядывая на Лидку, укоризненно покачивали головами. Лидка взорвалась снова, когда Реук попытался вытащить из-под кровати чемодан. — Не трожь! Это жильца моего чемодан! Оергеева! Не имеете права! — Жильца или сожителя? — невозмутимо осведомился Реук, вытаскивая чемодан на середину комнаты. — Твое дело десятое! Он у меня угол снимает. Вот приедет — не возрадуешься. Как напишет прокурору, что вещи пропали, покрутишься еще, побегаешь. Ментовня поганая! — Ничего, — отдуваясь, пробормотал Реук. — Не переживай. За нами вон люди присмотрят, авось и не пропадут его вещички. Он осторожно открыл чемодан и покачал головой: — Что же это получается? Оергеев твои комбинации носит? Здорова ты, Лидка, врать. А тут что? — Не смеешь! — наливаясь кровью, закричала Лидка. Внезапно она выбежала на кухню. Голубь кивнул Реуку, тот бесшумно пошел следом за ней. Послышалась возня, звон стекла и тревожный голос Реука. Голубь выскочил следом и увидел, как Реук борется с Лидкой. Возле их ног лежала трехгранная бутылочка, из которой тоненькой струйкой вытекал уксус. Минут через десять обыск продолжили. Лидка безучастно сидела на стуле и даже не повернула головы, когда Реук из бокового кармана чемодана вытащил документы Сысоева. После того они продолжали обыск уже автоматически. Спустились в погреб, где нашли еще несколько десятков банок тушенки, тускло поблескивавших прямо на цементном полу. Но это теперь никого не волновало: ни Голубя с Реуком, ни Лидку, ни даже понятых, сообразивших, что дело пахнет уже не тушенкой... — Так как же мой вопрос, Лидия Петровна? Лидка вздохнула, села на стуле прямо, закинула ногу на ногу и вдруг мило улыбнулась Голубю. Несмотря на помятый вид, она выглядела прилично. Под шерстяной жакеткой белая блузка, ворот расстегнут. Блестящие каштановые волосы пострижены «под мальчишку». Возле нижней губы маленькая, бархатистая родинка... «Черт побери, — подумал Голубь, — наконец на батарее сыграли боевую тревогу. Сейчас дадут залп». Лидка незаметным движением поддернула юбку, наведя круглое, белое колено на Голубя. — Гражданин начальник! Я вам хочу сказать правду. Я сошлась с ним по глупости. Он же старик. На уме одно: достать шатун, достать какой-то палец, закрыть наряд... Мне двадцать четыре года. Я по улице иду — парни слюни пускают. А он появится дома, с друзьями водки нажрется — и пошло. Ведь он когда собрался от меня — я как будто заново родилась. А когда ушел в тот день — документов не брал. Ну, нет его и нет. И слава богу. Вдруг через месяц сестра его приезжает. Где Пашка? Мне бы, дуре, отдать его бумажки, а я испугалась. Пашка, оказывается, написал ей, что приедет. А его нет. Сестра в милицию собирается. А у меня документы его лежат. Ну, я и решила — все равно! Ведь не может же человек безо всяких документов месяц где-то мотаться? Значит, с ним что-то случилось. А кого заподозрят, если я через месяц его паспорт принесу? Реук — он и тогда на меня волком смотрел. Вот и не решилась я тогда сказать про документы. Понимаете меня? Вы меня понимаете? «Значит, теперь у нас такая линия поведения. Версия о сохраненных документах, плюс голое колено — для достоверности изложения. Хорошо, это располагает к откровенности, к доверительности. И — расслабляет. Попробуем расслабиться. Бог уж с ним, с Сысоевым. Надо о другом». — Понимаю. Тем более, тут еще Оергеев рядом — молодой, красивый... Лидка запнулась, взглянула на него лукаво и покачала головой: — Чего попало, ну, чего попало! Она заботливо оправила юбку, отчего колено заголилось еще больше. Закинула руки за спинку стула: вырез на блузке раздался, обнаружив две смуглые выпуклости. Артподготовка шла полным ходом. Голубь с удивлением смотрел на молодую женщину, пытавшуюся вчера отравиться, находившуюся пять минут назад в состоянии прострации... Как быстро перегруппировалась! — Давно вы знакомы с Оергеевым? — А что — ревнуете? Лидка придвинулась ближе, для ясности поправила воротничок блузки, отчего обзор выпуклостей стал максимальным. — Это вам Реук наговорил. Вы его не слушайте. Михаил — просто хороший парень. Он меня деньгами выручил, когда надо было долг отдать этому... Вы думаете, в буфете работаю, значит богатая? Вы прикиньте, сколько я на этой тушенке заработаю. Нашли воровку! А дом, думаете, мне ничего не стоит? Хорошо, Миша все двери подогнал, крышу перекрыл, пол в погребе зацементировал — и ведь все бесплатно... «Стоп! Какой пол? В погребе? Цементный? На котором тушенка стояла? Когда зацементировал? Впрочем, это и без нее можно узнать. Надо завязывать. Только тихо и мирно. Пока все не проверим. Насчет пола». — Женщины, женщины, — горько вздохнул Голубь. — Один пришел, другой ушел... — А вы святой, что ли? — Лидка интригующе вскинула на него глаза. — Ангел, — кивнул головой Виктор. — Только вот курю. Я из курящей разновидности. — Чего попало, ну, чего попало! — Лидка чарующе рассмеялась. — Сказать откровенно, я вас вначале боялась. А вы — просто комик. Надо же... Ангел! А как ваше имя-отчество? — Виктор Георгиевич. — Виктор Георгиевич, а меня нельзя под расписку отпустить? Ну, сами же видите, какая я преступница. У нас два года назад одна девушка недостачу имела в четыреста рублей, и то ничего. Внесла — и никаких делов. А? — Это со следователем надо будет как-то переговорить. Он решает... — Переговорите, очень вас прошу! Если что — в обиде на меня не будете. — Хорошо, хорошо, — заторопился Голубь. — Мы тут пока разговаривали, я записывал... Это протокол допроса. Ознакомьтесь. Лидка, преданно глядя в глаза Голубю, взяла листок и углубилась в чтение. Пробежав текст глазами, попросила ручку. — Все верно? — Да. Только к чему это: про двери, крышу, пол... Речь ведь о документах Сысоева. При чем здесь эти мелочи? Голубь сострадательно прижал руки к груди: — Лидия Петровна, милая, с нас ведь тоже спрашивают. Чистая формальность, вы сказали, я записал. Разве неверно? — Верно, верно, — успокоила его Лидка. Подойдя к двери, она уже деловито напомнила: — Так не забудьте со следователем-то... — Ну, что вы! — развел руками Голубь. — Сказал — переговорю. Лидка подошла к двери, открыв ее, улыбнулась: — В случае чего — с меня причитается, — и исчезла за дверью. Голубь шагнул было следом сказать дежурному, чтобы проводил задержанную, и столкнулся в дверях с Реуком. Тот слышал последнюю фразу Лидки, и у него был слегка ошалелый вид. Реук зашел в кабинет, недоверчиво озираясь. — Вы чего тут делали? Голубь расхохотался: — Только разговаривали, дорогой, только разговаривали. Правда, о любви. — То-то и есть, что о любви. Вот бабы! А я думал, она сегодня еще одну истерику закатит. Специально напросился за Оергеевым ехать, чтобы с ней не встречаться. Как ты ее разговорил? — Сама разговорилась — я только поддакивал. Да на колени ее смотрел бараньими глазами. — Что-нибудь интересное есть? — Одна ма-аленькая деталь. Но нужно уточнить. — Уточню, — пообещал Реук. — Говори. — Оергеев после ухода Сысоева зацементировал пол в погребе. Понимаешь? — Понимаю. Соседей допросим. Когда они видели эти работы по ремонту погреба. А ты думаешь, он там? — А что тут думать, искать надо. Никуда он не уходил. Не найдем в погребе — уборную придется чистить, огород проверить. Ты на Оергеева в паспортном сведения взял? Реук протянул ему карточку с фотографией. — Стой! Голубь внимательно смотрел на фотографию. Лицо знакомое. Кто? Белов? Нет, тот разыскан. Гошидзе? Почему Гошидзе? Лицо типично русское. Нос картошкой. Что же это? Стоп! Почему Оергеев? Нет, русский. Михаил Арканович, Арканович, Арканович... Лицо знакомое и отчество где-то слышал. Характерное отчество. — Ты что? — Реук из-за плеча взглянул на фото. — Где у тебя дело с ориентировками? Полчаса листали дело, сверяли ориентировки. Реук закурил. — Может, тебе показалось? Голубь помотал головой: — Я его где-то видел. Давно. Или слышал фамилию. Ну-ка дай еще взглянуть. Он снова стал рассматривать карточку. — Тьфу! Смотри! Это же Сергеев! Не Оергеев, а Сергеев! Верно — и прописка минская. Он же во Всесоюзный розыск объявлен. Два года назад. Болван! — Кто? — Я, конечно. И ты. Розыскник!.. — Ты что на меня кричишь? — возмутился Реук. — Я всего год в розыскниках хожу. Ты бы с меня еще довоенные ориентировки стал спрашивать! Он прошелся по кабинету. — Ну, что? Я тогда лечу в партию за Сергеевым. Ах, гад ползучий! Обманул, как пацана! — Одному за ним рискованно, — возразил Голубь. Реук взглянул на него: — Ты его видел? Метр с шапкой. Да я в случае чего из него вот этими руками яишню сделаю. И потом — в партии людей мало? Вдвоем нас увидят — сразу поймут, что неспроста прилетели. А ко мне привыкли. У меня там двое знакомых ребят. Вон бутылку куплю да скажу, что за рыбой приехал. Ты, пока я летаю, лучше реши вопрос с санкцией на повторный обыск. Соседей допроси по тому, что им известно о ремонте погреба. Это ведь тоже время. — Нет, это не дело, — упрямо замотал головой Голубь. — Если боишься, что я тебя засвечу, бери участкового. Его тоже в партии знают, вдвоем за рыбой поедете. Минчане Сергеева за убийство разыскивают. Если он действительно и Сысоева в погреб упрятал, ему терять нечего. Иди за участковым. Сядем втроем и подумаем, как вы туда появитесь... Вечером Голубь докладывал начальнику милиции материалы дела... — Значит, завтра повторный обыск? — начальник машинально полистал бумаги. — Хорошо вы нам помогли. И кража на Туркане пошла, и Сергеева разыскали. Если еще и Сысоева найдем, совсем ладно будет. — А если не найдем? — улыбнулся Голубь. — А если не найдете, жаль, конечно, будет. Он меланхолично побарабанил пальцами по столу и вдруг с жаром закончил: — Будем продолжать поиск! Правда, абсолютной гарантии дать не могу, что разыщем, — он невинно взглянул на Голубя. — Если уж Управление уголовного розыска не может. Асы, так сказать... — Дипломат вы, Павел Игнатьевич, — вздохнул Голубь. — Если найдем, то вместе, а если не найдем, то Голубь?.. — А как вы думали? Мне, брат, по должности дипломатом надо быть. В дверях показался дежурный: — Павел Игнатьевич! Сейчас радиограмму принял. Сергеев при задержании ранил Реука. Обоих на вертолете везут сюда. Просят «скорую» на аэродром: Реук очень плох...7
Двадцать седьмого июля в семи верстах от Парново произошла стычка между бандой Брагина и отрядом милиции во главе с балахтинским начмилем Подопригорой. Последний убит. Банда потеряла двух человек и отступила.Жернявский, привалившись спиной к стене, следил, как Катерина перевязывала ногу Брагину. Тот лежал на кровати и болезненно морщился. Жернявского знобило: последние двое суток он не сомкнул глаз. Роман Григорьевич любил рискованные авантюры, но даже ему казалось невозможным то, что он задумал. Впрочем, пока все удавалось. Записка Голубю послана, это дает ему несколько часов форы, пока уголовка не убедится, что Казанкин не король, как он им написал, а всего лишь шестерка. Теперь — Брагин. Тут тоже, кажется, все было рассчитано. Он откровенно рассказал ему про записку. В ней значилось, что Брагин скрывается в Ачинске, и Казанкин знает адрес, так как является его связным. Кроме того, Жернявский привез лекарство, бинты и самое, на его взгляд, главное — деньги из тайника Парикмахера, восемь тысяч. Он привез свое оправдание, свидетельство своей честности. Наконец, Жернявский доставил Катерину и внес порядок и систему в сумятицу, царившую в избушке. Он послал одного из бандитов в Парново к родственникам Брагина за подводой (из-за раненой ноги Брагин не мог сидеть в седле), второго поставил в охранение. И теперь позволил себе короткий отдых перед главным, ради чего приехал сюда. Брагин после перевязки тоже впал в какое-то оцепенение. Неудачный налет, стоивший ему половины банды и простреленной ноги, ночной марш и засада Подопригоры, из которой он едва ушел с двумя подручными, — все это обрушилось на Брагина так неумолимо, что он почувствовал себя обреченным. Его даже не радовала смерть балахтинского начмиля. Брагин застрелил его в самом начале боя — это, собственно, и дало ему возможность уйти. Приход Жернявского, его разумная, спокойная предусмотрительность снова разбудили в Брагине желание бороться, жить. Но он здорово устал. Для него, жившего одним днем, эти броски из холода в жар воспринимались безо всякой взаимосвязи, были непонятны. Они его выматывали. О точном времени налета знали Мячиков, Нинка и Казанкин. Нинке и Мячикову он верил, как самому себе, а Казанкин сам уведомил о прибытии почты в Ачинск. Жернявского он исключил из дела, как только тот сообщил, что почта повезет большую сумму денег, так что тот тоже не знал подробностей операции. Откуда уголовка так быстро появилась — леший знает! — Да, Василий Захарович, жаль, что вы меня не посвятили в подробности вашего последнего анабасиса. Возможно, сейчас бы не сидели здесь, как подбитая ворона. Брагин скосил глаза на Жернявского — вот черт худой, прямо мысли читает! — Вообще, наши неудачи начались после того, как вы стали самовольничать, — продолжал Жернявский. Он кашлянул и пересел ближе к столу, к керосиновой лампе. Перемещение это имело еще одну выгоду: для того чтобы выстрелить, Брагину пришлось бы прежде повернуть голову — Жернявский сидел теперь позади него и мог контролировать каждое его движение. — Вы совершенно зря использовали тогда свою знакомую шпану. Они засыпались и уже, вероятно, назвали Лабзева. Отождествление его с вами — вопрос времени. Налет под Ачинском был спланирован настолько беспомощно, что мне не хочется говорить об этом. Вы так и не поднялись выше сельского громилы. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения. Начнем собираться. Скоро должна прийти подвода... Брагин уловил в голосе Жернявского что-то необычное. Он взглянул на Катерину, сидевшую в ногах, и все понял: она, прижав руки к груди, со страхом смотрела поверх него. Жернявский держал их обоих под прицелом браунинга. — Ежели ты, Роман Григорьевич, насчет моих запасов, так они не здесь, — хрипло произнес Брагин, не поворачивая головы. — Выньте руки из-под одеяла и закиньте за голову, — ответил Жернявский, — до припасов еще дойдем. Брагин повиновался, помедлив. — Умница! — похвалил Жернявский. Он обыскал Брагина, забрал оружие. — Теперь слушайте. Укажите тайник, и я честно беру половину, после чего мы расстанемся. В противном случае — очень долгая и мучительная смерть. — А если Иван из охранения придет? — облизнув губы, поинтересовался Брагин. — Иван не придет, — улыбнулся Жернявский. — Так как же мое предложение? Брагин подумал. — Сам не найдешь, — он кряхтя сел на кровати. — Я покажу. Здесь за ручьем. Возле березового пня... Он натянул сапог на здоровую ногу. Кивнул Катерине: — Принеси полотенце. И веревку — ногу обмотать. Сапог-то я не надену... Катерина робко встала. В ту же секунду Брагин правой рукой сильно толкнул ее на Жернявского, одновременно левой схватив обрез, укрытый в ногах. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Наступила тишина. Жернявский некоторое время держал под прицелом лежавшего Брагина. Затем столкнул с себя недвижное тело Катерины, поднялся, подошел к кровати. Брагин полусидел в промежутке между кроватью и стеной, молча смотрел на него. Одну руку он прижал к груди, меж пальцев обильно шла кровь. Жернявский осторожно убрал лежавший рядом обрез. — Вы слышите меня, Василий Захарович? Брагин тихо наклонил голову. В углу рта тоже появилась кровь и тоненькой струйкой потекла по подбородку. — Вы застрелили Катерину. Я снова спрашиваю вас: где тайник? В избе было душно, пахло керосином и порохом. Лампа чадила, язычок пламени то горел спокойно, то вдруг судорожно извивался. Не отрывая от него взгляда, Брагин сглотнул кровь и прерывисто прошептал: — Худо дело... Убил ты меня. Помру сейчас... чувствую. Так что извини, Роман Григорьевич, я напоследок себе... удовольствие... доставлю. Он медленно отнял от груди окровавленную руку, сложил кукиш и с усилием поднес его к лицу Жернявского. Тот поднялся. Изо всех сил пнул раненого. Вышел на середину избы, огляделся. Увидел на столе деньги, привезенные им, сгреб в кучу, сунул в карман. Заметив, что сапог в крови, он присел возле лежавшей ничком Катерины и краем ее юбки аккуратно вытер каблук. Взглянул на оголенные недвижные ноги женщины и вздохнул: — Господи боже мой! Ты-то, бедная, за что пропала? Вольно́ же было ехать сюда на гибель. Он прикрыл ее ноги юбкой и какое-то время смотрел на залитое кровью лицо Катерины. Еще раз вздохнул и покачал головой. Затем Жернявский медленно и аккуратно стал обыскивать избушку. Слазил на крышу, осмотрел подполье — неглубокую яму, в которой хранилось ведра два картошки. Обследовал все углы, простукав их рукоятью браунинга. Встав на табуретку, отодвинул икону и, найдя за ней деревянную коробку, выгреб из нее пачку денег. — Мизер, — бормотал он, пересчитывая их. — Это же мизер! Жернявский вышел и через несколько минут вернулся, волоча за ноги тело Ивана — бандита, которого он посылал в охранение и убил сразу же тогда, в нескольких метрах от избушки. Наконец, Жернявский, еще раз окинув взглядом избушку, снова направился к Брагину. Тот лежал с закрытыми глазами, но когда Жернявский нагнулся к нему, поднял веки. — Василий Захарович, я уезжаю. Напоследок тоже хочу удовольствие себе доставить. Живым сожгу, как таракана, понятно? — и он, усадив его, стал прикручивать веревкой к кровати. Брагин снова закрыл глаза и прошептал, сипло и трудно дыша: — Шел бы ты, Роман Григорьевич, своей дорогой... я и так помираю... А барахла моего все одно тебе не видать. Я хоть в дураках у тебя хожу, а давно тебя раскусил. Давеча... В Красноярске обиделся ты за то, что наводчиком тебя назвал. А ведь ты ни к чему другому не способен. Я — бандит, душегуб... А ты хитрее. Ты к любой власти присосешься... ровно глиста поганая... Жернявский слушал, как всхлипывает и судорожно ловит воздух Брагин при каждом вздохе. Смотрел с усмешкой в лицо обреченному. — Жаль, что я раньше этого от вас не слышал... таких зрелых мыслей. Прямо для передовой статьи «Крестьянской газеты». Ну, что ж, я действительно приспособленнее вас. Ваш конец закономерен: не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц. А я еще долго проживу. И, возможно, даже буду полезным членом нового общества. Бухгалтер, например, я неплохой. Мне ведь что нужно? — Жернявский пошелестел деньгами. — Пустяки. Ради этого совсем не надо убивать. Нужно иметь только умную голову, а дураки найдутся. Дураки были во все времена — к счастью, у новой власти против этого никаких рецептов пока нет: она больше озабочена вопросами классовой борьбы. Жернявский перестал юродствовать и, нагнувшись к Брагину, прошептал медленно, с угрозой: — Так где тайничок-то? Брагин, напряженно скосив на него глаза, молчал. — Ну, и черт с тобой, дурак, — пробормотал Жернявский. Он поднялся и, подойдя к кровати, достал из-под нее примеченный им во время обыска бидон с керосином... Катерина очнулась от нестерпимой боли и удушья. Не понимая, где она и что с ней, подняла голову: по полу клубами стлался дым. Рядом кто-то лежал и по его телу скакали, то вспыхивая, то угасая, языки пламени. Катерина услышала слабый хрип возле кровати и поползла туда. Там, повиснув на веревках, шевелился Брагин. Она зубами развязала узлы и, распутав веревку, оттащила его на середину избы. Он что-то шептал, шаря у себя на груди. Катерина приподняла ему голову. — Скорее... Слышишь, Катька! Под койкой... подними доски. Там — ход. A-а... Кто дурак? Брагин? Смотри! Жив буду — озолочу... Перед богом — женой будешь! Вот... их благородие не догадались обыскать... побрезговали... — он схватил ее руку и надел на палец скользкий от крови перстень. — Вот только меня сперва... Брагин все быстрее шарил руками. Вдруг изо рта хлынула кровь, он завалился на бок, да так и замер, неудобно подобрав под себя руку. Теряя сознание от боли в голове, почти ничего не видя и задыхаясь от дыма, Катерина подползла к кровати. Ломая ногти, попыталась поднять одну доску, другую. Третья поддалась. В лицо пахнуло душной, прохладной сыростью...(Из оперативной сводки по Сибкраю за 1925 год)
* * *
Голубь стоял, кусая губы, глядя на легкий дымок, курившийся над пепелищем. Теперь стало ясно: Казанкин говорил правду. Кто-то ловко подкузьмил его этой запиской. Но кто, Масленникова или Жернявский? Ни той, ни другого в Ачинске нет. Испарились. Исчезла Серова. И Брагин исчез. Подопригора убит. А виновник всему он — Голубь. — Что глядишь невесело? Голубь угрюмо посмотрел на подошедшего Коновалова. — Чему веселиться? Сашка меня, наверно, до последней секунды ждал... — Не казни себя, Тима, — Коновалов тронул его за плечи. — Ты не Иисус Христос. В записке было сказано, что Брагин в Ачинске. Да и с Казанкиным если бы не разобрались... Ты об этом зимовье от кого узнал? От Казанкина. Об участии Брагина в березовском налете? От него же. А если бы мы его не раскололи в ту же ночь? Сейчас хоть факты можно предъявить. — Кому предъявлять, костям вон тем? И что предъявлять? Гори оно огнем — предъявление это... — Голубь кивнул в сторону пожарища. На обратном пути Голубь неожиданно подъехал к Коновалову. — Я подам рапорт Васильеву. — О чем? — Об увольнении. — Ты сдурел! — Я уйду из уголовки, Коновалов. Сашкина смерть на моей... — Интеллигент вонючий! — заорал Коновалов. — Гимназист! Уксусу выпей — еще красивше будешь. Думаешь уволишься — Сашка оживет? А ты... Я знаю, почему ты заныл. Служебного расследования боишься. Заранее штаны снял: виноват, мол, сознаю и прошу уволить. Эх, Тима, я-то думал, у тебя кишка покрепче. — Нормальная у меня кишка, не кричи, — ответил Голубь, собирая поводья. — А из милиции я уйду. Не могу я за свою глупость человеческой жизнью расплачиваться. Тяжело это, Коновалов. Я тебе объяснить не могу... Коновалов помолчал, потом сухо и почти спокойно сказал: — Хочешь уходить — на здоровье. Поминки устраивать не буду. Сашке устрою, а тебе — нет. Разными путями вы из милиции уходите.В семи верстах от Парново обнаружено сгоревшее зимовье и в нем останки двух человек. Установить их не представляется возможным ввиду сильного обгорания. Есть основания предполагать, что останки принадлежат двум членам банды Брагина. Сам Брагин, видимо, скрылся со своей сожительницей Масленниковой, так как по месту жительства последняя не обнаружена.(Из оперативной сводки по Сибкраю за 30 июля 1925 года)
Эпилог
— Голубь! К телефону. — Здорово, начальник! — услышал Виктор в трубке знакомый насмешливый голос. — Реук! Ожил, бродяга! — закричал он. — Ты откуда звонишь? — Снизу, с вахты. У вас тут порядок, как на мясокомбинате. Пройти нельзя. Ты спуститься можешь? Давай где-нибудь посидим, все равно уже поздно. Или ты занят? Они пошли в кафе недалеко от управления. Здесь было пусто, продавщица ушла в подсобку и гремела там ящиками. — Лежал я четверо суток без сознания, ощущение — будто ночку хорошо поспал... А потом начал летать. — Как это? — Лежу на кровати, а кажется, что она поднимается вертикально — ну, и я, естественно, с ней. И такое ясное ощущение, что хватаешься за кровать, чтобы не выпасть. Кормили по-царски: двадцать пять граммов бульона и двадцать пять граммов воды. Правда, есть не хотелось. — Бедный ты, бедный! — Голубь жалостливо посмотрел на друга. — Что, больше нельзя было? — Он мне подвздошную кишку порвал, — объяснил Реук, — желудок и еще что-то. Понимаешь, мы когда из вертолета вылезли, Сергеева уже в партии не было. — Я с ребятами к зимовью подошел — тишина. Участковый к окну встал, а я в дверь стучу. Опять тишина. Я дверь толкнул — она медленно так открылась. Стою, ничего не понимаю: нет его, что ли? Или спрятался? И уже в какую-то секунду до выстрела увидел в щели двери ствол. Ну, кинулся, конечно, в сторону... Выстрели он из «тозовки» — я бы царапиной отделался. А там — жакан! Но тебе я тоже не завидую, — усмехнулся Реук. — Это когда Сысоева откопали? Завидного, конечно, мало. Лидка в обморок упала. А потом — началось. Она кричала на всю улицу, как только Сергеева не называла. Проболталась, что Сергеев паспорт убитого берег для себя. — А тот? — А что тот? За ним в Минске убийство, ты лежишь, неизвестно, на каком свете — и тут еще Сысоев. Семь бед... Скрипел на нее зубами, потом уж взмолился: уберите эту тварь, пока я ее не пришил, сысоевские деньги-то вместе делили... Лидка, как услышала, аж взвыла: врешь, я не знала, что он в погребе! Сергеев ей: зато все остальное знала! Словом, нашли друг друга: носок да рукавичка — и оба шерстяные. — Да, — вздохнул Реук, — весело время провели. Да ко всему еще и дома горе. Долго не забуду. — Как дома? Ты же холостяк? — А помнишь, мы на Туркане к бабке заезжали? Баба Катя. Она еще до войны мать мою удочерила, а после ее смерти меня на ноги поставила. Я ведь рано осиротел. Ну вот, а пока я в больнице валялся, она ко мне ездила — это осенью-то с Туркана, при ее возрасте. Простудилась, конечно. Схоронил я ее недели две назад. Последние дни от нее не отходил. Бредила, какую-то избушку вспоминала, пожар, тайный лаз... И почему-то к этому делу приплетала все время тебя и какого-то Брагина. — Меня? — Тебя. Вроде как ты ее должен от кого-то спасти... Бред, одним словом. Когда в себя пришла, я у нее пытался выяснить, о чем она бредила. Она улыбается и молчит. Я еще ей напомнил, как она тебя звала. Пошутил, уж не влюбилась ли ты, бабка, в Голубя. А она — и впрямь: перстень сняла с пальца (у нее шикарный перстень, сколько себя помню, носит) и мне подала. Передай, говорит, Голубю своему, скажи от Катерины Масленниковой память. Реук вынул из кармана комок бумаги, развернул его. — Держи бабкин подарок. Голубь с удивлением рассматривал серебряный перстень старинной работы. На внутренней стороне ободка он различил какие-то буквы. Он повернул перстень к свету и прочитал, видимо, давно выцарапанную и полустертую временем надпись: «БРАГИНЪ». — Больше она ничего не говорила? — Про твоих родителей спрашивала, не из Ачинска ли. — Родители? — Голубь пожал плечами. — Нет. Дед у меня жил одно время в Ачинске. В двадцатые годы еще. Может, она его знала? — Он у тебя кем был? — Дед у меня был боевой! Комсомолец двадцатых годов. В ЧОНе за бандами гонялся, в милиции работал. Только недолго. Что-то там у него случилось: бандита какого-то упустил, а тот потом застрелил его друга... Или наоборот: сперва бандит застрелил его друга... Что-то в этом роде. Словом, ушел он из милиции. Я это из материнских рассказов знаю, отрывочно. Дед-то у меня не из говорливых был. — Ну, а я о бабе Кате и того меньше знаю. — Вот и спросил бы, пока с ней сидел. — Я же говорю, спрашивал. Она сперва отмалчивалась, а потом сказала, что за свои грехи сама перед богом ответит. Еще что-то из писания мне цитировала, я точно забыл, а смысл помню. Что-то вроде: блажен тот, кто ни хрена не знает. — Может, она и права, — проговорил Голубь, глядя на перстень. — Только, кажется мне, что бабке твоей было о чем рассказать. Впрочем, сейчас уже все равно. Они расплатились и вышли из кафе. Стемнело. Сквозь пелену мелкого осеннего дождя виднелись желтые расплывчатые круги фонарей.
Мы вернемся осенью
Вымысел, основанный на фактах, имеет свойство со временем срастаться с ними настолько прочно, что вам остается только уверовать в него. В противном случае придется вместе с ним отрицать факты.Из разговора в автобусе
Глава первая
— Привет охотникам! Виктор с трудом стянул сапог и только после этого обернулся. Перед ним в дверях стоял Сергей Темных, следователь прокуратуры. Белоснежная рубашка, вишневого цвета галстук, под пиджаком жилетка, отутюженные брюки, заправленные, правда, в сапоги, — единственная уступка, на которую пошел щеголеватый следователь, отправляясь в тайгу. Сергей с неменьшим интересом рассматривал Виктора. — Ну, положим, одет ты... для тайги, хотя ватник, например, мог найти и поприличнее. А почему не брит? — Предупредить надо было, что сегодня приедешь, побрился бы, — буркнул Виктор. В солдатских защитного цвета брюках, в старом, латаном-перелатаном ватнике, в потерявшей вид не то кроличьего, не то кошачьего меха шапке — он выглядел полной противоположностью своему гостю. Донельзя обиженный этим контрастом, он, продолжая разуваться, размотал портянку и обнаружил, что носок порвался. Виктор снял его, задумчиво осмотрел и швырнул под кровать, окончательно расстроившись: запасных носков не было. — Совершенный маразм, — покачал головой Темных. Он положил свой чемодан на стол, порылся в нем и вручил Виктору пару шерстяных носков. После этого, подняв нравоучительно палец, продолжал: — Ты как работник уголовного розыска деградируешь, и этому, сколько я заметил, споспешествуют три условия. Первое — постоянное и преимущественное общение с преступным миром. Второе — дефицит свободного времени, мешающий тебе хотя бы в общих чертах ознакомиться с культурными ценностями, накопленными до тебя человечеством. Третье — иллюзия бесконтрольных властных полномочий. Я вообще на досуге иногда задаюсь вопросом: что с тобой было бы, если бы вдруг упразднили прокуратуру? — Если бы упразднили прокуратуру, у тебя было бы меньше досуга, только и всего, — прокряхтел Виктор, стягивая второй сапог. — Будешь дерзить — заберу носки обратно, — кротко заметил Темных. — А теперь расскажи лучше, как подвигаются наши дела. Виктор неторопливо переобулся, удобно устроился на койке и закурил. Темных терпеливо ждал. — Ну, что? По всему видать — приостанавливать придется дело. Во всяком случае, пока надеяться не на что. Днем с охотниками хожу по лесу, птичек фотографирую, ночью в засаде сижу. Баландин вокруг деревни мотается, хлеба надеется раздобыть, патроны наверное кончаются, документы нужны. Раза два ночью выходил из леса, да собаки его чуть не погрызли. — Почему? — А ты попробуй, не меняй белья в тайге полмесяца — тебя не то что собаки — жена близко к дому не пустит. — Я холостяк. Что ты намереваешься делать? — Это у Баландина надо спросить. Он, видимо, уже на последнем самолюбии держится. В тайге весна, есть ему нечего... Я тут между делом кое-какие справки навел — тебе для работы пригодится. Материалы в папке на столе. — Спасибо. А как ты тут вписался? Все еще в фотокорах ходишь или уже опять — старший лейтенант милиции? Виктор улыбнулся: — Уже подрядили доску Почета оформить. Имею также заказы населения на изготовление портретов. Жить можно... если бы не Баландин, — он повернулся лицом к стене и сонным голосом попросил: — Я посплю. Ты разбуди меня к вечеру, часиков в десять, а? Сергей взял папку с материалами и стал ее просматривать. Баландин в пьяной ссоре застрелил соседа и скрылся в тайге — вот и все дело, не считая нюансов. У Виктора одна цель — найти убийцу. Ему, Сергею Темных, требуется собрать и тщательно зафиксировать все доказательства вины Баландина для суда, когда его разыщут. Ведь все равно когда-нибудь да разыщут. — Например, к морковкину заговенью, — пробормотал Сергей, закрыв папку с материалами. Дело, однако, от этого страдать не должно. Любая мелочь может в суде сыграть решающую роль в поисках истины, и, если даже сама истина очевидна, в суде ее нужно все равно доказывать. На то и суд. — Начну-ка я, пожалуй, с сельсовета? — задумчиво спросил Сергей, глянув в зеркало и, получив от своего отражения утвердительный кивок, пошел одеваться. ...Виктор за время работы в управлении уголовного розыска изъездил большую часть края. Знал в лицо почти всех начальников милиции, следователей прокуратуры, не говоря об оперативниках. С Сергеем же познакомился только в этой командировке. У них сразу установились приятельские отношения, сдобренные изрядной долей иронии. Уже на оперативном совещании в окружном отделе милиции следователь привлек его внимание не то, чтобы аккуратным — праздничным видом. Со смешанным чувством удивления и обиды Виктор подумал тогда, что и ему никто не запрещал появиться в отделе таким же пижоном. Нет — привык быть сереньким. Однако с признанием достоинств следователя решил повременить до той поры, пока тот не заговорит. Темных же молчал, слушал начальника милиции, грузного, седоватого майора, излагавшего обстоятельства убийства и ход работы по розыску Баландина. — Поселок находится в 165 километрах от Байкита... по реке, — продолжал начальник, постукивая карандашом по столу. — Через два дня после происшествия вылетели туда вертолетом начальник районной милиции и старший инспектор угрозыска... — Почему через два дня? — спросил Голубь. — Погоды не было, — ответил вместо начальника Темных, а тот продолжал: — Однако за день до их прилета Баландину удалось проникнуть домой, взять припасов и снова скрыться, причем охотники пытались его задержать, и он, отстреливаясь, ранил одного из них. Сейчас там находится старший инспектор угрозыска. Пока вот четыре дня прошло — Баландин не появлялся. Есть мнение, что он ушел из этого района тайги и направился в сторону Байкита... — Чье мнение? — снова спросил Голубь. — Начальника Байкитской милиции, — поднял на него глаза майор. — С ним по рации из поселка разговаривал старший инспектор. Сказал, что бессмысленно сидеть в поселке. Просился в Байкит, — майор усмехнулся. — Дочка у него там родилась. Но версия в общем-то убедительная. Возле Байкита оленьи стада, совхоз там. А ему одному в тайге сейчас тяжело. Хлеба он успел взять — почему бы и не податься к Байкиту? — А дальше? — А дальше — на запад, к Енисею. Ну, и к вам — на магистраль. — Документы у него с собой? — Нет, — покачал головой начальник милиции. — Вот из-за этого я работника и держу в поселке. Без документов Баландину на людях не показаться. А ему ведь первое время хотя бы легализоваться надо. Документов же его дома не нашли. Скорее всего, мать спрятала. Обыск делали — бесполезно. — Ну, и что вы предлагаете? — спросил Виктор Голубь. Начальник пожал плечами. — В стадах все пастушьи бригады имеют рации. Появится Баландин — предупредят. Поселок контролирует наш работник. Остается ждать, когда у Баландина не выдержат нервы, или он... — Захочет кушать, — подсказал следователь, невинно глядя на Голубя. — Да, — невозмутимо подтвердил майор. — А вы предлагаете гоняться за ним по тайге? — он мельком оглядел отутюженного следователя и с едва уловимой иронией закончил: — Не рекомендую: он с пяти лет охотник. Снова наступила тягостная тишина. У Виктора зрели возражения по поводу позиции начальника милиции, но он терпеливо ждал, когда заговорит Темных. Судя по реплике, он тоже не согласен с планом розыска. — Разрешите? — Темных поправил ослепительный платочек, ровной полоской белевший в кармашке пиджака. — Позиция руководства отдела мне ясна. Закрыт район Байкита, закрыт поселок. Остается ждать, в каком из этих двух мест появится Баландин. Это зависит, как я понял, от запасов продуктов, которые он успел взять. — Там небольшой сидор у него был, — неохотно вставил начальник милиции. — Охотники говорили: краюхи две хлеба, картошка... Дня в три-четыре съесть должен... Если, конечно, не растянет. — Четыре дня прошло, — заметил Темных, — тем не менее, Баландин не появляется. Где же он может быть? — следователь загнул палец. — Первое: он охотник, знает угодья и расположение лабазов, а там всегда найдутся продукты. Сколько он таким образом может прожить, не привлекая нашего внимания? — Долго, — покачал головой начальник милиции. — Сейчас охотники вышли из тайги, сидят по домам. Может, ближние лабазы кто из них и посещает, а дальние — навряд ли... Темных загнул следующий палец: — Второе. Я недавно работаю на Севере, но мне кажется, что разговор байкитского инспектора по рации вряд ли составляет секрет для небольшого поселка. Это я к тому, что если в поселке известно мнение милиции о предполагаемом передвижении Баландина к Байкиту, то почему оно не может быть известным самому Баландину? У него там родственники, которым путь в тайгу не заказан — хоть днем, хоть ночью, так?! Я предполагаю это в качестве версии. Возможно такое? — Хм... возможно, — проворчал майор. — А если возможно, то Баландину выгоднее оставаться возле поселка, пока... — Темных с юмором взглянул на Виктора, — пока милицейское начальство не дозреет до принятия этой версии в качестве основной и не отзовет инспектора обратно в Байкит. И, наконец, — Темных помолчал. — Вашего сотрудника угрозыска все знают, в том числе и Баландин. И куда бы он ни пошел... — Что ж ему, оперативнику, по-пластунски ползать в поселке? — обиделся майор. — Это он, видимо, к тому, Иван Данилович, — перебил его Голубь, — что меня там никто не знает. Начальник посмотрел на него. Прищурился. — В шпионов играть будем? И кто нам это предлагает? Прокуратура? — Очень плохо, что прокуратура, — спокойно возразил Голубь. — Самим надо было догадаться. — Иван Данилович, — вставил Темных, — я не собираюсь навязывать своего мнения. Но ведь вы прекрасно понимаете: посижу я там неделю, допрошу людей — приостановлю дело. Если у вас нет других предложений, то... Баландин нам за это только спасибо скажет. — Действительно, Иван Данилович, — поддержал его Виктор, — давайте сейчас решать, что делать. А то ведь он, — Виктор показал на следователя, — приедет в поселок и, не будучи в курсе наших планов, всю малину... испортит. — Как бог свят, — весело согласился Сергей. — Я лицо официальное, притворяться не умею. Начальник покрутил головой, глядя то на одного, то на другого. — Это когда же вы спеться успели? Ну, хорошо. Только давайте отчетливее продумаем идею вашего... изобретения. Расшевелить, что ли, Баландина? — Создать видимость обстоятельств, которые притупили бы его подозрения, внушили мысль о возможности появления в поселке, — объяснил Голубь. Темных одобрительно кивнул ему, и Голубь продолжал, — пусть ваш инспектор еще раз обговорит эту свою версию об отсутствии Баландина с начальником, подтвердит ее какой-нибудь придуманной правдоподобной информацией — и тот отзовет его из поселка. Я же туда прибуду под видом геолога... — Геолога — это... — поморщился майор. — В такую рань геологу в тайге делать нечего. — Ну, журналиста, неважно... — Фотокорреспондентом! — подсказал Темных. — Фотокорреспондент приехал снимать виды. И привезти его должно нейтральное лицо, ну, там кто-нибудь из отдела культуры... — А в качестве провожатых в тайге попросить дать ему двух-трех охотников. Вот тебе и поисковая группа! Надежные кандидатуры мы выясним через тамошнего инспектора и тебе дадим, — майор взглянул на Голубя. — Годится? — Дня через два, — продолжал Темных, — подъеду я. Поселимся, естественно, в одном доме приезжих... — У них там нет дома приезжих. Ничего, подберем вам... чтобы подальше от глаз и вместе, — проговорил майор, делая пометку в блокноте. Он покачал головой. — В общем, конечно, до ЦРУ нам далеко, и фотокорреспондентская деятельность твоя продлится, на мой взгляд, не более трех-четырех дней. Потом тебя все раскусят. Но нам этого хватит. Если за это время Баландина не обеспокоят твои фотоэкскурсии и не соблазнит отъезд байкитского инспектора — а мы организуем ему пышный отъезд, — то... Либо его там нет, либо он все понял. Что до первого, то ты, я думаю, с охотниками в первые же дни разберешься. А если он все поймет... — Тогда Баландин вынужден будет уходить на Байкит, — пожал плечами Голубь. — Тоже неплохо. — Неплохо... — пробормотал майор. — Только кто же в поселке будет, пока ты по тайге шастаешь? Может, все-таки оставим инспектора, а? — Нет. Баландина нужно выманить из тайги. А для этого — убрать милицию из поселка. Пусть инспектор перед отъездом организует дневные дежурства охотников возле дома Баландина. Я думаю, мы с ним увидимся и обсудим это. — Ну, что же, — майор пожевал губами. — Диспозиция вроде обозначилась. Давайте рассмотрим технические детали... С совещания Сергей и Виктор вышли вместе. — Что же это ты, товарищ из управления, молчал? — поинтересовался Сергей, предлагая Виктору сигарету. — Это ведь тебе нужно было выступать, а мне слушать. — А у меня правило — не соваться со своими предложениями без особой нужды, — невозмутимо ответил Виктор, прикуривая. — Скажи спасибо, что тебя поддержал. И потом, чего ради я должен бить горшки с Иваном Даниловичем? Оно, как видишь, и без битья все закончилось... к обоюдному удовольствию. — Ну, ты... миротворец, как я погляжу. С чего бы это? — С того, — пожал плечами Виктор. — Может, я с Данилычем насчет рыбы договорился. Красной. Откуда ты знаешь? — Вот пижон! — изумился Сергей. — И много вас таких в управлении? Голубь поправил ему галстук и нравоучительно продекламировал: — Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Темных некоторое время смотрел на него, потом вздохнул: — Ладно. Пошли ко мне. У меня тоже рыба. Правда, не красная, да ведь ты же — с магистрали. И пелядке рад будешь... — Вот это другой разговор, — удовлетворенно кивнул Виктор. — С этого бы и начинал. А то «пижон», «миротворец»... Тоже мне, евангелие от Сергея.На другой день Виктор вылетел в поселок. Инструктор отдела культуры, молоденькая девушка, полдня водила его, показывая достопримечательности. Проклиная ее добросовестность, Виктор стоял на берегу Тунгуски, куда девушка привела его. По реке шел лед. — Вот погодите, река очистится через день-два, — объяснила ему девушка, — и вам обязательно надо будет съездить на мыс Пролетарского. Это недалеко. — Мыс... как вы сказали? — удивился Голубь. — Пролетарского, — повторила девушка. — Был такой человек. Погиб здесь в 1936 году. Неужели вам ничего не сказали в окружном отделе культуры? — Да, я, знаете ли... — промямлил Виктор. — Мы все больше насчет пейзажных снимков обговаривали... У меня тематическая командировка... целевая. Но я заеду на обратном пути в Байкит и все узнаю. Пролетарский... интересная фамилия. Он уныло подумал, что девушка вряд ли увидит его в Байките и сочтет трепачом. А жаль, девушка была красивая. ...За то время, пока Сергей не был в поселке, Виктор перезнакомился с охотниками, организовал несколько поисковых групп, которые под видом сопровождающих целыми днями прочесывали с ним тайгу. Недалеко от баландинского жилья, в спрятавшейся за оградой баньке каждую ночь выставлялась засада, о которой в поселке кроме Виктора знало два-три человека. Зато о другой, «скрытной» засаде, устроенной в дневное время в сарае возле дома Баландина, знал весь поселок. Виктор уже привык к жесткому режиму, почти не оставлявшему времени для сна. В поселке к нему привыкли, и никто, кроме посвященных, не сомневался в том, что с утра фотограф лазит с охотниками по тайге, днем запирается и проявляет свои снимки, а ночью спит. Правда, поговаривали, что командированный наповадился тайком бегать к воспитательницам (все четверо жили при яслях и были незамужними). Кто-то даже вроде видел, как он утром возвращался к себе, озираясь, как кот. Но, учитывая весеннее время, избыток в поселке женского одинокого населения, а также несерьезную профессию приезжего, — явного осуждения в адрес фотографа общественное мнение не высказывало. А Голубь, узнав об этом, был даже горд и пожалел, что недостаток времени не дает ему возможность подтвердить слухи. Иногда, перед тем как заснуть, он вспоминал то, что сказала ему девчонка из отдела культуры о Пролетарском. Он тогда удивился, потому что не мог сообразить, где слышал эту необычную фамилию. Несомненно псевдоним, причем оттуда, из тридцатых годов. Пролетарский, Первомайский, Веселый... Веселые, задорные фамилии. Где-то ему встречалась и эта. Но где, когда?..
Глава вторая
В январе 1937 года на станции Сиверская, недалеко от Гатчины, с поезда сошел невысокий человек лет тридцати. Круглое небритое лицо его выражало тоскливую озабоченность, он простуженно шмыгал носом и перекладывал из одной руки в другую небольшой деревянный чемоданчик. Выйдя из дверей вокзала, достал какую-то бумажку и принялся разбирать написанное. — Гражданин, предъявите документы! Человек вздрогнул от неожиданности и с готовностью полез в карман за паспортом. Этот паспорт милиция проверяла несчетное количество раз, и всегда все сходило, поэтому он не волновался. В чемодане у него были: паяльник, напильник, кусок олова, канифоль, немного сала и краюха хлеба. — Чем занимаетесь, гражданин Волхонкин? — спросил милиционер, продолжая изучать паспорт. — Я лудильщик, вот приехал по адресу... здесь написано... — он достал бумажку и показал милиционеру. — Ладно, можете идти. Милиционер взял под козырек, возвратил бумажку, паспорт и пошел на вокзал, лениво посматривая по сторонам. Волхонкин поглядел ему вслед, выругался шепотом и, подхватив чемодан, побрел прочь от вокзала. За этой сценой из окна пустого зала ожидания следили двое мужчин, по виду — проезжих пассажиров. К ним-то и подошел милиционер. — Говорит, по улице Либкнехта восемнадцать у какой-то бабки сторговался кастрюли чинить. Бумажку показал с адресом, — сообщил он тому, что постарше. — Если адрес случайный — будем брать вечером, — сказал тот, что постарше своему напарнику. Вечером Александр Волхонкин, он же Георгий Самарин, был задержан. ...В камере Самарин повалился на нары, закинув руки за голову. Видимо, теперь его повезут в Красноярск, может, в дороге будет возможность побега... В коридоре кто-то подошел к двери, заглянул в глазок. Проверяли. Нет, видать, отбегался. Теперь надо готовиться к очным ставкам. С Жернявским в первую очередь... Самарин вспомнил худого добродушного старика. Если бы не он, если бы хоть кто-нибудь другой, ну, Козюткин, что ли, — тогда бы еще оставалась слабенькая надежда. А теперь ее не было. Никакой надежды. Ничего не было. Одни воспоминания... Георгий Самарин считал себя везучим. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, семья переехала из Петрограда в Сибирь. Деревенские мальчишки, с которыми Георгий быстро и легко сошелся, смотрели на него — питерца — с почтением, и это наводило на мысль о некотором преимуществе. Когда ему, шестнадцатилетнему парню, предложили стать заведующим районной избой-читальней, Самарин снова понял это, как некое отличие его от своих сверстников. Ему хватало ума не обнаруживать превосходства над сверстниками, но про себя он считал их людьми второго сорта, неспособными выполнять роль, предназначенную для него. Правда, что это за роль, он и сам хорошо не представлял. Свое следующее назначение на должность секретаря сельсовета Георгий принял уже как естественное признание своих достоинств и очередную ступень, ведущую к этой самой неведомой еще, но значительной роли. Без особых усилий Самарин постиг свои новые обязанности, обзавелся массой знакомых, которым был нужен и полезен, при случае не отказывался от подношений, не отягощая себя оправданиями. Последнее время он, правда, стал все чаще испытывать раздражение — от глупых просителей, от их дурацких подарков, от мелких дел и обязанностей, на которые ему было в сущности наплевать. Он чувствовал, что полоса везения, по которой он привык с детства шагать, кончилась, а вожделенной роли так и нет. И именно это его угнетало, а не надоевшая канцелярская работа. Самарин прибыл в Байкит осенью тридцать пятого года. В райисполкоме он обратил внимание на высокого черноволосого парня его возраста. Тот, видимо, ждал приема: раза два коротко взглянул на Самарина, присел рядом на скрипучую скамью — ждать было скучно. — Откуда, товарищ? Самарину тоже надоело сидеть молча. — Из Красноярска по направлению. Вообще-то я ленинградец... — Что ты говоришь! Вот встреча, так встреча! Я тоже ленинградец... На Литейном жил, а ты? — Я не в самом Ленинграде — в Ораниенбауме. — А к нам на Север как попал? — Был избачом, потом секретарем сельсовета. Сейчас вроде как на повышение сюда послали. А тебя? — А его тоже на повышение, — раздался неожиданно чей-то голос. Самарин обернулся: позади с папкой под мышкой стоял невысокий с гладко обритой головой человек и, улыбаясь, глядел на них. Бритоголовый тронул легонько папкой Самарина, кивнул его собеседнику и, открыв ключом дверь, на которой было написано «Пред. Байкитского Туз. Рика Лозовцев», показал рукой — проходите. — Садитесь. Вы, как я понял, Самарин? Прошу извинить за подслушанный разговор, но свободной должности секретаря у меня нет. Пока... Кроме того, некоторые исторические и географические особенности развития нашего района требуют от советских работников определенного опыта работы именно в условиях Севера. Что? — Но мне говорили... — Первое время будете работать уполномоченным по заготовкам пушнины. Здесь вы быстрее познакомитесь с людьми, с системой нашего хозяйства — она имеет некоторые специфические особенности. Ваша задача — активизировать деятельность интеграла... — Какой интеграл! Товарищ Лозовцев, я не понимаю... Я же по направлению в ваш Рик... секретарем... — начал Самарин дрожащим от обиды голосом. — А я вас что — на Северный полюс посылаю? — Но ведь не секретарем... — Послушай, Самарин... как тебя зовут? — Георгий. — Так вот, Георгий, чего ты бузишь? Ты местный язык, обычаи знаешь? Ты задачи интеграла знаешь? Ну, каким ты сейчас будешь, к черту, секретарем Рика? Туз-рика! Знаешь, что это такое? Ту-земный районный исполнительный комитет! Лозовцев спросил Самарина о чем-то на непонятном языке. — Что? — растерялся тот. — Переведи, — кивнул Лозовцев его новому знакомому. Тот, улыбаясь, перевел фразу. — Понял? А ты мне говоришь «что». Как же ты будешь проводить на местах политику партии в отношении малых народностей Севера, если даже языка их не знаешь? Теперь посмотри на мое предложение. Ты знаешь, что такое пушнина? Это — золото. Валюта! Государственной важности дело. Нужно наладить учет, контроль за ее поступлением. И Советская власть это дело тебе доверяет, потому что видит — оно тебе по силам. Так какое право ты имеешь отказываться от этого поручения, а? — Лозовцев ткнул в сторону черноволосого парня: — А ты что молчишь? Скажи ему, прав я или нет! Кстати, вы незнакомы? Знакомьтесь! Это, Николай, наш новый уполномоченный по заготовке пушнины, Самарин Георгий... как по батюшке? — Васильевич, — пробормотал Самарин, немного ошалевший от такой напористости. — Но я же еще не... — А это, — не обращая внимания на его попытку возразить, продолжал Лозовцев, — начальник нашей Байкитской милиции, Николай Осипович Пролетарский. Он повернулся к парню: — На бюро твоя кандидатура утверждена, приказ о назначении подписан, согласие, вроде, имеется... — Да, согласие-то имеется, — вздохнул Пролетарский. — Вот опыта у меня не имеется. А опыт, сами понимаете, это... — И ты туда же! Опыт — это привычка быть битым. Судя по вашему поведению, этот опыт скоро у вас обоих появится. И довольно об этом. Послушайте меня, — Лозовцев обнял за плечи Самарина и Пролетарского. — Вы хорошие, умные ребята. Поймите — никто, кроме вас, сейчас не сделает эту работу. Привыкайте к ответственности. Через десять-двадцать лет вырастут другие люди — а вы что же? Всё в мальчиках будете ходить? Куда пошлют? Хороши строители социализма! Я вам даю дело, на котором вы можете себя попробовать. Как наша смена. Как будущие хозяйственные и партийные руководители. Как мужчины, в конце концов! Хотите узнать, на что вы годитесь? Пролетарский и Самарин молчали. — Ну, вот, — удовлетворенно произнес Лозовцев, — приятно слышать умные речи. Тогда — в добрый путь! Выдвиженцы вышли из Рика вместе. — Ну, как тебе прием? — поинтересовался Пролетарский. — Несерьезный какой-то мужик, — поморщился Самарин. — Нет, брат, не понял ты его. Мужик самый серьезный. Со Щетинкиным и Кравченко вместе воевал, еще тогда... против Колчака. — Что ты говоришь? — рассеянно произнес Самарин. — Точно. А потом здесь Советскую власть устанавливал. Первые кооперативные лавки организовывал. Его с тех времен эвенки так и прозвали — «красный купец». — Слушай, а что это он про интеграл какой-то говорил? Я в математике, знаешь... — Так я же и объясняю: он этот интеграл и организовал, ну — форма кооперации... форма объединения охотников для совместного пушного промысла. Интеграл снабжает охотников необходимыми товарами, продуктами, снаряжением, а они сдают добытую пушнину в интеграл. Тебе обязательно придется разобраться в этой конторе. — А куда денешься, — уныло вздохнул Самарин. — Георгий Васильевич, погодите минутку! К новым знакомым от здания райисполкома спешил по тропинке пожилой высокий человек в старом пальто и шапке-ушанке. С трудом отдышавшись, он отрекомендовался: — Жернявский Роман Григорьевич, главный бухгалтер интеграла. Вы Самарин, новый уполномоченный, верно? Настоятельным образом прошу вас остановиться у меня. Кстати, и вам будет полезно, ведь никто лучше меня не расскажет о будущей вашей работе. Наконец, я выполняю поручение председателя Рика — он поручил мне взять заботу о вас. Так что — не откажите, Георгий Васильевич. Я тут недалеко живу. — Ну и напористый народ здесь у вас, — проговорил Самарин Пролетарскому. — Этак вы меня к вечеру жените, а завтра я при таких темпах папой стану. — Очень даже спокойно, — согласился тот и повернулся к Жернявскому. — А меня что же не приглашаете, Роман Григорьевич? — Николай Осипович, боже мой, да за честь почту́! — воскликнул Жернявский. — Мне просто неудобно было делать это по некоторым, известным вам, вероятно, соображениям. Но я давно тешусь тайной надеждой затащить вас к себе. Еще когда вы приезжали по делу о хищении соболей, помните? Мы еще с вами тогда дискутировали о политике... Словом, я скоро вернусь, так что идите ко мне и ждите. Жернявский церемонно поклонился и направился мимо них по тропке. — Ну, что, гульнем? — ткнул Самарин Пролетарского в бок, — обмоем вступление в должность? Пролетарский помялся, потом махнул рукой: — Была не была! Ленинградцы сюда не каждый день едут. — А что это он тебе про какие-то соображения намекал? — заинтересовался Самарин, когда они направились к дому бухгалтера. — Ха! Знаешь, кто он? — Кто? — Контрик. Бывший поручик колчаковской армии. — Но-о! — Вот и «но». Мы как встречаемся — сразу в топоры. Но что у него не отнимешь — никаких провокаций не допускает. Видишь — даже в гости не приглашал, боялся мне повредить. — Слушай, я тебя спросить хочу — не обидишься? — Самарин искоса глянул на собеседника. — Что это у тебя фамилия такая? Псевдоним? — А чего обижаться, — усмехнулся Пролетарский. — Я в восемь лет осиротел. Ну и крутился между добрых людей. У всей нашей слободы в родственниках ходил — я ж фабричный. Так и звали все — Колька Пролетарский. Потом уж, когда документы получать стал — выправил себе эту фамилию. Привык к ней. По отцу-то я Осипов. Жернявский пришел, когда друзья уже приготовили немудреный стол, растопили печь и немного прибрали в комнате: старик жил одиноко и не особенно заботился о порядке. Самарин посмотрел лежащие на подоконнике книги: старую подшивку «Красной Нивы», «Два мира» Зазубрина, церковные книги — библию, евангелие. — Интересуетесь библиотекой? — спросил Жернявский, вытаскивая из старой сумки хлеб и две заиндевевшие бутылки водки. — Да, были когда-то книги-книжечки. Отец у меня любитель... земля ему пухом, приохотил читать. Прошу к столу. Все расселись. — Ну, по праву хозяина — за знакомство! Выпили. Помолчали. — Роман Григорьевич, — нерешительно спросил Самарин, — извините, вы верующий? — Это вы библию увидели, — улыбнулся Жернявский. — Нет, стопроцентный атеист, уверяю вас. Но религиозные книги держу и перечитываю. Оч-чень любопытные книги. Христианское учение не может не заинтересовать хотя бы потому, что этот общественно-политический феномен пережил несколько социально-экономических формаций, практически не меняя своей сущности. Судите сами: столько событий прошло, гибли и возрождались государства, а эта по виду простенькая сказка о сыне плотника из Назарета продолжала покорять людей. Ведь кажется, по всем законам учение должно было устареть, подвергнуться моральному износу, нет — живет! И, что характерно, христианское учение удовлетворяло не только разные исторические эпохи — оно удовлетворяло и разные классы. Вот, не угодно ли? Жернявский потянулся к окну, взял книгу в темном переплете, пролистал несколько страниц и прочел: — «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Ну, велика ли мудрость? А ведь до Христа были разумники посильнее. С Сократом, например, не сравнишь. Так почему же проповедь именно его — бедного, полуграмотного еврея — стала молитвой царей и рабов, мудрецов и вступающих в жизнь молодых людей? На мученическую смерть шли с этой молитвой! Две тысячи без малого лет помнят люди все, что он говорил. Ну, скажите, Николай Осипович, вот вы скептически улыбаетесь — скажите мне по чистой совести: легла ли в сокровищницу человеческого разума какая-нибудь другая мысль, которая вот так же покорила бы людей? Пролетарский, покачиваясь на стуле, весело ответил: — Покорила — не знаю. А вот чтобы людям глаза открыла... — Это все равно... Нуте-с! — «Пролетариату нечего терять кроме своих цепей — приобретет же он весь мир». Жернявский с книгой в руках, торжествуя, подошел к Пролетарскому. — Цитирую. Евангелие от Матфея. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Каково сказано, а? Две тысячи лет назад — и прямо к сегодняшней встрече нашей! Самарин расхохотался и хлопнул Пролетарского по плечу, он заметно опьянел. — Вот это удар! Лежи, Николай, не брыкайся. Нокаут! Пролетарский отбросил руку и встал. — Ну, положим, не нокаут. Можно вопрос, Роман Григорьевич? — Извольте, извольте. — Скажите, вот вы сейчас восхищались мыслями о кротости духа, о спасении души... Так? — Так. — Вы, как будто, разделяете эти мысли? — Да, но, повторяю, не все учение. В бога я не верю. — Не в этом дело. — А в чем же? — А в том, что лет двадцать назад у вас на этот счет была иная, прямо противоположная точка зрения. Так? — Николай, зачем ты это? — Самарин тронул его за плечо. Пролетарский, не обращая на него внимания, продолжал: — Уж простите, но нелогично получается: вы ведь в восемнадцатом году руководствовались не евангелием от Матфея, а приказами Колчака, верно? — Прекрати, Николай! — Самарин сделал попытку встать. — Замолкни! А когда вам, Роман Григорьевич, кузькину мать показали, вы и нашли себе в утешение сокровищницу эту. — Пролетарский ткнул пальцем в евангелие. — А что делать оставалось, если вам Красная Армия зубы вырвала? Кусаться-то нечем! — Ну, зачем, зачем ты так! — отчаянно простонал Самарин. — Что тебе тут — комсомольское собрание? Пришли же выпить, посидеть. Неужели нельзя без этих... без этого... горлодерства часа прожить! — Горлодерства? — Пролетарский недоуменно взглянул на Самарина. — Ты что — грибов поганых наелся? Не понимаешь, о чем речь? Так все на свете пропить можно... — Друзья, друзья! — Жернявский поднял руку. — Ради бога... Николай Осипович, Георгий Васильевич... Я вовсе не нуждаюсь в вашей защите. Ничего же не произошло. Никто никого не обидел. И спор очень интересный. Не надо только между собой ругаться. Я отвечу вам, Николай Осипович. Да, я воевал против Красной Армии. Да, выполнял военные приказы. Правда, не самого Колчака, а генерала Анатолия Николаевича Пепеляева — я у него служил. — Роли не играет, — зло ответил Пролетарский. — Определенную роль играет, — мягко возразил Жернявский. — Если вы интересовались этим вопросом, военные во главе с командующим войсками Енисейской губернии Зиневичем написали в 1919 году письмо Колчаку, в котором требовали передать всю власть ему, Пепеляеву. Если бы Колчак сделал это — возможно, все сложилось бы по-другому. Пепеляев был коренной сибиряк, его любили солдаты. Пепеляева поддерживала вся интеллигенция, эсеры... — Да какое это сейчас имеет значение, что вы разговор-то в сторону уводите! Слава богу, историю я знаю. «Интеллигенция, эсеры...» Вы мне еще про опричников расскажите. Речь-то о вас идет, а не о вашем любимом генерале. Вот и скажите мне честно, без уверток: вы лично жалеете, что история не так пошла, как вам бы хотелось? Жернявский помолчал, машинально листая книжку. — Жалею, Николай Осипович. — Так что же вы Иисуса Христа мусолите? Мозги людям пудрите? — Видите ли, Николай Осипович, истории ведь все равно, что перед ней снимают — шляпу или голову. По здравому размышлению я предпочитаю снять шляпу. Вы верно заметили: кусать-то мне нечем, зубы у меня все вставные. Опять же катар желудка... Нет, в контрреволюционеры я не гожусь. Я обыкновенный старый, пошлый мещанин, который хочет одного — покоя... В дверь постучали. Жернявский встал. — Пойду, открою. Только прошу вас, друзья мои, — не ругайтесь. Ну, пусть я буду паршивая, облезлая контра, которую нужно уничтожить как класс. Только вы между собой не ссорьтесь. Это Север — здесь все должны быть друзьями, иначе не выживете. Уж поверьте мне. Жернявский вышел. Пролетарский помолчал, затем подошел к Самарину. — Ладно. Поручик прав. В конце концов, встрече это вредить не должно. Мир, а? Самарин посопел носом, видимо, хотел покуражиться, но махнул рукой: — Черт с тобой, мир. Только не митингуй больше. Куда годится, — старик в гости пригласил, а его чуть к стенке не ставят. — Не буду, — усмехнулся Пролетарский, — пей свою водку спокойно. — А у нас гостья! — раздался голос Жернявского. Он появился в комнате с девочкой лет четырнадцати, черноволосой, с раскосыми глазами, в пальто нараспашку. — Знакомьтесь, друзья. Это Иркума Дюлюбчина. Она пришла по очень важному делу. Говори, Иркума. Девочка, смущаясь, стала объяснять: — Мы в школе собираем библиотеку. Уже шестьдесят книг собрали... Вот. Может у вас есть книжки? Ребята в школе очень хотят иметь свою библиотеку. — Конечно, поможем! Поможем, друзья? Жернявский достал с подоконника «Красную Ниву» и роман Зазубрина. Посмотрел на библию. — Держи, дружок. Церковные книги ребятам ни к чему. Они хороши для старости, да и то не всегда, как меня в этом только что убедили. А вот эти будут в самый раз. Самарин виновато развел руками: — А у меня ничего нет. Иркума взглянула на Пролетарского. — У вас тоже ничего нет? — Есть... только не здесь. У меня в милиции Джек Лондон есть, три тома. Если хочешь, я принесу. Ты ведь в школу идешь? Я тебя провожу, мне все равно по дороге. До свидания, Роман Григорьевич, счастливо, Георгий. Иркума и Пролетарский ушли. Самарин выразительно посмотрел им вслед. — Да-а... Начальник милиции у вас действительно... Пролетарский. — Ничего, ничего, — успокоил его Жернявский, — это знакомство полезно. Приятель начальника милиции — да вам на страшном суде бояться нечего будет! Зря только вы с ним ругаться стали. Ничего, можно списать на молодость. В другой раз будьте осторожнее — с должностными лицами этой категории надо держать ухо востро... Кстати, ваша должность тоже не без преимуществ. — Ох, не напоминайте мне про нее, — поморщился Самарин. — Всю жизнь мечтал по тайге мотаться. — Экое горе, — зевнул Жернявский. — Помотались бы с мое. А вы хоть знаете, что такое пушнина? — Знаю. Уведомили. «Валюта»... «золото»... — Послушайте, Георгий... нет, лучше Жорж — можно мне вас так называть? — Валяйте. — Я буду говорить откровенно. Я вас очень мало знаю, но вы производите впечатление неглупого молодого человека. Так вот, полагая вас таковым, для справки хочу сообщить, что господин Колчак, в симпатиях к коему упрекал меня Николай Осипович, в свое время продал, отдал... что там еще... подарил девять с лишним тысяч пудов золота американцам, французам, японцам, чехам. Вдумайтесь в цифру — девять тысяч! И только поэтому, именно поэтому полтора года царствовал. Не верьте никому, если скажут о других причинах. Золото — вот причина. Самарин усмехнулся. — Что это у нас сегодня только разговоров, что о Колчаке? Ну, растранжирил он девять тысяч пудов. Так его уже шлепнули давно. И золота нет. Или вы знаете людей, которые... — Знаю, — тихо ответил Жернявский. — Серьезно? Уж не здесь ли они, в Байките? — Именно. — Так пойдемте к ним, к этим миллионщикам — может, поделятся, — Самарин развеселился от этой мысли. — А они здесь. — Это вы, что ли? — недоверчиво спросил Самарин. — В какой-то мере, да. Но в первую очередь — вы, Жорж. Самарин молча смотрел на собеседника, не понимая. Что-то случилось в их разговоре. Жернявский смотрел ему в глаза и ни тени добродушия не было в его взгляде. — Вы, в силу своих новых обязанностей, Жорж, будете контролировать сдачу пушнины в интеграл. А пушнина — это золото. Понятно? Самарин встал, обошел неподвижно сидящего Жернявского. — Та-ак. А вы смелый человек, Роман Григорьевич. И последствий не боитесь? — Я ничего не боюсь, милый Жорж. Как-то мне пришлось сидеть несколько дней в камере смертников. После этого мне уже нечего бояться. — А если я... расскажу все нашему общему другу, Николаю Осиповичу? Жернявский поднял палец: — В свое время канцлер Бисмарк сказал: «Глупость — дар божий, но не следует им злоупотреблять». Что касается вашего заявления, то вы можете привести его в исполнение. Только выгоды вам никакой не будет. Это первое. — А второе? — Второе... — Жернявский подошел к Самарину сзади, осторожно положил ему руки на плечи. — Я достаточно пожил, Жорж, поверьте мне. Сколько вы собираетесь здесь оставаться? Год, два, пять? Ездить в тайгу, мерзнуть в чумах и пить водку со старым, желчным бухгалтером? Спорить с Пролетарским о путях развития нового общества обезьяноподобных? А потом? Я скажу вам, что будет потом. Вы состаритесь, у вас выпадут зубы, как у меня, но я-то успел вставить на магистрали искусственные, а вам придется терпеть. Затем вы замените меня на посту бухгалтера. А потом женитесь, наплодите детей. И все? Прекрасная жизнь, не правда ли? Но ведь есть другая жизнь. Веселая, беспечная, с умными друзьями, очаровательными женщинами. Я знаю, у меня была такая жизнь. Я знаю, я жил, — он помолчал и тихо добавил: — И еще буду жить. Взглянул на Самарина и теперь уже громко и весело закончил: — Для этого нужно совсем немного: мужество, предприимчивость. И — умение молчать, — он подошел к Самарину. — Что — испугался? Эх, Жоржик! Через год где-нибудь в Крыму, а может, чем черт не шутит, и в Швейцарии вы будете смеяться над своими сегодняшними сомнениями. И эта грязная нора, морозы, ваша работа — покажутся вам тифозным бредом. Ну что, по рукам? Самарин внимательно смотрел на старика. — Вы, Роман Григорьевич, оказывается, не только смелый, но и умный человек. — Да уж... не дурак, — хмыкнул бухгалтер.Глава третья
Сергей вернулся поздно, растолкал Виктора и, когда тот сел на койке, сказал: — Я иду с тобой. — Куда? — сонно посмотрел на него Виктор. Зевнул, разыскивая рубашку, и пробормотал: — Тогда давай уж заодно и воспитательниц прихватим. — Каких воспитательниц? — не понял Сергей. — Есть тут... Холостячки. — Ты... что? — вскипел следователь. — Да не сердись, — махнул рукой Голубь. — Это я так. Пошли, конечно. Только, это... Не дай бог, Баландин придет — не суйся вперед, ладно. И слушай меня. Дискутировать там некогда будет. — Я, между прочим, вооружен, — обиделся Сергей. — Нечего из себя майора Пронина корчить. — Я не корчу, — неохотно проговорил инспектор, затягиваясь ремнем, — только ведь, кажется, ясным уговор был: я занимаюсь своим делом, ты — своим. Сколько я знаю, следователи в засадах не сидят. — Старый опер учит несмышленыша из прокуратуры, — покачал головой Сергей. — Для справки старому оперу: дело находится в моем производстве, я его еще не приостанавливал, понял? А ты тут для оказания практической помощи, то есть юридически к делу отношения не имеешь. Пришей — пристебай. И если я иду с тобой на задержание, не в какую-то там засаду, а на задержание... — Ладно, пошли, — махнул рукой Голубь. Они прошли уснувшим поселком. Подмораживало. Изредка взлаивали собаки. Виктор и Сергей огородами вышли к крайней избе, одиноко черневшей на фоне леса. Тихо открыли дверь. В избе было темно. — Корнилыч, — шепотом позвал Виктор. От окна отделилась фигура. — Это следователь из прокуратуры, познакомься. Темных ответил на рукопожатие, нашарил табуретку у окна и сел. — Ну, что, Виктор, долго еще? — спросил Корнилыч. — Его ведь нет, Котьки-то Баландина. — Если б точно знать, что нет, — вздохнул Голубь. — Иди, брат, отдыхай, у меня сегодня напарник будет. — Попомни мое слово, нет его здесь. Вот увидишь, пойдет он к лабазу Батракова, возьмет там крупы, прочего провианту и подастся куда-нибудь. — Съездишь к лабазу. Шуга не сегодня завтра пройдет — и съездишь. А засаду будем пока держать. Зря он, что ли, здесь крутится? — Что же он, по-твоему, не знает про засаду? — Милиции в поселке нет, — стал перечислять Голубь, — брат его из поселка не выходил, мать тоже. Сейчас ему, по-моему, самое время прийти... — Что же он не идет? — Откуда я знаю? Мучается, сомневается. Следы же видели мы с тобой в лесу... Иди, Корнилыч, спать. Гадать до утра можно, а нам утром в тайгу. — Кто это? — спросил Сергей, когда человек ушел. — Охотник, — ответил Виктор. — Внештатный инспектор у Сыромятова, ну, байкитского оперативника. Хороший мужик. Сыромятов меня с ним свел, а Корнилыч помог мне группу поисковую сколотить. Без него мне туго бы пришлось.Охотники-то не очень были довольны. — Что так? Виктор усмехнулся: — По его рекомендации выбрал я несколько человек, встретился с ними на квартире у того же Корнилыча. Ну, и раскрылся: дескать, так и так, мужики, помогайте. Ну, они, конечно, согласились: мол, сколько можно терпеть такое! Бабы боятся по надобности в огород выйти из-за этого Котьки. Сделаем все, как скажешь, только ты как власть выдай разрешение. Какое разрешение, спрашиваю, по надобности на огород ходить? Разрешение, говорят мужики, что, если во время поиска увидим Баландина, — чтобы можно его стрелять. — Вроде лицензии? — удивился Сергей. — Вот-вот. Тогда, говорят, мы его в два счета представим. Я говорю, нельзя стрелять. Его судить надо. Ну, плюнули они, ищи, говорят, сам, нам помирать неохота. Вот тут Корнилыч и выступил. Убедил. — Разумный человек. — Еще какой разумный. Мне Сыромятов рассказывал, как с ним познакомился. Здесь несколько лет назад кража была. Лисьи шкурки с фермы пропали. Ну, Сыромятов осмотрел все это дело — ничего. Метрах в ста от тропинки на ферму следы уходят, старые, снегом присыпанные. Бог знает, кто прошел, когда, куда... Мало ли их. Вечером Сыромятов сидит в избе, тоскует, — он заходит, Корнилыч. Пошли, говорит, гулять. Повел его к этим следам, стал учить: сверху след снегом присыпан — значит, метель три дня назад была. Велел ему ладошкой след попробовать, а под наметенным-то снегом след твердый — лед. Стало быть, говорит, человек в оттепель прошел, перед метелью, это как раз три дня назад. Заставил шаг измерить: шаг короткий — человек маленький. Провел по следу, в кустах примерзший клок пуха нашел от шкурки. И так постепенно сообразил Сыромятов. Утром задержал парня, шкурки изъял. А все по следам... На улице залаяла собака, другая, третья... Сергей встревоженно взглянул на Виктора: — Баландин? Виктор прислушался. — Нет, собаки с ума бы сошли. Лениво лают, но что-то больно целеустремленно... Он снова замолк, вслушиваясь в заливистый лай. — Нет, почудилось... Я вот думаю, — проговорил Виктор, когда собаки успокоились, — наворотили мы тут с тобой, а он, Баландин, на все наши комбинации плюет. Я понимаю, нужно, чтобы это до него дошло, сделать скидку на психику... А вдруг промазали мы, а? Вдруг он на Байкит решил податься или, вот как Корнилыч сказал, — к лабазам? — А ты на что тут со своими следопытами? — Мы нашли вчера кострище старое, трех-четырехдневной давности. Но там, видишь, снег, земля... Трудно определить давность следов. Снег весенний, почти лед. Остался один непроверенный район и все... — А как охотники к нему относятся? — Ты знаешь — по-разному. Корнилыч — тот при одном его имени стервенеет. А некоторые... Вот Корнилыч, например, каждый раз грозится: найдем Котьку, и, если шевельнется при нашем виде — стреляю. А один парень тут его уел. Спросил: а что же ты его раньше не стрелял, когда он у нас в поселке жил? И объясняет: не мог же человек враз гадом стать. То есть, сегодня, например, свой брат, а завтра — зверь, которого надо убить. А? — Это ты меня спрашиваешь? — удивился Сергей. — Тебя. Дело-то в твоем производстве — ты и объясняй. — Гляди-ка, — покачал головой следователь, — а ты злопамятный. Ну, что ж, отвечу. Пить меньше надо, друг мой. Вот не накушайся он тогда — не было бы этой ссоры, убийства... — И был бы гражданин Баландин примерным строителем нового общества, так что ли? — Если юмор твой нехороший убрать, то в общем — так. — А скажи-ка, мой непьющий друг, как же тогда отличать прикажешь в нашем обществе порядочных людей от непорядочных, хороших — от потенциальных преступников? По количеству выпитого? Кто после первой рюмки за ружье не хватается, тот свой, что ли? — Во-первых, непорядочный человек — не обязательно потенциальный преступник. Можно быть безнравственным, не переходя рамки закона. А, во-вторых, — это ведь не я, а ты должен отвечать. Это ведь не я, а ты как работник органов внутренних дел занимаешься выявлением лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений. И, кстати, — Сергей ехидно похлопал его по колену, — предупреждением и пресечением их противоправной деятельности. Так что тебе и карты в руки. — Ничего не понял, — вздохнул Голубь. — А еще образованный человек, интеллигент. Вот и все наши беды милиционерские оттого, что даже такие светлые умы, как твой, не видят проблемы в нравственной деградации личности, не ищут и даже не пытаются искать причин этой проблемы. Чесание в затылке начинается тогда, когда эта личность созрела для преступления. Да и то все быстренько разрешается звонком в милицию — алло, приезжайте, тут у нас трупик. И все. Проблема снята. До следующего убийства. — Однако! — Темных уставился на приятеля. — Чего ты тут в этой баньке прозябаешь? Какого-то Баландина сторожишь? Тебе, брат, давно в Москву надо. В институт, на руководящую работу... — Ты не ответил на вопрос, — заметил Виктор. — А что отвечать? — пожал плечами Сергей. — Делай свое дело. В любой отрасли человеческой деятельности найдутся противоречивые вопросы, которые нельзя снять сию минуту. Ну, к примеру, сохранение природы и развитие промышленного производства. Но если директор какого-нибудь леспромхоза начнет объяснять причину невыполнения плана тем, что ему жалко рубить елочки... — С тобой ясно, — махнул безнадежно рукой Виктор. — А что ты-то предлагаешь? Сам? — Я ничего не предлагаю. Я — власть исполнительная. — Тогда ты тоже не подарок. Скажи, пожалуйста: такой размах в постановке проблемы — и такая скромность в вопросах ее реализации. Сергей пошарил в карманах. — У тебя сигареты есть? — Баландина хочешь пригласить на диспут? — Да я осторожно, вон — в угол отойду. ...Так они просидели до утра — то споря яростным шепотом, то добродушно подтрунивая друг над другом, то напряженно слушая тревожную темноту. Изредка Голубь, бесшумно открыв дверь, осторожно подходил к забору, отделявшему их от дома Баландиных, и подолгу стоял, вглядываясь в него. Под самое утро, сменяясь, подремали немного. И только когда в предутренних сумерках Голубь увидел, как к старому сараю прошествовали охотники из «легальной», дневной засады — только тогда они снялись и так же, как накануне вечером, огородами вернулись к себе. ...Пока Сергей разогревал тушенку и заваривал чай, Виктор задумчиво смотрел на него. Потом вздохнул: — Завидую я тебе. — А ты переходи к нам работать, — подмигнул ему Сергей, хлопоча у сковородки с тушенкой, — всю зависть как рукой снимет. — Я не в том смысле. Работа, она везде работа, что тут завидовать. — Тогда в чем дело? — Я говорю, вот ты приехал — в галстуке, в троечке, наверное, еще и нейлоновая рубашка лежит в бауле. — Лежит, лежит, к свежим рубашкам привык: мать любила одевать меня чистенько... Кстати, а почему Сыромятов не допросил мать Баландина? Виктор посмотрел на Сергея и произнес: — И тебе не советую пока этого делать. — Даже так? Сергей поставил на стол сковородку, пододвинул ее Виктору. — Ну-ка, ну-ка, разъясни! — Он ее как-то встретил в магазине, в первые дни, и попросил подойти в сельсовет, вежливо попросил. И вот эта старуха берет костыль, у нее ревматизм или еще что-то с ногами, — так вот, она берет костыль и налаживает им Сыромятова по шее, а после этого начинает кричать, что он хочет убить ее сына и что ей плевать на него, ну, и еще там всякие слова... Словом, отобрал он костыль, которым она махала, и прекратил этот разговор. — Храбрая старуха, даром что без ног, — одобрил Сергей, выгребая тушенку со сковородки. — Да! — Виктор со злостью ткнул вилкой. — Когда надо, она расчудесно обходится без костылей. — Не понял, — заинтересованно взглянул на него Темных. Виктор закурил. — Ты же знаешь, что Баландин уже приходил домой. И засада была за день до приезда Сыромятова. Корнилыч, когда они по рации передали об убийстве, организовал мужиков стеречь ее дом, чтобы Котька припасов не набрал да не ушел от нас. А он — точно, в первую же ночь и пожаловал. Ребятам бы подождать, пока он на крыльцо выйдет, а они зашумели, мол, попалась, птичка, стой! Вылезают, кто откуда и давай кричать: «Выходи!» И вот появляется на крылечке старуха без костылей, заметь, а за ней — Баландин. Он кладет свою «тозку» на плечо матери и как ахнет из нее — у Корнилыча шапку сбил. Как ахнет еще, одному в ногу попал — мужики врассыпную. А он, подлец, за материнской спиной на улицу выбрался и махнул в лес. Старуха же стоит на дороге, в мужиков комья земли швыряет и ругает их последними словами. Так и ушел Баландин. Вот тебе и ревматизм! Ну, ладно, собирайся, пошли. У меня сегодня интересный должен быть день. — Что так? — Я же говорил — последний участок у нас непроверенный. Видишь ли, из поселка две дороги. С любой сопки их видно, и вообще весь поселок как на ладони. Я ведь в фотографах хожу на случай, если у Баландина в поселке связь есть. А в лесу весь этот театр ни к чему. Мы тут за эти дни так натоптали, что и козе понятно, зачем ходим. Если Баландин нас видел и не ушел — сегодня должны встретиться... или его лежбище найти. Я и решил взять его брата Вальку. Хороший парень, но ленивый — спасу нет. Если утром штаны забудет застегнуть — так весь день с открытой форточкой и проходит. А в остальном ничего — тихий, ласковый. Не в братца пошел... да и не в мать. Думаем с Корнилычем на случай встречи пустить его на переговоры с Баландиным. Может, тот действительно от мужиков боится пулю получить, поэтому не выходит, кто знает... Они направились к сельсовету. Деревянный тротуар, покрытый утренним инеем, поскрипывал под ногами. Солнце вставало из-за сопки, отражаясь золотыми молниями в окнах домов. Предутренняя тишина постепенно сменялась резкими и чистыми голосами сельского утра: где-то послышался стук топора, замычала корова, в ответ дружно забрехали псы. Заскрипели калитки — на улице начали появляться люди. — Гляди, — ткнул Виктор Сергея, — вон, возле палисадника мать Баландина. Через дорогу от них возле дома стояла старуха, опираясь на костыли. Она смотрела на них пристально, не мигая. Рядом на скамейке сидел плотный парень лет двадцати и лениво грыз семечки. Заметив Виктора, встал и, сказав что-то старухе, направился к ним. — Ну, что, Валя, готов? — спросил Виктор. — Ага, — кивнул тот и улыбнулся: — Мать только ругается. — А ты знаешь, Виктор, — вдруг решил Сергей, — я, пожалуй, пойду с ней познакомлюсь. Как, Валя, — обратился он к парню, — можно с твоей матерью познакомиться? — Не знаю, — покачал тот головой. — Она не любит тех, кто из милиции. — Я из прокуратуры. — Это одно и то же, — махнул рукой парень. — Вы ведь ищете моего брата. Как и он, — парень кивнул в сторону Голубя. — Этот? — удивился Темных. — Фотограф? — Так говорит мать. — А ты что думаешь? — Ничего не думаю. Виктор Георгиевич мне все рассказал. — А ты все передал матери? — Зачем? Я не баба. У меня своя голова. У матери своя. — Как ее зовут? — Антонина Афанасьевна. Сергей, аккуратно обходя лужи, покрытые тонким ледком, перебрался на другую сторону улицы, подошел к женщине и, сняв шапку, что-то сказал. Та резко ответила ему, ткнув костылем в сторону. Сергей помахал Виктору шапкой, иди, мол, а сам снова стал что-то говорить старухе. Возле сельсовета, куда с Валькой подошел Виктор, стояло человека четыре охотников. Тут же озабоченно прохаживался Корнилыч. — Ну, что, товарищи, пошли? Только давайте определимся, — поздоровавшись, начал было Виктор. — Погоди, Георгич, — прервал его Корнилыч и обернулся к Валентину: — Валька, иди, побудь пока в конторе. Иди, говорю, нечего тут... — Зачем же, — остановил его Виктор. — Он с нами пойдет, стало быть, должен знать, как и что. Пусть остается. Значит так: сегодня прочесываем северный участок до болота. У меня к вам прежняя просьба: во время поиска оставаться в пределах видимости друг друга. О любом подозрительном следе или другом признаке присутствия Баландина информировать меня. В случае, если по следам или каким-то другим приметам будет ясно, что Баландин недалеко, все должны укрыться. Мы с Валентином начнем переговоры. Дальше — по обстановке. Без моего сигнала оружие не применять, даже если Баландин откроет огонь. В случае стрельбы целить только в ноги... Все. — Нет, не все, — выступил вперед Корнилыч. — Ты как хошь, может Вальке и надо было открыться — не знаю, твое дело. Но я так скажу: Валька пойдет впереди всех. И ежели, упаси бог, Котька обозначится... — Об этом не надо, Корнилыч, — перебил его Виктор. — Нет, надо! — отрубил тот. — Ты, я говорю, себе как хошь. Котька нас не жалел. Хорошо, Пашке пуля по ноге скользом прошла. Хорошо, у меня дырка в шапке от Котькиной пули, а не в голове. Котька нас не жалел! — Корнилыч густо посопел носом и заключил, обращаясь к Валентину: — Пойдешь впереди, понял? Виктор посмотрел на охотников — те молчали, переглядываясь, но чувствовалось, что они согласны с Корнилычем. — Ладно, — согласился Виктор, — пусть идет впереди, — и вдруг, что-то вспомнив и развеселившись, повторил: — Пусть идет впереди. Только объясни мне, ради Христа, где у нас будет перед и где зад. Баландин — это ведь тебе не Серафима Егоровна. Как бы опять ошибки не произошло... От дружного хохота охотников бродивший неподалеку петух метнулся от них на середину улицы и ошалело заорал. Виктор намекал на известный всем конфуз, приключившийся с Корнилычем в молодости, когда он только-только приехал в поселок. Как-то, охотясь на коз, он заблудился и на исходе третьих суток, голодный и измученный, услышал метрах в двадцати в кустах какую-то возню, вздохи. Подобрался поближе, пригляделся — вроде, коза. Во всяком случае — не медведь. Тихонько так ворочается, видно, кору объедает. Задом к нему стоит, а больше ничего не различить — темно еще. Приложился Корнилыч и выстрелил. Ответом был истошный визг, от которого он похолодел. Махом одолел он эти двадцать метров и похолодел еще больше: он стоял на задах поселка, дорогу к которому искал двое суток, а от него по огороду к дому бежала в одной рубашке Сима, его квартирная хозяйка. Двадцать лет после этого хохотали над Корнилычем... Просмеявшись со всеми, Корнилыч махнул рукой: — Ладно, пусть с тобой идет. ...Они обнаружили след Баландина через час. Посовещавшись, охотники пришли к выводу, что след ночной. Выставили вперед Валентина и двинулись дальше. Виктор настороженно посматривал по сторонам, Баландин действительно мог быть где угодно — справа, слева, сзади... Лес, казавшийся несколько минут назад по-весеннему приветливым, стал вдруг угрюмым и враждебным. Рыхлый, комковатый снег неожиданно проваливался, и нога уходила в воду. Глаза машинально замечали вздрогнувшую ветку, вспорхнувшую птицу, и Виктор чувствовал, как в груди разливается неприятный холодок. Он догнал Корнилыча. — Ну, что? — Быстро идет, — проговорил тот, поглядывая то на след, то на идущего рядом Валентина. — Торопится. Я так понимаю: постоял он на горе, возле поселка, спуститься побоялся и рванул куда-то. Видать, дело к утру шло, он и... Стой! Все остановились. — Там, за кустами, — прошептал Корнилыч и, пригнувшись, махнул охотникам — хоронись! Сам же, поманив Виктора, подошел к березе и показал: — Вон, видишь? Виктор заметил в кустах наломанные еловые ветки и тихо распорядился: — Разведи людей вокруг. Валентина — сюда. Корнилыч согласно кивнул и исчез, однако через несколько минут вернулся. — Пусто. А с той стороны опять след, утрешний: в нем еще вода не замерзла. Теперь они шли осторожно, не торопясь.Глава четвертая
По Байкитскому интегралу в милиции было возбуждено несколько уголовных дел о хищениях, и все «темные». Просматривая их, Пролетарский уловил две закономерности. Во-первых, подозреваемые в хищениях уезжали из Байкита незадолго до того, как в милицию поступало заявление о хищении. Во-вторых, почти везде основным свидетелем был Жернявский. Отдельно взятые обстоятельства, они ни о чем не говорили: Жернявский — главный бухгалтер, вполне естественно, мог первым обнаружить факты хищений. Опять же, преступники, почувствовав, что могут быть изобличены, заблаговременно уезжали из Байкита на магистраль, в Красноярск, где легче и сбыть краденое, и самим затеряться. Но, с другой стороны, все они — работники интеграла. Значит, Жернявский же их и рассчитывал. Выходит: сегодня рассчитал работника, а завтра заявляет о хищении и указывает его в качестве подозреваемого? Николай вздохнул. Все это было интересно, но бездоказательно. Нужно браться за интеграл серьезно. Эта затея с выпивкой у Жернявского — детство. И выходить на Жернявского нужно не ему, Пролетарскому, а кому-то другому, не имеющему отношения к милиции. Он придвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо в чернила и крупными буквами вывел: «Начальнику окружного отдела милиции Соколовскому». Написав полстраницы, перечитал и, немного подумав, закончил: «Учитывая вышеизложенное, прошу согласовать с окрфинотделом вопрос о назначении проверки хозяйственной и финансовой деятельности Байкитского интеграла». ...Прошло несколько месяцев. Страна жила бурной, интенсивной жизнью. Открылся седьмой съезд Коминтерна. В газетах появилось имя Алексея Стаханова. Люди с тревогой следили за приготовлениями Муссолини к войне с Абиссинией. На экраны вышел фильм «Праздник святого Йоргена». И только в Байките дни тянулись тихо и неспешно. Зима 1936 года была мягкая, снежная. В середине января в Байкит приехал инструктор окрфинотдела Кофтун. Сразу же он встретился с Лозовцевым. Разговор был долгим и неприятным. — Степан Максимович, у нас есть ряд претензий к работе Байкитского интеграла. Во-первых, отчеты приходят крайне недоброкачественные. Мы не можем финансировать интеграл, не получая информации о его работе. У них постоянный перерасход по всем статьям, но чем это вызвано, из отчетов не ясно. Лозовцев долго молчал. — Вы в прошлом сами хозяйственник, — продолжал Кофтун, — знаете кооперацию не хуже меня. У нас нет отчета за второе полугодие 1934 года и четвертый квартал 1935 года. В прошлом году мы включили вас в план, закрыв глаза, на основании сведений полуторагодовой давности. Но сейчас этого делать больше нельзя. Мы идем на поводу у интеграла. Лозовцев нервно прошелся по кабинету и заговорил: — Прошу понять меня правильно. Вы знаете, что подавляющая часть охотников неграмотна. Заведующие складами, приемщики пушнины — тоже не счетные работники. Грамотных людей у нас единицы, текучесть кадров... Да что я вам это объясняю! — Знаю, все знаю, Степан Максимович. Но определение качества пушнины, отпуск товаров и продуктов на фактории, их планирование, расход — все это производится здесь, в Байките — и как производится! Интеграл исчерпал лимиты на некоторые виды товаров, подчеркиваю, годовые лимиты — еще в полугодии. Что это, Степан Максимович? А ведь мы до сих пор удовлетворяли все ваши заявки. Выходит, либо заявки составляются безграмотными людьми, чего не скажешь о Жернявском, либо расход товаров не контролируется. Я не могу, да и не хочу делать какие-то выводы, но ведь не следует исключать и умышленную путаницу с целью укрытия хищений. А пушнина?.. Я захватил с собой документы, взгляните... — Не надо ничего показывать. Я понял вас, делайте проверку. ...Пролетарский заканчивал прием у себя в милиции. Он проводил посетителя до дверей и там столкнулся с Лозовцевым. Тот сухо поздоровался, прошел к столу. Сел. Помолчал. — Что это счетовод у тебя делал? — Какой? — Интеграловский. Козюткин. — A-а... Квартирант его ночью скандалил. — А он что? — Да выгораживал его. Пили-то вместе. Просит наказать... но не сильно. — «Вашим-нашим за копейку спляшем», — усмехнулся Лозовцев. — Ладно, речь не о нем. Что у тебя по интегралу? Пролетарский достал из шкафа несколько папок, положил их перед ним. — Вот. Материал по факту исчезновения собольих шкурок, от двадцатого ноября. Материал по заявлению о взломе дверей склада в декабре. — Что похищено? — В том-то и дело, что установить удалось очень приблизительно. — Почему? — Учеты на складах запущены, документация не соответствует во многих случаях действительному наличию товаров. Некоторые кладовщики фактически уже не работают, уволились, уехали на магистраль, но материальные ценности по акту до сих пор числятся за ними. Если судить по снятию остатков... — Хорошо. Что, по этим твоим делам — ничего не удалось установить? — Почему же? Установили двоих, живут сейчас в Красноярске. Поручение туда направлено. Были здесь кладовщиками. Как раз у них больше всего беспорядка. — С Жернявским говорил? — Да. Он упрямо ссылается на то, что практически все один тянет. Счетоводы-то у него... Видели Козюткина?.. — Ну, хорошо. Я спрашиваю, какой финал этих твоих дел по интегралу? Чем ты их собираешься заканчивать? Взаимопониманием с Жернявским? — Финал будет, Степан Максимович. Нужно немного времени, чтобы разобраться. — Поторопись, — строго сказал Лозовцев. — Сегодня приехал из окрфо Кофтун. По-моему, человек серьезный и разумный. Будет ревизовать интеграл. Познакомься с ним. Кое-что он тебе подскажет... кое-что ты ему. Посмотри, не было ли связи у твоих кладовщиков со счетоводами или Жернявским. Может, смысл имеет привлечь к этому делу приятеля твоего... Самарина? Кстати, где он? — Мы редко видимся, он в командировках все время, — ответил Пролетарский и, помедлив, добавил: — Да и... не очень-то у нас дружба выходит. Он все больше с Жернявским проводит время. А я туда больше не ходок. — Хм, с Жернявским, говоришь? Это меняет дело. Ну, ладно, через неделю жду твоего доклада по кражам в интеграле. ...Поздно вечером в бухгалтерии интеграла Кофтун попросил Жернявского задержаться. — Завтра мне понадобятся материалы бухгалтерии интеграла за позапрошлый, 1934 год, — сухо сказал Кофтун. — Уже все, отработали прошлый год? — не то удивился, не то обрадовался Жернявский. — Да, отработал, — все так же сухо обронил Кофтун, роясь в портфеле. — Ну, и какое складывается мнение? — поинтересовался Жернявский. — Мнение, окончательное свое мнение я выскажу после проверки, — сказал Кофтун, пристально глядя на Жернявского. — Понимаю. Но общее впечатление хотя бы о части проделанной вами, безусловно, объемной и полезной работы вы можете сказать мне как главному бухгалтеру интеграла, который вы проверяете? — не унимался Жернявский. — Отчего же? Могу. Мнение, Роман Григорьевич, самое неблагоприятное. Я еще раз прошу сегодня подготовить мне к утру необходимую документацию, отражающую работу интеграла в 1934 году. — Ну, что ж..., — усмехнулся Жернявский. — А вы знаете, Анатолий Фаддеевич, я нахожу, что у бухгалтера очень много общего с графином. — Почему с графином? — спросил Кофтун, продолжая рыться в портфеле. — А его тоже все хватают и все — за горлышко. Ну посудите сами, как я вам успею к завтрашнему утру подготовить все документы за 1934 год? В лучшем случае, я вывалю все бумаги на стол — разбирайтесь сами. Но ведь вам не это нужно, верно? — Ну, хорошо. Завтрашнего дня вам хватит, чтобы привести в порядок все это? — Что такое один день? Господь бог землю создал за семь дней. И вот вам результат спешки: до сего времени никто ни в чем не может разобраться. А ведь бухгалтерия, согласитесь, дело не менее, если не более трудоемкое... — Два дня! — перебил его Кофтун. — Два дня вам даю! — он наконец справился с замком портфеля и раздраженно добавил: — Надеюсь, вы не считаете себя господом богом и удовлетворитесь этим сроком? До свидания. — До свидания, — задумчиво произнес Жернявский вслед Кофтуну. Он сел за свой стол, достал из шкафа какую-то папку и долго изучал ее. Потом перегнулся через стул и постучал в стенку. Вошел Козюткин. — Слушаю, Роман Григорьевич. — Садитесь. Ну что, проверка, кажется, идет к концу. — Слава тебе, господи! — возликовал Козюткин, но осекся под взглядом Жернявского. — Простите за откровенность, Самсон Кириллович, но меня оторопь берет при мысли, как такой... недалекий, неумный человек вроде вас мог дослужиться в свое время до чина штабс-капитана в контрразведке генерала Пепеляева. — Роман Григорьевич, — медленно начал Козюткин. — Я вас очень прошу — прекратите издеваться надо мной! — последние слова он истерично выкрикнул и тут же испуганно замолк, оглянувшись. Затем продолжал торопливым шепотом: — Вы не имеете никакого морального права... вы ничем не лучше меня. Полтора года вы... вытираете об меня ноги... шантажируете... зачем... ведь всему предел есть... — он свалился на стул и беззвучно заплакал. Жернявский некоторое время молчал, вертя в руках ручку. — Успокойтесь. У нас с вами обоих никаких прав нет — ни моральных, ни юридических. Я лишенец, вы всю жизнь по чужому паспорту живете... и фамилию какую-то дурацкую себе подобрали, даже жалко вас, ей-богу. Но это вовсе не означает, что я в качестве собрата по несчастью должен утирать ваши слюни. Я прошел все фильтрационные комиссии и живу совершенно легально. Вы же, дражайший, — совсем другой коленкор. Успокойтесь. Для меня вы — никто. Пьяница, опустившийся человек. Я не пойду к Пролетарскому излагать паскудные факты вашей паскудной биографии... Да перестаньте вы хлюпать! — вдруг взорвался Жернявский. Козюткин вздрогнул и торопливо вытер слезы. — Итак, я продолжаю. Я вызволил вас из Красноярска и помог устроиться счетоводом, хотя из вас такой же счетовод, как из меня паюсная икра, — не потому что я люблю однополчан. Я пригрел вас так, на всякий случай, — он помолчал и добавил, пристально глядя на собеседника: — И этот случай, кажется, наступил. — Мне что-то нужно сделать? — покорно спросил Козюткин, — спрятать какие-то документы, вещи? Жернявский расхохотался. — Вещи? Да вы их тут же пропьете... или у вас их отберут. Я бы вам шнурков от своих ботинок не доверил. Нет, Самсон Кириллович, для этого вы не годитесь. — Что же тогда я должен сделать? — Совсем немного. Сжечь школу. — Что? Зачем? — Затем, чтобы она сгорела, болван! Дотла! Затем, чтобы Кофтун не смог проверить липовые наряды на производство липовых работ. Наряды, которые, кстати, вы выписывали... — По вашему указанию... — Молчать! — рассвирепел Жернявский. Он некоторое время кружил по комнате. — Ну, хорошо, объясняю еще раз. Но последний! Единственное, на чем Кофтун может поймать нас... — он заметил ироническую улыбку счетовода и опять взорвался: — Да, черт возьми, нас обоих — и вас, и меня! Так вот, единственное, на чем он может нас поймать документально, это фиктивные документы на строительство школы. Все остальное — ерунда, можно свалить на учет, на тех, кто уволился, на неграмотность охотников... В крайнем случае, выгонят с работы — плевать. Но школа... — он схватил папку, потряс ею перед Козюткиным. — Вот... доски, дранка, утепление стен и потолка, щебенка, обшивка — где все это? Нету! Это липа, за которую заплачены деньги. Поймите, если я попадусь, я вас не пожалею, я выложу вас Пролетарскому с потрохами. И тогда — храни вас бог, господин бывший штабс-капитан! — А дети? — после некоторого молчания спросил Козюткин. — Что с вами? — удивился Жернявский. — К старости у вас проклевываются несвойственные вам качества. Успокойтесь. Дети — наше будущее. Я сам полезу в огонь их выручать. Жертв не будет: мне не нужны сгоревшие дети — мне нужна сгоревшая школа. Не отвлекайтесь и слушайте меня. Завтра выпишите завхозу наряд на получение керосина. Выдайте побольше. — А если потом... после того... потянут и спросят, почему я... именно перед пожаром выдал им столько керосина? — Спросят, непременно спросят, милейший Самсон Кириллович. И вы ответите, что сделали это по настоятельной, подчеркиваю, просьбе Самарина. — Но ведь меня изобличат. Его возьмут, и он скажет, что такого разговора не было. — Во-первых, такой разговор состоится у него с вами, не позднее завтрашнего дня — он должен приехать сегодня. А, во-вторых, Самарина не возьмут, потому что он будет далеко... очень далеко. Теперь... я знаю, Самсон Кириллович, что вам предстоит трудное дело, — Жернявский открыл сейф, достал деньги. — Всякая работа должна оплачиваться. Как говорится, кто не работает, тот не ест. Здесь две с половиной тысячи. Ешьте. Пронесет — получите столько же. И можете проваливать. Деньги дадут вам некоторую самостоятельность, хотя вряд ли прибавят ума. — Я уеду, — шептал Козюткин, пересчитывая деньги, — на Украину, на запад... — Хоть на Южный полюс, — усмехнулся Жернявский. — Только не вздумайте шалить со мной. И учтите — самое трудное — не это. Самое трудное — правильно повести себя потом, в милиции. Бояться не надо, но и благодушествовать не рекомендую, понятно? Козюткин засунул деньги во внутренний карман. — Не волнуйтесь. Сделаю аккуратно. Я не всю жизнь был Козюткиным. — Ну, вот, это другой разговор. Идем дальше. Расположение школы знаете? Давайте начерчу. Бочку с керосином обычно ставят здесь. Увлеченные своим делом, они не заметили, как вошел Самарин. — Привет ударникам счетного труда! Вот вы где, Роман Григорьевич, а я к вам домой зашел — никого. Не-ет, раньше вы были гостеприимнее. — Здравствуйте, дорогой Жорж! — заулыбался Жернявский. — Действительно, засиделись, пора закругляться, — он повернулся к счетоводу. — Ну, на сегодня, пожалуй, и довольно. Идите отдыхать. Надеюсь, вам все ясно? Только у меня к вам просьба: пожалуйста, не злоупотребляйте. Закончится проверка — тогда на здоровье. И помните... — Жернявский положил руку на плечо счетоводу, — я очень рассчитываю на вас. В любом случае — только на вас. Козюткин, опасливо косясь на Самарина, торопливо попрощался и вышел. — Что это вы с ним, как с родной мамой? — недоуменно спросил Самарин. — Бог с ним, — устало махнул рукой бухгалтер. — Лучше расскажите, как съездили. — Хм, ничего съездил, — самодовольно ответил Самарин. — Много наворовали? — Вы что... я... Что с вами? — Со мной ничего, — равнодушно пожал плечами Жернявский. — Ревизия у нас. Проверка. Понятно? Так как мой вопрос? — Но мы же... вы же... Вы сами предложили, помните? — растерялся Самарин. — Не помню. Слово к делу не пришьешь, милый Жорж. — Так вы что, сообщить обо мне хотите? Проверяющему? Или... в милицию? — Нет. — Тогда я... к чему этот разговор? Ничего не понимаю. Жернявский вздохнул. — Чего тут не понимать, Жорж? Вы — обыкновенный вор, и стесняться тут нечего. Вы же, если не ошибаюсь, полгода добросовестнейшим образом обкрадываете интеграл. По моим подсчетам, тысяч шесть у вас уже накоплено. Не довольно ли? — Да что случилось, черт побери? — Я уже сказал, проверка у меня. Если с вами начнет разговаривать проверяющий, он раскусит вас в две минуты. Вы лезли в государственный карман, Жорж, с непосредственностью пятилетнего мальчишки, который считает, что его никто не увидит, если он зажмурит глаза. Так откройте их, наконец! Повторяю, если проверяющий поговорит хотя бы с одним приемщиком пушнины — вам крышка. Я сдержал свое слово — сделал из вас обеспеченного человека. Теперь вы должны исчезнуть как можно скорее, Жорж! Я с вами говорю? Что молчите? Самарин покачал головой: — Вы обходитесь со мной, как с продажной девкой. Зачем? Какая вам выгода? — Не усложняйте, Жорж, не усложняйте, — раздраженно поморщился Жернявский. — Это не из учебника этики ситуация, а из учебника экономики: спрос рождает предложение. Что до ваших мук, то, во-первых, я им не верю, во-вторых, в вашем положении разыгрывать невинность просто нет времени. Я повторяю: оставаясь здесь, вы губите себя и меня. Итак, запомните: завтра вы уедете. Доберетесь до Усть-Камо. Оттуда через Северо-Енисейск попадете в Красноярск. И еще. Завтра я, вероятно, буду занят с проверяющим на складах — окажите мне последнюю услугу: зайдите к Козюткину и попросите его выписать керосину для школы. Только не ссылайтесь на меня, придумайте что-нибудь, хорошо? Скажите, что в школе попросили вас. — Хорошо. — Не забудете? — Нет. — Ну, Жорж, прощайте. Что же вы не рады? Ведь перед вами — та жизнь, которую вам обещал старый бухгалтер. Самарин покачал головой: — Я не знаю, какая начинается жизнь. Я не понимаю, почему я должен бежать в то время, как вы остаетесь, хотя грехов у вас не меньше, если не больше моего. И, самое главное, я не понимаю теперь, зачем вы меня втравили во все это. — А вы не меня об этом спрашивайте, Жорж, — мягко ответил Жернявский. — А кого же я должен спрашивать? — Ах, какой вы глупый! Себя, разумеется. Сильный человек, предпринимая что-то, спрашивает себя: зачем я это делаю? Слабый человек, «втравившись», как вы говорите, во что-нибудь, ищет виноватых. Будьте сильным. Не вините ни в чем людей, встретившихся на вашем пути. Рассматривайте их как орудие для практического использования в достижении ваших целей. С этой точки зрения, — Жернявский улыбнулся, — я был прекрасным орудием. Так что, не вспоминайте обо мне плохо, Жорж. ...Пожар начался около двух часов ночи. Собравшиеся жители стояли вокруг здания школы, не в силах что-либо предпринять: к пылающему зданию ни с одной стороны нельзя было подойти. Пролетарский передал кому-то багор, которым растаскивал горевшие доски, угрюмо прошел сквозь толпу и направился в милицию. Болело выбитое плечо, нестерпимо ныли обожженные руки. Он ничего не замечал. Он шел и все еще видел, видел руки Иркумы, пальцы, царапавшие землю, горящую балку, упавшую на эти руки и сноп искр, заставивший разбежаться людей. И грохот обрушившихся стропил, в котором утонул ее последний вскрик... Весь остаток ночи и утро они со Стариковым, помощником Пролетарского, допрашивали людей. Свидетелей нашлось много — школа стояла в центре поселка — но толку от них не было. Однако через несколько часов что-то стало проясняться. Оставшиеся в живых ребята показали, что днем завхоз привез бочку керосина и поставил ее в сенях. Тут же допросили завхоза, и он подтвердил, что это было так. Откуда он взял керосин? Его днем встретил Козюткин и велел получить керосин на складе. Козюткин был доставлен в милицию. Пользуясь свободным временем, Пролетарский стал перевязывать себе обожженные руки. За этим занятием и застал его Лозовцев. Он был с Кофтуном. — Сиди, — махнул он рукой, когда Пролетарский встал из-за стола, намереваясь уступить ему место. — Ну, что установил? Николай коротко рассказал, что он сделал. — Ты, значит, не сомневаешься, что это поджог? А может, от лампы загорелось, или мальчишки курили? Пролетарский покачал головой. — Нет, загорание началось в сенях, где стояла бочка с керосином. И в коридоре. Ребятишки в спальне слышали, что перед пожаром кто-то ходил по коридору. — Козюткина допрашивали? — поинтересовался Кофтун. — Нет пока. У него изъяли одежду с запахом керосина. Сейчас буду с ним говорить... Меня беспокоит, что нет нигде Самарина. — Самарина? — поднял брови Лозовцев. — А может, он у Жернявского, они же приятели? — Жернявский был на пожаре. Вытаскивал детей из огня. Самарина он не видел, я спрашивал. — Ты в курсе, что Самарин?.. — Лозовцев показал на Кофтуна. — Да, мы говорили с Анатолием Фадеевичем. Я знаю, что Самарин замешан в махинациях с пушниной. Кстати, Анатолий Фадеевич, вы говорили мне все в общих чертах... — Я именно поэтому и пришел. Мне осталось проверить документацию за 1934 год. Я хотел узнать, как с Козюткиным? Он обрабатывал эти документы, он мне нужен, везде стоят его подписи... — Не знаю. Я вас прошу, обойдитесь пока Жернявским. Если мне будет некогда — к Старикову обратитесь, я его предупрежу. Видите, как тут все перепуталось? Возможно, действительно придется решать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Самарина и Козюткина по хищениям... — А для этого мне надо закончить с ними проверку, — вставил Кофтун. — Да, да... В то же время с ними надо работать по пожару. Так что с проверкой придется подождать. Пока. Но мы вас будем держать в курсе дела. Я думаю, вы понимаете: проверка, махинации с пушниной — это важно, но пожар... Нельзя терять времени. — Договорились? Тогда мы тебе мешать не будем, — поднялся Лозовцев. Он подошел к двери, взялся за ручку. Помедлив, заговорил: — Я, Николай, еще когда у Щетинкина служил... Мы деревню одну освобождали от белых. Там я тоже вот таких ребятишек видел. Только наши в огне погибли — а те порубанные были... Он потер лоб и раздраженно продолжал: — Это я к тому говорю, чтобы ты совершенно точно установил — поджог это или нет. Если поджог, то... На такое дело, на убийство детей, не всякий подлец решится, понимаешь? А ведь мы здесь все друг друга знаем. Значит, это очень злой должен быть человек, очень скрытный. Ты об этом подумай. Они ушли. Пролетарский тоже вышел и вернулся с Козюткиным. Кивнул ему на стул: садись. Долго молчал, разглядывая его небритую опухшую физиономию. Наконец спросил: — Где был, когда начался пожар? — Это... в какое время? — В час ночи. — Спал. Все время спал. Ваши же и разбудили. Утречком. — И ничего не слышал? Ни криков, ни шума? — Выпивши я был вчера, — вздохнул Козюткин. — Спал, как убитый. — Знаешь, что в Байките произошло ночью? — Слышал уже, — кивнул Козюткин. — Только зря вы меня обижаете. Не зажигал я, верьте слову. Зачем мне? — А почему ты решил, что я... на тебя думаю? — Пролетарский удивленно взглянул на Козюткина. — На кого же больше? — пожал плечами Козюткин. — Одежку-то мою Стариков ваш подчистую реквизировал, вроде как она керосином пахнет. Дурак на Козюткина не подумает. — Да ты, брат, ушлый, — усмехнулся Пролетарский. — Ну, а если я тот самый дурак и есть? — Не-е, — покачал головой Козюткин. — Оно хорошо бы, извините, конечно, но вы, гражданин начальник, не дурак. Вы тоже насчет керосину сомневаетесь. Только я тут ни при чем. Это мне велено было... — Кем велено? — шагнул к нему Николай. — Что велено, я тебя спрашиваю? Ну! — Так уполномоченный распорядился, этот... как его... — запинаясь проговорил Козюткин. — Самарин? — крикнул Пролетарский. — Так точно. Вчера утром пришел и велел выписать. Я, помню, сказал, что у них в кладовке еще с того года керосин должен быть. А он говорит, не мое дело, а если они откажутся, то им лимиты срежут. Мы с завхозом вчера эту бочку и привезли. Мороковали, мороковали, куда ее девать, и поставили в сенях. — Ну? — И все. А потом, стало быть, я вечером выпил и пошел спать. Пролетарский отправил Козюткина в камеру и позвал Старикова. — Значит так, Козюткина не допрашивать. Держать одного. — Сознался? — обрадовался Стариков. — Он поджег? — Не знаю, — покачал головой Пролетарский. — Что-то больно проницательный для простого счетовода. Вроде ждал, что его об этом спрашивать будут... не знаю. Ты сегодня свяжешься с Кофтуном. Займешься материалами о хищениях в интеграле. Пойдешь к нему и разберешься в учетных документах за 1934 год по строительству школы. Школы, понял? Смотри внимательно, особенно те, к которым имел отношение Козюткин. Чуть что — обращайся к Кофтуну. — Так, выходит, вы меня от работы по пожару отстраняете? — Нет. Будешь работать параллельно и по пожару. — Как это? — А так. Может кому-то выгодно, чтобы за всей этой суматохой забыли о хищениях. А? — Так... — Вот тебе одна версия. Может кто-то скрывает следы хищения? Школу-то интеграл строил? Может нужно, чтобы милиция, занятая пожаром, не вмешивалась в проверку? Вот тебе другая версия. Отрабатывай их. — А вы? — Я поеду догонять Самарина. Если он сбежал — ему надо идти на Куюмбу. Другой дороги в Красноярск нет. А он нужен. Врет ли Козюткин, нет ли, но Самарин имеет отношение к пожару. — Думаете, он знает, кто поджег. — Во всяком случае, если знает, то скажет мне. — А если не скажет? — Скажет, — уверенно ответил Пролетарский. — Скажет.Глава пятая
Баландин проснулся от нудной, тупой боли в желудке: накануне он подстрелил белку, с великим страхом развел костерок и попытался поджарить ее. Мясо было пресным и противным, однако Баландин съел все без остатка, и вот теперь к чувству голода, которое не исчезло, добавились рези в животе. Он тяжело поднялся с земли, прошелся, разминая ноги. Несколько дней назад он видел вертолет. Вертолет опустился на краю поселка, взял милиционера, и Баландин обрадовался, но через день в тайге появились охотники и методично день за днем стали прочесывать тайгу. Это насторожило его и заставило ограничить свои, и без того редкие маршруты в поисках добычи. Он понял — его ищут. Надо было что-то решать. Прошлой ночью он не решился спуститься в поселок, долго стоял, то уговаривая себя, то, напротив, предостерегая, и, измученный борьбой, все-таки ушел. Теперь он решил: идти в поселок не по ночному времени, как раньше, а с утра. Только бы обойти охотников, которые, верно, уже рыщут по лесу в поисках его. Если ему удастся добраться до поселка, внимательно проследить за всем, что там происходит, и определить, есть ли засада возле дома его матери, — будет ясно, что делать дальше: идти ли домой за документами и хлебом, или уходить по реке к Байкиту в надежде найти по дороге что-нибудь на лабазах. Он поднял винтовку и, раздвигая кусты, пошел к месту, откуда хорошо просматривался участок болота, отделявший островок, на котором был устроен ночлег, от леса. Баландин отвел рукой ветку, мешавшую ему смотреть, — и резко присел: метрах в двадцати от него, на опушке леса, перед болотом, стоял брат, Валька, и напряженно вглядывался в его сторону. Баландин уже было хотел окликнуть, он открыл рот... Из чащи к Вальке подошел человек в защитных солдатских брюках, резиновых сапогах, телогрейке, затянутой ремнем. — Засекли! — беззвучно шевельнул губами Баландин. И, будто услышав его, на той стороне болота протяжно закричал брат: — Ко-оська-а! Это я, Ва-алька! Здесь со мной Корнилыч с мужиками-и! — Сейчас они ему врежут, — прошептал Баландин, со звериным любопытством вглядываясь в тот берег. Но Валька, к его удивлению, продолжал кричать: — Они говорят, чтобы ты выходи-ил! Стрелять не бу-удут! Кровь ударила в голову, запульсировала в висках. На переносице выступили капельки пота. Баландин бесшумно метнулся назад, затем вернулся. Бежать было некуда: если он побежит, его заметят и в момент догонят, либо пристрелят. Стоять на месте, ждать, когда придут? Аможет... не пойдут, побоятся? Все-таки ровное место, просматривается кругом. Доведись ему, он бы не пошел. А если все-таки пойдут? Пугнуть? — Хрен там: пугнуть! — внезапно осклабился Баландин. Он решил. Первый, кто подойдет сюда, — получит свое. Пока они будут суетиться возле раненого, он уйдет. А может быть, и убитого... — Это уж как вам повезет, какая кому планида выйдет, — лихорадочно бормотал Баландин, пристраивая винтовку в кустах так, чтобы ствол имел упор. Он дослал патрон в патронник и, затаив дыхание, стал ждать. Томительное, раздражающее неопределенностью существование кончилось. Сейчас все станет ясным... Брат еще несколько раз выкрикнул его имя и умолк. — Ну, что делать будем? — спросил Корнилыч Виктора, когда тот с Валентином вернулся с опушки. — Надо идти дальше, — Виктор вопросительно взглянул на охотника. Корнилыч стал размышлять: — Во-первых, метров тридцать придется идти в рост. Если Баландин здесь, — будет стрелять в полное удовольствие — не промахнется. Второе: след его здесь кончается, идет болото. Дальше следов не будет. Если считать, что Баландин на этом острове, ближнем, то куда ни шло. А если он на втором, третьем, десятом? — Хорошо, — согласился Виктор, — на сегодня хватит. Только, — он предостерегающе поднял руку, видя, что Корнилыч поднимается, — этот ближний остров мы все-таки проверим. Полчаса времени всего и займет. Пойдем с двух сторон — ты и я. Остальные будут следить за островом и страховать нас. — А Валька? — насупился Корнилыч. — Опять бережешь? — Вот что, друг-товарищ, — резко сказал Виктор. — Баландин, конечно, преступник... И поймать его надо. Но приманку из его брата делать не будем. А если ты так настаиваешь... Чего уж тогда с Валькой мелочиться? Пойдем, вон мамашу его безногую сюда притащим — за ней вообще, как за каменной стеной, будем. Только какая разница тогда между им и нами? Или тебе... все равно? — Ты... ладно... базы-то под меня подводить, — пробормотал Корнилыч и вдруг, невесть от чего взъярившись, рявкнул: — Молодой еще! Сидишь тут... язык чешешь. А время идет. Пошли давай... корреспондент липовый, растудыть твою! Он рывком закинул карабин за плечо, огляделся и, увидев Вальку, безмятежно разлегшегося под березкой, пнул его в зад. — Тебе тут что — курорт? Ишь сахарницу-то выставил! Прилетит вон привет от родни — кто виноват будет? Опять Корнилыч? А ну, хоронись в кусты! Они осторожно приближались к островку, пробуя палками снег впереди себя. Остров был уже совсем близко, когда Виктор, приняв ком снега перед собой за кочку, прыгнул на него и провалился по пояс в ледяную воду. С помощью подоспевшего Корнилыча он с трудом выбрался на твердое место. — К такой матери это болото! И ты тоже — герой выискался, не знаешь ни хрена места, а лезешь! Давай обратно, давай скорее, пока не заколел. Завтра придем, дался тебе этот остров! — бушевал Корнилыч. — Будет тебе, не ругайся, — виновато проговорил Виктор, с сожалением глядя на кусты, покачивавшиеся вблизи от них. — Завтра придем, ладно. ...Когда Корнилыч и Голубь скрылись, наконец, в чаще, Баландин обессиленно ткнулся лицом в мерзлую траву. Если бы сейчас эти двое передумали и вернулись — он не пошевелился бы. Виктор вернулся домой раньше обычного. Телогрейка, брюки, даже шапка — все было мокрым. — Ты что это делал в лесу? — изумился Сергей, когда инспектор стащил на пороге резиновый сапог и, на одной ноге проскакав к умывальнику, вылил из него воду в ведро. — Купался, — буркнул Виктор и стал стягивать второй сапог. Сергей протянул ему сигарету, дал прикурить. Налил горячего чаю. — Такие дела, — вздохнул Виктор, переодевшись и выпив чаю. — Баландин здесь, я стоянку видел. Костер видел вчерашний, следы... Он от костра к поселку приходил. Ночью как раз над нами на горе стоял. Не решился спуститься. И, понимаешь, пошли мы за ним от костра по следам. А он — в болото, как леший. Ну, вот я и... провалился. Болото это поселок с восточной стороны огибает, чуешь? — Нет, — признался Сергей. — Надо туда сходить, на тот край поселка, посмотреть, как и что. Людей на ночь в засаду определить. — Сходим, — кивнул головой Сергей. — Ты только поешь сперва. — Да, — вспомнил он, когда Виктор присел за стол. — Привет тебе от Антонины Афанасьевны. Сергей порылся в папке и, достав оттуда документы, помахал ими перед носом Виктора: — Самолично отдала мне его паспорт и военный билет. — Неужто допросил? — удивился Виктор. — По всей форме! Протокол имеется, а также договоренность о том, что, встретив сына, попытается убедить его сделать явку с повинной. — Как же ты так? — Виктор с уважением посмотрел на приятеля, вспомнив рассказ Сыромятова о встрече в магазине с разъяренной старухой. — Это очень несчастная женщина, Витя, — проговорил Сергей. — Кричит и машет она костылем от отчаяния. Вся жизнь прахом пошла, за сыном, как за зверем, охотятся. Мы с ней в сельсовете часа четыре сидели, она мне про свою жизнь рассказывала, про детей... Плакала. Все она прекрасно понимает: и то, что Баландину надо самому явиться, и то, что наказание он понести должен... Все понимает. Но быть заодно с нами, с теми, кто преследует ее сына, ей очень трудно. Поэтому и прикрыла она его тогда собой и налетела на Сыромятова с костылем. — Ну... — Виктор поморщился. — Тебя, по-моему, не в ту сторону понесло. Как говорил мой друг, военный поэт Иван Шамов, каков стол, таков и стул. Объективно рассуждая, зверь-то этот на ее глазах рос. В любой момент могла заметить. Все ведь в ее руках было... — Да? — А как ты думал? Дети — повторение родителей, хотят этого родители или нет. — И то, что у порядочных родителей дети становятся преступниками, нисколько не снижает свежести твоего наблюдения? — Представь себе! У нас принято судить не за умысел, а за преступление. И не за безнравственные мысли, а за их реализацию. А чем Баландин выделялся среди других, пока не убил, я, например, не понимаю. И чем отличается его мать от других старух — тоже не вижу. Но вот случилось... — А если с тобой случится? Не это, а что-либо другое? Ты в себе абсолютно уверен? — Пакости не сделаю. А несчастье может быть со всеми. От сумы, да от тюрьмы не зарекаются. — Вторая свежая мысль за какие-то пять минут. Это может пагубно отразиться на твоем организме. Подкрепись-ка, друг мой, да пойдем закрывать проходы Баландину. Как практик ты мне гораздо больше импонируешь. Тут я тебе возражать боюсь. Обратно они возвращались уже в сумерках. Шли не спеша, друг за другом по тропинке над рекой. Эта тропинка отделяла поселок от нескольких окраинных домов, куда они ходили. Слева поднималась в гору ровная поляна, уже свободная от снега, покрытая кое-где пожухлой прошлогодней травой. Внезапно наверху, за деревьями, залаяла собака. Вот она показалась на поляне; приседая на задние лапы, она разъяренно лаяла на кого-то в лесу — лаяла взахлеб, злобно, порываясь броситься в лес. Увидев людей и почувствовав в них поддержку, она еще яростнее залилась лаем, то оглядываясь на них, то кидаясь навстречу невидимому врагу. — Зверя почуяла? — спросил Виктора Сергей. — Похоже, — согласился тот. Они прошли еще немного. Сергей увидел, как Виктор ускорил шаг и на ходу расстегнул кобуру пистолета. — Что случилось? — вполголоса спросил он. — Собака возле нас держится, не оборачивайся, — проговорил Виктор тихо. — Ну и что? — Значит и зверь возле нас держится, за нами идет, понял? — Нет. — Баландин это. Опушкой идет. Нас разглядывает. Сергей ясно представил, как отчетливо видны их силуэты на фоне реки. Ему стало не по себе. Виктор, видимо, подумал о том же и сказал: — Стрелять он не будет. Ему это ни к чему. Но вот засада, видать, накрылась. Собачий лай сопровождал их до самого поселка, затем стал удаляться и, наконец, затих. — Может это и не Баландин был? — нерешительно спросил Сергей, когда они подходили к дому. — Может и не он, — согласился Виктор. — Может просто какой-нибудь зверь. Спросим у Корнилыча. Корнилыч, выслушав их рассказ, нахмурился: — Поглядим завтра след. Только я вам, ребята, говорю: повадка у вашего зверя человечья была. На другое утро Корнилыч с Виктором сходили на сопку, где на опушке леса действительно нашли следы человека параллельно тропинке до самого поселка. Затем следы свернули в лес. — Давай-ка, Корнилыч, бери свою «казанку» и дуй к лабазу Батракова. На лабаз не ходи. Погляди вокруг. А я с мужиками погляжу здесь, в какую сторону он направился. Если он нас видел, за нами шел — значит, понял, что в поселке чужие. Значит, будет втройне осторожен. И вряд ли решится идти к матери. — Есть, — кивнул Корнилыч. Вечером Сергей и Виктор сели смотреть дело. Практически все, что было нужно, они сделали. Да и работы было немного. В городе на это бы ушел день, впрочем, с тем же результатом: Баландина не было. Виктор зевнул, потянулся и, попросив разбудить, когда приедет Корнилыч, лег спать. Сергей сидел, машинально перебирая листки допросов. В сущности, ему здесь больше делать нечего. Виктор занимается поиском, это его работа. А ему, Сергею, пожалуй, нужно лететь домой. Там тоже ждут дела, которые пришлось отложить из-за Баландина. На улице было еще светло, когда в избу без стука ворвался Корнилыч. Не обращая внимания на сидящего за столом Сергея, он подбежал к кровати и затормошил Виктора: — Вставай, Георгич! Баландин на батраковском лабазе, уйти хочет на лодке! Виктор моментально вскочил и заметался по комнате, одеваясь. — Я в километре от лабаза к берегу причалил, подошел лесом, а он из лабаза в лодку продукты тащит, что я тебе говорил? Корнилыч ходил за Виктором, руки у него тряслись. — Слышь, Георгич. Лодку я вам дам... это без разговоров. А с вами... уж не взыщи. Втроем лодку перегрузим, и, самое главное, плавать я не умею. Боюсь, а? — Брось ты, Корнилыч. Никто ничего не говорит. Давай к лодке, заводи мотор. Мы следом. Когда Корнилыч выскочил из избы, Виктор спросил: — С мотором обращаться умеешь? — и, увидев растерянное лицо Сергея, решил: — Я сяду на корму, а ты... вот, возьми. Он нагнулся, вытащил из-под кровати автомат, завернутый в брезент, развернул, примкнул магазин. — Думал, не пригодится. На берегу их ждал Корнилыч. Тихо урчал заведенный мотор. Когда Сергей уселся, Виктор махнул рукой: — Толкни! Он устроился на корме, включил скорость, мотор завыл, набирая обороты, и «казанка», описав крутую дугу, помчалась вниз по реке. Начинало смеркаться. Сергей сидел, аккуратно положив автомат на колени. Мимо проплывали угрюмые мрачные берега с выветрившимися скалами, похожими на старинные замки. Виктор на какое-то время даже утратил чувство реальности, глядя на удивительные камни, превращенные временем в подобия башен, зубчатых стен, крепостных валов... Сергей обернулся и крикнул что-то непонятное за шумом мотора. — Что? — Красиво здесь, говорю! Не знаешь, утки тут водятся? — Утки что! Мне Корнилыч рассказывал, здесь гусей навалом. Знаешь их как трудно стрелять? — Давай вернемся сюда осенью? Поохотимся... — В отпуске я могу... Если встретишь, конечно. — Договорились. Они увидели Баландина одновременно. Тот торопливо греб к берегу. В этом месте река петляла между скал, видимо, поэтому он слишком поздно услышал звук мотора. — Предупреди его! — крикнул Виктор. Коротко пророкотал автомат. Баландин перестал грести, вскинул винтовку и выстрелил в их сторону. — У него «тозовка», — обернулся к Виктору Сергей. — Я по лодке очередь дам. — Нет! Отсекай его от берега! Снова прогремела резкая дробь, пули вспороли воду перед носом баландинской лодки. Он бросил винтовку и стал торопливо табанить веслом. — Хорошо! Следи за ним! — крикнул Виктор. Он сделал крутой вираж и заглушил мотор. «Казанка», снижая ход, шла теперь прямо на Баландина. Тот успел сделать еще два выстрела. Рядом с Виктором взвизгнула рикошетом пуля, и в этот момент «казанка» ткнулась в борт лодки беглеца. — Не стреляй! — крикнул Виктор, видя, что Сергей поднимает автомат. Схватив весло, почти без замаха, он коротко и сильно рубанул им Баландина по голове. Тот обмяк и повалился на дно лодки. Виктор прыгнул следом, заломил ему руки за спину, надел наручники. Подняв голову, он увидел, что «казанка» отходит в сторону. — Ты что — не видишь? — раздраженно бросил он Сергею, так и сидевшему с автоматом на коленях. Тот потянулся, как во сне, рукой к борту и вдруг, не вставая, повалился ничком. — Что с тобой? Сергей! Сергей! Виктор зацепил «казанку» веслом, перетащил в нее Баландина, бросил туда винтовку, продукты, прыгнул сам. Какое-то мгновение смотрел на оставленную лодку, затем махнул рукой — не до нее. Он перевернул Сергея, усадил на дно. Тот был в сознании и тихонько постанывал. Болоньевая куртка испачкана кровью. Пиджак, щегольская жилетка, белая рубашка — все было в крови. Стащив с себя рубашку и кое-как перевязав Сергея, Виктор сел на корму и завел мотор.Глава шестая
В Куюмбе третий день мела пурга, и сколько Самарин ни уговаривал мужиков — никто не соглашался ехать с ним в Усть-Камо. Он квартировал у старика Дюлюбчина. По вечерам Дюлюбчин собирал знакомых и, достав из кисета письмо от Иркумы, полученное им с оказией две недели назад, просил Самарина прочесть, что пишет внучка, — сам он был неграмотным. Самарин был зол — уходило дорогое время. В этот вечер он, дочитав письмо, раздраженно вернул его старику: — На! И не лезь ты ко мне с ним, за ради Христа! Восьмой раз читаю! — Ничего, — сладко жмурясь и пряча письмо в кисет, проговорил Дюлюбчин. — Язык не сломал. Я тебе за это белку дам. Ты читать не любишь, я знаю. Ты пушнину любишь. Ты мне письмо прочитаешь — я тебе белку дам. Тебе хорошо будет — и мне хорошо будет. Мужики захохотали. Самарин, обиженный намеком, пошел в угол к бочке, зачерпнул воды. Поглядел в окно. — Мужики, а метель-то вроде стихает. В это время распахнулась дверь. Вошел Пролетарский. — Подними руки, Самарин! — Николай, ты? Ты что? Пролетарский деловито обыскал, вытащил у него из-за пазухи пакет, осмотрелся. — Где его имущество? Дюлюбчин, ничего не понимая, показал рукой: — Вон его мешки, — и опасливо посмотрел на Самарина. Кивнув в сторону узлов, Пролетарский спросил у Самарина: — Что там в них? — Личные вещи! — с вызовом бросил Самарин и, увидев, что Пролетарский двинулся к мешкам, крикнул: — Не смей трогать! Не имеешь права обыскивать! Ты не у себя в милиции. И я тебе не кто-нибудь. За незаконный арест уполномоченного исполкома и обыск отвечать будешь. Он попытался помешать ему. Пролетарский, глядя на Самарина, громко произнес: — Граждане, кто согласится быть понятым? Поднялись двое. — Развяжите мешки и посмотрите, что в них. Не глядя на Самарина, понятые подошли к мешкам и неловко стали их развязывать. Пролетарский тем временем разворачивал пакет. — Мужики, да здесь соболя! — удивленно воскликнул один из понятых. — И деньги, — добавил Пролетарский, рассматривая содержимое пакета. Он подошел к Самарину. — Одевайся! — Голому одеться — только подпоясаться, — нахально улыбнулся Самарин и, понизив голос, добавил просительно: — А может, все-таки поговорим? — Обязательно, — кивнул Пролетарский, — по дороге. ...Они ехали весь день. К вечеру остановились в зимовье возле Безымянного мыса. Пролетарский, не спавший несколько дней, связал Самарина, усадил его на топчан, сел рядом у окна и закрыл глаза, с наслаждением вытянув ноги. — Боишься, что сбегу, — усмехнулся Самарин. — Боюсь, — не открывая глаз, ответил Пролетарский. — Опасного преступника поймал. Орден заработаешь — не иначе, — продолжал Самарин. Ответа не последовало. — Развяжи меня! — внезапно закричал Самарин. — Мне холодно, развяжи, говорю. Слышишь, ты? Меня от холода трясет, ты можешь понять или нет? — Приедем в Байкит — тебя не так затрясет. — А что ты меня пугаешь? Кто мне там что скажет? Ты? Плевал я на тебя! Ты мне мстишь. Потому что завидуешь. Если бы не ты, я бы уже был далеко. Я бы жил, понимаешь? Жи-ил! А ты обречен. В этой дыре, в этой грязи... И ты ненавидишь меня за то, что у тебя не хватило смелости, сил уехать, бросить все это! Ты мстишь! — Куда ты пошел в ночь перед отъездом? — не открывая по-прежнему глаз, равнодушно спросил Пролетарский, когда Самарин умолк. — Что? Не помню. Не знаю. Не скажу! — Куда ты пошел в ту ночь? — настойчиво повторил Пролетарский, выделяя каждое слово. — Ну, к Козюткину, тебе-то что? — буркнул после некоторого молчания Самарин. — Что ты делал у него? — А тебе-то какая разница? — Самарин ядовито усмехнулся. — Ты же меня с поличным захватил. Мало? — Что ты делал у него? — Ничего я не делал, успокойся. Его дома не было. Я вернулся, собрался и уехал. — Ты врешь. — Ну, это как угодно, — пожал плечами Самарин. — В ту ночь, когда ты уехал, в Байките сгорела школа-интернат. Погибло девятнадцать ребятишек... — Иркума! В дверях зимовья стоял Дюлюбчин. Он слышал последнюю фразу Пролетарского. — Ах, вон что ты мне шьешь! — протянул изумленно Самарин. — Какая школа... При чем тут я? Ну, нет, брат, не выйдет. Не докажешь! — Задержанный Козюткин показал, что в тот вечер, когда загорелась школа, он находился дома. Спал до утра. Где ты был вечером? — Да откуда мне знать, когда она загорелась? Ну, ладно. Я не был у Козюткина. Но я не поджигал школы. Я ничего не поджигал. Зачем мне это? Мне ничего не нужно было, кроме одного... — Хапнуть побольше и уехать подальше, — жестко закончил Пролетарский. — И не надо было философию наворачивать — я эти сказки слыхал. Только для чего ты заставил Козюткина выписать керосин для школы? С чего такая забота перед отъездом? — Керосин? Какой керосин? — удивился Самарин — и вдруг запнулся. — Керосин... — Ну? — Пролетарский впился взглядом в него. — Ну? Чья работа? Не твоя? Самарин потерянно смотрел куда-то в угол. — Вот так-то, — удовлетворенно кивнул Пролетарский. — Теперь ясно. — Что тебе ясно? — покачал головой Самарин. — Я ничего не жег, я никого не убивал. Я действительно вор. Мелкий вор. Воришка. Воробей. А ты меня в стервятники записал... Он с надеждой поднял голову, торопливо заговорил: — Николай, отпусти меня! Погоди, не перебивай... Отпусти меня, ну, скажи, что не нашел... сбежал там или что... Бери все это барахло, сдай, куда положено, раз ты такой... Слушай! Я тебе за это скажу, кто поджег, как все это было. Я все понял! — Ты хочешь сказать, что кто-то попросил тебя... распорядиться... насчет керосина? — Вот! Во-от! — Самарин умоляюще смотрел на собеседника. — Ты тоже понял? Это совершенно меняет дело. — А для тебя-то что меняет? — угрюмо спросил Пролетарский. — Но я же не убийца! Я же не знал! — рванулся к нему Самарин. — Ты — вор, помогавший убийцам, — холодно ответил Пролетарский. — А знал ты или не знал — это суд еще будет разбирать. Не волнуйся, лишнего не получишь, — получишь свое. Каждый получит то, что ему причитается. — Дурак! Кретин! Тогда ты ничего не докажешь. Я буду молчать, и ты ничего не докажешь. Отпусти меня — всех назову! — Жить захочешь — заговоришь. И секрет свой ты мне не продавай — не куплю. Невелик твой секрет: Козюткин, ты и... Роман Григорьевич. Ну, а кто воробей, кто стервятник, — дома выясним. — Ясно, — покачал головой Самарин. — Значит и меня теперь с ними заодно... в помойную яму. Пили вместе, спорили, мирились, а сейчас — ату его, классовый враг, так что ли? Ну, чего разглядываешь? — Хорошо говоришь. Говори еще. — Ладно... ленинградец. Бог даст, земляк, вспомнишь ты меня. Самарин откинулся на спину и замолк, глядя перед собой. Во время их разговора Дюлюбчин сидел тихо в углу, обхватив голову руками. Потом поднялся, подошел к Пролетарскому. — Поспи, начальник, я погляжу за ним. Отдохни, скоро ехать. — Спасибо, старик. Дюлюбчин потоптался возле него. Затем вытащил из-за пазухи кисет, откуда извлек сложенный вчетверо листок бумаги. — Вот... начальник. Я не знал, что в Байките... Что Иркумы... Что детишки пропали. Такая беда. Она пишет — все хорошо. А на самом деле — нехорошо. Такая беда... вот... Пролетарский старался не глядеть на старика. А тот что-то приговаривал, дрожащими пальцами водил по неведомым ему буквам. Наконец, в последний раз ласково погладив листок, протянул его Пролетарскому. — Вот... Иркумы уже нет, а письмо — есть. Это Иркума писала, начальник, внучка моя. Возьми письмо, начальник, ничего. Я все понял. Самарин тебя купить хотел. Не секрет продать, а тебя купить. Вот возьми письмо, — он поднял палец и прошептал: — Память будет. О хорошем человеке всегда память должна оставаться. А Иркума — хороший человек... была. Утром старик поднялся первым. Он растопил печь, наколол дров про запас. Пролетарский дремал у окна. Наган лежал перед ним на столе. Он поднял голову: — Ты чего, старик? — Спи, спи, начальник. Сейчас оленчиков приведу, чай пить будем. Оленчики хорошо отдохнули, быстро побегут. Вечером в Байките будем. Пролетарский прикрыл глаза и вытянул затекшие ноги. Дюлюбчин вышел из избушки, неплотно прикрыв за собой полог из оленьих шкур, заменявший дверь. Самарин, со связанными руками, полулежал на топчане, не спал. Взглядом проводил старика, равнодушно уставился в полог. Внезапно он попытался привстать, но, оглянувшись на Пролетарского, принял прежнее положение. В просвете, образовавшемся от неплотно прикрытого полога, смутно угадывался какой-то предмет на улице — не то пень, не то еще что-то. Самарин снова впился глазами в темно-синий, почти черный треугольник в нижней части полога, пытаясь разглядеть непонятный предмет. Постепенно светлело, треугольник из темно-синего превратился в светло-голубой, и через некоторое время Самарин ясно различил чурбак с воткнутым в него топором, стоявший у самого входа в избушку. Некоторое время он лежал неподвижно, глядя в потолок. Затем облизнул пересохшие губы — и решился. — Начальник, а начальник... — А? — Пролетарский сонно смотрел на него. — Я говорю — на двор бы мне сходить... В Байките, поди, некогда будет, — он отвел глаза, стараясь не встречаться взглядом с Пролетарским. Тот поднялся, развязал Самарину руки, щурясь со сна, ткнул наганом в спину. — Иди вперед, да не вздумай дурака валять, а то... — Застрелишь? — Много чести. Догоню и морду набью. — А что ж наганом тычешь? — Нервирует? Ладно, уберу, а то раньше времени наделаешь... Иди! Самарин пошел к выходу, растирая затекшие руки и напряженно глядя на приближающийся с каждым шагом полог. И там, где он был откинут, снова увидел топор в чурбаке. Самарин какое-то мгновение помедлил — и быстро выскользнул наружу. Пролетарский у притолоки нагнулся, выбираясь следом... Дюлюбчин услышал вскрик, возню, грохнул выстрел, затем наступила тишина. Он оставил оленя и замер, прислушиваясь. Грохнул второй выстрел, и старик бросился к избушке, не разбирая дороги. У входа он увидел лежащего на снегу Пролетарского и склонившегося над ним Самарина с наганом в руке. Тот некоторое время смотрел на старика, затем сделал попытку усмехнуться. — Видишь, как все получилось, дед? Промашку дал Николай Осипович. — Промашку дал, — прошептал Дюлюбчин, глядя широко раскрытыми глазами на топор, валявшийся рядом с телом начальника милиции, на его окровавленную голову, на наган в руке Самарина. Самарин, будто решившись, быстро заговорил: — Слышь, дед? Выведи меня, а? Помоги выйти, говорю! Хоть до Усть-Камо, а там я как-нибудь... Я — не за так, не думай, я тебе заплачу, дед, а? Гляди! Не спуская глаз с Дюлюбчина, Самарин пошарил на груди мертвого Пролетарского, вытащил пакет с деньгами. — Вот, смотри, здесь шесть тысяч рублей. Это твои деньги, дед! Пакет полетел к ногам Дюлюбчина. Он поднял его, аккуратно очистил налипший снег. Это был тот самый пакет, что изъял Пролетарский у Самарина при обыске в Куюмбе. — Промашку дал Николай Осипович, — снова прошептал старик. Он уронил пакет и, выхватив нож, бросился на Самарина. Тот выстрелил в упор. Некоторое время он смотрел на лежавших. Теперь все. Теперь деваться было некуда. В тайге стояла такая тишина, что у него зазвенело в ушах. Он вытер лицо снегом, огляделся. Нужно было уходить. Самарин обшарил тело Пролетарского, стащил с него меховую рысью куртку, просмотрел бумажник. На снег упало письмо Иркумы. Он поднял его, пробежал глазами знакомые строки. — Письмо... Отдай письмо! Холодная судорога прошла по спине. Самарин обернулся: к нему полз, оставляя кровавый след на снегу, Дюлюбчин. Вот он попытался приподняться, поднял руку... Самарин выстрелил ему в голову. Старик уткнулся лицом в снег. ...Их нашли через несколько суток. У Николая не было куртки и унтов. Дюлюбчин был раздет до пояса. ...Вечером в Усть-Камо запуржило. Заведующий складом Алексей Деев сидел за столом и пил чай. Его жена, Ирина, спала. В сенях послышались шаги, отворилась дверь и на пороге появился Самарин — заросший, грязный, с отмороженными щеками. Он направил на Деева наган. — Тихо, Деев, не шуми, а то нехорошо получится. Тот, пытаясь при слабом свете керосиновой лампы разглядеть вошедшего, произнес: — Не признаю я тебя что-то. Ободранный больно... Вроде где-то видались. — Вот здесь и видались, полтора месяца назад, — уточнил Самарин, разматывая шарф, расстегивая телогрейку. — Самарин? — Деев поставил кружку на стол. — Что с тобой? Самарин пододвинул чурбачок к печке, сел, наган положил на колени, стволом в сторону хозяина. — Не придуривайся, Деев. Сам же в прошлый раз меня к метеорологам водил — с Байкитом по рации связывались. Что со мной, ты распрекрасно знать должен. Поэтому давай без спектаклей. Помнится мне — завскладом ты тут. Ну, слушай сюда, красный купец. Пойдешь сейчас в склад, принесешь... Цыц, дура! — бросил он Ирине, которая проснулась и, уяснив, в чем дело, вскрикнула. — Принесешь, говорю, крупы, соли, патронов... — он заметил на стене ружье. Поднялся, снял его, осмотрел и удовлетворенно закончил: — Патронов двенадцатого калибра. Только мелкую дробь не бери. Крупная дробь и жаканы. И к нагану патронов прихвати, понял? А перед тем, как идти, запомни на всякий случай. — Самарин коснулся дулом нагана подбородка Деева. — Ты не бог и не шаньга. В случае чего за твой язык баба ответит. Он легонько стволом нагана повернул голову Деева в сторону кровати, где, прикрыв грудь одеялом, сидела испуганная Ирина. Деев тяжело глядел мимо Самарина и молчал. Тот встревожился. — Ну, понял, нет? — Понял, убери наган-то... не ровен час — отберу. Теперь слушай ты. Принесу все, как надо, как сказано. Но если ты, паскуда, хоть пальцем Ирину тронешь... — Иди, иди. Мне твоя баба не нужна, дурак. Самарин закрыл за Деевым дверь на крючок, взял со стола кружку с недопитым чаем, хлеб и, присев у печки, стал торопливо есть. Телогрейка распахнулась, внизу была видна куртка Пролетарского, подбитая рысьим мехом. Ирина долго глядела на Самарина, наконец, решилась спросить: — Жилетка-то на тебе... Пролетарского? — Знала его, что ли? — На седьмое ноября приезжал, лекцию читал... Высокий такой, черноволосый... начальник районной милиции. — Нет Николая Осиповича, тетка, царство ему небесное. Приказал долго жить. — Убил? — шепотом спросила Ирина. Самарин медленно поднял веки и взглянул на нее. Под этим взглядом Ирина медленно стала отодвигаться к стене, все больше прикрываясь одеялом. — А что было делать? Ты вот, к примеру, жить хочешь? — Самарин повертел в руке наган. — Трясешься — значит хочешь жить. Вот и живи, только мне не мешай. Меня не тронете — я вас и подавно трогать не буду. Поняли? Ирина испуганно закивала головой. Самарин сунул наган в карман и пробормотал: — А вот Николай-то никак этого понять не хотел. Я ведь, милая моя, не зверь... пока меня не трогают. Его разморило возле печки. Он развалился, продолжая машинально жевать, вдруг насторожился, вскочил, быстро и беззвучно подошел к порогу, прислушался и, рывком раскрыв дверь, уперся наганом в грудь вошедшего Деева. Втащил его в комнату, прикрыв дверь ногой. — Один пришел? — А ты в сенях глянь, — спокойно проговорил Деев, подойдя с мешком к столу. Он стал вытаскивать продукты из мешка, перечисляя содержимое: — Крупа — три кило... да не стреляй глазами-то, гляди, второй раз в склад не пойду... сахар, спички, соль, патроны... Самарин внимательно следил за Деевым. Тот уложил продукты обратно. — Всё? — Вроде бы всё, — настороженно ответил Самарин. — Плати семьдесят пять рублей, забирай и уходи. — Что-о? А если я вместо денег-то... — Самарин, как в прошлый раз, поднес к подбородку Деева наган, но тот спокойно отвел его ладонью. — Будет махать-то. Кабы не Ирина в комнате... Я тебя не спрашиваю, зачем ты здесь. Есть деньги — выкладывай, нет — ступай дальше. Но раз ты меня в свои дела путаешь — в дураках оставаться не хочу. Я ведь в этом деле... — Деев сделал четкую паузу и произнес громче, чем раньше: — Я ведь тоже рискую. — Н-ну, ты хват, паря, — пробормотал Самарин. Он переложил наган в левую руку и полез во внутренний карман за деньгами. Деев неожиданно перехватил руку Самарина, толкнул его, опрокинул на пол. В это время сзади открылась дверь, и на Самарина навалились еще двое. Через минуту, связанный, он, тяжело дыша, поглядел на Деева и прерывисто произнес: — Н-ну, ты... хват, паря! ...Стариков заканчивал очную ставку между Жернявским и Козюткиным. — Распишитесь в том, что протокол с ваших слов записан верно и вами прочитан. Козюткина увели. Жернявский проводил его глазами. — Ну, что, гражданин Жернявский, пора заканчивать? — Мне тоже кажется, что пора, — любезно согласился Жернявский. — Ужасно много мороки было. — По интегралу у меня сомнений нет. Факты злоупотреблений и хищений установлены. Дальнейшую вашу судьбу будет решать суд, прокуратура... У меня к вам другого рода вопрос: что вам известно о Самарине? — Что касается суда, уважаемый Сергей Сергеевич, — задумчиво протянул Жернявский, — то я, откровенно говоря, рассчитываю еще выкрутиться, — он поднял палец и предупредил: — Все это, разумеется, совершенно конфиденциально, безо всяких протоколов, вы понимаете меня? — Понимаю, — успокоил его Стариков. — Как говорится в таких случаях, слово к делу не пришьешь... — Именно, именно! Золотое правило, — закивал Жернявский. — А в отношении Самарина... Ну, что? Довольно экзальтированный молодой человек. Самолюбивый, злой... со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Я это не для того, чтобы создать о нем дурное впечатление... Молодость всегда самолюбива и всегда... ну, если не зла, то безжалостна, что ли... В остальном мне известно то же, что и вам. В ночь, когда сгорела школа, скрылся, что, разумеется, навлекает на него определенные подозрения... — Жернявский сделал паузу, косо взглянув на Старикова, но тот молчал. Роман Григорьевич сделал вид, что не ждет ответа и продолжал, — был задержан в Куюмбе Пролетарским. Убил его... Да вы же лучше меня обо всем информированы. Кстати, не нашли еще Самарина? — А что, вы заинтересованы в этом? — Откровенно? — лукаво улыбнулся бухгалтер. — Я ничего не протоколирую, — в тон ему напомнил Стариков. — Кабы вы так-то, без бумаг, все дело вели — эх, порассказал бы я вам, — в том же тоне продолжал Жернявский. Затем согнал с лица улыбку. — А в отношении Самарина скажу: нет, я не заинтересован, чтобы его разыскивали. Мне, сами понимаете, хватает забот сейчас. А тут — найдут его... всем известно, что он частенько бывал у меня, пойдут опять допросы: а почему бывал, о чем говорили, да не было ли разговоров насчет поджога школы или теракта в отношении партийных и советских работников... Что улыбаетесь? Все так и будет, уверяю вас... Ну, может, не до такой степени примитивно, как я об этом говорю, но будет. Ах, молодые люди, молодые люди, — вздохнул Жернявский. — Все-то на свете вы хотите выяснить, до всего докопаться. Я как-то говорил покойному Пролетарскому, земля ему пухом... кстати, он тоже бывал у меня дома, — что я старый мещанин. Я уже все видел, понимаете, все! И таких горячих молодых людей, которые хотят в кратчайший срок переделать мир, — тоже видел. В молодости все хотят переделать мир так, как им кажется лучше. Любопытство — жадное, голодное любопытство — начало познания. А нельзя ли сделать так? Или так? А конец познания — ощущение собственной несостоятельности. Я знаю, что я ничего не знаю. Вот поэтому время идет, люди стареют, умирают, а мир... А!.. — он махнул рукой. — Нет уж, разбирайтесь с Самариным без меня. — Странно, — покачал головой Стариков. — Что именно? — поинтересовался Жернявский. — Странным мне кажется ваше спокойствие. В результате проверки установлены факты хищений, злоупотреблений не на одну тысячу рублей — а вы спокойны. — Так хорошо говорили, — вздохнул Жернявский. — Ради бога, ну не начинайте все сначала. Поживете с мое — поймете. Спокойствие — мудрость старости. Уж лучше вернемся к Самарину. Кстати, мне вспомнилось одно обстоятельство. Если оно вам пригодится, конечно... В качестве версии, так сказать. — Да? — Знаете, а ведь Пролетарский и Самарин были довольно близки друг с другом. Я возьму на себя смелость утверждать, что они были в некотором роде друзьями. Вы не рассматривали вопрос о причине убийства Пролетарского Самариным с точки зрения личных мотивов? Какой-то, знаете, конфликт на почве, ну, скажем, ссоры из-за девушки или там... — Жернявский неопределенно покрутил рукой и вопросительно взглянул на Старикова. — Я подумаю, — сухо ответил Стариков. Он понял, что разговора не получается. Видел, что Жернявский открыто смеется над ним. А бухгалтер действительно торжествовал победу. Он развалился на стуле и, покровительственно глядя на Старикова, продолжал: — Черт его знает, интересная у вас все-таки работа. Я — старый пенек — и то втянулся. Ей-богу, даже жалко стало, что Самарина нет, хочется узнать, как же там все-таки произошло. Из-за чего? Ведь они были ровесниками, приехали сюда в одно время. Ну, я — из «бывших». Так я же старик. Мне трудно жить в другом измерении. А они? Нет, тут что-то не так. Слушайте, в самом деле, неужели Самарина уже нельзя поймать? Нагорит вам от начальства-то, а? — он добродушно подмигнул. — На кого вы теперь пожар этот спишете? — Найдем на кого. В дверях стоял Лозовцев. Жернявский поднялся. — Здравствуйте, Степан Максимович. Любопытно узнать, на кого же? Насколько мне известно... — он осекся и сделал шаг назад — в кабинет ввели Самарина. — Вот и встретились, — произнес Лозовцев. — Он тебя послал к Козюткину? — Он, — пробормотал Самарин. — Ошибся ты, Самарин, — усмехнулся Лозовцев. — Не тому богу кадил. Вот и пошел — один против всего мира. — Не тратьте ваше красноречие, Степан Максимович, — подал голос Жернявский. — В вопросах логики он вам не противник. Я вам отвечу... Не Самарин пошел против мира. Мир пошел против мира. «Борьба миров» — читали Уэллса? — Не читал, — признался Лозовцев. — Я много чего не успел прочесть. Сжег ты книги. Детишек и книги. Знал, что жечь. — Детишки, — повторил Жернявский язвительно, — книжки... Культуртрегеры вшивые. Он опустил голову. Затем взглянул на Самарина, и лицо его исказилось. — Болван! Уйти не смог... — он шутовски развел руками и издевательски поклонился Самарину. — Ну, что ж, давай, Жорж, рассказывай. Кто крал пушнину, кто распорядился привезти в школу керосин, кто убил начальника милиции... Вали на Романа Григорьевича — он вывезет. Всё вали! Роман Григорьевич «бывший», лишенец, ему все равно как подыхать. А ты молод, тебе жить да жить. Ошибся — бывает, вымолишь себе прощение, сдашь вон бухгалтера со всеми гуньями, — и живи, нюхай цветы. Так, что ли? — Жернявский набрал воздуху, выставил вперед костлявые пальцы, сложив из них кукиш, и, брызгая слюной, заорал так, что надулись жилы на дряблой, покрасневшей от напряжения шее. — А этого не хочешь понюхать, щенок! Не нюхал? Не приходилось? Ну, так заруби на своем молодом носу: за все будешь отвечать сам! Са-ам, хамское отродье! Лозовцев поднял брови: — Что с вами? Вы же только что его защищали. — Плевать мне на него, — устало проговорил Жернявский. — На вас, кстати, тоже. Он сел на стул, обхватив голову руками, ни на кого не обращая внимания, что-то беззвучно шепча...Эпилог
Сергей полулежал на дне лодки. В сумерках его лицо было бледным, почти белым. — Ноги мерзнут, — прошептал Сергей. Виктор не расслышал, но по зябкому движению понял, что ему холодно. Он заглушил мотор, стал расстегивать телогрейку, потом, что-то вспомнив, застегнулся и шагнул к лежащему Баландину. — Повернись. Пока Виктор освобождал его от телогрейки, тот с усмешкой смотрел на него, потом сказал: — Три раза я тебя на мушке держал: на болоте, потом, когда вы с ним за поселок ходили, и сейчас. — Что ж не стрелял? — поинтересовался Виктор, сняв с него телогрейку и снова надев наручники. — Кабы знать... — угрюмо проговорил Баландин. — Ничего, — утешил его Виктор, похлопав по плечу. — С тебя и так хватит. На полную катушку хватит, понял? Он обернул телогрейкой ноги Сергея, лежавшего с закрытыми глазами, затем, увидя, что тот открыл их, чуть заметно подмигнул ему: — Как дела? Бодришься? — Ты знаешь — бодрюсь, — ответил Сергей. — Слабость только... и язык пересох. Виктор опустил за борт платок, отжал его и подал Сергею. — Ерунда. Через полчаса будем в поселке — там врач. Река тихая, дойдем, как по облаку. А пулю, когда вытащат, подаришь мне. За труды... Он с ненавистью рванул шнур, и мотор взвыл. Сергей был плох — это можно было определить по черным теням под глазами, по осунувшемуся лицу, на котором даже губы не выделялись и были такого же пепельно-белого цвета. Сергей плох, и даже если не будет перитонита, надежды мало: в поселке только фельдшер. Впереди, справа, берег стал расти, теснить реку. Виктор нагнулся и крикнул Сергею: — Не спи, слышишь? Не спи! Мыс Пролетарского проходим. Скоро будем на месте. И тут он внезапно вспомнил, где встречал эту необычную, задорную фамилию. Он видел ее сотни раз в вестибюле краевого управления внутренних дел, там, где на мраморной доске были выбиты имена работников милиции, погибших в разное время. И среди них, во втором ряду был он — Пролетарский. И глядя на черный мыс, Голубь задумался о судьбе неизвестного ему человека. Он ничего не знал о нем, Жернявском, Лозовцеве, Иркуме... Он не знал, что Самарин после убийства Пролетарского бежал второй раз, когда его перевозили в Красноярск. Понемногу он научился паять, лудить, сапожничать, чем и зарабатывал на жизнь. В своих скитаниях все ближе передвигался к Ленинграду — тянуло в родные места. Там его и задержали. 31 марта 1938 года в одну из картотек Красноярского Управления НКВД поступила карточка, в которой значились данные Самарина, дата ареста, основание ареста и дата исполнения приговора. Эта карточка и сейчас лежит в картотеке — потемневшая, с выцветшими от времени строчками. И этот кусочек картона — единственное, что осталось на земле от Георгия Самарина. Пролетарский же был похоронен в Байките. Его мало уже кто помнил из старожилов. Но красные следопыты из местной школы восстановили историю его жизни и смерти, где — списавшись с учреждениями, где — выспросив у стариков, а где и — по-мальчишески приврав. И жизнь Николая Пролетарского обрела новый смысл и значение через столько лет после того, как окончилась. Ничего этого не знал Голубь, проходя в «казанке» с задержанным преступником и раненым товарищем мимо мыса Пролетарского. Он слушал нудное гудение мотора и напряженно вглядывался в темноту. Впереди показались огни поселка...
Ученики Сократа, или Пятое доказательство бессмертия души
Время всесильно: порой изменяют немногие годы Имя и облик вещей, их естество и судьбу.Платон
Пролог
— А вы в милиции не интересовались статистикой разводов? Голубь удивленно воззрился на Бориса Дмитриевича. Тот стоял возле книжной полки, листая «Уголовное право», и весь вид его выражал крайнюю заинтересованность содержанием книги. Елена Петровна, появившаяся из кухни с чайником, заглянула через плечо своего мужа и, пожав плечами, прошла к столику — накрывать. — При чем тут милиция? — Сейчас объясню. Борис Дмитриевич аккуратно положил книгу в шкаф, грузно опустился в кресло перед столиком. — Ты несколько лет обучала английскому языку этого человека, и, как выяснилось, время потрачено зря. Вообще, студентов, которым бы пригодился твой английский, можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, чувствуешь ты себя неплохо, угрызения совести не испытываешь, так? Теперь представь себе: Виктор ведет одно дело, оно у него не получается — закрывает его. Затем второе, третье, десятое. Если он честный человек, в чем я не сомневаюсь, у него должен выработаться комплекс, чувство бессилия, подавленности. Тут ведь не английский преподавать, тут горе людское. Раз ошибся, другой... И если бы еще у него была семья... Думаю, ты согласишься, что постоянные неудачи, хронические, могут в конце концов разрушить семейную гармонию. Это же своего рода коррозия, вибрация, действие которых испортит любой механизм. Не так? Борис Дмитриевич и Елена Петровна зашли к Голубю попрощаться: они уезжали по туристической путевке на теплоходе «Антон Чехов», верхняя палуба которого была видна из окна его квартиры, — Виктор жил рядом с речным портом. Живя в одном городе, Голубь редко виделся со своей преподавательницей. Это был другой слой его жизни — яркий, многоцветный, но оставшийся только в памяти. И появление Елены Петровны с мужем — живых свидетелей этой жизни — наполнило его, тридцатипятилетнего одинокого мужчину, загруженного суматошными милицейскими делами, — молодой и веселой радостью. Виктор с наслаждением наблюдал, как хозяйничала за столом Елена Петровна, невысокая статная женщина, не изменившаяся со студенческих времен, если не считать обильной седины. И он с удовольствием подыгрывал Борису Дмитриевичу, подбиравшемуся как всегда при встречах, путем сложных логическихкомбинаций, к своей обычной теме — холостяцкому образу жизни Виктора. — Я понимаю и ценю вашу попытку оправдать мое одиночество, — отозвался Голубь, — но, ей-богу, проблема кажется мне надуманной. — А статистика... — Статистики я не знаю, но уверен, что она здесь тоже ни при чем. — Позвольте... — Человек адаптируется в любых условиях. Один мой бывший приятель, сейчас начальник отдела, своя «Волга», — наловчился даже использовать милицейские суровые будни для укрепления семейной гармонии. Жена его как-то жаловалась: мой Олег похудел от этой работы. Что ни ночь — то в засаде сидит. А Олег всю жизнь в пожарной охране проработал, в управлении, и о засаде представления не имеет. — Фу, Виктор, при чем тут это? — поморщилась Елена Петровна. — Борис говорил о влиянии работы на семейный быт, а ваш Олег элементарно обманывает жену. У вас что — все такие? Нет же? — У нас все разные, — согласился Голубь. — Один глуп, другой умен, третий чиновник, четвертый — наоборот, романтик. Я в телевизионные спектакли не верю — во всех этих лубочных «знатоков». Но в одном с Борисом Дмитриевичем согласен. Хоть и не «закрываю» дел. Неважно. Следователь, участковый, инспектор уголовного розыска... Средний, нормальный человек. Службист. Он с чего день начинает в милиции? Он практически каждый день начинает с того, что получает в руки неразрешенный материал. Задачу. Причем задача не для развлечения ума дается. Это — избитый, обворованный, обманутый, живой человек. И гарантии, что преступник отыщется, истина восторжествует, — не дашь. И комплексы всякие испытываешь. Попробуй не испытать, если на каждой планерке начальство спрашивает: раскрыл? когда раскроешь? что сделал, чтобы раскрыть? Здесь уже не человек — человек в кабинете остался. Здесь уже статистика пошла. Тут все комплексы испытаешь — от неполноценности до зеленой тоски, до желания плюнуть на все и напиться. Так что вы, Борис Дмитриевич, верно подметили основное, хотя может, формулировку не ту употребили. Постоянное чувство обязанности, долга. А если еще и неудачи пойдут — тяжело, конечно. Но мне кажется, вы преувеличиваете силу комплексов. Среди моих коллег мало меланхоликов. Если выбрать средний тип милиционера, на мой взгляд, получится этакий спокойный, осторожный в делах человек, с довольно критическим взглядом на жизнь и... ну, и развитым чувством юмора. — Не циник? — полюбопытствовала Елена Петровна. — У молодых работников встречается, но это скорее кокетство. Как у первокурсников — блистание эрудицией. Помните, Елена Петровна, у нас присловье ходило на факе: «Как говаривал старик Жорж Санд...»? С годами проходит. Точнее, трансформируется в здоровый реализм. Может несколько грубоватый, если судить со стороны. — Вот уже интересно, — оживился Борис Дмитриевич. — Ваш «грубоватый реализм» — отчего он? Не от того ли, что устаете сопереживать несчастным? Не от притупления чувств? Каждый день видеть обиженных... Привычка, а? — Бывает, — согласился Виктор. — Недаром милицию попрекают толстой кожей. Только тут ведь иногда выбирать надо: сопереживать или помогать горю. Не всегда это одно и то же. Я раз дежурил — старушка скончалась. Нашли автобус, привезли тело к милиции, чтобы в морг отправить, бумаги разные оформить — а тут по телефону звонок: через две остановки женщину грабят. Час ночи. Патрульная машина на другом конце района, дежурная тоже на вызове. Других машин нет. Что делать? — И вы поехали на грабеж в автобусе? А родственники? Вы им хотя бы объяснили? — В двух словах. Времени не было. Елена Петровна покачала головой: — Да уж, действительно... здоровый реализм. Иначе не скажешь. — Не мы виноваты, — пробормотал Голубь. — Я до сих пор помню, как внучки старушки на меня смотрели. — Задержали грабителей? — после короткой паузы спросил Борис Дмитриевич. Виктор вздохнул. — Звонила пьяная девчонка. Она повздорила со своим приятелем и решила попугать его милицией. У нас частенько бывают ложные вызовы. — Тяжело было? — участливо спросил Борис Дмитриевич. — Здоровый реализм выручил, — усмехнулся Виктор. — Это же не единственная такая история. — Нет, что ни говорите, вам нужен крепкий тыл, — назидательно проговорила Елена Петровна. — Тоже мне — Шерлок Холмс. Сопьетесь или станете бабником. — Критический возраст уже прошел, — осторожно заметил Голубь. — И потом, мне поздно жениться. — Это никогда не поздно, — запальчиво возразила Елена Петровна. — Стать бабником или жениться? — осведомился Борис Дмитриевич. — Прекрати, Борис! — окончательно рассердилась Елена Петровна. Ее обычно добродушное лицо, тронутое оспинками, стало чужим и холодным. — Скажите, Виктор, для чего вы живете? Семьи у вас нет, заботиться не о ком. Особых увлечений за вами не замечала. Для карьеры? Виктор прыснул. Он вдруг вспомнил своего знакомого, Толю Шмыткина. Круглый, как колобок, большеголовый лейтенантик, лет десять назад он работал в уголовном розыске. Толя ничем не выделялся среди других, разве что своей, сохраненной с детства и пронесенной сквозь все житейские невзгоды привычкой ковырять в носу. Недавно Голубь за каким-то делом пошел в отдел службы и там на дверях одного из кабинетов к своему удивлению увидел его фамилию. Недолго думая, он открыл дверь. В большой комнате за полированным столом сидел Толик Шмыткин в новых майорских погонах и... самозабвенно ковырял в носу. Голубя он не заметил. — Почему вы смеетесь? — подозрительно глядя на Виктора, продолжала допрос Елена Петровна. — Я понимаю, что вы не карьерист, но тогда позвольте все-таки узнать: для чего вы живете? Ходите на работу. Раскрываете преступления. И все? Не маловато ли? Не сократили ли вы свой производственный план, как у нас делают, чтобы потом ходить в передовиках? — Это очень... деликатный вопрос, — поежился Виктор, с надеждой взглянув на Бориса Дмитриевича. Тот стрельнул глазами в сторону жены и беспомощно развел руками. — Думаю, наша многолетняя дружба дает мне право на такой вопрос, — безжалостно парировала Елена Петровна. — Но я боюсь, что не могу ответить однозначно, — пробормотал Виктор. — Ну, хорошо, я попробую, хотя... Понимаете, я считаю, что моя работа уникальна. Каждый раз она ставит меня в такое положение, что я... должен принять решение, которое меняет судьбу человека, простите за громкое слово. Это только в кино обкладывают преступника свидетелями, отпечатками пальцев... А ведь субъективный момент имеет большое значение, хотя его в систему доказательств не включишь. Он-то, преступник, ребенка, скажем, в садик отводит по утрам. В деревню к матери за продуктами едет. Словом, живет. Потом уж суд ему даст, что причитается. А пока у меня кроме подозрения ничего нет. И вот смотришь на него, на свидетелей, на потерпевших... Кто они? Чем живут? Порядочные люди или нет? Страшно важно, чтобы твое субъективное мнение совпало потом с тем, что дадут доказательства. Потому что прежде, чем совершить преступление и оставить какие-то следы, человек мысленно его уже себе позволил. Он уже мысленно выступил против нравственных правил, установленных обществом. А это тоже в чем-то выражается: в словах, поступках, образе мыслей... Может даже безобидных на первый взгляд. — Что же вы хотите сказать, что преступников гораздо больше, чем вы ловите? — спросил Борис Дмитриевич. — Наверно их действительно несколько больше, но я ничего не хочу сказать. Я хочу задать вам вопрос. Можно? — Ну-ну! Борис Дмитриевич задорно взъерошил свои седоватые короткие волосы и снял очки, уставя в Голубя выпуклые серые глаза. — Только не обижайтесь. Будет что-то вроде теста. Вы ведь летом работаете в приемной комиссии? Почему вы ни разу не получили взятку у родителей абитуриентов? Я полагаю, предложения имели место? — Виктор, что вы говорите! — негодующе произнесла Елена Петровна. — Подожди, Лена... В конце концов, ты первая открыла этот ящик Пандоры, — Борис Дмитриевич обратился к Виктору: — Хорошо. Как я должен отвечать? — Так, будто отвечаете себе. — Н-ну, потому что это... это... неприлично. — Двойка, — безапелляционно оценил Виктор. — Но почему? — удивился Борис Дмитриевич. — Неприлично выражаться нецензурной бранью. Неприлично оправлять естественные надобности в общественных местах. А что неприличного в том, что один интеллигентный человек делает одолжение другому интеллигентному человеку и получает за это подарок? — Эх, ты! — Елена Петровна с чувством превосходства посмотрела на мужа. — Взятка не может быть приличной или неприличной. Она карается законом. Пять лет. Или шесть. Неважно. Ответ верен? — Ответ верен, — грустно кивнул головой Виктор. — А почему такой тон? — недоверчиво спросил Борис Дмитриевич. — Потому что из вашего ответа вытекает, — объяснил Виктор, — что воровать нельзя, так как можно получить пять лет. Следовательно, если угрозы получить пять лет не возникает, то воровать можно. Тут уж рукой подать до оригинальной идеи «не пойман — не вор». — Фу, черт! — вздохнул Борис Дмитриевич. — Какой-то порочный круг. Хорошо, сдаюсь... — Нет, погодите! У меня еще есть ответ. Елена Петровна положила руку на плечо мужа. — Мы забыли. Даже странно... То, о чем говорит Виктор — безнравственно. — Верно. Это нарушение не правил приличия, а нравственных правил, установленных обществом, — помимо того, что это, разумеется, уголовное преступление. И на мой взгляд, преступление всякое опасно не столько ущербом, причиненным здоровью людей или материальному их положению, сколько — забвением этих правил. Как-то столкнулся с одной кражей, пустяковая такая кража. Рабочий у себя на даче клетку для кроликов делал. Понадобилась ему металлическая сетка — вот и украл на заводе. Разговариваю, смотрю — ну, нормальный парень! Семьянин, производственник и так далее. Жаль мне его стало. Что же ты, говорю, друг, душу свою бессмертную, хорошую, человечью, на кроличью сетку разменял? А он подумал так, серьезно, и говорит: насчет сетки — виноват, а про душу вы ерунду несете. Нет никакой души, тем более, бессмертной. Все помрем — и кто ворует, и кто не ворует. Сцепились мы с ним. Я ему кричу: твоя душа в твоих детях останется, твои мысли к ним перейдут, как ты к обществу относишься, так и они. А он — ни черта в моих детях не останется, я сам по себе, дети — сами по себе. От человека не мысли, не слова остаются, а дела. Вот дача, говорит, от меня останется и детям перейдет. Так ни до чего и не договорились. — Интересно, — Борис Дмитриевич с наслаждением потер ладони. — Лена, твой ученик уверовал в бессмертие души. Где? В милиции! Мало того — пропагандирует это среди правонарушителей. Кошмар! Как вы дошли до такого, Виктор? — Да никак, — усмехнулся Виктор. — Просто считаю, как поется в одной песне, — «ничто на земле не проходит бесследно». — А вы знаете, что автор полюбившейся вам песни содрал ее идею у Сократа, который и додумался до теории бессмертия души, если верить Платону, его ученику. — Ну да! — удивился Голубь. — Чтоб я документ потерял, как говорят ваши подшефные. В день своей казни Сократ в беседе с учениками привел четыре доказательства бессмертия души. А ваши соображения о нравственном обязательстве личности перед обществом где-то смыкаются с его положениями. Это начинает наводить меня на крамольную мысль о том, что бессмертие души — не такая уж и ерунда, как принято думать в наше рациональное время. Кстати, у меня в саквояже лежат сочинения Платона. Вчера один симпатичный юноша предложил их на улице за сравнительно божескую цену. Я посмотрел — штампа нет. Как вы думаете, они действительно из личной библиотеки? — В лучшем случае — из папиной, — ответил Голубь. — В милицию я бы его не утащил, поэтому сделал единственное, что мог. Лена, принеси, пожалуйста. Что-то мне тяжело встать. Воздуху не хватает... Елена Петровна внимательно взглянула на мужа и вышла. Она принесла книги и положила их на стол, отодвинув чашки с чаем. — Тебе плохо, Борис? — Ничего особенного, не беспокойся. Вечер... Вечером всегда душно. Лицо у него посерело, покрылось росинками пота. Виктор встал и приоткрыл окно. Пахнуло свежестью. — Когда у вас отправление? — спросил Голубь. — Через четыре часа, — ответила Елена Петровна, — а что? — Борис Дмитриевич может полежать пока. А мы с вами поболтаем на кухне. — Я нормально себя чувствую, — запротестовал Борис Дмитриевич, но, увидя обращенный на него взгляд жены, махнул рукой: — Ну, хорошо, хорошо. Он тяжело поднялся и криво улыбнулся Виктору: — Ну, ведите... ученик Сократа. — Уж вы скажете, — смутился Виктор, поддерживая Бориса Дмитриевича и направляясь с ним к дивану. — Я и не знаю о нем ничего. — А вот прочтите — узнаете. Я вам и книги оставлю. — Да прочесть-то прочту. Только не в коня корм. Мне бы что полегче. А кроме того — уж времени больно много прошло. Что мне этот грек нового даст? Я ж историю учил. Детство человечества. Земля у них на трех китах стоит, а человек — игрушка в руках богов. И потом, эти древние греки — такие многословные. Я еще по институтской программе помню, — осторожно уговаривал Голубь Бориса Дмитриевича. Он уложил его на диван, накрыл ноги шерстяным одеялом. Борис Дмитриевич лежал, тяжело дыша, с закрытыми глазами. Медленно открыл их, поманил Виктора. Тот присел на край дивана. — Сократ, по свидетельству Платона, в день казни описывал своим ученикам Землю такой, какой ее видно из космоса. Причем эти описания временами удивительно схожи с теми, что встречаются у наших космонавтов. — Борис Дмитриевич значительно поднял палец и добавил: — Это вам за трех китов. Понятно? — Понятно, — смущенно ответил Виктор. — Обязательно прочту. Я ведь... — Нет, сейчас я вам... еще одну штуку... в «девятку». Я когда-то был неплохим нападающим... Сейчас, отдышусь. Он помолчал немного, положив успокаивающе ладонь на руку Голубя: — Вот. Слушайте. Это Петр Вяземский:Глава первая
Критон горестно смотрел на спящего. Тот был с головой укрыт серым шерстяным одеялом, виднелись только коричневые потрескавшиеся пятки. Видимо, спящему стало холодно, потому что он пытался время от времени спрятать ноги под одеяло. Однако одеяло было короткое, а кроме того, мешала цепь, брякавшая при каждом движении: ноги были закованы в кандалы. — Как ты можешь спать! — еле слышно прошептал Критон. Слезы показались у него на глазах при виде этих беспомощных попыток согреться. — Как ты можешь спать, будто ничего не случилось! — Ты прав, — донесся из-под одеяла голос, — уснуть совершенно невозможно: ногам холодно, кандалы натерли кожу до ссадин. И вдобавок ко всему ты так красноречиво сопишь, будто тебе предстоит изжарить меня живьем. С этими словами человек отбросил одеяло и, спустив ноги на пол, сел. Это был обрюзгший, толстый старик невысокого роста, курносый, губастый. Седые клочковатые волосы на висках и затылке росли обильно, однако почти от темени начиналась залысина, переходящая в крутой, бугристый лоб, который отделялся от мощных надбровных дуг глубокой продольной складкой, образовавшейся, вероятно, вследствие постоянной привычки смотреть исподлобья. Тем не менее, взгляд его, против ожидания, не казался хмурым. Видимо, это происходило оттого, что глаза были выпуклыми, даже выпученными, в веселых старческих морщинах, ясные и лукавые. Это несообразие: привычки смотреть исподлобья и добрых глаз, курносого, вислогубого лица сластолюбца и огромного нависающего лба, — вводило в заблуждение многих людей, впервые видевших старика и пытавшихся судить о нем по внешности. Сирийский маг и физиономист Зопир при встрече охарактеризовал его как человека, духовно ограниченного и склонного к пороку. Взрывом веселого хохота встретили друзья старика эту характеристику, потому что относилась она не к кому иному, как к Сократу — бедному, простоватому на вид афинянину, чьи безобидные дурачества в спорах, записанных через несколько лет по памяти его учениками, грозным и веселым гулом прокатились по истории всех времен и народов, обрастая, как снежный ком, толкованиями ученых и философов. В марте 399 года до новой эры по доносу бездарного поэта-трагика Мелета, владельца кожевенных мастерских Анита и оратора Ликона Сократ был обвинен в отрицании богов, признанных Афинами, и совращении молодежи. Афинский суд присяжных числом в 500 человек, перевесом в 80 голосов, приговорил его к смерти. 29 дней ждал Сократ приведения приговора в исполнение. Сегодня было утро тридцатого дня. Сегодня Сократ в соответствии с приговором должен был умереть. Сегодня он должен бежать! Так решил Критон. У него водились деньги — в отличие от Сократа. Симмий и Кебет из Фессалии тоже дали денег. Тюремный сторож ублаготворен, дело за малым. Правда, Сократ стар. Но ведь весь побег — выйти за ворота тюрьмы (двери откроет тот же сторож). Затем добраться до Мегары. Совет Одиннадцати, конечно, будет в гневе. Потаскают друзей философа. Но и то сказать — кто будет особенно волноваться оттого, что сбежал семидесятилетний старик? 210 присяжных голосовали против обвинения. А когда выступал Мелет, даже поддерживавшие обвинение смеялись над ним. Сократ сам настроил против себя демос: смеялся над своими доносчиками, иронизировал над афинянами, не плакал, не привел в суд Ксантиппу с детьми, чтобы, как это принято, разжалобить присяжных. Отрицал обвинение и, по своему обычаю, довел его до полного абсурда, приговорив себя к... обеду в Пританее! Как будто он был победителем Олимпийских игр, а не обвиняемым! Разумеется, граждане возмутились. Смеяться над доносчиками — куда ни шло, но смеяться над процессом судоисполнения, над вековыми традициями... над гражданами, которые, в сущности, собрались узнать в чем дело и, веди себя Сократ подобающим образом, может, даже помочь ему... Это к добру не привело. Критон вздохнул. — Ну, что ты вздыхаешь? Сократ потянулся, похлопал себя по груди и укоризненно взглянул на друга. — Я знаю тебя всю жизнь и, сколько помню, ты всегда вздыхаешь. У меня сложилось впечатление, что повод для тебя не играет роли. Сейчас, как я понимаю, ты вздыхаешь оттого, что меня приговорили к смерти, и тебе меня жаль, не так ли? — Так, Сократ, увы, так. — А если бы речь шла о штрафе в тридцать мин серебра, ты не вздыхал бы? Точно так же вздыхал бы! — Тридцать мин — это большая сумма, — вздохнул Критон, — но лучше бы все-таки такой штраф, чем... — Ах, друг мой Критон, — Сократ тихо рассмеялся, — за столько лет нашего знакомства — как же плохо ты распознал меня! — Но почему, Сократ? — удивился Критон. — Попробую объяснить. Ты ведь не будешь спорить с тем, что я считаю, да и многие другие считают меня человеком, всю жизнь пытавшимся найти истину? — Не только не буду... Я тоже считаю тебя таким человеком! — А как ты полагаешь: можно ли заставить меня прекратить эти поиски путем наложения штрафа в тридцать мин серебра? — Думаю, что нет, Сократ. — Ну, а под угрозой смерти — можно ли заставить человека отказаться думать, сопоставлять, спорить... Искать? — Думаю, что нет, Сократ, — повторил Критон. Слезы снова навернулись у него на глаза. — Но я должен заметить тебе, что с твоей смертью прекратятся все поиски... — Ну, во-первых, — усмехнулся Сократ, — поиски истины не могут прекратиться с моей смертью: истина нужна всем. А во-вторых, смертно тело, что касается души... — Сократ! — Критон осушил слезы рукавом и попытался говорить спокойно. — Я должен сообщить тебе две важные вещи... — Подожди, мы говорили о душе... — Сократ, я прошу... — Критон умоляюще смотрел на друга, увлеченного возможностью поспорить. — Ну, хорошо, — вздохнул Сократ, — говори свои важные вещи. Первое? — Первое: совет Одиннадцати решил, что ты умрешь сегодня, как только зайдет солнце. — Так, — Сократ задумался. — Я действительно засиделся тут. Видимо, срок запрета на казни истек. А второе? — Второе: ты не умрешь! — Не вижу последовательности, — заметил Сократ. — В твоем рассуждении отсутствует звено, обосновывающее такой вывод. Критон оглянулся и возбужденно зашептал: — Побег! Мы устроим тебе побег. Ты укроешься в Мегаре. В Фивах... Сократ с сомнением взглянул на свой отвислый, толстый живот. — Интересно было бы взглянуть на меня со стороны во время побега. И потом, скажи на милость: что я буду делать в Фивах? Предсказывать будущее по собачьим внутренностям? Или давать уроки философии за деньги, как это принято теперь у наших софистов? Но тогда мне надо будет похлопотать о перемене имени. О лишении меня гражданства афиняне и так позаботятся. — Ты отказываешься от побега? — с ужасом проговорил Критон. — Пока нет, — невозмутимо ответил Сократ. — Просто выясняю вместе с тобой его последствия. Кстати, не подскажешь ли мне, что ответить моим будущим слушателям в Мегаре, если они поинтересуются, как соотнести мои утверждения о необходимости подчинения гражданина государственным законам с моим же собственным поведением? — Он отказывается от побега! — Критон машинально качал головой и беззвучно шевелил губами. — Друг мой! — Сократ обнял его за плечи. — Чем ты так огорчен? Тем, что тебе не удается сберечь нескольких лишних лет существования этому отвислому брюху? Этому дряхлому телу? Ты действительно полагаешь, что я в моем возрасте боюсь смерти? — Не один я хочу, чтобы ты жил, Сократ, — Критон убрал его руку с плеча. — И ты прекрасно понимаешь, что не о дряхлом твоем теле идет речь. Твои близкие хотят, чтобы ты жил. Твои ученики хотят этого же. Не где-то там, в потустороннем мире, а здесь — с нами. — Мои близкие, — Сократ накинул на себя одеяло, прошелся по комнате. — Мои ученики... Тиран Критий был моим учеником. А доносчик Мелет? Сколько раз он терпеливо выслушивал меня, пытался спорить, соглашался... Определенно, он имеет все права называться моим учеником. И Ксенофонт. Персидский наемник Ксенофонт — это ведь тоже мой ученик! Нет, друг мой Критон, все-таки ты преувеличиваешь влияние на тех, кто в разное время был близок мне. Конечно, молодых людей, длительное время общавшихся со мной и пытавшихся, подобно мне, во всем дойти до истины, — таких людей, в общем-то, и можно назвать учениками, стыдного в этом ничего нет. Но вот какую истину они откопают в своих поисках — предугадать сложно. А тем более связывать с моим именем. Люди берут истину и делают из нее то, что им кажется истиной. И всякий раз по-своему. Разве я учил быть доносчиком? Разве я оправдывал тиранию или восхищался наемниками? А кроме того, милый Критон, я подозреваю, что некоторая часть учеников предпочитает видеть меня в потустороннем мире. О Мелете и Критии я уже говорил. Алкивиаду тоже иногда хотелось, чтобы Сократа не стало... Так, видишь ли, действовала моя речь на его совесть. Так что твой тезис об учениках, оплакивающих своего учителя, обладает некоторыми изъянами. Что касается близких... Мне очень не хотелось бы огорчать их, особенно Ксантиппу, — Сократ слабо усмехнулся. — Сколько крику было, когда она узнала о приговоре... Можно было подумать, что у нее на кухне разбили горшок с маслом. Мне остается только надеяться, что вы, мои друзья, позаботитесь, в меру ваших сил, о ней и детях. — Сократ, Сократ! Не о том сейчас нужно говорить! — отчаянно мотая головой и зажмурившись, перебил его Критон. — Конечно, ты меня переспоришь и убедишь в чем угодно — даже в том, что мне вместе с тобой нужно умереть. Но ведь все это слова... От твоей смерти никто и ничего не выигрывает! — Нет, Критон, это не слова... Я ни в чем не виновен. Но если я уклонюсь от приговора, то дам повод всем и каждому сказать: вот видите, Сократ испугался справедливого наказания. Значит, он все-таки виновен? А все, что он говорил в свое оправдание, было пустой болтовней, жалкими попытками уйти от ответственности. Когда же это не удалось — он просто-напросто сбежал. В дверь просунулась взлохмаченная голова тюремного сторожа. Он сделал отчаянный знак Критону и скрылся. — Ну, вот, что я скажу теперь сторожу? — грустно проговорил Критон, поднимаясь. — В предвкушении денег он так вдохновлен идеей твоего побега, что я просто опасаюсь что-либо объяснять ему. Он сочтет меня, да и тебя тоже либо сумасшедшим, либо провокатором. Он мне просто не поверит! — Отдай ему половину причитающейся за побег суммы. Думаю, после этого он разделит нашу точку зрения, — Сократ посмотрел на друга. — Что касается веры тюремного сторожа, полагаю, ее отсутствие не должно чересчур омрачить остаток твоей жизни. Мир состоит не из одних тюремных сторожей, мой бедный Критон. Утешайся этим. Сторож, как и опасался Критон, вначале ничего не понял. — Сейчас придут Одиннадцать — снимать оковы и объявить приговор... Я уже ничего не смогу сделать, — твердил он. — Еще есть время. Почему вы медлите? Критон пытался растолковать ему, в чем дело, но сторож только качал головой: — Надо торопиться! Что значит «не хочет бежать»? Такой человек — и не хочет бежать! Он просто не знает, как это происходит. Ты не говорил ему? Цикута — она горькая. Ох, горькая! Критон, досадливо морщась, сунул деньги сторожу и, пробормотав, что вернется, когда Одиннадцать уйдут, почти побежал к выходу. Сторож посмотрел на деньги. Двинулся было к камере Сократа, снова взглянул на деньги, зажатые в кулаке. Собственно, это не его дело. Такой умный человек — и не хочет бежать. Значит, есть причина. Сократ мудр, а он всего-навсего тюремный сторож. Боги видят, он хотел добра Сократу. Он не обвинял его ни в чем. Это архонтам что-то не понравилось... Но, слава Зевсу, у нас же демократия. Тиранов свергли, и у нас демократия. И тем не менее... Конечно, Сократ беден. Ходит босой. Все Афины его знают. Ходит босой, говорит, что думает, никого не боится. При тирании говорил, что думал, и сейчас... Это не дело. Надо же соображать, когда следует говорить, что думаешь, а когда... А тем более, если ты беден. Бедный человек не должен так себя вести. Хоть при тирании Тридцати, хоть при демократии Одиннадцати. Бедный человек должен помалкивать. И уж, конечно, не совать нос не в свое дело. А тем более, если тебе заплатили деньги... вот как сейчас, например. Сторож даже остановился и головой помотал от удивления, ошеломленный таким неожиданным поворотом мысли. Надо же, как складно — к месту вышло! Он хоть и не философ, а тюремный сторож, однако, коснись до дела, то, пожалуй, и Сократу не уступит, так-то! И для верности повторил вслух: — Тебе заплатили деньги? Огляделся — не слышит ли кто — и подтвердил шепотом: — Заплатили. Еще раз огляделся и, многозначительно подняв палец, посоветовал: — Ну, и помалкивай! И новоиспеченный ученик Сократа, довольный философским уроком, который он преподал самому себе, направился к выходу.Глава вторая
— Я еще раз повторяю: тебе заплатили деньги? — Ну, заплатили. — Вот и помалкивай в тряпочку! Федька со злости так вертанулся на диване, что у того внутри торжественно запели пружины. Ладно бы этот придурок, бочкомёт — хозяин гаража сказал. А то кто? Женька, умница, очкарик, студент — тьфу! Хозяин-то помалкивал, только глазами зыркал. Боялся. Забоишься! Гараж-то блатной. На самой горе, впритык к дачной дороге. Там и так живого места от гаражей нет. А тут — на тебе! Стали заднюю стенку выравнивать — и наткнулись на этот скелет. Аж онемели все. Хорошо — коробка уже стояла, с дороги не видать. Хозяин сразу разговор завел, дескать туда-сюда, захоронение, видать, старое, могилка безымянная, ерунда, мол. А какая ерунда, если скелет, как есть, голый — ни лоскута, ни обутки, а в черепе дыра с кулак, кость ведь, не штукатурка — сама не отвалится. Федьке, конечно, было все это до лампочки. В газету он писать не собирался, в милицию докладывать — тем более. Да и хозяин подстраховался: объявил, что назавтра выплачивает половину обещанного за работу и накидывает четвертак... если они «это» по-тихому уберут. «Это» они с Женькой обернули старым брезентом, перетянули веревками и на следующий вечер вынесли из гаража. Спустившись немного с горы, по дачной дороге, сползли в глубокий овраг, приспособленный дачниками под мусорную яму, и там закопали сверток в кучу опилок, привалив для верности это дело сверху невесть откуда взявшимся кузовом от машины. — М-да-а, — протянул Федька, когда они выбрались из оврага и некоторое время молча стояли, глядя в темную пустоту под ногами. — Упокоили... душу раба божьего. Женька молчал. — Что молчишь... гробокопатель? — Ты же за это деньги получил, — сухо ответил Женька. — Как собаку, — продолжал меланхолично Федька. — А ведь человек был. Вот не разобрал я — мужик или баба? — Мужчина, видимо. Таз узкий, пропорции... — Во! Девок, видать, обихаживал, а? Думал ведь о чем-то, планы строил. Друзья были, враги... И помер, наверно, не просто. А ведь никто ничего... Ни одна живая душа не знает. И не узнает. Мало того — последнего покоя лишился из-за того, что какому-то дерьму куриному для его вонючего «козла» стойло нужно. Так-то подумать — зачем людей хоронят? Вон в яму свалил, да опилом присыпал. А? Вот тут Женька его и обрезал. Дескать, получил деньги — молчи в тряпочку. Страшно Федька обиделся. То есть, не мог объяснить почему. Деньги он действительно получил, все верно. Но ведь не по-людски это. Думал Федька — поддержит его Женька. Хоть словом. Либо в оправдание скажет, что ли... Вроде, «все там будем» или еще что... Сказал! А тем более Федька оскорбился, что уважал приятеля. Парень головастый, студент-биолог, Женька Казанкин... Учится очно, но не на родительских кусках, как сейчас принято. Сам себя кормит. Они на шабашке познакомились. Федька уважает самостоятельных парней. Не таких, конечно, которые на барахолке фарцуют — те тоже самостоятельные, но мразь-спекулянты. И не таких, что за лишнюю денежку куда хочешь по уши залезут. Женьке деньги для спокойной жизни нужны. Да еще — для книжек. Вот этому трезвому и разумному отношению к жизни Федька и завидовал, твердо понимая, что сам к такому отношению не способен. За это и уважал Женьку Казанкина, хотя посмеивался над приятелем, но верил ему во всем. А тут — на тебе! Ровно Федька один на этот гараж подрядился, а Женька тут вроде Иисуса Христа. В дверь постучали. Первый час — свой бы позвонил. Федька осторожно отвернул одеяло, чтобы не разбудить сожительницу, встал и пошел в коридор — открывать. В дверях стоял пьяный парень. Грозно насупившись, он с трудом представился: — Я... Федька! — Я тоже, — хмуро ответил Федька, — чего надо? Парень насупился еще страшнее. — Ты вчера мою Райку за гаражами тискал? Эт-то дело... подсердешное! Ставь фунфырь! — Иди, брат... поспи, — сострадательно посоветовал Федька, — я по-за гаражами не таскаюсь. И с Райкой твоей... Не то чтобы тискать... — Не-е... так не п-пойдет... То есть... почему? Мне парни сказали... Это ты был, из восемьдесят четвертой квартиры... Рыжий... Р-разлучник! Ставь фунфырь, говорю! — Пошел ты! — Федька выругался. — Я что — рыжий? Это что — восемьдесят четвертая квартира? Ходишь тут, рюмки собираешь... Иди лучше за Райкой своей пригляди. А то опять... обидчика искать придется. — Сорок восьмая... — упавшим голосом проговорил парень, разглядев номер квартиры. — Извиняюсь. И уже собираясь уходить и держась за перила, снова повернулся к Федьке и с надеждой спросил: — А может, все-таки найдется выпить? Федька хлопнул дверью и побрел в комнату. Долго ворочался, пытаясь вновь вызвать в себе злость к Женьке за его поведение. Но злость не возвращалась. Была пустота. И Федька заснул. ...Истошный визг подкинул его на постели. Мгновение соображал, где он, затем пошарил рукой — не Анна ли визжала? Сожительница была на своем месте у стенки: из-под одеяла доносились совершенно мирные звуки, напоминающие те, что издают надувные шары «уйди-уйди». Анька храпела виртуозно, с выдумкой, каждую ночь по- разному, за что Федька ее любил особо. В этот раз, значит, надувные шары. Артистка! Кто же визжал? Что за ночь такая, едри ее! Федька вышел в коридор и услышал, как на площадке за дверью кто-то всхлипывает. Щелкнул замком, выглянул. Верунька, кому ж еще. Сорок лет ума нет — и не будет. — Что случилось, Верунька? Опять художник твой изгаляется? — Еська? Нужен он мне, как пожарная лестница в этом самом... Максимка, сатана, асмодей... чтоб у его батьки кила выросла! Верунька сидела на ступеньке лестницы, зябко куталась в ситцевый халатик и, судорожно всхлипывая, тянула «беломорину». Вместо волос на голове какие-то бесцветные перья, лицо серое, морщинистое, как старый солдатский сапог. А днем ведь подкрасится, затрет где надо известкой — и ничего, терпимо. Вон, художник на это богатство клюнул. Художник, скажем, тоже не из этих... не из «могучей кучки». Однако какой ни на есть — интеллигент! Панно рисует, как блины жарит. Федька одно видел — про уличные правила. Возле пивного завода висит. Все путем изображено: «Красный свет — дороги нет, желтый — малость погоди, а зеленый — проходи!» — Так кто — Максимка? — С-скотина такая! — передернулась Верунька при имени семилетнего пацана с ангельским лицом, от которого стонал весь двор девятиэтажного дома. Со своими боевыми друзьями Максимка каждый день что-нибудь откалывал. — Слышу звонок, иду, открываю дверь — череп! Веришь или нет — я чуть под себя не сходила. Поклонился мне и говорит Максимкиным голосом: «Вы почему третий месяц за свет не плотите?» Как заржет и ходу. Вот — сижу, подняться не могу... всю трясет. Это что же за хунвейбин такой? Завтра заявление в ЖЭК напишу на его мамашу. Подъезд помыть — их нету! А сын с человечьим черепом до часу шлендрает — так это можно! — Лучше в милицию — его там на учет поставят. — И туда напишу... Паразит! Ой, Федя, помоги встать... Она поднялась и вздрагивая побрела к своей двери. У порога обернулась и, криво улыбаясь, сказала: — Счастливая у тебя Анька. Спит, поди? — Дрыхнет... — Эх... надо же — оторвала себе мужика. А мой... — она махнула рукой, что Федька мог по своему выбору понять и как оценку достоинств ее Еськи, и как прощание с ним, потому что дверь Верунькиной квартиры тут же захлопнулась. Так... Федька прошел к себе, постоял в темном коридоре, соображая. Взял на кухне сигареты и, опустившись на пол у батареи, закурил. Затем поднялся и, одевшись, вышел на улицу. Он шел по бетонной дорожке вдоль подъездов. Черепа в округе, надо полагать, под ногами не валяются. Скорее всего, что их с Женькой «знакомец». Максимка с друзьями откопал... Федька встал, как вкопанный: «знакомец» лежал на дорожке перед ним, равнодушно взирая на Федькины тапочки пустыми глазницами. Тапочки были старые, сожительница давно грозилась выбросить их в мусорное ведро, так что смотреть было не на что. Федька повертел головой, стараясь не встречаться взглядом со «знакомцем». — Максимка! Кусты сирени в палисаднике перед подъездом зашевелились. — Я кому говорю! Максимка медленно вылез из укрытия и подошел к Федьке, держа в руках веревочку, конец которой был привязан к черепу. — Где добыл? — На свалке. Мы с Митькой под кузовом нашли... — Брысь домой, засранец! А то эту штуку сейчас тебе на башку надену и в таком виде отведу к отцу — пусть снимает. Самое малое — без ушей останешься. Пацана как ветром сдуло. Только удаляющийся звонкий стук пяток о бетон засвидетельствовал твердое желание Максимки появиться дома в естественном виде. Федька поднял череп. Точно он, вон дырка возле виска. Постоял немного, слушая темноту. Город засыпал, точно молодой беспокойный пес, стуки, сопение, какие-то поскуливания то и дело прерывали обволакивающую его тишину. Федька пошел домой. Поднимаясь к себе на этаж, увидел фигуру сидящего на ступеньках человека. — Женька? Женька поднялся. Потоптался, дожидаясь приятеля. — Звоню, звоню... Свет на кухне горит, а никто не открывает. Понимаешь — не сплю из-за него. Когда прятали, думал — ерунда. А сейчас... не могу забыть. — Он нас тоже не забывает, — усмехнулся Федька, показал находку. Женька от неожиданности поперхнулся. — Где взял? ...Они сидели на кухне, прикрыв дверь в спальню, чтобы не беспокоить Аньку. Федька следил, как Женька, осторожно поворачивая череп в пальцах, внимательно рассматривает его, шевеля губами. — Чего выглядел? Женька положил череп на холодильник, сполоснул руки под краном. — Лицо узкое, суженный профиль, скулы не выдаются — европеец. — Русский, что ли? — Ну, может, немец, но не монгол, не негр. Федька усмехнулся: — Негров в нашем углу не водится, это точно. Дальше? — Череп имеет элипсоидную, долихокранную форму. Лоб прямой, высокий... — Ну, и что? — Ничего. — Тьфу! — Федька сплюнул. — Учат вас олухов... Он кто — этот мужик? — Как «кто»? — Ну, кто? Понимаешь? Что за человек? — Не знаю, — виновато ответил Женька. Подумал и добавил: — Надбровье у него сильное. — Ну? — Весьма вероятно, что это северный европеец. Федька безнадежно махнул рукой. — Понимаешь, его раньше надо было осматривать, — вздохнул Женька, — и не только череп, а весь скелет. Вон его как таскали. И мы, и пацаны. Может, по зубам бы и возраст можно было определить — я этого не умею. А специалисты по выступанию нижней челюсти даже характер узнают. — Вот и узнавал бы там — кто мешал? — Не мне за это браться надо, а специалистам. Все замерить, записать, сфотографировать... — Милицию, что ли вызывать? — Первым делом их, конечно. — Приехали, — проворчал Федька. — Я об этом и без тебя думал, без твоих долико... доли... Как это? — Долихоцефал — длинноголовый, значит. А есть еще брахицефал — короткоголовый. Мы, например, с тобой долихоцефалы. — Вот и сделают из нас брахицефалов в милиции. Первым делом — левак наш враз прикроют, — Федька загнул палец, подсчитывая убытки, — и остатка расчета не получим. Второе — хозяину запретят строить, и придется деньги ему возвращать, а где их взять? Третье — затаскают в милицию, а у меня, учти, судимость еще не снята. — За что? — удивился Женька. — Ты не говорил. — Да ты не боись, — сказал Федька, — ерунда. Драка была на танцах. Местные нам накануне подкинули — мы никуда жаловаться не пошли, а вечером возвратили должок, вот и оказались виноватые. А милиция сейчас знаешь какая? В пятом классе пацаны друг другу красные сопли пустят — враз уголовное дело возбуждают. Вот и нам припаяли. Полгода в зоне сидел, потом под амнистию попал. Всего и делов. Однако, когда месяц назад подкол у них случился, так аж на машине в четыре утра за мной прикатили. Правда, не забрали: поговорили и отвалили. Вот что значит зона, брат. А если меня еще и с этой красотой припутают, — Федька кивнул на череп, — так уж точноустроят... — Я тебе сейчас устрою — живым в святцы занесут! Всю ночь не уснуть: то орут, то звонят, то бухтят... Вам дня мало... По ночам взялись? В дверях кухни стояла Федькина сожительница, неприязненно разглядывая опухшими ото сна глазами двух друзей. Короткая ночная рубашка обтягивала мощное женское тело, от одного вида которого Женька непроизвольно сглотнул слюну. Женщина хмуро прошла к раковине, двинув его по пути упругим бедром так, что студент вместе с табуреткой отъехал к окну. Она налила воды из-под крана, с полным стаканом повернулась к ним, желая что-то сказать, и, наконец, приметила на холодильнике череп, гостеприимно осклабившийся в ее сторону. Анька уронила стакан и сомнамбулически оперлась пышным задом о край газовой плиты, куда незадолго до этого Федька поставил кипятить кружку чаю, бухнув туда пол-пачки заварки. В кухне раздался душераздирающий рев. Анька кинулась на Женьку, сшибла его с табуретки, бросилась к холодильнику, но, увидев череп, рванулась обратно, свалив Федьку, и, наконец, пятипудовым шмелем вылетела из кухни, хлопнув дверью. Некоторое время в комнате раздавалось оглушительное гудение, в отличие от шмелиного прерываемое забористым матом. Затем она снова возникла в двери уже в пальто и платке. — Все! Ухожу! Мало тебе судимости было? Мало того, что не хотел как люди работать. До убийства доигрался! И пацана в это дело втянул, — Анька мотнула головой в Женькину сторону... — Имей в виду: в милицию потянут — выгораживать тебя не буду! — она безо всякого перехода зажмурилась, заревела: — Господи! Ну, что за жизнь у меня такая несчастная!.. Хлопнула входная дверь — в квартире наступила тишина. Федька осторожно снял с груди череп и сел на полу. Некоторое время приятели наводили порядок на кухне, поднимая упавшую посуду, сметая осколки и расставляя табуретки, потом уселись и сидели некоторое время молча. — Да-а, — протянул Федька, — это мирное население так реагирует. А что будет, когда в райотделе узнают? — Может, спрятать его к чертовой матери? — жалобно пробормотал Женька. — У меня и так по органике хвост, не дай бог еще это... Кто его знает, в самом деле, как этот товарищ концы отдал? Выкинут меня из универа... — Прятали уж, — тягостно вздохнул Федька. — Видишь, чем кончилось? Родной бабе задницу прожгли. А какая задница была... Рафинад! Женька взял череп в руки. — Ты знаешь, а он курносый... Мужик этот. И похож в таком виде на Сократа. — Кто такой? — Был... философ. В древней Греции. Хочешь расскажу о нем? Он, брат, такой... человек был! Все знал. Что было и что будет. — Расскажи, — нехотя согласился Федька. Потом безо всякой связи продолжал: — Сегодня ночью Верунька мне говорит: счастливая у тебя Анька, такого мужика заимела. Это меня, значит. Вроде как приятность мне сказала. А эта приятность — вон как обернулась. Федька зевнул и насмешливо взглянул на друга: — Твой чудик из Греции... который все знал... Он на этот счет ничего не говорил? Не предсказывал? Женька, улыбаясь, поднес палец к Федькиному носу: — Именно по этому поводу... Именно... Он сказал однажды: что за странная вещь то, что люди зовут «приятным»... И Женька стал рассказывать то, что читал, слышал или сам выдумал о простодушном и хитром Афинянине. И Федька сидел, удивленно и недоверчиво покачивая головой... И череп на столе между ними равнодушно смотрел пустыми глазницами на приятелей, слушая Женькин рассказ. Когда-то он все это знал, и ему было неинтересно...Глава третья
Сократ сел на кровати, подогнул под себя ногу и потер ее. Не переставая блаженно растирать ногу, он сказал: — Что за странная вещь, друзья, то, что люди зовут «приятным». И как удивительно, на мой взгляд, она относится к тому, что принято считать его противоположностью — к мучительному. Вместе разом они в человеке не уживаются, но если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись в одной вершине. Мне кажется, — продолжал он, — что если бы над этим поразмыслил Эзоп, он сочинил бы басню о том, как бог, желая их примирить, не смог, однако, положить конец их вражде и тогда соединил их головами. Вот почему, как появится одно — следом спешит и другое. Так и со мной: прежде ноге было больно от оков, а теперь, когда их сняли — сразу стало приятно. Сократ исподлобья глянул на своих учеников. — Ну, что же, друзья, располагайтесь. Пожалуй, мы никогда с вами не собирались в таком количестве, наверное, человек пятнадцать будет. И что мне сейчас бросается в глаза — здесь почти одна молодежь. Правда, — он поискал глазами, — я не вижу нашего атлета — Платона. И Леонид... Где Леонид? — Платону нездоровится, Сократ, — ответил Симмий, пряча глаза, — а Леонид... он... — Леонид считает себя виновным в том, что его отец, Анит, написал на тебя донос, Сократ, — перебил его Федон, тряхнув кудрями, — он думает, что ты его должен ненавидеть за это. — Передайте ему, что он зря так думает, — возразил Сократ. — Я полагаю, — продолжал Федон, глядя Сократу в глаза, — что недомогание Платона можно объяснить теми же причинами, что и отсутствие Леонида. Сократ поднял брови: — Что ты имеешь в виду? — На суде постоянно фигурировало имя тирана Крития, бывшего некогда твоим учеником. А ведь Критий — дядя Платона. Именно это обстоятельство удержало его от защитной речи, которую он намеревался произнести на твоем суде. И теперь он, видимо, мучается угрызениями совести, полагая, что его выступление спасло бы тебя от приговора. — Ты обладаешь быстрой реакцией и не ведаешь сомнений, дружок, — улыбнулся Сократ. — Со временем из тебя выйдет неплохой военачальник. Для полного впечатления мне хотелось бы знать, как ты оцениваешь их отсутствие — осуждаешь или одобряешь? Федон покраснел, снова тряхнул кудрями: — Я не буду лгать, хотя чувствую, что отвечу не в свою пользу. Я осуждаю Платона и Леонида. — Почему? — Мы все, твои ученики и друзья, пришли, чтобы быть с тобой до конца. Ни решение Афинского суда, ни возможности репрессии Одиннадцати нас не пугают. Ты уходишь сегодня навсегда, и мы хотим проститься с тобой. Они — не пришли. Твой любимец Платон ничего не мог лучше сделать, как сослаться на нездоровье. Этот здоровяк! Леонид придумал себе болячку и упивается ею. А ведь оба никогда больше тебя не увидят, и они прекрасно это сознают. Я осуждаю это! — Н-ну, Федон, — протянул, улыбаясь в бороду, Сократ, — к демократам тебя явно не причислишь. Мне на суде позволили, по крайней мере, защищаться, а ты лихо вынес свой приговор в отсутствие обвиняемых. Это попахивает тиранией. Пусть боги определят тебе долгую жизнь, но, боюсь, что наши души на том свете могут и не встретиться. — Но почему, Сократ? — удивился Федон. — Неужели мое мнение, основанное на любви к тебе, не понравилось? — Вторая ошибка, — сухо заметил Сократ. — Мнение в угоду — это не мнение. Что касается моего сомнения о встрече наших душ в ином мире, то оно основано на следующем: слова даны нам, чтобы обозначить наши мысли. А наши мысли — это, в сущности, выражение нашего характера, и, следовательно, по ним можно определить и даже предугадать, в самых общих чертах, конечно, наши поступки. Если ты и дальше будешь говорить и действовать так же искренне, решительно, не сомневаясь в выводах, не давая возможности высказаться несогласным, даже опуская такую возможность, — ты станешь, увы, тираном. Не пугайся, друг мой! — Сократ предостерегающе поднял ладонь, заметив протестующий жест Федона. — Я не настаиваю на, том, что ты будешь бичом государства типа упоминавшегося уже Крития или Алкивиада — нет. Может, ты будешь маленьким тираном, знаешь, таким... семейным: жена тебя будет бояться, дети — трепетать... А, возможно, и вырастешь в великого — кто знает. Только запомни, Федон, — Сократ ласково погладил его по кудрявой голове, — тиран может позволить себе побаловаться в философии. Философ же никогда не станет тираном. Вот поэтому, если ты превратишься в тирана — пусть даже домашнего — наши души вряд ли встретятся в Аиде: уж я-то постараюсь найти там компанию попроще да повеселее. Когда Сократ закончил свою речь, в разговор вступил Кебет: — Все это, на мой взгляд, сказано прекрасно, кроме одного: то, что ты говорил о душе. Люди, во всяком случае, некоторые из тех, кого я знаю, высказывали сомнение в том, что расставшись с телом, душа человека продолжает существовать и даже, как я понял из твоих слов, обладает известной способностью мыслить. Это нуждается в веских доказательствах. — Верно, Кебет, — согласился Сократ. — Что ж, давайте потолкуем, может так быть или не может. Хочешь? — Очень, — кивнул головой Кебет. — Хочу знать, что ты скажешь на это. — Хорошо, — Сократ поерошил пальцами бороду и усмехнулся. — Думаю, теперь никто, даже злейшие языки не решатся утверждать, будто я болтаю попусту и разглагольствую о вещах, которые меня не касаются. Тема самая, что ни на есть животрепещущая: исчезну я сегодня после заката солнца, или главное во мне — мой разум, моя душа — останутся вечно? Что ни говори, для меня это буквально вопрос жизни и смерти. Ну, что ж, начнем, пожалуй, с довольно общего вопроса: откуда что берется? Возникает. Тебе не приходила ни разу в голову мысль о том, что любое явление, любой процесс образуется из противоположного — практически во всех случаях, когда налицо две противоположности? Ну, к примеру: большее ни из чего не может возникнуть кроме как из меньшего, сильное — из слабого, верно? — Да. — Можно привести массу других примеров. Я думаю, ты их сам можешь назвать. Ну? Кебет согласно кивнул головой: — Пожалуйста. Лучшее возникает из худшего, скорое — из медленного, горячее — из холодного. — Есть! — Сократ удовлетворенно хлопнул по колену ладонью. — Идем дальше. Надеюсь, ты не будешь возражать, что, коль скоро противоположностей две, стало быть, между ними возможны два перехода? Например, между большей и меньшей вещью возможны рост и убывание, согласен? — Согласен, — подумав, осторожно ответил Кебет. — Отлично! Значит, переход этот обоюден? Скажем, сон может перейти в бодрствование и наоборот. Так, теперь скажи мне, есть что-либо противоположное жизни, как сон противоположен бодрствованию? — Конечно. Смерть. — Значит, раз они противоположны, то возникают друг из друга? — Д-да... — То есть, в равной степени, как жизнь заканчивается смертью, так живое и живые возникают из мертвых? — Похоже, что так... — А как ты полагаешь, Кебет, вот мы с тобой и они все, — Сократ кивнул в сторону остальных учеников, — что это — новые, никем не виданные раньше образцы человеческой породы? И ум наш, и глупость — все это совершенно первозданно? А весь сонм прошедших до нас по земле и ставших землей у нас под ногами людей — он к нашему появлению не имеет никакого отношения? Ты можешь представить себе постоянное умирание без последующего оживания? Либо сплошное рождение при полном отсутствии понятия смерти? Я — нет. Федон негромко кашлянул и вставил: — Мне кажется, между рождением и оживанием есть все-таки небольшая разница. — Прекрасно, Федон! — подмигнул ему Сократ. — Ты показываешь зубы. Только, раз уж ты обнаружил эту разницу, не объяснишь ли нам, в чем она заключена? — Ну... оживает то, что было живо раньше: дерево, природа. А рождается... человек. Ребенок. — Как? Федон покраснел и буркнул: — Думаю, Сократ, ты должен знать это лучше меня. Ребенка зачинают мужчина и женщина... в пору любви. — Действительно, что-то такое припоминаю, — Сократ наставил палец на Федона. — А душа? — Что «душа»? — Мы же говорим о душе. Ее тоже зачинают мужчина и женщина в пору любви? — Н-не знаю, — растерялся Федон, — вероятно, тоже. — Интересно, как это они делают — параллельно с зачатием ребенка? Или на другой день? И где пребывает душа в период развития плода? Вместе с ними? Или ожидает где-нибудь рождения хозяина? Поблизости. Где? Федон подавленно молчал. — Не расстраивайся, мой мальчик, — добродушно успокоил его Сократ. — Врачи — и те этого не знают. Кстати, я тоже. Люди в познании законов развития человеческого тела будут довольно успешно продвигаться вперед. Что же касается души... Ее ведь не потрогаешь рукой. Существование души обосновывается только нашими доводами. И вот я предлагаю еще один довод, а именно, утверждение, что знание на самом деле не что иное, как припоминание. То, что мы теперь припоминаем, мы должны были знать в прошлом. Причем, речь идет о событиях, в которых мы просто не могли участвовать. Или могли, — Сократ поднял палец, — но в иной жизни. Мы видим какую-то частную деталь и вдруг представляем себе все целое! Разве вам не приходилось встречаться с таким?..Глава четвертая
— Сонечка, как вы попали на этот курорт? ...У него аж виски заломило. В который раз он спрашивал себя, где ему встречался этот человек. И не мог ответить на вопрос. В сущности не это было причиной бессонницы. Мало ли где он мог видеть его — слава богу повидал людей. Настораживала и даже пугала наглая фамильярность, с которой этот человек вчера в столовой подошел к нему, отодвинул локтем чашку, осклабился и весело удивился: — Сонечка, как вы попали на этот курорт? Швыркая и чавкая, съел свою порцию и только после этого снова повернул свое лицо к нему, какое-то время рассматривая, затем звучно рыгнул и, будто не замечая этого, заключил: — Так-то, старичок. Жить можно. Можно, а? Хлопнул его по плечу и ушел. Такого еще не бывало. Новичок с этапа ведет себя тихо. Особенно, если нет знакомых. А у этого знакомых не было, он специально узнавал. Фамилия — Казанкин — тоже ничего ему не говорила. И — это особенно беспокоило — появилось снова это тягостное чувство страха. Страха, от которого потеют ладони. Давно он этого не испытывал. До этого у него укоренилось брезгливое отношение к окружающему. Страха не было. Были какие-то беспокойства, волнения, связанные с перипетиями лагерной жизни. Но о том холодном ужасе, от которого непроизвольно поджимаются мускулы живота и сохнет во рту, — он уже начал забывать. Тогда, в тридцать шестом году, в далеком северном поселке молодой начмиль Пролетарский устроил ему ловушку с финансовой проверкой. И он, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, отвлечь от себя внимание, заставил своего бывшего однополчанина, контрразведчика поджечь школу. Тот потом повесился в камере — боялся, что дознаются про работу в контрразведке. Дурак! Как будто поджога школы было недостаточно. А второй подельник убил Пролетарского при задержании и сам почти год после этого скрывался. Все это: смерть Пролетарского, бегство одного подельника, самоубийство другого — так запутало дело, да ко всему прочему сменилось несколько следователей, что каким-то чудом его роль, роль организатора, трансформировалась. Он сумел мало-помалу отмежеваться от этого страшного поджога, от убийства начальника милиции и превратился в прозаического расхитителя, правда, «в крупных размерах». И, наконец, его «выделили» из дела. Из «расстрельного» дела! Когда он узнал об этом, то, вернувшись в камеру, потерял сознание. Да, он изматывал следователей софизмами и требовал очных ставок из-за малейшей неточности. Он каждое мгновение был в напряжении и дословно помнил все, что говорил в течение года на допросах, но он не верил в то, что выкрутится. И — выкрутился! В лагере он быстро приспособился к необычной жизни. Все эти «скокари», «кобурщики», «зухеры», «циперы», «ширмачи» — были им исследованы, систематизированы и разложены по полочкам. Не торопясь, спокойно он стал изучать их характеры, связи и прибирать к рукам главарей: кого — нехитрой лестью, кого — услугой, кого — страхом. Он стравливал своих противников — опытных «домушников», брал «на арапа» крикливых истеричных «бакланов» и постепенно стал высшим лагерным авторитетом. За долгие годы ни разу не побывав за пределами зоны, он прекрасно знал обо всем, что творится в воровском мире, держал в голове адреса верных «малин» и уже на первый взгляд мог определить новичка: кто он, откуда прибыл, сколько за ним «ходок» и, что самое главное, какая от него может быть польза. От последнего «чухана» до «барина» — начальника лагеря — все знали его кличку — Сократ. Эта новая жизнь была ему противна. Но другой не было. И Сократ жил, брезгливо принимая льстивые знаки уважения, молча брал свою долю, приносимую ему «шакалами». — ...Сонечка, как вы попали на этот курорт? Черт возьми, откуда его знает этот новенький? Ведь ему должны были сказать, кто такой Сократ! А он ведет себя так, будто... хочет ему напомнить о чем-то. И эта неприятная усмешка, собственно, даже не усмешка, а... Так собака показывает зубы, когда у нее пытаются отнять кость. Где же он видел такую усмешку?.. И вдруг Сократ вспомнил — и мгновенно лоб его покрылся испариной. Брагин так улыбался! И еще один. Он его видел один раз. Тогда, в двадцать пятом году, в поезде. Это он подсел тогда к нему в купе и деловито вынул нож. Вот, значит, кто был брагинским связным. Вот кому он звонил на почту, когда нужно было встретиться с Брагиным и обсудить детали очередного налета. Сократ тогда вовремя уехал. Прямых улик против него не было, уголовка только подбиралась к нему. И он, спутав, порвав все нити, которые могли привести к нему, удрал. Закопался на севере. Прошло больше двадцати лет, все забыто, но если этот человек вспомнит... Речь не о том, что было в Ачинске когда-то. Речь о нем. Потянут, начнут копать... А за ним не только Ачинск. Поднимут дела. И снова забытый давно страх умостился в душе. Казанкин узнал его. Подлец! Подошел как к приятелю. Сократ понял: шантажирует. Значит, будет на нем зарабатывать. Пайку, авторитет, легкую работу. Роль его в банде никому не была известна, Казанкин, видимо, только догадывался. Может, что Брагин ему говорил? Тут такое можно наплести в оперчасти при желании... И Сократ решил предупредить события. Однажды после очередного наглого визита Казанкина в склад, где работал Сократ, он вызвал одного из своих «шакалов» и о чем-то недолго говорил. В тот же вечер Казанкина избили так, что его пришлось отправить в лазарет. Через неделю, выздоровев, он, как ни в чем не бывало снова заявился на склад. — Здоров, начальник! — сердечно приветствовал он недруга. — А где кладовщик? — Что надо? — холодно ответил Сократ. — Мне-то? Мне много чего надо, — рассеянно проговорил Казанкин, перебирая рукавицы, лежащие в кучке. — А точнее? — старик отодвинул от него рукавицы. — Можно и точнее, — Казанкин фамильярно привалился через прилавок к Сократу. — Можно и поточнее, начальничек. Мне, к примеру, надо знать какая это сука вложила меня в записке, что попала в уголовку тогда, в двадцать пятом году. Еще мне надо знать, где золотые побрякушки да разные-прочие царские монеты, что у Васьки за кроватью в подполе хранились, и сколько мне из них причитается за то, что двадцать лет назад тебя к стенке не поставили. А? — Еще что ты хочешь узнать? — немеющими губами произнес Сократ. Казанкин с удовольствием посмотрел на посеревшее лицо старика и, по-своему истолковав его состояние, добродушно похлопал по плечу. — Что, дед, очко слиплось? Не боись! Когда Тимка Голубь про тебя пытать начал, я сразу смекнул, что ты к Ваське подался. Но учти — никому не сказал. А потом меня на опознание возили. Ваську-то опознать нельзя было — там кости одни обгорелые. А вот обрез его я признал. Я ему сам и делал его. Но опять-таки промолчал. Ваську ты прижал, он тебе указал тайник — все дела. Не так? — Под кроватью тайник... Там... бидон с керосином стоял? — с трудом произнес Сократ. — О! — радостно заржал Казанкин. — Вспоминаешь! Васька-то мне по пьянке проболтался. Шибко я его как-то напоил. Точно! Он всегда туда керосин ставил. А под ним доска снимается и — лаз. А я на следствии молчал. Думаю, нет, зараза! Встречу же я его когда-нибудь. Все равно поделится! Только не вздумай заливать, что все спустил — не поверю. Васька-покойничек говорил, там такие камни — на сто лет хватит. А червонцы? Червонцы целы? — Да... камни... червонцы... Все цело, — Сократ медленно приходил в себя. — Ну, слава богу. Разобрались, — Казанкин высморкался, растер ногой, — а то вон что удумал — морду бить. Да хрен с ним, я не в обиде, сам бы так сделал. Теперь, дед, слушай сюда. Вечером к тебе зайду. Расскажешь мне, где и что. Посоветуемся. Да! Чифирику мне расстарайся, лады? Покумарить охота. Ну, и шамовки приготовь, понял. Как-никак, подельник. Двадцать с лишним лет не виделись. А? — Сегодня не могу, — думая о чем-то другом, ответил Сократ. — Что-о?.. Казанкин, намеревавшийся было удалиться, вернулся, подошел к прилавку. Внимательно посмотрел на старика, скинул рукавицы и, уперев руки в прилавок, приблизил лицо. Сократ видел прямо перед собой его прищуренные глаза и рот, оскаленный в нарочито неприятной, «блатной» усмешке. И ему подумалось, что сейчас Казанкин опять очень похож на Брагина. Тот, когда злился, тоже так неприятно улыбался. И ухватки у него Брагинские — дешевые, театральные. Чем примитивнее человек, тем больше театральщины. Почему бы это?.. — Ты, — процедил Казанкин, — стриж бациллистый. Смехом на характер берешь? У меня «шакалов» нет, но если будешь рога мочить, я тебе самолично все ребра переломаю и на первом же разговоре поколюсь, понял? Оперчасть очень интересовалась, где это я так ушибся. Спрашивали, не с Сократом ли повздорил. Дескать, не старые ли счеты у нас с тобой. А если им напомнить, кто такой Приказчик, а? — Ты меня не дослушал, — вздохнул Сократ. — У нас в бараке сегодня шмон будет... мне сказали. Поэтому встреча просто переносится. А чифиру я тебе сейчас дам, — и он, пошарив внизу, подал ему пачку чая. Недоверчиво глядя на него, Казанкин высыпал чай в карман и вернул скомканную обертку старику. Он хотел что-то сказать, но тот опередил его. — Увидимся послезавтра, — мягко сказал Сократ. — Я все приготовлю, как-никак действительно... подельники. Когда Казанкин ушел, Сократ без сил опустился на пол. Это перст! Господи, это судьба! — шептал он, закрыв глаза. Перед ним возникла избушка, Брагин, умирающий на полу, и та женщина, принявшая пулю, предназначавшуюся ему, Сократу... Он ходил по тайнику, взял бидон с керосином, закрывавший тайник. Двадцать лет! Двадцать лет он мог жить совсем по-иному!.. А почему — «мог»? Ведь все осталось там, в лесу... Все это можно взять, хоть сейчас. С его связями, а они у Сократа почище, чем тогда, он может спокойно реализовать все это. И жить! И каждый день из оставшихся он проведет так, как захочет. Каждый час! Шестьдесят лет он безуспешно рвался к этому. Интриговал. Предавал. Воровал, черт побери! Убивал, наконец! Из-за простой вещи: жить так, как ему хочется. И каждый раз переступал некую непонятную, невидимую, символическую черту. И становился «преступником». А общество, учредившее эту черту, устраивало на него охоту. На него — Сократа! А общество-то — кто? Кто они, определившие, что он может и чего — нет? Старик тряхнул головой. Потом! Это все потом. Сейчас — дело. Казанкина — убрать. Тихо и жестко. Тихо — для «зелененьких», жестко для своих. Второе — побег. С собой взять надежного, туповатого парня. Плясать надо от стройки. Сейчас большое движение заключенных: утром — на стройку, вечером — обратно. Конец квартала, план горит — все, как у людей. В жилой зоне ничего не предпримешь. Старик думал весь день. Прикидывал и так, и эдак. Чего-то не хватало. Какого-то звена. Вечером его вызвали в оперчасть. Молодой рослый лейтенант в общевойсковой форме, выслушав обычный доклад («заключенный такой-то явился»), предложил сесть. Закинув руки за спину, прошелся по кабинету. Сократ, равнодушно глядя в пол, перебирал впечатления: «Не видел раньше. Новенький. Чистюля — духами пахнет. Паузу держит. Будет знакомиться. Травить баланду». — Почему вас зовут Сократом? — Новенький! — удовлетворенно повторил про себя старик и безразлично пожал плечами: — Не знаю, гражданин лейтенант. Кличка... Ее не выбирают. (Ну-ну, давай поиграемся!) — Странно, — рассуждал лейтенант, продолжая вышагивать. — Сколько я слышал, Сократ — древнегреческий философ, приговоренный к смерти за разврат молодежи. Вы не знали об этом? — Нет. (Развращение, орясина!) Откуда мне знать? — Тем более странно, что вам дали эту кличку. Мне кажется, вы ни обликом, ни обстоятельствами вашей жизни, ни даже... м-м... составом преступления, вмененного вам, и близко к Сократу не подходите. А? — Может быть. (Веселись, веселись. Главное — чтобы на здоровье.) — Слушайте, а греков у вас в роду не было? — Греков? Упаси бог! Чистокровный русак. (Ну, это уж вовсе!) — Родители кто были? — Как... — Ну, кто вы — дворянин? Или может из... приказчиков? — Н-нет... из дворян. (Внимание!) — Где учился? — В гимназии... — Дальше! Еще! — Все. (Что же я вру! В анкете ведь указа...) — А университет? — Ох, простите... Забыл... Лейтенант стоял перед ним, опершись одной рукой о стол, другой — через плечо старика — о спинку стула, смотрел ему прямо в глаза. Сократ испытывал сначала неприятное ощущение от этого уверенного, насмешливого взгляда, сопровождавшего каскад вопросов, — а затем откровенный страх. И эти молодые, насмешливые глаза все отфиксировали! — Ай-яй-яй, Роман Григорьевич! Дворянин, студент юридического факультета, офицер, — и понятия о Сократе не имеете? Что же вы горбатого мне лепите, да еще так бездарно? — В-виноват... гражданин лейтенант. Старость... запамятовал. Водички... не позволите? Лейтенант снял руку и молча указал на графин. Сократ маленькими глотками тянул сквозь зубы теплую противную воду. (Никаких уверток, болван! Он же дело твое изучил. Приказчика упомянул случайно — откуда ему знать эту кличку? Чего ты трясешься? Ведь он все это чешет из твоего дела. Какой тут криминал? И не спеши, бога ради!) Сократ сел на место. Лейтенант снова заходил по комнате. — Стало быть, Сократа все-таки знаете? — Знаю, — устало кивнул старик. — Чего ж... испугались? — Гражданин лейтенант, мы с вами не на юридическом факультете. Здесь чем меньше знаешь, тем лучше. И... простите за откровенность: вы сейчас пойдете домой и будете по дороге вспоминать, как выжимали из меня пот, а я в это время буду держать ответ перед соседями по нарам, зачем меня вызывали к «куму», что спрашивали и что я отвечал... — Не прибедняйтесь, — лейтенант поднял руку. — Вы заключенный авторитетный. Кто потребует от вас отчета? — Ну... — Сократ скорбно развел руками. — Простите, но вам, очевидно, плохо известны наши порядки. (Уводи его. По самолюбию, по самолюбию — это больней, чем по морде. Все забудет.) — Возможно, — согласился лейтенант, — хотя у меня другое мнение на этот счет. Однако к нашему брату вас вызывают едва ли не чаще других — и все же вас никто не трогает. А вот, например, какой-то несчастный Казанкин всего раз был здесь — и пожалуйста! Испинали, как собаку. Слыхали? — Казанкин? (Вызвали к «куму»? Отлично! Ты вызовешь его еще раз — или я не Сократ. И тут-то я буду ни при чем, если с ним что-нибудь...) Что-то такое... — Роман Григорьевич, — лейтенант постучал пальцем о крышку стола, — вы отлично знаете об этом. Не ставьте себя снова в дурацкое положение! — Да, конечно, я слышал, но... (Вот мусор цветной!) — От кого? — Ну, в зоне же... знаете... слухи, они... (Спокойно!) — Конкретно! — Н-не помню. — Роман Григорьевич! — У-увольте, гражданин лейтенант. Ей-богу... — Напомнить? — Как угодно. (Ну? Ну? Спокойно! У него нет фак...) — Казанкин. — Что Казанкин? (Что Казанкин? Говорил с ним? Когда?) — Казанкин вам разве не говорил? — Господи, да что? (Покололся Казанкин? Или этот... ловит?) — Что он лежал в лазарете? — Ну — говорил. (От кого он узнал? От Казанкина?) — Он что — знакомый ваш? Земляк? — Нет, нет! То есть... Я его вообще не знаю. — Тогда какого черта он из лазарета пошел прямиком к вам, к незнакомому заключенному, сообщать вам о своем здоровье? — Да не так же все было! Не так! — отчаянно закричал Сократ. — Хорошо. Расскажите, как все было. Сократ вытер рукавом пот и огляделся. Что это? Он кричал? Нет. Это потом. Главное... что главное? Ах, да: он влип. Он сказал, что Казанкин заходил к нему и говорил... Что говорил? Почему лейтенант взял бумагу? Объяснение? А потом им будут трясти перед Казанкиным, и тот вообразит невесть что? Нужно срочно играть назад! — Гражданин лейтенант, я ничего говорить не буду. Лейтенант поднял брови. — Вы понимаете, что мнение, которое сложится после этого ответа, будет не в вашу пользу? Сократ облизнул губы. — Вы еще были, извините, мальчишкой, когда я ушел в зону. Вы верно сказали, я авторитетный «зэк», чего там скрывать. Но этот авторитет дался, поверьте, нелегко. И не хочется, чтобы сейчас, когда мне за шестьдесят, я превратился... из-за какого-то клочка бумаги... из-за того, что у вас нервы покрепче моих. Я хочу дожить до конца срока... Выйти отсюда. Прошу вас — не лишайте меня этой возможности! Лейтенант задумчиво погладил пальцами белый лист. Вздохнул. — Не хотите — не надо. Но все же — без бумаг: зачем к вам заходил Казанкин? — А он не ко мне заходил. (Господи ты боже мой! Ну конечно, не ко мне!) — К кому же? — Он искал кладовщика. (Да, да! Он же вначале его спросил!) А потом... я увидел синяки... Спросил, и он неохотно, так, ответил, что выписался из лазарета. Сократ напряженно смотрел на лейтенанта. Тот думал о чем-то, барабаня пальцами по бумаге. — Нашел он кладовщика? — Не знаю. Я вымыл полы и ушел. — Ладно, — лейтенант убрал бумагу в стол, — можете идти. Сократ медленно встал, на ватных ногах подошел к двери, потоптался. (Рискнуть? Надо рискнуть.) — Гражданин лейтенант. — Да? — Если это останется между нами... — Что именно? — нахмурился лейтенант. — Мне показалось... Только пожалуйста... — Хорошо, хорошо, я понял. Что вам показалось? — У него был чифир в кармане. — Вы не ошибаетесь? Сократ обиженно усмехнулся. — Десять лет по лагерям... Впрочем, может и ошибаюсь. Во всяком случае, свидетельствовать это официально не намерен. Разрешите идти? — Идите. — Вы... будете говорить с Казанкиным? Лейтенант укоризненно покачал головой. — Я понимаю... это не мое дело, — заторопился Сократ, — но все-таки очень прошу вас ответить на мой вопрос. — Буду. — Тогда сделайте так, чтобы мне не пришлось жалеть о том, что я сказал вам здесь. — Не бог весть что вы здесь сказали, Роман Григорьевич, — улыбнулся лейтенант, — но я сделаю так, что ни тени подозрения по отношению к вам у Казанкина не будет. Устраивает? — Спасибо, — Сократ наклонил голову и уже совсем не по правилам произнес: — будьте здоровы. ...В бараке ждала новость: Казанкина отправили в изолятор. — За что? — Чифирнули с Пряником. Забалдели, титан свернули... Погуляли. Удача! На следующее утро, убрав на складе, Сократ по пути к бараку завернул в курилку. Присел на скамейку, не спеша вынул папиросу, знаком попросил огня у курившего рядом заключенного. Затянулся. — Павлик, — произнес старик, — мне нужно вставать на лыжи. — Сдохнешь на первом километре, — проворчал заключенный, не глядя на него. — Лучше сдохнуть на первом километре, чем на особом режиме. — Чего-нибудь раскопали? — Пришел один старый друг с этапа. У «кума» был два раза. Грозил порассказать обо мне... — Кто такой? — Ты не знаешь. Казанкин. — Это плохо. — Что плохо? — Когда старые друзья мешают. В таких случаях лучше, когда человека не знаешь... Не так жалко, если с ним что случится.Глава пятая
— Нет, лучше все-таки кто-нибудь незнакомый. А теперь, значит, если мне прилетит выговор, то по твоей милости? — Ну зачем так мрачно? Тебя только назначили. Какое-то время трогать не будут. Приглядывайся, вырабатывай стратегию... Виктор Голубь сидел в кабинете начальника милиции, назначенного в этот отдел месяц назад. Это был его старый приятель Георгий Реук. Они уже сказали друг другу все, что положено сказать, когда люди встречаются после долгой разлуки, и теперь шла официальная часть. Голубь представился как куратор отдела по линии уголовного розыска, а Реук полушутя-полусерьезно соображал, какие это будет иметь для него последствия. И выслушав успокоительный ответ Голубя, заключил: — Конечно, с одной стороны, хорошо, что ты наш куратор. Но, с другой, случись какая-нибудь нераскрытая тягомотина — и начнешь ты же мне руки выкручивать на предмет принятия эффективных мер. А не то, действительно — проект приказа придется готовить о моем наказании. Или как — отмажешь перед начальством по старой дружбе? — Реук хитро поглядел на друга. — Отмазывать не буду, — серьезно сказал Голубь, — но ты не волнуйся. Если приказ придется готовить — и мне перепадет: как-никак, куратор. — И на том спасибо, — кивнул Реук. Глянул на часы. — О! Сейчас селектор! Посиди, ты же их лучше меня знаешь. Погляди, как они на новое начальство реагируют. Селектор начался с обычных сообщений начальников райотделов о происшествиях за истекшие сутки. Реук докладывал четвертым. По его отделу остались нераскрытыми две квартирные кражи. — Раскроете? — донесся из динамика искаженный расстоянием металлический голос начальника управления. — Есть зацепочный материал. Работаем, — осторожно ответил Реук. — Конкретнее! — потребовал динамик. — По первой краже установлен подозреваемый, — ответил Реук. — Видимо, день-два потратим на отработку его связей: дома его нет. А по второй — сложнее. Потерпевшая неделю была в отъезде, определить точное время кражи трудно. — Он секунду помолчал и добавил: — Примем все меры к раскрытию. — Хорошо. Работайте. А по первой краже двух дней вам чересчур много. Завтра доложите о раскрытии. Две нераскрытые кражи за сутки — для вашего отдела слишком щедро. И потом, вас не тревожит большой остаток неразрешенных заявлений? Вы следите за этим? — Слежу, Николай Борисович, я понял вас, — кивнул Реук, глядя в свои записи. — Пока среди этих материалов только один темный, но, видимо, через неделю раскроем. Есть перспектива. Люди работают. — Смотрите, — начальник управления вызвал следующий райотдел. Селектор закончился — началась планерка. Реук поднял начальника уголовного розыска. — Слышали, что начальник управления сказал? — сухо осведомился он. — Слышал, — кивнул тот. — Только, Георгий Максимович, подозреваемый этот — Телепнев — видимо, в район выехал. Он на комбинате работал, уволился за неделю до кражи. С сожительницей его вчера беседовали — говорит, что он частенько в район уезжал, а к кому — не знает. — Там, чтобы вещи вынести из квартиры, по крайней мере троих мужиков надо, — Реук бросил ручку на стол. — Что вы уперлись в этого Телепнева? Ищите соучастников. На комбинате, где он работал, были? С соседями говорили? — Не успели. — Успевайте. Родственники у него где-нибудь есть? Наличие судимостей проверяли? — Георгий Максимович, кража-то вчера вечером заявлена. А его вообще к ночи установили. Сегодня все, что вы говорили, сделаем. За день. — За полдня! — Реук поднял палец. — За полдня, а не за день. После обеда доложите. Ну, а вторая кража? — Здесь, по-моему, потерпевшая что-то недоговаривает. Соседи говорят — у нее какой-то мужчина квартировал до отъезда ее в командировку. А она отрицает, волнуется. Деньги у нее в шкафу под газетой были. Ничего не тронуто в шкафу, а денег нет. Будто кто-то знал, где они. И потом — фотоаппарат, костюм — все на месте. Только деньги и золотые вещи. Те тоже в укромном месте лежали. В серванте за вязанием. — Займитесь женщиной. Обстоятельнее. Установите круг знакомых. И одновременно переговорите с ней еще раз. Может, она скрывает похитителя. Голубь сидел возле двери и разглядывал приятеля. Реук выглядел погрузневшим, внушительным. Мало что осталось от того белобрысого веселого парня, с которым он встретился несколько лет назад на Туркане. Синий костюм, синий галстук, белая рубашка, запонки какие-то... сногсшибательные. Джентльмен. А лицо нездоровое. Мешки под глазами. Болеет, что ли? — Теперь скажите, что мы в ближайшее время можем дать на раскрытие? Начальник розыска достал записную книжку: — Из прошлых месяцев пойдет грабеж... Три дела идут на прекращение... Экспертиза по двум запаздывает, а по третьему потерпевший не идет... — Простите, мне это неинтересно, — перебил Реук. — Вы вчера то же самое говорили. Я потерпевшего на экспертизу не поведу, да и не ваша это забота: пусть следователи решают. Это — во-первых. Во-вторых: за счет прекращенных дел раскрываемость, разумеется, повысится, но ведь надо, как говорится, и честь знать. Четыре мартовские кражи совершены явно одной группой. Способ оригинальный: обворовываются квартиры последних этажей, только с английскими замками, проникновение с крыши на балкон. Что делается по этим кражам? — Я вам отдельно доложу. Примеряем сейчас группу одну. — Вечером со всеми материалами зайдете ко мне. Что еще на раскрытие? — Сейчас задержали группу по хулиганству. Видимо, пойдут апрельские грабежи. Но это не раньше, чем через неделю: надо проверить связи, сделать обыски... — Садитесь, — махнул рукой Реук. — Вы все-таки определитесь для себя. У меня ощущение, что у вас на сегодняшний день нет четкого плана работы. Есть задержанные — работаете. А если нет? Будете ждать, когда кого-нибудь задержат? И потом... — он поморщился. — У вас что там в кабинетах творится? Усилители, трансформаторы... двигатели чуть ли не от самолетов, тряпки какие-то... Предупреждаю: если завтра хотя бы в одном кабинете увижу эти... шмотки... Сдать в нашу камеру хранения сегодня! — Но это вещдоки, — проговорил тихо начальник розыска. — Люди работают с ними. — Хорошо, — Реук набрал номер телефона. — Виктор Сергеевич, это я... здравствуйте. У вас там в углу, возле окна лежит... Да-да, она. Возьмите и несите сюда. Ну, куда — сюда, ко мне. В дверь постучали, зашел инспектор уголовного розыска с ракеткой под мышкой. — Откуда у вас ракетка? Инспектор недоуменно посмотрел на Реука: — Она... вы велели принести. Весной обыск был у Сверчкова, многокражника. Все вещи потерпевшие опознали, а эту... И Сверчков не помнит, где украл... Вот, лежит в кабинете. — Так. Передайте ракетку начальнику уголовного розыска и можете быть свободны. Когда инспектор ушел, Реук повернулся к начальнику уголовного розыска: — Вещдоки, говорите? Работают с ними? Повторяю: до завтра кабинеты не очистите — всё, до последней тряпки, прикажу отнести к вам на стол. А потом посмотрю, что вы будете делать. — Но... это значит, сегодняшний рабочий день должен пропасть? — Вам кто-нибудь запрещал работать здесь вечером? — Нет, но... — А ночью? Ночью кто-нибудь не пускал вас в отдел? Вы мне скажите, кто, я дам команду, чтобы вас пропускали. Начальник уголовного розыска покраснел. Реук удовлетворенно кивнул головой: — Полагаю вопрос исчерпанным. Вещи заактируйте, что не нужно — уничтожьте, тоже по акту. Радиодетали передайте в школу или детский клуб. И прошу вас, в дальнейшем следите за этим сами. Не надо засорять помещение и самому себе создавать трудности в работе. Договорились? Теперь по следствию... Планерка затягивалась, Голубь мельком взглянул на часы. Наконец, присутствующие шумно стали подниматься с мест. Они остались вдвоем. — Вот так. И раскрывальщик, и следователь, и уборщица, — вздохнул Реук. — Ну, ничего. Месяц-другой — и привыкнут сами за всем смотреть. А как на твой взгляд? — он вопросительно взглянул на приятеля. — Гожусь я в начальники? Не очень резко вел? Угрозыск на меня не обидится? — Нормально, — успокоил его Голубь. — Начальник розыска — парень хороший. Я поговорю с ним — он поймет. Он немножко партизан, сюда пришел из старших инспекторов, больше раскрывать привык, чем быть организатором. И ребята под стать ему: работящие, веселые. С фантазией. — В этом я уже убедился, — удрученно ответил Реук. — Они и при мне сработали одну хохму. Недавно к нам двое из высшей школы приезжали. Собирали материал для диссертации. Ну и один меня все просил достать ему семена черемши. Захотелось, видишь ли, ему дома на балконе ее разводить. Объясняю, мол, нету такого, не собирает никто ее семян. Дикая она — черемша. Не верит. Уезжать собрались — подходит ко мне и говорит: видишь, какой ты жмот? Ребята твои и то отзывчивее. И кулечек с семенами показывает этак, гордо. Я потом «уголовничков» собрал, говорю: кто сделал, допытываться не буду — все равно ведь не скажете. Но вы мне хоть объясните, чего вы ему туда насыпали? А они и сами не знают. То ли лук-порей, то ли «анютины глазки». Дескать, хотели сделать человеку приятное. А я-то чувствую, тут без коньяка не обошлось. Словом, не хотел бы я быть на месте этого мичуринца, когда у него из земли «анютины глазки» полезли. Последней веры в людей, поди, лишился. — Ну, они не только хохмить умеют, — улыбнулся Голубь. — Во всем городе у тебя самый слаженный уголовный розыск. Ты посмотри, как у вас раскрываемость идет. За редким исключением очень стабильно из месяца в месяц. При любой обстановке. — А мартовские кражи — темные, — вздохнул Реук. — Очень тревожные кражи и при всем том — ни одной зацепки. Чердачники. Белье воровали. Похоже — там ведь тоже через крышу работали. — Что ж на селекторе не сказал? — Ишь ты, — усмехнулся Реук. — Нет, брат, я сперва сам проверю. В колокола стукнуть никогда не поздно. Да при том я бога молю, чтобы мне их на селекторе не напомнили — эти кражи. У нас знаешь как? Попадешь на язык — все! Неделю будут башку отвинчивать. Сперва в одну сторону, потом в другую. В дверь постучали, и на пороге появился дед с узелком в руках. — Вам кого? — нахмурился Реук. — Начальника... Дежурный отправил. Внук тут у меня сидит... За хулиганку. Передачу хотел... — дед топтался, теребя узелок. — Понятно, дедушка, — Реук поиграл желваками. — Вы посидите в приемной. Он взял трубку, когда дед вышел, заговорил: — Вы... кто? Не понял, повторите. Так, правильно: дежурный помощника начальника милиции. А почему старика гоняете по пустякам? Что «не могу решать»? Не хотите! Телефон начальника следственного отделения знаете? Вот и соображайте с ним, можно передачу делать или нельзя. Этого еще не хватало! Такой... ерунды решить не можете. Он положил трубку. Залез встол, достал какие-то таблетки в разных пакетиках и, отсчитав, бросил горсть в рот. Налил воды из графина и на молчаливый вопрос Голубя показал стаканом в сторону настенных часов. Отпив глоток, пояснил: — По часам живу. С того самого времени, как Сергеев шарахнул в меня. Помнишь? Сколько я этого добра съел... Пожиже развести — квартиру побелить можно. А толку нет: то улучшение, то обострение. Ты учти: меня волновать нельзя. Враз активизируется деятельность этой... внутренней секреции, повышается кислотность, — и начинается обострение. — Врешь ты все, — буркнул Голубь. Ему было жалко смотреть, как бодрится Реук, прижимая ладонь к больному месту. — Печет? — Печет, — признался Реук. — Что ж гробишь себя на этой работе? — А ты знаешь работу, которая от язвы излечивает? — У тебя язва? — Пока нет. Обещают. Дверь приоткрылась, заглянул дежурный: — Разрешите? — Что, опять передачу принесли? — осведомился Реук. — С передачей разобрались, — улыбнулся дежурный. — Тут задержанный... — Ну и ведите его в уголовный розыск. — Начальник на происшествие выехал, а задержанный странный какой-то. У него в авоське... это... — Яснее говорите. Что в авоське? — Череп. — Что-о? Реук недоуменно посмотрел на Голубя. — Муляж? — Да, вроде, настоящий. — Кто задержанный? — Студент. — Медик, наверное. Спер где-нибудь? У себя в институте? — Да нет. Парень какой-то... крученый. Путается. И нетрезвый, точнее, с похмелья. — Ну-ка, заводи его! Дежурный приоткрыл дверь пошире, и в кабинете появился Женька. Он стоял с несчастным видом, держа в руке, на некотором расстоянии от себя сетку, сквозь которую на присутствующих глядел равнодушно Федькин «знакомец». — Где его задержали? — Возле рынка. На автобусную остановку шел, — сообщил дежурный. — Так это? — спросил Реук у Женьки. Тот подавленно мотнул головой: — Да. Я шел на автобус. — Вы что — хотели вызвать массовые беспорядки? — поинтересовался Реук, — с этой штукой — да в автобус! Это вам что — арбуз, картошка? Откуда череп? — Д-дали... то есть... Подарили. — Вы много выпили? Перед тем, как принять подарок? — Не очень... Три бутылки вина на двоих. — У приятеля пили? — У... него. — Обмывали находку? У Женьки округлились глаза. — Откуда вы знаете? Реук сел, показал рукой Женьке на стул: — Рассказывайте. — Все? — покорно спросил Женька. — До тютельки! — Реук категорически пристукнул по столу костяшками пальцев. — Хорошо. Женька сел и, осторожно разместив авоську у себя на коленях, жалобно попросил: — Только можно я не буду называть своего товарища? — Пока можно, — разрешил Реук. И Женька стал рассказывать. Когда он закончил, Голубь подошел к нему, взяв авоську, принялся рассматривать череп. — Стенку, где обнаружили останки, не забетонировали? Не заложили? — спросил Реук. — Не успели еще. — Хорошо. Идите с дежурным. Получите бумаги, напишите все, что сейчас рассказали. Потом поедете, покажете место. Ясно? — А как же?.. — Что? — Да насчет товарища... Мне бы не хотелось, чтобы он фигурировал. — Послушайте, уважаемый, — Реук подошел к нему. — Все, что вы рассказали, правдоподобно, хотя и не совсем обычно. И коль скоро вы в своем повествовании ссылаетесь на конкретных лиц, они, должно быть, подтвердят сказанное вами, верно? А иначе как я должен верить вам? Пьяному. С человеческим черепом в авоське. — Да, но... — Они нужны только для этого. Ясно? Когда дежурный увел Женьку, Реук прошелся по кабинету. — Ты обратил внимание, как расколот череп? — спросил Голубь. — Там не только дыра — там даже трещины с обеих сторон. Видимо, кость испытала мгновенную деформацию на узком, длинном участке. Там, где пришлась основная сила удара, кусок кости сломался. Сила удара на других участках оказалась слабее — образовались трещины. Реук устало взглянул на него. — Какая деформация? Какие трещины? Ты что — не видел черепа? Он же, как минимум, двадцать лет в земле пролежал! И ты думаешь, я сниму людей с кражи, с других дел и отправлю их в пятидесятые годы? Не жирно ли будет? Кого устанавливать? Убийц? Убийц КОГО? Вот этого — в авоське? Виктор, ты же взрослый человек. Это бесперспективное дело. У меня вон неопознанный труп с автодорожного. Не с пятидесятых годов — с апреля. Установить личность не можем. А ведь с криминальной травмой, не хухры-мухры. А тут... средневековье какое-то. — Ну, а какую версию ты предлагаешь? — полюбопытствовал Голубь, — если я правильно понял — никакой? — Да! — зло ответил Реук. Он повернулся к Голубю, и, жестом фокусника хлопнув в ладоши, показал ему руки. — Вот, никакой версии я не предлагаю! Никаких убийств! Мальчишки всю ночь шастали с этим черепом, грохнули его об асфальт — вот тебе и мгновенная деформация. А может, как раз на том месте лежал железный штырь, об который этот товарищ и вякнулся — вот тебе и «узкий, длинный участок». Сегодня же пацанов установим — так и будет, вот увидишь. — Не будет, Жора, — заметил Голубь, — парень сказал ведь, что они в таком виде череп откопали. — А мне плевать, что он сказал, — раздраженно ответил Реук. — Это все еще проверить надо. И, знаешь, — давай прекратим этот разговор. Ничего еще не известно. А кроме того, вопрос о возбуждении уголовного дела решать прокурору, а не нам с тобой. — Согласен, только не злись. — Да я не злюсь, — отмахнулся Реук. — Ты пойми: дело это абсолютно бесперспективное! Я имею в виду тот случай, если ты будешь прав. Здесь двадцать лет назад пять-десять домиков стояло. Станция вон километра полтора. И все. Кого ты сейчас найдешь? А найдешь — что они тебе скажут? Ты не думай, я не боюсь раскрывать. Если это реальное преступление, с реальным подозреваемым. А выдумывать себе работу... Этот череп из прошлого, к которому ни ты, ни все живущие здесь отношения не имеем. Они все умерли — и виновные, и невиновные. Ну ладно. Ты извини, мне на исполком надо. Там как раз вопрос о самовольной постройке гаражей. Вот уж — злоба дня. Самая, что ни на есть современность. Кстати, машиной не обзавелся еще? — Денег нет, — мрачно ответил Голубь. — Деньги — тьфу! Ты, главное, на очередь встань. Очередь подойдет — деньги враз найдутся. Махом! Говоря это, Реук надел плащ и, застегивая его, подошел к телефону. — Алло! Взяли объяснение? Так. Начальник угрозыска приехал? Так. Пусть звонит в прокуратуру, берет эксперта... нет, собаку не надо, — он весело посмотрел на Голубя, — собака, пожалуй, уже не возьмет след. Значит, эксперта, следователя пусть берет и едет на место с этим... как его фамилия? Казанкин Евгений? Вот прямо с ним... Потом, вечером, мне доложишь результат.Глава шестая
— Казанкин? Казанкин дунул на огонек спички, дрожавший в руке у Сократа. — Удостоверился? То-то. Сокра-ат! Гнидой ты был, гнида и есть. Мало того что смылся, так еще и... Не вышло, понял? Богодул ваш, что меня со стены спихнуть должен — сам оступился. Упал, понимаешь. С крыши. Аккурат в ванну с негашеной известью. И что характерно, даже не пискнул. Так что часа через два его и хватятся. И нас, вот... четверых. Я ведь Пряника не зря с собой взял. Одного-то вы меня удавили бы. А так — по нолям. Сократ молчал. Сверху из подкопа, сквозь который они проникли в канализационную трубу, посыпались комья земли: оставшийся в табельной заключенный, как было условлено, заложил лаз мешком с цементом и забросал его землей. Сейчас он уложит на место две половые доски, загонит гвозди и все. Пока кто-нибудь не догадается оттащить вагончик, в котором устроена табельная, со своего места, никто не узнает, как ушли из производственной зоны четверо заключенных. Теперь — четверо... На это Сократ не рассчитывал. Плюс — убитый в зоне. А убийца — с ними. Это хуже всего. А план был хорош. Канализационная система на стройке была готова давно. Все люки колодцев сверху зацементированы, внутри поставлены решетки. Но Павлик, старый знакомый Сократа, еще в пору строительства подземных коммуникаций углядел одну трубу с дефектом. Много трудов и хитрости ушло на то, чтобы поставить над этим местом вагончик и со страшным риском, день за днем делать подкоп. Добраться до трубы, найти трещину, расшатать ее, сделать отверстие — все это урывками, с оглядкой, под угрозой ежеминутного провала. Сократ помолодел: опасность наэлектризовывала его. Он стал следить за своим телом. Ему достали из соседнего отряда у бывшего мастера спорта какой-то сногсшибательный комплекс упражнений, и он аккуратно каждый день выполнял его. Все было готово. Казанкин молчал. По просьбе Сократа приятели Павлика поговорили с ним, и он оставил Сократа в покое. Но надежды на него не было. Поэтому Казанкина по плану должен был устранить оставшийся в зоне заключенный. Все было предусмотрено, вплоть до лжесвидетелей, долженствовавших сбить с толку оперативников. А вот — Казанкин здесь! И лаз уже засыпан. Труба выходит к реке. Метров двести пятьдесят — триста. Сливная труба. Оканчивается за зоной. Павлик откуда-то знает — там только на выходе решетка стоит. Перепилить за полчаса можно. — Павло! Он тебе не сказал, почему я ему поперек горла стою? Сократ вздрогнул. — Я с него долю потребовал, Павло. Еще от старого дела долю. Потому он и решил меня убрать. Он и тебя уберет. Казанкин говорил это тихим, чуть сипловатым, равнодушным голосом. — Всё! — Сократ вздохнул. — Всё. Ты здесь — ладно. Ты получишь свое. Каждый, кто здесь, получит свое. Но до той поры — делать, что я скажу. И учти, Казанкин: куда мы идем — знаю только я. Я один. — Не трусись. Беречь буду, как глаза. Но горбатого ты мне не слепишь — так и знай. — Все будет честно. Пошли! И они пошли, точнее, поползли на четвереньках по узкому ходу сливной трубы: впереди Павлик, за ним Казанкин, Сократ. Замыкал группу Пряник. Сначала было неудобно, затем, приноровившись к ритму движения, бездумно переставляя руки и ноги, Сократ мерно передвигался, смутно различая перед собой фигуру Казанкина. То, что его с умыслом отделили от Павлика, он понял. Надо полагать, он теперь все время будет в этом окружении. Павлик молчит. Да и что скажешь? Надо ползти. Надо выйти на волю. Здесь силы равные — двое на двое, но силы неравные. А может... один против трех? Павлик молчит. Что он думает? — Павлик? — Ну? — Пилку не потерял? — Здесь, Григорьич. Нет, Сократ верит Павлику. Он его встретил лет пять назад, в одном из лагерей. Тогда это был неуклюжий, испуганный парень, «ванек», вздрагивающий от каждого вопроса. Сократ пожалел его, запретил «шакалам» делать унизительную «прописку», следил, чтобы мальчишку не втянули в картежную игру, которая, как правило, заканчивалась для неопытных долгой, если не вечной кабалой. Потом его перевели в другой лагерь, и Сократ потерял парня. И вот они опять встретились. Теперь это был матерый «зэк», знающий себе цену. Не «захарчеванный чухан», прикидывающийся бывалым, каких много приходит в зону, а «мастер». Сократ, обратившись за помощью к нему, не сказал всей правды. Старик догадывался, что его предложение каким-то образом совпало с планами Павлика — иначе откуда так быстро взяться трубе с дефектом? Да и вообще, вся подготовка к побегу шла на удивление быстро. Павлик был немногословен, деловит. Когда все было готово, помог Сократу перевестись табельщиком на стройку, что было очень непросто. И только когда Сократ напомнил о том, что нужно убрать Казанкина, Павлик недоверчиво прищурился: — Что ты так о нем хлопочешь? Ну, останется он здесь, тебе-то что. Больно хитрый ты, старик. И жадный. Не много ли одному будет? — Ты про что это? — насторожился Сократ. — Да просто так. Что стойку сделал? Я говорю — повесят на нас твоего Казанкина. А это при нашем побеге — знаешь что? Сто лет искать будут. Помирать будешь — найдут, из гроба вытащат и к стенке поставят. — А мы «цветным» гвоздя забьем. — Это как? — Дадим им близец. Пусть отдельно нас ищут, а отдельно — того, кто поможет Казанкину в ящик сыграть. Мысль дать оперативникам ложный «близец» — наводку на преступление — понравилась Павлику. Он взял на себя подготовку к убийству Казанкина и подбор лжесвидетелей. Однако Сократ не забыл двусмысленного намека Павлика по поводу его жадности. И сейчас он думал о нем, вспоминая и не узнавая черты того далекого губастого испуганного парня, которого он знал несколько лет назад. Которому объяснял нехитрые, но жизненно важные правила лагерного существования. И попутно — свои правила, долженствующие обеспечить, по его понятиям, тому, кто их соблюдает, независимость — единственное условие человеческого бытия, для достижения которого Сократ одобрял все средства. ...Загребая руками песок, устилавший дно трубы, Сократ вспоминал все это, чтобы утвердить себя в надежности бывшего ученика, чтобы развеять сомнения, обступившие его в темноте... Казанкин, двигавшийся впереди, думал о Сократе. Он хорошо понимал, что ему против Сократа и Павла не устоять. Конечно, они сейчас обескуражены. Но как только выйдут на волю из трубы... Казанкин помнил Сократа еще по тем временам, в Ачинске. Точнее, не его, а рассказы о нем Васьки Брагина, друга детства, деревенского хулигана и, наконец, главаря банды. Брагин называл его тогда Приказчиком. По его словам выходило, что это умный и вероломный человек. И Казанкин, к тому времени относившийся к Брагину уважительно и даже подобострастно, представлял себе Приказчика человеком мрачным, громадной физической силы (он знал, что Приказчик как-то здорово избил Ваську, а тот был не последний в кулачных драках). Когда однажды Васька объяснил ему и еще троим членам банды, что нужно будет в поезде встретить Приказчика, вызнать у него, куда он дел деньги с последнего налета, а, вызнав, — убрать его, Казанкину стало не по себе. Не потому, что нужно убить человека — времена тогда были такие, что не это было самым страшным. Он боялся этого человека, его хитрости, силы. И он испытал удивление и разочарование, когда по знаку Брагина вошел в купе и увидел высокого, худощавого, лысеющего мужчину в белом полотняном костюме, сидящего напротив Брагина с газетой на коленях. Казанкин подсел к нему, вынул нож и уперся им в бок мужчины. И тут произошло странное: Приказчик не обратил на его жест ровным счетом никакого внимания. Просто искоса, равнодушно взглянул на него и продолжал разговор с Брагиным. А потом Васька отослал его, и через некоторое время Казанкин услышал веселый раскатистый смех Приказчика. И когда Брагин вышел из купе и недовольно буркнул «отменяется», Казанкин со смешанным чувством удивления и злорадства понял, что этот человек сейчас всех их, и Брагина в том числе, обвел вокруг пальца. Понял, во-первых, потому, что Приказчик был отпущен с миром, во-вторых, потому, что об этих деньгах Васька больше разговоров не вел. Позднее он по пьяному делу рассказал, что тогда в купе Приказчик держал их под пистолетом, накрыв его газетой. Выходит, что их парадный выход был для него пустой возней, которую он вмиг прекратил бы, тронь они его пальцем... Вспоминал он и дальнейшее. Как кобыла Манька привела к нему угрозыск. Как ни с того, ни с сего у него начали домогаться, куда он спрятал Брагина, и в конце концов показали записку, в которой это утверждалось. Измученный страхом и подозрениями, Казанкин выдал и Васькино убежище. Только когда он увидел обгорелые кости и Васькин обрез — только тогда он понял, что все это: и записка, и смерть Брагина — дело рук Приказчика. А может он и с кобылой как-нибудь подстроил. От такого все можно ожидать. И Казанкин зарекся поминать о нем в уголовке. Тем более, что раньше по приказу Брагина он убил его любовницу — Серову. И еще потому, и это было самой главной причиной, что ничуть не сомневался Казанкин в том, отчего убит Брагин. Катерина, Васькина любовница, сбежала из Ачинска в одно время с Приказчиком — он это узнал на допросе. А ей Васька мог сказать про тайник... Сейчас, встретив Приказчика, теперь уже Сократа, и увидев этого мягкого, вежливого старичка, Казанкин забыл свои прежние страхи. Он решил выжать из него все, что можно. А здесь, в этой проклятой дыре, снова испугался. Господи! С кем связался! Задавит же, как котенка. Пальцем не шевельнет, а задавит. Чужими руками. Что он с Пряником, этим дуроломом. А против него — этот Сократ, Приказчик или кто он там. И с ним Павло. Что он думает? Неужели старый компаньон Сократа? Тогда Казанкину конец! А впрочем... Павло молчит. Может, раздумывает над его словами о том, что Сократ уберет и его по миновании надобности? О чем он думает? А Павлик вспоминал свой последний побег. Уроки, которые давал ему в свое время Сократ, трансформировались в его сознании в прямое и бескомпромиссное стремление к свободе. Любой ценой! Он не затруднял себя нравственным обоснованием поступков — не потому, что не умел этого, нет. Павлик был по-своему развитым и пытливым человеком. У него были определенные понятия о честности и справедливости. Но он видел, как многие из знакомых ему еще на воле людей совершенно обходятся без этого нравственного обоснования своих поступков, причем не только не несут за свои дела уголовной ответственности, но даже пользуются в своем кругу всем комплексом все тех же нравственных положительных оценок, что и остальные: уважением, авторитетом — и следствием этих оценок — любовью, привязанностью... И Павлик уверился: если нет нравственного самосуда — нет суда вообще! Да еще угрозыск может доказать, что ты — вор, грабитель и, следовательно, безнравственный человек. А вдруг не докажет? Значит, ты такой же, как все? Кто посмеет утверждать обратное? Но тогда — что значат какие-то абстрактные критерии — «порядочный», «непорядочный»? Да ничего! Ровным счетом ничего. Важны дела, а не слова о том, хороши они или нет. А негодяй ты или кристальная душа — это зависит от того, как ты сам на это смотришь. Что касается общества, то его оценка зависит от случая. Поймает тебя «опер» на малине — на тебя и твоих детей пальцем будут показывать: воры. А поленится в четыре утра прийти в засаду, прозевает — вечером пройдете друг мимо друга и поздороваетесь, как порядочные люди. Все зависит от тебя. Так или примерно так пришел Павлик по дороге, указанной Сократом, к своему пониманию роли этических норм в развитии личности и взаимоотношений ее в этом плане с обществом. Будь он малость поначитаннее и имей склонность к мудрствованию — пожалуй, додумался бы до солипсизма. Впрочем, вряд ли: жизнь очень ощутимо показала ему, что степень вреда или пользы, приносимой ему окружающими, зависела отнюдь не только от его сознания. Польза Павлика не волновала. В людскую доброту он не верил, за исключением непонятного отношения к нему Сократа в первое свое пребывание в лагере, хотя, сказать правду, какие-то сомнения запали ему в душу, заставив рассматривать все это под другим углом, особенно после этой истории с Казанкиным. А вот зла Павлик пытался избежать всеми известными ему способами. Одним из них, учитывая специфику существования Павлика, с 18 лет скитавшегося по лагерям, был побег. Итак, Павлик вспоминал свой первый побег. Он был задуман удачнее этого. Во-первых, потому, что Павлик бежал один. Во-вторых, — подготовка к нему заключалась только в том, что он стал отращивать волосы. Ничего другого не надо было делать. Ну еще несколько более внимательно поглядывал в сторону солдат, проверявших отправляемые из зоны вагоны с пиломатериалами. Да и поглядывал скорее из-за неосознанного, непреодолимого желания понять, проникнуться их мыслями, ощущениями во время осмотра, чем из-за практической надобности: весь порядок осмотра он и так знал. Но то, что они думают сейчас, чувствуют, они будут думать и чувствовать, когда он будет там. И это вызывало почти болезненный интерес. Наконец наступил срок, когда начальник отряда сделал ему замечание по поводу неаккуратной прически. Значит, тянуть больше нельзя. Теперь нужно определить день. Он определил его. С утра крупными хлопьями пошел снег, таял в жидкой черной грязи, накрывал пушистыми шапками сосны, бараки, сторожевые вышки и даже ряды колючей проволоки. Тонкий и острый запах снега кружил голову, вселял надежду... Он начал действовать. Сходил с утра к складам и убедился, что вагоны, поставленные с вечера под загрузку штабелей с шестидесятимиллиметровой доской, уже открыты, и грузчики работают вовсю. До обеда он быстро и споро выполнил свою обычную работу. Пообедав, пошел отметиться у старшего конвоя. С этой минуты в его распоряжении оставалось четыре часа, так как именно через четыре часа будет производиться съем заключенных с объекта и их пересчет. Теперь он, внимательно следя за часовым на вышке, спокойно и не спеша продвигался к складам. Вагоны были уже загружены. Он выбрал предпоследний, стоявший так удачно, что подход к его двери не просматривался часовым, чья вышка находилась рядом с разгрузочной площадкой. Кроме того Павлик сообразил, что последний вагон при проверке будет осматриваться с меньшей старательностью, чем первый. Однообразная эта работа — осмотр вагонов. Вырабатывается привычка. В вагон Павлик проник, никем не замеченный. Даже сюда залетали крупные хлопья снега, а на улице было бело от них. Два штабеля досок образовывали в середине вагона узкий проход. Павлик, упираясь руками в торцы, быстро и ловко забрался наверх и ползком пролез в конец вагона. Как он и предполагал, доски оказались разномерными: одни упирались торцами в стенку вагона, другие не доходили до нее. Отодвинув одну из досок, Павлик различил свободное пространство, в которое можно протиснуться. Он спустился в эту щель, задвинул за собой доску и стал продвигаться дальше, пока не достиг пола. Не успев устроиться поудобнее, услышал стук и голоса. Начался осмотр. Кто-то пролез наверху, постукивая по доскам. Павлик затаил дыхание. Вот осматривавший стал выбираться наружу. Павлик вытер ладонью влажный лоб. Вагон медленно тронулся и спустя некоторое время вновь остановился. Начался второй этап: проверка собаками. Павлик представил, как две могучие тренированные овчарки сейчас пройдут по специальным стеллажам с боков вагона, обнюхивая каждый сантиметр. Собаки — не люди. Запах его пота, грязной одежды — это запах их врагов. Никакие другие запахи не могут вызвать их грозного рычания и яростного, призывного лая — только его запах. Молниеносно сообразив это, он быстро выдернул клочок ваты из телогрейки и поджег его, помахав возле стены. Буквально через считанные секунды он услышал рядом с собой частый стук, царапанье, учащенное собачье дыхание, голос конвоира «ищи, ищи». Еще через несколько секунд звуки затихли. Всё? Всё. Он осторожно заплевал тлевшую вату, помахал ладонью, разгоняя едкий дым. Несколько минут тишины — затем длинный гудок паровоза, лязг, рывок... Павлик почувствовал, как стало легко и просторно, затекшая от неудобного положения нога свободно вытянулась. Подождав еще некоторое время, пока поезд не набрал ход, он решил выбираться, но от толчков и вибрации при движении поезда доски уплотнились так, что ему нельзя было даже изменить положение тела. Он шарил руками и не находил знакомых щелей, по которым пробрался сюда. Он очутился в ловушке! Около часа было потрачено на то, чтобы с неимоверными усилиями раздеться до пояса. От него шел пар, хотя в вагоне было холодно. Извиваясь, как гусеница, он тыкался головой в доски, ощупывая руками, пытался отодвинуть их... Еще через час, совершенно обессиленный, он выбрался, наконец, наверх... И все пошло прахом! Всё! Единственно, что он получил тогда — добавку к сроку. Теперь — снова побег. Труба, черная тьма... Земля под ногами. И они. Четверо. У Сократа что-то есть. Павлик чувствует. Неспроста старик ушел из зоны. Неспроста он так хотел, чтобы убрали Казанкина. До этого жил спокойно. Беспокойство принес Казанкин. Потребовал какую-то долю. Ясно, старик все сделает, чтобы дармоедов было поменьше. Ну, хорошо, они избавятся от Пряника и этого друга. Останутся вдвоем. Старик жаден. Может бросить его и уйти один. Один? Не-ет. Павлик посмотрит, что там у него за клад. И потребует свою долю. Там будет видно, какую — но потребует. Так думал он, пластаясь по сырому песку, напряженно вглядываясь в холодную темень. Замыкавший шествие Пряник полз, посапывая и совершенно ни о чем не думая. Он был осужден за изнасилование. Срок был большой, жизнь в лагере — скучной. Появившийся Казанкин — веселый, злой, всезнающий — быстро сошелся с ним и в два счета уговорил бежать, посулив золотые горы. В золотые горы Пряник не особенно верил, но Казанкин показался ему деловым. А потом какие-то неясные дела Казанкина с Сократом навели его на мысль, что золотые горы — и не такая уж фикция. Это подтверждалось и тем, что пока все шло по его предсказаниям. Поэтому Пряник полз, совершенно ни о чем не думая. Это обстоятельство, в отличие от других участников побега, помогло ему заметить то, что ускользнуло от них: земля под руками с продвижением вперед все больше и больше сырела, превращалась в жидкую грязь. Кроме того, к тишине, прерываемой только их дыханием, стали примешиваться какие-то посторонние звуки. Пряник бессознательно прислушался к ним и вдруг остановился. — Эй! Все замерли. — Слышали? В наступившей тишине отчетливо раздавались какие-то всхлипы, ритмичные всплески... — Сидите... я взгляну, — не оборачиваясь, пробормотал Павлик, но, продвинувшись немного вперед, растерянно остановился: под ногами хлюпала вода, с каждым его шагом поднимаясь все выше. — Все! Суши портянки — приехали, — Павел матерно выругался. — Где? Что ты... — Казанкин оттолкнул Павла, пробрался вперед, некоторое время брел, пока не почувствовал, как вода заплескалась у самого лица. — Куда ты? — глухо проговорил Павел. — Труба в наклон идет — дальше хода нет. Последние дни дожди были, вода в реке, видимо, поднялась. Осень... Теперь неделю, а то и больше вода стоять будет... — Заткнись! — с ненавистью прохрипел Казанкин. Он резко вдохнул воздух и нырнул. Все трое уставились в темноту, поглотившую его с мягким плеском... Он вынырнул, жадно хватая воздух ртом и расталкивая беглецов, пробрался на сухое место. — Что? — тревожно спросил Сократ. Казанкин посмотрел на него — и внезапно расхохотался. — Ах, старый дьявол... ха-ха-ха! Ай, Сусанин! Всех обкрутил! Себя замуровал и троих дураков впридачу! Ах-ха-ха! Ох-хо-хо-хо-хо!.. Странно и жутко было слышать этот хохот, искаженный круглым сводом трубы. Постепенно смех слабел, собственно, это был уже не смех, а редкие всхлипывания. Наконец, и они замолкли, и в трубе воцарилась растерянная тишина. Сократ устало закрыл глаза...Глава седьмая
...В узком каменном коридоре послышались гулкие торопливые шаги, и затем появился запыхавшийся юноша. — Леонид? — радостно удивился Сократ. — Здравствуй, дружок! От кого это ты так быстро бежишь? И куда? — К тебе, Сократ! Я спешил к тебе, — переводя дыхание, ответил юноша. — Меня не пускал отец. Он пришел в неистовство, когда я утром хотел пойти к тебе. Он кричал, что я и так опозорил его в городе дружбой с тобой. Говорил, что эта безнравственная связь вызывает в Афинах двусмысленные толки в его адрес, вредит его кожевенному производству. Никто из солидных покупателей не хочет иметь с ним дела, ему уже не предлагают общественных должностей, так как подозревают в нем агента олигархов, окопавшихся в Элевсине. По его словам, ты тоже их агент. Он брызгал слюной, вопил, что ты безбожник, аморальный человек, разбивающий семьи. Что тебя надо было казнить еще раньше с Критием — твоим достойным учеником и таким же... таким же развратником. — Ужас! — покачал головой Сократ. — Кошмар! Подумать только, что все это обрушилось на твою голову. Клянусь Зевсом, моя Ксантиппа и то умеренней. Как ты все это выдержал, мой юный философ? Как же ты вытерпел все это? — Я не терпел, Сократ! — вскричал Леонид. — Я ответил ему, что плюю на его кожевенное производство и на сплетни, распространяемые о тебе в городе. Я сказал ему, что его любезные друзья-демократы такие же отъевшиеся лавочники, как и он, и ничем не отличаются от элевсинских олигархов — разве только тем, что последние остались без сладкого пирога, которым лакомятся демократы сейчас. Я крикнул в лицо, что не ему с друзьями говорить о нравственности, в которой они понимают столько же, сколько и рабы... Человеческая душа, сказал я ему, для вас ничто. Вам нужны деньги, товары, корабли. Вы горланите на собраниях об интересах полиса, а когда свергали тиранию Тридцати — сколько под шумок вы убрали неугодных вам людей, огульно обвиняя их в приверженности олигархии. Вы увеличили налоги, строите новый флот, отправляете военные экспедиции для защиты Афин, но все это блеф. И экспедиции вы отправляете для того, чтобы получить еще денег, еще товаров, еще рабов. — Судя по всему, прекрасная речь была, — произнес Сократ, вопросительно оглядывая своих учеников. — Несколько декларативна, на мой взгляд... И что же ответил тебе Анит? Юноша помолчал. Вздохнул. — Он ответил, что все мы — беспомощные, наивные люди, бесполезные для полиса, расслабляющие общество сомнениями и казуистическими противоречиями. Вы ничего не делаете, сказал отец, вы только болтаете. Вас даже врагами не назовешь, потому что вы — плоть от плоти нашего полиса. Но вы хуже врагов, потому что, развиваясь вместе с полисом, вы, однако, кроме болтовни не занимаетесь ничем. И если бы ваша болтовня хотя бы веселила людей, общество смирилось бы с вами. И даже, может быть, уважало бы вас. Как Аристофана, написавшего кучу смешных вещей. Но ведь вы не только ничем не помогаете развитию общества — вы тормозите его. Вместо того, чтобы после стольких лет кровавой тирании Тридцати радоваться установившейся демократии, вы ищете изъяны, обсасываете наши просчеты и недостатки. Сократ язвит над народным собранием, называет его «незнающим большинством», и вы, восторженные мальчики, дети состоятельных родителей, хором вторите ему. Глядя на вас, и остальная молодежь в Афинах начинает говорить то же. А когда дети хают создаваемое отцами — это уже серьезно. Может Сократа осудили и не по правилам, сказал отец. Он не уголовный преступник, но он хуже, чем уголовный преступник. Нашими законами просто не предусмотрено такое злодеяние — нравственное растление молодежи. И вам сейчас трудно понять, какое это зло. Вы поймете, когда у вас появятся свои дети и скажут в один прекрасный день, что вы жили напрасно. И с презрением плюнут на все, что сделано вами. В этом месте отец совершенно рассвирепел. Он схватил меня за руки, потащил к двери и, указав в сторону наших кожевенных мастерских, заорал, выпучив глаза: — Что ты будешь делать, сопливый, изнеженный философ, когда я умру? Что ты будешь делать со всем этим? Ты не знаешь не только процесса выделки кож — ты даже понятия не имеешь о том, как их сбывают. Ты думаешь, что войны затеваются ради твоих дурацких идеалов? Нет, милый дурачок, распевающий гимны благородству! Война, к твоему сведению, — это одно из средств выгодного сбыта кожевенных изделий. Для меня, во всяком случае. А сбывать их спартанцам или фессалийцам, демократам, олигархам или огнепоклонникам — это зависит от конъюнктуры, а не от ваших диспутов. Сократ внимательно посмотрел на юношу. Когда тот замолчал, он произнес: — Да, Анит — сильный собеседник. Его логика агрессивна. Она не противопоставляет себя логике противника — она подчиняет ее себе. Ты не обратил внимания, Леонид, на то, что отец, постоянно ставя перед тобой вопросы, в общем-то не давал тебе говорить? Он приводил новые яркие аргументы своей правоты и вновь требовал от тебя ответа. И опять приводил новые доказательства... И снова спрашивал... — Да, — кивнул головой Леонид. — И у тебя постепенно складывалось ощущение, будто ты не можешь, не в силах возразить ему... — Да, да — подхватил юноша. — Я не успевал продумать возражение одному аргументу, как он приводил следующий... — Бедный Анит! — Сократ тихо рассмеялся. — Ненавидит болтунов — и так прекрасно усвоил школу софистов! Вот вам еще один довод в пользу тезиса о взаимопроникновении противоположностей. Ну, и чем же, в конце концов, закончился ваш спор? Леонид помялся. Искоса взглянул на Сократа. — Потом отец успокоился. Усадил меня рядом. Велел никому не передавать то, что он мне собирается открыть. И сказал, что недавно влиятельные лица из народного собрания имели с ним беседу. Ему напомнили 409 год, когда он возглавлял военную экспедицию по захвату Пилосской гавани у спартанцев. Экспедиция тогда закончилась неудачей, и отца отдали под суд. Ему удалось оправдаться. Но влиятельные лица намекнули: сейчас, учитывая то обстоятельство, что его сын, то есть я, открыто критикует стоящих у власти демократов и, следовательно, примыкает к крылу олигархов, — дело снова можно поднять, пересмотрев уже с политических позиций мотивы провала той экспедиции. Одним словом, отцу предложили, если он не хочет потерять все, включая жизнь и честь, обвинить тебя, с тем, чтобы показать полису, что он, Анит, не только не поддерживает сына в его воззрениях, но и требует наказания тех, кто навязал мне эти воззрения, используя мою молодость и неопытность в вопросах политики. Таким образом, отец докажет, что он является истинным гражданином полиса, патриотом Афинской демократии — и отведет от себя подозрения в нелояльности. — Довольно убедительно, — задумчиво проговорил Сократ, ероша бороду. — Во всяком случае, более убедительно, чем это было изображено в обвинении. Я почти готов поверить, что это так и было. Тем более, что не Анит был основным обвинителем. Что такое обвинение несостоявшегося поэта Мелета? Или оратора Ликона? Анекдот! Так я к этому и отнесся на суде. А вот Анита, бывшего Афинского стратега, влиятельного политика, поставившего скромно вторую, а не первую подпись под обвинением — проглядел. Да и с обвинительной речью он не выступал — этого не нужно было. Суду, как впрочем, и любому лицу, достаточно подписи Анита. А я-то начал издеваться над Мелетом, полагая, что уничтожив его — уничтожу обвинение. Ну, ладно, сейчас ничего не исправишь. Так каким образом ты очутился здесь, мой Леонид? Как тебе удалось убедить отца? — Никак, — растерянно сказал Леонид. — Просто после того, как отец рассказал мне все это, он положил руку на плечо и прошептал: «А теперь — делай, как знаешь». И заплакал. А я побежал к тебе. — Удивительно! — пожал плечами Сократ. — Удивительна эта яростная вспышка, которая ничем не кончилась. Впрочем, мне кажется, я догадываюсь о ее причинах... Но мне хотелось бы услышать, может, кто-нибудь из присутствующих имеет свое мнение на этот счет. Федон повернул свою кудрявую голову в сторону Леонида и насмешливо произнес: — Я опять скажу, возможно, не в свою пользу, мне сегодня все время не везет, но, на мой взгляд, все объясняется достаточно просто. Ты, Сократ, Аниту уже не противник. Тебя он практически уничтожил. Но это ведь полдела. Ему нужен сын — продолжатель его трудов, новый управитель мастерских. Вот поэтому, воспользовавшись ситуацией, в яркой речи он объяснил Леониду свои принципы, изобразил себя этаким крепко стоящим на земле, реально мыслящим человеком. А когда это не возымело действия — подпустил жуткий рассказ про смертельные интриги и собственную вынужденную подлость, от которой он, понятное дело, потерпел огромные нравственные убытки. Настолько огромные, что в качестве компенсации даже разрешил Леониду проститься с тобой — человеком, которого он ненавидит. Я слышал эту трогательную историю про Пилосский порт. Твой отец, Леонид, лжет: ему не удалось тогда оправдаться — ему удалось откупиться. И сейчас ему ничего не грозит, ты можешь успокоить его. Он дал судьям тогда такую огромную взятку, что доведись кому-нибудь вспомнить это дело — возмутителя тишины просто потихоньку удавят. Тогдашние судьи-то — все сейчас в народном собрании сидят и не на последних должностях. Если уж таинственные влиятельные лица и имели беседу с твоим отцом, то, уверяю тебя, это был приятельский разговор людей, понимающих друг друга с полуслова. И выгода от этого разговора была, видимо, обоюдной. При случае поинтересуйся, повысился ли спрос на ваши кожевенные изделия после приговора Сократу. Заодно получишь урок, как следует создавать выгодную конъюнктуру для сбыта товаров. Это как раз то, о чем просил тебя отец. Сократ исподлобья посмотрел на Федона, положил ему руку на голову, перебирая шелковистые завитки волос. — Завтра ты, видимо, острижешь эти волосы, Федон, в знак траура по мне? — Да, Сократ, — кивнул головой юноша. — Я это сделаю назло всем Афинам. И пусть они попытаются подыскать мне какое-нибудь государственное обвинение по этому поводу. Это будет веселый процесс, гораздо веселее, чем твой, я обещаю тебе. — Ты сегодня делаешь ошибку за ошибкой, — грустно улыбнулся Сократ. — Ты слишком поддаешься чувствам. Например, совершенно напрасно обижаешь Леонида. Совершенно напрасно обижаешь Афины. Леонид — твой друг. Афины — твоя родина. Что ты без этого значишь? Как ты будешь без них существовать? Жить? Отказаться от друзей и родины на том основании, что они не подходят тебе — все равно, что отказаться от жизни на том основании, что она тебя не устраивает. — Но... ты же отказываешься, Сократ, — несмело сказал Федон. — Ну, во-первых, не я отказываюсь, а мне отказывают, — усмехнулся Сократ, — а это большая разница. Ты, видимо, не заметил ее потому, что введен в заблуждение моим спокойным отношением к приговору. Однако если ты счел меня самоубийцей — должен тебя разочаровать. Это не так. Я не отказываюсь ни от родины, что, кстати, может подтвердить Критон, с которым мы по этому поводу имели недавно жаркий диспут, ни от друзей, что, думаю, и вовсе не нуждается в дополнительных свидетельствах. А во-вторых, дружок, прежде чем прийти к этому финалу, я всю жизнь потратил на то, чтобы друзья мои и родина стали немного лучше. И, уверяю тебя, не моя вина, если вышло не совсем так, как я хотел, — ни с родиной, ни с друзьями. — А меня задело больше всего в разговоре Анита с Леонидом то, что нас считают бесполезными людьми, — произнес вдруг Симмий. Он сказал это в полной тишине, установившейся после слов Сократа. — Я понимаю, что нас путают с софистами, спорящими ради спора. Но ведь это же происходит еще и потому, что ни мы, ни они не приносим людям реальной пользы. — Рассуждения о жизни никогда не приносили реальной пользы в том смысле, как ее понимает Анит, — заметил Сократ, — тем не менее, что мы значим без этого? Прочитать комедию, чтобы посмеяться? Устроить застолье, чтобы насытиться? Выпить с друзьями, чтобы одуреть от винных паров? Полюбить, чтобы произвести на свет себе подобных? Неужели ради всего этого существует искусство, политика, философия? Чтобы мы испытали приятное? Но для этого достаточно щекотки. А честолюбие, ненависть, доброта, сострадание — отчего все это проистекает? От недостатка еды? Или по какой-то другой причине? Беспорядок или напротив — порядок, который мы устраиваем, либо пытаемся устроить в этом мире — чем он вызван? Только ли желанием нашим иметь получше кормушку? И к звездам мы глаза поднимаем только ли тогда, когда кормушка пуста? В молодости я, помню, терялся в этих вопросах, не находя им разумного ответа. Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной ум. И эта причина пришлась мне по душе, я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина — ум. Но причины без следствия, как известно, не бывает. А следствие — жизнь, бытие. Они соотносятся, как душа и тело. И если тело наше отождествляется с бытием, жизнью, то ум отождествляется с душой. Так разве возможно, Симмий, рассуждая о делах земных, жизненно важных, не принимать совершенно во внимание первопричину их — ум человеческий? И, признавая реальную пользу этих дел, забывать, что они следствие доброты, зависти, сострадания, честолюбия — то есть следствие тех качеств, которые кроются в нашей душе. И дела эти живы, пока жив человек. Его ум. Его душа. Вот главное. Человек интересен своим умом. Тем, что он знает. Во что верит. Что ненавидит. Остальное — производное. А ведь вера, ненависть, знание — эти категории никакого отношения к смерти не имеют, как ты полагаешь? Так что, если вам угодно, можешь считать это третьим моим доказательством бессмертия души. Сократ повернулся к Леониду. — Видишь ли, Леонид, мы тут без тебя пытались проявить мое право на бессмертие. Выясняется, что кое-какие шансы у меня все-таки есть, хотя вот Кебет поначалу дал понять, что мне не стоит особенно хорохориться эти последние часы. Леонид слабо улыбнулся. — Я не слышал двух предыдущих твоих доказательств, Сократ, но думаю, что ты, по своему обыкновению, провел их блестяще. От тебя всегда исходит такая спокойная уверенность... Не знаю как другие, а я порой не особенно слежу за ходом твоих рассуждений. Я смотрю на тебя, вижу твои неторопливые жесты, слышу голос — и все это убеждает меня зачастую сильней, чем те или иные логические обоснования. Это, наверно, неправильно и недостойно философа... ты меня прости за это. Видимо, я слабый человек. Вот Федон смеется надо мной, но я не обижаюсь. Он прав. Совсем недавно я бежал сюда, и сердце мое разрывалось от боли за тебя и жалости к отцу. Но сейчас, увидя тебя, услышав твою речь, я почти спокоен. И жалость к отцу исчезла — осталось горькое удивление: как я мог жалеть его? Как могло случиться, что мой отец — лицемер, величайший негодяй, хитрый и расчетливый убийца... И я этого не понимал? Сократ шутливо надавил ему пальцем на лоб. — Опять декларируешь! Однако не казни себя. Ты, Леонид, слаб, потому что ты человек. Почему-то у нас принято показывать свою силу и скрывать слабости. Как будто мы на сельскохозяйственном рынке, где продавцы стараются скрыть недостатки животных, чтобы продать их подороже неопытным покупателям. Совсем неплохо, если твое сердце сохранит способность болеть о чужих бедах, как о своих. И не надо этого бояться. Пожалуй, это поважнее, чем разбираться в философии. Правда, на этом пути тебя могут встретить разочарования, поэтому постарайся не стать человеконенавистником. — Но каким образом, Сократ? — Это случается с людьми, когда они горячо и безо всякого разбора доверяют кому-нибудь, но в скором времени обнаруживают, что человек, которому они доверяли, неверен, ненадежен и еще того хуже. Кто испытывает это неоднократно, и, в особенности, по вине тех, кого считал самыми близкими друзьями, тот, вконце концов, от частых обид начинает ненавидеть всех подряд и уже ни в ком и ни в чем не видит здравого и честного. Хотя, в сущности, очень хороших и очень плохих людей немного... А вот посредственных — без числа. Разве ты не замечал, что во всех случаях крайности редки и немногочисленны, зато середина заполнена в изобилии? — Замечал, — согласился Леонид. — И если бы устроить состязание в испорченности, то первейших негодяев оказалось бы совсем немного. Кстати, хочу сказать, что твой отец вряд ли оказался бы в их числе. Он исповедует свои принципы и действует, исходя из них. С его точки зрения я представляю зло, а со злом, знаешь ли, не церемонятся. Я был солдатом, участвовал в походах, сражениях и могу это подтвердить. Я не питаю симпатии к твоему отцу, но негодяем я его не назвал бы. Он просто человек, каких легион. Ни хороший, ни плохой. Средний. Если бы он смотрел на вещи так же, как мы, он избрал бы другие средства борьбы со злом, которое, естественно, имело бы для него уже иное обличье. Но он посвятил себя другой идее. А идея, мой мальчик, формирует человека. Так что с точки зрения идеи, которой служит Анит, он, может, даже и неплохой человек. — А... я? — тихо спросил Леонид. — Ну, — улыбнулся Сократ, — ты очень хороший человек, Леонид. Честный человек. Это мое твердое убеждение. — Почему ты так уверен? — Но ведь нас-то, меня и твоих товарищей, ты считаешь хорошими людьми? — Вы — другое дело, — уныло произнес Леонид, — а вот я... — А ты думаешь, можно быть дурным человеком и иметь честных друзей? Леонид некоторое время смотрел на него — и вдруг рассмеялся. — Ну, какой же ты хитрый, Сократ! И как же легко и просто ты примиряешь человека с окружающим. Скажи, пожалуйста, как это тебе удается? — Это совсем нетрудно, — ответил Сократ, — ведь я говорю о тебе таком, какого я вижу перед собой. А вижу я тебя молодым, искренним, добрым... Каким ты будешь завтра, я не знаю. Завтра ты останешься один. Меня с тобой не будет...Глава восьмая
— Да, брат, скоро ты один останешься. Пора мне с этой конторой завязывать. Уйду я. Розыскник Алексей Кириллыч Воронец возился с дверным замком, подняв очки на лоб и изредка взглядывая на Голубя, проверял впечатление от сказанных слов. Заметив его недоверчивую усмешку, он выпрямился и, потрясая отверткой, возмутился: — Ты чего скалишься? Думаешь, не уйду? Ого-го, еще как уйду! Ты молодой, десяток лет всего и работаешь, а я в войну дезертиров ловил. Тогда, брат, не так было... Голубь глядел на него, улыбался — слушал и не слушал. Кириллычу далеко за пятьдесят. Волосы на голове — серебристым бобриком. Невысокий, плотный, лицо красное, без морщин. Возраст — сразу и не угадаешь. Почти не изменился с тех пор, как вместе работали в управлении. Это уже потом, когда постарел, надоело по командировкам мотаться, дачей обзавелся, — он перешел в райотдел. С Голубем виделись редко. Как сейчас, когда Виктор приехал в конце квартала, — выяснить, что реального даст райотдел на раскрытие. Но внешне Кириллыч не менялся, был весь на виду. Он всегда в равной степени был озабочен неудовлетворительными результатами очередного розыска и заморозками, угрожающими его дачному садику. И в том и в другом случае он искал и находил конкретных виновников, которых бурно изобличал перед Голубем... — Ты погляди, чем сейчас уголовный розыск занимается? — ткнул себе за плечо отверткой Кириллыч, развивая свою коронную мысль, которая завершалась у него обычно поговоркой: «Раньше люди жили — куда твое дело!». — Половина работы уходит на отказные материалы. Утюг украли — отказной, муж жену погонял — отказной, пацаны мопед угнали — обратно отказной! Разве это преступления? Работа? Я их не выходя из кабинета строгать могу — много ли ума надо? Меня еще в пятидесятом году начальник вызывал вечером и говорил — показывай участок! Идет, останавливается перед каждым домом и спрашивает: что тут? И докладываешь: здесь притон, тут краденое скупают... Имена, клички, связи, характеристики... А сейчас... нет, не тот инспектор пошел. Вот раньше мы работали — куда твое дело! — Так ведь и преступник не тот, Кириллыч, — улыбнулся Голубь. — Верно, — погрустнел Кириллыч, — с теми, что раньше в зону уходили, не сравнить. — А что, Алексей Кириллыч, — поинтересовался Голубь, — вы много помните интересных преступников? Тот почесал отверткой за ухом. — Знаешь, я долго думал, уже и порядком поработал, что на серьезное преступление дурак не пойдет, — умный должен быть преступник. А вот таких, умных-то, и немного приходилось видеть. Тут, по-моему, какое-то несоответствие. Скажем, преступление сложное, раскрывает его не один человек. А задержат преступника, глядишь на него: плюгавый, гугнявый, трусливый... Тьфу! Помнишь Цыганова? Голубь кивнул головой. Эта группа полгода совершала дерзкие преступления. Уже когда стало известно, что он ее возглавляет, и на Цыганова был объявлен розыск, тот нахально звонил на работу в бухгалтерию и справлялся у кассира, много ли ему начислили денег, сетуя на то, что не может их получить. — Так вот, подельник его, когда был арестован, три раза мне очные ставки срывал. — Как это? — А так. Привезу потерпевшую, вызову его из камеры, а он, подлец, увидит ее, потужится и, того... в штаны наложит. Приведут его в порядок, а он — опять... В наглую смотрит, кряхтит, аж синеет от натуги. А на суде юлил, вилял, плакал... Скотина! Я так полагаю: среди преступников настоящих злодеев да изуверов раз-два и обчелся. Остальные либо барахольщики, на все ради дармовой тряпки готовые, либо недоумки вроде этого. Такие и на грабеж пойдут, и на убийство. Тем более, что сейчас этого не надо. Дал девке по шапке — а шапка песцовая — вот тебе и двести рублей... Ну, ладно. Вроде бы теперь наладил замок. Не знаю, надолго ли. Да — все равно, скоро уйду на пенсию. Пора! Ну, что — идешь со мной? Кириллыч повернул ключ в двери взад-вперед и вопросительно взглянул на Голубя. Тот посмотрел на часы — около семи. Собственно, планов у него особых и не было на вечер. К Кириллычу он зашел узнать, как идет работа по установлению личности трупа, останки которого обнаружены месяц назад при строительстве гаража. Реук отписал все материалы Кириллычу, и пока старик чинил замок, Голубь просмотрел дело. Смотреть, однако, практически было нечего, потому что самого главного, с чего начинается активный поиск, — сведений о личности убитого — не было. Правда, череп отправили в Центральную научно-исследовательскую криминалистическую лабораторию МВД СССР. Возможно, с восстановлением лица можно будет что-либо предпринять... А пока Воронец методически обходил дома возле горы, где были обнаружены останки, пытаясь выяснить что-нибудь у старожилов. Вот и сейчас он собрался в очередной обход, прихватив с собой Голубя. — Идем, — кивнул Виктор. Они направились к горе, видневшейся за пяти- и девятиэтажными домами. — Последняя моя надежда, — показал Кириллыч в сторону ряда частных домов, уютно умостившихся в зарослях черемухи, рябины, акации. — Тут такие люди живут... знающие. Золотые люди! А вот разъедутся по новым микрорайонам — всё. Человек — он ведь чем интересен? Должностью, машиной, квартирой? — Кириллыч покрутил головой, — нет! Человек интересен тем, что он знает. Я тут одну старушку помню... Она в юности в няньках служила у какого-то важного адмирала в Прибалтике. Веришь ли — Николая видела, Колчака! Обыкновенная старуха. Расписывала их, как живых! И, между прочим, кражу в Доме культуры тогда помогла мне раскрыть. Наблюдательная бабка была. Вот что значит частный сектор, брат. Это ведь не только дома — это, Виктор, целая система отношений между людьми сносится. Ты в девятиэтажке своей хорошо соседей знаешь? Я тоже только вечером здороваюсь. А тут... поколения домами дружат! Такое только в деревне осталось. Вообще, я тебе скажу, не понимаю наших молодых ребят. Квартиры нет, живут в тесноте у родственников, а предложи в район — обидятся. А ведь там работать лучше. — Ну, все-таки... город, — неуверенно возразил Голубь, — уровень жизни другой. — Какой уровень, Витя! — Кириллыч даже остановился от возмущения. — Хотя бы культурный. — Нет, вы глядите! Ты-то! Ты-то сам где бывал за этот год? В оперном театре, к примеру, сколько раз был? — В этом — ни разу, — подумав, ответил Голубь. — А вообще два раза. Первый раз карманника задерживали, а второй — дежурил, на проникновение туда выезжал. — Вот видишь! — удовлетворенно заметил Кириллыч. Немного помолчал, спросил: — А что взяли? — Когда? — Ну, второй раз? — Не подтвердилось проникновение, — вздохнул Голубь. — Значит всего один раз и был — второй можно не считать... раз не подтвердилось, — поучительно сказал Кириллыч. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. — Вот тебе и культурный уровень, — заключил Кириллыч. — Нет, брат, все от человека идет. Он прищурился, вглядываясь в старенький, обшитый почерневшими от времени досками дом, мимо которого они шли. — Зайдем? На дворе, возле бочки с водой, старуха мыла веником таз. Она искоса взглянула на вошедших и продолжала заниматься своим делом. — Здравствуйте, мамаша! — приветствовал ее Кириллыч. — Здорово... сынок, — буркнула старуха, шуруя веником в тазу. — Мы из милиции, — продолжал Кириллыч, доставая и показывая ей удостоверение. Старуха, не торопясь, положила на землю веник и таз, вытерла руки фартуком и, взяв удостоверение, внимательно осмотрела его. — У моей внучки такое же, — заметила она, — на конфетной фабрике работает. Она еще раз поглядела на удостоверение и вернула его Кириллычу, заключив: — Не вижу ни дьявола. Говорите, чего надо, коли из милиции! — Нам бы побеседовать с вами... — Тогда подождите, пока пол в сенях домою, — подумав, ответила старуха и, налив в таз воды, скрылась в доме. — Посидим пока, — предложил Кириллыч Голубю, оглядываясь и вытирая шею. Они присели на завалинку. Немного погодя вышла старуха, села с ними. — Как вас по имени-отчеству? — поинтересовался Кириллыч. — Евдокия Ивановна. — Вы давно здесь живете? — спросил Голубь. — Всю жизнь, сынок, — вздохнула старуха. — Как муж помер, брат с женой переселился ко мне. А теперь — ни мужа, ни брата с женой — дети да внучата. И те не свои — братнины. Дом-то им не нужен, его под снос определяют. Вот и ждем с ним, с домом... когда нас снесут. Жилплощадь новую выделят — тут уж я совсем лишняя буду. — Ну, что-то вы больно грустно настраиваетесь, — улыбнулся Кириллыч. — Я не намного младше вас, а, вон, видите — орел! Евдокия Ивановна мельком взглянула на него и слабо улыбнулась. — Насчет орла ты, мил человек, хватанул. Однако видимость у тебя, конечно, не чета мне. И то сказать — ты при деле. А я... Тут хоть настраивайся, хоть расстраивайся, — мысли-то все на одно поворачивают. Работать я не работаю, малых у нас в доме нет — что мне остается? Вон к Гришке схожу на гору, поругаюсь с ним — и вся радость. — А кто это Гришка? — А муж мой, — равнодушно ответила старуха. Кириллыч переглянулся с Голубем. — Так ведь... мы поняли, что он умер? — Тридцать лет, как помер, — согласилась старуха. — С кем же вы тогда... ругаетесь? — растерялся Голубь. — А с ним и ругаюсь. Все тридцать лет. Старуха весело посмотрела на них. — Что это у вас вид какой-то... чумной? Думаете, заговариваюсь. Я иной раз тоже так думаю: не то живу я, не то — нет. Однако вот — живу. С милицией разговариваю. Или нет? — С милицией, с милицией, — успокоил ее Кириллыч и снова достал платок, вытирая шею. — Ну, стало быть, не блазнится. Мы с Гришей-то ни разу не ссорились, а прожили всего год. Вот и считайте: годочек-то и прожили в мире, а тридцать лет лаемся. Да это при том, что его все это время в живых нет. А? — Да-а... — осторожно протянул Голубь. Он незаметно толкнул локтем Кириллыча и показал ему глазами на калитку. Тот утвердительно качнул головой и обратился к Евдокии Ивановне: — А где похоронен ваш муж? Старуха слабо махнула рукой. — Там, на горе. Закрыли теперь это кладбище. Не разрешают здесь хоронить. Гаражи вокруг, дачи строят... Живым-то тесно, а этим... какая разница? И из-за этого с ним ругаюсь. Кабы не совался, куда не надо — сейчас бы вместе схоронили. Теперь, вон, лежи, старый дурак, один. — А в других местах раньше захоронений не было? — Нет, — удивилась старуха, — зачем в других... какие вам еще места понадобились? — Это мы к тому, Евдокия Ивановна, что здесь недавно на горе захоронение нашли, отдельное. Человека... Может, на вашей памяти драка была в те годы или пропал без вести кто-нибудь? — Не помню такого, — подумав, ответила старуха. — Раньше здесь народ тихий жил. Это теперь все... ушлые да отчаянные. Вон соседки дочка. Семнадцать лет только минуло, отца нет, мать в командировках... Оставила ей месяц назад сто пятьдесят рублей и уехала. Так она на днях аж два магнитофона купила. Я ей все говорю: Кланька, как ты, уховертка, этак-то денежки фуганула? Чего ты, дура, есть будешь до матери? И на кой ляд тебе две музыки враз? Фыркает, носом водит. Ее настоящее имя Клариса, так она страсть как оскорбляется, когда я ее Кланькой зову. Да еще при кавалерах. Они на ее эти два магнитофона, только она их включит, как раки на дохлую лягушку, ползут. Два дня назад аж разодрались. Саньке Мишину, с конфетной фабрики, здорово досталось — он их разнять пробовал. Вот и разнял — в больницу увезли. — А у кого она магнитофоны приобрела, не знаете? — поинтересовался Голубь. — У-у... как его? — старуха задумалась. — Живет на Электриков... «Типа» — она его зовет. Он Саньку и испинал тогда. Кабы не крикнул кто-то «милиция» — было бы вам захоронение, почище этого, что вы ищете. — Это позавчера драка была? — перебил ее Кириллыч. — Вроде, да... Позавчера. Начали-то они здесь, а Сашке досталось во-он возле той пятиэтажки. — Ну, ладно, Евдокия Ивановна, мы пойдем. Спасибо вам. — За что же «спасибо»? — удивилась старуха. — Да за разговор, — улыбнулся Голубь. Они попрощались и вышли. Евдокия Ивановна, приложив руку козырьком к глазам, долго смотрела в их сторону. — Ну, нет худа без добра, — удовлетворенно вздохнул Кириллыч. — Мужик этот второй день без сознания, а два парня, что задержаны, такую чушь несут, аж уши вянут. Сейчас все понятно. Да еще Кланькина покупка выплыла. Видишь, как полезно вечером гулять? Давай-ка еще сюда зайдем. Голубь оглянулся и заметил: — А бабка-то все следит за нами. Он ошибался. Евдокия Ивановна смотрела не на них, а на гору. Она смотрела и прикидывала, стоит ли сегодня идти к Гришке. Последнее время она редко бывала у него — тяжело ходить по жаре. Жаль, что эти два милиционера ушли. Старуха так часто за тридцать лет переживала раз за разом свою прошлую жизнь, что воспоминания стерлись, потеряли свое первоначальное значение. Она ни с кем не делилась ими, брат, знавший все, что случилось с ней и Гришей, давно умер, а у детей и внуков хватало своих забот. Эти два человека, которым она начала рассказывать про Гришу, разбудили снова в ней воспоминания. И старуха смотрела широко раскрытыми глазами перед собой и видела себя молодой, быстрой... И своего Гришу — моториста дизеля, обеспечивавшего электричеством весь маленький поселок. Она тогда уехала в город рожать, да неудачно. Ребенок родился мертвеньким, и она передала письмо со знакомым. А Гриша так ждал его, что утром, когда его позвали на почту, он бросил впопыхах факел, которым разогревал свой проклятый дизель, в бочку с песком и побежал. И пока он бежал на почту и читал там ее горькое испуганное письмо, факел каким-то образом вывалился из бочки... Ему дали восемь лет, и вначале он писал тоскливые, ласковые письма, а потом с ним что-то случилось. Письма стали приходить злые, обидные. Временами в них прорывался прежний его голос, но не ласковый, а испуганный, разуверившийся. Кого-то он боялся, кому-то что-то должен был... Она ничего не понимала, ревела — и все. Он и сидел-то недалеко — километров двадцать пять лагерь их был. Завод какой-то строили. Несколько раз она ездила к нему... И вот — к ней самой приехали. Выспрашивали: не знает ли такого-то и такого-то? Не называл ли Гриша их на свиданиях, не давал ли каких поручений? А потом сказали, что Гришу убили. Утопили в ванне с известью. Четверо каких-то... фамилии их называли, приметы описывали. Сбежали они после этого из лагеря. Так и не поняла она, за что его убили. Да и те, что к ней приезжали, сами, видимо, ничего понять не могли. Только и хватило ее на то, чтобы выпросить у них разрешения похоронить мужа здесь, в поселке. По первости она к нему плакать ходила. А потом ругаться стала. Здоровый мужик, а выдержать не смог! Она — баба — и то держалась. А ведь война была, не сладко жить одной-то. Честно-то что не жить, когда все есть, все хорошо. А ты поживи-ка честно, когда жрать нечего, когда мужика в доме нет. Ты в лагере честно поживи! Нет — связался с бандюгами, влез в их дело... И с той поры — наладилась. Как неприятность какая или тоска заест — идет его отчитывать. Поругается, потом помирится, поплачет — и домой. Жила она с братниной семьей, нянчила сперва его детей, потом внуков... Так и состарилась. Может, вышла бы замуж — забылось все понемногу. Да свободных женихов тогда не было после войны в их поселке, а уехать не смогла. Тут у нее жизнь началась, тут и самое хорошее было, и самое плохое... Куда же человек от этого денется? ...Евдокия Ивановна очнулась и переступила затекшими ногами. Нет, не пойдет она сегодня к Грише. Что с ним ругаться, с безответным? Жаль, что милиционеры ушли. Она бы им про него все рассказала. Гриша-то хороший был, только слабый. Вон как сейчас хорошо вспоминалось — прямо жаль, что эти двое ушли. Да где там — стали бы слушать! Вон как чесанули. Не иначе — за сумасшедшую ее сочли. Бог с ними. Своих дел, поди, хватает. Да и кому сейчас интересно то, что было тридцать лет назад? Старухе и в голову не могло прийти, как нужно было Кириллычу и Голубю то, о чем она сейчас думала, стоя в сумерках у калитки старого дома, определенного решением исполкома под снос.Глава девятая
...Невидимая в темноте вода ласково и мерно шуршала. Казалось, кто-то большой и черный спокойно и глубоко дышал в глубине трубы. Павел вдруг приподнялся и стал пробираться между беглецами. — Куда ты? — мрачно осведомился Казанкин. Пряник ухватил за рукав проползавшего мимо Павла. — Ну, куда понесло? — Гулять, — зло ответил Павел и, рванув рукав, пополз в ту сторону, откуда они пришли. — Вложит ведь, гад, — пробормотал Казанкин. Он нашарил увесистый камень и пополз было следом, но его остановил Сократ. — Не сходи с ума. За тобой и так одна мокруха. — Т-ты! Братское чувырло! — прошептал с ненавистью Казанкин. — Ты-то всегда чистеньким выходишь. Все тут виноватые, кроме тебя. — Вот и учись, пока я жив, — слабо улыбнулся Сократ. — Смеешься, — рассвирепел Казанкин. — Я вот шмякну сейчас по кумполу, а там пусть «зелененькие» разбираются, — он вытянул руку, пытаясь ухватить Сократа за ворот, но, получив неожиданно тупой и сильный удар в горло, закашлялся, силясь вдохнуть и не в состоянии сделать этого. — Сиди, дурак, — приказал Сократ, отбирая у него камень. — Не утопи ты Гришку в известке — сейчас бы первый побежал нас закладывать. Успокойся, отдышись, — Павлик не за опером пошел. — А куда он тогда?.. — настороженно спросил Пряник. Он не вмешивался в стычку, сообразив, что ни Павел, ни Сократ не утратили душевного равновесия, стало быть, держаться следует их. — Не знаю. Хочешь — ползи за ним. — А ты? — сдавленным голосом проговорил пришедший в себя Казанкин. — Я останусь здесь. Сократу было наплевать на этих двух дураков. Он действительно не понимал, куда и зачем ушел Павлик. Он просто ждал. Конечно же, Павлик что-то придумал. Это хорошо, может, найдет выход. Но если он так же будет исчезать там, на воле... Эта самостоятельность опаснее легковесных истерик Казанкина. Пряник шепотом выругался и, не выдержав пытки неизвестностью, пополз вслед за Павлом. Некоторое время было слышно, как он двигался, затем снова установилась тишина. Сократ помолчал, слушая, скорее ощущая, мерное движение воды. — Казанкин! — Ну? — настороженно ответил тот. — Ладно. Не выберемся мы отсюда — все ясно. Пойдем сдаваться. Все ясно. А если выберемся? — Ну? — голос Казанкина был по-прежнему настороженным, но в нем появилась желанная Сократу нотка заинтересованности. — Много нас. Ты не замечаешь? Четверо. — То есть... Почему много? — Ну, и тупой ты, — лениво усмехнулся старик. — Попробую объяснить. Ты Брагина знал? Я тоже. А какие права у этих двоих на то, что от него осталось? Понял? — По-онял! — помолчав, медленно прошептал Казанкин. — Ох, и гад же ты! Сперва я уберу Пряника, а потом вы с Пашкой меня задавите? Умен ты, старик! — Ничего ты не понял, — вздохнул Сократ. — Мне из вас троих никто не нужен. Потому что, как только дойдем до тайника, каждый начнет прикидывать, как бы всё урвать. Не так? Казанкин молчал, и Сократ догадался, что он согласен с ним, во всяком случае, задумался над сказанным. — Поэтому мне одинаково невыгодно туда прийти и с вами со всеми, и с тобой и Пряником, и без вас обоих — с Павликом. Я старик, и при таком раскладе мне не уцелеть. Тем более, что у Пряника и Павлика на воле друзей полно. А вот если бы я с тобой к тайнику пришел, думаю, мы могли бы честно располовинить. А? Прикинь-ка ухо к носу! Что молчишь-то? — А что говорить-то? — голос Казанкина звучал неуверенно, и Сократ улыбнулся в темноте. — Ничего не надо, дружок. Я только хочу знать, согласен ты со мной или нет? — Согласен, — после некоторого молчания ответил Казанкин. — Ну, и слава богу. Выберемся на волю, тогда подумаем с тобой, что делать. Начнем с Павлика. Вопросы есть? — Есть. Если тебе Пашка не нужен — что ж ты его в побег взял? — Соображаешь, — похвалил Сократ. — Ну, что ж, я не скрываю. Ты мне не был тогда нужен. Во-первых, мелочиться начал, болтать, дань с меня качать. Я этого не люблю. Это «бакланы» так новичков «на арапа» берут. Во-вторых, такого побега тебе ни в жизнь не сделать. Это только Павлик может. Он умный. Мне его голова нужна была. Но только в побег. А дальше? Я ведь тоже, как ты еще по Ачинску должен помнить, не дурак. А раз так — должен понимать: двум умникам на одной параше не усидеть. Кто-то из них должен в штаны наложить. И, наконец, третье: в принципе можно было бы и тебя убрать... — А это как получится, — насторожился Казанкин. — Совершенно верно, — успокоил его Сократ. — Это риск. И если дело не выгорит, ты через пять минут сдашь меня первому попавшемуся «свистку». — Глазом не моргну, — подтвердил Казанкин. — Вот видишь, как мы друг друга хорошо понимаем, — заметил Сократ, — если отдать твою долю — ты заткнешься, верно? Ясно теперь, почему я за тебя решил держаться? — Ясно, Сократ. Все ясно! — Зови меня Роман Григорьевич, — разрешил старик. — Как никак, подельники, компаньоны. Он добродушно потрепал по спине собеседника, потом откинулся к своду трубы и вздохнул. Люди — воск. Нужно только немного терпения, чтобы размять его. А потом — лепи, что хочешь. Теперь Казанкин будет под контролем. А это очень пригодится, когда они выберутся. Сократ верил Павлику, как, впрочем, и всем остальным людям до определенного момента: пока тот зависел от него. Пока человеческая жизнь, благополучие находятся у тебя в залоге — людям можно верить. За пределами этих отношений верить опасно. Недолго ошибиться. Тем более в том мире, где жил старик. Впрочем, в существование другого мира он и не верил. Законы человеческих отношений везде одинаковы. Что такое «порядочный человек»? Бирка, которую может нацепить на себя любой, кому это нужно. Не-ет, этой цацкой играться не будем. Ненадежная вещь. ...В темноте, поглотившей Павлика и Пряника, послышались шум, неразборчивые голоса. Они приближались. Сократ и Казанкин прислушались. — Двести восемьдесят два, двести восемьдесят три... Не торопись, укорачиваешь шаг... Двести восемьдесят пять... — Вы чего там? — спросил Казанкин, вытягивая шею и пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь. — Не мешай! Двести девяносто... девяносто один... два... Наконец, они приблизились к ним. Павлик со вздохом облегчения повалился на дно трубы. Пряник умостился рядом. — Замаялся вконец. На корточках всю трубу прошел. Хорошо, Пряник помог, а то бы сбился. — Да в чем дело-то? — крикнул Казанкин. — Не ори! Из-за тебя ведь раком ползали-то. «Замуровали»! Прикинь-ка, сколько метров от табельной до реки? — До ограждения метров сто пятьдесят... ну, и примерно столько же до берега. А вы сколько насчитали? — Двести девяносто пять. Надо еще раз нырять. Воды тут должно быть немного. Вот так. А ты тут... счеты сводить начал. Гляди... Ладно, я иду нырять. Он стянул телогрейку, снял сапоги и, взяв в рот припасенный кусок полотна от ножовки по металлу, побрел в воду... Оставшиеся напряженно ждали. И вот из-под воды послышались мерные звуки. Павлик пилил решетку! Затем они стихли, и через некоторое время он вынырнул, задыхаясь и кашляя. — Тут решетка недалеко... А за ней вода маленько посветлее... Он нырял несколько раз, наконец, совсем обессилев, протянул полотно Казанкину. — Давай теперь ты. Да не потеряй пилку. Другой нет. Прошло около часа. Решетка была перепилена в нескольких местах. Оставалось отогнуть ее — и можно было выбираться. — Ну, кто пойдет? — спросил Сократ. — Я, — ответил Павлик. — Почему ты? — встревожился Казанкин. Его опять обуяли сомнения. Что если Павло выберется первым? Он же перещелкает их в воде. Возьмет кол и будет там сторожить. — Хватит торговаться, — послышался голос Сократа. — Первым пойдет Пряник. Он сильнее вас, быстрее отогнет решетку. Давай, Пряник. Только, смотри, решетку отгибай не внутрь, а наружу. Иначе зацепимся. Вылезешь — стукни три раза, если все в порядке. Павлик исподлобья внимательно смотрел на Сократа. ...Прошла минута, другая... Вдруг мерные движения воды в трубе нарушились. В темноте послышались беспорядочные всплески. Потом снова все успокоилось. Условленных стуков не было. — Что-то случилось, — тихо пробормотал Павлик. — Может, засада? Застукали его? Они снова некоторое время молчали, пытаясь что-нибудь услышать. — A-а... Все одно! — надрывно крикнул Казанкин и бросился в воду. — Стой! Стой, падло! Павлик кинулся за ним, пытаясь поймать. — Что ты делаешь? — встревоженно крикнул Сократ, догадываясь уже, какой будет ответ. — Не мешай!.. Сговорились?.. Ничего... одним меньше... Сейчас маленько... подержу... Павлик барахтался, ухватив за ноги и пытаясь удержать под водой отчаянно бившегося Казанкина. Внезапно он охнул, получив удар в лицо, и выпустил его. — Сволочь! Уш-шел! — стонал он, швырнув сапог, оставшийся в руке. — Успокойся. Подождем, — проговорил Сократ. — Никуда он не уйдет. Я-то все равно нужен. — А я? Не нужен? — бешено крикнул Павлик. — Меня пришибить можно — это ты хочешь сказать? — Успокойся, Паша, — мягко проговорил старик. — Сейчас не кричать надо. Думать надо, как отсюда выбраться. Через некоторое время в трубе послышались три гулких удара. Затем они повторились. — Торопится, — неприязненно заметил Павлик. — Невтерпеж ему... Ладно! Ты иди первым, Григорьич, ну! Я тебя за ноги держать буду. Не обижайся, старик, но если что — я тобой прикроюсь. Тебя он не тронет. — Хорошо, Паша, — кротко согласился Сократ. — Захвати только сапог. Скажешь ему, что хотел удержать, думал, засада... — Брось заливать, — безнадежно махнул рукой Павлик. — Кто тут что думал? Все одно думают — как бы задавить. Один ты вроде золотой курочки. Только гляди — это ведь до первого яичка... — Ты... о чем? — растерялся Сократ. — Ладно... заиграно, — пробормотал Павлик. Он почувствовал, что переборщил. — Не бери в голову. Видишь — напсиховались все. Пошли. Сократ, зябко ежась, вступил в воду. Он не участвовал в перепиливании решетки и порядком продрог, сидя несколько часов без движения, пока беглецы работали. Вода была ледяная. Он несколько раз глубоко вздохнул и погрузился в воду с головой. Сзади Павлик крепко ухватил его за ноги, подталкивая вперед. Сократ открыл глаза, сильно и часто загребая руками. Постепенно стало светлеть, и он различил впереди какой-то смутный предмет. Приблизившись к нему и коснувшись рукой, Сократ чуть не вскрикнул. Это был Пряник. Вот почему не было условленного стука! Пряник намертво зацепился за решетку. Чувствуя, как начинает теснить дыхание, Сократ стал спешно протискиваться между сводом трубы и телом Пряника, мягко и податливо колебавшимся от каждого его движения. Павлик помогал ему, подталкивая сзади. Вода посветлела еще больше, и Сократ, миновав решетку, поплыл быстрее, ощущая толчки крови в висках и удушливое жжение в груди. Перед глазами, мешая видеть, замигали невыразимой красоты ярко-синие звезды... Уже теряя сознание, он выдохнул воздух, закашлялся, с тоскливым ужасом понимая, что сейчас захлебнется, забился — и вынырнул на поверхность. Следом, отфыркиваясь, появился Павлик. В двух шагах в воде стоял Казанкин с каким-то колом в руках и напряженно следил за ними. — Брось, — прохрипел Сократ, — сейчас не до этого. Пошатываясь, он выбрался на берег и повалился на траву. Павлик швырнул сапог Казанкину. — Брось кол, болван, — приказал он ему. — Один ты с ним никуда не уйдешь. Пошарься-ка лучше вон в тех кустах. Там должен быть узел. Переодеть надо старика. Да поесть. Моросил мелкий дождь. Казанкин принес узел. Беглецы помогли Сократу переодеться, затем, отойдя от берега в кусты, подкрепились хлебом и салом, оказавшимися также в узле. Затем поднялись и быстрым шагом углубились в лес... ...Сократ никак не мог согреться. Он напрягался всем телом, стискивал зубы, пытаясь сдержать противную сучью дрожь, сотрясавшую его с ног до головы. Мокрая одежда не впитывала дождя, вода струилась по плащу и брюкам, доставшимся ему из узла, при каждом шаге противно чавкало в сапогах. Шли они уже несколько часов. Казанкин и Павел выглядели не лучше. Правда, им и досталось больше. Вначале Сократ, несмотря на риск, заставил их выйти из ручья, по которому они брели все время, углубиться метров на двести в разные стороны и вернуться тем же следом. В такую погоду собака бесполезна, но Сократ вообще не хотел рисковать. Если, паче чаяния, набредут на эти следы, что оставлены в разных направлениях от ручья, — решат, что они разошлись. Кроме того, пока Казанкин с Павликом месили грязь в лесу, он отдыхал. После этого они снова брели по ручью. Казанкин несколько раз устраивал истерики, но Сократ был безжалостен. Дождь дождем, но один случайный отпечаток на глинистом берегу — и все может пойти прахом. Потом вышли из ручья — почва стала каменистой. Прошли одну сопку, другую... Сократ не выдержал и повалился в траву. — Отдыхать! Они находились на опушке леса. Дальше крутой спуск. Равнина. Озеро, перелески. Где-то дальше железная дорога, река — за ней город. Сейчас, в предутренних сумерках, плохо видно. Тут еще должен быть маленький поселок, то ли справа от озера, то ли слева. — Гляди, Роман Григорьевич! Сократ взглянул на Казанкина — тот показывал рукой куда-то вниз. Дождь стихал, и отсюда, с горы достаточно ясно просматривались три стожка вблизи от озера. Старик вопросительно поднял брови. — Сено, — объяснил Казанкин. — Три копны — нас трое. Залезем, выспимся, отдохнем, обсохнем, а к вечеру... — Будем в оперчасти рассказывать, какой ты у нас умный, — закончил Сократ. — Это почему? — А ты пошуруй бестолковкой, может, и догадаешься... военный обиженник. Казанкин зло ощерился: — Все осторожничаешь? Самого, как сучку, колотит, а ты не в робе! Вон «прохаря» тебе Павло поставил, клифтяра цивильная. Белая... белая косточка — и то трясешься, как плашкет на васере. А я... а мы загибаться должны? Сократ поднялся и медленно подошел к нему, коснулся рукой груди. Казанкин напрягся. — Отпори это, — усмехнулся старик, — не дергайся. Казанкин послушно сорвал полоску белой материи со своей фамилией. — Не надо было тебе в побег идти. Нервный ты для такого дела. Теперь смотри, — Сократ повел рукой вокруг себя. — Здесь к нам никто не подберется. И снизу не видно. А там, — он указал вниз, — если «зелененькие» придут — никуда не убежишь. Сейчас пустят машины по всем дорогам... видишь за озером дорогу? Подъедут туда, копны проверят — и дальше покатят. За двадцать километров от зоны они каждую травку смотреть не станут, а вот стога, лабазы, закрадки охотничьи — могут проверить. Опять зашелестел дождь. Казанкин стоял нахохлившись, сунув руки себе под мышки, жалкий. Сократ хлопнул его по плечу. — Ладно. Пока дождь идет — дуй туда, набери сена. Возьми мой дождевик, утрамбуешь в него сколько можно. Только аккуратно, чтобы ни клочка сена после себя на траве не оставить. Казанкин просветлел, кивнул и исчез в кустах. — Чем ты его приворожил, что он у тебя мухой летает? В трубе-то зверем на тебя глядел, — не глядя на Сократа, процедил Павлик. — Скажу — не поверишь. Я пообещал ему вернуть долг, — ответил Сократ, следя за тем, как покачиваются ветки кустов, скрывших Казанкина. — Ты же от него избавиться хотел, — иронически усмехнулся Павлик. — Ради этого Гришка ванну из негашеной извести принял. Или сейчас веры ему больше, чем мне? — С чего ты взял? — С чего? — Павлик запахнулся плотнее в телогрейку, зябко передернулся. — Все за дурака меня держишь? Ты до Казанкина о побеге и не заикался. Он пришел — ты на лыжи встал. Хорошо — испугался за старые дела. А теперь он у тебя в лучших друзьях ходит? — Он мне нужен. — А я? — Павлик, ты мне веришь? — Сократ подошел к нему и присел рядом. — Верь мне, сынок. Время придет — все узнаешь. — Втемную, значит, будем играть? Ну-ну, гляди, чтобы перебора не было. Я ведь тебе не Пряник и не Гришка. Имей это в виду, старик. Озноб прошел, уступив место жару. Сократ уже не ежился. Случайные прикосновения к мокрым, холодным листьям теперь не пугали внезапными приступами дрожи, напротив, — приятно освежали тело. Голова была ясная, мысли четко и быстро выстраивались, образуя легкий и красивый узор. Павлик становится опасным. Он еще верит, но уже сомневается. Убрать сейчас Казанкина — значит очутиться у него в руках. Кто поручится, что Павлик не уберет его, как только узнает, где тайник? А Казанкин... Тому и в голову не пришло проверить последнее убежище Брагина. Простота! Увидев, что Павлика нет, он убедится: Сократ держит слово... поверит ему. А там его... можно будет. Это несложно. Жарко! Сократ зарылся лицом в холодную, мокрую траву. Осталось немного... Роман Григорьевич. Или... как вас теперь?.. Сократ, Приказчик? Кто вы на самом деле? Какая ипостась — ваша, а какие — производные? Недоучившийся студент, колчаковский офицер, наводчик в банде, бухгалтер интеграла, матерый уголовник? Вы могли бы читать лекции по философии, быть финансовым воротилой — ума доставало... Почему же вы на свою жизнь глядели со стороны? Философски? А может из-за угла? А может... Лейтенантик тот вас метко уколол. С чего это вы, Роман Григорьевич, приучили уголовников называть вас Сократом? Несостоявшаяся ипостась? Вы ведь когда-то разделяли его взгляды и даже пробовали, безуспешно, проповедовать их. Не вышло. Пороху не хватило. Да и неприбыточным делом оказалось. Кем же вы были, Роман Григорьевич, всю свою жизнь? Разумеется, не Сократом, признайтесь честно. Может быть, одним из его учеников, заблудившимся в поисках истины на дороге, указанной учителем?.. Кем же вы были? Господи, как жарко... — Что это с ним, Пашка? — Черт его знает! Только что нормально говорил... Сократ, слышь? Старик услыхал их и едва заметно усмехнулся. Засуетились! Подождут! Он был сейчас далеко от них — не уголовником по кличке Сократ, не наводчиком и не бухгалтером, нет. Он был тем, кем вступал в юную и безоблачную пору своей жизни и кем мог оставаться всю жизнь — верным и искренним почитателем своего учителя. Он видел себя молодым, безоглядно верящим только Добру и только Разуму. Потому что ни в Добре, ни в Разуме нельзя обмануться... — Горит весь! Куда он теперь?.. Пашка! Ну, что молчишь? — А что говорить? К вечеру не оклемается — придется кончать...Глава десятая
— Завидую я тебе, Сократ. Ты так непоколебимо уверен в торжестве добра и разума... Если бы все так думали, как ты, — грустно промолвил Леонид. Сократ устроился на ложе поудобнее. — Некогда в Мегаре — городе, который мне недавно настойчиво предлагали посетить, — при этом он весело взглянул на Критона, — жил поэт по имени Феогнид. После захвата города чернью он бежал, бросив все свое имущество, и всю оставшуюся жизнь провел в скитаниях. Прав он был или нет, сам он был виною своим бедам, либо кто-то другой — трудно судить: три столетия минуло. Но я люблю его стихи. Особенно одно — обращение к своему другу, Кирну:Глава одиннадцатая
— Ты знаешь — кукла. Невозможно представить, что он жил когда-то. — Реук бросил фотографии на стол. — А что, никаких намеков на то, что где-нибудь такой человек разыскивался? — Глухо, — ответил Голубь. — Мы разослали эти фотографии по всем райотделам. Многие еще не прислали ответов, так что шансы есть. Но те, что пришли, категорически отрицают. Этот человек в розыске не значится. Он снова стал разглядывать полученные из Москвы фотографии человека, облик которого был восстановлен по черепу, изъятому у Женьки. Человеку на вид было лет шестьдесят. Длинное лошадиное лицо в сочетании с коротким вздернутым носом и глубокими глазными впадинами оставляло неприятное впечатление. Узкий, длинный, плотно сжатый рот усугублял его. — Лицо дегенерата, — заметил Виктор. — Я бы не сказал, — возразил Реук. — Взгляни, какой лоб высокий. И нос у него... аристократический нос. А потом — это же кукла. Может быть, похожая на оригинал. Глаз-то нет. На мой взгляд, все-таки интересное лицо, да еще в сочетании с характером черепной травмы и местом захоронения. Такой зря лоб не подставит. Если убили — стало быть, было за что. — Что, брат, увлекся? — улыбнулся Голубь. — А помнишь, как на меня наскакивал? — Помню, — добродушно кивнул Реук. — Только не хвались — меня ты не переубедишь. Все, что с ним случилось — началось и кончилось в его время и никакого отношения к нашему не имеет. Как говорят картежники — заиграно. Почему и темное это дело. И будет темным. Ну, что — оставь мне несколько фотографий. Учеты учетами, а я все-таки поручу обойти старожилов еще раз. — Ну! — изумился Голубь. — Людей с кражи снимешь? Осознал? Молото-ок! — Ты же начальство, — пожал плечами Реук. — А у меня правило: начальство сказало, что суслик птичка, значит — птичка. Тем более, что никого я снимать не буду. Не дождешься. Внештатник один у меня завелся. Вот ему и поручу это дело. Махом проверит. — Кто такой? — поднял брови Виктор. — Я в розыске всех ваших внештатников знаю. — Всех, да не всех. — Реук нажал кнопку селектоpa. — Дербенев, Алексея Кириллыча не видел? Пригласи ко мне, — он взглянул на Голубя и кивнул головой: — Да-да. Ушел на пенсию, покопался месяц в саду и не выдержал — вернулся. Дела шерстит, молодых гоняет. На последнем партсобрании моего зама так распушил, что тот теперь от него прячется. Скоро до меня доберется. Начальник угрозыска на него не надышится: Кириллыч его от половины бумаг избавил. Давеча пошел с молодыми на обыск. Те шкафы осмотрели, под кроватью пошарили, в стайку заглянули — и сидят. А он по стайке походил, ведро воды вылил на пол и, там, где пузырьки пошли, велел пол вскрыть. Подозреваемый аж позеленел, когда тайник обнаружили... В дверь постучали, вошел Кириллыч. — Ну, вы тут поворкуйте, а я поехал на завод, — заторопился Реук, — с парторгом насчет выхода дружин на праздничные дни договориться. — А у меня для вас новость есть, Алексей Кириллыч, — сказал Голубь, когда закончились взаимные расспросы о жизни и здоровье. — У меня для тебя тоже, — хитро улыбнулся Кириллыч. — Давайте вы первый. — Нет, сначала ты... Голубь показал фотографию. Кириллыч внимательно разглядывал ее, вздыхал, улыбался. — В чем дело, Кириллыч? — насторожился Голубь. — Человека я нашел... живет здесь с рождения... дня два назад с ним разговаривал... В июле мы с тобой по домам ходили — помнишь? Старуха была там ненормальная, Силина... С мужем тридцать лет ругалась, а тот уж помер давно. Помнишь? — Ну? — Голубь вспомнил женщину, которая, приложив руку козырьком ко лбу, смотрела тогда им вслед. — Вот она — Силина... — А при чем тут?... — Голубь недоумевал. — Человек, с которым я позавчера разговаривал, знал ее мужа. Тот в войну дизельную спалил. Сидел за это. И в лагере его убили. Четверо каких-то. А сами сбежали. — Так это он, что ли? — Голубь уставился на фотографию. — Ты что, вправду забыл? Его она схоронила, все честь-честью. — Тогда... они? Один из них? — Ну, конечно! Лагерь-то в двадцати километрах отсюда был. Это кто-то из них — четверых. Что-то у них там произошло — и убрали его. Судя по рассказу моего знакомого, дело было осенью сорок шестого года. Лагерь был расположен на... Слушай, кто у вас курирует этот район? — Гордеев. Должен на днях вернуться из командировки. — О! Как только подъедет — отправляйтесь к тамошнему розыскнику, наверняка дело по розыску у него. А может, у твоего Гордеева в сейфе — верно говорю! — Кириллыч хлопнул его по колену. — Н-ну... — покачал головой Голубь, — ты — титан розыска! — Да чего там... всего лишь версия. Ты сделай, как говорю, а там... Голубь попрощался с Кириллычем и, пообещав сообщить ему о результатах разговора с куратором уголовного розыска, отправился домой пешком. Он добрался до дома, когда наступили вечерние сумерки и город медленно остывал от жаркого, пыльного августовского дня. Малышня возилась в грязном сером песке посреди двора. Мамаши и бабушки сидели на скамейках, упоенно судача обо всем, что знали. Мужчины в палисадниках самозабвенно играли в «подкидного», не вмешиваясь в течение жизни во дворе. На двор по бетонной дорожке въехал грузовик. Осторожно урча, он медленно продвигался вперед, то и дело останавливаясь перед бегавшими, ездившими и ползавшими ребятишками. На скамейках поднялась паника. Вставшая внезапно перед радиатором грудастая женщина, в широком платье и домашних тапочках, мгновенно обросла толпой союзниц. Молоденький, похожий на мальчишку шофер неосторожно посигналил, что имело такой же эффект, как если бы козленок, окруженный стаей волков, попытался боднуть одного из них. Замелькали руки женщин, производившие жесты самого разнообразного назначения, одновременно раздались голоса: — Дороги не знаешь? — За баранку сел, значит детишек давить можешь? — У меня у самой сын на Дальнем Востоке служит и то такого себе не позволяет! Шофер, слишком поздно осознавший свое легкомыслие, прижимал руки к груди, пытался что-то объяснить... Какая-то сострадательная женщина решила было взять его сторону, но тут же пожалела об этом. Коллектив, образовавшийся вокруг грузовика, переключился на отступницу. — Молчи, срамница! — Думаешь, не знаем, почему его защищаешь? — Позавчера утром с балкона — не такой же чернявый от тебя соскочил? — У-у, бесстыдница! С грузовиком готова себе в кровать затащить. Нейтрализовав оппозицию, женщины последовательно перешли к обсуждению вопроса о падении нравов в их среде и совершенно забыли о бедном шофере. На эту сцену, сюжет которой ведет родословную со времен походов Македонского, а может и раньше, кроме Голубя взирал еще один человек — семилетний Максимка. Увидев, что жертва дворового актива оставлена наконец в покое, он подошел к шоферу и, подергав его за рукав, сказал: — Дядя, вы не расстраивайтесь. Вам ведь к гастроному надо? Тут за домом объездная дорога есть. Маленький крюк дадите, зато никто кричать не будет. Вы меня в кабине прокатите, а я за это дорогу покажу. Максимка был быстро и аккуратно посажен обрадованным шофером в кабину, откуда рассеянно и снисходительно смотрел на дискутирующих женщин. Когда шофер осторожно попятил машину назад, женщины даже не заметили этого, что вызвало у Максимки скептическую усмешку. — Шуму-то, — обратился он к водителю, — а сами уж и забыли, чего шумели. Вот люди — делать им нечего... Сейчас заворачивайте налево, а там, за двенадцатым домом — гастроном. Максимка тоже был учеником Сократа, и только по причине своего малолетства не придавал этому значения. В почтовом ящике Голубь заметил письмо и обрадовался: письма он получал редко. Торопливо отомкнул ящик, взглянул на обратный адрес — Елена Петровна. «Переписка в черте города, оригинально», — усмехнулся Виктор. Как и все одинокие люди, он считал себя домоседом и страшно удивился, если бы ему сказали, что его невозможно застать дома. Письмо, однако, было не от Елены Петровны, а от ее мужа. «Дорогой Виктор, — писал Борис Дмитриевич. — Вам надо жениться хотя бы для того, чтобы было кому информировать Вас о визитах друзей. Запертая дверь — плохой информатор. Лена несколько раз звонила на работу примерно с тем же результатом: то Вы уехали, то не приехали, то снова выехали. Бродячий цирк какой-то. И домашнего телефона не имеете — по субординации не положено? А так хотелось побыть вместе. Сейчас, к сожалению, это невозможно. Врачи навалились всем скопом и опробывают на мне последние достижения медицины. Кардиограмму своего сердца я уже могу рисовать от руки. Вот лежу на больничной койке и упиваюсь впечатлениями от поездки на «Чехове». Разителен контраст Реки с той житейской суетой, которую мы бы не догадались оставить, если бы, смешно сказать, не моя болезнь. Я пишу «Река» с большой буквы. Это слово отождествилось в моем сознании со Временем — тем самым, которое бежит, летит и мчится. И даже захотелось встать и подвести некоторые итоги за отчетный период. Но Лена вчера сказала, чтобы я не валял дурака, что итоги подводить рано. Во время нашего путешествия мы много говорили о Вашей работе. То, что она сталкивает Вас носом к носу с категорией людей, пораженных духовной рептильностью, — это мы с Леной решили единодушно. Но дальше мнения разделились. Лена утверждает, что умному, развитому человеку, вроде Вас, рептильность души не угрожает. Вы в этой части у меня тоже сомнений не вызываете, но, что касается «умного и развитого»... К тому, чем живет гад ползучий (так, кажется, переводится слово «рептилия»?) можно ведь прийти и путем хорошо сработанных логических размышлений с привлечением в качестве авторитетов лучших умов прошлого и настоящего. И тогда он будет стократно неуязвим, потому что доказал необходимость этого своего способа существования. А что доказано, то истинно, верно? Или в Вашей практике встречаются одни узколобые особи с интеллектом на уровне грибов? Тогда я просто боюсь за Вас. Оставаться человеком можно, общаясь только с себе подобными, даже если они сидят по ту сторону стола в Вашем кабинете. Итак, жду ответа. П. С. Кстати, как дела с книгой, которую я оставил в прошлый раз? Если все-таки собрались с духом, то начните с «Федона». Именно там приводятся четыре доказательства бессмертия души, о которых я говорил». Виктор некоторое время внимательно разглядывал мудреный росчерк в конце письма. Потом принес из кухни тарелку с яблоками, сигареты, спички, пепельницу, поставил все это на стол. Критически осмотрел его, добавил настольную лампу. Удовлетворившись подготовкой, уселся в кресло и взял с подоконника книгу, оставленную Борисом Дмитриевичем. Заглянул в заглавие, нашел нужную страницу. Это была история о человеческих исканиях и заблуждениях, мудрых прозрениях и досадных, порой глупых, ребяческих измышлениях. Продираясь сквозь неторопливое многословие древних фраз, Виктор с удивлением ловил себя на том, что уже когда-то слышал это. Он узнавал отдельные сравнения, периоды, повороты мысли, как во сне человек узнает незнакомую местность. Это была история, свидетелем и действующим лицом которой он, сам того не подозревая, был... За окном стемнело, и он включил лампу. В четвертом часу Виктор поднялся и заварил себе чаю. Он закончил читать утром. Взглянул на часы — было около шести. Виктор принял ванну, переоделся, убрал со стола. Конверт и письмо Бориса Дмитриевича вложил в книгу. Когда брал конверт, из него выпала четвертушка бумаги. Голубь не заметил ее раньше, вскрывая письмо. Это была записка от Елены Петровны. В ней она коротко сообщала, что ее муж, Борис Дмитриевич, умер в больнице. В связи с похоронами она не могла отправить это письмо, найденное в больничной тумбочке, и вот теперь только пересылает его Голубю. Елена Петровна сообщала также, что на некоторое время уедет к родственникам и появится в городе только осенью. Виктор ничего вначале не понял, переводя взгляд с письма на записку. Внимательно перечитал адрес на конверте. Снова просмотрел записку и растерянно уставился на письмо. Черные строчки бежали одна за другой, слагаясь в предложения, вопросы... Мысли. Так он сидел около получаса, бездумно глядя на абажур настольной лампы. Затем выключил свет, подошел к окну и раздернул шторы. По асфальтовой дорожке медленно, как на покосе, двигался дворник, мерно взмахивая метлой: ширк-ширк. Впереди него бежали трое мальчишек с портфелями, азартно пасуя друг другу огрызок яблока. К остановке подъехал покривившийся от тяжести набившихся внутрь пассажиров автобус и, с трудом раскрыв двери, принял еще несколько человек. От реки поднимался туман, закрывая ближайшие дома, но выше небо было голубым и чистым, обещая теплый, солнечный день.Эпилог
— Чудеса! Гордеев поправил пальцем очки и снова уставился на фотографию, полученную Голубем из Центральной научно-исследовательской лаборатории МВД СССР. Ту самую, которую они вчера рассматривали в райотделе с Реуком. Рядом лежал другой снимок, на нем, как явствовало из подписи, был изображен Жернявский Роман Григорьевич, 1884 года рождения, совершивший побег из мест лишения свободы в 1946 году. Обе фотографии изображали одного и того же человека — это сразу бросалось в глаза. — Как же ты раскопал его? — наглядевшись, спросил Гордеев. — Это не я раскопал, — усмехнулся Голубь и коротко поведал инспектору об обстоятельствах дела. — Кино! — снова покрутил головой Гордеев. — Вот уж не ожидал такого финала. Даже жалко: дело в архив спишут, а я к нему привык. Без него в сейфе пустовато будет — вон какое толстое. — Ты мне его дай на несколько дней, — попросил Голубь. — Тут выписки делать надо, копии снимать, постановления выносить... Получив разрешение, Голубь быстро прошел к себе в кабинет. Два инспектора, занимавшиеся с ним, уехали в командировку, он работал в кабинете один. Ему не терпелось идти домой, он заинтересовался простодушным и лукавым афинянином, о котором написал его ученик Аристокл, прозванный Платоном. Но надо было посмотреть дело, выбрать необходимые для снятия копий документы. Голубь глянул на часы и решил ограничиться сегодня только справкой о личности Жернявского. Он нашел нужный документ. Фраза: «Осужден за хищение в крупных размерах в Байкитском интеграле...», — чем-то задержала его внимание. Что за интеграл? Затем он сообразил, что интеграл вовсе тут ни при чем. Жернявский орудовал в Байките, а он там несколько лет назад был. Задерживал Баландина. С ним тогда ездил симпатичный парень из прокуратуры — Сергей Темных. Они подружились, но Баландин ранил Сергея в живот, и тот умер в вертолете от перитонита. Так что дружбы не вышло. А жаль... Значит, Жернявский из Байкита... Интересно. Там еще убили начальника милиции Пролетарского. В те же годы. Вполне возможно, что они с Жернявским могли знать друг друга. Виктор пролистнул несколько страниц. Казанкин... А это кто же? Ага, ушел в побег с Жернявским. Так, неоднократно судим, статьи... Кодекс еще был старый, и что означали статьи, Голубь не знал. Впрочем, над одной статьей, вверху, другими чернилами чья-то рука приписала: «За участие в банде Брагина — 1925 год». Голубь поискал глазами, заложил полоску бумаги на странице, где говорилось о Жернявском, затем на странице с упоминанием Казанкина. Не торопясь достал сигареты. Сказывалась выработанная некогда привычка — намеренно медлить, отвлекаясь на пустяки, когда одолевало нетерпение. Реук однажды подарил ему перстень. Перстень принадлежал его бабке. Бабка, помнится, была ему неродная. «Горлодер» у нее был хорош. На смородине. Бабка перед смертью просила передать перстень ему, Голубю... — Н-да-а, — протянул Виктор. Отвлекаться было не на что. Он снял перстень с пальца и, подняв его двумя пальцами против света, увидел то, что видел не однажды, не придавая значения: на внутренней стороне перстня выцарапанную чем-то фамилию «Брагинъ». Этот Жернявский был прямо каким-то роком. Через несколько страниц Голубь нашел этому очередное подтверждение. В объяснении одного из заключенных по поводу побега тот упомянул о своем разговоре с Казанкиным, который до побега был настроен агрессивно по отношению к Жернявскому. На вопрос заключенного, что у него за счеты с Сократом, Казанкин ответил, что Сократ еще с Ачинска ходит у него в должниках. Голубь снова поднес перстень к свету. Красивая вещь. Сейчас таких не делают. Старину не подделаешь. Одна знакомая даже перестала ему звонить, когда он отказался подарить ей эту безделушку. Скажи, пожалуйста!.. Любовь как стимул меновой торговли в середине двадцатого века. ...Его дед, Тимофей Демьянович Голубь, был тогда начальником уголовного розыска в Ачинске. Бабка Реука, надо понимать, знала и его, и Брагина. Все, стало быть, там были, все оставили след. Один Жернявский никаких следов не оставил. — Ай да Роман Григорьевич, — покачал головой Голубь, покосившись на фотографию из дела, которую он прислонил к стакану из-под карандашей. На снимке пожилой человек с лошадиным лицом, с седым ежиком волос мягко и доброжелательно смотрел в объектив. Добрый дедушка снялся для своих внуков. Голубь стал смотреть в деле материалы, затрагивающие Байкитский период жизни Жернявского. И почти ничего не нашел, кроме краткого ответа на запрос. По делу Жернявского привлекались несколько человек, все осуждены на длительные сроки. Тем не менее, просмотрев еще несколько незначащих бумаг, он нашел то, что искал. В одном из отношений отмечалось (и кто-то неведомый Голубю подчеркнул фразу жирной чертой): «Жернявский Р. Г. был привлечен к уголовной ответственности на основании материалов, выделенных из дела по факту поджога школы и убийства начальника Байкитской милиции Н. О. Пролетарского. Соучастие Жернявского в убийстве и поджоге не доказано». — И здесь следов не оставил! Голубь даже руками всплеснул и уронил их на колени. Жернявский по-прежнему мягко смотрел на него с фотографии, и Голубю даже почудилось сочувствие и легкая ирония в его глазах. Теперь уже Виктор не торопился домой. Страницу за страницей читал он материалы, делая отметки на бумаге. Он читал объяснения знавших его людей, справки и рапорты о побеге, и полуразвалившийся скелет, найденный на склоне горы на окраине города, обрастал плотью, обретал речь, мысли, становился деятельным и предприимчивым. Оказывается, он участвовал в действиях банды Брагина и скрылся после ее разгрома... Имел какие-то дела с убийцами Пролетарского и поджигателями школы... Организовывал хищения и сбыт пушнины и нагрел руки на этом деле. В колонии он всех подчинил себе. И нарек себя Сократом. Кличка совсем не блатного происхождения, но она прижилась среди заключенных. Его иначе не звали... «Добрый дедушка» шел к цели с настойчивостью и упорством, достойными уважения. Голубь повидал блатных. Опустившихся, озлобленных пропойц, не отягощавших себя моральными оправданиями своей жизни. Живущих одним днем. «Крысятники», обворовывающие друг у друга тумбочки. Этот был не из их числа. Хотя натворил, может, побольше других. Но ради чего? — Что же это за цель у вас была, Роман Григорьевич? Голубь внимательно разглядывал фотографию старика. Решиться на побег за два года до освобождения — зачем? Куда бежать в шестьдесят два года? И эти двое... Казанкин и второй. На кой им ляд дряхлая развалина? Казанкин — бандит, Жернявский у него в долгу... Куда они шли? Зачем взяли с собой старика? Почему убили его? Уже на свободе? А может, все наоборот? И жизнь его, как и смерть, не имели смысла? Он был их Идеей. Их Кодексом. Их Учителем. Их Сократом. А сам-то он кем был? Чьим учеником? Да ничьим. Голубь вдруг захлопнул дело. Наваждение кончилось. Жуткий старик, присвоивший себе право жить за счет других, смотрел с фотографии, неприятно сморщившись. Видимо, при съемке свет бил ему в глаза. Лицо было заискивающим. Голубь сунул фотографию в дело. Свернул и положил в карман листы с выписками (не забыть завтра с утра отдать следователю). Заперев дело в сейф, вышел из кабинета. Он поглядел на часы и мысленно ругнул себя за то, что просидел впустую над делом: выписки могли бы занять гораздо меньше времени. А теперь он провозится с ужином и опять ляжет бог знает во сколько. Голубь приуныл было, но потом сообразил, что он может заехать к Реуку, поужинать, а заодно и рассказать ему про то, что он узнал о Жернявском...
Лыков В Мгновения, мгновения... Очерки о работе милиции
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
А. Н. Тарабарин: «Я люблю землю, люблю деревню, ее проблемы мне близки, и труд людей на земле мне понятен. И потому я служил им, стоял на страже их покоя и благополучия».— Вот и Озерецкое, — сказал Тарабарин, когда наша машина поравнялась с крайними домами большого села — центра бывшего моего административного участка. «Волга» остановилась у развилки дорог. Александр Никифорович, выйдя из машины, по скошенной траве легко поднялся на порыжевший холм. И долго смотрел на новые деревенские постройки, огромное поле, темнеющую кромку леса. А когда повернулся, мы увидели, как в глазах ветерана блеснула слеза. — Да, — тихо произнес Тарабарин, — вся моя милицейская служба прошла на этой земле. Отданы лучшие годы. Места эти мне до боли дороги… Во втором номере журнала «Советская милиция» за 1955 год был напечатан большой рассказ с иллюстрациями об опыте работы участкового уполномоченного Загорского райотдела милиции А. Н. Тарабарина, который за пять лет службы стал одним из лучших участковых в Московской области. — Помните этот материал, Александр Никифорович? — Как же, как же!.. Такое не забывается, потому что статья не только упрочила мой авторитет, но и вдохнула в меня новые силы, как бы позвала дальше. — С момента публикации прошло более тридцати лет. Как сложилась ваша судьба? — Спасибо. Не обижен. Я благодарен судьбе за то, что сумела удержать меня на одном участке двадцать три года. — На одном участке? — На одном. — И не было желания перейти в другую службу? Или не предлагали? — Что вы! Предлагали, и не раз, но я всегда отказывался, говорил, что участковый — это мое, это по мне, а другое — извините. Скажу почему. Я очень любил сельскую жизнь, свою должность, свой участок. Когда знаешь каждого, от мальца до старика, и тебя знают все, когда привык к этой деревенской суете, никуда не уедешь и не уйдешь. В деревнях у меня было много помощников, некоторые из них потом стали работниками милиции. Я их считаю своими учениками, чем очень горжусь. А в остальном… как начинал участковым, так и закончил им — в 1970 году в звании капитана ушел на пенсию. Теперь занимаюсь садоводством, воспитываю внуков. Не забываю, конечно, и родную милицию, интересуюсь жизнью райотдела, советами помогаю молодым участковым. Спустившись с пологого холма, Тарабарин повел нас к ближайшей улице. — Вот с того места началась моя карьера, — шутливо сказал он, указывая на площадку, поросшую густым кустарником. — Дома моего теперь здесь нет, перед выходом на пенсию перевез его в город Хотьково, где сейчас и живу. Когда Тарабарин присел на почерневшую от времени скамейку, мы поинтересовались: — Откуда и почему, Александр Никифорович, вы пришли в милицию? — Откуда и почему? — задумчиво переспросил ветеран. — С фронта. А вообще-то, с детства мечтал о милицейской форме. …Александр Тарабарин, худощавый, непоседливый паренек, добровольцем ушел на войну. Досрочно окончил военное училище, командовал взводом. Трижды был ранен на полях сражений. Вернувшись с фронта, решил осуществить мечту детства. И направился в райотдел. — Намерение одобряю, товарищ лейтенант, — радостно приветствовал Тарабарина начальник милиции. — Фронтовики нам ох как нужны! Это же готовые для нас кадры. Дисциплинированы, морально и политически подкованы. С людьми общий язык находят. Поезжайте, Александр Никифорович, в Озерецкое, принимайте участок — и за дело, по-боевому, без раскачки. Там давно нет участкового, а порядок наводить надо… — Получил я обмундирование, пистолет, коня и с первого дня с головой ушел в работу, — вспоминает Тарабарин. — Было это сорок лет назад! А кажется, вчера только вглядывался в зеркало: к лицу ли милицейский китель, ладно ли сидит фуражка? Виду, ясное дело, не подавал, однако малость робел, выйдя в первый раз на улицу в новом для себя качестве. Вначале Тарабарин обслуживал одиннадцать деревень, а потом — сорок. Под стать территории было количество правонарушений. Как с ними бороться? Ни опыта, ни знаний. Единственное, что выручало молодого участкового, — это страстное желание работать и работать. Конечно, случались и осечки. Он переживал, страдал, но от этого еще больше сидел над книгами, копил знания впрок, чтобы потом использовать их на практике. Стойко переносил неудачи. Ни тогда, ни позднее не было у Тарабарина хандры, разочарования в избранной профессии. По совету руководства райотдела в каждой деревне организовал посты из бригадмильцев и сельских активистов, предупреждал тех, кто был не в ладах с законом, устанавливал деловые контакты с председателями колхозов, сельских Советов. Но главное, Александр Никифорович старался вникать во все сферы деревенской жизни, целыми днями пропадал в поле, на фермах, на току, в кузнице. Интересовался работой доярок, скотников, трактористов, шоферов. Он был активным участником сельских сходов, колхозных собраний, заседаний правлений. Публично и наедине, беседуя с глазу на глаз, Тарабарин прививал сельским жителям чувство уважения к закону, бережное отношение к колхозному имуществу. Как-то увидел машину, из кузова которой по зернышку сыпался хлеб. До элеватора было недалеко. И тем не менее Тарабарин остановил грузовик, поправил полог, а водителю лишь сказал с упреком: «Хлеб везешь…» Он был всегда на виду и сам прекрасно видел, что делается вокруг. К незнакомым, появлявшимся в деревнях (шефы, дачники, строители), Тарабарин относился по-хозяйски вежливо и даже гостеприимно, но при всем при том давал тут же понять, что он состоит при должности и ему интересно было бы документально удостовериться, откуда прибыл гражданин и кто он таков… Все по закону, никого не ущемляет, но определенный намек ясен: коли ты добрый человек, живи и работай у нас без стеснения, если же выяснится, что числятся за тобой в прошлом грешки, склонность к безобразиям разным, — не обессудь, что участковый окружит тебя особым вниманием. К его голосу прислушивались, с ним считались. — Бывало, колхозники откладывали решение какого-либо вопроса до его приезда, — рассказывал внештатный сотрудник, а теперь заместитель начальника Хотьковского отделения милиции майор Б. Н. Москвин. — «Пусть Тарабарин нас рассудит», — говорили они в таких случаях. И действительно, он находил правильное, приемлемое для всех решение. Мы его ценили и уважали по самым высоким меркам. И примеров тому множество. …Осенней ночью в окно тревожно постучал вестовой из села Ярыгина: — Никифорыч, беда. Обворовали сельмаг, кладовую, увели лошадей. Тарабарин вмиг взнуздал коня и поскакал в деревню. — Оповестите бригадмильцев, пойдем по следу, — обратился он к своему помощнику, внештатному сотруднику милиции. Услышав разговор, к участковому подошел председатель колхоза В. А. Коробкин: — Александр Никифорович, думаю, одними бригадмильцами не управимся. Преступник в лесу как иголка в стоге сена, так что давайте поднимем всех мужчин. Сказано — сделано. На рассвете всей деревней направились в лес, перекрыли выходы, а к полудню вора нашли в заросшем овраге. В кустах лежало краденое добро, рядом паслись кони. Было еще немало случаев, когда на помощь участковому выходили жители не одной, а нескольких деревень. Массовая поддержка населения в укреплении правопорядка позволяла Тарабарину раскрывать преступления по горячим следам, а чаще — предупреждать их. Вот тогда-то и заговорили о нем на служебных совещаниях, семинарах, в печати. И говорили справедливо, заслуженно, так как количество правонарушений на участке из года в год уменьшалось. Тарабарин сумел одолеть не одного — десятки злоумышленников. Ухищрения их были тщетны. Участковый бил их, как говорится, по всем статьям. И делал это со скромным усердием, без шума и пыли, но быстро и с великой надежностью. Коснись любого возбужденного им уголовного дела, будь то дела, по которым закон разрешает ему самостоятельно вести расследование, либо такие, какие надлежит передавать следователю, во всяком углядишь обстоятельность мастера, который просто не умеет работать плохо. — Трудно, наверное, поверить, но это так, — продолжал вести разговор Александр Никифорович, — в последние пять лет моей работы здесь не было совершено ни одного серьезного преступления. Добился все-таки своего. — У вас была такая цель? — Была. О ней, разумеется, никто не знал, но я мечтал, чтобы мой участок не знал преступлений. И когда этого удалось добиться, знаете, возникло такое состояние, которого я никогда не испытывал: страстное желание закрепиться на достигнутых позициях, не отступать. Меня часто спрашивали: «В чем причина твоих удач?» Обычно отвечал: «К цели я шел долго и не один. Мне помогали службы райотдела, руководители хозяйств, партийные, комсомольские организации. Мы шли постепенно, звено за звеном укрепляя общественный порядок на селе. Предела совершенствованию, как известно, нет». Александр Никифорович предложил пройти на ближайшую опушку, где он когда-то задержал вооруженного преступника и в схватке получил ножевое ранение. Мы согласились. Пользуясь тем, что Тарабарин выдвинулся вперед, Б. Н. Москвин продолжил разговор: — Тарабарин говорил, что ему помогали. Верно, помогали. А почему? Да потому, что он старался, вечно находился рядом с нами, хлеборобами. И чем больше он углублялся в наши проблемы, тем больше зажигался ими, чего, к сожалению, некоторым теперешним участковым недостает. У него была своя система обхода участка, в которой особое место занимали сбор и обработка информации: все вопросы решал на месте, без волокиты, увязок и согласований. Этот человек не только с душой относился к чужим бедам и разного рода неполадкам, но и стремился помочь разобраться в вопросах, на первый взгляд не касающихся участкового. …Как-то посетовали доярки одной фермы на снижение жирности молока. Тарабарин взял тот разговор на заметку и вместе с зоотехником стал выяснять, отчего это происходит. Вроде бы кормят животных как следует, ухаживают за ними добросовестно, а результат низкий. Тарабарин задал себе вопрос: «А что, если на молокоприемном пункте умышленно занижают показатель жирности для создания излишков?» Поделился своими мыслями в райотделе. И прав оказался участковый. Тщательно проверили и выявили расхитителей. Практика подсказывала Тарабарину, что одни цели могут быть достигнуты в ближайшие годы, другие требуют более длительного времени и больших усилий, к третьим можно прийти только после достижения первых и вторых. Он стремился сам и учил молодых милиционеров отшлифовывать все, что работает на профилактику преступлений, и делать это не от случая к случаю, а ежедневно. Такой подход, не раз подчеркивал Тарабарин, развивает чувство хозяина на участке, и тогда не возникает мысли, что, мол, это мое, а это чужое. Отсюда — нужно делать многое, а главное, ладить с людьми. Как ладить? А как сумеешь, говорил он, но при одном условии — всегда быть справедливым. Как участковый, Тарабарин пользовался уважением и признанием, но тем не менее всякий раз испытывал неловкость, когда объявляли ему об очередной награде, об очередном поощрении. Ему казалось, что ничего выдающегося в своей работе он не сделал. Работает как умеет, а что правонарушений на участке нет, так это норма. Александр Никифорович, остановившись на краю опушки, медленно обвел ее взглядом и сказал: — Кажется, здесь мы и схватились. Да, здесь. А вот и след от той схватки. — Засучив рукав пиджака, он показал длинный белый рубец. Поединок на опушке произошел летом. Тарабарин и преступник по фамилии Крикунов встретились неожиданно, хотя эта встреча так или иначе должна была произойти. Участковый давно охотился за матерым рецидивистом, совершившим ранее тяжкое преступление, но тот избегал участка Тарабарина, скрывался в соседних деревнях. И вдруг такая встреча. Занималась заря. На густой траве лежала крупная холодная роса. Тарабарин выехал в лес, чтобы, как депутат сельского Совета, проверить положение дел с заготовкой кормов на зиму. Конь, отдохнувший за ночь, рвался вперед, резвился, но Тарабарин сдерживал его, приберегал силы, так как день предстоял напряженный. Едва лошадь ступила на лесную тропинку, местами покрытую зеленым лишайником, как из-за поворота выскочил Крикунов. И от неожиданности опешил, да так, что несколько секунд не мог сдвинуться с места, и конь мордой ткнулся в его плечо. — Крикунов, ты ли это? — воскликнул Тарабарин. — Подумать только, где встретились! В такую рань. Неужели с повинной? — Держи, Никифорыч, карман шире, — нашелся рецидивист. Крикунов торопился к напарнику, с которым намеревался обворовать магазин в соседней деревне, как только все трудоспособные выедут на сенокос. Он и вмыслях не держал, что налетит здесь на Тарабарина. — Напрасно, Крикунов, — резко сказал участковый. — Обещаю оформить явку с повинной, а это, как ты понимаешь, что-то значит. — Благодарю, служивый, за заботу, но с парашей я уже дважды был знаком. — А сейчас на что надеешься? — Ты меня не видел, и я тебя не встречал. Лес не свидетель. Тебе жить хочется и мне тоже, так что предлагаю мирно разойтись. — Находчивый! Молодец! И ты думаешь, что после этого фронтовику, коммунисту можно служить в милиции! — Никифорыч, не зли. Я сказал все. Проезжай! Крикунов выхватил из-за пазухи пистолет и передернул затвор. Тарабарин пять лет назад задерживал этого преступника и хорошо знал, что рука его не дрогнет, стрелял же он тогда, к счастью, промахнулся. — Да не напирай мерином, — осмелел рецидивист, — не спрячешься за него. Сказал: проезжай! И к пушке не приглядывайся, а то прикончу и выкину в болото, чертям на съедение. Упустить Крикунова было нельзя. Что делать? Подставить лошадь? Жаль Серого, столько раз выручал! А может, и сейчас вывезет… Крикунов продолжал наступать: — Проваливай, участковый! Ты меня знаешь. — Ладно, Крикун, твоя взяла. Только надолго ли? — процедил сквозь зубы Тарабарин. И с силой ударил коня. Серый стал свечкой и чуть не задел копытом преступника. Крикунов отшатнулся и оказался у правой ноги участкового. Откинув стремя, Тарабарин мгновенно ударил Крикунова сапогом по руке, в которой тот держал оружие. Пистолет взмыл вверх и застрял на березе. Крикунов от боли присел на корточки. Тарабарин с седла свалился на него. Завязалась борьба. Участковый упал. Крикунов сунул руку в голенище, и прямо над грудью милиционера блеснуло лезвие ножа. Тарабарин попытался парировать удар. Лезвие скользнуло по коже, оставляя бурый след на гимнастерке. Крикунов замахнулся еще раз, но был сбит ногой участкового, а потом и прижат к мокрой траве. — Серый, ко мне! — приказал Тарабарин. Конь подошел и опустил голову. Тарабарин взял повод и связал им преступника. — Теперь порядок, — вставая, проговорил участковый. — Лежи, Крикун, отдыхай, пока я рапу буду перевязывать. — Какой же я идиот! — взвыл Крикунов. — Не прикончил тебя! — Не терзайся, Крикун, меня на мушку взять не так просто. Фашисты уже пробовали — зубы сломали, ты дважды пытался — не получилось, кишка тонка. — Конь шумно фыркнул. — Вот и Серый подтверждает мою правоту. — Перетянув руку носовым платком, участковый палкой достал пистолет: — Отвоевался! — И бросил оружие в сумку. — Ну, Серый, можем двигаться, — повернулся к лошади Тарабарин. — Иди и принимай груз. Не подкачай — ценный. — Конь послушно стал рядом. — Молодец, умник! Ложись. — Серый опустился на передние ноги, а затем повалился на бок. — Подкатывайся, Крикунов, занимай седло. Не трусь. Привяжу. Вот так. Готово. Вперед, Серый, в райотдел… За этот поступок Тарабарин был награжден орденом Красной Звезды. И вот теперь Александр Никифорович молча шагал по памятному месту. Мял руки, потирал лоб. Видимо, представлял себе картину задержания в тот далекий день. Потом вдруг оживился, посмотрел вдаль и заговорил: — Да, не только село изменилось, но и вон то поле. Шоссе проложили, трубы для орошения. По лесу на машинах, мотоциклах ездят. Природе от этого, конечно, не лучше. Но ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. Она движется, прибавляя хлопот участковым. Работать им сейчас сложнее. Масштабы не те, что раньше, время стало требовательнее. Не и служить на селе интересней. Смотрите, сколько забот: дороги, транспорт, сельхозтехника, сохранность продуктов, укрепление дисциплины… Будь я помоложе, снова попросился бы в участковые. Тарабарин говорил, и в его словах прослеживалась линия человека, привыкшего к точности, исполнительности, умеющего подходить ко всему с позиции сегодняшнего дня. Он отлично знал: уважение, авторитет, обыкновенная симпатия зависят от того, чем и для кого живет человек.
ЧТО МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК
— Разрешите, товарищ полковник? Заместитель начальника управления кадров поднял глаза на вошедшего. — А, товарищ Иванов, рад приветствовать вас! — приподнято заговорил полковник, выходя из-за стола. — В первую очередь, примите поздравления по случаю окончания вуза. Ну и, как говорится, успехов в боевой и политической подготовке. — Спасибо. — Присаживайтесь. Как я понимаю, вы за назначением? — Так точно. — Без должности, конечно, не останетесь, подберем. Ну а душа-то к чему лежит? — К розыску, товарищ полковник. Раньше вроде бы получалось, да и теперь настроился. — Ясно. В свой, Пушкинский, райотдел пойдете? Его начальник хочет видеть вас своим заместителем. — С удовольствием, товарищ полковник. Там я как дома. — Знаю, знаю. — Полковник на секунду задумался, а потом твердо произнес: — Так и порешим, Евгений Георгиевич. — Спасибо. — Но, — полковник сделал паузу, — на службу не торопитесь. Евгений насторожился. Заместитель начальника подошел к окну и, глядя на улицу, продолжил мысль: — Видите ли, набрали мы недавно молодых милиционеров, и вот проблема — учить некому. Выручайте, Евгений Георгиевич. А должность от вас не уйдет. Иванов понял мысль опытного кадровика. Забеспокоился. От волнения, как ему показалось, внутри даже что-то колыхнулось. Никогда не помышлял быть преподавателем — и вдруг сюрприз!.. — Товарищ полковник, в Высшей школе меня готовили к раскрытию и предупреждению преступлений. И дело это, поверьте, по мне. — Понимаю, Евгений Георгиевич, понимаю. Но так сложилась обстановка. Прошу и меня понять. Снимется острота — пожалуйста, идите в розыск. Препятствовать, обещаю, не станем, наоборот — поддержим. — Ну какой я преподаватель, товарищ полковник, — не сдавался Иванов. — Не скажите, Евгений Георгиевич, вы теоретически подкованы, знания свежие, и большого труда вам не потребуется, чтобы передать их слушателям. — Дело не в знаниях. — А в чем? — Опыта нет, товарищ полковник. — А ваша биография? Она — лучший опыт. — Обучение и воспитание — это как лезвие бритвы… Велик риск ошибиться. — Евгений Георгиевич, вам ли об этом говорить? Риск для вас, насколько я знаю, дело привычное. Да и потом в любых делах человек хотя и немного, но должен рисковать. Рискните еще раз. Уверен, у вас получится. Из управления внутренних дел Мособлисполкома Иванов вышел раздосадованным, возбужденным. Час назад все виделось по-иному. Питал большие надежды. Основания были. Закончил Высшую школу МВД СССР, получил прочные знания. Сейчас только бы трудиться. По живому делу соскучился. И надо же — все перевернулось. Ну почему так бывает в жизни! Задумавшись, Иванов не заметил, как прошел станцию метро. Оглянулся, хотел вернуться, но махнул рукой: «Пройдусь, соберусь с мыслями». По улице Горького он направился к площади Маяковского, чтобы оттуда по Садовому кольцу выйти на Комсомольскую площадь, к Ярославскому вокзалу. Шел неторопливо и все время мысленно пытался представить себя в роли преподавателя. Не получалось! Программы, методики, приемы обучения. Их же надо знать. Опять учиться? Опять за письменный стол? А добывать материал, выстраивать и преподносить его? Сумеет ли он заинтересовать слушателей? Сколько пришлось повидать учителей! С одними — общение в радость, от других — бежать хотелось. Нет, надо отказываться, пока не поздно. Преподаватель — это же личность, сама образованность. А кто он, Иванов? Обыкновенный человек, без претензий. Да, было время — рисковал. И не раз. Но риск касался лично его, затрагивал его судьбу. Тут же — судьбы других. Посеешь не те семена — бурьян взойдет. Больше всего Иванова тревожило дело — вдруг не получится. А позориться — не в его характере. Не привык, не мог. «Нет, надо вернуться. Откажусь, и все тут!» Евгений остановился напротив полиграфического института. Из подъезда вышла группа студентов. И мысли почему-то сразу изменили направление. «Чего запаниковал? Подумаешь, опыт! Наживем. Работают же люди». Разозлился на себя. И зашагал энергичней. «Действительно, — думал он, — а прожитые годы? Биография? Всегда было нелегко…» Евгений Иванов родился в марте 1940 года в Ярославле. И так получилось, что в трехмесячном возрасте остался сиротой. У младенца началась кочевая жизнь. Как в калейдоскопе, менялись детские дома: Карабиха, Шипилово, Пошехонье, Пошенково… Чужие люди заменили отца и мать. Образовалась и своя, ни с чем не сравнимая семья детдомовцев. Были радости, были и печали, но жили дружно, в обиду себя не давали. А в трудную минуту всегда рядом оказывались директор детского дома И. Ржевская и воспитательница Т. Гвоздева. Оберегали, защищали, гасили ссоры. Терпеливо приучали к труду. И это им удавалось. Дети обслуживали себя, работали на огороде. И все же главным их повседневным делом была учеба. Воспитанников готовили к жизни. Педагоги находили слова сильные и простые, которые западали в детские души. Жене Иванову было интересно учиться, он даже подражал лучшим ученикам. И как-то незаметно сблизился с Юрой Ивановым, который учился в речном техникуме. Женя в это время заканчивал седьмой класс. В то время ссоры между мальчишками были делом обыденным. И Юра поучал Иванова: — Что ты боишься маменькиных сынков? Умей защитить себя. Дай сдачи, когда надо! — Они же, как петухи, налетают, — жаловался Женя. — А ты упрись как дуб и маши руками. Кто подскочит — по зубам получит. В другой раз не полезет. Среди этих мальчишеских наставлений были и серьезные советы доброго товарища. — Главное, учись хорошо, — говорил Юра. — Ребятишки тянутся к отличникам. Да и вообще, когда много знаешь, крепче держишься на ногах. Заходи к нам домой почаще, научу мастерить, вырезать, гладить брюки, играть в футбол. И научил. Особенно работе с деревом. Поделки из лесных коряг стали страстным увлечением Жени. И вот закончена семилетка. Прощай сиротское детство! Прощай уютный детский дом! Грустно было расставаться и боязно: как встретят в новых местах? И все же хотя и со слезами покидал родное гнездо, но был уверен — не пропадет. Трудиться любил, кое-что умел делать, а главное, была цель стать летчиком. И мечта настолько захватила детское воображение, что готов был вынести все, лишь бы летать. И глубоко огорчился, когда узнал, что в летное училище принимают только со средним образованием. Но вскоре успокоился мыслью: «Закончу десятилетку и тогда возьму свое». Женю определили в Рыбинское ремесленное училище. Город со всей его транспортной суетой, многолюдьем восхищал, но и подчас ставил в неловкое положение деревенского подростка. На первых порах он не знал, как себя вести, стеснялся. Выручил мастер Д. М. Волин — оптимист, жизнелюб, рукодельник. — Человек красен делами. Становись-ка за верстак, — командовал он. — Смотри, что получается: не дверная ручка — произведение искусства. Пробуй. Дмитрий Михайлович умел воздействовать на детские души. Просто и доходчиво, иногда с юмором говорил воспитанникам о том, что знал сам. В беседе с Ивановым он как-то сказал: — Женя, запомни вот что: безделья бойся как нечистой силы. Ни минуты без работы. Днем — здесь, а вечером — в вечернюю школу. Учись. Не успеешь оглянуться, как и специальностью овладеешь, и аттестат получишь. Спеши! Время — огонь. Горит. Надеяться тебе не на кого. Дорогу мости сам. Цель у тебя есть. Твой помощник — только труд. — А не тяжело, Дмитрий Михайлович? — засомневался Евгений. — Тут уроки, в школе — то же. Лучше закончу училище, пойду на работу, и тогда — в школу. — Да, тяжело, но напомню: в войну мы сутками не спали и ничего — живем. Так что не раздумывай. Не ты один. Присмотрись к толковым ребятам, они дурака не валяют. В жизни, дорогой мой, надо напрягаться. Ты это знаешь. К тому же авиация — сплошные перегрузки. Готовься. Где брать силы? Прежде всего в спорте. Он обязательно вытянет. Прислушался Евгений к словам мастера. Успевал и в училище заниматься, и вечернюю школу посещать, и в футбольной команде играть. Нелегко было, но крепился, понимал: без упорства летчиком не стать. Прав был старый мастер: время — мгновение. Женя не успел оглянуться, как стал уже не учащимся, а формовщиком, укрощающим металл. В литейном цехе своя романтика, своя прелесть. Евгений работал с огоньком, азартно. Но тоска по авиации росла. Он торопил время, чтобы получить аттестат, и тогда… вот оно, заветное училище. Серебро самолетов, безбрежное небо. Полеты, полеты… И вдруг досадная мелочь: опоздал на медицинскую комиссию — перепутал числа. «Поздно, — сказали ему, — сделать ничего не можем». Внутри все так и оборвалось. Что делать? Побежал в военкомат, к комиссару: — Помогите! Не губите мечту! — Успокойтесь, Иванов, не паникуйте. Не получилось сегодня, получится завтра. Все впереди. — Не хочу завтра. — Все, что я могу сделать, это призвать вас в армию. И непременно в авиацию… Когда солдат Иванов увидел учебные самолеты, то долго не отходил от них: гладил обшивку, рассматривал детали. Запах горючего, шум двигателей приводили его в трепет. Неудача с поступлением в училище мало-помалу сглаживалась. Он стал настраивать себя на то, что не все потеряно и нужно копить силы, чтобы выходить на второй виток. По окончании школы младших специалистов Евгений прибыл в авиационный полк, куда, собственно, и стремился. Тут было все: полеты, учебные стрельбы, прыжки с парашютом. И романтика, и риск. Близко к сердцу принял сержант армейские будни. Служба складывалась отлично. Как стрелок-радист, Иванов не имел себе равных в полку. Но однажды, во время учебных стрельб, случилось непредвиденное. — Выхожу на цель. Приготовиться! — приказал командир. — Цель вижу! — ответил Иванов. — Огонь! — Есть! И… мимо. Евгений сразу взмок: небывалый случай. Повторный заход. — Огонь! Цель как летела, так и продолжала лететь. Третий заход. И снова мимо. — В чем дело, Иванов? — рассердился командир. — Не могу понять, что-то с глазами. Заключение медицинской комиссии было безжалостным: «К летной службе непригоден». И на этот раз судьба отвернулась от Евгения, это был второй удар. Горько переживал его Иванов, и, чтобы как-то сгладить это переживание, командир перевел его в парашютное подразделение: как-никак, авиация рядом. Облегчение, но временное. А что дальше? Куда пойти, чтобы дух захватывало? — В милицию! — пошутил кто-то из товарищей. Шутка шуткой, а слово запало в душу. В конце службы он окончательно решил: «Рискну еще раз». Распрощался с родной частью и с авиацией тоже. Теперь уже навсегда. Прямо с вокзала, не сняв солдатских погон, предстал Иванов перед инспектором по кадрам Пушкинского райотдела милиции Московской области. Инспектор привычно повертел документы: — Надолго? — Не понял… — У вас среднее образование. — Ну и что? — Пожелаете учиться, а мы посылаем на учебу только отличившихся. — Послужим, а там видно будет. Направили Евгения в Ивантеевское отделение милиции. Получил форму, определился в общежитие, а наутро приказали выходить на дежурство. — Будешь в паре со мной, — объявил командир подразделения сержант милиции Николай Волков. — От меня ни на шаг, действуй только по моей команде. Иванов присмотрелся к командиру. Нравится. Справедлив, смел. Мастер спорта. Чем не пример? Стал было расспрашивать, что да как. — Знаешь, Иванов, — отрубил Волков, — учить я не мастак. Гляди и переваривай. Непонятно — спроси, но учти: в нашем деле и медлить нельзя, и торопиться вредно. Но я тороплюсь, боюсь опоздать. У тебя может быть по-другому. Спустя месяц Иванов испытал на себе напряженность острой ситуации. — Иди на пост к магазину, — приказал ему Волков, — я буду там через несколько минут — только сдам рапорт дежурному. Евгений прошел через площадь, остановился в начале улицы. Вдруг из-за угла вылетел рычащий самосвал, а через минуту появился Волков на мотоцикле. — Вот досада, ушел! — обозлился сержант. — Кто? — спросил Иванов. — Самосвал, как сквозь землю провалился. — Так он свернул на ту улицу, — показал рукой Евгений. — Тогда быстрей в коляску, за рулем пьяный. Развернулись, помчались. Машины не было видно. — Ну где же она? Куда ехать? — Надо по следу, товарищ сержант. — Молодец, сообразил. Волков направил мотоцикл по свежим отпечаткам протекторов машины. Метров через двести следы свернули к стройке. И там, за низким складом, милиционеры увидели самосвал. Рядом — никого. Кабина закрыта. — Заходи справа, я — слева, — скомандовал Волков. — Вперед не высовывайся, дверцу открываем одновременно. Рванули за ручки… За рулем сидел пьяный мужчина. — Выходите! — приказал Волков. Но тот схватил рукоятку и замахнулся. Волков предупредил удар. Поймав конец рукоятки и дернув ее на себя, он вытащил из кабины нарушителя. Иванов бросился на помощь. Угонщик яростно сопротивлялся, его с трудом связали и усадили в коляску мотоцикла. Иванов впервые увидел, а скорее, пережил низость поступка человека, несущего реальную опасность окружающим. «К таким деяниям надо быть беспощадным, — твердил себе Иванов, — в корне пресекать их. Правда, для этого нужны знания и навыки». Он потянулся к опытным милиционерам, приглядывался к стилю их работы, прислушивался к советам оперуполномоченных уголовного розыска В. Смирнова и А. Дмитриева, придававших личному сыску исключительное значение. — А в чем его суть? — как-то поинтересовался Иванов. — Уши и глаза держи открытыми, а рот — закрытым, — отшутился Смирнов. Иванов вблизи видел, как несли нелегкую свою службу эти два человека. Бывало, что и домой не возвращались. Обнаружение и задержание преступников являлось для них не просто работой, но делом чести. Иванов порой изумлялся: как они по крупицам, почти незримым нитям могут найти и изобличить злоумышленников! «Не попробовать ли самому определить и задержать хотя бы мелкого воришку?» — однажды задался вопросом милиционер. И такой случай вскоре представился. Поздним вечером Иванов увидел человека, идущего по тропинке из села к железнодорожной платформе. На нем было демисезонное пальто, в правой руке он держал чемодан. Незнакомец поднялся на платформу и сел на скамейку рядом с кассой. Евгения насторожила одежда: на улице летняя теплынь, а он в пальто. Повел наблюдение из-за деревьев. Мужчина вытащил из внутреннего кармана бутылку, посмотрел по сторонам, приложился к горлышку. — Гражданин, нарушаете порядок, — вышел из-за деревьев Иванов. Незнакомец повернул голову. Взгляд беглый, испуганный. Бутылку поставил рядом. Из-под полы пальто показался плащ. Новый. «Пахнет краденым», — подумал Евгений. — Прошу предъявить документы. Мужчина презрительно смерил глазами хрупкую фигуру молоденького милиционера. — Иди ты… куда шел, — сквозь зубы процедил незнакомец. — Сопли утри, а потом командуй. — Документы! — настаивал милиционер. Мужчина рывком схватил бутылку и замахнулся на Евгения: — А этого ты не хочешь!.. Но опустить ее не удалось. Ребром ладони Иванов ударил по руке нападавшего. Бутылка выпала и разбилась о бетон на мелкие кусочки. Незнакомец метнулся в сторону. Иванов успел подставить ногу, тот споткнулся. На шум выбежала кассирша. Увидев катающиеся тела, она громко вскрикнула. После нескольких попыток Евгений все же поймал руку противника и завел ее за спину. — Позвоните в милицию! — крикнул он кассирше. Женщина юркнула в помещение. Задержанный вырывался и ругался, изо всех сил пытаясь сбросить с себя милиционера. Евгений едва сдерживал его. Потом удивлялся: откуда что взялось, чтобы выдержать такой натиск? У платформы затарахтел мотоцикл. Через несколько секунд прибывший по звонку кассирши Николай Волков уже помогал Иванову задержать нарушителя. — Замок?! Опять попался! — воскликнул сержант. — Не ушел. — От вас уйдешь. Кореш твой так насел — ребра затрещали. — У нас теперь все цепкие, пора бы понять. Замок заскрипел зубами: — Вляпался. И кто взял? Сосунок. Ладно бы ты, Волков, необидно — мастер. А этот? Тьфу… — Не надоело, Замок? — спросил Волков. — На третью судимость тянешь. — А это не твоя забота. Посмотрим, кто кого потянет. Вблизи раздался гудок скорого поезда. И Замок бешено потянул милиционеров к краю платформы с намерением толкнуть их под колеса. Иванов рванул зажатую руку и, схватив преступника за ворот, отбросил назад. Замок упал, Волков прижал его к бетону. — Вяжи руки, — сказал сержант. — Ишь, подлец, что надумал! Евгений накинул ремень на запястья. — Так надежней, — проговорил он. — Встать! — скомандовал Волков преступнику. Замок поднялся. — Вперед! В дежурной части установили: Замок только что совершил кражу в магазине в соседней деревне. Через год Иванов почувствовал влечение к службе. Обретя к тому времени самостоятельность, помышлял перейти младшим инспектором в уголовный розыск, но мечту пришлось оставить. Вызвал его однажды начальник райотдела и сказал: — Вот что, Иванов. Испытание вы выдержали. Собирайтесь-ка на учебу. Поедете в среднюю школу милиции. Закончите — и к нам. И тогда уже не рядовым, а лейтенантом. …Каждый год курсант Иванов просился на практику в Пушкинский райотдел. Ему не отказывали, он считался одним из лучших в школе по успеваемости. Зная теорию, Иванов теперь уже ясно представлял, почему на практике поступать надо так, а не иначе. Летом 1966 года, за несколько месяцев до окончания школы, Иванов снова приехал в Пушкинский райотдел и работал в качестве участкового в Ивантеевском отделении милиции. Утром 26 июня он отвез дочку в Клязьму, в детский сад. Поцеловав свою любимицу, Евгений заторопился домой, чтобы переодеться и успеть на службу. Утро стояло теплое и тихое. Иванов побежал по тропинке, ведущей к шоссе. Он любил физкультуру. Во время бега, как он однажды заметил, легче думалось. Иванов поднялся на зеленый холм, с которого открывался вид на шоссе, тянувшееся мимо заросшего пруда. Дорога здесь изгибалась, и проезжавшие машины замедляли ход. Со стороны поселка Окулово показался автобус. «Пора бы и скорость сбавлять», — подумал Иванов, глядя на него. И в этот момент заскрипели тормоза, закричали люди. На виду у Евгения разыгралась трагедия. Не вписавшись в поворот, автобус резко затормозил и как вкопанный замер у края обрыва. Испугавшись, что машина может упасть, водитель открыл двери. Пассажиры бросились к ним. Автобус покачнулся, накренился и… рухнул вниз. Иванов, сбросив ботинки, рванулся вперед, к воде. То, что он увидел, поразило его сознание. Только что образовавшаяся огромная воронка постепенно исчезала, сглаживалась, пузырясь, на поверхности мутного пруда, поглотившего автобус и людей. Не раздумывая, Евгений решительно нырнул в воду. Подплыл к задней двери. Вот и первая ступенька, коснулся ногой, которую тотчас сильно сжали и потянули вниз. Евгений хотел освободиться, его рука наткнулась на чью-то голову. Схватив за волосы, он рывком вытащил тело на поверхность. Это была женщина. Она судорожно вздохнула — жива! Евгений поплыл к берегу. Уложив пострадавшую на песок, снова нырнул. Нащупал первого попавшегося, вытянул наверх — и к берегу. У обрыва — никого. Снова нырнул. Удачно… На берегу лежали уже четверо спасенных. Это придало Евгению силы. Выработалась и схема действий: уход под воду, поиск, толчок ногами о борт машины — и к берегу. Когда на берегу появились люди, Иванов не заметил. Они стали помогать. Евгений нырял, они принимали спасенных и оказывали им первую помощь… Прошло двадцать минут. Десять человек спас Евгений. Приготовился снова нырнуть, однако тело не слушалось. Устал. Предел есть у всего. Евгений еле держался на ногах. Его вывели из воды, положили на траву. Когда отлегло, он встал. На него благодарно смотрели глаза спасенных… Практика закончилась. Иванов отправился на выпускные экзамены, а когда вернулся, пришло известие: за проявленное мужество при спасении людей он, Евгений Иванов, награжден орденом Красной Звезды. Высокая награда. Но самая лучшая награда — это жизни спасенных. В данном случай — жизни десяти. Говорят, что даже одна смерть — просека в человеческом роду. Иванов не дал случаю прорубить десять просек. Вот цена его подвига. Иванова назначили участковым инспектором милиции в поселок Правда. На службу вышел в форме с иголочки. Новенькие погоны со звездочками, казалось, жгли плечи. По улицам шел не то чтобы смущенным, но, во всяком случае, обеспокоенным. Люди останавливались, и за спиной слышалось: «Наш новый участковый, тот, который спасал пострадавших…» Помнят. Только бы не разочаровать их. Чего скрывать, хотелось Евгению популярности в самом хорошем смысле этого слова. Не для себя, для дела. Без авторитета, поддержки населения трудно нести службу. Иванов знал: авторитет не создается, он завоевывается отношением к делу, поступками. От глаз людских ничто не ускользает. Все подмечается: куда пошел участковый, в каком настроении, как спросил, как ответил… В работе Иванов избрал главным — быть в гуще людей, знать все, что делается вокруг, активно выявлять лиц, мешающих нормально жить: тунеядцев, пьяниц, расхитителей. Приходилось ему иметь дело и с нарушениями бытового характера. Буквально на второй день молодому участковому пришлось заниматься одной семьей. Человек вернулся из колонии домой. Начал новую жизнь. Пошел работать. Доброжелателен был к жене и ребенку. И вдруг потекли письма с требованиями, чтобы он покинул поселок. Поднадзорный и его жена пришли к Иванову: оградите от запугиваний. Участковый поразмышлял над заявлением, прикинул, кому и зачем нужно было пугать человека, ставшего на путь исправления. Через два дня лейтенант наведался к брату жены поднадзорного. Тот после недолгих колебаний сознался в написании анонимок. Сказал: делал это потому, что считал брак сестры зазорным для их семьи. Тактично построив разговор, Иванов убедил собеседника в ошибочности его поведения. Напряженность в семье исчезла. Особое отношение у Иванова было к раскрытию преступлений. Случись на участке, например, кража, не успокоится до тех пор, пока не найдет преступников и не возвратит похищенное владельцам. Пример брал со своих сослуживцев Смирнова и Дмитриева. Через полтора года Иванов стал замечать: где бы он ни появился, люди приветствуют его, здороваются. Почувствовал уважение с их стороны и еще энергичней взялся за дело. Руководство райотдела отмечало успехи молодого участкового, ставило его в пример, а однажды, после совещания, начальник РОВД попросил Иванова задержаться. — Евгений Георгиевич, — начал подполковник, — вы человек добросовестный, старательный и, подчеркну, перспективный. Иванов насторожился. — У нас есть намерение рекомендовать вас в Высшую школу МВД СССР, — продолжал начальник, — получите высшее юридическое образование и поведете дело глубже, по-научному. Нам нужны сильные кадры. Как вы на это смотрите? — Учиться, откровенно говоря, хочется, товарищ подполковник. — Тогда оформляйте документы и в путь-дорогу. …Незаметно пролетело время. И вот уже позади Высшая школа, каждодневные занятия, лекции видных ученых, профессоров Еропкина, Белкина, Кириченко, Стручкова. Защищена успешно дипломная работа, где он попытался ответить на многие вопросы, которые ставила его практика участкового и которые представляли теоретический интерес. В Высшей школе он постарался взять для себя все, что могло пригодиться в оперативно-розыскной деятельности, которая, как ему казалось, сама шла навстречу. Но… В учебный центр капитан милиции Иванов прибыл не в духе. Походил, посмотрел, послушал и еще больше расстроился: не то, что хотелось. Однако когда через несколько дней он встретился в аудиториях с молодыми людьми, будущими милиционерами, настроение несколько поднялось, видимо, оттого, что перед ним были жизнерадостные люди, которые решили посвятить себя благородному делу охраны правопорядка. Пока у них нет ни знаний, ни навыков, пока они «сырые», но надеются здесь, в учебном центре, получить все необходимое для будущей службы. Насколько подготовленными они выйдут отсюда, будет зависеть от него, преподавателя Иванова. А готовить их надо хорошо: ведь милиционер не имеет права на ошибку. Вот почему на первых часах капитан говорил больше не о содержании своего предмета, а о милицейской профессии. Он считал, что выбор профессии — это выбор судьбы. Когда люди говорят, что жизнь удалась, то имеют в виду не только семью и связанные с ней заботы, а прежде всего работу. Она задает тон жизни. Правилен ли их выбор? Не погнались ли за романтикой? Он должен узнать и дать им ответ. Начались занятия, и все сомнения исчезли. И уже некогда было размышлять, на месте ты или нет. Курсантов интересовало все, успевай только отвечать на вопросы, показывать методы работы. Интуиция и здравый смысл подсказывали Иванову: молодым милиционерам нужен тот материал, без которого нельзя выходить на дежурство, больше практических советов. А что касается его «педагогического поведения», то он не должен скрывать, что осваивает новое дело вместе с курсантами. Равное положение, как полагал Иванов, будет улучшать взаимопонимание, развивать самостоятельность, ответственность и инициативу слушателей. Привыкший к постоянному поиску, Иванов с головой погрузился в неведомый ему до настоящего времени безбрежный мир педагогики. Сколько в нем таинственного, манящего, одухотворенного! И Евгений Георгиевич теперь благодарил судьбу, что она определила его в преподаватели. Педагогикой он увлекся настолько, что на настойчивые просьбы из управления кадров вернуться к оперативно-розыскной деятельности ответил отказом. В работе с молодыми Иванов видел тот участок милицейской службы, от которого во многом зависит состояние охраны общественного порядка на улицах городов и поселков. Здесь, в учебном центре, рождается милиционер. Первоначальная подготовка формирует его позицию, непримиримость к правонарушениям. С этой целью Иванов обучал слушателей на лучших, чекистских традициях советской милиции. Спустя два года Евгения Георгиевича, как способного преподавателя, пригласили в Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. Круг педагогической деятельности расширился, возможности воспитания молодых возросли. И майор Иванов не мог не воспользоваться ими. Вооружая будущих лейтенантов знаниями, он отчетливо сознавал, что успех в борьбе с преступностью возможен только при наличии хорошо подготовленных кадров. Педагогический процесс — воспитание и обучение — Иванов построил на лучших приемах и методах. Он аккуратно хранит листки с вопросами слушателей и ответами на них. Чем они интересны? А тем, что высвечивают, так сказать, педагогическое «лицо» Иванова-преподавателя. Полистаем записи. Вопрос. Чем определяется ценность человека? Ответ. Во всяком случае, не тем, что он делает для себя, а тем, что делает для людей. Для чувствующего чужое горе целью работы, никогда не станет достижение сытного благополучия. Вопрос. Что вы больше всего цените в людях? Ответ. Совесть, честность, волю, мужество. И прежде всего совесть. Она определяет все остальное. Без совести и чести человек не может вести себя достойно в нашем милицейском деле и особенно в чрезвычайных обстоятельствах. Жизнь будет яркой и интересной, если в ней есть борьба и если человек нашел свое место в этой борьбе. К сожалению, суровая реальность делит людей на борцов и наблюдателей. Отстаивать свою позицию могут только люди мужественные и волевые. И бороться надо уметь, а для этого, мне кажется, нужно превосходно знать свое дело. Вопрос. Какими качествами должен обладать современный сотрудник милиции? Ответ. Способностью откликаться на чужую беду. Добрый поступок всегда благороден. Он остается в памяти людей на века, напоминает о себе всю жизнь. Каждый наш шаг, каждый наш жест отражается на людях. Знайте, существует четкая граница между тем, что хочется, и тем, что можно! Эгоизм, себялюбие, несправедливость, как ржавчина, разъедают отношения между людьми. Станиславский писал: «Думайте побольше о других и поменьше о себе. Заботьтесь об общественном настроении и деле, и не о своем собственном, тогда и вам самим будет хорошо». Человеку инициативному, ответственному свойственно одно качество, ценность которого в наши дни возрастает, — это морально-психологическая готовность к сложной и разнообразной работе. И если человек не готов к ней, он не может нормально трудиться. Вопрос. Можно ли судить о человеке лишь по одному поступку? Ответ. Можно, когда поступок — итог жизни, героический подвиг. И милиционер, как солдат на войне, каждую минуту должен быть готов совершить подвиг, понимаемый как долг, как выполнение присяги. Но подвиг — это одновременно и служба. И бывает неизвестно, что важнее: сигнал об ограблении или слезы матери о непутевом сыне? Есть и неразрешимая нравственная задача: что в первую очередь спасать из огня — картину Рафаэля или живую кошку? Загадок в нашей службе множество. В этом ее сложность и необычность. А сколько черновой работы! Пропала собака, говорят, кто же ее найдет, как не милиция? Сосед безобразничает — уймите. Пьяный валяется на улице — куда смотрит милиция? И во всем надо разобраться. И не просто так, а в соответствии с законом. Никакой героизм, никакая необходимость не оправдывает нарушений социалистической законности. Социалистическая законность — стержень службы. Отступления от нее, даже малейшие, способны перечеркнуть героические дела. Ну а как и чем объяснить, что такие ясные и простые вещи, как соблюдение устава, присяги, дисциплины, оказываются куда более трудными для выполнения, нежели выдающиеся деяния? Почему некоторые из нас выполняют обязанности только в двух случаях: когда их чем-то поманят или когда их, простите, пихнут под зад. Единственно, что они делают добровольно: разрешают или запрещают. Запрещают охотнее. Вопрос. Как лучше использовать опыт старших поколений? Ответ. Наивно полагать, что с помощью прогрессивной педагогики опыт можно у кого-то взять — работать, как Петров, Сидоров, Зайцев. Надо жить, как они, принять меру их труда, отказаться от стереотипов, испить их чашу и стать сродни им, по-своему и сообразно своему времени, а своей нравственностью подтвердить их нравственность. Лишь тогда можно повторить опыт. Вопрос. Над чем сотруднику милиции необходимо работать постоянно? Ответ. Здесь уместны слова Дзержинского о том, что надо уметь анализировать поступки людей и фразы, уметь анализировать мелочи. На первый взгляд они порой могут не представлять ничего особенного и как будто не вызывают подозрений, но нужно уметь понять их смысл, существо этих «мелочей». И еще один вывод из своей практики сделал Иванов: молодых людей надо воспитывать так, чтобы их стремления соответствовали их природным данным. Поэтому в юности надо иметь человека опытного и дружески к тебе расположенного, чтобы вовремя заметить и развить эти данные. Наверное, у каждого человека со временем наступает момент, когда ему кажется, что возможности в занимаемой должности исчерпаны, а хочется двигаться дальше, хочется большего. Так произошло и с Ивановым. Он решил не только передавать накопленные знания, но и добывать новые, — поступил в адъюнктуру Академии МВД СССР, а темой диссертации избрал охрану общественного порядка, точнее, взаимодействие милиции и добровольных народных дружин по укреплению правопорядка на улицах. Проблема актуальная, но деликатная, таящая множество вопросов. Иванову они показались настолько сложными, что поначалу он растерялся. Было неясно, с какого конца начинать, было много гордиевых узлов и надо было не рубить, а распутывать и развязывать их. Адъюнкт понял: прежде чем делать науку, надо хорошо знать проблему, быть хорошим специалистом. Знания — это техника ученого, его инструмент. Только на четких и глубоких знаниях можно подмечать непонятное и противоречивое и уже потом прокладывать мостики к исследованию. Скрупулезно проанализировав литературу, Иванов начал поиск новых фактов и явлений. На протяжении года он появлялся на улицах города то в форме работника милиции, то с повязкой дружинника на рукаве. Наблюдал, осмысливал, записывал. И только после этого строил рабочую гипотезу, разрабатывал методику исследования и приступал к ее апробации. Научный эксперимент… Едва ли не самая увлекательная вещь на свете. Ибо во всяком эксперименте есть элемент зрелища, захватывающего, полного красоты и настоящей романтики. Когда у экспериментатора Иванова все получалось, он шел на работу, словно в театр, нетерпеливо ожидая начала представления: «А что произойдет сегодня?» Эксперименты подтвердили теоретические построения адъюнкта. Сделаны выводы. Написана и защищена диссертация. Найденные Ивановым решения легли в основу ряда нормативных документов. Милиционер стал ученым. Кандидат юридических наук подполковник милиции Евгений Георгиевич Иванов теперь старший преподаватель Академии МВД СССР. Когда-то учился здесь сам, теперь учит других. Держится просто и естественно. Преподает и экспериментирует. Однажды сын, третьеклассник Миша, подойдя к столу отца, огорченно сказал: — Папа, ты и подполковник, и ученый, и статьи пишешь, и поделки мастеришь. Я так не смогу. Евгений Георгиевич удивленно посмотрел на Мишу, прижал к себе и проговорил: — Не расстраивайся, сын, человек может все, если захочет. Правда? — Наверное, папа. Ежегодно 26 июня Евгений Георгиевич приезжает в Мамонтовку, на то место, где двадцать лет назад совершил подвиг. Многое здесь изменилось. Появились новые поколения людей, но память о подвиге жива. Он не был яркой вспышкой, на короткое время осветившей фигуру заурядного человека, он был предопределен всей его предшествующей жизнью.ЛИЦОМ К ЛИЦУ
— Сосед, а, сосед! На кого загляделся? Иван Федорович повернулся на зов: — А, Семен. Сын с семьей купаться пошли. — Васятка приехал! Ты подумай, не слыхал. Дед Семен, стуча суковатой палкой по пыльной земле, приблизился к забору, за которым стоял Шапцев и глядел вслед сыну, снохе, двум внукам. — Не узрю сослепа. Что за компания? Больно много людей, — приложив ладонь к высохшим бровям, напрягал голосовые связки дед Семен. — Сам, сама да двое огольцов — вот и вся компания, — не без гордости ответил Иван Федорович. — Скажи пожалуйста. Семьянин, стало быть. Васятка, в отца. И когда успел! Кажись, вчера без портков ползал. Как время скачет! Галопом. — Время, Семен, ни дорог, ни горючего не просит. Летит себе. Сам диву даюсь, вроде бы недавно за мою штанину держался, чтобы не упасть, а уже — тридцать. И сам — четвертый. — Он у тебя хваткий. — Дед Семен присел на скамейку: — Выходи, Иван, потолкуем. Иван Федорович Шапцев неохотно присел на край доски, потому что ждали дела — собирался до возвращения сына убрать в сарай высохшую траву. Но от деда Семена просто так не уйдешь. Ему все расскажи, доложи. Правда, Ивану Федоровичу и самому хотелось поговорить о Василии — о любимом сыне. Он его гордость. «Ладно, немного потолкуем», — уговорил себя Иван Федорович. — Васятку-то я несколько лет не видел, — вздохнул дед Семен, — он тогда не был женатый… Слышь, Иван, а молодая-то откуда? — Из Москвы, — твердо ответил Шапцев. — Вот как? — удивился дед Семен. — Из самой Москвы. Наши девки, стало быть, не подошли. Иван Федорович, не дожидаясь его новых вопросов, продолжал: — Ездил Василий работать в пионерский лагерь, политотдел посылал, там и познакомился с Любой. Вернулись — поженились. Она тоже в милиции, лейтенант. Детки пошли, Андрею уже четыре года, Саше — два. — Во-от оно как вышло! — протянул дед Семен. — Значит, и она в милиции. И Васятка там? — А то где же? Окончил Высшую школу милиции. Отбудет отпуск — и на службу. — Высшую? Стало быть, выше не бывает. Скажи, куда забрался! На самую верхотуру. — Почему не бывает? — со знанием дела говорил Иван Федорович. — Есть Академия МВД, на руководителей в ней учатся, так что Василию путь ни в коем случае не закрыт. — Ладно. Лучше скажи, сколько звездочек дали? На какую должность поставлен? — не унимался дед Семен. — Лейтенант. Оперуполномоченный уголовного розыска, — по-военному отчеканил Иван Федорович. — На злодеев, значит, нацелился. И не боится. Кажись, уже наскакивали на него. По радио передавали. И еще сказали, орден за смелость получил. Ты тогда не поверил. Помнишь? — Было, было, — подтвердил Иван Федорович. Дед Семен почесал затылок: — На глазах парень созрел. Скажу тебе, Иван, от рождения он у тебя бесстрашный. Вспомни, был маленьким, а на лошади скакал верхом. Подрос — на велосипеде стал гонять так, что смотреть на него страшно. А этот случай. И смех и грех. Ребята хотели отнять у него кнут, и ты знаешь что удумал: обвязался кнутом и бултых в крапиву. Поди возьми. — Много было с ним приключений, — подтвердил Иван Федорович. — Думаю, от любознательности. Василий, ты же знаешь, без дела не сидел. Даже сейчас, в отпуске, каждую минуту ищет приложение рукам. Трудолюбивый, что говорить. Да-а. В школьниках ходил, а картошку сажал, за коровой ухаживал, теленка растил. А в каникулы? То на сенокосе, то на уборочной. Целыми днями там. Словом, не гнушался трудом. — Потому и толк получился, — заключил дед Семен. — Труд — всему голова. И от болячек бережет, и на путь истинный наводит. Эх, сейчас только бы работать! Кругом техника! Это мы землю руками рыли. Как все трудно доставалось! С темна до темна на полях. И ничего, до старости дотянули. Тебе под семьдесят, мне за восемьдесят. На двоих сто пятьдесят лет! Стариковская жизнь такая: вспомнить, поговорить. Вот и сейчас два старых труженика села основательно «прошлись» по прошлым и настоящим проблемам деревни, сожалея, что молодежь не оседает на родной земле. «И Василий мог быть бригадиром, инженером, председателем колхоза, — размышлял Иван Федорович. — Милиция — это, конечно, неплохо, но род Шапцевых — крестьянский». Мечтал Иван Федорович: отслужит сын действительную, выучится — домой, к земле поближе. А тот распорядился собой иначе: из одной формы — вдругую. Позже, правда, Василий признался: любит дисциплину, порядок, форму. Дед Семен поднялся — занемела спина: — Ты, Иван, не переживай. Гордись! Ты подумал, кто он недавно был? — Ну кто? — Рядовой рабочий. А теперь? Погляди, кем его милиция сделала. Офицер. Кавалер ордена Красной Звезды. Член партии… Солнце начинало нещадно палить. Василий резвился с малышами на потеплевшей отмели. Мальчишки обдавали отца брызгами, он увертывался, убегал. И в какой-то момент игры вдруг почувствовал, как в нем ожили ощущения, пережитые в детстве: точно так же играют его сыновья, как и он когда-то с ребятишками села. Это и понятно. Все здесь родное, все исхожено вдоль и поперек. У того глинистого выступа на снопах камыша начинал плавать. Здесь, засучив по колено штаны, ловил рыбу. Чуть дальше купали лошадей, там же дед Семен учил ездить на коне верхом. — Папа, пойдем маму обольем, — потянул его за руку Андрей. — Пойдем, пойдем… Накупавшись и наигравшись, дети заснули под тенью ивовых кустов. Василий с женой Любой сидели у обрыва. Отсюда хорошо было видно реку, ее извивы, заросшие берега. — Удивляюсь, чем привораживает река? — сказал Василий, глядя на воду. — Тянуло нас сюда невероятно. Она, как мать, сплачивала и дисциплинировала нас. Отсюда мы, бывало, никуда. Родители это знали и были спокойны. — Река приводит наши чувства в порядок, — в тон мужу заговорила Люба. — По душе занятие дает каждому. Купайся, загорай, катайся, лови рыбу, стирай, сиди у костра, думай, наконец… — Думаю, — усмехнулся Василий, — не помогает. — О чем, интересно? — Об аккумуляторах. — Больше ничего на ум не идет? — заулыбалась Люба. — Видишь ли, они нет-нет да и выползают, проклятые. — Тебя и в отпуск отправили, чтобы ты на время забылся. — Я бы, конечно, забылся, да ты не помогаешь. — В каком же качестве? — Как специалист по дознанию. — А ты, как специалист по розыску, добывай улики, и все будет в порядке. — Чтобы найти их, надо человека разговорить. Ты это умеешь лучше меня. — Когда станешь поопытней, и у тебя непременно получится. — Спасибо за совет, но должен заметить: чтобы накопить опыт, нужны годы, а преступление требуют раскрывать сегодня. Ну ладно, поплаваем. Василий поднялся. Высокий, темноволосый, широкоплечий — приятно было посмотреть на него. Люба в который раз порадовалась за него и за себя. — Ты иди, а я — наседка, — ласково сказала она. — Цыплятки-то спят, — обернулся Василий. — Спят, пока мы здесь. — Не возражаешь, махну на тот берег? — Отведи душу. Шапцев осторожно вошел в воду и, чтобы не разбудить детей, поплыл тихо. Достигнув песчаного обрыва, он оглянулся. Люба подсела к детишкам. Легкий ветерок принес с поля сочный запах разнотравья. Глубоко вдохнув, Василий повалился на бархатную землю. Лежа на спине, он бросил взгляд на жаворонка, который, заливаясь на всю округу, по спирали рвался ввысь. Веселым занятием деревенских мальчишек было наблюдение за состязанием жаворонков, поднимавшихся так высоко, что они казались едва видимыми точками в огромном небе. Каждый мальчишка имел «своего» жаворонка и гордился, если тот взлетал выше всех, а значит, оказывался победителем. Этот же взлетал недолго: видимо, не было достойных соперников. Сложив крылья, он камнем пошел вниз. Шапцев закрыл глаза, всплыли картинки детства: двор, улица, дома под соломенными крышами, дед Семен с лошадьми, отец с машиной, сенокос, уборочная. Школа… С ней связаны лучшие годы. Шапцев учился с желанием, тянулся к книгам, охотно слушал рассказы учителей, взрослых. Впитывал все, что было интересно. Отец радовался: парень растет любознательным и самостоятельным, смена ему достойная. Но после восьмилетки Василий неожиданно потянулся за ребятами, своими сверстниками, в Электрогорское ПТУ Московской области. Иван Федорович по-отцовски поворчал, пожурил сына за ослушание, но препятствовать не стал. «Чем быстрее выучишься, тем скорее вернешься домой. Слесарь на селе — первый человек», — говорил Шапцев-старший. Отправив Василия, отец твердо верил: не подведет сын, будет учиться хорошо. Василий действительно проявил усердие и старание: приобретал не только профессиональные, но и общеобразовательные знания — поступил в школу рабочей молодежи. Днем — ПТУ, вечером — школа. И так три года. Три самостоятельных года. Потом работа на Люберецкой ТЭЦ, где коллектив охотно принял смуглого юношу в свои ряды. Иван Федорович остался недоволен распределением, ибо питал надежды на то, что сын вернется домой. Но опять смирился: через год Василию в армию, а там видно будет. Слесарь по оборудованию — хлопотливая должность. Она требует честности и надежности, ибо сама атмосфера предприятия, где происходит таинство рождения электричества и пара, предъявляет работающим самые высокие требования. Шапцев понимал это и был аккуратным исполнителем, проявил интерес к освоению новой техники. И только было почувствовал в себе силу, как пришла повестка из райвоенкомата… Рядом пролетела шумная сорока, Шапцев поднял отяжелевшие веки. «Пора и честь знать», — приказал он себе, поворачивая голову к воде. Там, на противоположном берегу, мирно лежали три фигурки. «Ну поспите, а я еще помечтаю», — подумал Василий. Дело в принципе несложное. На заводе пропадали аккумуляторы с машин, готовых к отправке. Воров удалось поймать, но кому они сбывали краденое — это осталось невыясненным. Говорят, приезжали разные неизвестные люди. Шапцев начал искать их, построил и проверил несколько версий, однако ни одна не подтвердилась. Первое начатое им дело зашло в тупик. И тогда Василий попросился в отпуск, дав начальнику слово, что по возвращении найдет злоумышленников, так как на отдыхе можно будет собраться с мыслями. Шапцев предполагал здесь, в деревне, разработать серию комбинаций, чтобы по приезде в Москву без раскачки приступить к розыску. «Итак, вариант первый», — начал было он. — Папа-а! Папа-а! — донеслись до его уха два тоненьких голоска. Василий быстро поднялся. Андрюшка и Сашок звали его к себе. — Иду-у! Он с азартом бросился в теплую воду и мощно поплыл саженками к противоположному берегу. Через несколько минут вся семья отправилась домой. Обедать. Иван Федорович первым заметил бегущих внучат: — Идут. Дед Семен вскинул голову: — Дождались. — Здравствуй, Семен Васильевич! — подходя к старикам, сказал Василий. — Здорово, здорово, москвич, — протянул тот сухую ладонь. — Ишь ты какой! В три раза выше меня. А плечи-то, плечи — сажень! Ну и вымахал, как после дождя. Ордена не вижу. — На парадном кителе. — Ишь ты, а я в войну на телогрейке носил. — Сейчас другое время. — Не выхваляешься, это хорошо. Я, по совести сказать, любил крутануть носом. Болезнь за собой имел такую. Подбежал Андрюшка: — Папа, кушать! — Внучек, не балуй, дай поговорить с отцом, — проворчал дед Семен. Василий взял сына на руки. — Как служишь, лейтенант? — продолжал расспрашивать дед Семен. — За что дали орден, так и не знаю, хоть и первым услышал о награде. Любопытствую узнать: за что? Отказать не смей. Я тебя тоже воспитывал: носил на руках, учил лошадей запрягать… — Хорошо, хорошо, дед Семен, поговорим. Дай только с детьми управиться… А давай-ка лучше вечерком встретимся. Идет? — Идет! — согласился старик. Покормив детей и уложив их спать, Василий вместе с отцом вышел на огород: как и что там? Глаза соскучились по живой огородной зелени. Шапцев-младший по-хозяйски оглядывал грядки цветущих огурцов, трогал кудрявую ботву картофеля. — Приятная зелень, — восторгался Василий. — Будет дождь, будет и картошка, — сказал Иван Федорович. — А пока жара. — И, шагнув в тень, предложил: — Посидим. Василий посмотрел на два почерневших пенька. — Когда же спилить успели? — удивился он. — Да когда ты из армии на побывку приходил, — ответил отец. — Никак, забыл? Помнишь, буран прошел и наломал дров. — Не помню, вылетело из головы, — ответил сын, присаживаясь. — И про армейские порядки, поди, забыл. — Ну что ты! Это навечно. С дел огородных разговор незаметно перешел на дела армейские. В жизни сына и отца армия оставила большой след. Достаточно сказать, что Иван Федорович прошел всю войну, а в характере Василия служба убрала все лишнее, подсказала путь в будущее. Именно танковое подразделение, в котором старший сержант Василий Шапцев командовал группой разведки, подтолкнуло его к выбору своего места в жизни. Разведчик — глаза и уши подразделения. Разведчик должен быть выносливым, смекалистым, отлично владеть оружием и техникой. Эти качества и развил в себе Шапцев. Беседуя с отцом, Василий вспомнил учения. …Усталые солдаты после дневной атаки укладываются спать, а разведчики в этот момент только начинают интенсивную работу. Они пробираются сквозь посты боевого охранения и уходят в ночную мглу. Если присмотреться к ним, можно заметить, что все на них пригнано точно и аккуратно, Ничто не брякает и не звякает. Лица решительные и энергичные. Неслышной походкой они уходят туда, где находится «чужое» подразделение. Им нужны сведения, на основе которых штабные работники будут разрабатывать план боя. Разведчики то идут пригибаясь, то почти ползут по влажной земле. Но вот они замирают на месте. Сейчас каждое неосторожное движение, шумный вздох могут привлечь внимание часового, а его надо взять и доставить как «языка». Разведчики лежат неподвижно. Приближается тень часового. Рядовой Айтукенов, уроженец горного Казахстана, подкрадывается к нему и прижимает к земле. Группа отправляется в обратный путь. Он нелегок. Надо не только прийти самим, но и довести «языка»… Армейский уклад жизни и привел Шапцева в милицию, где, как ему казалось, служба построена по тому же принципу и где от человека требуются точность, исполнительность, самодисциплина и смелость. В августе 1976 года Шапцева приняли на работу в 1-е отделение милиции города Москвы. С первых дней службы Василий почувствовал, что армейские навыки заметно ему помогают. Командир подразделения старшина милиции А. Васькин говорил ему: — Службу ты чувствуешь, кое-что от меня переймешь, побываешь в учебном центре, изучишь маршруты и объекты и тогда обретешь уверенность. Но как бы там ни было, всегда помни о бдительности и самоорганизованности. Их никто не передаст. Развивай сам. Старший наряда сержант милиции Анатолий Хрусталев добавлял: — Не забывай о поговорке: «Будь строг, но справедлив», она не подведет. Если говорить о храбрости, то этого мало для милицейской службы, надо еще знать, как действовать. Всякое бывает: то ты ловишь преступника, то он тебя ловит на мушку. Какой же вывод? Простой: учись и учись. После окончания курса первоначальной подготовки Шапцеву доверили самостоятельно нести патрулирование. Улицы Осипенко, Балчуг, Климентовский переулок стали его «владениями». Жара, мороз, дождь, снег — милиционер на посту. Праздник, люди гуляют, веселятся — милиционер на посту. И так день за днем, без особых происшествий. Были, конечно, и напряженные моменты — улицы всегда полны неожиданностей. Но память хранит вот этот случай. …Пройдя дворами, Шапцев ступил на тротуар Климентовского переулка. Навстречу шел мужчина. Увидев милиционера, он юркнул под арку дома. Василий за ним и в конце двора успел схватить незнакомца за руку. Тот попытался оказать сопротивление, но помогли прохожие. В дежурной части установили: задержанный оказался особо опасным рецидивистом, разыскиваемым органами милиции… Жара пошла на убыль. Иван Федорович снял кепку. Василий, глядя в сторону двора (не проснулись ли дети?), принялся массировать рубец на левой ладони. — Беспокоит? — спросил Иван Федорович. — Кожа затвердела. Разминаю ее время от времени, — ответил Василий, опуская руку. Иван Федорович вздохнул: — На войне стреляют — там все ясно. Сейчас-то какой дьявол толкает к оружию? Честно проживший всю жизнь, Иван Федорович представить себе не мог, как это можно ни с того ни с сего поднять руку на человека, залезть в чужой карман или квартиру. Какую же совесть надо иметь или не иметь никакой, чтобы решиться на такие дела? — И часто балуются огоньком? — нерешительно спросил он. — Да нет. — Но с тобой же было? — Это редкость. Служба в основном черновая. Беспокойство доставляют воры. Приходится искать и задерживать их, хотя и действуют они изощренно. Ничего, находим. Он вспомнил случай из практики своего товарища. …Днем, когда хозяева квартир на работе, один сравнительно молодой человек, прилично одетый, поднимался на этаж, останавливался у двери, осматривал замок, вытаскивал отмычки — и через три минуты он уже в прихожей. Извлекал из кармана блокнотик, заносил в него план квартиры и удалялся в другой район Москвы, где проделывал такую же операцию, успевая до обеда «ознакомиться» с жильем четырех семейств. А через неделю все эти квартиры обокрали. Сам «разведчик» ничего не брал и никаких следов не оставлял, а посылал других и за это получал свою долю. Трудно его было изобличить. Изрядно пришлось товарищу Василия поломать голову, но доказательства он добыл. Суд вынес справедливый приговор. — Надо же, какие проходимцы есть! — изумился Иван Федорович. — Товарищ твой — молодец, изловил подлецов. Побольше бы таких работников. — Встал, прислушался: — Кажется, внучата зовут. Иди проведай их… Под вечер, когда жара окончательно сошла, дед Семен направился к дому Шапцевых. Василий уже поджидал его на крыльце. — Уговор дороже денег, — улыбаясь, сказал дед. — Герой, он есть герой, а потому обязан являться, когда его просят. — Ну какой я герой, Семен Васильевич? — Помалкивай. Я старый солдат и знаю, что говорю. Красная Звезда — орден боевой. За так его не дают. Отличиться надо. Ну-ка, садись и все — как на духу. Про героев, по совести сказать, люблю послушать, потому что сам не прочь быть им, да, видно, ростом не вышел. — Да рассказывать-то, собственно, нечего, дед Семен. Шел, увидел, задержал. — Эту сказку я раньше тебя слышал. Ты толкуй по порядку, как полагается, со всеми закавычками. — Слушаюсь, Семен Васильевич! — Вот это по-нашему. Любил дед Семен пространные рассказы, и Шапцев начал издалека. …Было это в субботу, 2 декабря 1978 года. Несмотря на то что Шапцев дежурил во вторую смену, встал он рано, потому что готовился к вступительным экзаменам в Московскую высшую школу милиции МВД СССР. Учиться очень хотелось. В случае удачи через четыре года он — офицер милиции, к чему и стремился. Служба нравилась, делал свое дело охотно, чувствовал, что идет по правильному пути, словом, получал от работы удовлетворение и так привык к повседневности, что забывал о своей профессии как о мужественной и отважной. Мужество и героизм ему казались какой-то высшей ступенью сознания. Как любовь, как мудрость. А сам подвиг — красивым и бескровным. Шапцев не обижал людей невзначай, а тем более с умыслом. За правонарушения взыскивал, но старался, чтобы было все по закону, справедливо. Василий не бывал на посту один. Там два номера: один работает, другой контролирует. Милиция — это не только профессия, но и состояние души. Готовность помочь человеку ежедневно сталкивается с разрушающей силой преступности; надо сделать и трудную работу, и сохранить веру в себя, в свое милосердие. За делами время проходит незаметно — пора и на службу. Шапцев оделся. На улице стоял легкий морозец. Ни снега, ни ветра. Дышалось легко: «Погода праздничная», — подумал Василий. В отделении милиции старший сержант доложил о своем прибытии. Дежурный выдал рацию, пистолет и маршрутную карточку. — Напоминаю, на вашем маршруте две сберегательные кассы, объекты важные, — говорил дежурный, — заходите в них в строгом соответствии с порядком несения патрульной службы. Вопросы есть? — Ясно, — ответил Шапцев, — разрешите идти? — Идите. Новокузнецкая улица, улица Землячки — маршрутная зона Шапцева. Привычным шагом он обходил участок за участком. Первые минуты Василий отдавал вхождению в работу. Ему всегда нужно было освоиться с местом, породниться с ним, чтобы чувствовать себя свободней, непринужденней. Людей было мало, его не останавливали и ни о чем не спрашивали. Так он пришел к сберегательной кассе на улице Землячки. Переступил невысокий порог, поздоровался с работницами, которые знали его. Поговорив несколько минут, Василий предупредил: в девятнадцать сорок, к закрытию, как обычно, зайдет снова. — Будем ждать, — сказала пожилая кассирша. С улицы Землячки милиционер направился на Новокузнецкую, где находилась другая сберегательная касса. Шел Шапцев неторопливо, размеренно, в хорошем расположении духа, размышляя о том, как будет сдавать экзамены, как потом пойдет учеба, а учиться он будет прилежно, потому что милиция — его судьба. У сберкассы Василий остановился, поглядел по сторонам и уже было сделал шаг к двери, как из-за угла появился начальник отдела охраны общественного порядка Москворецкого РУВД П. Назаренко. «Проверяет посты», — мелькнуло в голове. И, шагнув навстречу, Василий отрапортовал: — Товарищ подполковник, патрульный старший сержант милиции Шапцев. Назаренко протянул руку: — Здравствуйте, Василий Иванович! — Подполковник знал и называл милиционеров по имени и отчеству. — Как самочувствие? — Хорошее, товарищ подполковник. — Обстановка? — Все спокойно, происшествий нет. — Хорошо. Но не забывайте: надвигаются сумерки, день выходной, а потому повысьте бдительность, почаще появляйтесь в бойких местах, контактируйте с дружинниками и особое внимание уделяйте сберкассе на улице Землячки. Эту сберкассу мы с командиром подразделения возьмем на себя. — Ясно, товарищ подполковник. Разрешите выполнять задание? — Выполняйте. Через несколько минут Шапцев встретил группу дружинников завода имени Владимира Ильича, договорились встретиться в девятнадцать сорок на улице Землячки, у сберкассы. И разошлись в разные стороны. Василий был в зимней форме: валенки, меховое пальто, шапка. Обмундирование подогнано, движений не сковывает. Тепло. Мороза он не чувствовал. Из переулка навстречу ему выкатилась «Волга» с включенным дальним светом. Шапцев поднял руку: по городу не положено ездить со светом дальних фар, это непорядок. Впрочем, не такое уж большое нарушение. И все же предупредить водителя надо. Он попросил документы. Все было сделано вежливо, спокойно, как положено. Водитель опустил стекло — из кабины потянуло перегаром. Шапцев сразу уловил его. — Придется вас задержать, — предупредил милиционер и по рации сообщил дежурному. Через несколько минут прибыл инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ. Передав ему нарушителя, Шапцев продолжил прерванное патрулирование. В половине восьмого он уже стоял у сберкассы на улице Землячки. Вокруг ни души. Посмотрел в окно: свет горит, кассир и контролер на своих местах. «Зайду к ним», — решил Василий. Плечом толкнул дверь — не поддалась. Это было странно. До конца рабочего дня оставалось еще полчаса. Надавил сильнее. В образовавшуюся, щель увидел ржавый металлический прут. Он-то как раз и сдерживал дверь. Шапцев забарабанил по обшивке. — Кто там? Откройте! — потребовал он. Прислушался. Тишина. Опять постучал: — Откройте! Послышались робкие шаги. Заскрежетал засов. Дверь тамбура приоткрылась, показался парень лет двадцати пяти, в шапке и потертой дубленке. Шапцев решительно ступил на порог. Незнакомец был явно чем-то озабочен. — Что вы здесь делаете? — спросил Василий. — Заведующая попросила подогнать двери, — подбирая слова, ответил тот. «На плотника непохож, — мелькнула мысль, — ящика с инструментом не видно. Шапка надвинута на глаза. Дверь закрыл». — Но уже конец рабочего дня, и касса скоро закрывается. — Так получилось… Опоздал. — Документы. Незнакомец попятился назад: — Какие документы?.. Я же на работе. В тусклом свете лампочки Шапцев пытался разглядеть выражение лица «плотника». Оно показалось озлобленным и настороженным. «Никакой ты не плотник», — подумал Василий. — Документы! Парень переложил прут из правой руки в левую, а правую быстро опустил в карман. Шапцев почувствовал недоброе — сработала профессиональная интуиция. Что делать? Ни рацией, ни оружием ему уже не воспользоваться. Счет идет на секунды. Надежда только на самого себя. По росту и силе они примерно равны, но за Шапцевым профессионализм и уверенность в своей правоте. Василий сделал шаг вперед, незнакомец выхватил пистолет. — Не подходи! Убью! — прохрипел «плотник». В ответ Шапцев мгновенно ухватился за ствол и повернул его. Грохнул выстрел, дымом обдало милиционера, но рука его не дрогнула, только сильнее сдавила ствол. Еще один хлопок… Выстрелы услышали одновременно в трех местах: работницы сберкассы, дружинники и подполковник Назаренко. Каждый из них отреагировал должным образом. Кассирша вызвала милицию, дружинники и Назаренко побежали на звук. Применив болевой прием, Шапцев свалил на пол стрелявшего, который оказал яростное сопротивление, пытаясь снова воспользоваться оружием. Пистолет заклинило, противник лихорадочно давил на спусковой крючок, но безуспешно. Василий действовал расчетливо. Вот-вот должны появиться дружинники, и, чтобы его заметили, он решил вытолкнуть преступника на тротуар. Это ему удалось. Прижав противника к асфальту, Шапцев мужественно сдерживал его отчаянные выпады, не позволял ему подняться. Впереди послышался топот, милиционер поднял голову: бежал Михаил Коротков, дружинник завода имени Владимира Ильича. А еще через несколько секунд появились Назаренко и оперативная машина. Преступника водворили в кабину… В отделении милиции дежурный пожал руку Шапцеву: — Молодец, Вася, не растерялся! — И тут же: — А почему ладонь липкая? Шапцев стянул перчатку — кровь. Пуля задела ребро ладони. — Надо же! — изумился он. — Даже не почувствовал, что ранен. — Задета мякоть, — успокоил дежурный, — сейчас перевяжу, и в больницу: швы наложат. И вдруг ноги у Василия стали словно ватные, его прошиб пот. Наконец до него дошло, в какой переплет он попал. Чуть-чуть промедли, и он, возможно, не стоял бы сейчас здесь. В схватке сознание долга было сильнее, чем чувство самосохранения. Василий помнил об одном: не упустить, задержать, а все остальное вроде бы не имело никакого значения. Суть своей службы Шапцев видел в том, чтобы всегда оказаться вовремя там, где он необходим. К этому жестокому поединку он был морально и физически готов, в него он вложил все, чему учили старшие товарищи… Дед Семен с прилежностью школьника слушал Василия, не перебивал и лишь в конце рассказа спросил: — А не испугался, когда тот бабахнул? На фронте в первые дни я, по совести сказать, боялся стрельбы. Даже не мог ни пить, ни есть. Потом страх куда-то провалился. Скажут: «В атаку!» — и ты пошел. Пули свистят, снаряды рвутся, а ты идешь. Обо всем забываешь. — Не чувствовал страха и я, Семен Васильевич. Другая была тревога: как бы не упустить этого мерзавца. — Кто же он таков? — Издалека приехал, тип еще тот! Совершил у себя в городе преступление. Местный участковый дознался, кто это сделал, пошел выяснять, дома ли преступник, а тот увидел его в окно, выскочил из квартиры и затаился под лестницей. Когда участковый, ни о чем не подозревая, ступил на площадку, преступник подкрался сзади и ударил его по голове, потом завладел оружием и подался в Москву, чтобы ограбить кассу. Приготовил пистолет, финский нож и маску, вошел в тамбур помещения, закрыл за собой дверь. А работницы сберкассы, видно, не слышали, что происходит за стеной, заняты были. Как раз в этот момент и я появился. — Вовремя появился, Василий Иванович, — оживился дед Семен. — Женщин, деньги спас, ну и жигану дал по загривку. Это по-нашему, по-тамбовски. Судили прохвоста? — Пятнадцать лет получил. — Я бы еще прибавил. — Больше по закону нельзя. — А дальше? — Все, дед Семен. — Как все? А орден? — Орден вручали весной, в мае 1979 года. Помню, было тепло, солнечно, настроение отличное, только что сдал экзамены в Высшую школу милиции. Пригласили награжденных в Моссовет, красивое здание на улице Горького, и вручили награды. — Показать можешь? — Не могу, дед Семен, дома он, в Москве. — Ладно. Теперь я всем расскажу, какой герой вырос на нашей тамбовской земле. Этот герой — Василий Иванович Шапцев, мой сосед. Он меня, фронтовика, обскакал: у меня медали, а у него боевой орден. А еще скажу, что земляк наш не дает проходу тем, кто шапки с чужих голов снимает, кто машины разувает, лампочки бьет на столбах, кто пьет, крадет и бродяжничает… В период отпуска Шапцев не раз встречался с дедом Семеном, непоседливым и словоохотливым человеком. Тот все говорил, что очень уж хочется ему подержать в руках орден. Василий обещал непременно привезти его в следующее лето. Вернувшись в Москву, оперуполномоченный 1-го отделения милиции лейтенант Василий Шапцев сдержал слово, данное начальнику, — изобличил воров, кравших аккумуляторы.«ПРИКАЗЫВАЮ ЗАСТУПИТЬ…»
— Подразделение, равняйсь! Смирно! Замер строй молодых милиционеров. Заместитель командира подразделения 122-го отделения милиции Москвы В. Барсков пристально всматривался в каждого подчиненного. Через несколько минут милиционеры разойдутся по постам и маршрутам, предстанут перед взором москвичей и гостей столицы. Форма, внешний вид, поведение, манера держаться — все это имеет значение в милицейской службе. Барсков медленно проходит вдоль шеренги. Удовлетворен. Ребята подтянуты, выбриты, подстрижены. Значит, дисциплинированны. — Вольно! — снова скомандовал Барсков. — Претензий к внешнему виду нет. В строю заулыбались. — Слушай инструктаж! Ознакомив с оперативной обстановкой и поставив нарядам конкретные задачи, офицер напомнил: — При несении службы по охране общественного порядка строго соблюдайте социалистическую законность, будьте вежливы и предупредительны к гражданам. Проверяйте свои поступки: не причиняете ли вы зла, неприятностей, неудобств людям. И вместе с тем строго пресекайте случаи нарушения общественного порядка. Барсков посмотрел на часы: пора. — Подразделение, равняйсь! Смирно! На охрану общественного порядка приказываю заступить… Любит старший лейтенант этот ритуал. Ему всегда хотелось, чтобы все, буквально все, кто носит милицейскую форму, были аккуратны, опрятны, грамотны, тактичны и вежливы. Барсков любит выбранную профессию и никому из подчиненных не позволяет компрометировать ее дерзостью, неряшливым видом или жаргоном. Так было и в ту пору, когда он только начинал свой милицейский путь, и потом, когда стал служить заместителем командира подразделения патрульно-постовой службы. Своих подчиненных Барсков знает не только по фамилии, имени, отчеству. Он хорошо знает их характеры. Это помогает ему улавливать внутреннее состояние милиционера, его чувства, разобраться в мотивах поступков, видеть то хорошее, что надо поощрять, и то плохое, что надо искоренять. Для Барскова нет среднего милиционера, каждый человек исключителен, второго такого нет. Есть милиционеры, которым нет цены, есть и такие, которым грош цена, от таких надо избавляться, а настоящих — уважать и беречь. Ценить за достоинства, а не за отсутствие недостатков. Проводив подчиненных, Барсков поднялся в кабинет. У офицера та обычная и все же редкая наружность, которая напоминает вам, что вы где-то уже видели это лицо и вам чем-то близок и дорог этот человек, хотя вспомнить о нем невозможно. Может быть, вы и никогда не встречали его и не могли его знать и лишь тайное влечение к незнакомцу и ваше чувство к нему рисуют на чужом лице знакомые черты. Ему тридцать два. Волосы темные, прямые, чуть сдвинуты на лоб. Глаза выразительные и не меняются от настроения. Взглянув на план работы, он поторопился в служебный класс. Все ли там готово для занятий? На месте ли пособия, макеты, схемы? Барсков хотел, чтобы личный состав подразделения жил постоянно своим служебным домом, чтобы чувства милиционеров удовлетворялись в боевом товариществе, в учении, в работе. Служебные занятия напоминают разбор боевых действий. По форме. По содержанию же обсуждаются действия, милиционеров в тех или иных условиях, приближенных к особенностям территории, времени суток и т. д. Часто сотрудник милиции действует один, и посоветоваться ему не с кем. А у милиционера нет права на ошибку. Иногда и служба-то не идет у человека не потому, что он не хочет трудиться, а потому, что не знает, что и как делать. Значит, надо систематически учиться. Рассматриваются не только положительные примеры, но и ошибки, нетактичные поступки. Совсем недавно, например, разбирались действия милиционера С. Сержант нес службу на проспекте Калинина. Рядом остановилась девушка. Под руку ее держал пожилой незрячий человек. — Можно вас на минутку, — попросила она сержанта. Милиционер подошел. — Гражданин просит перевести его на ту сторону улицы. По подземному переходу, он говорит, ему тяжело, а иного выхода я не вижу. — Здесь интенсивное движение и переход запрещен, — ответил сержант. — Не будем нарушать порядок! — Товарищ милиционер, мне тяжело, — взмолился слепой мужчина, — мне надо в аптеку, за лекарством. — Только через переход, — отрубил сержант. Через несколько дней в подразделение поступила жалоба на черствость милиционера. Стали разбираться, чем можно было помочь человеку и таким образом избежать нареканий. Вариантов такой помощи оказалось несколько: вызвать «скорую помощь», попросить инспектора ГАИ перекрыть движение (он был рядом) и т. д. Постовой не проявил гибкости и элементарного сочувствия. На таких случаях тоже учатся. В служебном классе, на разборах, по окончании дежурства. Но больше всего Барсков учит молодых на положительных примерах. Как-то на проспекте Калинина к сержанту милиции В. Туголукову подошла заплаканная женщина. «Два часа назад, — рассказывала она, — один интеллигентный мужчина вызвался помочь мне купить плащ. Время прошло: ни плаща, ни денег». Сообщила приметы этого человека. К вечеру милиционер обратил внимание на мужчину, который дважды появлялся на его маршруте и внешне походил на человека, обрисованного женщиной. Туголуков задержал незнакомца и доставил в отделение милиции, где выяснилось, что это тот самый мошенник, который выманил деньги у доверчивой покупательницы. Профессиональному чутью учит Барсков молодых. Учит нести службу добросовестно, бдительно, замечать мелкие детали, чтобы суммировать и анализировать их. Служебные и политические занятия обогащают знания сотрудников, милиции, прививают им навыки точных действий в любой ситуации. Без регулярных служебных, политических и тренировочных занятий обойтись нельзя, ибо служба в милиции предъявляет ее сотрудникам высокие требования к профессиональной, волевой и физической подготовке. Милиционер — солдат правопорядка. Он должен мастерски знать свое дело. Милиции нужны люди, развитые физически и духовно. Милиционер — это прежде всего труженик, выносливый, точный в расчете, способный работать в самых сложных условиях. Заместитель командира несет ответственность и за службу, и за морально-психологический климат в подразделении. Но оперативно-служебные вопросы не должны заслонять живого человека. Барсков чувствует, что жизнь все чаще выдвигает требование — уметь работать с личным составом, понимать его, вести за собой. Сила личного примера особенно велика. Авторитет завоевывается конкретными делами, а не должностью и званием. Значит, многое надо знать и уметь самому, уметь рассказать, а при случае и взять ношу потяжелее… Вот и сейчас, закончив служебные занятия по уставу патрульно-постовой службы, Барсков заглянул в рабочие планы: завтра политические занятия, надо подготовиться, подобрать литературу. Но в дверь постучали, и в комнату вошла женщина. — Извините за беспокойство, — с порога начала она. — Торопилась с работы, чуть не бегом… Кошелек у меня из сумочки вытащили. А ваши работники молодцы — дали вору по рукам. Вы уж насчет благодарности побеспокойтесь. И в первую очередь Коцуру объявите. Такой внимательный, заботливый… Женщина ушла. Барсков встал, принялся ходить по комнате, размышляя. В последнее время люди чаще благодарят милиционеров за внимание и умелые действия. Значит, подразделение на правильном пути. Не один сержант милиции В. Коцур активно несет службу, многие так работают. Интересно, а как в этом квартале потрудились? Барсков достал служебную тетрадь. Что удалось? Какие и где просчеты? Как идет социалистическое соревнование? Сколько нарушителей дисциплины? Сколько поощрений? Наконец, достигнуто ли запланированное? Пробегая глазами документы, Барсков с удовлетворением отметил: сдвиги есть, и об этом, видимо, стоит сказать на предстоящем политзанятии. Политические занятия — не только эффективная форма обучения и воспитания, но и хорошая возможность для откровенного разговора. Барсков строит их так, чтобы вопросы теории тесно переплетались с нуждами службы. А чтобы в таком ключе вести разговор, надо быть отлично подготовленным. Но кто подскажет злободневную, волнующую тему для обсуждения, как не сами милиционеры! Поэтому, прежде чем переступить порог аудитории, Барсков накануне побывает на патрульных маршрутах и постах, побеседует с милиционерами, выслушает их пожелания. И становится яснее, за что болеют сотрудники, к чему стремятся. Истинное ли это стремление или ложное. Настоящее надо поддержать, ошибочное опровергнуть. Такая практика породила столько интересных предложений, что для них пришлось завести отдельную тетрадь. Молодые милиционеры, например, высказали мысль: не лучше ли комплектовать патрульные наряды по желанию, то есть кто с кем хочет дежурить, так сказать, по психологической совместимости? Почему бы не попробовать? А вот масса других пожеланий. И как лучше организовать службу, и как активизировать физическую подготовку, наладить отдых. Тут и вопросы жилья, учебы. Особенно учебы. Стремление к знаниям понятно: люди молодые, живут с перспективой. Барсков, разумеется, не превращает политзанятия в служебные совещания, но любому дельному высказыванию, рожденному в ходе дискуссий, он дает немедленный ход. Ибо подкрепление слов делом и есть самый верный путь сближения теории с практикой. Забота о людях не всегда требует каких-то материальных благ. Она порой предполагает всего лишь умение создать у человека хорошее настроение, вовремя поддержать его, дать совет. Важны и такие знаки внимания: доброе слово, одобрение успеха, похвала. Нередко они значат больше, чем материальное вознаграждение. Коль зашла речь о средствах воспитания, то следует сказать, что Барсков активно культивирует в подразделении лучшие традиции советской милиции. Торжественное принятие присяги, посвящение в милиционеры, вечера встреч с ветеранами, чествование отличившихся. И особенно много мероприятий он организовал в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Живые встречи с участниками кровопролитных боев. Не они ли передают героический дух той поры современным молодым людям! Героика милиционеру нужна так же, как и солдату. Встречи с людьми подвига окрыляют и обогащают человека. А однажды кто-то из милиционеров смущенно спросил: — Товарищ лейтенант, а почему бы вам не рассказать о своем подвиге? — И правда, товарищ лейтенант, — поддержали другие. — О других рассказываете, о себе — никогда. — Трудно о себе говорить, — отшутился Барсков, но все же пообещал в ближайшее время поговорить о мужестве. И такой разговор состоялся. Был он очень интересным. Никто не остался равнодушным. Выступали и задавали вопросы буквально все. — Наш противник, — говорит Барсков, — порой коварен и силен. У нас нет другой задачи, кроме как победить. А победить его можно только силой, нравственной и физической. — Откуда силы взялись у вас, когда вы вышли навстречу выстрелу? — задали вопрос. Задумался Владимир Павлович. Как точнее ответить? Тот миг, наверное, концентрация всей его жизни… Родился Владимир Барсков в 1954 году в подмосковном селе Короптееве. Здесь окончил среднюю школу. Пошел работать токарем на соседний Коломенский тепловозостроительный завод. А через год — армия. Пограничная служба придала его характеру какую-то особую строгость и очерченность. Владимир ненавидел трусость и незанятость ума, стремление к легкой жизни. Это очищающее чувство и привело его на работу в милицию. Свою службу он рассматривал как воспитательную, как возможность бороться со злом за все лучшее в человеке. В 1975 году старший сержант милиции Владимир Барсков вместе со своим опытным наставником старшиной милиции Алексеем Алевохиным вышел на патрулирование. Впоследствии Барсков о нем отзовется так: «Это вдохновенный человек, как бывают вдохновенные музыканты и поэты: служба для него есть творчество и творение его — результаты труда». Алевохин был уверен, что к любому человеку можно найти подход. Он никогда не торопился вести задержанных в милицию. Гораздо чаще отпускал их домой, болел за их судьбу. Его доброта поражала активностью и постоянством. Алевохин, видя старание Барскова, сделал из него настоящего милиционера, научил главному — ни при каких обстоятельствах не отступать и не теряться, требовать от людей, но и понимать их. И как командир сам понимал душу милиционера, суров бывал, но умел и прощать, знал, что милицейская служба нелегкая. И еще понимал, что хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого положения найдет выход. В службе Барсков неукоснительно придерживается этого принципа. — Что вы чувствовали в момент схватки? — Трудно сказать однозначно. Слишком горяча обстановка. Но вот теперь, по прошествии времени, знаю: в момент схватки испытываются все нравственные силы милиционера. В схватке нужны и смелость, и умение справиться с противником. Вот поэтому-то мы постоянно твердим о том, что милиционер должен готовить себя к трудностям, формировать стойкий характер. В ответ вы нередко говорите: когда потребуется, не подведем. Это, конечно, хорошо, но должен заметить, что, если человек не приучен преодолевать трудности, если у него слабая воля, если он не привык трудиться, ему будет сложно выполнять даже повседневные поручения. — Были ли у вас мечты о подвиге? И когда они зародились? — Я с упоением читал книги «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Полевого. Их героев я как живых видел перед собой. Мечтал быть с ними, быть похожим на них. С тех пор прошло много лет, а герои этих книг продолжают волновать меня и сегодня… Владимир Павлович убрал бумаги в сейф: настало время проверки нарядов. В дверь постучали. На пороге появился сержант. Вид расстроенный, фуражка надвинута на глаза. — Вот рапорт об увольнении, — сказал он. — Дело такое… понимаете… семейное. Объяснять не буду. — Не хочешь, не объясняй. Только скажи: ничего не произойдет, если я побываю у тебя дома, поговорю с женой? Барсков не случайно позволил себе такое в беседе с подчиненным. Он убежден, что далеко не каждый согласится, чтобы кто-то побывал у него дома. — Владимир Павлович, приходите! — взмолился сержант. — Убедите ее. Заладила одно: увольняйся, да и только. Ну скажите ей — люблю я свое дело. — Буду послезавтра. Сержант вышел. «Он хочет служить, она — ни в какую, — подумал Барсков. — Слабо с семьями работаем! Вот еще одна трудность. Немало и других. Например, мы не можем не спросить с себя: почему сейчас, располагая богатыми возможностями, не всегда достигаем тех целей, которые сами намечаем? Почему существуют недисциплинированность, недобросовестность, бытовые неурядицы?» Одеваясь, Барсков продолжал размышлять: «Видимо, еще слабо мы используем средства индивидуального воспитания. Сколько раз бывало: бьемся, бьемся над каким-нибудь вопросом, приводим в движение большие силы, а потом поговоришь с людьми по душам — и все разрешается в пять минут. Есть в педагогической литературе мысль: для полного душевного комфорта человеку нужны постоянная забота и поддержка. Милиционеру они тоже совершенно необходимы. Может быть, он мучается от недостатка чуткости к себе. Все мы знаем, как важен своевременный откровенный разговор, как необходимо ободряющее слово. Даже теплое рукопожатие начальника не проходит бесследно. Внимание к человеку, разумеется, не отменяет требовательности, суровой и справедливой. Да и доброта доброте рознь. Хотя все мы ратуем за нее, но как трудно быть по-настоящему добрым! Как трудно жить интересами других, словно своими!..» С такими мыслями отправился старший лейтенант Барсков проверить несение службы подчиненными. Этот контроль — важнейшая часть его работы. Милиционеры одни на посту. Так ли идет служба? Нет ли каких осложнений? Действуют ли они инициативно и правильно? Не нуждаются ли в помощи? Как на местах складывается оперативная обстановка? Стоял март. Огромный Калининский проспект был залит солнцем. Дыхание весны чувствовалось всюду. Десять лет Барсков ходит по одному и тому же маршруту — до 1980 года нес службу на всех постах. И когда после завершения заочного обучения в Московской специальной средней школе милиции МВД СССР он пришел на работу в аппарат Киевского РУВД, то через год с небольшим снова попросился в подразделение, где много лет служил рядовым милиционером. Владимир не боялся новой должности заместителя командира, но одно дело — выходить на дежурство, другое — организовать коллектив, отвечать за него, воспитывать тех, с кем вчера был на равных. Барскова приняли сразу. Человек он известный. Тяготы милицейской жизни испытал сполна. Конечно, кое-кому не понравилась установка Владимира: дружба дружбой, а служба службой. Не всем по душе требовательность, но без нее — ни дисциплины, ни настоящей работы. А служба такая, что и ночью поднимают, и выходные откладывают, а то и вовсе приходится пропускать их. Такой ритм не для каждого. Барсков привык, втянулся. И когда проверяет наряды, у него нередко возникает то прежнее чувство, которое сформировалось за многолет службы постовым. Маршрут у Владимира выверен до минуты. Он знает, с кем из милиционеров и сколько времени надо провести. Кому-то надо что-то разъяснить, а кому-то показать, как действовать. Барсков подошел к посту Владимира Щепинова. — Товарищ старший лейтенант, — докладывал сержант, — за время несения службы обнаружен и задержан нарушитель паспортного режима. Барскову нравился этот милиционер, расторопный, обходительный и глазастый, — многое замечает, принимает самостоятельные решения. Старший лейтенант передал нужные для милиционера сведения и откозырял: — Продолжайте несение службы. — Есть. Отношения с подчиненными у Барскова сложились хорошие. Милиционеры видят в нем не только требовательного командира, но и надежного товарища, не раз доказывавшего на деле, что значит быть настоящим сотрудником милиции. Личный пример, как много он значит! Назвать Владимира очень опытным командиром было бы необъективно. Он учит других, но и сам учится — заканчивает Московский филиал заочного юридического обучения при Академии Министерства внутренних дел СССР. Владимир Павлович проследовал дальше, к ювелирному магазину «Малахитовая шкатулка». Здесь тоже милицейский пост. Младший сержант милиции Александр Рыжиков отрапортовал: — За время несения дежурства происшествий нет. Поздоровались. Вместе обошли уголки торговых залов на первом и втором этажах. Покупатели, находившиеся здесь, оказались случайными свидетелями того, как продавцы необычайно тепло приветствовали Барскова. — Здравствуйте, Владимир Павлович, — пожимали ему руку, — спасибо за заботу. Как ваши дела? И с таким же вниманием провожали. Рыжиков находился рядом и был горд за своего начальника: «Малахитовая шкатулка» — героическая страница в биографии коммуниста Владимира Барскова. Случилось это 13 ноября 1979 года. Старший сержант милиции Владимир Барсков прибыл на службу, как всегда, раньше намеченного времени. Хотелось поговорить с ребятами. Как-никак четыре года вместе. Не увидишься день-два — скучаешь. Обмолвишься словом — словно зарядку сделаешь, а пошутить хочется — все молодые. У некоторых, как и у него, семьи только-только сложились. А учеба? Сколько ребят вместе с ним учатся в Московской специальной средней школе милиции! В дверях показался инспектор Киевского РУВД Николай Люкин: — Забежал по дороге, чтобы спросить: контрольную сделал? — Собираюсь. Николай учился вместе с Владимиром на одном курсе. — Может, объединим усилия? Встретимся вечерком — и сделаем? Времени в обрез, чего тянуть? Договорились? — Согласен. Николай так же быстро исчез, как и появился. Владимир присоединился к группе ребят в углу дежурной части. Шел оживленный разговор. — Представляете, — рассказывал один, — мороз, ветер. Чувствую — зябну. Зашел в гастроном «Новоарбатский». Думаю: погреюсь. И надо же, вижу: какой-то мужичок пристроился к женщине. Расстегнул сумочку, достает кошелек. Я его за руку… Так и не согрелся, пришлось снова идти на улицу, вести вора в отделение. — А у меня все наоборот, — говорил другой. — Погрелся у батареи ресторана «Арбат». Открываю стеклянную дверь. Вижу — стоит парень. Пригляделся. По приметам, разыскиваемый. Зашел сзади, спрашиваю: «Вам куда?» Он: «Мне не туда». Я: «Нет, туда». Он — в сторону. Успел все же поймать его за воротник… Только спустя годы Барсков понял, что эта тяга милиционеров друг к другу была не просто желанием поболтать, она представляла собой своеобразную репетицию перед заступлением на службу. Она как бы разминала, разогревала и, конечно, настраивала их на нужный лад. Инспектор-дежурный подозвал Барскова: — Принимай оружие. Владимир протянул руку. Щелкнул затвором. Зарядил. Вспомнились слова старшины Алевохина: «Оружие держи наготове. Работаем, как на передовой. Свою и чужую жизнь охраняем. Но делай все, чтобы оно только лежало, как бутафорская игрушка». До сегодняшнего дня так и было. Пистолет плотно лег в кобуру. Оружие не наступательное, оно оборонительное. Так, на всякий случай. Инспектор-дежурный пододвинул сводку происшествий: мол, ознакомься, запиши приметы подозрительных лиц. Ориентировки были малоинтересными. Вряд ли кто из преступников, перечисленных в ориентировке, осмелится появиться в «Малахитовой шкатулке», да и на проспекте Калинина тоже. Впрочем, это теоретически, а практически всякое бывает. И за примером далеко ходить не надо. В прошлом году Барсков по приметам задержал здесь опасного рецидивиста. Получив инструктаж, Владимир заторопился на свой пост в «Малахитовую шкатулку». Несение службы в магазине ему казалось скучноватым после проспекта Калинина. Там как в кино: огромная панорама, калейдоскоп лиц, ежеминутный контакт с движущейся массой людей. Все это держит в напряжении, служба становится содержательной. Конечно, магазин не пустует, и в нем народ, но размах не тот, что на улице. Барсков привык к простору, однако посты не выбирают, на них назначают. Начальник отделения капитан милиции А. Светлов постоянно напоминал: «Малахитовой шкатулке» — полную безопасность. Там много ценностей… Охрану должны обеспечивать наши лучшие милиционеры». Среди них был и старший сержант милиции Владимир Барсков. Недавно он получил почетное звание «Лучший по профессии». Заместитель начальника отделения по политчасти капитан милиции И. Гладкий назвал Владимира надежным и крепким. Барсков никогда не ворчит на тяготы службы, не сетует на загруженность. Всегда откликается на просьбы руководства, товарищей, помогает как может и чем может. Назначение на охрану «Малахитовой шкатулки» считалось признаком высокого доверия. Это Владимир знал и, несмотря на ограничение в «масштабности», был в готовности номер один. На пост он всегда ходил пешком. Слегка морозило. Проспект Калинина, как всегда, жил своей жизнью. Стихла предпраздничная и праздничная суета. Обычное утро предвещало обычный, не отличающийся от других день. Сняв шинель, Барсков спустился на первый этаж. Покупатели входили и выходили. Одни пристально и подолгу рассматривали на прилавках украшения, другие, скользнув глазами по витринам, поворачивали обратно, третьи заходили в зал неоднократно и каждый раз с новыми людьми, видимо, основательно присматривались к покупке. Владимир, разглядывая лица, видел в них доброжелательных покупателей и никак не хотел даже предполагать, что кто-то зашел сюда с дурными намерениями. Задерживал он тут иногда мелких спекулянтов, но это не в счет. Серьезных правонарушений не было. Однако служба есть служба, и надо ухо держать востро. Барсков поднялся на второй этаж. Остановился у колонны. И вдруг подал голос «ревун». Барсков метнулся к кассе… Тревога оказалась ложной. Кассир случайно нажала кнопку сигнализации. В полдень заглянул проверяющий старший лейтенант милиции В. Каныгин. — Как служба? — поинтересовался он. — Все в порядке, товарищ старший лейтенант, — ответил Барсков. Прошлись вдоль прилавков. Осмотрели двери, окна. В течение дня Барсков по раз и навсегда заведенному порядку курсировал с этажа на этаж. Постоит в зале, стараясь не привлекать внимания покупателей. Глаз наметанный: вдруг появится карманник. Стало темнеть. Вспыхнули за окном уличные фонари. Барсков взглянул на часы — ровно шесть. «Через два часа встреча с Люкиным…» Мысль оборвалась: снова ожил «ревун» и тут же затих. Владимир побежал к лестнице. За ним — двое. — Оставаться на месте! — приказал Барсков. И рванулся на второй этаж. Поразила щемящая тишина. Люди — как манекены, не двигались. Глянул на стеклянный аквариум кассы. Анна Кострикова сидела как-то неестественно, откинувшись назад, бледная как полотно. Рядом стоял мужчина в темных очках. Левой рукой он шарил в кассе, в правой — сжимал пистолет. Барсков машинально достал оружие. Первая мысль — стрелять. И уже было прицелился. Грабитель изменил положение — прицел пришелся на кассира. Палец на спусковом крючке расслабился. Метнуться в сторону и попробовать со стороны? Но тогда под огонь попадут покупатели. Выход один — идти напрямую. До кассы метров десять. Это много. Успеет выстрелить. А если зигзагом? Противник оглянулся. Барсков бросился к колонне. Выстрел… Мимо. Грабитель рядом. Снова наводит ствол… Рывок, удар по вытянутой руке. Пистолет падает, из него вырывается сноп огня… Барсков проводит прием самбо — противник на полу. Повержен и прижат… Через несколько минут подоспели сотрудники милиции, вызванные по тревоге. Когда Владимир поднялся, то ощутил дрожь во всем теле. Столько напряжения сил в одно мгновение! Кто-то участливо подставил стул. Барсков сел, чтобы успокоиться. Расстегивая китель, пальцы нащупали рваные края ткани: задела пуля… Что такое героизм? Это до конца исполненный долг и даже чуть-чуть сверх того. Вот и Анна Кострикова. Она увидела перед собой черный зрачок пистолета, потом услышала жуткое: «Деньги!» Грабитель был страшен. И выполни Анна его требование, ее никто бы не осудил. Слишком опасная ситуация. Но, движимая чувством долга, она решительно захлопнула денежный ящик и подала сигнал. «Ревун» ожил, но тут же стих. Преступник смертельно ранил Анну. Промедли Барсков хоть минуту, прояви суетливость, и противник мог бы уйти. Вот это и есть исполнение служебного долга до конца. А чуть-чуть сверх того… Владимир мог бы выстрелить первым, свести риск лично для себя до минимума. Но он думал прежде всего о долге, о людях и вызвал огонь на себя. …В просторной комнате выстроилась шеренга милиционеров. — Приказываю заступить на охрану общественного порядка! — звучит командирский голос кавалера ордена Красной Звезды старшего лейтенанта милиции Владимира Барскова. Заступить на охрану общественного порядка… Невольно приходит на память сравнение с приказом, который звучит на пограничных заставах: «Заступить на охрану Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик…» В этом есть нечто глубоко символичное, ибо милиционер, несущий службу по охране общественного порядка, тоже бережет границу — незримую границу, которую нельзя мерить километрами, потому что она проходит через души и судьбы людей.ЖИЗНЬ МОЯ — УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК
— Владимир Михайлович, расскажите о себе! Расторгуев опустил седеющую голову, сжал влажные губы и потеребил горбинку носа: — Да что рассказывать, вся моя жизнь — уголовный розыск. Двадцать три года. …В половине первого ночи дежурный Химкинского ГОВД набрал домашний телефон Расторгуева: — Товарищ майор, срочно в горотдел! Происшествие. Вас уже ждут… В жизни работника уголовного розыска ночной вызов — обыденность. Поводы, конечно, бывают разные, но тот, январский, удивил даже такого бывалого розыскника, как Расторгуев. Одеваясь, он прикинул, из кого сформирует оперативную группу. Проснулась Александра Ильинична, жена. Все чувствует, знает, видит… Девять лет живут вместе, а никак не может привыкнуть. Он уходит, а у нее пульс учащается. Пробовал Владимир доказать, что напрасно ее беспокойство, ничего с ним не случится. Но она продолжала волноваться, хотя сердцем понимала — служба такая. Подняли ночью — значит надолго. У работников уголовного розыска и рабочий день без границ, и субботы, воскресенья — будни. Бывает, приходится идти на вооруженного преступника, а тот не церемонится, иногда стреляет в упор. А сам поиск преступника?.. Владимир молча погладил волосы жены: мол, не тревожься, не впервые так. Подошел к постели первоклассницы Лены, поправил сбившееся одеяло. «Извини, видимо, и на этот раз не удастся попасть на птичий рынок, но не волнуйся, попугайчики у тебя все равно будут». Захныкала во сне двухлетняя Наташка. Отец — к ней, повернул на спину: «Спи, спи, моя крошка». И шепотом жене: — Ну я пошел. — Счастливо. Серп месяца висел над головой. От деревьев, подернутых инеем, отходили длинные тени. Стоял крепкий мороз. Ноги сразу стали стынуть. «Без валенок не обойтись». Поднятые по тревоге, в горотдел прибыли оперуполномоченные уголовного розыска Иван Макеев и Михаил Баранов — подчиненные Расторгуева, милиционеры старший сержант Владимир Елисеев и сержант Юрий Ермолаев. Спешно явился в горотдел для координации оперативных групп и представитель ГУВД Мособлисполкома. Увидев Расторгуева, входившего в дежурную часть, он поднялся навстречу. Поздоровались. — Владимир Михайлович, пройдемте в ваш кабинет, — распорядился подполковник. Не раздеваясь, присели. — Немедленно готовьте группу. Вам, вероятно, предстоит «принять» на себя трех вооруженных преступников. Полчаса назад их обнаружили близ Дмитровского шоссе, на подходе к Москве. Есть предположение, что они пробиваются на вашу территорию, в поселок Фирсановка. Путь их уточняется соответствующими подразделениями. Проведите инструктаж с группой. И немедленно выезжайте. Месяц назад, ночью, два преступника, вооруженных ножами, напали на инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ, стоявшего на посту, и завладели пистолетами. Получив известие о разбойном нападении, руководство ГУВД привело в движение весь розыскной аппарат для задержания бандитов. Запущенный на полный ход механизм розыска набирал обороты. Интенсивно изучалось поведение тех, кто мог бы пойти на подобное преступление. Разобраться в огромном и бурном потоке информации было не так просто. Требовались уточнения, перепроверки, запросы. Разрозненные крупицы сведений, собранные воедино, дали верное направление к поиску преступников. Личный состав подразделений милиции нес службу по усиленному варианту. Просочиться через столь плотное кольцо злоумышленникам было практически невозможно. Однако и уверенности в скором завершении предпринятой операции не было. Бандиты «легли на дно», скрывались в лесу. Их искали. Они знали и чувствовали это: капкан вот-вот захлопнется. И морозной ночью решили прорываться к Москве, чтобы здесь затеряться в многолюдье, а потом, переждав, скрыться от уголовного преследования. В полночь преступники выползли из стога сена, переоделись в награбленное, чтобы выглядеть получше. Затем гуськом потянулись к шоссе, вслушиваясь в окрестную тишину. Ступили на дорогу. Огляделись. Неподалеку в гордом одиночестве светился пост ГАИ. У мотоцикла, переминаясь с ноги на ногу, стоял инспектор, молодой лейтенант. — Братва, к несчастью, красный околышек стоит, — сказал один. — Возьмем? — предложил другой. — И ствол будет, и колеса сгодятся. — Угу, — промычал третий. — Пистолет во как нужен. Припадая к земле, «лесные братья» сделали крюк, чтобы выйти в тыл инспектору. Лейтенант, памятуя о погибшем товарище, был бдителен и чуток. Услышав за спиной хруст снега, он повернулся: — Стой! Кто идет? Тишина. Затаились; Инспектор напряг зрение: вроде бы черные тени на снегу. — Кто там? Выходи на свет! — потребовал лейтенант. И присел у мотоцикла. В ответ грохнул выстрел. Пуля свистнула над головой. Инспектор, сбросив рукавицу, выхватил пистолет и нажал спусковой крючок. Испугавшись огня, нападавшие рванулись к лесу. Лейтенант, нащупав кнопку микрофона, сообщил о нападении дежурному, который тотчас поднял поисковые группы. Выстрел в сотрудника милиции — особо опасное преступление, и, если не принять экстренных мер, неизбежны более тяжкие последствия. Когда представитель ГУВД закончил говорить, Расторгуев кивнул: — Задача ясна, приступаем к выполнению. Ночь обещала быть жаркой. И майор пригласил в свой кабинет собравшихся сотрудников. — Итак, нас пятеро, но это должен быть единый кулак, — он сжал ладонь. — Внимание, сплоченность и наблюдательность — вот что от нас требуется. Железная дисциплина, никакой самостоятельности. Случайная неосторожность — и все рухнет. Расторгуев пояснил каждому члену группы его функции: где стоять, как держаться, как подавать знаки, что делать на случай осложнений. Расторгуев не только говорил, но и показывал, уточнял, детализировал. Он, казалось, вкладывал в каждого человека все, что имел, весь личный опыт. Иначе нельзя. Преступник жесток и коварен. Для него нет ни правил, ни исключений. Расторгуев хотя и был горяч, но не горячился, говорил и показывал хладнокровно, его понимали, с ним соглашались. Облачились во все теплое. С виду рыбаки, и только. Проверили оружие. На трескучий мороз высыпали дружно. Сели в машину. Просто, буднично. В кино это была бы стремительная гонка: преступник — милиция, милиция — преступник. В жизни — приземленнее и страшнее. Просидеть часы на морозе в засаде, не двигаясь, — много ли в этом романтики? Прибыли на станцию Фирсановка. Разошлись по «точкам», став таким образом, чтобы никто ничего не заподозрил, а сами они должны видеть и слышать все. Было тихо. Поселок спал. И только платформа, как освещенная сцена театра, время от времени обращала на себя внимание. Электрички не ходили. Лишь изредка, рассекая морозный воздух и увлекая за собой снежный туман, проносились товарные и пассажирские поезда, которые сглаживали напряженность ожидания. Никто из сотрудников милиции не знал, сколько придется стоять. Преступники скорее всего появятся под покровом ночи. Или не придут вовсе. Днем вряд ли. Милиция и дружинники начеку. Кто же отведет угрозу, как не они! Задержать и обезвредить — такова их служба. Об этом помнит сейчас каждый член оперативной группы. Выстоят — победят. Должны, обязаны. Потому что служат не по принуждению, а по долгу, по велению сердца. Никто никого за руку на службу в милицию не тянул. Захотели сами, будучи уже зрелыми и самостоятельными. За плечами Владимира Расторгуева были десятилетка, армия и… два курса МВТУ имени Н. Э. Баумана. До самозабвения любил он радиотехнику, точную механику. Пришло это в армии, когда служил в войсках ПВО. Возможности для освоения техники были большие. Увлекся солдат. Самостоятельно изготовлял нужные для службы поделки. Дальше — больше. Появились и чувство ответственности, коллективизма, выдержка. Физически закалился. Приобрел и житейские навыки — умел стирать, латать, готовить пищу, мастерить… Служба не раз проверяла его на выносливость. Совсем другим человеком уволился в запас. Устроился электромехаником на Московскую железную дорогу. Начальники не могли нарадоваться: повезло — такой парень! Трудолюбив, технику знает, ремонтирует. Готовится в вуз. Через год Владимир стал студентом Московского высшего технического училища. Учился хорошо, выполнял общественные поручения. Студент как студент. Все при нем. На втором курсе вступил в оперативный комсомольский отряд дружинников. И столкнулся с другой жизнью. Фарцовщики, пьяницы, хулиганы, воры, бездельники. Люди словно из другого мира. Не много их, но они мешают жить. Если не пресечь, расползутся, как муравьи. И однажды вдруг понял: это его дело. Не побывает на дежурстве — на сердце камень. А что, если… Но поймут ли? Не сочтут за ненормального? Здравый смысл подсказывал: закончи учебу и тогда решай, определяйся. Не хочешь быть инженером, пожалуйста, иди в милицию, там нужны люди с образованием. В этом есть логика. Уйти сейчас — безрассудно. А желание росло, оттесняло здравый смысл, толкало к практическим шагам. Поговорил с Костей, товарищем по оперотряду: — Понимаешь, захватило и не отпускает. И с техникой я вроде бы накоротке, люблю ее, но тут совсем другое ощущение. И хочется уже не помогать, а участвовать, в полную силу. — Знаешь, Володя, у меня то же самое… Может быть, это действительно, как ты сказал, заскок? — Да нет, — вздохнул Владимир, — что-то большее. А что? Не знаю. Сдав летнюю сессию, Расторгуев заторопился на улицу Белинского, в областное управление милиции. Инспектор по кадрам хотя и счел доводы Владимира убедительными, все же с сомнением отнесся к предложению служить в милиции. Сказал: зайдите через неделю. Подумал, наверное: пусть остынет. Не понял инспектор молодого человека. Да и как понять: из самого МВТУ. Расторгуев был настойчив, и на третий заход инспектор сдался, однако в школу милиции не направил, как просил Владимир. Кадровик был калач тертый, поэтому решил иначе. — Давайте-ка, товарищ Расторгуев, поступим так, — сказал он, — походите в милиционерах, проверьте себя на профпригодность. Не исчезнет желание — дорога в офицерский корпус, считайте, открыта. Не получится — никто не в обиде. — Согласен, — ответил Владимир. Вот такой крутой поворот произошел однажды в жизни Расторгуева. У остальных членов оперативной группы за плечами школа, армия, производство, словом, люди с жизненным опытом. Взять измором их непросто. …Уже рассвет обозначился, а «гости» не шли. По рации Расторгуев получил сообщение: на след преступников напасть не удалось. Местонахождение их уточняется. Задача остается прежней. Начальник отделения уголовного розыска Расторгуев, как опытный розыскник, отлично понимал, что если преступники пробиваются в поселок, значит, здесь у них «гнездо». А раз так, то деваться им некуда. Придут, обязательно придут. А пока терпение, бдительность и еще раз бдительность. Члены оперативной группы стоят надежно. Варианты захвата разработаны. Все, конечно, не предусмотришь, намерения противника могут измениться, но надо быть готовым к ним. Расторгуев еще и еще раз «прокручивал» в голове возможные моменты задержания: в поезде, на платформе, на открытой местности, в доме. Оплошность недопустима. Преступник сам не дается в руки. Он ожесточенно обороняется или нападает. Идет дерзко, напролом. В этом его преимущество, этим он иногда берет верх и скрывается. Работники милиции напрочь лишены подобного. Их действия строго регламентированы, основаны только на законе. Они не вправе подвергать опасности окружающих, допускать, чтобы пострадал случайный человек. Часто складывается ситуация, когда есть все основания применить оружие или специальные приемы самбо. Но воспользоваться ими сотрудники милиции не решаются — рядом люди. Что значит открыть огонь на многолюдной улице, в электричке или магазине? Неминуемы жертвы. Не только допустить, но и представить это невозможно! Какой же выход? Он есть. Дерзости преступников работники милиции противопоставляют профессиональное мастерство, ловкость, тактику, служебную хитрость, то есть весь арсенал средств, позволяющий обезопасить себя и других и в то же время выйти из поединка победителем. Расторгуев, взвесив все «за» и «против», остановился на плане задержания бандитов на открытой местности. Как это примерно произойдет? Три сотрудника милиции пройдут вперед, остальные останутся позади. В подходящем месте первые останавливаются, вторые подтягиваются: преступники — в кольце. В других случаях — только наблюдение до наступления решающего момента. Расторгуев сверял план с местностью, которую знал отлично, потому что службу начинал здесь: первый милицейский порох нюхал в этих краях. Майору вспомнился старший сержант Иван Михайлович Кононов — опытный милиционер, который принял под свою опеку молодого сотрудника и учил его милицейским азам. Смекалистый мужик! Такого на мякине не проведешь. Все видит, слышит, знает. Все предусмотрит и распланирует: где пройти, где остановиться, с кем поговорить, на что обратить внимание, где отдохнуть, когда, пообедать. Силы-то надо распределить так, чтобы их хватило до конца смены. Давно это было, но его советы помнятся. От жизни, от практики шел человек, поэтому рекомендации его точны и выверены, а значит, не стареют, остаются надолго. В первые дни дежурство несли в поселке Сходня. Кононов давал уроки по ходу маршрута. — Учитель я плохой, — говорил он, — к тому же ты студент, а мое образование — семь классов, восьмой — коридор. Смотри: чтобы проскочить дворами на ту улицу, лазейка здесь. Тебя учить — только портить. Ты — высшая математика, я — на пальцах считаю. Видел, по той стороне девушка прошла? Любо поглядеть. Спуталась с Ванькой Макаровым — хулиганом и заводилой. Недавно год условно получил. Не одумается — пропадет. Он и она. Здесь вот живет один дебошир. Мужик тихий, вежливый, всегда за руку здоровается. Это когда трезвый. Выпьет — семья бежит из дому. Сам же на улицу не выходит. Боится. На этой скамеечке можно и присесть. Не простая скамеечка. Отсюда многое видно. Кто вышел из магазина? Куда направился? Кто на самосвале за водкой приехал? Вечером этот человек сюрприз нам может преподнести. Вон там, в лощинке сейчас никого нет, а к концу дня выпивохи затабунятся. На машине можно проскочить с той стороны. Сам-то на какую службу метишь? — В уголовный розыск. — Понятно. Молодость ищет острых ощущений. Для начала неплохо. — Что? — С рядового взял старт. В сыскном деле через ступеньки прыгать нельзя. Можно споткнуться. Кто такой постовой? Целый райотдел. Ты же на охране общественного порядка. Ты же инспектор ГАИ, следователь, оперуполномоченный уголовного розыска и БХСС… Перечислять — пальцев не хватит. Ладно. Посидели, пошли. В этом доме живет дружинник Семенов, в том — председатель товарищеского суда Меркулов. — Зачем они нам? — Наш актив. Нужна помощь — к ним. Их в лицо надо знать. Без помощников мы как без рук. В проходной вот этого предприятия, что за забором, дежурит пенсионер Варгасов, бывший милиционер. У него есть телефон… Навстречу женщина, улыбается: — Здравствуйте, Иван Михайлович! — Здравствуйте, Зинаида Семеновна! — Несу замки, менять будем. — Пора, пора… Когда женщина скрылась за углом, Кононов пояснил: — Заведующая продмагом… Сделал ей как-то замечание: замки на входной двери еще царь Горох вешал, любой ключ подходит. Прислушалась, молодец. День за днем учил Кононов милицейскому мастерству молодого Расторгуева. Теперь Владимир понял: оперативный отряд — это одно, а милиция — другое: реагируй, принимай решение, отстаивай закон, интересы граждан. Нелегко! Как-то даже поплакался на трудности Ивану Михайловичу. — Не бойся их, — успокаивал Кононов, — милиционера они только закаляют. Постовой и должен трудиться с напряжением. Возьми спортсмена. Если он не будет тренироваться, то сможет ли держать форму? Нет, как пить дать! Так и у нас. Расслабишься — отстанешь. Но с другой стороны, проявишь поспешность — надорвешься. Вот и выбирай золотую середину. «Опять мудрит Михалыч, — размышлял Владимир, — это нельзя, то не положено». Однако прислушивался к речам старого милиционера, не допускал душевной и физической слабости, готовился к испытаниям. И они не заставили долго ждать. Однажды Кононов заболел. На дежурство не явился. — Службу, Расторгуев, будешь нести самостоятельно, — приказал начальник. В поселок Фирсановка Владимир отправился один. И поступал так, как учил Кононов. Ни больше, ни меньше. На удивление, все шло хорошо. Вечером — никаких осложнений. На рассвете, перед концом смены, вновь отправился по маршруту. Остановился у забора магазина. Не ослышался ли? Шорох во дворе. Прильнул к щели и обомлел: двое мужчин связывали вещи в узлы. Что делать? Вот, Михалыч, где нужен твой совет. Крикнуть? Разбегутся. Подкрасться? Услышат. Ринуться в открытую? Вдруг вооружены? Что же делать?.. И задерживать одному тяжело, и не задерживать нельзя. Решай, Владимир, решай! Вот она, минута проверки готовности. Одним махом Расторгуев забрался на забор. — Стой! Стрелять буду! — что было силы крикнул он. Воры, увидев милиционера, побросали узлы и в страхе метнулись в проем забора, а потом побежали в разные стороны: один — к станции, другой — к лесу. За кем бежать? Растерялся Расторгуев, но и обрадовался: с одним-то легче управиться. И как-то само собой получилось, что последовал за тем, который бежал к лесу. На ходу понял: поступил правильно, потому что место открытое, бежать легче. Вора настиг у самых деревьев. Задержал. Теперь — как доставить в дежурную часть? Задержанный вырывается, кричит. Откуда ни возьмись прибежали рыбаки. Помогли. И не только помогли задержанного доставить в поселок, но и сообщили о случившемся дежурному, взяли магазин под свою бдительную охрану. «Какие молодцы! — восторгался Владимир. — Прав Михалыч: без помощи населения мы как без воздуха». После «боевого крещения» Расторгуев окончательно убедился: как много нужно знать и уметь милиционеру! Опять к Кононову: — Ну, Иван Михайлович, теперь от вас ни на шаг. Буду прилежным, как первоклассник! — Опоздал, Владимир, опоздал, — заторопился ветеран, — вызов пришел, на учебу тебя посылают. Вернешься — будешь меня учить. Расторгуев не поверил, но подошел замполит и подтвердил слова Кононова, добавив: — Поедешь в школу милиции. Учился Владимир с интересом. Занятие вели опытные преподаватели — бывшие работники милиции. Среди них Н. И. Секачев, фронтовик, разведчик, был мастером своего дела. Он-то и растолковывал курсантам, как вступить в схватку с двумя и более противниками, как выследить и доставить нарушителя. Словом, на конкретных примерах показывал, что нужно делать, чтобы выйти из затруднительного положения. Через три года лейтенант милиции Владимир Расторгуев вернулся в Химкинский горотдел и был назначен оперуполномоченным уголовного розыска. Уголовный розыск… Адский труд. Каждый день задачи со многими неизвестными, а иногда и направленный в тебя финский нож. На эту работу способен далеко не каждый. Приедешь на происшествие — никаких следов. С чего начинять? С выявления точного времени совершения преступления. Определить его чрезвычайно важно. Это нужно для установления алиби у одних или отсутствия того же алиби у других. Дальше по крупицам сбор информации. На основе ее анализа — разработка версии, потом проверка. А легко ли? Не в лоб же все делать. Ищешь предлог и для встречи, и для разговора. А сколько сил уходит на сбор доказательств! А само задержание преступника чего стоит! Времени всегда не хватает. А нераскрытое преступление как гиря над головой. Первые месяцы работы сложились для Расторгуева удачно. Преступления часто раскрывал по горячим следам. Помогали, конечно, товарищи, и особенно участковый инспектор Н. И. Волков, которого в лицо знали многие, и он знал многое и многих. Кононов частенько оказывался рядом, не упуская момента предостеречь молодого оперативного работника от возможных ошибок и неверных шагов. — Соберешь данные и не суетись, не распыляйся, а то всю Московскую область объездить придется, — наставлял Иван Михайлович. — Пораскинь мозгами, отбери то, что нужно. Раскрывал Владимир преступления, старался, но испытывал при этом большое напряжение. Поиски давались нелегко. …Как-то на территории Химкинского района обнаружили труп молодого человека. На нем — лишь трусы. Кто-то из следственно-оперативной группы заметил: — Дело табак. — А раскрывать надо, — отреагировал следователь. Когда группа собралась в кабинете начальника РОВД, руководитель изложил план неотложных действий. — Главное сейчас, — подчеркнул он, — как можно быстрее установить личность убитого. Работа кропотливая, требующая терпения, настойчивости и находчивости. И думается, с этой задачей лучше других справится Расторгуев. Человек он подвижный, обстоятельный. Как, товарищ лейтенант? Владимир несколько растерялся, потому что рядом были товарищи постарше и поопытней. — Не робей, Расторгуев, — поддержал его старший оперуполномоченный старший лейтенант Иван Перепелкин. — Сейчас важно что? Информации побольше собрать о пропавших, о тех, кто ушел из дому и не вернулся, особенно в последние дни. Адресов набралось немало. Логика подсказывала: в первую очередь проверить те, что расположены в районе места происшествия. Побывать в домах, на предприятиях. Пошел на одну из квартир и сразу же понял, что попал в цель: увидел фотографию молодого человека. Он! Дальше пошло легче. И буквально через два дня раскрыл особо опасное преступление. Пришлось участвовать и в более запутанном деле, но тогда основную роль играл Иван Перепелкин, награжденный впоследствии орденом «Знак Почета». Были успехи, были и неудачи. При неудачах Расторгуев становился мрачным, неразговорчивым, на душе у него скребли кошки. В такие минуты, чтобы как-то разрядить обстановку, Кононов подтрунивал над своим питомцем: «Ну надо же, опять в цейтноте! Преступление налицо, а виновник все еще на свободе. Вот это да! Учил, учил, да, видно, не в коня корм». Вспыхивал Расторгуев, но Кононов брал его под руку и говорил: «Не горячись, остынь. Думай, голова тебе на это дана. На сегодня отцепись от того дела, найди другое. А завтра со свежими мыслями соберешься, глядишь — и работа пойдет». «Вот какой Михалыч, — успокаивался постепенно Владимир, — ничего особенного не скажет, только посочувствует, а на душе становится теплее». Так в буднях и заботах текли дни. Но однажды вызвал начальник и сказал: — Вот что, Расторгуев, подумали мы и решили направить вас с Высшую школу МВД. Время быстротечно, и надо готовить руководящую смену. Незаметно пролетели два года учебы в Высшей школе (теперь Академия МВД СССР), и Расторгуев вернулся в родной коллектив. — Ну, академик, — приветствовал выпускника Кононов, — теперь отдувайся за себя и за нас. Пока ты учился, мы делали дело за тебя. — Иван Михайлович, не подведу, если поможете. — Ну и хитер. Не будешь зазнаваться, так и быть, сделаю одолжение. По старой дружбе. Назначили Расторгуева начальником отделения уголовного розыска. — Должность у тебя тройная, — шутил Кононов, — отвечай за себя, за подчиненных, за борьбу с преступностью. Организуй, возглавляй, подавай пример, раскрывай, задерживай. Сколько глаголов-то! …Поселок освобождался ото сна. Ясней стала кромка леса. «Побродить бы среди деревьев, полюбоваться заснеженной красотой, — подумал Расторгуев, — давно не был в лесу». Нет, не подумал об этом, а только ощутил вполне понятное после бессонной нервной ночи желание перевести дух, отдохнуть… Да, это было только ощущение, а не мысль. Мысли работали совсем в другом направлении. Близилось утро. Горизонт начал светлеть. Потянулись к станции люди. Надо всматриваться в лица. Зачастили электрички — следи, кто входит, кто выходит. Минуты ответственные. У преступников один выход — в сумерках незаметно улизнуть. В светлое время страх загонит их в помещение. Вот стало совсем бело, но «желанные гости» так и не появились. Они, конечно, где-то неподалеку, Расторгуев не сомневался, понимали и остальные, но днем высунуться они, конечно, не рискнут. Тем не менее наблюдение продолжалось. Оперативную группу Расторгуева сменили для кратковременного отдыха, чтобы через несколько часов снова отправить на «вахту». День не принес желанных результатов. Вся надежда на вечер и ночь. Наступили часы пик. Электрички приходили переполненными, пассажиры спешно покидали их и так же спешно растекались в разные стороны от платформы. Как ни ждал Владимир Михайлович этого сигнала, а все же тревожно екнуло сердце, когда один из оперативных сотрудников подал знак о том, что двое мужчин, похожих на разыскиваемых, появились у первого вагона только что подошедшей электрички. До этого момента операция исчислялась часами, а теперь наступили решающие минуты. В твоем распоряжении миг, принимай решение, действуй. Трое сотрудников едва успели влететь в вагон, как захлопнулись двери. Расторгуев с другими членами оперативной группы (в помощь ему дали еще несколько сотрудников) остался на платформе. Электропоезд, просигналив, помчался в сторону Москвы, увозя преступников и оперативных работников. Чем закончится их встреча? О появлении преступников Расторгуев сообщил в дежурную часть. И тут же стал размышлять. Почему двое? Где еще один? Не разведывательный ли это выход, проба, так сказать, пути? В таком случае нужно ждать их возвращения. Впрочем, об этом ребята проинформируют. Но на всякий случай перешли на другую платформу. Заняли места. Минут через двадцать прибыла электричка. Расторгуев заметил сотрудника милиции. Он вышел первым. Почти следом появились те двое, а вот и третий, за ними — остальные оперативные работники. Предположение Расторгуева оправдывалось: все-таки проверяли, нет ли «хвоста». Идут, оглядываясь, держатся вплотную к людям, сходящим с платформы. Как было условлено, часть сотрудников прошла вперед, другая осталась позади, неотступно следуя по пятам. Сошли на тропинку, ведущую к поселку. Людей много. Как подступиться к преступникам? Вдруг начнут стрелять? Брать решили ближе к лесу, когда цепочка торопившихся людей поредеет. Темнота надвигалась быстро. Расторгуев заволновался, как бы «объекты» не растворились в ней. «Там, где тропинка расходится, и завершим операцию», — решил он. И стал подтягиваться. Но что это? Преступники рванулись к ближайшим деревьям и скрылись за ними. С криком «Стой!» по следу бросились оперативные работники. Началось преследование. Ноги по колено вязли в снегу. Первую сотню метров следы еще можно было различать, но потом они затерялись среди множества других. К тому же спустившиеся сумерки затрудняли ориентирование. И все же оперативники надеялись на благополучный исход. Преследование продолжали вслепую, разбившись на две группы. Одна направилась в сторону поселка (не исключено, что преступники, сделав крюк, пойдут туда, куда намеревались идти первоначально), другая продолжала движение в ту сторону, куда подались преступники. Договорились, что через час обе группы встретятся у платформы. По истечении времени сотрудники милиции вернулись к платформе. Утопая в снегу и вытирая рукавицей вспотевшее лицо, Расторгуев с горечью думал: «Упустили преступников. Кто спугнул? В чем ошибка? Где дал маху? Как теперь докладывать руководству? Стыдно. Считай, из рук выскользнули. И ребята устали, выложились. Молчат, хмурятся. А все ли потеряно? Да нет же! Стоит только собраться, и вперед. Как бывало не раз». — Будем искать, — приказал он. И запросил розыскную собаку. …Джек, втянув морозный воздух, ткнулся мордой в след, оставленный ботинком преступника, а потом рванулся в темноту, в глубь леса. Извилистые следы то сходились, то расходились, то направлялись к Фирсановке, то резко поворачивали к Сходне. Не следы — кружева. Джек метался из стороны в сторону. Проводник еле сдерживал его, а тот энергично рвался по следу. После двух часов мытарств стало ясно: преступники преднамеренно петляли по лесным тропинкам и наезженной скользкой лыжне, создавая впечатление, что не собираются выходить из леса, а будут мотаться по огромному кольцу — поди сыщи. Еще через час взмыленный Джек, взвизгнув, как подкошенный свалился на плотный наст. — Дальше не пойдет, — растерянно объявил сержант, снимая с руки длинный поводок, — выдохся, вызывайте другую собаку. Расторгуев, застегивая полушубок, сплюнул: — Рок какой-то, преступники словно под богом ходят. Но возьмем! И вызвал вторую собаку. Ныли ноги и позвоночник. Хотелось спать. До прибытия проводника решили подремать прямо здесь, на поваленном дереве. Над вершинами огромных сосен легонько скользила в небе бледная половинка луны, которая почти не светила, лишь слабо поблескивала среди холодных мерцающих звезд. Расторгуев смежил веки, и мысли почему-то перекинулись на родину, на Рязанщину, где он родился и жил до окончания средней школы. Может быть, эти заснеженные деревья и проложили мостик к воспоминаниям. Ведь все детство прошло в лесах. Раздался лай. Расторгуев открыл глаза: прибыл сержант с собакой… Шарик, пробежав по кольцу, резко взял в сторону Сходни и через час вывел сотрудников милиции на опушку леса, с которой открывался вид на поселок, освещенный редкими уличными фонарями. Лесная тропинка, а точнее, лыжня привела людей к ближайшим домам. Шарик, лизнув калитку, намеревался проскочить во двор. Сержант взял собаку за ошейник и отвел в сторону. Расторгуев, собрав группу в круг, шепотом произнес: — Думаю, преступники долго здесь не задержатся, а поэтому тревожить их не будем. Во-первых, ночь, во-вторых, не знаем, кто там: может, старики, дети. Не появятся к рассвету — постучимся. Брать будем так: я и Макеев — первого, Баранов и Елисеев — второго, Ермолаев с Шариком — третьего. Поднимаемся внезапно и у фонарного столба окружаем. А сейчас в укрытия. Тяжелые, низкие тучи закрыли небо. Расторгуев бросал взгляды то на окна, то на дверь, то на калитку. Усталость уже не чувствовалась, а напряжение росло. Не первый раз он вот так, лицом к лицу с противником, но вчерашняя неудача настораживала и подтягивала. Хотелось взять чисто, без выстрелов и крови. Вдруг осветилось одно окно. Сотрудники милиции изготовились. Чувство реальности обострено. Внимание предельное. Мысль работает быстро и четко. Через минуту свет погас, скрипнула дверь. Из проема вынырнули три человека. Постояли у калитки. Вышли за забор. Гуськом потянулись к фонарному столбу, чтобы пересечь дорогу и выйти к тропинке, ведущей в лес. Расторгуев почувствовал, как напрягается каждый мускул. И не было страха. Он израсходован за ночь… — Руки вверх! — крикнул майор, отрезая путь незнакомцам. Те от неожиданности оцепенели, увидев, как плотным полукольцом их теснят работники милиции. И все же побежали. А тот, что был рядом с Расторгуевым, вскинул пистолет. Ударом по руке майор опередил выстрел. Пуля прошла рядом. Пистолет упал в снег. Преступник нагнулся и выхватил нож из-за голенища сапога. Отменная реакция не подвела Расторгуева и на этот раз. Ложное движение, захват — противник на снегу… Подбежал Макеев, вместе связали нападавшего. Расторгуев поднялся, взял пистолет. Посмотрел, задержаны ли остальные. Да. Его товарищи вели упирающихся людей. Но откуда среди них женщина? — Женщину-то зачем? — спросил он Ермолаева. — Да какая же это женщина? — усмехнулся Юрий. — Самый что ни на есть мужчина, только переодетый. — Тьфу ты, вот артисты, — покачал головой Расторгуев. — Все живы, здоровы? — Живы! — раздались голоса. — Вызываю машину. Расторгуев сразу же почувствовал облегчение. И даже радость, коротенькую, всего на несколько минут. Матерые рецидивисты задержаны и обезврежены. В это раннее морозное утро их «гастролям» положен конец. Схватка длилась всего несколько минут, но вот из таких минут складывается жизнь сотрудника уголовного розыска. Сложная, неповторимая, которая выковывает характер, способный нагероизм. С тех пор прошло пять лет. Время изменило многое. Подросли дети, Лена и Наташа. И сам Владимир Михайлович в иной должности, теперь он старший оперативный уполномоченный управления уголовного розыска ГУВД Мособлисполкома, подполковник милиции. Трудится в тех стенах, откуда начинал свой путь сотрудника милиции. — Но хлопот не убывает, — улыбается Расторгуев. — Теперь специализируюсь на раскрытии квартирных краж. Трудоемкое дело: преступник действует изощренно, тонко. Краденое положит в «дипломат» и про билет на самолет не забудет. Строишь версию схватить его здесь, а он объявляется за тысячу километров от места кражи. Впрочем, это уже наши тонкости и трудности. И потом, обучаю молодежь. Служить в уголовном розыске способен не каждый. Отбор жесткий. — Какое же качество вы воспитываете у молодых работников уголовного розыска? — Какое? Быть контактным… — Вы серьезно? — А как же? Контакт — это информация. — Ну а профессионализм? Смелость? Мужество? — Это само собой. Без этого нельзя. Вот такая служба у коммуниста Владимира Михайловича Расторгуева. И она будет нужна до тех пор, пока существует зло, пока есть люди, которые не гнушаются ничем, чтобы пожить за счет других. Значит, и к встрече с ними надо быть готовым всегда. В любую минуту.ЭКИПАЖ
— Дугачев, Калачев, Бурдасов, к начальнику! — объявил инспектор-дежурный. От сияющих лаком служебных автомобилей одновременно отделились три подтянутые фигуры. Начальник 10-го отделения ГАИ Москвы В. Н. Сапилов озабоченно ходил по кабинету. В дверь постучали: — Разрешите, товарищ полковник? — Входите. Сапилов пожал руки вошедшим инспекторам. Затем сел за стол и некоторое время разглядывал лица офицеров. Когда-то они были совсем молодыми. Сапилов отлично помнил, как пятнадцать лет назад принимал на службу Калачева, Бурдасова. Пришли они стеснительными, неопытными, но с огромным желанием работать в ГАИ. Дугачев к тому времени имел уже солидный стаж. Однако начинал так же, как и большинство сотрудников отделения, — после службы в армии. Словом, все трое здесь вписали в жизненный путевой лист сложную профессию инспектора ГАИ, которая предполагает и любовь к машине, и мастерство профессионала, знающего автомобили, и организацию дорожного движения, и стремление к порядку. Служба в Госавтоинспекции чрезвычайно ответственная. Даже не очень сведущему человеку понятно, какого уровня знаний, навыков, дисциплинированности и культуры требует эта служба. А требования постоянно растут. Госавтоинспекция — орган государственного контроля, призванный обеспечить безопасность дорожного движения в стране. Но помимо этой главной задачи работники ГАИ осуществляют надзор за дорожным движением, проводят регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, организуют технические осмотры, принимают экзамены и выдают водительские удостоверения, принимают меры к правонарушителям. А малейшая ошибка, связанная с выполнением служебных задач, не проходит незамеченной. Участники дорожного движения бдительно наблюдают за их действиями. Водители и пешеходы больше всего ценят в инспекторах ГАИ справедливость, объективность, четкость и оперативность. На примере Москвы это особенно заметно. В столице много гостей, велика интенсивность движения, и каждый человек, будь то автомобилист или пешеход, стремится побывать на самых оживленных магистралях. Не всем удается быстро приспособиться к ритму столицы, не привыкли люди и к подземным переходам, пытаются бежать напрямик. А это скрип тормозов, нервы водителей, столкновение автомобилей, это фальшивая нота в жесткой уличной симфонии. Инспектор должен не только заметить, но и успеть пресечь правонарушение, указать растерявшемуся переход, в то же время не упустить из виду транспортный поток, предупредить аварийную ситуацию на проезжей части. Много приходится отвечать на вопросы справочного характера, оказывать первую медицинскую помощь водителям и пострадавшим. Однако внимательность и заботливость не имеют ничего общего с излишней мягкостью по отношению к нарушителям. Нетребовательный сотрудник ГАИ быстро лишится уважения, вызовет справедливые нарекания граждан. Даже самая строгая административно-правовая санкция, примененная в соответствии с законом, всегда будет правильно понята и получит всеобщее одобрение. Инспектор постоянно думает и над тем, как уравнять две противоречивые тенденции. С одной стороны, растет общая культура водителей, а с другой — заметно снижается профессионально-технический уровень человека за рулем. Даже среди профессионалов много молодежи с небольшим стажем работы, а некоторые автолюбители подчас умеют только нажимать на педали. И невозможно в наш век, век узкой специализации, требовать, например, от директора или врача блестящих знаний электрической или ходовой части автомобиля. И тем не менее машину надо знать, потому что из-за пустяковой поломки водитель нередко теряется, в панике на проезжей части открывает капот и багажник, заглядывает под днище, словом, совершает массу ненужных действий, а это снова скрип тормозов, снова нервы водителей, снова аварийная ситуация. За смену инспектор не менее трех-четырех раз поможет сменить плавкий предохранитель, отогнать автомобиль на обочину, чтобы никому не мешал. Многие, правда, еще стесняются обращаться к сотрудникам ГАИ и даже побаиваются: мол, их дело наказывать. Ошибаются. Работник милиции обязан внимательно выслушать человека и сделать все возможное, чтобы облегчить его участь. У большинства людей, и прежде всего молодежи, работа автоинспектора ассоциируется с опасностью и романтичностью. Это так и не так. В своей основе служба в ГАИ — суровые, напряженные будни. Правда, приходится преследовать и задерживать правонарушителей, и тогда действительно наступают мгновения, в которых раскрываются непреходящие человеческие качества — воля, мужество, отвага, самопожертвование. Резкие изменения произошли в структуре самой службы ГАИ, в условиях работы, уровне технической оснащенности. Лет двадцать назад инспектора знали лишь две формы связи — визуальную и непосредственный контакт. Нарушителю было сравнительно легче уйти от ответственности. Сегодня это исключено: рации, «зеленая волна», электронная система «Старт», вертолетная служба, первоклассные служебные автомобили при необходимости могут моментально включаться в работу. Госавтоинспекция использует новейшие достижения науки и техники, в том числе электронно-вычислительные машины. Проблемы безопасности движения изучают инженеры, социологи, медики, психологи. В условиях большого города со стороны участников дорожного движения теперь уже мало ремесла, необходимы большие знания для того, чтобы правильно оценивать и анализировать складывающуюся обстановку. Рассказывают: как-то инспектор остановил машину известного дирижера, превысившего скорость. На прощание тот сказал: «А ведь мы с вами в какой-то степени коллеги. И ваш оркестр побольше моего». Это сравнение улицы с громадным оркестром понравилось инспектору. Действительно, вереницы автомобилей, толпы пешеходов повинуются каждому взмаху его руки. А чтобы этот взмах был «целительным», инспектор должен отменно знать свое «хозяйство», причины дорожно-транспортных происшествий, наиболее уязвимые места в транспортных артериях. Как распределяются дорожно-транспортные происшествия по дням? Самый тяжелый день — пятница. Отмечены два пика аварийности — с 9 до 12 часов и с 18 до 21 часа. Четверть происшествий падает на темное время суток. В Москве есть магистрали, дающие наибольшее число аварий (в порядке убывания): МКАД, Дмитровское шоссе, Садовое кольцо, Ленинградское шоссе, Ленинградский проспект, проспект Мира. Среди наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий — превышение скорости и пренебрежение нужной дистанцией. Есть нарушения, которые приобретают все большую «популярность»: внезапный выезд из своей полосы движения, невыполнения требований знаков и светофоров. Все острее встает вопрос: кто за рулем? Инспектор ГАИ должен осмысливать и оценивать эти факты. И важно не столько безупречное знание правил дорожного движения, сколько их умелое применение на практике. В Госавтоинспекцию приходит молодежь, уже сейчас в 10-м отделении ГАИ комсомольцев в два раза больше, чем коммунистов. А это значит, что и работы у опытных инспекторов стало в два раза больше — надо передавать знания, опыт, прививать навыки. Сапилову было приятно, что сидящие перед ним люди выросли на его глазах, под его руководством. Здесь, в отделении, опираясь на опыт старших товарищей, помощь партийной, комсомольской организаций, они сформировали у себя самые ценные качества работников ГАИ: стойкость, терпение, твердость, работоспособность, мужество. И надежность. Это качество Сапилов мерил самой высокой меркой. Он считал: надежный человек никогда не подведет. Дугачев, Калачев, Бурдасов — люди такого ряда. Они справлялись с любыми заданиями. Трудно, например, давалось освоение нового вида службы — сопровождения. Ничего, выдюжили, освоили. Внешне сопровождение кажется делом легким и даже эффективным. Стремительно идет «Волга», мигает сигнальными огнями, за ней — вереница машин или автобусов. Что тут особенного? Но стоит только самому сесть за руль, и сразу чувствуешь напряжение. Видение дороги, ощущение движения автомобиля, знание особенностей маршрута, точность во времени, ответственность за безопасность на всем пути следования — вот самый приблизительный набор правил, которыми неукоснительно руководствуется инспектор, управляющий машиной сопровождения. Малейшая ошибка — и до беды один миг. А люди надеются: раз инспектор впереди, он избавит от возможных недоразумений, обо всем позаботится. Да и самому инспектору хочется показать, на какие дела способна московская автоинспекция. Полковник милиции Сапилов пригладил ладонью седые волосы и бросил взгляд на листок бумаги, лежащий перед ним. — Нам поручили, — начал он, — сопровождать колонну автомобилей, в которых будут находиться гости Москвы, Из центра города машины направятся по Ленинградскому шоссе в Клин. Ваша задача — провести колонну без задержек, с соблюдением всех мер предосторожности. Прошу к карте. Инспектора придвинулись к столу. — На оживленных перекрестках посты ГАИ вам обеспечат зеленую улицу, — продолжал Сапилов. — Все остальное — за вами. Задание ответственное, и поэтому выполнять его будете втроем, экипажем. Старший — майор Дугачев. Левую сторону обеспечивает Бурдасов, правую — Калачев. Маршрут вам знаком, но не забывайте: улица есть улица. Внимание и еще раз внимание. При осложнениях действуйте по обстановке, не подвергайте людей опасности. Полковник обратился к Дугачеву: — О готовности экипажа доложите. — Есть, товарищ полковник! — Все свободны. Пока инспектора приводят машину в состояние «боевой» готовности (дело это, поверьте, непростое, ибо машина должна находится в отличном состоянии), познакомимся с ними. Старший инспектор майор милиции Дугачев Александр Михайлович. Родился в 1930 году. В органах внутренних дел тридцать лет. Член КПСС. Женат. Двое детей. Небольшого роста. Светлолицый. Подвижный, жизнерадостный. Необыкновенно трудолюбивый. О себе рассказывает охотно и непринужденно. Работать начал рано, как только отец ушел на фронт. Летом — колхозное поле, зимой — школа. Куда взрослые, туда и дети. Так диктовала военная пора. Работали от темна до темна. Было очень трудно. А тут еще «похоронка»: в боях под Ленинградом погиб отец. И Саша стал хозяином в доме в полном смысле этого слова. Трудился сам и помогал матери растить младших братьев и сестер. А труд был недетский: пас телят, выхаживал лошадей для фронта. И чуть было не покалечился однажды. Конь, которого Саша объезжал, в первые минуты вел себя спокойно, но вдруг закапризничал, ни с того ни с сего пустился галопом. Пробежав метров пятьдесят, он замер как вкопанный, опустив голову. Саша по инерции соскочил с хребта на шею. Тряхнув гривой, конь сбросил мальчика и едва не наступил на него. Сашу охватило отчаяние, душили слезы, раздирал стыд, потому что люди, стоявшие неподалеку, все видели и, наверное, подумали: слабак, не удержался. Саша убежал домой. Клавдия Михайловна, мать, еле успокоила сына. Прогремели залпы Великой Победы. Саша окончил восемь классов и стал полноправным членом сельскохозяйственной артели в родной деревне Латово Ярославской области. С фронтовых полей возвращались воины-победители. Какие это были люди! Бескорыстные, чистые. Ни дня не отдохнув, они с таким же упорством, с каким ходили в атаку, ринулись поднимать пошатнувшийся колхоз. Фронтовики умели все — пахать, сеять, заготавливать корма, убирать хлеб, строить дома, дороги, фермы… Саша всячески старался не отставать от героев войны. И старания подростка не остались незамеченными, они принесли свои плоды. Как-то прибегает Клавдия Михайловна домой. Возбужденная, глаза сияют: — Саша, сынок, тебя разыскивают. — Кто? Зачем? — Человек приехал из района и сказал, что будут колхозников награждать. И тебя тоже. Радость-то какая! Вот отец поглядел бы! — Клавдия Михайловна фартуком вытерла набежавшую слезу. — Ну, чего смотришь? Садись на коня. Ждут, поди. Растроганный сообщением матери, Саша вскочил на коня и галопом помчался к правлению колхоза. У входа в помещение было оживленно. Колхозники с интересом рассматривали только что полученные сверкающие позолотой медали. Саша потоптался у двери, стесняясь, входить в просторную, пропахшую дымом комнату, служившую правлением колхоза. Его кто-то взял за руку и подвел к столу, накрытому красной материей. — Поздравляю тебя, Саша, с наградой, — сказал представитель райисполкома. — Молодец! Спасибо тебе за труд. И пусть награда будет не последней. Саша еще больше смутился и, ничего не сказав, побежал к выходу, чтобы остаться с медалью наедине. Отведя Кобчика на конюшню, он заторопился домой, очень хотелось показать матери дорогую награду. «Не только у мужиков есть медали, но и у меня тоже», — с гордостью размышлял по дороге Саша. — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», — прочитала вслух Клавдия Михайловна, рассматривая награду. — Хороший подарок, сынок, к твоему шестнадцатилетию. — Улыбнулась: в отца сын пошел. Через два года после этого события Александра призвали в армию, где для него, деревенского парня, было все ново и интересно. Ведь до того дальше своего района он никуда не ездил и нигде не бывал. А тут… рядом город, ребята со всех концов страны. Армейский уклад жизни поражал четкостью, ритмичностью. Он требовал от солдат трудолюбия, дисциплины и самоотдачи. Дугачеву не было необходимости приобретать их. Этот багаж он получил в колхозе, важно было правильно распорядиться им. Помогли командиры. Заметив старательность и усердие молодого солдата, рекомендовали его в школу, по окончании которой Дугачев стал помощником командира взвода, а потом и старшиной роты. Однако как ни уважал Александр свою должность, а взор его постоянно устремлялся к машинам, любил их, откровенно завидовал ребятам автомобильной роты. Часто бывал в этом подразделении и, чтобы отвести душу, просил разрешения посидеть за рулем. Дело кончилось тем, что в последний год службы старшина окончательно решил выучиться на шофера и посвятить этой профессии всю жизнь. С этим намерением Дугачев вернулся домой, на Ярославщину. На следующий же день он было собрался в центр, чтобы узнать в военкомате, где учат на шоферов. Но приехала сестра из Москвы и позвала в гости. Столица ошеломила Александра масштабностью, размахом строительства, многолюдьем. По возвращении с Красной площади ему вдруг показалось, что он не гость, а полноправный житель Москвы, частица этого многолюдья. О своих чувствах Александр рассказал родственникам. Зять встал с дивана и без вступления предложил: — Вот что, солдат, давай-ка к нам, в милицию, будешь и водителем, и той самой частицей… Подумал Александр и согласился. Так в 1953 году круто повернулась жизнь Дугачева. В 10-м отделении ГАИ молодого инспектора встретили радушно. Искусству регулирования его учили непосредственно на улице, на постах. А какие были учителя! Николай Семенович Мыриков, Владимир Николаевич Придорогин — впоследствии генерал-майоры милиции. Они учили не просто владеть жезлом, а быть хозяином перекрестков, внимательным и корректным ко всем участникам дорожного движения, непримиримым к нарушителям. Дугачев освоил мотоцикл, автомобиль, приобрел навыки регулирования дорожного движения. Руководство отделения поручало молодому инспектору нести службу на таких бойких трассах, как проспект Мира, Садовое кольцо, Самотечная площадь. Старшина сосредоточил внимание на том, чтобы безупречно выполнялись правила дорожного движения. Он активно пресекал любые попытки нарушений. А их было немало, однажды даже пришлось столкнуться с преступником. …Стояла янтарная осень. Старшина нес службу на одной из улиц Марьиной рощи. В полдень он заметил плачущую девочку лет десяти. — Почему ты плачешь? — подойдя к ней, спросил Александр. — Я пришла из школы, открыла квартиру, а в ней какой-то дядька, — всхлипывала девочка. — Взял вещи. На себя надел папины пальто и костюм. Я закричала. Он толкнул меня и убежал. — Не плачь, иди домой, — успокаивал школьницу старшина. — Скоро придет мама, а тем временем мы постараемся разыскать того дядьку. О случившемся Дугачев сообщил в отделение милиции. Через час, возвращаясь из столовой, Александр увидел мужчину, вынырнувшего из кустов. В руках он держал хозяйственную сумку. Увидев милиционера, незнакомец попятился назад. — Стой! — крикнул Дугачев. Мужчина побежал, старшина за ним. Расстояние сокращалось. Чувствуя, что от милиционера не уйти, беглец принялся срывать с себя вещи — пальто, пиджак. Дугачев ускорил бег, нагнал незнакомца и примерился, чтобы провести прием, но тот выхватил нож. Александр увернулся и ловко обезоружил нападавшего. Подбежали прохожие и помогли скрутить незнакомца, а затем доставить в дежурную часть. Там выяснили: задержанным оказался опасный рецидивист, сбежавший из мест лишения свободы и совершивший кражу в квартире девочки, которую увидел Александр. За умелые действия при задержании особо опасного преступника Александр Дугачев был поощрен руководством отделения. С этого момента старшина действовал увереннее, наступательнее. Сколько лет Дугачев нес бы службу на перекрестках, сказать трудно. Наверно, столько, сколько нужно. Во всяком случае, так считал он сам. Но вот однажды ему предложили освоить новое направление в работе — сопровождение колонн автобусов, автомобилей, машин, перевозящих крупногабаритные грузы. Что требовалось от инспектора? Отличное знание особенностей улиц города, высокая техника управления автомобилем и, конечно, чувство ответственности за порученное дело. Дугачев засомневался: непривычно. — Не робейте, поможем, — заверил Дугачева, к тому времени уже лейтенанта, старший инспектор ГАИ майор А. П. Галочкин, взявший Александра впоследствии под свою опеку. — Только развивайте смекалку, чувство владения трассой, реакцию на постоянно меняющуюся обстановку. Прошли годы. Дугачев отлично освоил новые обязанности и за образцовое выполнение заданий был награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», повышен в должности и в звании. А когда встал вопрос об обеспечении безопасности участников московской Олимпиады, Дугачева пригласили в числе первых сопровождать колонны автобусов со спортсменами. По окончании Олимпийских игр Александр Михайлович получил благодарность от Оргкомитета «Олимпиада-80». Старший инспектор капитан милиции Калачев Александр Сергеевич. Родился в 1941 году. В органах внутренних дел 16 лет. Член КПСС. Женат. Двое детей. Высокий, черноволосый, худощавый. Держится открыто. При разговоре то и дело откидывает назад спадающие на лоб волосы. Как сложилась жизнь? Да обыкновенно. В городе Иванове, где родился и вырос, окончил десять классов, техническое училище. Работал помощником мастера на ткацкой фабрике «Победа Октября». Был членом комитета комсомола этого предприятия. В армии служил в знаменитой гвардейской Таманской дивизии. Отличился. Трижды удостаивался чести участвовать в праздничных парадах на Красной площади. Армейская жизнь определила дальнейшую судьбу солдата: работать в милиции, и только в ГАИ. Там машины, дисциплина, без которых, как ему казалось, жить скучно и неинтересно. В 1967 году, после окончания учебного центра ГУВД Мосгорисполкома, Калачева направили к старшему инспектору ГАИ капитану А. С. Горшкову. Наставник изложил программу работы: — Владеть жезлом не так сложно. Куда сложнее остановить водителя, вести с ним разговор, убедить в ошибочности его действий. Нужен опыт. Со временем он придет, а пока — смотри. Калачев смотрел, вникал, подражал Горшкову. — Теперь пора на перекресток, — сказал капитан. Перекресток показался Калачеву морским берегом, на который ежеминутно то наваливались, то от него откатывались громадные волны автомобилей. Горшков виртуозно справлялся с этой стальной армадой, вращая жезлом, как игрушкой. — Нет, Александр Сергеевич, у меня так не получится, — огорчился Калачев. — Получится. Становись и работай. Калачев тренировался с жезлом, и не один день. Но это в учебном классе, а тут вот он, живой перекресток: дышит, ворчит, радуется, сердится… Калачев хотя и правильно подавал сигналы, но скованно, неуверенно. — Резче, свободней! — наставлял Горшков. — Это дисциплинирует пешеходов и водителей. И самого тоже. Горшков не только прививал навыки, но и воспитывал, часто говорил: «Будь бдительней, дисциплинированней. Дисциплина отражает уровень службы, формирует внимание, в первую очередь к человеку. А человек для нас все…» Калачев хорошо помнит: первую свою благодарность он получил исключительно за внимательное отношение к водителю. А было так. Посредине оживленной улицы остановился коричневый «Москвич». Из кабины вышел парень, поднял капот. Копался пять, десять минут. Видно, нервничал. Калачев мог попросить любого водителя посмотреть, что там, но направился к машине сам. — Что случилось? На вопрос инспектора водитель поднял голову. У него было совсем мальчишеское, растерянное лицо: — Двигатель заглох. Никак не заводится. А я тороплюсь в больницу, за мамой. Калачев осмотрел двигатель. — Тут, кажется, дело в свечах, — сказал инспектор. — Выверните их и проверьте. — Спасибо за совет, — поблагодарил молодой человек, но продолжал стоять, опустив руки. — Что же вы? — сказал инспектор. — Спешите, а не делаете. — Понимаете, — смутился юный водитель, — я не знаю как… — Вот это да! — вздохнул Калачев. — Смотрите. Инспектор взял ключ, вывернул свечи, протер их и вставил на место. Через пять минут двигатель заработал. — Как вас и благодарить, не знаю, — взволнованно сказал парень. — Научитесь быть повнимательней к машине, вот и вся благодарность. — Я постараюсь. Через неделю начальник отделения перед личным составом зачитал письмо того самого незадачливого водителя, который просил руководство ГАИ объявить Калачеву благодарность за доброжелательное отношение и помощь. Внимание и бдительность потом не раз выручали Калачева, помогали обнаруживать нарушителей. В потоке машин инспектору однажды показалось, что бежевого цвета грузовик идет рывками. Присмотрелся. Так и есть. Подал знак остановиться, но водитель не отреагировал. Калачев на мотоцикле пустился вдогонку. Поравнявшись с нарушителем, он снова приказал остановиться. Нарушитель — ноль внимания. Лейтенант понял, что тот не остановится. Обогнав грузовик, Калачев предупреждал идущие машины об опасности. Водители прижимали автомобили к обочине, уступая дорогу инспектору и грузовику, которого Калачев решил «вывести» на загородное шоссе и там перекрыть трассу тяжелыми дорожными машинами, производившими ремонтные работы. Однако нарушитель, проскочив несколько метров за мотоциклом инспектора, резко свернул на проселочную дорогу, ведущую к лесу, и с управлением не справился — с ходу врезался в кучу строительного песка. Грузовик заглох. Водитель, покинув кабину, устремился к ближайшим кустам. Калачев погасил скорость, развернулся и направил мотоцикл за беглецом. Почувствовав, что тот может уйти, крикнул: — Стой! Стрелять буду! То ли незнакомец устал, то ли разуверился в возможности убежать от своего преследователя, то ли на него подействовала угроза — он боком свалился под куст, поджал ноги и завопил: — Не стреляй! Сдаюсь! Инспектор осторожно приблизился к лежащему. Он знал таких типов: нагнешься, а тот ногами в живот или пырнет ножом. — Лицом вниз! — скомандовал лейтенант. Связывая руки нарушителю, ощутил резкий алкогольный перегар. «Вот почему ты удирал», — подумал он. Несколько позже, уже в машине, вытирая измазанные грязью руки, Калачев почувствовал мелкую дрожь в кончиках пальцев. «Как после двенадцатичасовой смены за рулем», — промелькнула мысль. А погоня длилась всего несколько минут. Чем больше Калачев постигал тонкости службы, тем глубже понимал он предназначение, свое место в ней. После же одного случая целиком и полностью утвердился в том, что только желания работать в ГАИ мало, нужны смелость, хватка, цепкий ум, умелые руки. …Смена подходила к концу. На вечерних улицах движение шло на убыль. Калачев медленно вел патрульную машину, посматривая на тротуары. Подъезжая к кафе в конце улицы, он увидел, как четверо крепко выпивших мужчин садились в «Жигули». Один из них занял место водителя, запустил двигатель. Калачев подрулил сбоку: — Документы! Водитель вышел из кабины. — Какие еще документы! — с вызовом произнес он. — Тогда садитесь в машину, придется выяснять вашу личность, — предложил лейтенант и о случившемся сообщил по рации дежурному. Внезапно владелец «Жигулей» нырнул в кабину своей машины и защелкнул изнутри замок. В задней дверце было приспущенное стекло, и Калачев оттуда попытался открыть переднюю дверцу, чтобы отобрать ключ зажигания. В этот момент «Жигули» рванулись с места. Инспектор почувствовал, как руку, словно петлей, захлестнуло ремнем безопасности. Лейтенант поджал ноги и оказался как бы висящим сбоку движущейся машины, край стекла врезался в тело, немели мышцы. На счастье, Калачеву удалось нащупать подлокотник и ухватиться за него. — Немедленно остановитесь! — крикнул Калачев. В ответ ощутил удары по руке: мужчина с заднего сиденья старался избавиться от настойчивого милиционера. — Приказываю остановиться! Инспектора не слушали. Левой рукой ему удалось извлечь пистолет и рукояткой разбить стекло. Нарушитель сбавил скорость. Воспользовавшись моментом, Калачев рванул руль вправо. Машина, развернувшись, ударилась о бордюрный камень тротуара и замерла. Калачеву не верилось, что он стоит на асфальте, ему казалось, что он еще продолжает полет, повиснув на дверце и поджав ноги. Пассажиры «Жигулей» попытались покинуть машину и скрыться, но подоспевшие милиционеры патрульно-постовой службы задержали их. Так в рядовых буднях и чрезвычайных обстоятельствах мужал характер Калачева, ставшего впоследствии одним из лучших инспекторов отделения, завоевавшего право сопровождать колонны автобусов со спортсменами — участниками Олимпиады-80. Это были трудные дни, но они приносили Калачеву истинное удовлетворение. Спортсмены благодарили инспектора за четкость и точность, инспектор был благодарен им за уважение к его труду. Старший инспектор капитан милиции Бурдасов Станислав Михайлович. Родился в 1943 году. В органах внутренних дел двадцать лет. Член КПСС. Женат. Двое детей. Высокий, стройный. Лицо приветливое. Инспектор не знает, что такое свободное время, он всегда при деле. Его страсть — автомобили и радиотехника. Рос Бурдасов в шахтерской семье в городе Горловке. Там окончил семилетку, горное училище. Занимался спортом, который был для него не самоцелью, а средством физического воспитания. От родителей унаследовал любовь к труду. Мечтал быть шахтером. И стал им. Одновременно учился на курсах шоферов. Работа под землей закаляла Станислава, здесь он мужал, становился выносливым и крепким. Эти качества пригодились ему в армии. А служил он во внутренних войсках. Водитель первого класса, старший сержант. Много сил Станислав отдавал обучению воинов вождению боевой техники. Неоднократно отличался на учениях, при несении внутренней службы. Был поощрен за задержание опасного преступника. А произошло вот что. Экипаж старшего сержанта Бурдасова нес дежурство. Ожила рация. Станислав поднял трубку. — В гараж проникли неизвестные, — сообщил дежурный. — Примите меры к задержанию. Через несколько минут патрульная машина подкатила к воротам. Навстречу выскочил встревоженный сторож. — Они там, пытаются угнать машину… — торопливо говорил он. — Скорей, скорей!.. — Сколько их? — спросил Бурдасов. — Видел двоих. Члены экипажа еще не успели добежать до слабо освещенного гаража, как из него с шумом выскочили две высокие фигуры. — Стой! — крикнул Бурдасов. И сорвался с места. Преодолев забор, он увидел в отсвете фонаря удаляющегося человека. Бежал тот тяжело, и сержант быстро догнал его. После короткой схватки Бурдасов прижал беглеца к земле. Под его одеждой прощупывались украденные запасные части. Подоспевший напарник помог доставить вора к машине. С этого момента Бурдасова все чаще и чаще посещали мысли о службе в милиции, в ГАИ. Однако по возвращении из армии ему предложили иную службу — патрульно-постовую. И стал старший сержант милиции Станислав Бурдасов на «газике» патрулировать по улицам города. Необыкновенно привлекательна Москва! Она волновала сердце молодого милиционера. И Бурдасов радовался, что в таком огромном городе люди чувствуют себя уютно и безопасно в любое время суток. Его дежурства часто проходили без происшествий. Лишь на втором году пришлось лицом к лицу столкнуться с преступником. «На улице драка. Локализуйте!» — получил Станислав приказ по рации. Прибавив газ, он направил машину по указанному адресу. Свет фар, разрывая плотные сумерки, высветил дерущихся. При появлении работников милиции часть из них разбежалась, часть скрылась в доме. Старший экипажа направился к коменданту общежития для установления участников драки, а Бурдасов остался у машины, зная, что может понадобиться в любую минуту. Посмотрел на распахнутую входную дверь. «Надо бы закрыть, тепло уходит», — по-хозяйски рассудил милиционер Но намерение не успел осуществить. Из подъезда выскочил парень и завернул за угол. — У него нож! — раздался чей-то взволнованный голос. Бурдасов устремился за беглецом. — Бросай нож! — приказал он. Но парень не бросил, а переложил его в правую руку. Старший сержант это заметил и подумал: «Может решиться на нападение». Догадка вскоре подтвердилась. Преследуемый внезапно развернулся и поднял нож. Но Бурдасов уже ждал этого момента. Он перехватил руку нападавшего и ловким приемом самбо свалил его на землю… Не сетовал Станислав на трудности службы, она шла без ошибок, но грустил по ГАИ. И только спустя два года отважился написать рапорт с просьбой откомандировать его в распоряжение управления автоинспекции. Просьбу Бурдасова удовлетворили. Пролетели годы. Станислав Михайлович стал офицером милиции, старшим инспектором, одним из опытных специалистов своего дела. Он, например, по звуку определяет марку автомобиля, моментально схватывает главное — номер машины, груз, лицо водителя. Машину водит мастерски. Пользуется уважением у сослуживцев, особенно у молодых. С ними Бурдасов любит и умеет «повозиться». Терпеливо, без нажима, но без послаблений, своим примером учит молодежь отношению к службе, к жизни. Строки из биографий трех инспекторов ГАИ… Сама жизнь растила их мужественными и сильными. Многое они испытали, но судьба готовила им еще одно испытание. — Экипаж к выполнению задания готов, — доложил Дугачев. — Желаю успеха, — ответил Сапилов. Инспектора заняли места в машине. Дугачев включил рацию. Настроение у всех было хорошее, можно даже сказать, приподнятое. Этому способствовали и необычный рейс, и великолепная погода. Стоял ясный июньский день 1981 года. Небо было необыкновенной голубизны и прозрачности. Колонна шла быстро. Автомобили в одну линию, машина ГАИ — спереди, чуть слева, как предусмотрено правилами. Сопровождающий экипаж как бы заведомо отжимает встречные машины, заставляет принять правее: идет колонна. Действия экипажа отлажены. Маршрут знакомый. Дугачев машину вел умело, ничто не ускользало от его внимания. Особенно придирчиво осматривал дорожное полотно, чутко улавливал каждую выбоину под колесами. Калачев и Бурдасов то и дело бросали взгляды на колонну, следили за поворотами. Кому, как не инспекторам ГАИ, известно, что на шоссе возможны всякие неожиданности. Дорожно-транспортные происшествия — бич нашего века. В мире ежегодно гибнет 250 тысяч человек. И большинство трагедий связано с неумением водителя и пешехода решать простые дорожные задачи. По вине водителя происходит 75 процентов несчастных случаев. Среди причин дорожно-транспортных происшествий — две наиболее опасные: это управление машиной в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Искоренение только этих двух причин позволило бы резко снизить число жертв на дорогах. …Вереница машин благополучно следовала по Ленинградскому шоссе. Встречные водители, завидев сигнальные огни служебного автомобиля ГАИ, снижали скорость, прижимались к обочине. Члены экипажа действовали согласованно, бдительно наблюдая за движением транспорта. Внезапный выезд на встречную полосу, переезд шоссе — вот что больше всего волновало членов экипажа. Колонна приближалась к семидесятому километру. Здесь ремонтировали дорогу. Стояли машины. И вдруг из-за них рванулся грузовик (водитель, как потом выяснилось, внезапно стал терять сознание), прямо навстречу, по той полосе, по которой двигались вереница автомобилей и машина ГАИ… Будете проезжать по Ленинградскому шоссе, прижмитесь к обочине у семидесятого километра, остановитесь, выйдите из машины. Перед вами небогатый пейзаж — кусты да деревья, деревья да кусты. Именно здесь разыгралась эта драматическая история. Когда мы попали сюда, было тепло и ярко светило солнце. — Почти как в тот день, — сказал Бурдасов. Капитан обвел пространство, вместившее в себя и кусты, и деревья, и кусочек голубого неба, и шоссе, по которому туда-сюда катили разноцветные машины, и сказал: — Вот здесь. И стоял такой же полдень… Дугачев, Калачев, Бурдасов много лет проработали в милиции, однако подобное в жизни увидели впервые, хотя и были готовы к любым чрезвычайным обстоятельствам. Светом, жестами, через громкоговорители они предупреждали водителя грузовика. До него оставалось сто метров. Что там случилось? Болен? Потерял сознание? Отказали тормоза, система управления? Семьдесят метров. «Водитель КамАЗа, примите вправо!» Пятьдесят. Тормозить? Что это даст, если грузовик не свернет? «Водитель, примите вправо!» Инспектора смотрели вперед, и каждый понимал: сделать ничего нельзя, выход один… Тридцать метров. А если свернуть? Но колонна машин сзади. «Уйти на обочину?» А люди. «Вправо!» Десять метров. Пять… — Держитесь! Упирайтесь! — успел крикнуть Дугачев товарищам. — Иду на таран. Попаду в колесо — будем живы. …В каждой хронике есть годы, короткие, как дни, и есть минуты, длинные, как часы. Вот такой растянутой по времени была эта последняя минута. Из рассказа очевидца: «У меня даже руки свело. Все произошло в одно мгновение. Невыносимо больно смотреть со стороны, как идут на подвиг». Сапилов в этот момент сидел в кабинете и размышлял над документами. Сообщение, которое передал дежурный, показалось больше нелепой шуткой, чем правдой: какой-то грузовик выскочил на полосу встречного движения… Дугачев слился с рулем. Удар пришелся в колесо. Визг тормозов. Грохот железа. Крики людей. Через минуту очевидцы парализованно стояли около груды исковерканного металла, которая только что была служебной машиной экипажа Дугачева. Теперь она была вмята в кюветный откос многотонной тяжестью грузовика, и смотреть внутрь железных обломков было выше всяких возможностей. А те, чьи взгляды охватывали эту картину, потрясенно представляли, что было бы с людьми в автомобилях колонны, не прикрой их собой эта маленькая машина и управлявшие ею люди. Колонна остановилась. Подъехала «скорая». Травмированных инспекторов после долгих усилий извлекли из-под прутьев и железных листов. Затем быстро доставили в больницу. Последовали одна операция за другой. Потекли тяжелые послеоперационные дни. И сила духа взяла верх. Отважные инспектора ГАИ выжили. И не только выжили, а продолжают службу, как и прежде. Родина высоко оценила подвиг Дугачева, Калачева и Бурдасова, наградив их орденом Красной Звезды. Часто приходится слышать слова, обращенные к молодежи: «Ваше будущее в ваших руках». И в те секунды будущее и сама жизнь находились в их руках в буквальном смысле слова. Стоило чуть крутнуть баранку в сторону, и стальная смерть просвистит мимо. Поворот руля. Как мало для спасения собственной жизни! И как много для человеческой совести!ВЫБОР
Внезапность возможна в любой момент человеческой жизни — в этом ее сущность. Она не различает человеческих состояний. Иное дело сам человек: готов ли он к внезапности? Для человека имеет значение только это. …Александр Федянин, завершив два трудных дела, четко утвердился: внутренне он готов ко всему. Никакая внезапность теперь не страшна. И когда раздались слова дежурного: «Федянин, на выезд! Срочно!» — особого значения им не придал. Он их слышал много раз. К ним привык, как привык ко всяким неожиданностям, потому что был уверен: что бы ни произошло, он сделает все максимально возможное. В это зимнее утро Федянин находился в прекрасном настроении. Он почти убедил себя в том, что при большом желании оперативный работник может совершить многое, даже невероятное. Творческие возможности его безграничны. Шел второй месяц активных поисков Валентины С., когда к работе подключился Александр. Девушка приехала в поселок год назад, работала в библиотеке. Жила скромно. Ни родных, ни подруг не имела. По характеру замкнутая. И вдруг исчезла. Ее искали, но безрезультатно. Александр пытался представить себе Валю, ее лицо, голос, привычки, характер. Кого-то она, наверное, посвящала в свои секреты, с кем-то советовалась? Может, Валя вела дневник? Девушки ее склада больше доверяют бумаге, чем живому человеку. Впрочем, среди вещей, найденных в ее комнате, подобной тетрадки не было. Хотя она могла, конечно, просто не попасться на глаза сотрудникам милиции. Новый осмотр комнаты подтвердил предположение Александра. Толстая тетрадь, найденная в ворохе запыленных книг, оказалась дневником. Весь вечер Федянин листал записи, все больше убеждаясь, что ничего нужного для себя он не найдет. Но вот на последних страницах — старательно вымаранное место. «Я могла бы остаться в родном поселке, — писала Валя, — но не могу видеть… — здесь, видимо, зачеркнуто имя, — не могу простить ему измену. Тут чувствую себя спокойнее. Сердечные раны затягиваются». Записи в дневнике обрывались фразой: «Какой ужас! Он приехал сюда. Поступил на завод. Разыскал меня…» Конечно, оперуполномоченный первым делом направил дневник на экспертизу. Вымаранные в тексте места были восстановлены. Федянин узнал имя и первую букву фамилии таинственного незнакомца — Владимира Л. Разыскать его на предприятии не составляло большого труда. Прежде чем пригласить человека на разговор, Александр постарался узнать о Владимире как можно больше. Чувствовал, что тот может замкнуться, может вообще все отрицать. А что, если?.. Когда высокий парень опустился на стул и поднял на старшего лейтенанта выразительные глаза, Федянин открыл дневник в самом начале, там, где Валя с любовью и признательностью писала об Л., и подвинул его к подозреваемому. Тот удивленно пробежал глазами строчки, побледнел, резко поднялся и… разрыдался. В этот же день он чистосердечно рассказал, как стал причастным к трагической истории, повлекшей за собой смерть девушки. Размышляя над приемами раскрытия этого преступления, Александр еще раз убедился, как важно подойти к делу со всех сторон заинтересованно. Федянин активно вмешивался в жизнь, тянулся к романтике, ко всему, где трудно, где способен наилучшим образом выразить себя, где выстоять и победить может лишь человек, сильный духом. Вот еще один пример, подтверждающий его активную жизненную позицию. Александр был дежурным по отделению милиции. Он взглянул в окно и удивленно воскликнул: — Луна-то какая! Видать, крепкий морозец будет. Матовая вязь узоров на стекле не мешала видеть крупные мерцающие звезды и большую оранжевую луну. В домах гасли огни, все реже по освещенным улицам поселка шли прохожие. «Ну вот еще один день пролетел», — промелькнула мысль, и по привычке Федянин бросил взгляд на стрелки часов. Они показывали пять минут одиннадцатого. А потом перед глазами почему-то предстал семилетний Димка — ласковый, подвижный. Сейчас он наверняка спал. Зазвонил телефон. — Что? С ружьем? Поднимаю группу. — И он снова бросил взгляд за окно. Луна уже скрылась за облаками. О случившемся Федянин известил райотдел, собравшейся группе объявил: — В поселке преступник. Ему под сорок. Плотный, широкоплечий, вооружен. Направляется домой. Необходимо помочь работникам уголовного розыска. Федянин мог остаться, не ехать. Он дежурный, его задача — оперативно организовать выезд на место происшествия. — Останешься за меня, — сказал он помощнику. — Я поеду с ними. Под аркой было темно. Александр огляделся вокруг. Двор большой, темный. За домом светилась лампочка на бетонном столбе. Сотрудники милиции, предпринявмеры предосторожности, заняли места для наблюдений. Через арочный проем было видно, как медленно опускались снежинки, заметавшие человеческие следы. «Оно и к лучшему, — подумал Александр, — заметнее будут свежие отпечатки». Все шло по плану. Появление преступника ожидалось именно в этом месте. Он непременно должен был прийти в свой дом. А если не придет? И на этот случай был план. Невысокий, коренастый, Федянин стоял во дворе и сразу заметил, как в проеме арки мелькнула тень. Сердце учащенно забилось: «Он». Крутя головой по сторонам, грузный, чуть сгорбленный мужчина в ватнике шагнул во двор. В руках он что-то держал, издали похоже на палку. Остановился и… попятился назад. «Только бы не ушел за угол, — промелькнуло в голове, — там трансформаторная будка, а дальше лабиринт деревянных сарайчиков. Затеряется». Федянин осторожно продвинулся к будке. Незнакомец стоял совсем рядом с двустволкой наперевес. Шагни — можно брать. Только быстро, чтобы не успел развернуться. Но лучше отвлечь его. Сняв фуражку, Александр с силой бросил ее в сторону. Незнакомец вскинул ружье на шорох. В этот момент Федянин прыгнул сзади и выбил оружие. Подбежали другие сотрудники, вырвали заряженное ружье. Преступник сдался… Убрав со стола документы, Александр заторопился к машине. В холодном «уазике» сидели старший оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Михаил Кочкин и помощник дежурного старший сержант Анатолий Ткачик. Они рассказали, что в отделение милиции позвонил мужчина и попросил оказать помощь людям, попавшим в глубокий теплофикационный колодец. Машина рванулась с места. Сотрудники милиции знали местонахождение колодца — в десяти минутах езды. Ехали молча, всматриваясь вперед. На заснеженных улицах подмосковного поселка Малаховка было пустынно. Александр любил Малаховку, где ему было все близко и знакомо. Здесь он свой человек. Рос в рабочей семье. С малых лет пристрастился к труду. Не расставался с инструментом, все что-то мастерил. Большие мечты его не занимали. Не мучился вопросами: кем быть, куда уехать? После школы сразу направился на завод, к станку. Работал по совести. Никто его никогда не понукал, не стыдил. Всегда откликался на просьбы бригадира, мастера, начальника цеха. «Ведь не для себя же просят, значит, надо, так почему же не разделить их заботы? Вместе легче и проще», — считал он. В армии Александр стал командиром танка. Позже не раз говорил: два армейских года были самым серьезным жизненным университетом. К его десятилетнему образованию прибавилось еще двухлетнее. До этого он не видел и не представлял себе тысячи простых и привычных вещей. Годы службы его очень обогатили этим. На завод Федянин вернулся коммунистом. Вскоре товарищи его избрали партгрупоргом. Он стремился оправдать их доверие. Это в его характере, это его жизненный принцип. И вдруг предложение: не желает ли Александр пойти на службу в милицию? В парткоме из самых добрых побуждений посоветовали было не торопиться, обдумать все как следует — время есть. Федянин твердо и уверенно сказал: — Раз надо, я готов! Ему повезло с коллективом, в который он попал с производства. Коллектив в Малаховском отделении милиции был опытный, сплоченный. Создавался он постепенно, годами. Здесь прежде всего ценили профессиональные и личные качества людей. Во всех службах давали возможность раскрыться каждому. Преданность делу, стремление к совершенствованию, целеустремленность и воля быстро сделали его активным сотрудником. Но одного стремления мало, нужны знания. Александр усиленно постигает специфику службы, много читает, расширяет кругозор. Однако в рамках службы не замыкается. Он общителен, любит спорт, выполняет общественные поручения. Аккуратно, точно, как и несет службу. А служба беспокойная. Проверка фактов. Розыск и задержание преступников. Экстренные выезды на места происшествий, будь то пожар, спасение утопающих или вот, как сейчас, случай в теплофикационном колодце. Служба Федянина держится на простых понятиях: четкость, точность, наступательность, справедливость. Учиться этому вроде бы излишне. Однако Александр быстро увидел, как по-разному это соблюдается разными людьми. Одному сотруднику милиции граждане выражают благодарность, при виде другого старательно обходят его стороной… Часто молодые люди пишут: «Хочу служить в милиции, меня тоже тянет в опасность». Почему тоже? Работников милиции совсем не тянет в опасность. Их тянет лишь туда, где она при определенных условиях возможна. Это не одно и то же. К тому движет чисто профессиональный интерес. Люди, работающие в милиции, не видят в своей работе ни героики, ни особой романтики. Это не поза. Вообще среди сотрудников милиции позеров мало. Реальность — необычайно суровая штука. Было тихо. Покорно стояли застывшие деревья. Через несколько минут группа прибудет к месту вызова, как только проскочит железнодорожный переезд. И когда машина приближалась к нему, раздался звонок, вздрогнул и опустился шлагбаум. Путь закрыт. — Это надолго, — сказал Александр. — В это время поезда следуют один за другим. — Помолчал несколько секунд, потом кивнул водителю: — Мы пешком, а ты догонишь. Он открыл дверцу и бросился к переезду, чтобы успеть перебежать полотно, по которому вдали погромыхивал грузовой состав. Оказавшись на другой стороне железной дороги, сотрудники милиции увидели приближающуюся машину. Федянин — к ней. — Люди в опасности, — поспешно сказал он водителю, — возьмите нас и разворачивайтесь… Тут недалеко. — Сюда, сюда! — кричал мужчина, увидев милиционеров. Все трое подбежали к теплофикационному колодцу. У его края они уловили запах газа. — Что случилось? — спросил Федянин растерянного рабочего. — Пришли проверять колодцы, — сбивчиво начал тот, — открыли люк — вроде бы ничего. Александр Васильевич полез первым. Спустился, вскрикнул и упал. Петрович хотел помочь ему, но и сам рухнул. Я тоже шагнул в проем, и тут закружилась голова. Я — назад. Что там такое, не пойму. Кричал им, они — ни слова. Вот беда… Погибнут ведь… Мужчина метался вокруг колодца. — Анатолий, быстро «скорую» и пожарников с противогазами! — приказал Федянин Ткачику. Александр принял решение: спасать! — Миша! — обратился он к Кочкину. — Веревку! Кочкин бросил бухточку, принесенную рабочим. Александр одним концом перевязал себя, другой подал Кочкину. — В случае чего — тащи! Михаил попытался задержать его: мол, сейчас подъедут люди с противогазами. Стоит ли рисковать? — Да, но ведь там люди, — сказал Александр. — Можем опоздать! Федянин прямым своим долгом считал, безотлагательное спасение людей. И был уверен, что сумеет это сделать. А смертелен или не смертелен риск, на который в то или иное мгновение своей жизни идет человек, чаще всего выясняется не сразу, а потом, когда все уже свершилось. Иногда риск оказывается не таким смертельным, как показалось в первые секунды, а иногда — наоборот. И вся трудность как раз в том и состоит, что меру риска невозможно определить заранее. Тот, кто начинает слишком долго размышлять над этой мерой, в результате чаще всего не рискует вообще. Глубоко вдохнув свежий морозный воздух, а затем прикрыв рот и нос влажным платком, Александр скрылся в черном проеме колодца. Спускался по металлической лестнице не дыша, чтобы не вдохнуть загазованный воздух. Ступив на пол, Александр присел на корточки и стал щупать вокруг. Наткнулся на неподвижное тело. Человек был без сознания, тяжело и часто дышал. Федянин обвязал его веревкой и, чуть выпустив из своих легких воздух, крикнул: — Тяни! И стал поднимать отяжелевшее тело вслед за уходящей вверх веревкой. Минута — и рабочий наверху. — Быстрей веревку! Кочкин бросил. Александр принялся обвязывать ею второго рабочего, но сдерживать дыхание больше не мог, сделал глубокий вдох. Сразу же закружилась голова. Александр хотел было приподнять пострадавшего — не хватило сил. Так и опустился на дно. Почувствовав неладное, Кочкин потянул веревку, но поднять двоих не смог. Тогда Анатолий Ткачик кубарем скатился вниз. Он сумел высвободить рабочего из рук Федянина и отправить наверх. Потом вынес и Александра. Самоотверженно боролись врачи за жизнь людей. Рабочих удалось спасти. Старший оперуполномоченный Малаховского отделения милиции старший лейтенант Александр Федянин скончался, не приходя в сознание. Поступок Федянина — это подвиг. Но не потому, что Александр погиб. Нет, это подвиг потому, что, не думая об опасности для себя, он спас тех, кому угрожала гибель. На смертельный риск пошел человек твердый, человек с самообладанием, решивший исполнить свой долг так, как его понимал, и надеявшийся, что он сумеет это сделать, сумеет оказаться победителем. Константин Симонов говорил, что стойкие люди — это не те, у которых не дрогнет голос и не упадет слеза. Стойкие люди — это те, которые сами не дрогнут в трудную минуту жизни, которые сами не упадут на колени перед бедой. «Ему бы жить да жить, — говорили товарищи Александра, — но, уже зная его, трудно представить, чтобы он поступил иначе, чтобы бросил в опасности людей». Александр Федянин прожил тридцать один год. Совсем немного. Но человек состоялся. Ибо он не писал свою жизнь на черновик, не собирался жить, а жил сразу набело, не экономя ни душевных, ни физических сил. Ибо была в нем крепкая вера в лучшую человеческую долю. И в необходимость борьбы за нее. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга, Александр Федянин удостоен посмертно ордена «Знак Почета». Высоким курганом легли на могилу цветы. А вокруг в молчании еще долго стояли его друзья, близкие, родные, сын Димка. Соратники по милиции, люди суровой профессии, не плакали. Они молча склонили головы над свежим холмиком земли, прощаясь с тем, кто в час своего испытания поступил так, как только и мог поступить сын той великой и самоотверженной когорты, имя которой — советская милиция. Не увядают цветы на могиле Александра Федянина — мужественного солдата правопорядка. Жители поселка приносят их сюда охапками. Цветы — это память о подвиге, о человеке, совершившем его.ГРУППА, НА ВЫЕЗД!
— Группа, на выезд! Сергей Панков всякий раз, когда слышит эти слова, волнуется. И не потому, что страх берет, а потому, что хочется выполнить задачу как можно лучше, без погрешностей. За шесть лет службы он привык ко многому, многое осталось в памяти, что-то забылось. Но тот день не исчезнет никогда. День 10 марта 1982 года начался для Панкова, как обычно, по твердо устоявшемуся порядку. Поднялся по армейской привычке рано, быстро облачился в тренировочный костюм и выбежал во двор. Утро стояло тихое, ласковое. Слегка морозило. Сделав небольшую зарядку, Сергей побежал по кругу. Дышалось легко, свободно. Свежий воздух бодрил, повышал тонус. Панков любит спорт, занимается им с тех пор, как себя помнит. И настолько привык к физическим нагрузкам, что скучал по ним, если вдруг случалось по каким-то причинам нарушить тренировочный режим. Спортивные упражнения закалили его не только физически, но и морально. Спорт — отличный воспитатель воли и мужества, незаменимое средство формирования ловкости и подвижности, столь необходимое в милицейской службе. После зарядки — традиционный чай, шутливая болтовня о товарищами по комнате. Так уж водилось в общежитии. Ребята молодые, энергичные, веселые: как тут без юмора, шуток. Все как обычно. Никакого предчувствия чего-то особенного. И когда за собой закрывал дверь комнаты, Сергей не предполагал, что уходит навстречу подвигу. Правда, для встреч с опасностью «возможности» Панкова расширились. Раньше, как милиционер, он, конечно, мог оказаться в сложной ситуации, но случалось это довольно редко. Другое дело сейчас, когда его пригласили в подразделение уголовного розыска, когда каждый выезд на происшествие — это встреча с опасностью и ее преодоление. Уже первое его дежурство в новом качестве (с тех пор прошло два года) было для него неспокойным. …После обеда группе приказали задержать особо опасного преступника, судя по всему человека физически сильного. Получив необходимые сведения, майор А. Литвиненко, старшина Е. Кондратьев, сержанты А. Гришанов и С. Панков на автомашине отправились по указанному адресу. Скрытно поднялись на лестничную площадку. Осмотрелись. Расспросили соседей. Стали совещаться: как быть? Квартира, где находился преступник, коммунальная, там дети. А преступник вооружен, откроет огонь, не пощадит никого. Сейчас он спит, закрывшись в комнате. Литвиненко предложил: — Надо, вероятно, выжидать, другого варианта не вижу. Понаблюдаем. Проснется. Голод — не тетка, погонит в магазин или еще куда. Проводим его на улицу и в безопасном месте задержим. Действительно, часа через два «объект» вышел из дому. Оглянулся. Руки в карманах. Оперативные работники — за ним. «Крупный дядя, — заметил про себя Панков. — Взять его будет непросто». Литвиненко подал знак: приготовиться. Но «дядя» не пошел вперед, где никого не было и где Литвиненко предполагал взять его, а резко свернул к многолюдной остановке автобуса. Литвиненко просигналил: отставить. Оперативные работники прошли мимо, как будто ничего не произошло. «Объект», не вынимая рук из карманов, потоптался среди людей и направился обратно к дому. Рассредоточенная группа, конечно, не успела опередить его. Литвиненко собрал всех. — Ясно, что это был разведывательный выход, Через несколько минут преступник появится снова. Подтягиваемся к подъезду. Будем брать там. Двое обосновались за выступом, двое, — под лестницей. Стали ждать. Через полчаса открылась дверь — вышел «объект» с сумкой. Постоял. Стал спускаться. Миновал выступ. Выскочив из засады, Панков и Гришанов схватили его за руки. Но преступник, обладая большой силой, отбросил одного из них, схватился с другим. Литвиненко и Кондратьев попытались применить подсечку — безуспешно. — Наваливайся на одну сторону! — громко крикнул майор. Панков резко рванул руку. Преступник, потеряв равновесие, упал на колени. Гришанов и Кондратьев разом навалились на него, прижали к полу. Литвиненко быстрым движением извлек из карманов мужчины оружие. Тот все еще продолжал яростно сопротивляться, отбивался ногами. И только тогда, когда его крепко связали, преступник смирился со своей участью… Дежурство началось спокойно. Срочных вызовов не было, значит, в городе порядок. Члены группы внимательно знакомились с оперативными сводками, разбирали действия по задержанию преступников в определенных условиях. Это своего рода школа повышения профессионального мастерства. На конкретных примерах оперативные сотрудники учатся умению действовать инициативно, быстро анализировать обстановку и принимать правильные решения. Служебные занятия развивают практическое мышление, сноровку, формируют умение перехитрить противника. Дальше — отработка приемов самообороны. Без них преступников задерживать невозможно. Группа переоделась, размялась, но начать захватывающие поединки не успела. — Группа, на выезд! Короткая, как выстрел, команда собрала группу. Командир ее майор С. Василькив изложил суть задачи: — Пьяный дебошир из квартиры на втором этаже стреляет в прохожих из ружья. Дверь забаррикадирована изнутри. На приказы работников милиции прекратить стрельбу отвечает огнем. Хулигана необходимо как можно быстрее обезвредить, пока он не натворил бед. Операция, как вы понимаете, сложная. Экипировались и через три минуты в полной боевой готовности выехали по указанному адресу. Вначале сидели молча, потом стали шутить. Шутка помогает в трудную минуту. Это отлично знал замполит Литвиненко, который всегда поднимал настроение при выездах на происшествия. — Без крепкого духа, доброго настроения, товарищеской спайки нам нельзя, — часто говорил он на политзанятиях. — Оптимизм — наше оружие. Этот дух он создавал и внедрял в жизнь подразделения. И на словах, и на деле. Замполит — активный участник многих трудных операций. Вот и сейчас он не скупился на добрые слова, вглядываясь в молодые лица ребят, профессия которых связана с повседневным риском. Замполит шутил, но каждый знал, что шутка — это прием для снятия напряжения и скованности. На шутливой волне майор нацеливает и на умелые действия, предостерегает от необдуманных шагов. Задержание вооруженного преступника — дело чрезвычайное, связанное с риском для жизни сотрудников милиции. И поэтому каждый должен знать свой маневр, знать, как защититься от наведенного пистолета или поднятого ножа. — Чтобы грамотно действовать, нужно уметь ориентироваться в обстановке, — наставлял майор С. Василькив. — Надо прикинуть что к чему. Прямолинейность, атака в лоб нам не сподручны. Временно можно и отступить. Отступление — тактический маневр, позволяющий противника ослабить, а потом и обезвредить. Василькив не раз использовал этот маневр и добивался успеха. Панкову памятен один случай. Стало известно, что трое ранее судимых лиц намереваются напасть в конце рабочего дня на сберегательную кассу. Для того чтобы взять их с поличным, было решено устроить засаду. Три дня находились в ней сотрудники милиции. Три напряженнейших дня! Лишь на четвертый день воры объявились. Какой был соблазн взять их и в какие-то мгновения всему положить конец! Но Василькив приказал: «Не трогать!» Все недоуменно переглянулись: «Неужели отступил командир?» Злоумышленники прошли мимо, словно прогуливаясь. — Не на дело идут, — пояснил майор, — чувствуется, изменили время. Как в воду глядел Василькив. Преступники проследовали к метро. Сели в поезд. Доехали до станции «Первомайская». Направились к кинотеатру… — Ну что ж, — сказал Василькив, — пусть напоследок развлекутся. Подождем. Закончился сеанс. Зрители дружно высыпали из зала. Среди них и те трое. Прошли к метро, двинулись обратным путем. Вот и сберкасса. Двое стали у дверей, третий — с пистолетом в руке приблизился к кассиру. Внезапно появились оперативные работники и плотно стиснули руки незваным пришельцам, которые от неожиданности в первые секунды даже не поняли, что происходит. «Вот это операция! Четко, точно, без шума, — удивился Панков. — Удачно расставил нас командир…» Сейчас, направляясь к месту происшествия, каждый размышлял, как будет действовать в операции. Посматривали на командира. При задержании решения принимает только он. По-другому и быть не может. Слишком велики ответственность и опасность. Но и худо, если командир заберет себе в голову, что он всесилен. От любого члена группы может зависеть успех. Командир должен знать своих людей. Подкатили к дому. Преступник стрелял. И можно было предположить, что он ни перед чем не остановится. «Откуда они берутся, эти выродки? — подумал Панков. — Где та развилка, после которой становятся на преступную тропу?» Он не переставал поражаться обличию преступников. Одни из них отличались крайним индивидуализмом, холодной жестокостью, неприкрытым практицизмом и корыстью. Другие выделялись способностью создавать у людей представление о своей добропорядочности, благодаря чему входили в доверие, а потом использовали его в низменных целях. Третьи изумляли высокомерием и подозрительностью. Группа заняла исходные позиции в ожидании приказа. С преступником по телефону вели переговоры — приказывали и советовали по-доброму прекратить бессмысленное сопротивление. «Нет, пусть поднимается жена», — торговался тот. Жена ни в какую: «Он меня убьет! Я еле вырвалась!» Преступник бросал телефонную трубку, подбегал к окну и снова открывал стрельбу. В этой ситуации нужны были повышенная бдительность и крайняя осторожность. Панкову представилось, что он на армейских учениях, со своим отделением готовится к атаке. Возникли знакомое чувство настороженности, стремление не ударить лицом в грязь. Армейская служба была у него удачной. Причина того — его старательность и добросовестность, которые покоряли всех. — Если уж служить, так служить, — обычно говорил он товарищам. Оружием владел отлично. На спортивных состязаниях не имел себе равных. А если и терпел поражение, то ненадолго. Тренировался еще больше и добивался своего. — Ну и воля у тебя, Панков! — восхищался командир роты. Он дважды поощрял Сергея отпуском. Да, старательность и добросовестность Панкова удивляли многих. Откуда они? Думается, ответ содержится в его биографии. Семья — деревенская. Мать — колхозница, отец — рабочий, железнодорожный машинист. В деревне знали: в доме Панковых всегда все ладно и прочно. И люди и стены. Пять детей росли на виду у всей деревни Максимово Владимирской области: трудолюбивые, приветливые, честные. Армия определила дальнейшую судьбу Сергея. В 1978 году в новой милицейской форме явился сержант на службу. Взялся за работу горячо, трудился безотказно. Как человек душевный и открытый, Сергей сразу полюбился сослуживцам. Все интересовался чрезвычайными обстоятельствами и в душе ждал их. Но старший сержант милиции Геннадий Тимонин, наставник Сергея, разочаровал: — Наша служба — проза. Поэзии, к сожалению, с гулькин нос. В основном суета сует. Выслушивать, искать, предупреждать, не спать, мерзнуть, перемогать сырость, жару, снег. Бывает, что попадаешь под пули преступника и тогда подавляешь в себе злость и искушение пальнуть ответно, потому что знаешь: за это тебя по головке не погладят. Соглашался сержант и не соглашался: время покажет. В спортзале учебного центра к Панкову приглядывались какие-то совершенно незнакомые люди. Их привлекла стройная, атлетическая фигура Сергея. После занятий подошли. — Панков, надвигаются Олимпийские игры, — заговорил один. — В сборной я не состою, — шутливо ответил Сергей. — Но есть возможность проявить себя в другом, — спокойно продолжал незнакомец. — Формируется подразделение для обеспечения безопасности участников и гостей Олимпиады. Пойдете? — С удовольствием! — обрадовался Панков. В знаменательный год Олимпиады-80 началась служба Сергея в подразделении уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома. И началась она удачно. На Олимпиаде никаких ЧП не произошло, а это для сотрудника милиции самое веское основание для хорошего настроения. После Олимпийских игр началась новая работа: тренировки, выезды на места происшествий, задержание преступников… Вот ступени, по которым шагал Сергей Панков к своему главному подвигу. Сейчас он стоял на лестничной площадке и был готов, как тогда на армейских учениях, к атаке, вернее, к выполнению задачи. Ни Панков, ни его друзья ни на долю секунды не задумывались, что идут на подвиг. Конечно, как люди молодые, сильные и мужественные, они не раз вели разговор о мужестве, о героизме. Это естественно. Спорили: «Кого же следует считать героем?» Одни говорили: «Герой — это скорее характер, чем оценка его деятельности. Называя человека героем, мы имеем в виду не столько значимость совершенного деяния, сколько те черты личности, которые подвигали его на восхищающий нас поступок». Другие читали скупые строки из словаря: «Герой — это человек, совершающий подвиги». А слово «подвиг» отдавало еще большей многозначительностью и многооттеночностью. И все же угадывались в нем два как бы закапсулированных элемента: высокая значимость поступка и те незаурядные качества, которые подвинули человека к преодолению трудностей и опасностей. Были и такие суждения: «Чтобы совершить подвиг в мирное время, уже недостаточно одной самоотверженности. Подвиг сегодня может совершить человек, хорошо вооруженный. Вооруженный — это в широком смысле слова, то есть не только с оружием в руках, но и обладающий профессиональными знаниями и навыками, вооруженный идейно, отлично знающий, во имя чего он идет на подвиг». Сергей Панков и его товарищи старший сержант Владимир Галактионов и старшина Евгений Кондратьев молча рассматривали обитую дерматином дверь, за которой, забаррикадировавшись, бесновался преступник. Нет ничего сложнее, чем задержание вооруженного преступника в квартире. Никогда не знаешь, где он стоит и как поведет себя. В такие минуты нервы напряжены до предела. Панков однажды уже бывал в аналогичных обстоятельствах: задерживали убийцу, укрывшегося в одной из комнат квартиры. На уговоры он отвечал угрозами. Оперативники пошли на хитрость. Отключили свет и отвлекающим маневром выманили преступника на балкон. В это время один из работников милиции вбежал в комнату и захлопнул балконную дверь. Убийца, оказавшись в западне, прекратил сопротивление. Сейчас сложнее. Преступник завалил дверь чем попало. С ходу не ворвешься. Нужно проникнуть в коридор, а там уже легче. И все же никто не терял надежды на то, что преступник сам прекратит сопротивление. Руководители операции работали именно в этом направлении. — Панков, Галактионов, Кондратьев! К руководителю операции! — приказал майор милиции Василькив. Ребята бегом отправились во двор. — Вам предстоит проникнуть в квартиру, — сказали им. — Успех зависит от внезапности и хладнокровия. Никакой бравады. Только трезвый расчет. Сейчас пройдите в квартиру этажом ниже и ознакомьтесь с расположением комнат. Она такая же. Учтите, преступник занимался в свое время стрельбой и борьбой. И вот они остались перед дверью. Решено: как только дадут своевременный сигнал, первым идет Панков, за ним Галактионов и Кондратьев. Был ли страх? Не помнят они. В решающие минуты не до страха. В этот момент человек действует. А вот чувство уверенности было. Уверенность в своих возможностях. Каждый понимал: дело решает быстрота мысли и действий. Все глядели на Панкова. Он шел первым. Он принимал на себя главный удар. Понимали, что ему тяжелее, но он рослый, тренированный, смекалистый. Сергей стоял, отрешившись от всего. «Главное, — думал он, — не наскочить на ствол противника». И вот момент для решающих действий наступил. Подан сигнал. Панков рванулся в дымящийся проем. Чуть не споткнулся о холодильник, что-то еще. «Где же он?» — билась мысль. И тут же с шумом распахнулась комнатная дверь. Перед глазами возник зрачок ружейного ствола. Сергей сделал ложное движение. Грохнул выстрел, заряд просвистел рядом. Сергей прыгнул вперед и сбил с ног преступника. Тот, извиваясь, выбросил руку, чтобы схватить выпавшее ружье. Но Галактионов и Кондратьев не позволяли этого сделать… За самоотверженные действия при задержании особо опасного преступника Сергей Панков был награжден орденом Красной Звезды, Евгений Кондратьев и Владимир Галактионов удостоились медали «За отличную службу по охране общественного порядка». Когда с участниками оперативной группы шел разговор о мужестве, они говорили, что главными качествами человека, могущего совершить смелый поступок, должны быть долг, бесстрашие и самоотверженность. Справедливые слова. Но достаточно ли этих качеств? Все гораздо сложнее в реальной действительности. Человек сложнее слов, которыми его характеризуют. Да и сами герои с этим согласны. Сколько мы знаем наблюдений, исследований на этот счет, а вопросы, как и кто становится героем, продолжают задаваться вновь и вновь. Потому что вновь и вновь совершаются подвиги. Каждое утро лейтенант милиции Сергей Панков по армейской привычке встает рано. Традиционная пробежка вокруг дома. Затем чай. Ласковая болтовня с годовалой Настей. Помощь жене Ире. И — на службу, в подразделение, которое призвано быть там, где сложно, где возникают чрезвычайные обстоятельства. Звучит команда: «Группа, на выезд!» И через три-четыре минуты машина с оперативными сотрудниками срывается с места. К месту происшествия вместе с товарищами отправляется и кавалер ордена Красной Звезды Сергей Панков.СЕРДЦЕ ЩУКИНА
Геннадий пристальным взглядом окинул свежевыкрашенные подъезды и сверкающие в лучах майского солнца окна. Ничего подозрительного. По-военному развернулся и вышел со двора потемневшего от времени огромного здания. Пройдя метров двадцать вперед, остановился и осмотрелся. По широкому Пролетарскому проспекту непрерывным потоком мчались машины. У перекрестков, как всегда, суетились неугомонные пешеходы. Обычная уличная картина Москвы. Ничего нового. Разве что необыкновенно ярко зазеленела на газоне только-только проклюнувшаяся из земли первая травка. Свежая зелень напоминала Геннадию не столь уж далекое детство, милые сердцу сказочные орловские места, где он родился и вырос. «Эх, теперь бы босиком по лугу, как бывало!» — размышлял он, глядя на широкую полосу газона. Но тут к действительности его вернул скрип тормозов подрулившей к тротуару желтой с красными полосами на бортах машины «скорой помощи». Солнечные блики на ветровом стекле мешали разглядеть водителя и того, кто сидел рядом с ним. — Товарищ Щукин, — окликнул его врач в белоснежном халате. — Как самочувствие? Геннадий от неожиданной встречи слегка опешил, но в следующий миг расплылся в радостной улыбке, заторопился к машине. — Валерий Павлович! — взволнованно заговорил старший сержант. — Вот так встреча! А я вас разыскиваю. — Плохо, значит, искал, — пошутил доктор. — Не по-милицейски. — Звонил не раз, вы то на вызове, то на совещании, — извинительно говорил милиционер. — Спасибо вам огромное. Знаете, тут недавно такое было… Наше отделение устроило встречу с медиками седьмой больницы. Встретились спасители и спасенные. Пришли Чернов, Иванников, Сухомлинова… нянечки, сестры. Пригласили артистов. А цветов было!.. Жаль, без вас. — Не переживай, встретились же. Врач «скорой помощи» В. П. Сазонов вышел из машины, оценивающе окинул взглядом фигуру Щукина: — Ну-ка покажись. Богатырь, да и только! Сто лет проживешь… Щедро расточая похвалы Щукину, доктор в глубине души искренне изумлялся тому, что вот этот двадцатидвухлетний человек, побывавший однажды на том свете, как ни в чем не бывало стоит на посту и несет службу. Да еще какую! А говорят, чудес не бывает… Из 84-го отделения позвонили в оперативный отдел станции скорой помощи: срочно нужен врач! На экстренный вызов тотчас выехала бригада во главе с Сазоновым. У входа в отделение медиков встретил инспектор-дежурный и поспешно проводил в служебную комнату, где на диване, тяжело дыша, лежал молоденький худощавый милиционер, бледное лицо которого блестело от мельчайших росинок холодного пота. «Шок», — сразу отметил про себя Валерий Павлович и кивнул фельдшерам: — Противошоковые… Носилки. Подняв рукав кителя милиционера, он нащупал еле вздрагивавшую ниточку пульса у запястья. А как сердце? Чтобы прослушать его через фонендоскоп, врач отодвинул в сторону края рубашки и увидел резаную рану с бурыми, затвердевшими сгустками крови как раз на том месте, куда собрался поставить трубку. Выбрав проекцию чуть выше, Сазонов услышал отчетливые перебои в кровяном насосе. «Да, положение — хуже не придумаешь». И тут же бросился в соседнюю комнату к телефону, чтобы посоветоваться. Набрал 03, в трубке раздался знакомый голос диспетчера. — Марина, срочно соедини со старшим врачом! — Говорите. — Галина Васильевна, это Сазонов. Я в восемьдесят четвертом отделении. Случай крайне серьезный. Тяжело ранен в сердце молодой милиционер. До института Склифосовского вряд ли довезу. Порекомендуйте ближайшую больницу. — Минутку, — сказал старший врач Головина, — уточню. — И тут же: — В седьмую клиническую. Хирурги предупреждены. Операционную готовят. Связь по рации. — Едем… Геннадия бережно переложили на носилки, ввели противошоковые быстродействующие средства и с максимальной осторожностью внесли в подогретый салон машины. Как только захлопнулась задняя дверь, автомобиль, мигая яркими сигнальными огнями, понесся к новым больничным корпусам. Щукин просил пить, тяжело и часто дышал. Сазонов как мог смягчал страдания больного: то положит на губы влажную марлю, то прибавит подачу кислорода. Но главное — заботился о том, чтобы быстро доставить раненого в больницу, ибо жизнь Геннадия могло спасти только экстренное оперативное вмешательство. Дорога была каждая секунда. Вот почему Сазонов принял решение сразу же, минуя приемный покой, поднять Щукина на носилках «скорой» в реанимационное отделение больницы. Операционный стол уже приготовили, и хирурги В. И. Богдасаров, Е. А. Оганесян, В. А. Чернов, анестезиолог М. И. Иванников немедленно принялись оперировать. Вскрыта грудная клетка. Да-а, войди нож на миллиметр глубже — и сержант мог погибнуть, не дожив до двадцать первого дня своего рождения. Могло быть так. Милицейская служба — всегда фронт. Осушена рана. Кровь скопилась в околосердечной сумке, сдавив сердце со всех сторон. И такого натиска оно не выдержало. Прямо на глазах у хирургов, словно в отместку за их прикосновение, отказалось работать. Врачи разом повернули головы к экранам чувствительных приборов. Кривые линии там перестали вычерчиваться. Клиническая смерть… — Массаж… Вентиляция, — строго подала команду заведующая отделением Л. В. Сухомлинова. Задышал аппарат искусственного дыхания. Чернов ладонью сжал обессиленный мышечный комок. Потом еще и еще. Секунда, другая… десятая… Пальцы хирурга продолжали сжимать упругую сердечную мышцу. И вдруг… Электрокардиограф стремительно высветил на экране густую зубчатую дорожку: сердце ожило, пришло в движение. Врачи прибегали то к одной, то к другой процедуре. Главное — не дать «мотору жизни» остановиться. Отчаянно боролся за жизнь, помогая врачам, и организм Щукина. Но лишь через пять часов кризис миновал. Состояние жизненно важных функций более или менее стабилизировалось. Однако у врачей еще не было уверенности, что все обойдется. К тому же нужна была кровь. Много крови. В больнице не осталось ни капли. Созвонились с дежурным по ГУВД Мосгорисполкома. В считанные минуты помочь вызвались двести работников милиции. Однако нужная группа крови оказалась только у медсестры поликлиники московской милиции Антонины Грачевой. Шесть суток медицинский персонал не отходил от кровати Геннадия. Казалось, вся больница работала на него, сражаясь за жизнь. И смерть отступила. Щукин пришел в сознание, открыл воспаленные глаза и шепотом заговорил, слегка покусывая потрескавшиеся от высокой температуры губы: — Ох как худо!.. Боль разрывала тело на части, трудно дышать, не поднять головы, не пошевелить пальцем. — Ничего страшного. Теперь все зависит от тебя, от точности выполнения медицинских предписаний, — успокаивал его лечащий врач В. С. Милушкин. И, как подобает солдату милиции, Геннадий аккуратно выполнял назначения врачей. Ни одной жалобы. Врачи опасались осложнений, с тревогой ждали ухудшения. Он же — только улучшения. По специально разработанным методикам тренировал легкие, мышечную систему, сердце. Вначале все это происходило в палате, в кабинете лечебной физкультуры, а потом и на улице. «Лучше! Каждый день лучше», — это он твердил себе с утра до вечера. Молодой организм под опекой врачей быстро набирал силы. Контрольные проверки показали, что сердце функционирует в пределах нормы. Настал час, когда Щукин тепло распрощался со ставшими ему бесконечно дорогими людьми в белых халатах, его спасителями в полном смысле этого слова. Провожал его весь медицинский персонал. Еще находясь в больнице, Геннадий помышлял только об одном: выжить и не стать инвалидом. И вот теперь, идя домой, засомневался: сможет ли служить? Хотя врачи убежденно говорили: «За сердце не волнуйся, а все остальное решай сам», было все-таки боязно. «Да о чем я? — вроде бы пригрозил себе Щукин. — Не для того приходил в милицию, чтобы расставаться с ней». С такими мыслями он взял отпуск и укатил в родную орловскую деревню и уже там окончательно решил: только на свой пост. С того дня им владело одно желание: скорей, скорей в свое 84-е отделение. А как только вернулся, сразу вышел патрулировать улицы города, пытался дозвониться до Сазонова, но увы… И теперь несказанно рад этой случайной встрече на улице. — Рад тебя видеть, Гена, в добром здравии, — говорил врач, — ну а сердечко-то как? Не пошаливает? — Ничуть, Валерий Павлович, — бодро отвечал он, — только рубцы на коже иногда чувствую. — Это пройдет, — с уверенностью сказал Сазонов. И, сняв с головы высокий колпак, вытер им вспотевший лоб. — Извини, Гена, может, бестактный вопрос, но как все же это произошло? Щукин потрогал рукой виски, как бы вспоминая то, что произошло с ним… В тот день дежурные наряды инструктировал начальник 84-го отделения милиции майор Ю. А. Крылов: — На нашей территории произошла квартирная кража. Обязываю удвоить бдительность, не оставляйте без внимания дворы, подъезды, проверяйте документы у всех подозрительных лиц. На случай возможных осложнений он определил задачи каждому постовому. После инструктажа милиционеры отправились по своим маршрутам. Свернув с оживленного Пролетарского проспекта за угол, Щукин оказался на просторном дворе большого дома. Здесь было тихо и спокойно. В дальнем конце оживленно разговаривали три пожилые женщины. Шел пятый месяц службы. Вернувшись из армии, Геннадий не стал устраивать себе каникул, а сразу, же, как мечтал, пополнил ряды солдат правопорядка. Начальный курс проходил под руководством наставников, опытных милиционеров, прямо в деле, на оживленных московских улицах. Чем больше он узнавал о службе, тем становилось интереснее. С какими только ситуациями не сталкивается милиционер! В меру своих возможностей Щукин содействовал их разрешению. Что там говорить: приятно, когда твои действия идут на пользу, но и огорчительно, когда возникший на улице конфликт не удается разрешить тут же, на месте, а приходится подвергать нарушителя приводу в отделение милиции. От этого иногда делалось как-то не по себе. «Это пройдет, — говорили ему, — наша служба — либо радости, либо огорчения. Середины нет. Важно уметь выходить победителем, но не менее важно и признавать свои ошибки, когда ошибаешься или чувствуешь, что не прав. Поступки всегда сверяй с законом, тогда не будешь испытывать угрызения совести. В нашей практике не бывает черновиков, все пишется, делается в судьбе человека набело. И лучше никогда не ошибаться. Не раздражайся, будь осмотрительным, точным и предупредительным. Избегай ярости. Это очень опасный момент и для самого тебя, и для окружающих». За время службы к Щукину пришло ощущение уверенности, но сомнения еще оставались: «Вдруг не так поймут или не то скажу?» Особенно испытывал неловкость тогда, когда нарушитель хамил, лез напролом. Не находил Геннадий объяснения таким поступкам. Мучился из-за этого. Тем не менее старался быть всегда непримиримым ко всякого рода нарушениям. …Щукин хотел было пройти мимо, дальше по маршруту, но скрипнула дверь ближайшего подъезда. Вышел мужчина с бородой — лет сорока. На его правой руке висел теплый плащ, левая покоилась в кармане темных брюк. Незнакомец свернул налево и поспешно скрылся в другом подъезде. Через несколько минут он приоткрыл дверь, высунулся, но, увидев неподалеку милиционера, юркнул обратно. «Странный человек. Нужно проверить документы», — подумал Геннадий и решительно направился к подъезду. Прервем на секунду последовательность повествования и представим незнакомца, укрывшегося за дверью. Он, в противовес Щукину, словно вышел из некоего темного и мрачного мира. Еле-еле окончил шесть классов. Был инициатором драк. Пятнадцати лет от роду предстал перед судом за кражу. Не подействовало. Пил, гулял, воровал. Снова судили. Потом кражи стали его основным делом. Человек без определенных занятий, без места жительства, он сделал преступление своим ремеслом, а тунеядство, бродяжничество, отбывание наказаний — своим образом жизни. Вор, матерый рецидивист, недавно освобожденный из колонии, он вновь готовился совершить кражу, а потом покинуть Москву. На случай осложнений вооружился коротким ножом, заточенным с двух сторон. Держал его в правой руке под плащом. Столкнувшись во дворе с милиционером, рецидивист растерялся, заметался по подъездам. — Гражданин, можно вас на минутку? — позвал старший сержант. Незнакомец остановился. — Вы, наверное, кого-то ищете? Может быть, я вам помогу? — спросил Щукин. — Да, ищу, — и, шагнув в сторону, намеревался уйти. — Вы приезжий? — преградил ему путь Геннадий. — Да. — Покажите документы. Мужчина, хмурясь, не снимая с руки плаща, полез в карман и следом добавил: — Да отвяжись, тороплюсь… — Тогда пройдемте со мной. В отделении выясним, кто вы, куда торопитесь?.. — Еще чего!.. Незнакомец поднял руку с плащом и, словно желая отмахнуться, с силой надавил на грудь милиционера. Жгучая боль пронзила тело. На миг остановилось дыхание. «Что это? Неужели ранен? — мелькнула мысль. — Но ведь не было ни ножа, ни сильного удара. Только взмах плаща и толчок. Как же так!» Очнувшись от секундного оцепенения, Геннадий увидел, как незнакомец побежал к соседнему дому. — Стой! — крикнул Щукин и, попросив подошедшую женщину позвонить в милицию, бросился вдогонку. И только тогда, на бегу, вдруг почувствовал, как что-то липкое и теплое растекается под рубашкой. «Кровь!.. Значит, ранен. Но бежать можно, — успокоил себя Геннадий. — Задержать! Во что бы то ни стало не упустить!» Его волновало, успеет ли догнать преступника, а догнав, задержать, обезвредить, хватит ли сил выстоять. Преступник, завернув за угол дома, остановился в нерешительности: то ли спрятаться в подъезде, то ли бежать дальше? В этот момент появился Щукин. Не каждый может вступить в обычный поединок. А тут перед глазами нож и яростное лицо. Геннадий резко бросился вперед и сбил беглеца с ног. Не удержался и Геннадий, упал. Преступник, поднимаясь, занес над ним нож, но старший сержант на мгновение опередил его, ударив по руке. Лезвие изменило направление и, разрезав шинель, лишь слегка поцарапало кожу. Собрав силы, Щукин прижал нападавшего к земле и связал руки. — Сопротивление бесполезно, встать! — тяжело дыша, скомандовал милиционер. Противник еще раз попытался оказать сопротивление, терять ему было нечего, но Геннадий так сдавил ему кисть, что, вскрикнув от боли, он покорно зашагал к 84-му отделению, находившемусянеподалеку от места схватки. Рана давала о себе знать. Геннадий стал ощущать перебои в сердце. Начинала кружиться голова, слабели ноги, сохло во рту. С каждой секундой росла жажда. — Не оглядываться, вперед! — приказывал Геннадий. А про себя думал: «Лишь бы не упасть, дотянуть до дежурной части». И крепче стискивал руку задержанного, давая тем понять, что всякая попытка освободиться бесполезна. Последние метры были самыми трудными. На себя Щукин уже не обращал внимания. «Только бы не улизнул этот негодяй, — была мысль. — Только бы…» Вот и двор отделения. Дверь… Дежурный… Сил нет. Он повалился на диван, где и застал его врач «скорой помощи» Сазонов… Валерий Павлович слушал внимательно. Щукин говорил несколько сдержанно — таков характер. Оживился лишь тогда, когда упомянул о том, как вручали ему орден Красной Звезды, как орловская студия телевидения организовала с его участием большую передачу, а голянская школа, в которой он учился, пригласила на разговор с учениками. Щукин смолк, но через секунду встрепенулся: — Чуть не забыл, теперь я — слушатель Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД. Хлопот прибавилось, а учеба очень нравится. — А вдруг опять встретится бандит? — Что делать — служба… — Рад за тебя, Гена, — пожал руку врач. — Быть тебе генералом. Сазонова позвали к рации: кому-то нужна медицинская помощь. — Ну, товарищ старший сержант, желаю удачи и спокойного дежурства, — сказал он на прощанье. — И вам того же, Валерий Павлович. Машина рванулась вперед. Щукин взглядом провожал ее до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. Поправив снаряжение, он размеренно зашагал вдоль газона. Навстречу шли люди. Никто из них, конечно, и не подозревал, что вот этот худощавый, застенчивый юноша в милицейской форме 24 мая 1982 года совершил подвиг. Настоящий подвиг.ПОЕДИНОК НА РАССВЕТЕ
Художник Наумов бросал отрывистые взгляды то на холст, то на человека, сидевшего перед ним в милицейской форме с орденом Красной Звезды на груди. Милиционер от вынужденно занятой неудобной позы время от времени покусывал губы и мял руки. — Что, Николай Федорович, устали? — как бы мимоходом спросил сержанта художник. — Да, признаться, Виктор Васильевич, позировать не такое уже простое занятие. — Что верно, то верно, но ради искусства потерпите. — Художник улыбнулся и, торопливо смешав краски, продолжил: — Понимаете, какая штука, вожу кистью, а вы все время куда-то уходите от меня. Как ни пытаюсь поймать момент — не получается. — Знать, природа обделила. В лице — ничего героического. — Все на месте. Взгляд открытый, внимательный, устойчивый, доброжелательный. Родились, видно, без кожи на сердце. Вы уж простите, Николай Федорович, но постарайтесь вспомнить тот день, а я настроюсь пережить его вместе с вами. Глядишь, и уловлю этот миг. Мне он нужен, чтобы лучше представить вас на холсте. Ледовской вздохнул: если откровенно, не хотелось ему ворошить прошлое, но и грех не пойти навстречу художнику, рискнувшему написать с него портрет для предстоящей выставки «Всегда начеку». Он сел поудобнее и, бегло разглядывая подрамники, небрежно лежавшие на стеллажах, негромко начал рассказ. …Настроение в тот ясный летний день у Ледовского было отличное. Он только что привез из больницы годовалого Олежека, который долго болел и вот теперь наконец встал на ноги. Отец от него, конечно, никуда. Оживившийся малыш льнул к отцовским рукам, прижимался к груди, теребил нос. Николаю очень хотелось продлить эту нахлынувшую радость общения, а потом уложить утомленного сына в кроватку и, склонившись над ней, пристально рассматривать личико этого безмерно дорогого ему существа. Однако время уже звало его на милицейский пост, куда он никогда не опаздывал. Служба есть служба, она требует неукоснительного соблюдения дисциплины. Бережно передав Олежека жене, Ледовской поспешил к шкафу, чтобы надеть старательно отутюженный мундир. «Форма — лицо милиционера», — говорил себе сержант и относился к ней с большим почтением. Когда Николай собрался и надел фуражку, Олежек жадно потянулся к золотистой кокарде. Пришлось достать запасную. Лицо мальчика радостно засияло. Отец, поцеловав его, направился к двери. С необыкновенной легкостью Ледовской сбежал с лестницы, вышел из подъезда и поднял голову. В окне своей квартиры он увидел жену с сыном на руках. Теплое чувство колыхнулось в груди. Николай приподнял фуражку, помахал ею. Затем повернулся и-быстро зашагал к автобусной остановке. Дежурные наряды инструктировал замполит отдела. И хотя, речь шла о вещах сугубо прозаических, наставления комиссара, как неофициально называли милиционеры заместителя начальника отдела по политической части, для Ледовского были очень важными. Слушая слова начальника, он мысленно проходил по своему маршруту патрулирования, восстанавливал в памяти инструкцию о применении оружия (мало ли что может случиться) и, конечно, думал о машине, потому что он не просто милиционер, а милиционер-водитель. Значит, призван не только службу нести, но и управлять автомобилем. Сложно? Да. Но Ледовскому это по плечу. Он любил и технику, и службу свою. Особенно службу в ночной милиции. Почему? Здесь часто счет идет на минуты и секунды, решения надо принимать быстро, безошибочно. Нравилось Николаю объезжать территорию и осматривать закрепленные за ним объекты; делал он это с видимой охотой. Осмотрев машину, он привычно сел за руль и включил двигатель. Прислушался, не стучат ли клапаны, проверил рацию — порядок. Выжав сцепление и замурлыкав какую-то старую солдатскую песенку, слышанную не раз в армии, сержант тронулся в путь. Дербеневская набережная, Дубининская улица… Взгляд вперед, влево, вправо. Машина не спеша двинулась по безлюдному переулку, и мысль на какое-то мгновение переключилась на сына. «Спит или не спит? — подумал Николай. — Надо позвонить». Через минуту машина подкатила к концу переулка. Ожила рация, Ледовской остановился, чтобы ответить на позывные. Дежурный, получив подтверждение об устойчивости связи, приказным тоном заговорил: — Сработала сигнализация. Проверьте квартиру. Адрес… О результатах доложите. Крутой разворот… Вот и дом-«нарушитель»… Бегом по лестнице, звонок в квартиру. На пороге появился хозяин — мужчина средних лет. Молчит, спокоен. Широко расставленными глазами вопрошающе смотрит на милиционера. — У вас что-нибудь произошло? — нарушил затянувшуюся паузу Ледовской. — Да вроде бы все в порядке, товарищ сержант, — ответил мужчина. — Но дежурный передал, что в вашей квартире сработала сигнализация. — Мы с самого утра дома. Маша, ты не трогала телефон? — обратился хозяин к жене. — Говорят, сработала сигнализация. — Нам никто не звонил, к телефону я не подходила, — раздался спокойный голос из глубины квартиры. — Тогда ясно, — сказал Ледовской, — неисправность где-то на линии. Извините за беспокойство — служба. — Пожалуйста, пожалуйста, — заторопился хозяин, — но вы все-таки попросите, чтобы позаботились… исправили. — Непременно доложу, — сержант откозырял и поспешно спустился вниз к машине, вокруг которой собралось несколько любопытных старушек. — Никого не ведет. Стало быть, так приезжал, — сказала одна из них. Ледовской улыбнулся, но не вступил в разговор, а прошел мимо и сел за руль, размышляя о том, что охранная сигнализация еще несовершенна, иногда «перестраховывается», вхолостую срабатывает. Впрочем, милиционеры на нее не в обиде. Перестраховка в милицейском деле — вещь совсем не вредная. Доложив о результатах посещения квартиры дежурному, сержант повел машину по своему маршруту, чтобы проверить магазины. На первый взгляд работа эта нетрудная. На самом же деле она отнимает много сил. Глаза и уши должны быть чуткими. Каждый выезд — испытание. «Точку» нельзя обходить просто так, окинув взором окна и двери. Все нужно потрогать и пощупать. Не проверишь замки или стекла — можешь не заметить проникновения внутрь магазина. С Ледовским однажды это едва не случилось. Сержант, как положено, обошел универмаг и видимых погрешностей не обнаружил: свет горит, окна целы, замки на месте. Можно возвращаться к патрульной машине, чтобы следовать дальше. Николай уже сделал шаг вперед, но идти передумал: вроде чего-то недосмотрел. Развернулся и к двери, потянул за один замок — тот раскрылся, потянул за другой — то же самое. Вот чудеса! Даже в жар бросило. Прислонил ухо к двери — тихо, посмотрел в окна — никого. Но замки-то раскрыты… Подбежал к машине, об увиденном известил по рации дежурного. — Будьте на месте, высылаю оперативную группу, — приказал дежурный. Положив микрофон, Ледовской подбежал к двери и затаился. Минуты через две-три изнутри донесся шорох, а потом и приглушенный голос: — Слышь-ка, принимай! Легкий толчок в дверь: — Оглох, что ли? Бери, говорю! Ледовской прильнул к дверной щели и шепнул: — Погоди, милиция! — Сейчас схлопочешь за такие шутки, — раздалось в ответ. — Открывай, говорю! Дверь от давления изнутри подалась вперед, загремел замок. — Тише, потерпи! — тревожно сказал сержант человеку, находившемуся в магазине. — Милиция недалеко… — Ну, считай, по шее заработал… Вспыхнул ослепительный свет фар оперативной машины. Выбежавшие из нее работники милиции открыли дверь и застали врасплох вора, державшего в руках ценные вещи. Уже потом, при ведении следствия, выяснился механизм проникновения в помещение. Подобрав ключи и открыв замки, один из воров прокрался в зал за товаром. Соучастник же остался снаружи, а для притупления бдительности ночной милиции (на случай ее появления) навесил на петли замки. Заметив приближающуюся милицейскую машину, злоумышленник спрятался за ближайшими деревьями и наблюдал за действиями Ледовского, а когда увидел, что хитрость его все же не удалась, скрылся. С тех пор сержант придирчиво осматривал каждый запор, каждый замок на дверях складских и торговых помещений. Прежде чем начать новую «замковую» операцию, Николай позвонил жене, чтобы справиться о ребенке, его самочувствии: ведь малыш дома первую ночь после длительного перерыва. Услышав от нее успокоительное: «Все в порядке, сын спит», Николай с облегчением поехал дальше. Продвигаясь от одного объекта к другому, он по-хозяйски осматривал их, записывая в блокнот выявленные погрешности. Приглядывался и к ночным прохожим — их походке, внешнему виду, поведению. Даже небольшие признаки, безобидные на первый взгляд, могут дать многое и привести к совершенно неожиданным результатам. Помнит Николай такой случай. …Было это около девяти вечера. За кустами расположились трое, вроде бы с покупками. Выставили бутылку, разложили конфеты. Тут и Ледовской подъехал. — Порядок нарушаете, граждане, — предупредил он. — Извините, товарищ сержант, — начал один из них, — вот отоварились, как не обмыть. — Дома — пожалуйста, а тут запрещено. Ледовской взглянул на свертки: «Э-э, покупками тут и не пахнет. Упаковка разная, и шпагат… продавцы так не перевязывают». — В одном магазине были? — Так точно!.. — Пройдемте, у дежурного оформим протокол за распитие спиртных напитков на улице. — Не годится, сержант, составляй здесь, — загалдели «покупатели». «Вызвать по рации наряд — разбегутся», — подумал Николай и продолжал настаивать на своем: — Мало того, что порядок нарушили, еще и возмущаетесь! Выбирайте: или штраф, или суд за неповиновение работнику милиции. — У нас денег нет, — сказал один. — Ничего, заплатите позже, после того, как начальник вынесет постановление. Собирайтесь, поехали. При виде Ледовского дежурный спросил: — С кем пожаловали? — Надо разобраться, эти покупатели не могут определить, что у них в свертках. Были в одном магазине, а товар им упаковали по-разному. Надо бы снять вопросы. Мужчины попятились назад. Им преградили путь. — Я только что принял сообщение о краже хрусталя из квартиры, — сказал дежурный. — Даже еще не успел уголовный розыск известить. Через несколько минут оперуполномоченный уголовного розыска крепко жал руку Ледовскому: — Ну, Николай, от каких хлопот ты меня избавил! Хозяйка опознала свою утварь, а «покупатели» оказались ворами со стажем… «Жигули» продолжали колесить по улицам и переулкам. Осмотры, объезды, переговоры с дежурным — в таких хлопотах прошла почти вся ночь. А когда забрезжил рассвет, Ледовской подрулил к набережной. Стояла тишина: ни машин, ни людей. Николаю нравилось вот это переходное состояние от темной ночи к пробуждающемуся утру. В этом состоянии природы есть что-то загадочное, наталкивающее на раздумье. Открыв дверцу и сняв фуражку, Николай посидел так некоторое время, а потом шагнул к парапету. Вода в реке тихо плескалась о почерневший от времени и влаги бетон набережной. Река всегда успокаивала, навевала легкую грусть. Это Николай помнил еще с детства. Таинственность ночной реки была особенно притягательна. Она давала почувствовать уединенность. Думалось в такие минуты о многом… Заговорила рация. Дежурный настойчиво просил ответить. Сержант подошел и снял трубку. — Вы где находитесь, Ледовской? — На набережной… — Срочно отправляйтесь на Дубининскую, шестьдесят пять. Побеспокоила сигнализация. — Ясно! — ответил Ледовской. Через три минуты он въехал во двор большого восьмиэтажного дома. У подъезда уже стояла патрульная машина. Вышедший из нее навстречу милиционер рассказал: — Вор залез в квартиру на первом этаже, но, видимо, не знал, что она под охраной. Когда сигнализация сработала, мы сразу же выехали и застали вора врасплох. Ему все же удалось выскочить в раскрытое окно. Старший экипажа бросился вдогонку, а я остался караулить квартиру. — Ясно, — сказал Ледовской. — Приметы? — Высокий такой, в сером пальто и шляпе. Надо сказать, бегает быстро, — заключил милиционер. — С оружием? — спросил Николай после некоторого молчания. — Кто знает? — Не густо. Ледовской поправил снаряжение и фуражку, предложил: — Тогда так. Оставайтесь здесь, а я проскочу по переулкам. Далеко уйти он не мог. Сообщите дежурному. Он мигом вырулил на Дубининскую: скоро пойдет транспорт, и вполне возможно, что вор прыгнет в первый попавшийся автобус. По-прежнему было тихо. Всматриваясь вперед, Ледовской размышлял: «Зная, что работники милиции рядом, преступник постарается уйти как можно дальше. Значит, где-то он тут. Сверну-ка в этот переулок». Как только машина выехала из-за угла, Ледовской увидел впереди высокого человека в шляпе и сером пальто. Услышав шум двигателя, тот оглянулся и побежал. «Он», — решил Николай и нажал на педали. Мужчина бежал тяжело. Устал, одолевала одышка. Уже минут десять он уходил от преследования. Любой ценой хотелось вырваться, иначе конец. Только отбыл срок, и опять попался. На это не рассчитывал. Мечталось о другом: на рассвете «взять» квартиру — и в аэропорт, оттуда — на юг, к морю, встряхнуться. Билеты в кармане, все так просто. Но за спиной урчала милицейская машина. Оглянулся: идет прямо на него. Схватки не избежать. Он сунул руку в карман, крепко сжал пластмассовую рукоятку ножа… Ледовской просигналил: мол, остановись: Беглец не отреагировал. Через сотню шагов проход во двор. Ускользнет. Ледовской сократил расстояние и, глядя через ветровое стекло, примеривался, как взять вора. Великоват, рука в кармане. Что там, нож, пистолет? Впрочем, брать все равно надо. Упускать нельзя, не имеет права. Принял чуть в сторону и открыл дверцу. Когда поравнялись, резко затормозил, выскочил из машины и бросился за преступником: — Стой! Не уйдешь! Вот и широкая спина. Протяни руку — и можно ухватить за воротник. Ледовской так и хотел сделать. Но преследуемый резко развернулся и с криком: «А-а, получай!» — занес нож. Сержант упредил его — с силой стукнул ребром ладони по занесенной над ним руке. Нож, описав дугу, упал на мостовую. Преступник бросился на милиционера. Ледовской, отскочив назад, подставил ногу. Наткнувшись на нее, преступник полетел головой вперед, но в падении успел схватить Николая за руку и увлечь за собой. Сержант оказался наверху, обвил шею противника, с силой подняв ему подбородок. Тот пытался сбросить с себя милиционера, но Ледовской продолжал прижимать его к мостовой, чтобы удержать его до подхода патрульной машины. Некоторое время это ему удавалось. Но противник не унимался и центр борьбы перенес на то, чтобы завладеть пистолетом Николая. Отбивая наскоки, Ледовской приподнялся так, чтобы преступник не дотянулся до кобуры. Но это движение позволило противнику освободить руку, которую он тут же сунул в карман, где лежала еще одна, короткая, финка. Он попытался пустить ее в ход, но Ледовской отбил нападение и выхватил пистолет: — Лежать! Он выстрелил в воздух. То ли властный голос, то ли предупредительный выстрел, а скорее всего, и то и другое парализовали преступника. Распластав руки, он лежал на мостовой, не в силах подняться, чтобы продолжить борьбу. Ледовской властно проговорил: — Лежать! Не двигаться!» Через несколько секунд преступник снова зашевелился, поднял голову, но, увидев направленный на него пистолет, затих. Николай чуть отступил назад, чтобы легче контролировать движения задержанного. — Сдаюсь, веди в отделение! — приподнялся мужчина. — Не шевелиться! — предупредил Ледовской. Он посмотрел в конец улицы: никого. Крепче сжал пистолет. Через несколько минут послышался шум двигателя. Сержант повел глазами — в его сторону направлялась грузовая машина. Облегченно вздохнул: наконец-то. Преступник ни на секунду не терял надежды вырваться и бежать. Разреши ему Ледовской пошевелиться, он тут же сбил бы его. Увидев машину, задержанный потянулся к лежавшей финке, невзирая на предостережение. Ледовскому ничего не оставалось, как снова прижать противника к мостовой. Подскочил удивленный водитель: — Что случилось? — Помогите связать. Тут же подошла патрульная машина. Преступника водворили в кабину… Вскоре после этого случая Ледовской уехал с семьей в отпуск, а когда вышел на службу, товарищи сообщили, что он, милиционер-водитель отдела вневедомственной охраны при Москворецком РУВД Москвы, за мужество, проявленное при задержании преступника, награжден орденом Красной Звезды. Спустя несколько дней сержанта разыскал московский художник Виктор Наумов и пригласил к себе в мастерскую… Закончив рассказ, Ледовской поднялся и подошел к холсту: — Помог ли мой рассказ, Виктор Васильевич? — Несомненно, Николай Федорович. Уверен, портрет получится. Кто был на выставке «Всегда начеку», состоявшейся три года назад в Доме художника на Кузнецком мосту, тот не мог не обратить внимание на портрет сержанта милиции Николая Ледовского. Изображен он был простым и открытым, таким, как в жизни, — скромным и мужественным. Очень ответственная служба у Николая Ледовского, и несет он ее преданно, самоотверженно. В этом видится преемственность того лучшего, чем всегда отличались московские стражи правопорядка.ПОЕЗД СЛЕДУЕТ БЕЗ ОСТАНОВОК
Инкассаторская машина Луховицкого районного отделения Госбанка стремительно мчалась по пустынному шоссе. Дорога прямая, ровная. Место открытое: слева — огромное поле, справа — густая полоса лесопосадок. Водитель В. Н. Кондаков взглянул на часы — стрелки приближались к шестнадцати, посмотрел вперед — ни одной встречной машины. Шоссе будто вымерло. Лишь справа, у обочины, возился с двигателем мотоциклист. При приближении к нему Кондаков, сбросив скорость, принял влево, чтобы объехать. Когда машина поравнялась с мотоциклом, парень схватил лежавшее рядом ружье, мгновенно выпрямился и выстрелил несколько раз. Мелким градом разлетелись осколки лобового стекла, вскрикнули раненые инкассаторы В. Я. Роев и В. Н. Романовский и тут же сникли, уронив головы на грудь. Это произошло 22 сентября 1982 года близ города Луховицы, на двенадцатом километре от поворота на автомобильную трассу Москва — Рязань. Ошеломленный внезапными выстрелами среди белого дня водитель Кондаков, спрятав голову за приборный щиток, что было силы давил на газ, уводя из-под огня машину с двумя тяжелоранеными товарищами и десятками тысяч народных денег. Во избежание погони и повторного нападения он решил не останавливаться до тех пор, пока не выедет на оживленную трассу. Там спасение. Пока же на дороге по-прежнему никого, ни встречных, ни попутных машин. В кабине запахло горелым маслом. «Пробит двигатель», — подумал Кондаков. Вскоре упала скорость. Водитель поднял голову, оглянулся: погони не было. Машина, надрывно урча, едва тянула, а у поворота на автостраду мотор заглох. Встревоженный Кондаков выбежал на трассу, стал голосовать. Остановился микроавтобус. — Помоги, там умирающие, — задыхаясь от волнения, проговорил Кондаков. Водитель кивнул головой и подрулил к подбитой «Волге». Перенесли раненых, деньги. — Садись, — сказал он еле державшемуся на ногах Кондакову. Машина помчалась в луховицкую больницу. О нападении на инкассаторскую машину в Луховицкий районный отдел внутренних дел сообщили из приемного отделения больницы. Дежурный торопливо записывал: стрелял мотоциклист, одет в куртку, шлем красно-белый, рубашка защитного цвета… По тревоге были подняты две оперативные группы: одна выехала в больницу, другая — на место преступления. На обочине дороги оперативные работники обнаружили стреляные гильзы. Эксперт-криминалист тут же установил тип оружия и даже примерную характеристику его владельца. Стрелял не дилетант, а опытный преступник. Об этом говорил и тот факт, что, когда машина вырвалась из-под обстрела, гнаться за ней он не рискнул, а мгновенно скрылся. Кто он? Куда ушел? Где затаился? Что еще натворит, озлобленный неудачей? Над этими вопросами ломали головы сотрудники Луховицкого РОВД и Главного управления внутренних дел Мособлисполкома. На поиски мотоциклиста были брошены большие силы: подняли вертолет, работники уголовного розыска интенсивно изучали поведение тех, кто мог пойти на подобное преступление. Ни на минуту не умолкали телефоны, радио. Сейчас интерес представлял любой факт, хоть как-то проливающий свет на случившееся. Специально созданная следственно-оперативная группа анализировала все до мелочей; за короткое время она обработала огромный объем информационных сообщений. Из обильного бумажного потока внимание привлекла лишь телеграмма из Каширы, где был зарегистрирован угон мотоцикла «Ява». Приметы угонщика совпадали: рост выше среднего, одет в куртку, рубашка защитного цвета. Про эти же приметы говорил и водитель Кондаков. Вот она, решающая улика! Угонщик мотоцикла и налетчик на инкассаторскую машину, возможно, одно и то же лицо. А это уже меняло тактику, сужало круг поисков. Вскоре пришло еще одно значительное известие: гильзы, найденные на обочине, имели сходство с теми, которые были ранее обнаружены на месте другого происшествия при попытке завладеть оружием. По этим данным и определили преступника — опасного рецидивиста, которого давно искали. И тот знал об этом, но мысль об ограблении инкассаторской машины не покидала его. Жил, как волк, по-волчьим законам, скрываясь от возмездия. И вот когда он произвел серию выстрелов, не мог понять, почему машина не останавливается. Ведь все было рассчитано до мелочей. Так он уверовал в безнаказанность. А когда понял, что нападение не удалось, торопливо кинул оружие в рюкзак, вскочил на мотоцикл и на большой скорости ринулся назад, скорей к железнодорожному полотну. Любым поездом, но лишь бы улизнуть. Бросив в зарослях мотоцикл и шлем, он влетел на платформу, к которой приближался электропоезд Москва — Рязань. Прибыв в Рязань, преступник сразу же почувствовал, что весть о преступлении на дороге долетела и сюда: милиция усилила бдительность. Надо переждать. Как загнанный зверь, он затаился в вокзале, чтобы с поздней электричкой укатить в Москву, где легче затеряться в многолюдье. За минуту до отхода поезда он вошел в первый вагон, сел на заднее сиденье, лицом к кабине машиниста. Рюкзак с оружием положил рядом. В кармане нащупал финку. На пассажиров — двух мужчин и женщину, сидевших в разных концах, взглянул мельком: не опасны. Передние двери — вот что фиксировал его взор. Оттуда могло прийти возмездие. Сев поглубже и подтянув рюкзак, он прикрыл глаза, вроде бы устал, дремлет. Электричка ритмично отстукивала дробь. Надвигалась ночь. В ней спасение. Инструктаж в отделении внутренних дел на станции Голутвин проводил майор В. Кононов, который сообщил дежурным нарядам о происшествии близ шоссе Москва — Рязань: — Не исключено появление преступника в зоне действия нашего отделения. Он вооружен, да и терять ему уже нечего. Если его упустить, он может натворить немало других бед. Поэтому будьте предельно бдительны и собранны. О всех подозрениях немедленно докладывать. На станцию Луховицы отправились сержанты Валерий Кошлов, Владимир Попов и Александр Сильянов, которым предписывалось наглухо закрыть свой участок железнодорожной магистрали. Для выполнения поставленной задачи милиционеры часто пересаживались то в один, то в другой поезд. Уже несколько часов подряд они вглядывались в лица, одежду, багаж пассажиров, но нужного среди них не находили. Об усталости не думали. В таком напряженном поиске не одни они. Время с пяти до десяти вечера самое тяжелое — часы пик. Сержанты с большим трудом продвигались по переполненным вагонам. Случись чего, нелегко будет задерживать преступника, который не мог не знать, что в таком многолюдье работники милиции никогда не станут применять оружие, даже тогда, когда он сам пустит его в ход. На платформе станции Дивная они присели на диван до появления очередного электропоезда; ноги словно налились тяжестью. Обменялись мнениями по поводу бесплодности поиска. И тут же задали себе вопрос: а почему разыскиваемый должен попасться обязательно им? Он мог ускользнуть и другим путем. Но приказ есть приказ. Они замолчали. Задумались. О чем? Может быть, о своей «железнодорожной» судьбе? Постовой в электричке. Эка невидаль следить за порядком. Уголовный розыск, следствие — вот это да! А постовой? Так иногда думают обыватели о сотрудниках милиции, идущих по вагонам. Да и в самой милицейской среде, бывает, муссируются аналогичные толки. Как же на самом деле? Милиция на транспорте — сложный участок в деятельности органов внутренних дел. Охрана порядка, расследование и раскрытие преступлений, борьба с хищениями грузов… Скорость, время, пространство, люди — все как в калейдоскопе. И среди всего этого — он, милиционер. Порой один. Случаются встречи с преступниками нос к носу. Надежды только на свои силы, на смекалку, опыт, профессиональное умение. Оперативная группа выезжает на место происшествия только при получении сигнала о нем. Постовой же часто раскрывает преступление задолго до сообщения в дежурную часть. Нужно только уметь и хотеть видеть, постоянно тренировать память, наблюдательность, анализировать факты. Вот стоит в тамбуре подвыпивший мужчина… с женской сумочкой в руках. Странно. А вот человек в теплой телогрейке и домашних тапочках: Пройти мимо или проверить? Пройдешь — пропустишь правонарушителя, остановишься — посеешь обиду в душе человека, оказавшегося, возможно, в затрудненных обстоятельствах. На все милиционер обязан иметь чутье. Иначе… Был же в их практике такой случай. Среди пассажиров бросилась в глаза женщина с травмированной ногой. Не нужна ли помощь? Но вместо ответа она испуганно стала объяснять, как торопилась на поезд и упала. Вроде бы нельзя не поверить взволнованному человеку. И в то же время настораживало: не за ногу женщина беспокоится, а скорее, появление работников милиции вызвало ее замешательство. Под предлогом оказания медицинской помощи пригласили ее в дежурную часть. При установлении личности оказалось, что доставленная женщина разыскивается работниками милиции за соучастие в тяжком преступлении. А как важно реализовывать сообщения о приметах преступников!.. Сержанты получили от дежурного сведения о человеке, укравшем на вокзале чемодан. Приметы: рыжий, с чубом. Наблюдая за пассажирами, милиционеры обнаружили рыжего. Но чемодана с ним не было. Что делать? Решили: один понаблюдает за подозреваемым, двое будут расспрашивать людей, которые могли бы видеть человека с чубом. «Да, — подтвердили некоторые, — был у этого человека чемодан, входил с ним в электричку». Стали искать. Нашли в другом вагоне. Спросили: «Чей?» Один из пассажиров сказал: «Какой-то рыжеволосый попросил присмотреть». Привели рыжеволосого, пригласили свидетелей, и тому ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Так в течение часа было раскрыто преступление. Особая забота сотрудников милиции — поездной вор. Тяжело вести с ним борьбу. Маскируется под пассажиров. Даже «прикрытие» себе выдумывает. Тут нужна хорошая память на лица, знание повадок преступников. И взять их надо не просто так, а с поличным. А это гораздо труднее, чем заприметить вора. Много обязанностей у постового. Теперь он не просто традиционный страж порядка, который находится на вверенном ему маршруте. Современный сотрудник милиции — это и юрист, и психолог, и педагог, и спортсмен. И только обладая суммой всех необходимых знаний и практических навыков, можно стать настоящим мастером своего дела. В десять часов к платформе подошла электричка из Рязани. — Проверим и будем докладывать, что все в порядке, — сказал Кошлов. — На сегодня довольно, поработали жарко. Вошли в первый вагон: Кошлов, за ним Попов. Сильянов наблюдал за посадкой, потом остановился в тамбуре. Хлопнули двери. Поехали. На появление в вагоне милиционеров никто не обратил внимания — привыкли. Они постоянно сопровождают поезда. Не проявил беспокойства и пассажир, что пристроился у окна в конце вагона. Попов зашел в кабину машиниста. Кошлов продолжал рассматривать находившихся в салоне. Взгляд остановился на молодом мужчине, сидевшем у окна, и по телу пробежал ток: воротник рубашки защитного цвета, рюкзак, в котором, судя по очертаниям, может быть оружие, а кроме того, джинсы, плащ. В сообщении, правда, сказано — куртка. Дремлет или глядит в окно? Попов — у машинистов, Сильянов — в тамбуре. Кошлов двинулся вперед, бросая на ходу привычное: — Граждане, не засыпайте. Это сигнал для Попова, чтобы подтягивался к нему. Остановился у «защитного воротника» и как бы невзначай: — Гражданин, не проехали? Тот вскинул глаза. Во взгляде было что-то острое, более жесткое, чем у остальных пассажиров. Приподнялся. На голову выше Кошлова. Крепко сбит. Положил руку в карман. Тут подошел Попов. — Документы есть? — спросил он. Парень смотрел пронзительно, молчал, только желваки ходили на скулах. Но вдруг рука его вылетела из кармана. Блеснула финка. Попов успел отскочить. Удар пришелся в спинку сиденья, второй Владимир парировал, подставив предплечье. Кошлов, отбросив рюкзак, вцепился в нападающего, но завести руку с ножом не удавалось. Преступник изворачивался. Нож взвился снова. Валерий выхватил пистолет и выстрелил… в пол, чтобы ошеломить противника. Это удалось. Финка выпала. На мгновение преступник вроде бы обмяк, уже поднял руки за голову. Но вдруг сидевшая через проход женщина вцепилась в рукав Кошлова. — За что бьете? Сейчас же отпустите! — взвизгнула она. И это чуть не стоило сержанту жизни. Преступник рванулся к рюкзаку… Валерий, оттолкнув защитницу, на доли секунды опередил бандита и сбил его. В салон ворвался Сильянов. Бросился Попов. Втроем скрутили преступника. На шум прибежал помощник машиниста. — Я старший наряда, — говорил Кошлов, — передайте по радио: задержан вооруженный преступник. Предупредите пассажиров — до Луховиц без остановок. Электропоезд стремительно набирал скорость. Отдышавшись, задержанный снова пытался вырваться. Его связали. В Луховицах электропоезд ожидала следственно-оперативная группа. Преступника посадили в машину. А в четверть двенадцатого, через 7 часов 45 минут после нападения на инкассаторов, за ним захлопнулась тяжелая дверь изолятора временного содержания. Из Луховиц в заинтересованные органы внутренних дел пошла информация: мотоциклист задержан и изолирован. Это значит, наступил отбой для всех служб, участвовавших в розыске. …Зал совещаний Курского вокзала столицы в праздничном убранстве. Сюда пришли работники Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте МВД СССР, чтобы принять участие в торжественной церемонии вручения государственных наград милиционерам отделения внутренних дел на станции Голутвин В. А. Кошлову, В. А. Попову, А. Г. Сильянову, проявившим мужество и отвагу при задержании особо опасного вооруженного преступника. Оглашаются Указы Президиума Верховного Совета СССР. Начальник УВД на железнодорожном транспорте прикрепляет к парадным кителям Валерия Кошлова и Владимира Попова ордена Красной Звезды, Александра Сильянова — медаль «За отличную службу по охране общественного порядка». Зал с интересом смотрел на мужественных солдат правопорядка. Если судить о них по внешности, то даже при самом богатом воображении никак не прибегнешь к словам «богатырь» или «косая сажень в плечах». Все они небольшого роста, худощавые, с удивительно добрыми глазами. Все они молоды, комсомольцы: Кошлов родился в 1958 году, Попов —в 1959 году, Сильянов — в 1960 году. Посыпались вопросы. Их задавали такие же молодые милиционеры, как и они. Награжденные отвечали кратко, просто и естественно. Страшно ли брать вооруженного преступника? Страшно, но надо, иначе какие же мы милиционеры. Да, в милицию пришли после армии, будучи уверенными, что место их здесь. Да, все женаты, у всех маленькие дети. Да, хотят учиться, стать мастерами своего дела… Трое молодых милиционеров совершили подвиг. Для них это было первым серьезным испытанием мужества, гражданской и профессиональной зрелости. С чем придется им столкнуться в дальнейшем? Сказать трудно. Но можно быть совершенно уверенным, что в любой ситуации они не подведут. И вновь потекли будничные дни. Снова электропоезда, вагоны. На ходу взгляд направо, взгляд налево, вверх, по багажным полкам. «Гражданин, курить нельзя». «Когда выходить? Через две остановки». «Гражданин, не проспите свою станцию…» Двери, тамбур, грохот колес во время перехода. Снова тамбур, какой по счету?В ТОТ ДЕКАБРЬСКИЙ ВЕЧЕР
В Москве много исторических и героических мест. Со свойственной нам поспешностью мы часто проходим мимо них, не замечая, что делается вокруг, чем знамениты та или иная улица, площадь, дом. Будете у станции метро «Преображенская площадь», остановитесь и оглянитесь вокруг. Да, вроде бы ничего особенного: входы и выходы вестибюля, огромная площадь, киоски, магазины, вереница машин, поток людей. Казалось бы, обычный московский пейзаж, но именно здесь, у большого углового дома рядом с метро, была поставлена точка в той горячей истории, именно здесь в декабрьский вечер 1982 года был совершен подвиг милиционером 30-го отделения милиции старшим сержантом Львом Владимировичем Семыразом. …Когда мы подошли к станции метро, начинал накрапывать мелкий дождь. Лев Владимирович, накинув капюшон серого милицейского плаща, подвел к тому самому месту. — Здесь вот и произошла развязка, — указал он рукой. Вздохнул: — Их — трое, я — один. Оглядывая это небольшое пространство, мы пытались воспроизвести обстановку того дня, тех тяжелых минут, которые пережил сержант Семыраз. Был конец рабочего дня. Надвигались сумерки. Люди торопились к метро. Семыраз в это напряженное время всегда находится поближе к вестибюлю станции, где больше всего скапливается народу. Его шестнадцатилетний опыт работы в органах внутренних дел подсказывает, что нахождение человека в милицейской форме предупреждающе влияет на противоправные деяния тех, кто не в ладах с установленным на улице порядком. В 30-м отделении Лев Семыраз служит давно, хорошо знает особенности территории, местную оперативную обстановку и, конечно, свой патрульный участок. А поэтому всегда появляется там, где назревает уличный конфликт или собираются любители выпить. Он приучил себя к тому, чтобы, двигаясь по маршруту, не просто фиксировать происходящее, но и оценивать поведение окружающих с точки зрения соблюдения закона. Ребята намереваются перескочить оживленную магистраль. Как не предупредить их о возможных последствиях! А вот из магазина вышла маленькая девочка. Плачет: потеряла маму. Семыраз все видит: берет ребенка за руку, заходит в магазин и мама сама бежит навстречу, благодарит старшего сержанта, извинительно оправдывается: мол, встала в очередь и не заметила, как дочь отлучилась. «Подскажите, к кому обратиться? — взволнованно спрашивает женщина. — Муж пьет, добровольно лечиться не хочет…», «Как пройти к дому номер . . .?», «Где находится такое-то учреждение?», «Не могли бы вы помочь?» Десятки вопросов. И на все нужно отвечать. А как же иначе? Постовой — лицо милиции. Граждане судят о ней в первую очередь по отзывчивости милиционеров на улице. Семыраз всегда помнит: его авторитет — это авторитет всей милиции. — Вежливость, тактичность, требовательность и решительность — вот что нужно постовому, — убежденно говорит Лев Владимирович. — Если этого нет, человек не на своем месте и не выполняет свой служебный долг как полагается, а потому многие его действия могут оказаться непонятными для окружающих. Конечно, наши предупреждения иногда не нравятся отдельным гражданам, но, поверьте, они продиктованы отнюдь не личными соображениями, а прежде всего интересами тех, кому адресуются наши замечания. И действуем мы в строгом соответствии с законом, должностными инструкциями. Даже в самых острых ситуациях мы ни на минуту не забываем о законе. Часто, например, мы имеем дело с лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Должен сказать, эти люди очень опасны, они могут не только сами совершить преступление, но и быть объектом преступления. Из-за пьянства совершается почти половина всех преступлений и восемьдесят процентов хулиганских поступков, вот почему к появлению на улице пьяниц мы так «неравнодушны». Так вот, при задержании они нередко оказывают неповиновение, мягко говоря, распускают руки, однако же мы не отвечаем им тем же. Даже в пределах необходимой самообороны стремимся к тому, чтобы сковать действия правонарушителя… Интересная у нас работа. Сколько всяких жизненных коллизий! Сколько неожиданностей! И главное, к ним мы должны быть готовы. Это тоже часть нашего труда. Размышляя о месте милиционера в поддержании порядка на улице, его качествах, Семыраз особенно пристрастно говорит о бдительности. И приводит десятки примеров из своей практики. …К автобусной остановке подошел средних лет мужчина. Можно было бы пройти, не обратив на него внимания. Человек, возможно, только что с поезда, а потому на нем помятый пиджак. И все же внешность его никак не гармонировала с изящным чемоданом, который он держал в руках. Козырнув, милиционер попросил незнакомца предъявить документы. Для видимости тот порылся в карманах, а потом… бросился бежать. Семыраз доставил нарушителя в отделение милиции, где вскоре установили, что тот два часа назад украл чемодан на вокзале. …А этот случай и вовсе может показаться рядовым. Стоит во дворе грузовой автомобиль. Стоит час, другой, третий. Ему бы работать, а он стоит. В чем дело? Семыраз подошел, повернул ручку — дверца открылась. Посигналил: может, водитель появится. Нет, не пришел. У ближайшего подъезда сидели люди, милиционер — к ним: мол, чья машина, в какой квартире живет водитель? «В нашем подъезде водители не живут», — ответили те. О подозрительном грузовике старший сержант сообщил в дежурную часть. Через некоторое время его уведомили: обнаруженная машина значится в списках угнанных. А позднее оказалось, что ее намеревались использовать для крупной кражи. …Однажды Лев Владимирович заметил трех мужчин, вышедших из подъезда с сумками и чемоданами. Прямо, к метро, не пошли, а завернули за угол. С какой стати? Семыраз — следом, укрылся за выступом стены, выглянул. Незнакомцы стояли в дальнем углу двора, энергично жестикулировали, создавая впечатление, что не знают, куда идти. Затем один из них, тот, который находился посредине, наклонился и принялся торопливо перекладывать вещи из одной сумки в другую. Проделав эту операцию, он оглянулся по сторонам, смял сумку в комок и кинул к забору. — Все это я отчетливо видел, — вспоминает Лев Владимирович. — И понял, что передо мной воры. Поправив кобуру, я тут же шагнул навстречу этой неизвестной компании. Появление милиционера не смутило незнакомцев, во всяком случае, вещи они не бросили и не побежали в разные стороны, как это обычно бывает. — Извините за беспокойство, но служба предписывает проверить ваши документы, — обратился старший сержант к высокому мужчине, ближе всех стоящему к нему. — Ну кто с собой их носит? — ответил тот. И приблизился к милиционеру. Двое встали сзади. «Берут в клещи, — подумал Семыраз. — Проверим». И отступил в сторону. Те снова подошли к нему. «Агрессивные, будут сопротивляться, — размышлял старший сержант. — Как задерживать?» — Да, не все с собой документы носят, — вздохнул Семыраз. — Но у вас-то они должны быть, как-никак, приезжие. Где же вас без паспортов примут? — Нас везде примут, мы народ пробивной, — жестко сказал высокий. — Так что не задерживай, старшой, торопимся. По поведению и манере разговора Семыраз предположил, что перед ним опытные рецидивисты, к тому же «гастролеры». Как же справиться с ними? — Если спешите на поезд, это меняет дело, Я помогу вам поймать такси, — сказал он. — Вот молодец! — обрадовался высокий. — Пошли. Остальные чуть замялись, а потом, в знак согласия кивнув головами, подняли вещи. Прошли вдоль забора; впереди выход на улицу, к стоянке такси. — Сержант, а, сержант, — обратился белобрысый, на вид моложе всех, шедший справа от Семыраза, — спичек не найдется? Милиционер насторожился. Трюк этот известен:стоит опустить руку в карман, как тут же последует удар. — Возьмем у таксиста, — подавляя волнение, сказал Семыраз. На всякий случай ускорил шаг. — Ага, вот и такси, — помахал он водителю, стоявшему на тротуаре. — Садитесь. Вещи — в багажник. Когда пассажиры разместились и водитель собрался трогаться, Семыраз открыл дверцу: — Подбросьте и меня, вон до того дома. Машина вырулила на мостовую, а через сто метров милиционер попросил водителя завернуть за угол, где располагалось 30-е отделение. «Пассажиры» поняли, что Семыраз обвел их, но было уже поздно сопротивляться… Как только за ними захлопнулась дверь камеры, в дежурную часть вбежал взволнованный гражданин: — Обворовали! Помогите! Дежурный подвел его к вещам: — Ваши? — Ой, мои, вот спасибо!.. Мы медленно отправились по маршруту. — На одну ступеньку с бдительностью, — продолжал Семыраз, — можно поставить и реакцию милиционера на возникшую ситуацию. Очень важно вовремя и правильно среагировать на случай. Замешкаешься, недооценишь обстановку и… пеняй на себя. А ведь было такое однажды. Промахнулся. …В ту ночь Семыраз нес службу близ Преображенской площади. Было тихо и безлюдно. Ближе к рассвету на улице появился человек с двумя чемоданами. — Что так поздно? — спросил его милиционер. Незнакомец остановился: — Работа, понимаете. План… — Долг мой — полюбопытствовать, что в чемоданах? — Не видно разве, инструмент. Изящный вид чемоданов никак не говорил о том, что они предназначены для переноски инструментов. Что-то тут не так. — Извините, а документы у вас при себе? — Ну кто же ночью их носит? Вы что? — Тогда пройдемте в отделение. Выясним, кто вы и откуда. — Пожалуйста. Понимаю: служба есть служба. Покорность эта и разоружила Семыраза. Уже стали подходить к отделению милиции. Лев Владимирович вместо того чтобы пропустить в ворота незнакомца, первым шагнул сам, а тот, воспользовавшись этим, нанес удар милиционеру сзади и метнулся в сторону. Придя в себя, Лев Владимирович увидел, как незнакомец убегал к соседнему дому. — Стой! Стрелять буду! — крикнул Семыраз и выстрелил в воздух. Неизвестный, испугавшись, упал на тротуар. Семыраз связал нападавшему руки и доставил в отделение. В дежурной части осмотрели чемоданы. В каждом оказались ценные приборы, которые преступник украл из лаборатории. За задержание вора Семыраза поощрили денежной премией. Начальник, вручая награду, сказал: — Хотя вы, Лев Владимирович, и поймали жулика, но действовали как доверчивый ребенок. Еще хорошо отделались, могли бы получить нож в спину. Семыраз и по сей день вспоминает свою оплошность. Учит на горьком опыте молодых. И неустанно повторяет: мало проявить бдительность при выявлении преступника, особая осторожность должна быть во всем. Милицейский пост — это не просто понятие, а боевая позиция. И она должна находиться в образцовом состоянии. Пост закаляет характер милиционера, учит его внимательности, выдержке, умению находить контакт с людьми. Он говорит молодым: — Каждый, кто надевает милицейский мундир, всегда должен помнить, что он представляет самое гуманное государство, должен вдумываться в заповеди Ф. Э. Дзержинского, стоявшего у истоков ЧК и органов внутренних дел, в каждое их слово: относиться бережно к людям, быть с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком. Лишенный свободы не может защищаться, он в нашей власти. Мы представляем Советскую власть, потому всякий окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть. Сотруднику милиции нельзя забывать, что он всегда, как бы ни мимолетны были его контакты с тем или другим человеком, остается для них представителем власти, закона. Вот почему он всегда обязан сочетать требовательность с доброжелательностью. Ведь для человека, с которым вы общаетесь, ничто не проходит бесследно: ни ваш почему-то хмурый взгляд, ни ваша попытка помочь в трудной ситуации, ни тем более подчеркнутое недоверие или обидное замечание. Любой ваш просчет, небрежность могут отдалить от близкой цели. Вежливость, терпение и доброжелательность — самое малое, что требуется от постового. Так повелевает служебный долг. И ко всему этому, повторяюсь, необходимы неусыпное внимание, зоркий взгляд на ситуацию, немедленная реакция. В подтверждение Семыраз приводит многочисленные примеры из своей практики. …Поздним вечером на автобусной остановке старший сержант обратил внимание на человека, державшего в руках шины от легкового автомобиля. «Приобрел у кого-то, теперь едет домой». Лев Владимирович прошел мимо, но продолжал размышлять: «Если он шофер, то почему шины тащит на себе?» И тут же: «Мало ли что может быть у человека. Зачем тревожить, пусть себе ждет автобуса». Снова мысль: «А ведь шины — дефицит. К тому же вчера зарегистрирована кража колес. Нет, надо проверить, раз уж сомнения одолевают». Вернулся на остановку. Мужчина спокойно курил. В поведении ничего подозрительного. Подойти или нет? Все же приблизился и этак по-свойски: — Слышишь, хозяин, где достал? — Свои, запасные, — ответил «хозяин», — друга хотел выручить, а он не едет и не едет. И, кажется, заволновался. — А я совсем «разутый», — продолжал играть роль Семыраз, — и туда и сюда, ничего не получается. И как на грех отпуск дают. — А сам подумал: «Друга выручаешь, а почему тот домой не приехал?» Подозрение усилилось. — Может, столкуемся? — настаивал Семыраз. — Ради бога, — обрадовался мужчина, — у меня еще есть. — Тогда грузи — по рукам. — Так я же без машины… на покраске она. — Отойдем в сторонку, люди рядом. Я вызову служебную. Деньги у меня там, в отделении. Тут же вынесу. — Пожалуйста. Семыраз направился к телефонной будке. Уведомил дежурного, попросил машину. Тут же спешно вернулся на стоянку. Показалась милицейская машина. Семыраз поднял руку. И в этот момент, швырнув шины, мужчина кинулся в ближайший двор. Но его тут же задержали. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый действительно совершил кражу шин и намеревался сбыть их. …Как-то Семыраз остановил взгляд на мужчине лет тридцати, стоявшем около дома с кейсом в руке. Тот беспрестанно курил, поглядывая время от времени на окна. «Нервничает, — отметил милиционер, — с чего бы это?» И приблизился к молодому человеку, у ног которого валялось около десятка окурков. — А вот это вредно для здоровья, — заметил Семыраз, указывая на них, — и для санитарного состояния города тоже. — Что? Ах, да, да… Мужчина нагнулся, чтобы подобрать окурки. И то ли от неуклюжего движения, то ли от внутреннего беспокойства не удержал чемоданчик. Тот упал, и его содержимое посыпалось на землю, прямо к ногам Семыраза. Сержант увидел короткую металлическую трубку и свинцовую перчатку. — Ого, а эти изделия зачем? — спросил он, поднимая их. — Так… от детства… — Вижу, затрудняетесь. В дежурной части, надо полагать, все прояснится. Прошу вас. Позже, в ходе кропотливого следствия, выяснилось, что мужчина намеревался завладеть деньгами знакомой женщины, а если не удастся, то прибегнуть к приготовленным «самоделкам». Не удалось. Помешал Семыраз, его бдительность, реакция… Трудно не согласиться с опытным милиционером. Думается, и в тот критический момент его разумная реакция сыграла решающую роль. Но что же все-таки произошло в тот декабрьский вечер 1982 года, о котором было упомянуто в начале рассказа? Как обычно, Семыраз дошел до входа в метро и, обогнув киоски, направился по тротуару вдоль большого дома. Бросил взгляд вперед. Что это? Прямо на него, размахивая руками, бежал взволнованный мужчина. — Сержант, сержант! — выкрикивал он. Милиционер поспешил навстречу. Мужчина, тяжело дыша, прерывисто сказал: — Скорей!.. Пока не скрылись!.. — Что стряслось? Идемте! — Друг у меня здесь. Договорились встретиться. Подхожу к квартире, слышу стон. Толкнул дверь и вижу: товарищ лежит связанный, а рядом — двое ребят. Один направил на него пистолет и рычит: «Где деньги?», а второй залез в шкаф. Я захлопнул дверь и бежать… Скорей, а то уйдут!.. На бегу, выслушивая мужчину, Семыраз по рации передал сообщение в дежурную часть. До подъезда оставалось несколько метров. Вдруг из него выскочили трое. — Они! — крикнул мужчина. Двое сразу бросились в глубь двора, а третий хотел прошмыгнуть мимо милиционера в сторону метро. Семыраз попытался задержать беглеца, но тот увернулся и тотчас вскинул пистолет, направив в грудь сержанту. Семыраз мгновенно бросил рукавицу в лицо противнику и прыгнул в сторону. Грохнул выстрел, огнем обдав рукав шинели. Преступник отпрянул назад и споткнулся. В момент падения Семыраз ударил его по руке; выбитое оружие, описав дугу, стукнулось об асфальт и выстрелило. Считанные секунды спустя рядом остановилась патрульная машина. Выскочившие из нее сотрудники милиции помогли Семыразу скрутить стрелявшего и задержать его сообщников. В ходе расследования, а потом и в зале суда была установлена причастность подсудимых ко многим злодеяниям, совершенным в разных районах страны. Конец их преступлениям положил отважный милиционер Семыраз. Вот такая история приключилась во дворе дома рядом со станцией метро «Преображенская площадь»… Дождь прекратился. Лев Владимирович откинул капюшон. Лицо его, открытое и добродушное, было задумчивым. — Где-то здесь ударилась об асфальт та самодельная пуля, которая чуть не застряла во мне, — сказал он. Но тут же спохватился: — Впрочем, хватит об этом. Сегодня праздник в моей семье — день рождения дочки. — Он посмотрел на часы. — Такое бывает раз в году. Да нет, трижды, — улыбнулся старший сержант. — У меня же три дочки. Старшая — второклассница, младшие — в детский сад бегают. Ждут теперь. — А до службы в милиции как складывалась ваша жизнь? — Как складывалась?.. После семилетки в селе, где родился и жил, уехал в Ворошиловград. Там окончил горное училище, работал на шахте проходчиком. Потом была армия, служил в Москве. Здесь меня и пригласили на работу в милицию. Окончил вечернюю среднюю школу. — Привет и поздравления имениннице. — Спасибо, передам. Мы распрощались. И Лев Владимирович Семыраз поспешил в свое отделение — доложить об окончании дежурства.ШЕЛ ПО АРБАТУ МИЛИЦИОНЕР
Косталындина ждали. Друзья по службе Курников, Вишняков, Шумбасов, командир подразделения старший лейтенант милиции Михалев. Да, собственно, все милиционеры подразделения. Лица у ребят добродушные. Окружили, тискают, пожимают руки, плотно, до хруста. «С возвращением… С выздоровлением… С наградой…» Виталий смущается: неловко. «Да что вы, ребята?» — «Ничего, терпи, традиция». — Становись! Команда облегчила его положение. Милиционеры поспешно заняли места в строю. Любил Виталий момент развода. Строй подтягивает, заряжает на всю смену. Михалев встал напротив. Смотрит в упор, пристально. — Ну, Виталий, с возвращением в наши ряды. Маршрут патрулирования выбирай сам. Навязывать не буду, — сказал он. Не готов Косталындин к ответу. Молчит. Сюрприз преподнес ему командир. В напряжении и строй: что скажет Виталий? — Пойду на старый, — сказал как отрезал. Шумок по шеренге: мол, зачем? Михалев тоже: — Стоит ли ворошить пережитое? — Это только закаляет, товарищ старший лейтенант. — Ну смотри. — Разрешите заступить? — Иди. Командир бросил взгляд вслед: «Твердый парень». Да, водилась эта черта — твердость — за Косталындиным. Закончил школу — только в юридический. Заболела мать — не поехал на экзамены: на кого же ее оставить? Призвали в военкомат: «Где хотел бы служить?» — «На границе». И добился своего. Решение служить в милиции также принял сразу после увольнения в запас. С минуту Виталий повертелся в бытовой комнате перед зеркалом: «Внешний вид отражает внутренний мир», «Форма аккуратная — действия правильные». Настроился. Переступил порог. Вот и Арбат. «Ну здравствуй, старина! Что, не узнаешь? Ах, узнал! Тогда принимай. Извини, что оставил на время. Тут я ни при чем, сам понимаешь. А ты вроде посерьезнел? Сентябрь уже. Да, да, мы-то расстались в июне. Помнишь? И у тебя, и у меня настроение было отличное, точно такое, как 18 марта 1982 года. Не забыл? В этот день я впервые ступил на твой асфальт. Форма — с иголочки. Ремни скрипят. Сапоги блестят. Состояние: вся Москва смотрит только на меня. Мой наставник Курников толкает в бок: «Спустись на землю, не на выставку явился». Спрашиваю: «А что делать?» Он: «Смотри на меня и накручивай на ус. Это практически. А теоретически — вот что запомни. Главное в нашем деле — ум и порядочность, остальное — опыт, практика. Дальше: учись ладить с людьми. Милиционер — что дипломат, на первом месте — переговоры, а уж потом — принуждение. Злостных нарушителей не так много, а для шаловливых предупреждения достаточно. Да не суетись». Спорить Виталий тогда не стал, но кое в чем не согласился с наставником. Чего разводить канитель с нарушителем, все должно быть просто: привод в отделение, штраф, пятнадцать суток… Неотвратимость наказания должна быть в любом случае. Насчет ума Курников, пожалуй, прав. Ум — это все. И честность тоже, и отзывчивость, и доброта. Вот и писатель Василь Быков в своих книгах говорит, что в условиях войны человек даже на смерть идет, все продумав. Героизм — это от интеллекта и сознания. Это, конечно, понятно. Подвиг — долг перед собой, перед людьми. А откуда же он возьмется, как не от ума! Эх, как хотелось в первые дни службы схватиться с преступником, выручить какого-нибудь человека из беды! Не для славы, конечно, — проверить себя. Но ни в первый, ни в последующие дни ничего героического не было. Попадались мелкие нарушители порядка, а в остальном: «Как пройти к Театру Вахтангова? Что это за красивое здание? Во сколько закрывается такой-то ресторан или магазин?..» И так далее. А однажды подходит одна миловидная дама и настойчиво спрашивает: «Товарищ милиционер, а что значит — Арбат?» — «Слово «арбат» арабского происхождения, означает «пригород», «предместье». Видимо, купцы завезли его с Востока». — «А чем он знаменит?» — «Ну, хотя бы тем, что пятьсот восемьдесят лет назад здесь пролегла Смоленская дорога. Первая конка прозвенела по Арбату. Здесь бывали Толстой, Горький, Маяковский, Есенин… Пушкин в доме пятьдесят три снимал квартиру…» — «Вон оно что!» — многозначительно вздохнула женщина и зашагала по Арбату. Стоявший рядом Курников не удержался: — А ты молодец. Столько знаешь! Граждане это любят. Авторитет завоюешь. Где вычитал? — Историей в школе увлекался, да и любил читать книги о Москве. Три страсти одолевали в юности Виталия: история, юриспруденция и музыка. Ломала голову мать: откуда это? Она человек рабочий — шахтер. Поселок Круглое — шахтерский. Да и вообще этот край в Тульской области — шахтерский. А сын гуманитарием оказался. Вот и поди разбери жизнь. А причиной всему была школа. Как стал Виталий членом комитета комсомола, так и одолели его заботы: вечера, викторины, самодеятельность, походы… Книги посеяли мысль стать юристом. Однако он тут же изменил мечте. Поступил не в юридический, а в местный техникум: не хотелось обижать слабую здоровьем мать, разве она справится одна с домом? Через год — повестка из военкомата. А затем служба на заставе в городе Выборге. …Косталындин замедлил шаг у Театра Вахтангова, оглядел его фасад. Любил он этот театр. За традиции, за современность мысли. И публика здесь завидная — компетентная, страстная, увлекающаяся. От здания он, кажется, начал первое самостоятельное патрулирование. Чем не событие? Помнится, месяца через три Александр Курников сказал: — Ну что ж, территорию теперь ты знаешь, с людьми ладишь, службу освоил. Действуй самостоятельно. — Не рано ли? — усомнился в словах сержанта старший лейтенант Михалев. — Созрел. Ручаюсь, что справится, — ответил тот. Самостоятельность и радовала и пугала Виталия. Не резок ли старт? На границе старшим наряда стал через полгода, в милиции — через три месяца. Может, так и надо. А что? Обязанности знает, инструкции изучил. Территорию освоил. Правда, опыта маловато. Арбат — это все-таки Арбат. Многолюдье, гляди да гляди. Главное тут — не растеряться. Но где, как не в самостоятельном деле, проверяется человек. Молодой же, ношу можно принять потяжелее. Навыки в определении «кто есть кто?» остались еще с границы, да и тут кое-что поднакопил. Чего тушеваться? Вперед! Дни выпали хлопотные. Стоял июль. На Арбате, как в круговой кинопанораме: лица, лица, лица. Много приезжих. Мельтешат, суетятся. Уставал он, конечно, но был горд в душе. Служба радовала. Люди обращались — он помогал. Порой обижался на себя, если обходились без него. Замечания от начальников не получал. В передряги не попадал. Недоразумения разрешались на месте, без лишних хлопот. Выработал оптимальный порядок службы. В часы пик его пост — улица. В вечернее время «опекал» продовольственные магазины, поскольку сюда тянулись выпивохи. А где водка, там жди скандала. Мало-помалу служба брала Косталындина в свои руки. Иногда чувствовал, что ни она без него, ни он без нее. И все же в глубине души мечтал молодой милиционер по-настоящему встретиться с противником. Встретиться и победить! Испытать и понять себя, противника, дело, которому служил. Так бывает: испытаешь однажды, а испытанному следуешь всю жизнь, как тогда на заставе… Стоял сочный сентябрь. Ранним утром наряд Виталия Косталындина вернулся на заставу. Солдаты позавтракали, приготовились к отдыху. И вдруг тревога — нарушитель пересек границу. Собрались мигом. Косталындину с товарищами приказали находиться в засаде. Место болотистое. Воздух влажный. Комары. Пограничники в ожидании. Чувство такое — вот-вот покажется «гость» и встретят его здесь как следует. Но время шло, а он не появлялся. Вскоре и вовсе известили: нарушитель пойман. Видел его Виталий на заставе — суровый, злой. Посмотрит — напугаешься. Такой готов на все. Отобранные пистолет, нож, граната — тому подтверждение. Нет, надо удвоить бдительность. С такой мыслью вернулся Косталындин к товарищам, чтобы поделиться впечатлениями и сообщить: тревога не отменяется, ибо «гость» заявил, что он пересек границу не один. Быстро надвигалась ночь. Промокшие ноги начинали мерзнуть. Виталий забеспокоился: выдержат ли ребята? Он был заместителем командира взвода, одним из руководителей комсомольской организации заставы. И его обязанность — думать, заботиться о подчиненных. Потому подбадривал то одного, то другого пограничника, вселял силы и веру. Без этого солдату нельзя. Хотя, что скрывать, сам в них нуждался. Но вида не подавал. Сейчас главное — ребята. Валила усталость, слипались глаза, но никто не хныкал. Когда прозвучала команда покинуть места, Виталий обрадовался не ей, а стойкости товарищей — не подвели. Значит, верили ему, значит, готовы и на большее. Великое это дело — солидарность. За выучку и стойкость при выполнении приказа начальник заставы поощрил Виталия Косталындина — предоставил десять суток отпуска. Но не в них суть. Они — следствие результата испытаний. Для Виталия в тот момент был важен сам результат… И вот сейчас, когда Косталындин шел по полуденному Арбату, его охватило состояние, которое он испытывал при заступлении в наряд по охране государственной границы. Состояние важности и необходимости. И хотя теперь он служил на другой границе — добра и зла, но та, первая, жила в нем ежеминутно. Застава — это образец честности, слаженности, организованности и взаимовыручки, что так всегда привлекало Виталия и было созвучно его духу. Застава — след в сердце. Разве можно забыть наставников ефрейтора Евгения Пугина и сержанта Сергея Грачева! День вступления в партию! А то, что сделано твоими руками: баня, пограничные столбы!.. А какие были проводы со службы! Взвод выстроился, как на параде. Щелкнули затворы. До машины их, демобилизованных, несли на руках. Ударили в колокольчики. Их звон до сих пор стоит в ушах… С воспоминаниями о границе Косталындин незаметно вступил на территорию Староконюшенного переулка. В XVIII веке — слобода царских конюхов, а ныне тихий, уютный уголок Москвы. И перед глазами предстал вечер 13 июня 1983 года. …После жаркого дня на город опустилась мягкая вечерняя прохлада. Дышалось легко. Огни уличных фонарей рассекали надвинувшиеся сумерки. Прошло еще некоторое время. Свет стал гаснуть то в одном, то в другом окне. Москвичи готовились ко сну. Через час покинет пост и он, Виталий Косталындин. Прикинул: «Выкрою перед сном часок для литературы. Скоро вступительные. А напоследок пройдусь по маршруту». Учиться очень хотелось. Сегодня без знаний нельзя, будешь тыкаться как слепой котенок. А книга — это все. Виталий из цельных натур. Если к чему-то проявил интерес, так это навсегда. Шел Виталий неторопливо, фиксируя дворы и подъезды. С противоположной стороны донесся приглушенный шум. Это строители. Пора бы и им на покой. А что там впереди? Напряг зрение. Двое у машины. Никак, колеса снимают? Ускорил шаг. Присмотрелся: лица незнакомые. Снимали скат с колеса «Жигулей». При его появлении продолжали крутить гайку, спешили. — Что так поздно, мастеровые? — спросил Виталий. — Время уже одиннадцать, а у вас ремонт в самом разгаре? — Сразу видно — молодой, неопытный, — поднимаясь, ответил мужчина. — Наскочили на гвоздь. — Допускаю. Однако попрошу документы. — Сейчас сворачиваемся. Завтра доделаем. А живу я в этом доме. — Верю, но понимаете, служба. — Вам бы только проверять! С гайками не разберусь, а вы — документы. Ума большого не надо: спросил, откозырял, пошел. Попробовал бы на заводе. — У каждого свои трудности. Продолжая ворчать и не выпуская ключа, мужчина все же потянулся к сумочке: — Вот они: удостоверение, техталон. Косталындин, чуть отступив назад, прочитал фамилию, сверил фотокарточку. — Все в порядке, — сказал он, передавая документы. И вдруг странный, лопающийся звук прокатился за двором. Косталындин вздрогнул. Водитель оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом: — Что это? Ах, это строители… вбивают «пули» в бетон. Вот напугали! Виталий промолчал. Внешне согласился, но внутри что-то запротестовало: «Нет, это не строительный звук, скорее всего, выстрел. Тревога, Виталий, тревога». Внутренний приказ нарастал. И, как в былые времена на границе, он сорвался с места и побежал прямо на звук. «Вперед, вперед!» — подгонял себя Косталындин. На пути арка, за ней — переулок… Не ошибся Виталий, не изменили ему слух, внутренний зов, настороженность бывшего пограничника. Стреляли из пистолета. Не поладили двое. Один из них применил оружие. Стрелял в спину. Раненый упал. Преступник, увидев бежавших к нему, нырнул в переулок в надежде скрыться в темноте. А бежавшими были сослуживцы Косталындина старший сержант Иван Вишняков и младший сержант Николай Шумбасов. Жили они на Арбате. Перед сном вышли на прогулку. И тут выстрел, метрах в ста… Шумбасов остался с раненым, Вишняков бросился за стрелявшим. Это был крайне опасный преступник. Его искали в эти дни везде. Он сговаривал напарника совершить разбойное нападение. Тот отказался и хотел уйти, но рецидивист нагнал его и разрядил пистолет. Косталындин влетел под арку и чуть не столкнулся с черноволосым парнем. От неожиданности тот замер, а потом прыгнул в сторону. — Стой, стой! — крикнул Виталий и кинулся за ним. Убегавший петлял, минуя освещенные места. Виталий прибавил скорость. Расстояние сокращалось. Вот спина, грива черных волос. Косталындин выбросил руку, чтобы схватить за одежду. Но беглец резко свернул в проем двора. Виталий по инерции проскочил вперед. Обозлился, что не взял за воротник, но и обрадовался: «Попался парень: там тупик». Черноволосый ткнулся в угол — сетка. Заметался, как зверь в клетке. Страх и озлобленность владели им. Виталий на бегу приказал: — Стоять! Руки вверх! Тот не повернулся, но руки поднял — чувство обреченности и элементарный страх заставили его это сделать. А может быть, хитрость? — Ни с места! Бросай оружие! Разгоряченный Виталий был в двух метрах от него. Изготовился, чтобы выбить пистолет. И тут черноволосый мгновенно развернулся. Виталий прыгнул в сторону, но выстрел на долю секунды опередил его. Ноги подкосились, он согнулся. Боль отдалась в позвоночнике. Виталий упал, на миг потеряв сознание. А когда очнулся, мысль лихорадочно ударила в виски: «Задержать». Он приподнялся — преступник покидал двор. От досады и боли Виталий застонал, попытался встать — не слушались ноги. Подбежал Вишняков: — Виталий, ты? Ранен? Потерпи, сейчас помогу. Больница рядом. — Наклонился: — Ну что же ты? Давай руки. — Нет, Ваня. Беги… Он недалеко. — О чем ты говоришь? Ранен же… — Не теряй времени. Догоняй! — Виталий, не дури! Живот же… — Прошу… Иди… Ты задержишь. — Пойми, вдруг не задержу и тебя потеряю. Совесть меня съест… — Беги, кто-то идет сюда… Меня отнесут… Вишняков, оставив Косталындина подоспевшему мужчине, бросился вперед, Бегал он быстро, ориентировался хорошо. И через несколько минут обнаружил и задержал едва волочившего ноги преступника… Косталындин размеренно шел по маршруту, до мелочей припоминая подробности июньского происшествия. Вот здесь он услышал звук, по этому асфальту бежал. Арка. Тупик. Растерянный преступник. Вспышка выстрела… Он постоял у сетки, вернулся к проему. Примерился: «Мог ли избежать ранения? Вряд ли. Пистолет жег ладонь преступнику. Гнев заслонил его рассудок. А тут стремительность, даже остановиться не успел». Виталий вздохнул. Повернул обратно, заторопился к Серебряному переулку, к корпусам Центрального клинического военного госпиталя имени П. В. Мандрыка. Это сюда принес его на руках неизвестный мужчина. «Чем отблагодарить тебя, дорогой друг?» …Четыре часа начальник хирургического отделения полковник медицинской службы К. Нечипоренко, хирург И. Мамиконов и анестезиолог Н. Жипа вели борьбу за жизнь раненого милиционера. Сложной оказалась операция. Организм чутко реагировал на действия хирургов, и лишь к утру показания жизненно важных органов несколько стабилизировались. Когда наркоз потерял силу, Виталий с трудом приподнял веки. Лучи солнца проникали в палату, сверкавшую белизной. «Жив», — первое, что пришло в голову. Посмотрел вокруг. Приборы, трубки, капельницы, бинты — все это сгрудилось у его постели. Стало не по себе. — Вот и хорошо, скоро пойдете на поправку. От ласковых слов и прикосновений заботливых рук сестры ему стало легче. Потекли длинные дни лечения и выздоровления. Что только не передумаешь, лежа на больничной койке! Голову наполняли светлые мысли и всякая чушь. Порой охватывала хандра. Мечтал столкнуться с преступником. Столкнулся. И что? Получил свое… Ну а если взглянуть по-другому. Не отступил? Нет. Мог бы взять? Мог. Коварен противник? Не то слово! Но пусть сам пострадал, зато избавил от гибели других. Так что не надо вешать носа. Трудности закаляют… Через двадцать дней Виталий в хорошем расположении духа покинул госпиталь, сошел вот с этих ступенек, где сейчас топтался, пристально разглядывая окна операционной и палаты, приютившей его. «Окна как живые, дышат теплом», — подумалось Косталындину. Постояв немного, он снова зашагал к Староконюшенному переулку. У дома, где услышал выстрел в тот июньский вечер, его остановил мужчина: — Извините, я был не прав. Я все знаю: видел, как вас несли. Извините. Он крепко пожал Косталындину руку. И так же быстро удалился, как и возник. Виталий недоуменно пожал плечами: «Что за человек? — И тут же вспомнил: — Это же тот, который ремонтировал здесь машину». Встреча с мужчиной вызвала поток мыслей: «Зачем-то упрекаем мы друг друга. Жизнь так прекрасна и коротка, что неразумно тратить время на ожесточение. Почему бы не жить в мире и согласии? Доброту надо утверждать, жестокость изгонять». С противоположной стороны тротуара его окликнула пожилая женщина. — Сынок, подойди, — тяжело дыша, проговорила она, — хочу спросить. — Слушаю вас. — Вот какое дело. Одна я осталась. Всех растеряла: кто погиб, кто умер. Слабею с каждым днем. В магазин и то с трудом хожу. Не знаете ли, как мне в дом для престарелых определиться? — Это вам в райсобес надо обратиться. Позвоните, и вам ответят. — В собес, значит, вот спасибо, сынок. Люди распахивают душу. Иногда оторопь берет: милиционеру так доверительно рассказывают обо всем. Ищут сочувствия. Да и помощи. Как не откликнуться! В середине дня Косталындин заметил спешившего к нему командира подразделения Михалева. «Беспокоится, выдержу ли смену. Пришел проверить, — подумал он. — За внимание спасибо. Но волнение напрасно — порох держу сухим». Он пошел навстречу: — Товарищ старший лейтенант… — Вижу, все в порядке. Не устал? Не подменить ли? — Спасибо. Ноги держат, голова на месте. — Может быть, все-таки отдохнешь? — Нагрузка мне не помешает. — Что ж, тогда продолжай… — Есть! И Косталындин двинулся дальше по арбатским переулкам. 25 октября 1983 года министр внутренних дел от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил милиционеру 5-го отделения милиции Москвы младшему сержанту Виталию Викторовичу Косталынднну орден Красной Звезды. — Поздравляю вас с высокой наградой, — сказал министр. — Служу Советскому Союзу! — отчеканил Виталий. Поощрены были старший сержант И. Вишняков и младший сержант Н. Шумбасов. Подвиг начинается тогда, когда человек во имя большого дела осознанно идет на риск. Виталий Косталындин знал об опасности. Знал и шел. Сущность его души вылилась в героический поступок. Косталындин служит в том же отделении милиции. Охраняет покой жителей Арбата. Уходит из дома рано и возвращается за полночь. Милиционеру в выходные дни тоже не просто. Встречается со школьниками, рабочей молодежью. — Хочется убедить ребят в том, — говорит он, — что большинство из них на моем месте сделали бы то же самое, надо только верить в себя, в дело, которому ты служишь.БЕЗ ВЫСТРЕЛОВ
Домой Беклемищев вернулся на рассвете. Жена и дочь безмятежно спали. От усталости даже не переодевшись, он опустился на стул в коридоре. Немудрено устать, если почти сутки на ногах и при этом ни минуты покоя. Но душа сейчас успокоилась: операция завершилась успешно, без суеты. Откинувшись на спинку, он закрыл глаза. Всплыла картина недавнего задержания. Но картина эта рвалась в сознании, один эпизод заслонял другой, временные связи терялись. Видно, мозг его тоже устал задавленный массой информации, поступившей в последнее время, терзаемый постоянной необходимостью фиксировать, обобщать, анализировать, делать выводы, искать варианты дальнейшей работы. Беклемищев с трудом приподнялся. Рослый, стройный, похожий на спортсмена, он сделал несколько приседаний и вошел в ванную. В зеркале крупным планом отразилось осунувшееся, с густой щетиной лицо. Серые глаза смотрели выразительно. Беклемищев провел рукой по темно-русым волосам: «Седина прибавляется… Впрочем, уже сорок два». Открыл кран и подставил ладони под теплую тугую струю… Странное дело, даже после водной процедуры сон не шел, мельтешили какие-то люди, доносились обрывки, разговоров. Врачи говорят, что мысль сразу не остановишь, так уж устроен мозг. Он не пытался обрывать эти мысли. Пусть текут сами собой, пока сон в конце концов не одолеет его. И мысли постепенно потянулись к тем далеким временам, когда он только-только начинал службу в милиции. Его милицейская биография складывалась обыкновенно, как у большинства парней, пришедших на службу в органы внутренних дел. Солдатскую шинель сменил на милицейскую: стал водителем в отделе вневедомственной охраны. Предполагал, что ненадолго, жизнь покажет, как быть дальше, но вышло иначе. Втянулся, служба понравилась. Технику любил: за машиной следил, как за собственным мундиром, в действиях был четок, в словах — немногословен. Присматривался, как ведут себя сотрудники при выезде на происшествия. Зачем? Чтобы глубже понять свое место в общем деле, быть не только водителем, но прежде всего милиционером. Мечтал ли о другой службе? Пожалуй, нет — уж очень прикипел к машине. И вряд ли расстался бы с ней, если бы не один случай, происшедший на седьмом году службы. С группой работников уголовного розыска Беклемищев выехал на место происшествия, точнее, на склад мебельной фабрики, куда проник вор. Посовещались: кто куда пойдет? Решили: направится один к сторожу, другой понаблюдает за темным переулком, не затаился ли там злоумышленник. — Нет, ребята, не годится, — неожиданно сказал Беклемищев. — Вор будет пробираться через школьный двор. — Не выдумывай, — перебили его старшие товарищи. — Там же свет горит, а вор как крот — темноту любит. Сказали и исчезли. Беклемищев вышел из кабины и направился к школе. «Отсюда самый короткий путь к центру, людным местам», — рассуждал он. И затаился у забора. Минут десять спустя раздался шорох. Он поднял голову — перелезал человек с мешком. Только тот спрыгнул с забора, Беклемищев его за руку — поймал с поличным. Изумились сослуживцы: обставил их Валерий, молодец! На другой день Беклемищева вызвал начальник отдела, похвалил за сыскное чутье и без всяких отступлений поставил вопрос: не хочет, ли он попробовать себя в уголовном розыске? Беклемищев замялся, пожал плечами: нет опыта, навыков. Сумеет ли? — Не тороплю, подумай, — продолжал начальник, — но учиться иди, не откладывай. Без этого, сам понимаешь, нам никак нельзя. Беклемищев колебался по поводу перехода в уголовный розыск, но по части учебы отреагировал сразу же — поступил на заочное отделение Саратовской специальной средней школы милиции МВД СССР. Прошли годы учебы. Беклемищев окончил школу милиции. Его приняли в ряды КПСС, назначили на должность оперуполномоченного управления уголовного розыска. Новая работа увлекла. Он впитывал в себя опыт товарищей, у которых было чему поучиться. Удивлялся, как у них ладно все получается. К их чести, они создавали атмосферу равных, учили новичка не только обдумывать версии, но и тщательно фиксировать все, что может иметь отношение к обстоятельствам дела, вникать в каждую деталь, подробность. Беклемищев стремился как можно больше взять от практики. Через активное участие в конкретных делах ковалось его оперативное чутье, шлифовались розыскные навыки. Смелость, упорство, выносливость и подготовили Валерия Федоровича к самостоятельным действиям. Ждать их проверки пришлось недолго. Однажды зимней ночью, находясь в одном из районов области, он получил сообщение о совершенном преступлении. Кто-то смертельно ранил женщину, вскоре она скончалась. На месте происшествия остались следы. Беклемищев прикрыл их от метели бумагой, а потом, включив фонарик, стал внимательно рассматривать пятна крови. — Преступник, видимо, поранил себе палец, — сказал он, обращаясь к стоявшему рядом сослуживцу. — Видите, как ровно лежат следы крови — небольшие капли, так они могли стекать только с пальца. Пройдя по следу вперед, Беклемищев остановился у большого темного пятна, образовавшегося от рассыпанного порошка краски. — Посмотрите, — позвал он коллегу из райотдела, — краска не с соседнего ли завода? — Вроде бы похожа, — ответил тот. — Так, может быть, с него и начнем поиск? — предложил Беклемищев. Шел пятый час ночи. Рабочие третьей смены напряженно трудились у станков. Беклемищев по пролету направился вдоль жужжащих агрегатов, бросая взгляд на обувь станочников. «Если преступник здесь, — размышлял он, — то не сможет скрыть своего волнения или, во всяком случае, поведение его должно чем-то отличаться от остальных». Дошел до середины цеха — ничего настораживающего. Ускорил шаг и задержал внимание на парне, стоявшем к нему боком у дальней стенки. Тот, заметив приближавшегося к нему человека, поспешно начал прятать в карман руку, но мешал перевязанный бинтом палец. «Повязка свежая, Да и ведет себя парень нервозно», — подумал Беклемищев, остановившись рядом с молодым человеком. — Мне необходимо поговорить с вами, — обратился к нему оперуполномоченный. — Здесь шумно, пройдемте в дирекцию. Парень явно забеспокоился, однако на предложение согласился. Беклемищев на ходу выяснил его имя, местожительство. — Это Николай, — переступив порог кабинета, представил Валерий Федорович своего спутника членам оперативной группы, — он хочет рассказать, как поранил палец. Выслушайте его, а я скоро вернусь. Захлопнув за собой дверь, он поспешил в поселок, к дому, где жил задержанный. Интуиция подсказывала, что он на верном пути. У порога дома остановился, снял ладонью верхний слой снега — на срезе появились бурые, смерзшиеся капли крови. Поднялся на второй этаж, осмотрел дверную ручку — и на ней кровь. Постучал в квартиру; на площадку вышла суровая на вид женщина — мать Николая. Беклемищев представился и вошел в комнату, едва не задев большой таз, в котором мокла испачканная краской куртка. «Колер такой же, что и на месте происшествия», — отметил он. Женщина намеревалась убрать с дороги вещи, но оперуполномоченный остановил ее: — Не беспокойтесь, лучше принесите ботинки. — Какие ботинки? — возмутилась она. Беклемищев попросил насторожившихся соседей поприсутствовать в качестве понятых и заглянул под кровать. У стенки стояли мокрые, недавно вымытые ботинки. Вытащив их, он оглядел подошвы — рубчатые, точно такие оставлены следы на снегу. Беклемищева охватило волнение: кажется, дело идет к развязке. Собрав в узел вещественные доказательства, он поторопился на завод. В комнате, куда он вошел, царила напряженная обстановка: задержанный парень энергично вырывался из рук работников милиции. — Пытался бежать, — пояснил один из них. Беклемищев развязал узел, парень, взглянув на свои вещи, закрыл лицо руками и заплакал. А потом рассказал, как совершил преступление. С тех пор Валерию Федоровичу поручали раскрытие самых запутанных преступлений, а работа по ним, как известно, требует огромной самоотдачи, личного опыта, кропотливого сбора информации. Случалось ему раскрывать преступления за считанные часы. Но подготовка к ним — все прожитые годы. Образ жизни потерпевшего и возможного преступника — вот на что он направлял усилия. Чем больше информации, тем меньше ошибок, тем реальнее конечный результат, то есть выявление, задержание и изобличение преступника. Таково кредо Беклемищева. Он постоянно помнит и о том, что в одиночку в бой не ходят. Рядом всегда должен находиться надежный товарищ. Без солидарности, без чувства товарищеского локтя в уголовном розыске работать нельзя. Убедился в этом Беклемищев после случая, о котором вспоминает с досадой и неудовольствием. Однажды он установил местонахождение вооруженного преступника. Было приказано задержать его. В помощь Валерию Федоровичу выделили сотрудника РОВД. Настал момент выходить из укрытия, а напарник наотрез отказался идти — струсил. Как же негодовал Беклемищев! Прогнал его, хотя от этого легче не стало. В конце концов задание он выполнил, но задерживать пришлось в одиночку, подвергаться дополнительной опасности. На следующий день он поставил вопрос перед руководством о профессиональной непригодности этого оперативного работника. Был и другой случай, свидетельствующий о товарищеской взаимовыручке, смекалке. Вышел Валерий Федорович с товарищами на задержание матерого рецидивиста. Заранее распределили роли. Подкрались к дому, к двери, толкнулись в нее — заперта. Стучать? Нельзя, не сдастся преступник, откроет огонь. Посовещались на месте: как быть? Решили выяснить, что делает преступник. Оказалось, спит. Хорошо бы прямо с постели взять его… А как? — Проникнем через окно, — предложил Беклемищев, — и возьмем. Вы стойте у этого окна и страхуйте, а я проберусь через другое. Беклемищев осторожно влез в окно и ступил на пол. Не чувствовал «хозяин» приближения оперуполномоченного, храпел во сне. В ослабевших пальцах — пистолет. Валерий Федорович продвинулся вперед, через секунду-другую преступник будет обезврежен. Он уже ясно представлял, как это сделать. И вдруг — бывает же такое! — зазвонил будильник. Преступник, словно ужаленный, рванулся с кровати. Беклемищев — навстречу. И только заломил ему руку с пистолетом, как рядом появился другой оперуполномоченный. Оказывается, едва Беклемищев ступил на пол, один его коллега остался у окна, а другой незаметно стал прикрывать Валерия Федоровича, находясь позади, пока тот пробирался к кровати. Служебная солидарность много раз выручала Беклемищева. Она же во многом способствовала и его профессиональному росту. Им раскрыты очень тяжкие уголовные преступления. Настойчивый, вдохновенный труд принес Беклемищеву всеобщее признание и уважение. Его назначили на должность старшего оперуполномоченного, досрочно присвоили очередное звание. На рабочем столе капитана милиции появился вымпел «Лучшему по профессии». На груди засверкала медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»… Жена и дочь ушли, не решившись его будить — он спал так глубоко впервые за последние два года. Все это время Валерий Федорович добирался до той заветной ниточки, потянув за которую можно размотать весь клубок. И это произошло вчера на рассвете. Задержан и арестован Зафас. Еще не до конца осмысливая то, что свершилось, временами не веря, что наконец-то окончился двухлетний поединок с глубоко замаскировавшимися преступниками, Беклемищев, перекусив, помчался в управление, чтобы получить информацию о расследовании. Зафаса застал у следователя. Арестованный все еще хорохорился, возможно потому, что следователь построил допрос только по эпизоду приобретения медикаментов. Это был тактический ход, и Зафас, видимо, убедился, что работникам милиции известны только факты незаконного приобретения лекарств, а поэтому можно и поиграть в поддавки. Беклемищев, глядя на этого молодого человека, имевшего два высших образования, никак не мог понять логику его поведения, так как ни в какие нравственные и общежитейские рамки она не укладывалась. Как понять: инженер, педагог пообразованию, а по духу и делам — вор, насильник? Валерий Федорович вспомнил эпизоды этого сложного дела. Уже с первых минут знакомства с розыскными материалами он почувствовал необычность и циничность совершаемых преступлений. …Днем, когда большинство людей занято на работе, два молодых человека в белых халатах и шапочках не спеша вошли в подъезд и поднялись к двери, обитой черным дерматином. Один из них, поправив висевший на шее фонендоскоп, нажал на кнопку электрического звонка, другой, перекинув в левую руку врачебный чемодан, встал сбоку. На пороге появилась пожилая, с болезненным лицом женщина. — Мы из поликлиники, решили справиться о вашем состоянии здоровья, — сказал «доктор» со смуглым лицом и выразительными черными глазами. — Вот спасибо, проходите, пожалуйста, — гостеприимно распахнула дверь хозяйка. Оказавшись в комнате, медики уложили пациентку в постель, чтобы выслушать сердце, а потом… мгновенно, в считанные секунды, связали ей ноги и руки, рот заткнули тряпкой. Обшарив квартиру, «врачи» положили в докторский чемодан ценности и деньги и спокойно, так же как и вошли, удалились на улицу, где в укромном месте их поджидала машина. Через неделю картина ограбления повторилась: те же халаты, те же белые шапочки, так же перекочевывали ценности и деньги в чемоданчик с красным крестом… Потом еще и еще. «Медиками» вплотную занялись сотрудники уголовного розыска. Они проделали колоссальную работу, но, кроме почерка ограблений, выявить ничего не удавалось. Никаких зацепок! Руководство управления, естественно, было обеспокоено сложившейся ситуацией. Идти по пути увеличения числа людей и расширения круга поисков бесполезно. Информации и без того много. Кто-то предложил проанализировать ее свежим взглядом, возможно, и появятся новые решения. Привлекли для этого дела Беклемищева. Выбор пал не случайно. Он был аналитичен, усидчив, энергичен, необычайно работоспособен. Вчитываясь в материалы дела, выстраивая линий событий в одну цепочку, Беклемищев день ото дня изумлялся титаническому труду, проделанному его товарищами. Они превзошли самих себя. Перелопатив собранную информацию, он также пришел к выводу, что прямого выхода из тупика нет. Однако поймал себя на такой мысли: а что, если к делам «медиков» приблизиться через другие нераскрытые дела? Возможно, данная преступная группа применяет и другой способ? С таким предложением он вошел к начальнику отдела и получил согласие. Просматривая покрытые пылью пухлые папки, Валерий Федорович выписывал адреса, фамилии, разглядывал вещественные доказательства. Чего тут только не было! А эта записная книжка, принадлежавшая погибшей спекулянтке С., и вовсе любопытна — в ней сотни фамилий и адресов. Внимательно изучив записи, Беклемищев занес представляющие интерес сведения на большой лист и принялся сопоставлять факты из дела «медиков» с фактами по делу погибшей. Это была адская работа. Полтысячи адресов не только в их городе, но и в других. С каждым человеком надо было поговорить, проанализировать содержание бесед. И сколько он ни сидел над бумагами, прямых аналогий выявить не удавалось. Однако его внимание привлекли имена Зафас, Теймураз. Беклемищев тотчас вспомнил «докторов со смуглыми лицами», о которых непременно упоминали все потерпевшие. Не тут ли зацепка? Валерий Федорович жирной чертой обвел имя Зафас: «Проверим, чем черт не шутит». Набрал номер телефона. В трубке послышался низкий голос: «Зафас слушает». Беклемищев положил трубку: «Дома. Надо ехать». Валерия Федоровича встретил приятный молодой человек лет тридцати. Одет модно. Вежлив. Отвечает бойко, охотно. Педагог, инженер, работает прорабом. Знает ли С.? Да, конечно, покупал у нее кожаное пальто. Да, переплатил, нехорошо, конечно, но хотел выглядеть лучше, как-никак, скоро свадьба. Правда, потом из-за этого пальто вышел скандал — настоял, чтобы сменила старую подкладку. Со спекулянтами только так. Где она сейчас? Да кто же ее знает? Не смущается, без видимого волнения, удивления. Безразличие или позиция? На этом и распрощались. Недоволен Беклемищев остался встречей. Хотя, собственно, на большее он и не рассчитывал — слишком тонка была ниточка. Проехал по другим адресам записной книжки, тоже пусто — часть лиц уже отбывает наказание, местонахождение других не установлено. «А что представляет собой Зафас? Что его связывало со спекулянткой?» — возвращаясь, размышлял оперуполномоченный. Цепочка возникших вопросов подогрела сыскной азарт Беклемищева. На другой, день он занялся личностью подозреваемого и его окружением. Прямых улик не было, но обнажилась важная деталь. Вроде бы интеллигентный прораб, он время от времени встречается с ранее судимыми. С какой стати? Что у них общего? Исследуя эту линию, Беклемищев обнаружил и другой любопытный факт: в одном из населенных пунктов области строитель снимает квартиру в отдельном доме, но живут в ней совершенно посторонние лица. Зафас изредка, по вечерам, встречается с ними. Жильцы разные, то наезжают, то исчезают. Снова вопросы: откуда они, что делают? Устанавливать каждую личность Беклемищеву пришлось долго (многие жили за пределами области), но зато обнадеживающими оказались результаты. Все жильцы ранее были судимы. Один из них разыскивается правоохранительными органами. Спустя еще некоторое время Валерий Федорович знал о компании столько, сколько ее соучастники не знали друг о друге. Сопоставив собранные факты и показания потерпевших от «медиков» людей, Беклемищев пришел к выводу, что «квартиранты» и есть «медики». — Так что же вы медлите? — говорил один из руководителей уголовного розыска области. — Берите санкцию на арест. — Можно, конечно, арестовывать, но мало улик против Зафаса, — отвечал Беклемищев. — Хотелось бы выявить его роль, она мне кажется далеко не маленькой. — Он раскроется через показания арестованных. — Верно, но они могут всего и не знать, а поэтому прошу время, на дополнительное изучение личности прораба. — Согласен. Беклемищев не торопился. Он понимал, насколько шатки были его предположения, а поэтому продолжал вникать в дело, изучать, сопоставлять, думать, продолжал, так сказать, «медленное чтение» событий, взвешивать личность подозреваемого и его окружение. И чем глубже Беклемищев вторгался в образ строителя, тем зримее вырисовывался облик грязного душой и делами человека. «Руководитель и воспитатель» людей, как тот себя, именовал, не гнушался ничем: доставал и сбывал сильнодействующие медицинские препараты, имел оружие, проявлял интерес к состоятельным лицам, записывал их адреса. А однажды возбужденный вернулся из Горловки, сменил машину и отрастил бороду. Не случилось ли что там? Беклемищев навел справки: случилось. На краже квартиры попались трое, одного поймали с поличным, двое скрылись. Зафас в этот день был в Горловке. И уж совсем любопытна вот эта информация: «интеллигентный строитель» время от времени брал у знакомых студентов медицинского института халаты и шапочки. Первоначальные подозрения становились явью, выстраивались в логическую цепь: «медики» и окружение Зафаса — одни и те же лица. Силы для их изобличения можно объединить. Дело было поручено специализированной следственно-оперативной группе, в которую вошли работники органов внутренних дел и прокуратуры. Надо было собрать неопровержимые улики. Только доказательства заставят преступников заговорить перед следствием, а потом и перед судом. Работа продолжалась, но недолго. — Время для задержания наступило, — доложил однажды Валерий Федорович своим руководителям. — Начать предлагаю с «главного доктора» — Зафаса. Все нити, полагаю, у него в руках, к тому же есть возможность взять его с поличным. Так будет профессиональнее с нашей стороны, а он пусть думает, что попался на медикаментах. — Резонно, — согласились руководители. — А не уйдет раньше времени? — Теперь не уйдет. Беклемищев получил информацию о том, что ночью Зафас должен появиться в одной из квартир — прийти за очередной партией медикаментов. Лучшего момента и желать нельзя. В два часа ночи Валерий Федорович, начальник отдела подполковник Ю. М. Закшевер, их товарищи заняли удобные места. Задержание — опасный и ответственный этап в жизни любого сотрудника уголовного розыска. Сколько раз Беклемищеву приходилось это делать, но каждый раз волновался, не потому что одолевал страх, а потому что всегда стремился к «чистой» развязке, без выстрелов и крови. Отсюда и волнение: удастся ли? По крайней мере, до настоящей минуты удавалось. Весь прошлый опыт Валерия Федоровича подтверждал его «версию» о том, что можно обходиться без выстрелов, но при условии: действия преступников нужно упреждать, ошеломлять внезапностью, чтобы он не успевал воспользоваться оружием. Однажды Беклемищеву пришлось задерживать матерого рецидивиста в центре города. Кругом люди. Если преступник откроет стрельбу, пострадают прохожие. Но и упускать нельзя. Что делать? Тут Валерий Федорович увидел неподалеку большую картонную коробку, не раздумывая, взгромоздил себе на спину и пошел за преступником. Тот оглянулся: какой-то чудак тащит на себе телевизор. Спокойно свернул в переулок. Беклемищев — за ним. Поравнялись. Коробка — в сторону. Пистолет — в бок: «Руки!» На внезапность настроил себя капитан и сейчас. Стояла весна. Ночь была тихой и теплой. Беклемищев с товарищами затаились в кустах уютного двора, где вот-вот должен появиться Зафас. Аромат растений словно вливал свежие силы, придавал уверенность. Сама обстановка располагала к благополучной развязке. Это совсем не то, что прошлым летом… Тогда Беклемищев установил вблизи города вооруженного преступника, который прятался в заброшенном доме среди болота. С наступлением сумерек втроем двинулись к «объекту». Расчет тот же: застать противника врасплох. Вскоре сухая тропа оборвалась, под нотами зачавкала холодная жижа, сначала по колено, потом — выше. Кругом темнота, тучи комаров. Казалось, болото никогда не кончится и не наступит день. Но они шли, спотыкались, падали, поднимались и снова шли. К пяти часам утра выбрались, на остров, где стоял обветшалый домик. Усталость буквально валила с ног: отдохнуть бы часок-другой. Но посидели всего минут десять. Надо спешить. Разом встали, незаметно проникли в дом. Видят: преступник спит, обняв оружие. Беклемищев мгновенно рванул ружье, а два других сотрудника прижали спавшего к полу. Задержанный был настолько ошеломлен внезапностью, что в первые минуты не мог сообразить, кто перед ним, откуда в такую рань эти грязные и оборванные люди. Он принял их за «своих»… Со стороны улицы донеслось ровное шуршание шин легкового автомобиля. Зафас приехал не один — с подругой. Поставив машину в стороне, он распахнул дверцу, вышел. Постоял чуть-чуть, осмотрелся и быстро направился в дом. Подруга осталась в кабине. Через несколько минут Зафас появился на пороге и пошел к калитке. Навстречу ему из-за кустов поднялся Беклемищев с сотрудниками. «Доктору» стиснули руки и взяли медикаменты. Прощупали одежду — оружия нет. «Без выстрелов и на этот раз», — облегченно вздохнул Валерий Федорович. Тем временем другая группа сотрудников милиции осматривала стоявший на обочине автомобиль Зафаса. На глазах подруги они извлекли из тайника пистолет. Прораб по какой-то причине не взял его с собой. Задержанных на их же машине доставили в управление уголовного розыска. Там строитель зло бросил Беклемищеву: — Немножко опередили. В шесть утра меня уже не было бы в городе. — Вот поэтому-то мы и торопились, — ответил Валерий Федорович. Водворив в камеру Зафаса, Беклемищев заторопился домой, но как ни спешил, а переступил порог квартиры только на рассвете. Рассматривая преступника, Беклемищев удивлялся его искусству наводить тень на плетень. Зная все подробности его жизни, Валерий Федорович попытался было понять механизм перехода от человека нормального к человеку-перевертышу, но тут уже ему просто не хватило воображения. — Да знаете ли вы, кто такой Зафас? — вещал арестованный. — Я умирающим помогал, а вы за доброе сердце сажаете… — Хорошо, Зафас, уйдем от лекарств, — прервал его следователь. — Посмотрите на фотографии: знакомы ли вам эти лица? — Первый раз вижу. — Неужели не узнаете обитателей загородной квартиры? Из-за стола встал Беклемищев и подал Зафасу медицинский халат: — Наденьте. Арестованный побледнел, опустился на стул бормоча: это не он, это другие, он только давал халаты… В кабинет доставляли пойманных за ночь сообщников. Они пока делали вид, что не знают никакого прораба, но пройдет совсем немного времени, и все разом заговорят. И о том, как была организована «медицинская фирма». И о том, какую роль в ней играл этот смуглый человек с большими бегающими глазами… Вот такая у капитана милиции, теперь уже начальника отделения управления уголовного розыска Беклемищева работа. И она будет нужна до тех пор, пока существует зло, пока есть люди, которые не гнушаются ничем, чтобы пожить за счет других. Значит, и к борьбе с ними нужно быть готовым всегда. В любую минуту. Валерий Федорович продолжает совершенствоваться, он заочно учится в Академии МВД СССР. 1983 год для него сложился удачно. Сброшена огромная двухлетняя тяжесть — задержаны и осуждены опасные преступники. Его титанический труд отмечен боевой наградой — орденом Красной Звезды. Заслужить в мирное время такой орден удается далеко не каждому. Валерий Федорович польщен и смущен — награда досталась ему одному, а надо бы, как он считает, разделить ее со всеми сослуживцами.СЕКУНДЫ НА РЕШЕНИЕ
В пять часов утра подполковника милиции Евстигнеева разбудил телефонный звонок. Дежурный по отделению милиции передал тревожное сообщение. — Готовьте машину, группу предупрежу сам, — тотчас отреагировал Евстигнеев. Он быстро поднялся с постели, в считанные секунды оделся. За двадцать пять лет службы не счесть, сколько раз приходилось вставать по ночной тревоге, поэтому и одежду и обувь держал наготове. Едва ополоснув лицо и не выпив даже стакана чаю, бросился на улицу. По пути в отделение забежал за Шелеповым, потом за Чирковым — они жили рядом. Он приучил себя и сослуживцев к оперативности и максимальной собранности. Этого требовали особенности самой службы. Чуть промедлишь, и преступник уйдет, ищи его потом. Начальник еще не успел уточнить обстоятельства происшествия, как явились оперуполномоченный уголовного розыска капитан Анатолий Шелепов и инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ сержант милиции Николай Чирков. Оба сотрудника опытные, решительные, инициативные, с ними Евстигнеев не раз выезжал на чрезвычайные происшествия и был уверен: что бы ни случилось, они не подведут. Видя, как начальник спешно готовит оружие и рацию, Шелепов и Чирков тут же подключились к делу. Евстигнеев работал молча. — Что стряслось? — нарушил тишину Шелепов. — В селе Б. произошло ЧП. Какое, сам еще толком не знаю, но преступник скрылся, судя по всему, в лесу. Так что срочно направляемся в Б. Августовское утро только начиналось. Ехали лесной дорогой. По земле бежали робкие серые тени. Евстигнееву не раз приходилось работать в таких условиях, и он понимал, что при поисках и задержании преступников каждый куст таит в себе опасность. Поиск непредсказуем: слишком много переменных величин. Вся надежда на опыт, знание лесной азбуки, профессиональную смекалку. Трагедия развивалась так. Рабочий совхоза Китов, недавно отбывший наказание, с самого утра был не в духе — с похмелья болела голова. Однако на работу вышел: 9 августа — день получки. У кассы встал одним из первых. Получив деньги, не медля помчался в магазин. Купил две бутылки вина, выпил. Побежал за третьей, но с оглядкой: как бы не попался участковый, который только вчера строго предупредил его за пьянку. Захмелел быстро. Сидя за столом, забрюзжал: никому-то он не нужен, все его ненавидят, и все из-за того, что имел пять лет отсидки; участковый грозится, бригадир наступает, Зинка нос воротит… — Ты, сын, бросай пить да не лодырничай, — сказала мать, — тогда и зауважают тебя. — Отчим, алкаш, — не слушая слов матери, продолжал Китов, — и тот, гад, гнет свою палку… — Ну, ну, полегче, — пробормотал из сеней пьяный отчим, — недосидел, видно. — Эх, что-то сейчас будет! — взбеленился Китов и, схватив недопитую бутылку, ринулся в сени, задел висящую на стене самодельную пику, сорвал ее. Отчим с испугу закричал. — Ладно, живи, гад, — прохрипел Китов и выбежал на улицу. Надвигалась ночь. Кругом была тишина. Разгоряченный Китов остановился у дома Кузнецовых, залпом допил бутылку и со злостью стукнул пикой по забору. «Добыть бы ружье», — мелькнула шальная мысль. И, глянув на темные очертания дома, направился к летней кухне. Разбив окно, он влез внутрь, обшарил все стены и пол — ничего не удалось обнаружить. Прокрался в сени, а потом и в избу. — Эй, кто там? — встрепенулась пенсионерка Кузнецова, услышав шорох в прихожей. — Дед дома? — Ты, что ли, Китов? — Ну я. — На косьбе, завтра будет. — Где ружье? — Спрашивай у деда. — Давай ружье, говорю! — Проси у деда, я не хозяйка. Китов включил свет: — Где ружье, старая? — и ткнул пикой в грудь. Кузнецовой стало плохо. — Где ружье? — наступал Китов. И снова кольнул пикой. Кузнецова закричала. Китов ударил еще раз. Старушка замолчала. Китов вернулся в прихожую. Ружье и патронташ висели на стене. Сорвав их, он подбежал к Кузнецовой. — Положи на место, разбойник! — вскрикнула она. — Ах, ты еще жива? Китов вскинул ружье — комната наполнилась пороховым дымом… Выключив свет и закрыв дверь, преступник вышел на крыльцо и остановился: «Подпущу красного петуха, и концы в воду». Рядом в темноте послышались голоса. Это изменило план Китова. Спрыгнув с крыльца, он пошел в ту сторону, где раздавались голоса. У дома Королевых рядом с грузовой машиной оживленно беседовали три девушки — Нина Гончарова, Оля Матросова, Наташа Лушина и три парня — Василий Гончаров, Александр Середкин, Алексей Егоров. Они не знали Китова, так как приехали отдохнуть к родственникам, и он не знал их. При виде автомобиля Китова охватило волнение: угнать! Опыт был. — Чья машина? — строго спросил он, подходя к ребятам. — Моя, — ответил Егоров. — Ключи! — Какие ключи? — Ключи, говорю!.. И нажал на спусковой крючок. Выстрел потряс ночной воздух. Девушки закричали. — А ну, в кабину! — заревел Китов. Подогретые алкоголем страсти бурно рвались наружу. — В кабину! Он выкрикивал слова, не очень ласкающие слух, а потом снова выстрелил. Нина Гончарова не выдержала и упала в обморок. Василий бросился к сестре. — Унеси ее, — скомандовал Китов. — Остальные в кабину! Ребята повиновались, сели. Китов, принялся заводить машину, не получалось. Выругался. Спрыгнув на землю, крикнул: — Выходи, стройся! Пальнул еще раз. — К берегу, быстро! Сейчас я вас, как куропаток… — Не пугай девчонок, — попросил Егоров. — Поговори еще раз!.. Китов нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Алексей вскрикнул и упал. Середкин оглянулся. — Не крути мордой, и ты получишь! — заорал Китов. Перезарядив ружье, он взвел курок. Еще выстрел. Сильный заряд сразил Александра. — Земля всех принимает… — злобно выругался Китов. Оля и Наташа заплакали. Смерть носилась рядом. — Не орать! Быстрей! Вперед!.. — подталкивал их Китов стволом. — Оставь нас. Что ты хочешь? — взмолилась Наташа. — В лесу разберемся… Василий Гончаров, оказав Нине первую помощь, вернулся к машине. Окликнул товарищей. Тишина. Спустился к реке и наткнулся на истекающих кровью друзей… В районный отдел внутренних дел сообщение о происшествии поступило в пять часов утра. Дежурный тотчас оповестил все ближайшие отделения милиции. На место происшествия сразу прибыло несколько поисковых групп. Здесь, на берегу реки, обсудили план неотложных действий. На коротком совещании руководителей групп подполковник Евстигнеев высказал предположение, что Китов, по всей вероятности, направился в сторону села Мишелевка. Евстигнееву было свойственно умение быстро сопоставлять факты и делать соответствующие точные выводы. Китов родился в Мишелевке, знает местность. Куда же ему еще идти! — Вроде бы логично, — сказал заместитель начальника райотдела подполковник милиции И. Михайлов, — но не поведет же он девушек в деревню? — А все-таки в знакомые места его потянет… — Тогда вам, Олег Евгеньевич, и карты в руки, — распорядился Михайлов. — Берите эту зону на себя и переправляйтесь на тот берег, связь поддерживайте с группой старшего оперуполномоченного Шестакова, которая поведет наблюдение с противоположного берега. Сели в машину. Серый туман медленно поднимался над рекой, цепляясь за верхушки деревьев. Около поселка П. остановились, вышли, углубились в лес. Здесь к группе Евстигнеева присоединились подполковник И. Михайлов и инспектор майор В. Михайлов, один из опытных работников райотдела. Как положено, рассредоточились. Напряжение росло. Обнаружение и задержание преступника в лесу — дело трудное и опасное, а поэтому посылают сюда людей знающих и смекалистых, таких, как Евстигнеев и его товарищи. Они не успокоятся, пока есть хоть какая-то ниточка, ведущая к раскрытию преступления. А уж если появилась реальная версия, то доведут ее до логического завершения. Хотя Китов тертый калач, отлично знает здешние глухие места, но едва ли рискнет пойти вглубь. Скорее всего, поостережется. Значит, остаются река, берег. Тут он может пробраться к деревне и асфальтированной дороге. Так рассуждал Евстигнеев. — Лучше повернем к берегу, — предложил он. — А я, пожалуй, спущусь к воде, — поддержал его майор Михайлов. Выйдя из-за кустов, инспектор посмотрел на противоположный берег: где-то там затаился лейтенант милиции Владимир Шестаков. — Шестаков, Шестаков, ты меня видишь? — проговорил Михайлов в микрофон. — Вижу, Владимир Петрович. — Что впереди? — Пусто. Евстигнеева подождал капитан Шелепов. — А не пустить ли нам собаку, Олег Евгеньевич? — предложил он. Подполковник задумался: туда и обратно — уйдет час. Многовато. Но ведь и может помочь. — Хорошо, поезжайте в питомник, — согласился Евстигнеев. — А мы пойдем дальше. Связь по рации. Китов, как и предполагал Евстигнеев, направился к Мишелевке. Подталкивая ружьем Олю и Наташу, он повел их крутым берегом. Стало светать. Наташа Лушина от безысходности помышляла броситься с кручи, но жаль было оставлять подругу одну. И тут же подумала: «Не скинуть ли его?» Она даже замедлила шаг. В спину ткнулся холодный ствол. «Нет, не хватит сил». — Пошевеливайся, пошевеливайся, — покрикивал Китов, — нагулялись, и довольно! — Отпусти. Куда ты нас ведешь? — захныкала Оля. — Что мы тебе сделали? Ты нас не знаешь, и мы тебя тоже. — Вы тут обнимались, а я пять лет за решеткой скулил. Теперь возьму свое… В стороне от тропинки стоял грузовик. Девушки обрадовались: сейчас их окликнут. Приблизились — никого. Китов оживился: — Угоним. Рванул дверцу — не поддалась. С досады стукнул кулаком по кабине. Оля незаметно выронила заколку: будет улика. — К воде, живо! — приказал Китов. Девушки, поеживаясь от холодного утреннего ветра, заспешили по склону, оглядываясь, посматривая по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь. Прошло уже более часа, неужели их не ищут? В зарослях стояла лодка. — Садись! — приказал Китов. Оля и Наташа заплакали. — Молчать! Кровь пущу! На середине реки Китов выкинул весла: — От греха подальше. Ветром лодку понесло к противоположному берегу. Китова стало клонить ко сну. Он то открывал, то закрывал глаза, но ружье не выпускал, и девушки тревожились, как бы он случайно не нажал на спусковой крючок. Лодка пристала к коряге и закачалась на волнах. — Прыгай! — скомандовал Китов. Ноги обожгла студеная вода, девушек стало знобить. — Приведу к ребятам, не так задрожите, — пугал Китов. Вошли в лес, пересекли дорогу. Спустя полчаса остановились у развалившегося дома. — Эй, мужики, выходи, красавиц привел! — крикнул в подвал преступник. В ответ — тишина. — Никого. Ладно. — И толкнул Наташу прикладом: — Давай в подвал. Подождем. Как придут, начнем свадебные танцы. Девушки спустились, сели у дальней стены. Китов загородил собой вход и стал раскладывать патроны. — Два — для вас, остальные — для милиции. Мне терять нечего, отжил. Лег рядом, ружье в руках. Захрапел. Оля сняла туфли, следом за ней то же самое сделала Наташа. Поднялись, шагнули к выходу. — Стоять! — Китов вскинул ружье. — На место! Девушки попятились назад, сели. Китов опустил ружье и сомкнул веки. Через полчаса девушки почувствовали, что Китов уснул. Решили бежать. С опаской поглядывая на спящего, направились к выходу. Перешагнули через Китова. Не реагирует. Выбрались наружу и во весь дух понеслись к дороге, которую пересекли час назад. Добежали до нее и еще не успели перевести дух, как из-за поворота показался УАЗ. Девушки замахали руками. Машина остановилась. Капитан милиции Шелепов распахнул дверцу и пригласил в кабину испуганных и вымокших с ног до головы Олю и Наташу… Евстигнеев, маскируясь деревьями, выдвинулся вперед: скоро изгиб реки: нет ли следов на песке? Солнце поднялось над горизонтом, и лучи его осветили верхушки деревьев. «Такая красота», — подумал подполковник, оглядывая местность. Внезапно ожила рация. — «Первый», я — «Пятый», — торопливо говорил Шелепов. — Слушаю, — ответил по микрофону Евстигнеев. — Олег Евгеньевич, преступник на вашем пути. Будьте осторожны. Очень опасен, при нем ружье и патроны. Девушки от него убежали, находятся у меня в машине. Подробности при встрече. Еду на помощь. Вот она, долгожданная минута! Евстигнеев невольно заволновался. А ведь сейчас главное — расчет и выдержка. Он извлек пистолет и окликнул Чиркова: — Бегите к тем зарослям, только скрытно, я пойду прямо. Кто говорит, что при задержании думать не приходится, тот никогда не задерживал преступника. При задержании думают, и мысль тут быстра, а глаз остер. Евстигнеев пробирался пригнувшись, сделал несколько перебежек от дерева к дереву. Остановился, чтобы избрать новое направление. Снова ожила рация. — Михайлов! Владимир Петрович! — вызывал майора лейтенант Шестаков. — Что? Есть новости? — Впереди вас, за деревом, человек, и, кажется, с ружьем. — Понял. Михайлов присел и увидел неподалеку парня с ружьем. Тот оглянулся и юркнул в заросли. — Стой! — крикнул майор и выстрелил в воздух. Евстигнеев бросился вперед и, встав за дерево, осторожно раздвинул ветки: в двух метрах от него торчал ружейный ствол. Чирков, находившийся справа, тоже выстрелил в воздух. Ствол повернулся на выстрел. Евстигнеев прыгнул сзади и выбил ружье. Китов бросился на подполковника, но тот ловко увернулся и сбил с ног преступника. Через несколько секунд подбежали Михайлов и Чирков. Китова скрутили. Так был положен конец страшным злодеяниям матерого преступника. Суд приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу. За проявленное мужество при задержании особо опасного вооруженного преступника подполковник Евстигнеев, капитан Шелепов и сержант Чирков удостоились государственных наград. Так закончилась эта нелегкая, опасная операция. Назвать ее обычной милицейской работой, пожалуй, неверно. Подобные ситуации даже в практике милиции возникают нечасто. В них как раз и проявляются все лучшие качества работников правопорядка: мужество, находчивость, отвага, смекалка, готовность к самопожертвованию во имя исполнения служебного долга. …Мы вчетвером сидим у того самого места, где произошла схватка, где был обезврежен преступник. Густые заросли, пологий берег реки, тихое безветренное утро — все это располагало к разговору. Разговор шел откровенный. Евстигнеев говорил о молодых сотрудниках милиции: — Нередко приходится слышать, что к нам на службу приходит не та молодежь. Я не согласен. Иначе откуда же у молодых милиционеров берутся силы, когда дело доходит до суровых испытаний? Шелепов добавляет: — Я не знаю такого случая, чтобы в сложной обстановке кто-либо из молодых милиционеров не выполнил поставленной цели. Рисковали, но от верности служебному долгу не отступали. Чирков углубляет мысль: — Конечно, вклад каждого милиционера в общий успех подразделения различен, но, считаю, все молодые милиционеры служат достойно. Только вот путь к признанию у них более длительный, чем у опытных. За этим своеобразным «круглым столом» сотрудники милиции говорили вдумчиво, сдержанно, точно. И невольно подумалось: так вели они себя и в те напряженные минуты в лесу, потому что мужество включает в себя умение мыслить в любой обстановке, принимать единственно верное решение. В заключение разговора подполковник Евстигнеев подытожил: — Среди молодых сотрудников милиции, посвятивших себя борьбе с преступностью, за долгие годы службы я видел достойные примеры для подражания. И это действительно так. На службу в милицию приходит способная молодежь. И она горячо поддерживает те славные традиции, которые были заложены их предшественниками в самые бурные годы становления Советской власти.Г. Набатов По затерянному следу В. Тарасов «Абвер» ищет связь

...Капитан Юрьев задумчиво шагал по коридору. Вчера утром его вызвал полковник Семашко и вручил измятый листок бумаги с коротким адресом:
Рига. Проспект Виестура, 2. Гарлевский Н. А.Больше на листке не было ничего. Даже подписи. И на конверте, в который был вложен листок, ни почтового штемпеля, ни адреса отправителя... К вечеру Юрьев выяснил, что ни по указанному адресу, ни по какому-либо другому Гарлевский в Риге не проживает. И вот теперь, какой-то час назад, с трудом сдерживая улыбку, полковник передал капитану новый листок. На нем стоял знакомый адрес:
Рига. Проспект Виестура, 2. Гарлевский Н. А.И снова — ничего больше. Правда, приглядевшись повнимательней, он обратил внимание на тонкую линию, перечеркивающую фамилию «Гарлевский». Рядом карандашом еле видна была новая: «Экерт». Экерт... Экерт... Это было уже что-то знакомое. Его искали, но безрезультатно. И решили, что он бежал вместе с фашистскими войсками в Германию. Но полученный сегодня анонимный документ свидетельствует, что Экерт, пожалуй, скрывается в Советском Союзе. И кто-то сигнализирует об этом. Что ж, выходит, надо ехать в Ригу.
* * *
...В Риге, в домовых книгах на проспекте Виестура, 2, Гарлевский Н. А. не числился. — А что было на этой территории раньше? — Я работаю здесь недавно, — ответил управляющий домами. — Но слыхал от жильцов, что прежде тут находилось строительно-монтажное управление 148. Были бараки. Кто в них жил — не знаю: домовые книги у нас не сохранились. — А где сейчас СМУ-148? — Тоже не знаю. Несколько дней Юрьев и его спутник лейтенант Бушуев провели на стройках Риги в поисках прежних работников СМУ-148. Вначале нашелся бывший инспектор кадров строительства. Он подтвердил, что на проспекте Виестура, 2 некогда размещалось строительно-монтажное управление, но с окончанием работ его ликвидировали. — Но не все же уехали отсюда? — Конечно. У нас и сейчас работает Лупенков. Он тогда был начальником жилищно-коммунального отдела. Поговорите с ним. Лупенков оказался общительным и доброжелательным человеком. Он поехал с Юрьевым на проспект Виестура и рассказал на месте, что здесь было раньше. — Вот тут у входа стояла небольшая избенка, — объяснял Лупенков. — Жил в ней Экерт. Вот здесь баня. А в этом общежитии находились истопники. Одного из них я помню. Муратов — фамилия его. С Муратовым была знакома женщина. — Фамилию не помните? — Кажется, Федорова... Я недавно встретил ее случайно на стройке. На улице Дзирнаву. Ходила к нему еще одна женщина. Но фамилию не знаю. Работала она, кажется, продавщицей в магазине. Лейтенант Бушуев познакомился на стройке с десятком женщин, но Федоровой среди них не оказалось. — У нас такой нет, — заверил его бригадир. — Можете не искать. Бушуев уже собрался было уходить, как неожиданно кто-то крикнул сверху: — Э-эй, молодой человек, береги-и-сь!.. Если жизнь не надоела... Лейтенант едва успел отскочить в сторону, мимо проплыл тяжелый груз.
Крановщица в синем берете держалась заигрывающе: — Кого ищешь? Не меня ли? — Нет, не тебя. Приятеля ищу. — А может, приятельниц? — Может, и их... — А кто твои приятели? — Да их перевели сюда со стройки на Виестура. — На Виестура? — переспросила женщина удивленно... — Я сама оттуда. Только давно перешла. Лет восемь назад... Фамилии знакомых назови. Может, кого-нибудь я знаю. — Ну, вот Степанова, например... Крановщица покачала головой. — А Гарлевского? — Нет. — Экерта?.. Женщина ответила не сразу, сделав вид, что не расслышала. — Нет... Но фамилию слыхала. Давно это было... — Она постояла, минуту раздумывая, и вдруг оживилась: — Постойте, вспомнила. С ним дружила моя знакомая Велта Будрис. Работала в продмаге продавщицей. Где она сейчас — не знаю. — А как ваша фамилия? — Зачем тебе? — Раз спрашиваю, значит, надо, — сказал лейтенант и добавил: — Я сотрудник госбезопасности. — Мария Федотова. Бушуев случайно столкнулся именно с той женщиной, о которой рассказывал Лупенков, ошибочно назвав ее Федоровой.
* * *
Лейтенант передал капитану свой разговор с Федотовой. Им без труда удалось установить адрес Велты Будрис. И вот Юрьев и Бушуев уже подходят к домику, окруженному соснами. Их встретила хозяйка — светловолосая женщина лет тридцати пяти. — Вы работали в продмаге СМУ-148? — спросил Юрьев, поздоровавшись и назвав себя. — Да. На вопрос, знает ли Велта Экерта, она ответила утвердительно. — Откуда? Лицо Велты покрылось румянцем. — Ну... — замялась она на секунду. — Меня познакомил с ним его товарищ Витольд. Они вместе жили в Западной Германии в лагере для перемещенных лиц и вместе вернулись на родину. — Где теперь Витольд? — В Риге. Работает на заводе ВЭФ. Юрьев черкнул в блокноте. — Где работал Экерт? — На стройке. — Вы не могли бы сообщить о его прошлом? — О прошлом я ничего не знаю. Он ничего не говорил и о своих планах на будущее. Кто его знал, какой он человек... Все таился, боялся чего-то... — продолжила вдруг она уже было законченный разговор. — Обманул меня... Сошелся с ненормальной... Все звали ее Аннушкой... — А куда делся Экерт? — Витольд рассказывал, что Николай внезапно куда-то уехал из Риги. Может быть, это случайное совпадение, но Аннушка тоже исчезла. Одновременно с Экертом.* * *
Вернувшись в Минск, Юрьев торопливо поднялся к себе, подошел к несгораемому шкафу, вынул желтую папку и начал медленно перелистывать документы. ...Был на исходе июнь сорок первого года. На Витебщине отцвели сады. Пошли в рост хлеба, обещая богатый урожай. Но людям было не до урожая. Через Белоруссию отходили на Восток советские войска. Тягачи, надрываясь, тащили орудия, ползли танки. По обочине устало шагала пехота. Где-то за лесом шли жаркие бои. В Оболь доносился гул артиллерийской канонады. Фронт подкатывался к Сиротинскому району. В это тревожное время, как-то под вечер, Николай Экерт отправился из деревни Зуи в станционный поселок Оболь и на пригорке у кладбища повстречал председателя колхоза Егора Егоровича Барсукова.
— Домой? — спросил Барсуков. Экерт приволакивал ногу, с усилием опираясь на суковатую палку. — Что у тебя с ногой? — Ненароком наскочил на пень... А ты что здесь торчишь? — Тебя подстерегаю. Делать-то что, Николаша, собираешься? В армию пойдешь, или подашься в лес? — Какой из меня солдат. Хворый я. Потому, сам знаешь, и не призывался. А насчет леса... — Экерт заковырял палкой землю. — Подскажи, Егорыч, с кем связаться. А то, вроде, ищи ветра в поле. Барсуков хотел было назвать адрес явки, но постоял с минуту и сказал: — Мне, Николаша, надобно только выяснить твои планы. Что и как. А дорогу в лес найдешь сам... — Верно, Егорыч. Найду, ежели потребуется. — Только раздумывать-то некогда, — вздохнул председатель. — А я не спешу. Экерт вытащил кисет, протянул председателю, но тот, словно не замечая, отвернулся и зашагал по шоссе. В Оболи прошло детство Николая. Здесь он закончил шесть классов, здесь стал работать в колхозе. Сначала в полевой бригаде, потом прицепщиком, а затем на тракторе. Но никто не знал, что творится у него на душе. «Работает честно — и ладно», — говорили про него. Все в Оболи знали, что немец Артур Экерт, отец Николая, был когда-то богатым хозяином, но все пропил и умер. Жена его с горя повесилась. И скрытный характер Николая колхозники объясняли его тяжелым детством: рос, дескать, сиротою. Никто почти не знал, что Николай переписывается с тетушкой, живущей в буржуазной Латвии. Нет-нет, да где-то между строк она писала племяннику, что «крепким хозяевам живется вольготно, никто их не притесняет». Злоба, зародившаяся у Экерта против тех, кто мешал ему стать таким же, каким был когда-то его отец, все время подогревалась письмами тетушки. Он ненавидел все советское, но умело прятал свои мысли. ...Захватив Сиротинский район, гитлеровцы оставили в Оболи гарнизон. Вокруг — заводы, нужные фронту, электростанция, железная дорога и автострада, связывающие Восточную Пруссию через Прибалтику и Белоруссию с группами армий «Центр» и «Север». Надо было все это охранять от партизан. В помощь войскам фашисты стали формировать полицию. Вербовали уголовников, людей, затаивших злобу против Советской власти, карьеристов и тех, кто готов был служить любому хозяину, лишь бы сытно кормили, одевали и платили жалованье. И Экерт добровольно поступил в полицию. Он решил, что это откроет ему дорогу к власти, к богатству. Предатель принес новым хозяевам толстую тетрадь, в которой перечислялись коммунисты, советские работники, передовые рабочие и колхозники. Отдельно были указаны те, кто ушел в Красную Армию и в партизаны, или поддерживал с ними связь. По заданию гитлеровцев Экерт лично расстрелял председателя колхоза Егора Барсукова, председателя сельского совета Владимира Алексеева с женой, коммуниста Павла Акуционка с женой и девятимесячным ребенком.

За усердие фашисты назначили Экерта начальником Обольской полиции, и он вместе с другими полицаями, эсэсовцами и жандармами стал арестовывать, пытать и расстреливать патриотов.

Километрах в четырех от Оболи находилась деревня, которую называли по-разному: то Барсуки, от Елисеенки, потому что большинство жителей носило фамилию Елисеенко. Деревня небольшая — сорок дворов. Добротные рубленые дома с ладными крылечками и палисадниками утопали в зелени... Гитлеровцы заподозрили нескольких жителей в связях с партизанами. Экерт и эсэсовец Криванек разработали «операцию» по уничтожению «партизанского центра». Каратели, неожиданно окружив Барсуки, врывались в дома и забирали белье, обувь. Когда обоз с награбленным добром отъехал к лесу, они подожгли деревню. Уцелела лишь одна изба на поляне. Сюда были согнаны сорок человек — мужчин, женщин, стариков и детей. Экерт закрыл дверь избы на засов, для прочности сунул в скобу вилы, поджег крышу, отошел и швырнул в окно гранату. Стены вздрогнули. Обезумевшие люди сорвали дверь с петель, но попали под огонь автомата Экерта. Так была стерта с лица земли тихая деревенька Барсуки. Так погибли ее жители. Фашисты оценили преданность своего подручного: Экерту был присвоен чин унтер-офицера немецкой армии. После этого предатель совсем осатанел. Во главе карательного отряда он, как голодный хищник, днем и ночью рыскал по деревням. На станции Оболь комсомольцы-школьники создали подпольную организацию «Юные мстители». За два года ребята нанесли оккупантам большой урон. По заданию комитета «Юных мстителей» молодой стрелочник Коля Алексеев следил за движением воинских эшелонов. На чердаке у него был оборудовав наблюдательный пункт. Однажды он заметил, что один за другим через Оболь проскочили несколько эшелонов с тюками прессованного сена. Поздно вечером, когда состав с сеном задержался на станции, Коля пробрался к эшелону и обнаружил на платформе, под сеном, замаскированный танк «Тигр». «Так вот что они прячут!». Перед рассветом нарочный «Юных мстителей» доставил в партизанский отряд подробное донесение о фашистских танках. А днем советская авиация уже бомбила эшелоны. Вскоре юная подпольщица Нина Азолина взорвала обольскую водокачку, единственную водокачку, уцелевшую на большом участке железной дороги Двинск—Витебск. Взрыв ее на неделю приостановил движение воинских эшелонов. В Оболи и на промежуточных станциях застряли десятки составов, которыми занялась наша штурмовая авиация. «Юные мстители» были хорошо законспирированы. Да и откуда было немцам знать, что в диверсиях участвуют дети, школьники. Стремясь оправдать доверие своих хозяев, Экерт лез вон из кожи, чтобы разыскать подпольщиков. Ему-таки удалось заслать к ребятам провокатора. Напав на след юных патриотов, Экерт стал проводить обыски и аресты. Экерт — главный организатор их расстрела...
* * *
Юрьев захлопнул папку. «Подумать только — Экерт живет среди нас и, может быть, продолжает вредить... Разве можно быть спокойным, пока этот оборотень ходит по нашей земле?». Юрьев достал из сейфа листки с адресом Экерта, присланные неизвестным автором. Кто же все-таки этот человек? Откуда он знает Экерта и его родственника Гарлевского? Капитан сталпристально изучать листки. На обратной стороне измятой бумажки при ярком свете лампы он вдруг обнаружил едва-едва приметный полуистершийся отрывочный текст:«Дир... Обольс... кирпич... от прос...»«Обольс?.. Так это же Обольский кирпичный завод! Там есть такой». — Дальше мелкие буквы стерлись. «Значит, автор анонимки может оказаться в Оболи, — рассуждал про себя Юрьев. — Понятно теперь, почему он знаком с Экертом и с его родственниками».
* * *
За год на имя директора Обольского кирпичного завода поступили сотни заявлений. Юрьев и эксперт по графике тщательно просматривали толстые папки. Внезапно эксперт насторожился: в одном деле был подшит интересовавший их документ:«Директору Обольского кирпичного завода от просителя...»Местный житель Прохор Иванович Епифанов просил отпустить ему для хозяйственных нужд битый кирпич за наличный расчет. Почерк письма и заявления принадлежал одному и тому же лицу. ...Епифанова, семидесятилетнего колхозника, Юрьев застал в постели: старик был болен.

Побеседовали о видах на урожай, о колхозе, затем капитан незаметно перешел к хозяйственным нуждам Епифанова. — Зачем вам, Прохор Иванович, понадобился кирпич, да еще битый? — Печь поправлял, — отозвался старик, — дымила сильно... Он лежал неподвижно, только большие узловатые руки его беспокойно шевелились на одеяле. По-видимому, Епифанов почувствовал, что дело не в кирпиче. Юрьев осторожно спросил про письмо, про Экерта, руки старика замерли на одеяле, лицо сделалось каменным. — Не знаю, о чем вы, — хрипло сказал он. — Как же, Прохор Иванович... Вы же при немцах были бургомистром в Оболи. — Не по своей воле был... — Да не о том разговор. Экерт ведь числился при вас. Правда, формально. А все-таки вы его знали. — Сбежал он с немцами... — Жаль, — сказал Юрьев. — Я думал, вы поможете нам до конца. Уж если написали письмо... Ваша должность бургомистра для нас не секрет. Знаем и то, что ваша племянница была замужем за Экертом... — Замужем?! — Старик попытался приподняться и прошептал: — Обманул он ее, соблазнил... Погубил, гадина, девку... Сначала душу растоптал, а потом и жизни лишил... И людей столько поубивал, что не мог я молчать. Вот и послал письмо. Одно, второе... Боялся раньше-то... — А откуда адрес узнали? — Приезжал он как-то. А где сейчас хоронится, не знаю. Правду говорю, не знаю. Капитан поднялся. Значит, надо было продолжать розыск по документам ликвидированного СМУ-148, надо было ехать в Ленинград.
* * *
Найти документы любого учреждения совсем не трудно, если они сданы в Государственный архив. Однако, там документов СМУ-148 не оказалось. Случайно их удалось обнаружить в учреждении, которое не имело никакого отношения к строительству. Перелистывая списки личного состава, Юрьев задержался на знакомой фамилии: Федотова М. Ф., а затем в конце обнаружил строку: «960. Экерт Н. А.». В книге приказов фамилия Экерта упоминалась осенью сорок шестого года. Он зачислялся на стройку рабочим-плотником. Месяца через два его перевели в истопники. А в конце года Экерт получил повышение: его назначили заведующим складом. В книге имелась еще одна запись. Заведующий складом Экерт исключался из списков сотрудников СМУ, как дезертир. Он самовольно покинул стройку. Значит, Мария Федотова и Велта Будрис говорили правду. Но придется еще раз побеспокоить их.* * *
...И Мария Федотова рассказала все, что ей было известно об Экерте и его друзьях. — Самым закадычным его другом был Муратов. Одно время они жили вместе. Потом Муратова внезапно арестовали... Я жила в женском общежитии вместе с уборщицей Анной. — Фамилию знаете? — Нет, не запомнила. Очень она длинная. Анна была в близких отношениях с Экертом. — А где она сейчас? — Я слышала, что уехала. А куда — не знаю. Правда, ее видели после этого в Риге. — Кто видел? — Моя соседка, Зинаида Степановна Михайлова. Она живет в этом же доме. Этажом выше.* * *
— Да, я была знакома с Аннушкой, — сказала Зинаида Степановна. — Она служила домработницей в семье коммерческого директора бисквитной фабрики Оскара Петровича Берзиньш. Но еще в 1945 году его перевели в Москву, в министерство...
Поздно вечером капитан Юрьев получил разрешение выехать в Москву.
* * *
...Оскар Петрович Берзиньш, тучный мужчина лет под пятьдесят, сгорал от нетерпения узнать, что привело к нему капитана. Юрьев коротко изложил суть дела и спросил: — Как фамилия Аннушки? Это очень важно. — Рад бы, товарищ капитан, помочь, но ей-богу не помню. Может быть, Алина знает? — Берзиньш обратился к жене: — Алина, тебе известна фамилия Аннушки? — Видите ли, — замялась та, — Анна работала у нас недолго. Я ее почти не знала. — Она прожила у вас около года. И без прописки, — заметил Юрьев. — Вы, Алина Генриховна, держали ее паспорт у себя, чтобы она не ушла от вас. Хозяйка слегка покраснела. — То есть я знаю ее... Фамилию не помню. Длинная-предлинная. Капитан показал супругам Берзиньш список работниц СМУ-148, имена которых начинались с буквы «А». Тут же были указаны их фамилии. Алина Генриховна задержалась на фамилии Хижняк-Стефановская. — Она... Юрьев поблагодарил. Прощаясь, он обратил внимание на семейную фотографию, висевшую на стене. — Дети? — спросил он. Алина Генриховна объяснила: — Справа стоит наша Алма, слева — Мартин. В центре — Аннушка. — Где она работала после вас? — Домработницей у военнослужащего в Риге. Адреса не знаю, не спросила... И вновь в Риге. В адресном бюро Юрьеву дали справку, что в 1954 году в Риге, на улице Ленина, 62, в квартире 18 проживала гражданка Хижняк-Стефановская Анна Ивановна, 1906 года рождения, что Хижняк-Стефановская сменила свою фамилию на Ткаченко. Она уроженка деревни Бережок, Порховского района, Псковской области. По указанному адресу Юрьев отыскал квартиру инженер-полковника Лившица. Жена полковника в ответ на вопрос Юрьева достала из письменного стола блокнот и, перелистав несколько страничек, прочитала: — Анна Ивановна Ткаченко. Договор оформлен с 15 октября 1954 года. Уволилась 10 августа 1955 года. Расчет произведен полностью. Вас такие данные устраивают? — Вполне... Юрьев показал фотокарточку. — Она, — подтвердила хозяйка. — Вы не знаете, куда уехала ваша домработница? — спросил капитан. — Могу уточнить и это. — Зашелестели страницы блокнота. — Аннушка выехала в... Псковскую область, Порховский район, деревня Бережок. Юрьев взглянул на часы и, пожелав хозяйке всего доброго, не вышел, а выскочил из квартиры. Он еще надеялся успеть на минский поезд. Размышляя о предстоящем свидании с Анной Ткаченко, капитан перебирал в памяти все, что знал о ней: «Под фамилией Хижняк-Стефановская Анна пришла на стройку одновременно с Экертом. Заболела, лечилась в психиатрической больнице. Затем вернулась и, как заявляют Федотова и Будрис, стала часто навещать Экерта. И, наконец, дезертировала со стройки тогда же, когда и Экерт. После этого вернулась в Ригу и служила домработницей, но уже под фамилией Ткаченко». Юрьев не сомневался, что между этими фактами есть прямая связь. Точку зрения капитана разделял и полковник Семашко. — Сергей Петрович, вы установили, когда Анна вернулась в Ригу? — спросил он при встрече у капитана. — В 1949 году. До этого она жила некоторое время у себя в деревне. Затем опять лежала в больнице. Шизофрения... И показал полковнику фотографию Анны. — Болезненная и старовата... — На восемь лет старше Экерта. Он умеет обольщать женщин, этот Экерт. Соблазнил племянницу Епифанова, бывшего при гитлеровцах бургомистром Оболи, затем Велта Будрис, Анна Ткаченко... — пояснил Юрьев и добавил: — Между прочим, Анатолий Викторович, в Риге обнаружен солагерник Экерта — некий Кузьмичев. Он пытался направить розыск по ложному пути... Интересно, почему Экерт сблизился с Анной? Она намного старше его, да еще больная. А бросил он молодую, красивую — Велту Будрис. В то время Велта работала в продмаге и имела состоятельных родителей. Мне думается, что у Экерта была не любовная, а какая-то другая, далеко идущая цель.* * *
В Бережок Юрьев поехал с лейтенантом Бушуевым. Деревня раскинулась вдоль озера, лежавшего у подножья пологого холма. Вокруг — холмы, поросшие кустарником. Берег, что напротив деревни, покрыт лесом. Ветки берез низко склонялись к воде, словно хотели пить. В конце улицы размещался сельсовет. Юрьев застал там председателя Никиту Федоровича Круглова. Из его рассказа он узнал, что Анна Ивановна Хижняк-Стефановская (Ткаченко — ее девичья фамилия) родилась в этой деревне. Здесь она училась, а после окончания школы работала счетоводом в сельпо. В тридцать третьем году вышла замуж за техника-лесовода Хижняк-Стефановского и прожила с ним в дружбе и согласии до сорок первого года. В первые же дни войны Хижняк-Стефановский добровольно ушел на фронт, участвовал в обороне Ленинграда, сражался на Ораниенбаумском пятачке, был тяжело контужен и после освобождения Псковщины вернулся в Бережок. Но это уже был не тот Казимир Станиславович, каким его помнили в округе. Он часто болел, стал пить. Не выдержала Анна, в сорок шестом году завербовалась и уехала на строительство в Ригу. Вскоре Казимир Станиславович умер. Похоронила Анна мужа и опять надолго покинула Бережок. — А чем она сейчас занимается? — поинтересовался Юрьев. — Пенсионерка, по инвалидности. Живет затворницей. Ни во что не вмешивается... С головой у нее не совсем...* * *
Дом Анны Ткаченко стоял у самой околицы. Одну половину его занимала семья младшего брата, колхозного зоотехника, в другой, что поменьше, жила с матерью-старухой Анна. Прежде чем нанести ей визит, Юрьев с Бушуевым узнали, что Анна себя чувствует хорошо, бывает в гостях у знакомых, ходит в сельскую библиотеку. В погожие дни любит копаться на огороде. Анна встретила гостей встревоженно, поднялась из-за стола. — Мы сотрудники госбезопасности, — представился Юрьев. — Нас интересует Экерт. При каких обстоятельствах вы познакомились с ним? — Когда он был истопником, — после длительной паузы тихо ответила Анна. — Вы бывали вместе с Федотовой в компании Экерта и Муратова? — Иногда. Но я с Экертом ничего общего не имела... Хотите верьте, хотите нет, — на глазах Анны показались слезы. Юрьев понял, что она боится быть искренней. — Экерт что-нибудь рассказывал вам о себе? — Ничего не рассказывал. Муратов как-то проговорился, что служил вместе с ним у немцев... — Анна Ивановна, — мягко спросил Юрьев, — что заставило вас уехать из Риги вместе с Экертом? Велта Будрис говорила нам о вашем отъезде. — Я уезжала в Куйбышев. К брату. — Я понимаю вас, Анна Ивановна. Вы боитесь сказать правду. Не бойтесь. Вас мы ни в чем не подозреваем. Экерт вас обманул. Он рассказывал вам о том, как убивал советских людей? — Убивал? — Да! Он — каратель. Анна вспыхнула. Губы ее задрожали. — Каратель? — Если мы найдем Экерта, то вы сами убедитесь в этом. Он палач. Экерт изменил Родине... Юрьев поднялся и отошел к окну. — Я понимаю вас, — продолжал он, стараясь говорить как можно мягче. — Трудно поверить вот так, сразу... Он был близок вам. Может быть, и сейчас... — Нет! Нет! — И, положив на колени руки, перевитые узловатыми венами, Анна заговорила: — Тяжело было работать на стройке. Кирпичи я таскала, бревна, доски... Здоровые и те кряхтели. Ну, я и слегла, заболела. А на ноги поднялась — позаботились обо мне добрые люди: уборщицей в баню определили. Там я и повстречалась с Николаем. Спросила как-то: «Где твоя семья?» — «Нет у меня семьи, — отвечает, — расстреляли...» Мой покойный муж не был чутким, а Николай... Почти каждый день виделись мы, и он спрашивал, как я себя чувствую. Однажды Николай говорит: «Отчего это, Аннушка, другой раз на меня находит такое, что хочется волком завыть? У тебя так бывает?» И потом все чаще стал на нервы жаловаться, об отъезде намекать: «Вижу, что и тебе здесь не сладко. Надо убираться отсюда». Узнав, что в Оренбурге живут мои знакомые, он предложил поехать туда. Я согласилась. — Экерт не говорил, почему он хочет покинуть Ригу? — Говорил. Это было под Витебском. Мы проехали небольшую станцию, не помню точно ее названия. Кажется, Оболь. Николай побледнел как-то. «Знаешь, Аннушка, хорошо, что я уезжаю. Здесь много моих врагов. Увидят — не пощадят. Но я их бил и буду бить...» Двое суток мы были в пути, и Николай чувствовал себя хорошо. Но вот поезд стал приближаться к Оренбургу, и его будто подменили. Он позеленел, начал трястись, бредить... У него случился припадок. Когда поезд прибыл в Оренбург, я отправилась с Экертом в больницу. Регистраторша спросила у него документы, а он в ответ: «Украли в поезде во время приступа». — «Как фамилия?» — «Неведомский Николай Иванович». Я удивилась, но промолчала. — Значит, Экерт лежал в больнице не под своей фамилией? — переспросил Юрьев. — А почему вы уехали из Оренбурга? — Это он велел. Он сказал мне, что плохо себя чувствует. Очень много пережил. Ему нужно некоторое время побыть одному, чтобы восстановить здоровье. Обещал прислать мне вызов. — И, конечно, не вызвал? — Нет. — Значит, он в Оренбурге... — тихо проговорил Юрьев, как бы подводя итог беседы. — А то где же... — с неожиданной злостью сказала Анна. — Тут и ищите его, гадюку. Фамилию-то сменить можно, а вот фотокарточку не сменишь.* * *
В Оренбурге был прописан только один Неведомский — Николай Степанович. Год рождения — 1890. Пенсионер. Это был не тот, кого искали. Экерт родился в 1914 году. Оренбург запросили снова: «Когда Н. И. Неведомский находился на излечении в областной психиатрической больнице и по какому адресу выписался?». Ответ был такой: «Неведомский Н. И. лежал в больнице с 5 по 13 мая 1947 года. Выписался в город Новосибирск, Советская тридцать, квартира шесть...». «Опять двадцать пять, — подумал с досадой Юрьев. — Ищем в Оренбурге, а он в Новосибирске. Ну и ловкач!». Ночью в Новосибирск полетела телеграмма, а утром на столе Юрьева лежал ответ: «Указан-му адресу Неведомский не проживает. Новосибирске не прописан».* * *
Главный врач психиатрической больницы Оренбурга в ответ на вопрос Юрьева развел руками. — О Неведомском я ничего не знаю. Работаю здесь всего полгода. Можно разыскать историю болезни. В истории болезни Неведомского рядом с диагнозом «эпилепсия» красовался огромный вопросительный знак. Внизу была отметка «Выписался в Новосибирск». И указан фиктивный адрес. — Не смогу ли я побеседовать с кем-либо из старых работников больницы? Главный врач задумался. — Постойте, постойте... Кто же у нас здесь давно работает? — Он стал вслух перечислять: — Орлова Ксения Никаноровна... Так! Тетя Поля... Как говорится, раз, два и обчелся. Орлова еще не пришла на работу. А тетя Поля... Тетю Полю Юрьев нашел в коридоре. Он несколько минут наблюдал, как невысокая, щупленькая женщина с заостренным подбородком старательно вытирала мокрой тряпкой светлые, покрытые масляной краской стены. — Тетя Поля, — Юрьев подошел к санитарке. — Извините, что я так вас называю. — Ничего, ничего, я привыкла, — тетя Поля взглянула на него добрыми глазами. — Меня все так зовут. Что надобно-то? — Вы работали здесь в сорок седьмом году? — Еще раньше, милый, работала. При госпитале. — Не лежал ли здесь Неведомский? — Не помню... — Плотный такой, видный. Блондин... — Много лежало у нас и плотных, и видных, и блондинов... — У него на правой руке пальца не хватает. Санитарка оживилась. — Батюшки! Да ты бы с этого и начал. Зовут его Николай. А фамилию, хоть убей, не скажу. — Вы не знаете, куда он девался? — Никуда... Работает в нашем подсобном хозяйстве. Кузнецом.* * *
Ксения Никаноровна, старшая медсестра Оренбургской областной психиатрической больницы, вернулась с работы раньше обычного и пригласила мужа в кино. Николай Иванович Неведомский поморщился. Он не любил бывать на людях. Ксения Никаноровна знала это и не удивилась тому, что даже в кино приходилось тащить мужа чуть ли не силком. Поэтому, воспользовавшись минутной его заминкой, схватила мужа под руку и потащила к двери.
Во Дворец культуры пришли за десять минут до начала сеанса. Военный фильм не интересовал Николая Ивановича. Он видел настоящую войну и пережил такое, что, пожалуй, никому не расскажешь... Сидя рядом с женой, он думал о своем... Здесь могла бы сидеть не она, а... А что, если Аннушка неожиданно заявится в Оренбург?.. Николай Иванович беспокойно заерзал на стуле. Скосив глаза, Ксения Никаноровна взглянула на профиль мужа. Худощавое лицо с ямочкой на подбородке. Задумчивый, немного грустный взгляд. Она знала со слов Неведомского, что он, подобно героям фильма, воевал, был ранен. «Переживает, вероятно...» Ксения Никаноровна жалела мужа и в то же время чувствовала смутную тревогу из-за того, что он редко делится с ней своими мыслями, молчит. «Впрочем, — рассуждала она про себя, — Николай всегда был неразговорчивым». Ей вспомнилось, как она выходила замуж. Прежде чем дать ответ Николаю, посоветовалась с матерью. — Понимаешь, мама, он сильный, ласковый. А иногда как будто чужой мне. Скрытный, беспокойный, молчаливый... — Стерпится-слюбится, — сказала мать. И вот уже тринадцать лет Ксения Никаноровна живет с Николаем. А он все такой же скрытный и не любит вспоминать о прошлом. Он неплохо работал кузнецом в подсобном хозяйстве психиатрической больницы. Был подтянут, исполнителен, никому не перечил. Скажут — сделает. И сделает на совесть, не придерешься. Друзьями Николай Иванович не обзаводился, но ходить в гости не отказывался, чтобы не обидеть. Придет, выпьет две-три рюмки и просидит весь вечер молча. «Хлебнул, видать, браток, горя, вот и угрюмый», — говорили о нем знакомые. Ксения Никаноровна не решалась надоедать мужу расспросами. Она любила Николая и не мешала ему жить в собственном мире раздумий и переживаний. Лишь однажды она попыталась узнать, где Николай работал раньше. — В колхозе, — ответил муж. И, словно боясь, что жена захочет выяснить подробности, поспешил добавить: — Немцы разорили его начисто. Народ, должно быть, разбрелся, кто куда. Написал на родину, да не отвечают.
* * *
...В подсобное хозяйство психиатрической больницы приехали под вечер. Не доезжая метров ста до поселка, Юрьев приказал шоферу остановиться. Дальше пошли пешком. Кроме Юрьева, было еще двое понятых: Григорий Николаевич Зайцев, приехавший из Оболи опознать преступника, и председатель поселкового Совета Никулин. Миновали шестой домик на левой стороне, и Никулин сказал: — Здесь! В одном окне горел свет. Никулин постучал, прислушался, но никто не появлялся. Он постучал сильней. За дверью раздались шаги. — Кто там? — Это я. — Председателя Совета знали здесь в каждом доме. — Николай Иванович пришел? — Нет еще, Василий Иванович. Задержался на собрании. — Ладно. Я скоро загляну. — А что за собрание? — тихо осведомился Юрьев у Никулина. — Перевыборы рабочкома. Неведомский ведь заместитель председателя... Они перешли дорогу и сели на скамейке в палисаднике. Минут через двадцать послышались голоса. По улице шла группа людей. От них отделился Неведомский. Он уверенно вошел во двор, поднялся на крыльцо и настойчиво, по-хозяйски постучал. Едва он скрылся за дверью, как Юрьев и его спутники зашагали к дому. Дверь снова открыла старушка — это была теща Экерта. — Добрый вечер, — поздоровался Никулин, войдя в комнату. — Здравствуйте, — тихо сказали Юрьев с Зайцевым. — Вечер добрый, Василий Иванович, — отозвался Экерт и оглядел незнакомцев. Вдруг он вздрогнул, лицо его побледнело. Метнул злобный взгляд в сторону Зайцева. Должно быть, узнал. Юрьев сразу заметил в нем перемену. — Садитесь, — твердо произнес он. — Я работник госбезопасности Юрьев. — Ваша фамилия? Несмотря на сковавший его ужас, Экерт казался спокойным. Слишком долго готовился он к этой встрече. — Неведомский. — Имя и отчество? — Николай Иванович. Юрьев указал на Зайцева: — Вы этого гражданина знаете? — Нет, не знаю. Первый раз вижу. — А вы, товарищ Зайцев, знаете его? — Как же! Сколько лет рядом жили. Работали в одном колхозе. Это — Экерт! Начальник обольской полиции. — Ух, сволочь! — побагровел Экерт. Он затрясся, как припадочный, стал закатывать глаза. Капитан встал и резко произнес: — Хватит, Экерт, играть... Вы арестованы!* * *
ОБОЛЬ. 12 сентября 1961 года (ТАСС). Выездная сессия Верховного суда Белорусской ССР закончила сегодня слушание дела бывшего начальника фашистской полиции в Оболи, Витебской области, Николая Артуровича Экерта (он же Николай Иванович Неведомский). Изобличенный неопровержимыми доказательствами и свидетельскими показаниями, Экерт вынужден был признать себя виновным в совершении тягчайших государственных преступлений. Предатель и палач приговорен к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Ради великой Победы
Новосибирская область, как и вся Сибирь, до Октябрьской революции представляла далекую окраину царской России, и только при советской власти осуществилась мечта великого русского ученого М. В. Ломоносова — могущество нашей Родины прирастать стало Сибирью. Вероломное нападение фашистской Германии прервало мирный труд страны. Уже в первые три-четыре месяца войны практически все заводы и фабрики перешли на выпуск оборонной продукции. Городу Новосибирску и области пришлось перестраивать не только свои предприятия, но и принять десятки эвакуированных заводов и фабрик. Став в годы войны крупнейшим индустриальным, научным и культурным центром, Новосибирск внес неоценимый вклад в дело разгрома врага. В те суровые годы, когда тыл и фронт объединились для защиты родной земли от захватчиков, вся деятельность чекистов была тоже подчинена борьбе за разгром фашизма. Большая группа работников Новосибирского управления государственной безопасности была направлена в действующую армию, а те, кто остался в тылу, вели трудную борьбу с подрывной деятельностью разведок империалистических государств, зарубежных спецслужб и враждебных элементов. В своей деятельности чекисты всегда опирались на широкую поддержку народа, на патриотизм и непримиримость советских людей ко всем врагам государства. И в те суровые годы они вместе со всем народом подчинили свою жизнь единой цели — «Все для фронта, все для победы!» 24 сотрудника Управления государственной безопасности Новосибирской области пали смертью храбрых в боях за честь и независимость нашей Родины. Их имена занесены на пилоны монумента Славы воинам-сибирякам. Личное мужество и отвага новосибирских чекистов, их беззаветное служение Родине отмечены высокими правительственными наградами. 22 участника Великой Отечественной войны и сегодня продолжают работать в Управлении КГБ СССР по Новосибирской области, передавая свой богатый опыт молодым сотрудникам. За высокие показатели в чекистской работе удостоены звания «Почетный чекист»: генерал-лейтенанты В. Г. Балуев и И. А. Маркелов; генерал-майоры М. Г. Нелюбивцев, В. М. Ситнов, В. И. Сафронов; почетный гражданин города Чугуева полковник М. Г. Сизов; полковники Г. М. Москвичев, Н. А. Соломонов, П. И. Гусев, В. К. Березников, Е. Н. Костин; подполковник П. В. Осколков; майоры К. В. Лопатин, М. А. Якунин, В. В. Старков; ст. лейтенант В. Ф. Козловская. Документальная повесть, которую вам предстоит прочесть, подготовлена к 40-летию Победы над фашистской Германией по инициативе Совета ветеранов Управления КГБ СССР по Новосибирской области. В ней рассказано не только о славных делах чекистов в суровое для страны время, но и о той огромной помощи, которую оказывало население органам государственной безопасности в борьбе с врагами Советского государства. Повесть не претендует на всесторонний и полный охват большой и многогранной работы, проделанной сотрудниками Новосибирского управления государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны, но на основе документальных данных и действительных событий дает читателю представление о нелегком труде чекистов, служит убедительным напоминанием каждому советскому человеку о необходимости постоянной политической бдительности. Сейчас, когда спецслужбы империалистических государств и связанные с ними антисоветские центры используют всё более изощренные методы подрывной деятельности против СССР и дружественных нам стран, чекисты, вместе со всем советским народом, отдают все силы борьбе за мир, за безопасность нашей страны. Мужество и героизм славных защитников отчизны в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны навсегда останутся в наших сердцах символом героизма и самоотверженного труда на благо великой Социалистической Родины, символом беззаветного служения делу мира и счастья всего человечества.
Н. С. ФРОЛОВ,начальник Управления КГБ СССР по Новосибирской области,генерал-майор.
Тревожные годы
Для чекистов в годы Великой Отечественной войны фронт проходил по обе стороны фронта, а если точнее, то этой линии для них не существовало — они сражались в боевых соединениях, руководили операциями в партизанских отрядах, выполняя задание командования, шли в самое логово врага, а те, кто нес службу в глубоком тылу — разоблачали шпионов, диверсантов и других врагов советской власти. Работа в тылу требовала адского нервного и физического напряжения, и часто, очень часто приходилось чекистам смотреть в глаза смерти. Но на то они и чекисты — люди мужества, чести и долга. Некоторые из них и сегодня несут трудную службу по охране мирной жизни и безопасности нашего государства. Большая человеческая скромность отличает этих людей, но в День 40-летия они вместе со всеми участниками Великой Победы надели военную форму с боевыми наградами и вспомнили те трудные годы. Им было что вспомнить, бойцам невидимого фронта, ибо война началась для них гораздо раньше июня 1941 года. После XVIII съезда партии был взят курс на индустриализацию восточных районов страны, на создание в Сибири мощных центров тяжелого машиностроения, черной и цветной металлургии, химической промышленности. Чтобы лучше понять значение Новосибирской области в то тревожное время, нужно вспомнить ее границы — 595 тысяч квадратных километров — три с лишним Англии могло разместиться на этой территории. Кроме крупнейших сельскохозяйственных центров по производству зерна в Кулунде и продуктов животноводства в Барабинских степях, на севере ее, в пределах нынешней Томской области, раскинулись безбрежные просторы тайги, в Кузбассе (нынешняя Кемеровская область тоже входила в ее границы) сосредоточились угледобывающие и металлургические центры, а сам Новосибирск стремительно превращался в промышленный гигант, которому была по силам не только мирная, но и самая современная оборонная продукция. Одним из главных преимуществ фашистской армии в первые месяцы войны был мощный промышленный тыл, поскольку на нее работали практически все крупные заводы Европы. Следуя своим стратегическим расчетам, основанным на разведданных, фашисты решили концентрированными ударами лишить советскую армию поддержки тыла и обрушили всю свою мощь на центральную Россию. Сибирь они не принимали в расчет. Во многом, конечно, здесь заслуга и новосибирских чекистов, сумевших в предвоенные годы пресечь утечку оборонной информации из нашего города и области. К великому изумлению фашистских стратегов, Новосибирской области понадобилось всего три с небольшим месяца, чтобы перестроить все заводы, фабрики и деревообрабатывающие предприятия на выполнение главной задачи — все для фронта, все для победы... Промышленный и энергетический потенциал Сибири оказался настолько высок, что она смогла принять с июня по ноябрь 1941 года 322 эвакуированных предприятия. Только в Новосибирске разместилось свыше 50 заводов с десятками тысяч рабочих и членов их семей. Сельское хозяйство области обеспечивало не только прожиточный минимум продовольствия для своих жителей (а население ее увеличилось почти вдвое), но и отправляло на фронт тысячи эшелонов с продуктами... Все это привлекало внимание зарубежных шпионско-диверсионных центров, и в первую очередь германских, японских и китайских. Новосибирским чекистам пришлось столкнуться с умным и коварным врагом, не брезгующим для осуществления своих планов никакими средствами. Особая трудность в работе чекистов — расстояния. От далеких таежных поселков до районных центров, где располагались отделения НКВД с небольшим штатом сотрудников, — сотни километров дорог, по которым в зимние бураны и распутицу «ни пешим, ни конным» не добраться. Там, в далеких поселках, окопались раскулаченные, но не сломленные в лютой ненависти к советской власти бывшие хозяева сибирской земли. Вместе с остатками рассеянной армии Колчака и белыми офицерами организовывали они террористические и диверсионные банды. От села к селу, от города к городу сновали с фальшивыми документами, а то и вовсе без них, сомнительные личности. В 1931 году русским служащим Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) гоминдановские власти создают искусственные трудности, и в СССР устремляется поток беженцев. После продажи дороги поток этот становится настолько массовым, что японской, китайской и другим разведкам удается влить в него немало прошедших специальную подготовку и тщательно законспирированных агентов. В конце двадцатых годов Новосибирск и крупные населенные пункты области посетили представители турецкой и итальянской репатриационных миссий. Официальная версия их визитов — помощь в возвращении на Родину бывшим военнопленным. Главная цель — создание шпионской сети. В меру сил и возможностей помогали западным разведкам сотрудники английской концессионной фирмы «Ленагольдфильдс», датской миссии по приемке сибирского масла, которое шло в обмен на станки и оборудование для новых заводов и фабрик, представительства других концессий и торговых фирм. И в эти же годы, когда молодая промышленность Сибири остро нуждалась в квалифицированных кадрах, через торговые представительства производился наем иностранных специалистов в Германии, Австрии, Америке и других капиталистических странах. Иностранные разведки не замедлили воспользоваться этим «легальным» путем для засылки своей агентуры. Главными резиденциями шпионско-диверсионной работы стали расположившиеся в центре города иностранные консульства. В 1923 году над старинным особняком по улице Октябрьской поднялся германский флаг. Три года спустя другой старинный особняк по улице Советской «украсил» флаг империалистической Японии, а в 1934 году в трехэтажном особняке по улице Чаплыгина разместились полномочные представители гоминдановского Китая. Только один факт — германское консульство было полностью укомплектовано офицерами, в свое время побывавшими в Сибири в качестве военнопленных. Установили тесную связь с некоторыми бывшими служащими КВЖД японское и китайское консульства. С помощью «окопавшихся» агентов иностранные разведки усиленно ищут новых кандидатов на роли организаторов антисоветских групп. Обыденный для чекистов тех предвоенных лет рабочий день начинался в 8 часов утра и заканчивался глубокой ночью... А они были обычные люди, часто с не очень крепким здоровьем, у многих давали знать о себе ранения, полученные в гражданскую войну, в борьбе с белофиннами и в боях при Халхин-Голе, в схватках с басмачами и при подавлении кулацких восстаний...Провокатор
Незадолго до войны на заборах, трамвайных и автобусных остановках, в людных местах Новосибирска стали появляться листовки. Написанные крупными печатными буквами, они бросались в глаза издалека. Тексты их призывали не подчиняться советской дисциплине, организовывать саботажи и диверсии... Заканчивались они, как правило, словами: «Да здравствует Германия и свободный труд». Это было трудное для нашей страны время. Не хватало специалистов, квалифицированных кадров, рабочих рук. И Советское правительство вынуждено было пойти на крайние меры. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года (за год до начала войны!) — увеличивалась продолжительность рабочего дня с семи до восьми часов при одном выходном дне в неделю, запрещался самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия или учреждения на другое. Сейчас, в год сорокалетия Великой Победы, можно понять необходимость этого Указа. Поняло его и тогда абсолютное большинство рабочих и служащих... Но не все. Некоторым крайние меры правительства показались чуть ли не ущемлением прав трудящихся. Этим и воспользовались враги Советской власти, развешивая на заборах листки, где корявыми печатными буквами было выведены слова «закабаление», «рабство», «подневольный труд»... Висели листки недолго, люди или срывали их, или, отклеив, приносили в Управление государственной безопасности. Но кое у кого листовки вызывали злорадную усмешку, а иногда и сочувствие. Были предупреждены все постовые милиционеры, патрульные службы, но... клочки бумаги с безграмотным текстом продолжали появляться. Более того, антисоветчик наглел день ото дня. В Управление государственной безопасности было доставлено письмо в адрес японского консула с открытым призывом к войне против Советского Союза. «Русский народ ждет освобождения доблестной японской армией», — нагло утверждал автор от имени народа, еще не успевшего забыть зверства интервентов на своей земле. А вскоре на заборах был расклеен «Призыв к советскому народу»: «Если начнется война, все сдавайтесь в плен...» «Послание японскому консулу» и «Призыв» были написаны теми же печатными буквами. Еще раз опросили всех, кто доставил снятые с заборов листовки. У нескольких человек вызвал подозрение высокий, худощавый мужчина, с опущенными плечами и длинным острым носом. Чекисты решили провести подворный обход центра города, но в это время в Управление пришла взволнованная секретарь партийной организации универмага М. И. Рожкова и показала листовку, обнаруженную сотрудниками магазина на дверях служебного буфета. Написана она была теми же печатными буквами. Круг поиска сужался — к служебному буфету посторонний не мог проникнуть незамеченным. И вот перед следователем сидит худощавый мужчина в черной косоворотке. Тонкие губы напряженно сжаты, рука нервно касается седых волос над узким скошенным лбом, резко выделяется острый, длинный нос... — Ну, что ж, гражданин Мышкин, вы по-прежнему утверждаете, что не писали этих листовок? Из-под набухших век за каждым движением следователя настороженно следят серые глаза. — Слышал, как вы заставляете признаваться невинных людей. Со мной не получится. Все эти бумажки я вижу в первый раз. — Надеюсь, вы, гражданин Мышкин, не имеете претензий к следствию. — Пока нет. — Обещаю, что и в дальнейшем у вас не будет повода. А вот правду я вам советую рассказать. Чистосердечное признание — первый шаг к раскаянию. — Мне не в чем раскаиваться. — Тогда перейдем к сухому языку документов. Посмотрите, эту автобиографию вы писали собственноручно? — Что ж, я, по-вашему, соседа просил. — Так вот, как бы человек не изменял свой почерк, даже если он будет писать не правой, а левой рукой, характерные особенности остаются. — Какое это имеет значение. Листовки писал не я. — Тогда познакомьтесь с актом графической экспертизы. Специалисты приходят к единому мнению — автобиография и листовки написаны одним человеком. — Вранье... Дайте посмотреть... — Пожалуйста. — Они могут ошибиться. — Когда графологи сомневаются, они так и пишут, а здесь, как видите, утверждение, не вызывающее сомнений... Кроме того, мы подготовили вам встречу с людьми, которые видели, как вы наклеивали листовки на заборы, и пытались вас задержать... Каждое следствие — психологическая дуэль, в которой противник пытается использовать малейший шанс для своего спасения, даже если он, как говорится, зажат в угол неопровержимыми уликами и свидетельскими показаниями... Федор Николаевич Мышкин, заместитель заведующего складом универмага, пытался выиграть поединок, даже когда был опознан свидетелями и уличен другими неопровержимыми доказательствами. Но однажды, в конце допроса, он все-таки сорвался: — Да, я писал... Писал эти листовки... Я был задавлен жизнью... Я на базаре крал с прилавков лук, картошку — все, что мог... Мои дети умирали с голода... Нечем было топить и я крал у соседей дрова... Я обозлился на всех, и на советскую власть в первую очередь... У меня в жизни была мечта, и я надеялся, что она сбудется. Надеялся до 1919 года... — Почему именно до 1919-го? — Когда вы разбили белую армию. — И что за мечта, если не секрет? — Я шел к ней много лет. В 1903 году я был мальчиком на побегушках у купцов, а через год стал приказчиком. Служил в торговых фирмах Смирнова и Морозова, был на хорошем счету и вскорости мечтал открыть свой магазин. Революция лишила меня всего... — Зачем же так мрачно, гражданин Мышкин. К советской власти у вас не должно быть претензий. После ухода белых вы пришли добровольно в губернскую милицию и вскоре стали заместителем начальника по хозяйственной части. Не понравилась работа — уехали на Алтай. Через несколько лет снова вернулись в Новосибирск. Вас назначили заведующим крупным отделом Сибкрайсоюза, в 1935 году вы перешли заведующим отделом в Золотопродснаб... — Я мечтал иметь собственное дело. — Этой возможности вам не дала советская власть и вы на нее кровно обиделись? — Я сказал, меня обозлили голод и притеснения моей семьи. — В деле есть показания вашей жены, она рассказывает, что все эти годы вы жили лучше многих других семей. А вот о притеснениях она умолчала... Но мы выяснили, семья действительно терпела притеснения, жила в постоянном страхе... От вас, гражданин Мышкин. — Врет жена, я на свои кровные детей выучил, а они сейчас отцу рубля не могут прислать. — Детей ваших вырастила советская власть. Может, вы станете утверждать, что смогли бы дать им высшее образование, работая приказчиком? — Я бы их научил верному делу. — Обкрадывать покупателей? — Хороший торговец никогда плохо не жил. — Дети ваши на судьбу не жалуются. Старший получил высшее инженерное образование, второй сын окончил консерваторию, дочь учится в институте, младшая — в школе. У вас с женой хорошая работа. Так чем же вы недовольны, гражданин Мышкин? И не воровали вы, ни на базаре, ни у соседей. И голодом не сидели. И дети вам регулярно помогают. Живете в хорошем доме, свой огород, фруктовый сад... — Зачем мне все это, если я никогда не смогу стать настоящим хозяином, купцом, чтобы людишки при встрече шапки снимали и в пояс кланялись, чтобы собственный выезд, всякий почет и уважение. — Почет и уважение у нас в стране честным трудом и преданностью народу заслуживают. А вы призывали японское правительство напасть на СССР, восхваляли Германию и советовали русским людям сдаваться в плен? — Я хотел вернуть старую жизнь... — Вы хотели торговать русской землей, и чтоб люди при этом ломали перед вами шапки. Вы даже детей и жену пытались заставить ползать у ваших ног... — Вы отобрали у меня детей. — Зачем же так, они сами уехали из вашего дома. Натерпелись унижений в детстве, такое не скоро забывается. — Теперь им все равно не поздоровится, полетят со своих постов, тогда вспомнят отца. — И тут вы ошиблись, гражданин Мышкин. Дети ваши работают честно и заслужили уважение. И никто их этого уважения лишать не станет. А вот от вас мы их постараемся избавить, пусть живут и работают спокойно... Придется вам и за клевету, и за призывы к иностранным государствам поработить русскую землю ответить по всей строгости советских законов...Диверсанты
Жарким летним днем 30 мая 1940 года из окон третьего этажа строящегося корпуса ткацкой фабрики повалили клубы дыма и следом вырвалось пламя. На глазах рабочих пожар в считанные минуты охватил огромный трехэтажный корпус. Рискуя жизнью, люди бросились на борьбу с огнем, но в кранах раздалось только шипение — воду отключили, молчал телефон... Небольшой кучке смельчаков удалось вынести только чертежи и документацию. От почти законченного корпуса фабрики к приезду пожарных остались оплавленные стены да искореженные балки перекрытий. Следом за пожарными к сгоревшему объекту прибыла черная «эмка» Управления государственной безопасности. Расследование на месте происшествия ни к чему не привело. Все рабочие утверждали: никто в тот день на третий этаж не поднимался. Подтвердил это и вахтер военизированной охраны Морковин. Незадолго до пожара он обошел все здание. Посторонних на стройке тоже не видели. Такими фактами располагало следствие в первый день. Ясно было и другое — само по себе здание загореться не могло. По минутам исследовался рабочий день всех, кто был в тот воскресный день на стройке... У каждого оказалось безукоризненное алиби, подтвержденное несколькими свидетелями. Оставался только вахтер военизированной охраны. Следователь заканчивал его допрос, когда Морковин попросил разрешения закурить. — Пожалуйста, вот папиросы, — и подвинул к краю стола пачку. — Я свой табачок, у меня покрепче. Морковин извлек из кармана объемистый кисет, оторвал газетку, скрутил толстую цигарку, смел на широкую жилистую ладонь просыпавшиеся крошки, попросил спичку... Курил он жадными затяжками и на конце самокрутки вспыхивал яркий потрескивающий огонек, выхватывая в полумраке комнаты маленькийподбородок с резкими по-бурятски выпирающими скулами и широкий нос с горбинкой. Следователь тоже закурил, устало откинулся на спинку стула. — Может, припомните какую-нибудь необычную подробность, Морковин?.. Осторожно, прожжете брюки! — Ах ты, якорь ее, — подскочил Морковин, стряхивая пепел с коленей. Что-то вспомнив, следователь встал, щелкнул выключателем, и, словно забыв о вахтере, углубился в чтение... — Так, так, любопытно... Следователь оторвался от бумаг и встретился взглядом с большими холодными глазами вахтера. — Скажите, Морковин, вы всегда экономите спички? — С крестьянства. Отец врежет по шее: «Вишь, у меня горит, запали. Спички денег стоят». — У вас с отцом было крепкое хозяйство? — Како хозяйство, почитай из бедняков. Едва до нового урожая дотягивали, а когда и голодать случалось. — Голод впрямь научит экономить и на спичках... Так, говорите, с тех пор у вас эта привычка? — С того самого, царского время. — А за сколько минут вы обход совершаете? — Какой обход? — Вы же по нескольку раз за смену обходили здание. — Известное дело, охрана. — Так за сколько? — У меня часов-то сроду не было... Поди так две четверти часа. — Тридцать минут... А самокрутку вы курите... — следователь посмотрел на часы, — девять минут. В день пожара, в начале первого, вы зашли в курилку, «запалили» у кочегара Богомолова и отправились в обход... Минут через десять папироса догорела, и вы бросили окурок. Припомните-ка, в каком месте? — Чего, в каком месте? Следователь заметил, как резко напряглись скулы на узком худощавом лице вахтера, а руки нервно затеребили край пиджака. — В каком месте вы бросили окурок, Морковин? — Да нешто я упомню. — Вы упомните... Обычно вы сразу поднимаетесь на третий этаж по ближнему трапу, проходите по нему до дальнего трапа и спускаетесь на второй этаж. Так? — Кажись, так... — Ну, так где бросили окурок? — Выходит, на третьем и бросил... — Выходит... Но третий этаж был засыпан стружками и строительным мусором... — Нешто я не понимаю. Загасил я его, ногой затоптал. — И опять неточность. Вы никогда не затаптываете папиросу, а гасите ее, как и сейчас загасили, поплевав на ладонь. — В деревне, каки сапоги, больше босиком, потому и привык о ладонь. — И последний вопрос. Ваш сосед видел, как вы субботним утром, часа в четыре подошли к строительству и скрылись за забором. Зачем вам понадобилось идти туда в такую рань? — Врет он, сосед-то, с другим спутал. — Жена тоже заметила вашу раннюю отлучку... — Так то... должно по надобности. — По надобности за двести метров от дома, да еще через дыру в заборе?.. Не сходятся у вас концы с концами. Худощавая фигура вахтера сжалась, руки больше не теребили пиджак, а лежали на коленях, и по ним пробегала мелкая дрожь. — Я завтрева приду, гражданин следователь. Дома, может, чего припомню. — Домой вам, Морковин, идти поздновато. Засиделись мы — далеко за полночь. Вас сейчас проводят в специальное помещение... — В камеру, что ли? — Вы, гражданин Морковин, задерживаетесь по подозрению в поджоге трикотажной фабрики. И мой вам совет обдумать до завтра ваши показания. Чистосердечное признание всегда облегчает совесть, а иногда и участь.Зимним днем 1939 года на Ипподромском базаре*["9] встретились два давних сотоварища. Не виделись они несколько лет, с тех пор, как судьба раскидала по разным исправительно-трудовым колониям. Один, среднего роста крепыш, с круглой головой на короткой шее, известный в преступном мире под кличкой «Горло», а по паспорту Сергей Тимофеевич Паршин, 54 лет. Другой, помоложе — высок, худощав, с лихим чубом из-под шапки, с маленьким, будто срезанным подбородком и острым кадыком. На лагерном жаргоне он именовался «Большим», а в обычной жизни — Иваном Кондратьевичем Шахматовым. Как водилось между старыми собутыльниками, завернули они на радостях в ближайшую закусочную. Выпили по первой, второй... Иван Кондратьевич слегка забеспокоился, когда появилась на прилавке третья сотка, и грустно похлопал себя по карману: «Не при деньгах». Паршин тут же успокоил, расстегнул пиджак, убедительно потряс толстой пачкой красненьких тридцаток... С тех пор они виделись часто. На выпивку Паршин денег не жалел, кроме того, и взаймы давал, и не торопил с отдачей: «Будут, сочтемся — не велики деньги, я в день четыре-пять сотен навара завсегда имею». Шахматов только вздыхал — ему, скромному вахтеру Трикотажстроя, за такие деньги нужно месяц работать. — Да я тоже сторожем состою при Облжилснабе, чтобы милиция не цеплялась. А так шмутки покупаем-продаем, когда и на ипподроме повезет, а то какого дурака в картишки можно почистить... На жизнь хватает, не жалуюсь. По пьянке «Горло» всегда расписывал красивую жизнь, а у «Большого» от зависти глаза разгорались жадным блеском. За зиму его долги «по мелочи» перевалили за тысячу рублей. Попробовал несколько раз «ободрать» друга в карты — еще больше задолжал. Сыграл на скачках — опять «пролетел». — Невезуха у тебя кругом, — посочувствовал как-то Паршин. — Задолжал ты мне порядком, и живешь как обычный совслужаший. — И сам не знаю, как выпутаться, научил бы... — Думал над судьбой твоей, да не пригоден ты к нашему делу — торговец из тебя плевый, в картишки — ловкость рук нужна. Есть у меня одно денежное дельце, да не знаю, возьмешься ли? — Говори, чего темнишь. — А ну, как заложишь? И пришить тебя не успею, самого к стенке поставят. — Мы же с тобой вместе срок отбывали, поди знаешь меня. — Ходил слушок — будто продался ты, в охранниках состоял. — Эк, чего упомнил. А не слыхал, как я дружку твоему бежать помог? — О том сказывали... Паршин зачесал набок жиденькие волосы, дунул на расческу. — Ладно, беги за бутылкой, я тебя тут подожду. Место тихое, потолкуем. Короткое время спустя они сидели на скамейке у танцевальной площадки ипподрома. Шахматов сломал белый сургуч на горлышке, разлил водку по стаканам. — Говори, «Горло», какое дело? — Есть у меня должок за советской властью. Безвинно, почитай, пришлось пять лет по лагерям мотаться. И охота мне с ней посчитаться, подпустить ей петуха, да пожарче, чтоб пятки защипало. Говоришь, фабрика-то ваша совсем готова? — Осталось оборудование поставить и завертятся веретена. — А может, не завертятся, если петушка подпустить? К примеру сказать, на 1 Мая... — Не выйдет на первое, — зажевывая стакан водки соленым огурцом, буркнул Шахматов. — По праздникам вся охрана на казарменном положении — объект особой важности... — Ну... в другое время. — Опасное дело. За такое и к стенке могут поставить. — Мозгами поворочай, не поставят. А я хорошо заплачу и должок забуду... — Сам-то не смогу, перевели меня сторожить склады, а на фабрике другие вахтеры. — Мне сам, не сам — лишь бы сгорела. — Есть вроде надежный человек... Из наших. Отбывал срок за спекуляцию. Намедни в городе каки-то листки на заборе видел, а в тех листках призывают вредить советской власти. Я ему говорю: «Язык-то попридержи», а он матом: «Люди к делу зовут, а мы чужо добро охраняем. Что нам до того добра!» Паршин допил водку, тяжело поднялся со скамейки. — Раскинь мозгами, как петуха сотворить, а у меня денежки припасены — за одну ночь богатым станешь... На, бери на разживу три сотни, может, чего удумаешь.
* * *
— Ты бы, Иван Иванович, заглянул когда, разговор есть и не на сухую, — Шахматов показал сургучное горлышко бутылки. — Чего не зайти, можно и заглянуть... Вахтер Трикотажстроя Черемин стрельнул глубоко посаженными глазками. Шахматов смотрел на него сверху, и оттого сутулая фигура собеседника казалась совсем скрюченной. И каким-то жалким показался ему этот маленький человечек со впалой грудью. «Должон согласиться, — подумал Шахматов. — Жисть-то, видать, скрутила, трое детей, слыхать, а младшой токо родился. На зарплату вахтера не гульнешь. А выпить не дурак, особливо на дармовщину. Ему и больших денег сулить не надо, согласится по малой цене». И вслух сказал: — Так сёдни и заглядывай, акурат ночью дежурю, чего ее квасить-то, — и, подмигнув, скосил глаза на карман с бутылками. Когда совсем стемнело, в дверь вахтерской сторожки центральных складов осторожно постучали. — Кого черт несет, — грубо крикнул Шахматов и схватился за ружье, но, увидев входящего, смягчился: — А-а-а, Иван Иванович, милости просим. Время позднее, проверки теперь до утра не будет, можно и пропустить по малой... Когда открыли вторую бутылку, план, можно сказать, созрел во всех деталях. Оставалось найти исполнителя — Черемин охранял другой объект, и на фабрике его бы сразу заметили. Надо искать надежного человека на стройке... — Есть один мужик, — заплетающимся голосом бормотал Черемин, — пощупать надо... — Дотолкуешься, мне его покажи, — голосом потрезвее наказал Шахматов. Он пил мало, больше подливал собеседнику.— Так, что, Морковин, будем правду рассказывать или сказки сочинять? — Убить они грозились, гражданин следователь. Если, говорят, не запалишь — пришьем ночью и никто не узнает. — Кто они? Выражайтесь яснее, Морковин. — Да Шахматов с Череминым. Вы их не знаете, гражданин следователь. У Шахматова сын — бандюга, из тюрем не вылазит. И сам он такой же. Как-то выпили, он нож достал, покрутил у меня перед носом и говорит: «Ладно, не бойся, с тобой мы и так поладим, а вот скоро советскую власть германцы кончат, тогда повеселимся, я у вас атаманом буду, пустим кровь коммунистам, покрутятся они на этом ножичке». — Чего же вы, Морковин, их напугались... Вы для их банды человек подходящий — сами имеете опыт расправ с коммунистами. — Зачем, гражданин следователь, напраслину возводите. — Припомните-ка, Морковин, где вы находились с мая по сентябрь 1919 года? — Так Колчак нас с братом насильно загнал в армию. — А в комендантскую команду вы сами попросились? — Кому ж охота на фронте помирать. — Расстреливать людей безопаснее. У них руки связаны. А вы их и прикладами забивали, связанных-то... А среди арестованных и женщины были... — По приказу, гражданин следователь, попробуй, откажись — самого тут же кончат. — А судили вас за что, Морковин? — То не я, дядя — кулак — колхозное имущество поджег. — Вы ж говорили, что из бедняков, и голод и нужду терпели. — Не наше хозяйство, отца да дяди. А мы с братом ничего не имели. — То-то после пожара вы вместе с дядей из села сбежали... Морковин молчит, тупо уставившись в пол. Его высокая фигура начинает горбиться, словно не слова, а тяжелый груз складывают ему на плечи. — Так вернемся к пожару на ткацкой фабрике. Рассказывайте, как было дело. Он долго молчит, хмуро глядя себе под ноги. Не поднимая головы, хриплым голосом говорит: — Устал я, перенесите допрос. Следователь нажимает кнопку. Входит охранник. — Отведите арестованного в камеру, а ко мне пригласите Шахматова. Улавливает быстрый, отчаянный взгляд Морковина. Видит, как тяжелым, шаркающим шагом идет он к двери...
— Итак, гражданин Шахматов, на очной ставке с Паршиным вы признались, что получили от него деньги для организации поджога фабрики. Подтверждаете свои показания? — Чего запираться-то, когда «Горло» раскололся. Мне трепался, пусть хоть режут, не продам. А чуть прижали... Тьфу, гнида. — Оставьте, Шахматов, блатной жаргон. Говорите нормальным языком. — Паршин отомстить хотел — его безвинно осудили, а я ему задолжал и рассчитаться не мог. — Ну, если провоз контрабандных товаров из Маньчжурии и спекуляция ими на территории СССР — невинное занятие; если расхищение продуктов питания и промышленных товаров из советских магазинов вместе с Альшвангом и Базилевским в особо трудное для страны время и перепродажа этих товаров по спекулятивным ценам — тоже невинное занятие, тогда и впрямь Паршин жертва советского правосудия. Кроме того, он до последнего дня хранил удостоверение на право задержания и ареста любого подозрительного человека, выданное ему за собственноручной подписью атамана Семенова. Сколько людей побывало по его милости в контрразведке бандитов — одному ему, Паршину, известно. Такие вот дела, гражданин Шахматов, такая у вас компания подобралась... — Я за других не в ответе, гражданин следователь. Спросите лучше у Черемина, кто воду перекрыл в тот день и телефон обрезал? — С телефоном, верно говорите, работа Черемина. А про воду, гражданин Шахматов, придется вам рассказать. Один вы из всей компании знали, что главный вентиль находится рядом с центральным складом. Вы и олифу в ведра налили накануне ночью, а Черемин их на стройку отнес. А чтоб он похрабрее стал — стакан водки ему налили... Вы же и научили Морковина разлить олифу по стружкам. Он для этого даже ранним утром встать не поленился. В воскресенье оставалось только окурок бросить... Кстати, Шахматов, за что вы отбывали наказание? — Как участник заговора против советской власти... — И сына воспитали в своем духе? — Не-ет, гражданин следователь, ему до меня далеко. Он — мелкий уголовник... а я политикой занимаюсь. Ему сроду до такого дела не додуматься, а мы одним окурком на сотни тысяч убытка нанесли... И все без всякой корысти для себя... — Без корысти, говорите? Давайте кое-что уточним. Какую сумму вы передали Черемину за организацию поджога? — Попервости, значит, сунул ему полторы тысячи — говорит, мало, Морковин за такие деньги не соглашается. Тогда я взял у Паршина еще полторы... — А вам Паршин сколько обещал? — Долг простить... — И десять тысяч сверх того вручить... Что ж вы, бескорыстный человек, так не по-братски с соучастниками поделились? Вам на одного десять тысяч, а им три — на двоих? — Этой шпане и столько хватило. Черемин-то и за выпивку согласился, а Морковин жадный оказался. После пожара еще требовал...
Следствие подходило к концу. Нет, никто из них не раскаивался, что загубил труд инженеров, рабочих. Что город, вся страна не скоро теперь получит миллионы метров ткани, которая так нужна людям, пообносившимся, терпящим нужду и лишения. Тяжело и голодно жилось в тот неурожайный 1940-й... Но люди сутками не уходили с работы, чтобы хоть немного, хоть на один маленький шажок быть поближе к тому светлому дню, когда страна сумеет накормить и одеть всех, когда обычный хлеб будет свободно лежать в магазинах, а на полках — столько, пусть самой дешевой, материи, что ее хватит всем... Тогда, в 1940-м, это была только мечта. И надо ли удивляться той священной ненависти людской к тем, кто мешал им жить.
Встать. Суд идет. — Слушается дело по обвинению Паршина, Шахматова, Черемина и Морковина в организации поджога новосибирской трикотажной фабрики... Обвиняемые, вы признаете себя виновными? — Да, — отвечает на прямой вопрос каждый из четверых. Но на протяжении нескольких дней, пока идет судебное заседание, каждый пытается свалить главную вину на другого. Только в последнем слове Шахматов сам подвел черту: — Я понимаю, какое тяжкое преступление совершили мы перед народом. Если бы сейчас здесь, на месте суда, сидели мои племянники, люди уважаемые, занимающие высокие посты, они бы не стали столько дней разбираться — своими руками расстреляли бы меня. И я не прошу снисхождения, и все остальные тоже не имеют права на него. Суд удаляется на совещание...
Агент компании «Зингер»
Осенью 1925 года в Новониколаевске*["10] появился крепкий высокий старик, одетый просто, но не без изящества, широкоплечий, подтянутый, с военной выправкой, с лицом, не лишенным интеллигентности. Профессия у него была скромная — мастер по ремонту швейных машинок: имелся соответствующий патент кустаря-одиночки на имя Трунченкова Степана Ивановича. Клиентуре он пришелся по душе точностью и добросовестным исполнением заказов, а главное, набором запасных частей к популярным в то время швейным машинкам немецкой фирмы «Зингер». Ничего предосудительного в поведении Трунченкова не замечалось, если не считать его трехчасовой беседы в германском консульстве. Но скоро все прояснилось — у Степана Ивановича в Германии проживала родная дочь — Мария Степановна Строганова, бежавшая за границу с мужем после разгрома армии Колчака. К ней, на старости лет, и решил поехать Трунченков — пожить в семейном кругу, понянчить внуков. В консульстве он выяснил — получить разрешение на постоянное жительство в Германии весьма хлопотно, к тому же и дорого. «Откуда у старика такие деньги, — сокрушенно вздыхал Трунченков. — Ремонтом швейных машинок много не заработаешь. Едва-едва хватает на уплату налога кустаря-одиночки, на жизнь, и на старость отложить». От второго брака были у Трунченкова еще двое детей, но как-то не заладились у них отношения с отцом. Дочь Евгения далеко, в Красноярском крае, сын, Николай, хоть и в Новосибирске, но старается держать родителя на некотором от себя расстоянии. «Ну и бог с ним, — говаривал Степан Иванович, — навязываться не стану. Может, когда и переберусь к Машеньке в Германию, она не выгонит. В консульстве обещали похлопотать». Так и жил тихонько скромный старичок — приветливый, обходительный и незаметный. Правда, милиция возбудила против него уголовное дело по обвинению в ростовщичестве, но соседи и клиенты в один голос заявили о его тихой безгрешной жизни, а главный свидетель неожиданно покаялся в ошибке и с извинениями забрал свое заявление. Старичка отпустили с миром, тучка рассеялась, и вскоре все о ней забыли. Минуло еще три года, и снова над кустарем-одиночкой грянул гром. Ему предъявили обвинение в валютных операциях. На сей раз милиция провела тщательное расследование и выяснила, что скромный мастер по ремонту швейных машинок в больших размерах скупал золотые и серебряные рубли. Трунченкова попросили объяснить — откуда у него берутся средства на дорогостоящие валютные операции. — От продажи швейных машинок, — вздохнул Трунченков. — Скупаю у людей ненужный заржавелый хлам, ночи напролет тружусь, и получается как новая. Продаю с гарантией, на случай поломки — бесплатный ремонт. На таких условиях покупатели денег не жалеют. Человек я старорежимный, привык верить только драгоценному металлу, потому и скупал его, где придется. — Обороты-то у вас, Трунченков, на десятки тысяч... — Помилуйте, гражданин следователь, какие тысячи! Просили люди, я не отказывал, а они мне кое-что платили за посредничество — всё старику доход. За незаконные валютные операции Трунченкова осудили на пять лет, но, учитывая преклонный возраст, освободили из мест заключения досрочно. Вернулся кустарь-одиночка к разоренной мастерской. Но скоро выяснилось — «дружки» надежно спрятали и инструмент и запасные части, и обернутая в промасленную тряпку дожидалась в тайнике объемная банка, до верху набитая золотыми и серебряными рублями царской чеканки. И зажил наш мастер в тепле и достатке, сняв сразу несколько квартир. «Дружки» у него были надежные, еще с тех, давних, времен, когда имел Степан Иванович звание почетного гражданина Новониколаевска и собственный двухэтажный дом на углу улиц Барнаульской и Гондатти, и магазин «Прогресс» по продаже швейных и чулочно-вязальных машин немецкого производства, а при нем штат в несколько десятков человек и торговых агентов по всей Томской и Барнаульской губерниям. Тогда он был гласным городской думы от крупных домовладельцев и торговых людей и активным членом монархической партии «Союз русского народа». И при колчаковской власти его не забыли — избрали членом правления и заведующим торговым отделом общества крупных промышленников и домовладельцев, с оборотом до двух миллиардов рублей, а заодно числился Трунченков в «Особой комиссии по самосохранению и караульной службе при Новониколаевском гарнизоне», попросту говоря, черносотенной организации по борьбе с большевиками и сочувствующими советской власти гражданами города. А поднялся Трунченков на эти высоты с простого писаря 3-й Ломженской бригады, что охраняла в 1895-1896 годах участок русско-германской границы. Начальником участка в те годы был подполковник царской армии, немец Эрнст. Он-то первым и обратил внимание на услужливого писаря...* * *
В Управление государственной безопасности пришел рабочий-штукатур Трикотажстроя Николай Макарович Коростелев. Разговаривая с дежурным, он смущенно мял в руках шапку, часто курил. Лицо измученное, серое, под глазами темные круги. — Я, товарищ, которую ночь заснуть не могу, — признался он дежурному, — все думаю над их разговорами. Неужто и впрямь скоро воевать придется. Только-только жизнь налаживаться стала, полегче народ вздохнул, и с Германией мирный договор... Может, врут они... Напраслину говорят, чтоб людей запугать... Дежурный видел — трудно дается мужчине каждое слово, и не торопил. — Успокойтесь, Николай Макарович, рассказывайте по порядку. — Про что рассказывать, про их разговоры, али как? — Все, с самого начала. Где познакомились, что вас смутило в их поведении. — Дак познакомились известно где, на работе. Мужики присоветовали попроситься в бригаду Небылицина Трифона Герасимовича. Заработки там хорошие, а у нас с женой третий родился, мальчишка, и лишняя копейка, сами понимаете, край нужна. «Только, — говорят, — ты ему, Трифону Герасимовичу, про свое крестьянское происхождение не сказывай, не любит он голытьбы, с нее, говорит, хорошего работника не выходит. Поплачься лучше — из кулаков, мол, отца сослали, а сам в город подался, бедствую...» Ну я, как мужики учили, поплакался. И верно, взял. — А почему в бригаде Небылицина заработки выше? — Я поначалу тоже удивлялся, а когда побыл — понял. Рабочих-то рук не хватает, а мастеров он собрал хороших, еще в царское время они вместе дома строили и ремонтировали у богатых купцов. Сам Небылицин подрядчиком был по строительству, дом имел двухэтажный. В верхнем сам с женой и детьми проживал, а первый и подвальный этажи сдавал своим рабочим за большую плату. Такое условие сразу ставил, иначе в свою артель не брал... И при советской власти собрал знакомых мастеров, а сам стал бригадиром. В городе эвон кака стройка развернулась. Почитай, в любой организации людей не хватает. Ну, Небылицин и просил в три-, четыредорога. В одном месте не согласятся, в другое идет. Завсегда выгодный подряд найдет. А тут, акурат, Указ вышел, запрещающий самовольный уход с работы. В то время мы в Трикотажстрое крупный подряд закончили. Хвать, в другое место уходить — нельзя по новому Указу. Направляют нас на отделку клуба. Трифон Герасимович запросил, конечно, в четыре раза выше нормы. А ему говорят: будешь получать как все, что по расценкам полагается. Пришел он к нам: «Давайте забастовку устроим, не выйдем на работу, пока хорошо не заплатят». Кое-кто из штукатуров сомневаться начал. А я, как значит близкий друг Трифона Герасимовича, с его слов и начал: «Советская власть из человека раба делает, только в крепостном праве запрещался уход. Закабалить нас хотят», ну и все прочее, чему он меня учил. Сам-то Трифон Герасимович завсегда в стороне находился. Он и на собраниях выступал, советскую власть хвалил, а когда на один с бригадой, ругал ее последними словами. Недолго, мол, ей держаться. Придет германец с японцем и старую жизнь вернут... — Неужто в Трикотажстрое были низкие расценки? — Да нет, обычные. Но ежели можно в три, четыре раза больше получить, кто откажется... Устроили мы митинг, как Трифон Герасимович учил, а на другой день вся бригада не вышла на работу, окромя самого Небылицина и нескольких маляров. Он завсегда видимость служебного усердия создавал — это, мол, бузят рабочие, а я ни при чем. — Вы говорили: «Как Небылицин научил...» Он вас на работе подбивал на такие высказывания? — Зачем на работе, дома у него собирались. Он мне как-то сказал: «Я тебе раньше не доверял, а теперь вижу, свой человек, можно положиться. Если и дальше будешь меня слушать — богато заживешь»... Это он мне после той забастовки сказал, потому вышло, вроде я всех подбил... — И часто вы встречались с Небылициным? — Вестимо, как водится между дружками: то он ко мне, то я к нему. После той забастовки он мне карты-то и раскрыл. «Скоро, — говорит, — советской власти конец придет. Япония с Германией, хоть и подписали мирные договоры с СССР, а к войне готовятся. У них, значит, план такой: Япония забирает всю Сибирь, а Германия поддерживает ее с Запада, и, вроде, встретиться они должны на Урале». Я его и спрашиваю, откуда все это известно, кака сорока на хвосте принесла? «Есть, — говорит, — знающие люди. Мы для пользы Германии кое-что делаем, и будет нам за то большая благодарность». — Не интересовались, Николай Макарович, кого Небылицин разумел под словом «мы»? — Наверно, Трунченкова с Вильбергом, может, и еще кого. С этими-то он меня познакомил. Трунченков у них за главного. Он, сказывали, был в германском консульстве и с ихним послом разговаривал, а тот обещал, что не забудут его услуг, и всех, кто с ним работал на Германию. — И какие они давали задания? — Трунченков говорил: «Сейчас наша задача не за палку браться и бить большевиков. С этим пока погодить надо. Сейчас наша задача собирать вокруг себя недовольных советской властью. Германец-то потому так быстро всю Европу завоевал, что в каждой стране были верные люди. Когда фашисты к их границам подошли, они против своих воевать стали». Мудрёно как-то их называл — пятая колонна. И нам, мол, нужно пятую колонну организовать... И вредить советской власти, где только можно... Один вот Небылицин поди на целый миллион ей убытка принес... — Не говорил Трунченков, как Небылицин этот убыток принес? — Вроде чего-то вредил на железной дороге — точно не скажу. А вот в революцию, это сам Трифон Герасимович рассказывал, состоял Небылицин в партии эсеров. А при Советах работал в земельном отделе. И когда белые чехи город захватили — он всех совдеповцев в лицо знал, а с Петуховым даже работал вместе — помог их разыскать и арестовать. И еще до прихода белых скрывал у себя на квартире царских офицеров, которые оружие портили на складах. Трунченков говорил тогда: «Видите, сколько может один человек навредить, а если нас много будет — Германия легко советскую власть одолеет...» — И давно вы знакомы с этой компанией? — Да, почитай, сразу после той забастовки в 1939 году Небылицин и познакомил. — Что ж так поздно к нам пришли? — Думал, невзаправду они. Как может русский человек хотеть под германцем жить. Сам-то я неграмотный, может, думаю, чего по своей серости не понимаю. А когда про эту самую колонну заговорили, меня — как водой из ушата: что ж ты, сукин сын, выходит с германскими шпионами связался. За деньги и угощение Россию продаешь. Верите, нет ли, ночь не спал, ворочался... Жене все поведал, а она в рев. Как своим детям в глаза смотреть будешь? Вот и пришел. Жена мне и узелок сварганила и проводила до вашего дома. Дежурный Управления государственной безопасности устало улыбнулся. — За разговор наш сегодняшний, спасибо. Вы нам очень помогли. Если понадобитесь, не обессудьте, побеспокоим... И еще, Николай Макарович, — никому о нашем разговоре ни слова...Совещание проводил начальник отдела контрразведки. — Итак, попробуем свести все данные. Сначала о самом заявителе. — Коростелев Николай Макарович, из беднейших крестьян. Отец в поисках пропитания для семьи каждую осень уходил в город на заработки. Строил и ремонтировал дома, штукатурил. Когда подрос старший сын, Николай, стал брать его с собой. Так сын и остался в городе. Воевал рядовым на первой империалистической. Был ранен. Во время революции находился в госпитале. Характеризовался как хороший, преданный советской власти рабочий, пока не поступил в бригаду Небылицина. С тех пор стал высказываться против советской власти, один из организаторов забастовки на строительстве клуба Трикотажстроя. Жена — домохозяйка. Трое детей... — Как считаете, можно верить в его чистосердечное раскаяние? — Товарищ старший лейтенант, можно справку?.. Вчера Коростелев снова пришел к нам. Без всякого вызова. Волнуется, руки дрожат... Оказывается, за это время Трунченков несколько раз пускался в откровения. И вот интересная закономерность. В начале января Небылицин прямо обратился к Трунченкову: «Все же скажи нам, Степан Иванович, когда мы большевиков сбросим? Вот мы собираем для тебя сведения о недовольных советской властью, о расположении воинских частей...» — Так напрямую и сказал? — А кого ему стесняться. Все свои... «...Ты, — говорит Небылицин, — нам все сулишь гибель большевиков, а они погибать не собираются и только крепнут. Вон, сколько заводов понастроили и люди им верят. Даже на кого мы раньше надеялись, начинают от нас отходить... Если дальше так пойдет, как бы одним не остаться». Трунченков немного задумался: «Что ж, нужно правду сказать, а вы ее нашим людям передайте. В этом, 1941-м, большевики еще удержатся у власти. Германия и Япония заняты своими делами в Европе и на Дальнем Востоке, но в 1942-м доберутся и до большевиков». — Заметьте, товарищ старший лейтенант, это Трунченков говорил в январе. В марте он в той же компании пожаловался: «От верных людей слыхал, Германия усиленно готовится к войне с большевиками. Но вот беда, не пойму, почему мне нет никаких распоряжений. Ни к черту у меня дела, самая прескверная связь. Надо ехать самому». — За это время, мы проверяли, Трунченков никуда не выезжал и вот вчера пришел радостный к Небылицину: «Война должна начаться в июне. Во Франции, Бельгии и Голландии пятая колонна сыграла решающую роль. Германское командование верит — в России ждут только начала войны, чтобы оказать помощь в свержении большевиков». С этим сообщением и пришел к нам Коростелев. Я хочу обратить внимание. В январе — Трунченков еще делает предположение, скорее делится собственными домыслами. В марте — жалуется на никудышную связь, а в мае — сообщает чуть ли не точную дату нападения Германии на СССР. Значит, за это время у него была какая-то встреча... Возможно, к нам в город прибыл специальный резидент. — Спасибо за информацию. Похоже, что Трунченков не сам придумал такую новость. Есть секретное сообщение из Москвы о возможном нападении Германии на СССР именно в эти сроки. — А что из себя представляет их третий «друг» — Вильберг? — Мы навели справки, товарищ старший лейтенант. Вильберг Алексей Иосифович, 1892 года рождения, уроженец города Томска. До революции служил агентом немецкой компании «Зингер» по продаже швейных машин. — Вместе с Трунченковым? — Одно время даже под его началом, когда Трунченков был заведующим отделением в Ачинске. Затем переехал в Боготол. Имел свой дом, считался одним из состоятельных граждан. Когда подошли белочехи, он с представителем купечества выехал навстречу с «хлебом-солью». Устроил обед и вместе с белочехами торжественно въехал в город. После разгрома колчаковцев в его доме скрывался полковник Морозов. В Новониколаевск приехал личным адъютантом одного из командиров Красной Армии, который был вскоре арестован за организацию побега большой группы пленных колчаковских офицеров. Вильберг избежал ареста, но был уволен из рядов Красной Армии и с тех пор работал по найму. Сейчас числится кузнецом в Горстройконторе. С Трунченковым встречается не только у Небылицина, знает все его квартиры. На работе характеризуется отрицательно. Часто высказывает недовольство советской властью. В узкой компании рассказывал, что раньше жил на широкую ногу и делал большие дела. — Нужно запросить о нем товарищей из Боготола. — У него там живет родная сестра. Она приезжала к нему с мужем, но он в Боготоле со дня установления советской власти не был. — Возможно, есть веские причины не показываться там. А вот факт его работы в компании «Зингер» под началом Трунченкова заслуживает особого внимания.
— Итак, гражданин Трунченков, следствие по вашему делу подходит к концу. Многочисленными документами, свидетельскими показаниями и очными ставками разоблачена ваша многолетняя шпионская деятельность. Давайте подведем итоги. Начнем с вашей службы скромным писарем на русско-германской границе. — Подполковник Эрнст создал такую обстановку, что немцы свободно переходили на нашу сторону и переправляли крупные партии контрабандного товара. В одной из операций оказался замешан сам Эрнст. Его сместили с должности и с тех пор я ничего о нем не знаю. — Вы тоже помогали переправлять через границу контрабандный товар? — Я только помогал Эрнсту. — А за какие заслуги вы за год поднялись от простого писаря до унтер-офицера и стали личным адъютантом подполковника? — Он был ко мне расположен, ценил за аккуратность и исполнительность. — И только? — В мои обязанности входило сообщать Эрнсту о настроениях солдат и офицеров. — После отстранения Эрнста вам пришлось покинуть службу по требованию офицеров. А не припоминаете, гражданин Трунченков, ваших с Эрнстом общих знакомых с германской стороны? — К нему постоянно приходил немец Вилленбург, но о чем они говорили, я не знаю. — В компании «Зингер» вас приняли по рекомендации Вилленбурга? — Как-то он сказал, что я хороший друг Германии, а немцы умеют ценить преданных людей. И посоветовал, если я уйду со службы, поступить на работу в компанию «Зингер». — Вы так и сделали? — Когда мы с братом приехали в город Томск, брат занялся сельским хозяйством, а я вспомнил совет Вилленбурга и разыскал контору компании «Зингер». Ее возглавлял немец Юстус. Он сказал, что ему нужен надежный человек в Барнауле, и я согласился. — Какие задания дал вам Юстус? — Компания «Зингер» продавала в России немецкие швейные машинки, и я стал торговым агентом. — И только? А не припомните, гражданин Трунченков, какого характера сведения должны были вы собирать? — Торговый агент компании заполнял анкету в каждом населенном пункте: сколько жителей, в том числе портных и сапожников, есть ли церковь и школа, где находятся органы власти. Кроме того, о каждом пункте мы должны были знать: сколько сеют хлеба и других культур, сколько имеется скота, в каких пунктах концентрируются запасы продовольствия, какие и где располагаются воинские части... — Неужели, Трунченков, вы сразу не поняли, что сведения эти никакого отношения к торговле швейными машинками не имеют? — Наше дело подчиненное — хозяин приказал, мы делали. — Все агенты компании собирали такие сведения? — Конечно, все. Когда я стал заведовать отделением в Барнауле — мне Юстус сразу дал задание обобщать данные агентов и передавать ему в Томск. — Вы сами выбирали маршруты своих поездок? — Сначала сам, а в 1903 году меня вызвали в Томск для встречи с представителем главной конторы в Екатеринбурге (сейчас Свердловск) Дицем. Он вручил разработанный им маршрут моих поездок. Я посмотрел его и сразу начал отказываться: в таких местах много не продашь, а мы получали три процента от выручки. Тогда Диц предложил мне твердое жалование 100 рублей в месяц и 20 процентов от торгового оборота. И сказал: «Главное, герр Трунченков, не продажа машинок, а сведения, которые нас интересуют». Я согласился. — Сведения хозяйственного и военного характера? А карты? Вы же проводили топографическую съемку местности. Кстати, где вы научились топографии? — На границе меня учил подполковник Эрнст. Говорил, в жизни может пригодиться. — И вы вели съемку? — Без нее у меня отчета о поездке Юстус не принимал. — Вы понимали, что не швейные машины, а Родину продавали? — Фирма «Зингер» хорошо платила, и я делал все, что прикажут. — И долго вы вели эту торговлю? — В фирме «Зингер» я работал до 1904 года. А в 1905 перешел в немецкое акционерное общество «Жорж Блок». — По каким причинам расстались с компанией «Зингер»? — Приходилось много ездить. За эти годы меня постоянно переводили с места на место по всей Сибири. — И везде проводили съемку местности и собирали сведения шпионского характера? — Такая работа была у каждого агента. — Вы были не просто агентом, а заведовали отделениями, сами подбирали штат, иначе говоря, формировали шпионскую сеть под видом продажи швейных машинок. Кстати, зачем вы в 1905 году выезжали в Германию? — Я представил акционерному обществу «Жорж Блок» доклад об экономическом состоянии Новониколаевска и предложил открыть в городе самостоятельное отделение. — И с вашими доводами согласились? — Да, по моему докладу был открыт магазин «Прогресс». — Кому принадлежал магазин? — Компании «Жорж Блок». — Ошибаетесь, гражданин Трунченков. По данным Новониколаевского банка — вы открыли магазин на собственные деньги и на свое имя сразу после возвращения из Германии. Вы рассказывали Вильбергу и Небылицину, что в Германии получили крупную сумму на организацию торговли. — Запамятовал, гражданин следователь. С тех пор много воды утекло. — Такая забывчивость непростительна крупному коммерсанту... С тех пор подобранные вами агенты разъезжали по Сибири и собирали интересующие немецкую разведку сведения. Под вывеской магазина «Прогресс» долгие годы существовал в Новониколаевске немецкий шпионский центр... Когда же вы ликвидировали свое дело? — В 1917 году, когда в России началась революция, я роздал швейные машинки и запчасти своим знакомым и уехал из города. — И несколько лет спустя вернулись в роли скромного кустаря-одиночки. И торговали вы не отремонтированными швейными машинками, а новыми, которые хранились у знакомых. Трунченков долго молчит, уставившись в пол, видно еще раз перебирает в памяти свою жизнь. В тот, 1941, год ему исполнилось 63 года. Больше сорока лет жили в нем два человека, два характера, две сущности. Первый — готов был за деньги продать что угодно. Второй — был трусом и всю жизнь боялся разоблачения. Он рвался в Германию, под охрану своих «друзей», но они так и не пустили его к себе. Он нужен был им здесь, в России, а в Германии он бы превратился в нищего старика, каких много скитается по дорогам Европы со времен гражданской войны. Тогда он стал ждать их здесь, в России, чтобы отомстить советской власти и за свой дом, и за магазин, и за то, что бросили его родные дети. Он поднял на следователя прозрачные бесцветные глаза, и много повидавшему чекисту стало не по себе от какой-то звериной тоски во взгляде старика. Голос Трунченкова звучал глухо и хрипло. Он попытался улыбнуться, но на лице получилась жалкая гримаса. — Я знаю много, очень много. Сохраните мне жизнь, и я помогу вам. Назову имена шпионов здесь, в Новосибирске. — В этом нет особой необходимости, гражданин Трунченков. Посмотрите на эти фотографии. Вы о них хотели рассказать? Как видите, мы обошлись без вас, хотя, не скрою, вы нам помогли, еще находясь на свободе. Как видите, вам нечего продать, да мы и не платим за такие услуги.
Так буквально накануне войны новосибирские чекисты раскрыли и обезвредили крупную сеть немецко-фашистской агентуры, нити которой потянулись далеко за пределы нашего города.
«Пусть ярость благородная вскипает, как волна»
Был у фашистских стратегов один, едва ли не главный, расчет. По данным агентурной разведки, которую готовили они еще со времен первой мировой войны, германское командование было убеждено в существовании на территории СССР «пятой колонны», которая только и ждет сигнала к восстанию против советской власти. И, пожалуй, самым тяжелым ударом по планам фашистского «блицкрига» оказался именно этот просчет. Они поняли с первых дней, с первых часов войны — не паникой и приветственными возгласами, а мощной волной народного гнева и героизма встретила завоевателей русская земля. Советский народ свято поверил в слова Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И с тех пор вся страна долгих четыре года жила лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» Свыше шести тысяч повесток разослали райвоенкоматы Новосибирска на 24, 25 и 26 июня 1941 года. Абсолютное большинство прибыло на призывные пункты в первый день. Сотни коммунистов и беспартийных, мужчин, женщин, девушек и юношей подали заявления с просьбой разрешить им вступить добровольцами в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На массовых митингах принимались решения: «Всем цехом, заводом, колхозом, институтом, классом — на фронт!» А на смену фронтовикам приходили в цехи и на колхозные поля женщины, мальчишки и девчонки. Чтобы дотянуться до станка, подставляли они деревянные ящики и показывали образцы трудового героизма. Еще строящийся «Сибметаллстрой» («Сибсельмаш») принял на свою территорию несколько эвакуированных заводов и превратился в крупнейшее предприятие оборонной промышленности. К концу 1941 года отсюда на фронт было отправлено 580 вагонов с военным снаряжением. Строительство Новосибирского металлургического завода началось в 1940 году. К началу войны пустили лишь несколько цехов. Но рабочие и инженеры на этой более чем скромной базе решили создать металлургический центр (будущий завод им. А. Н. Кузьмина). И через несколько месяцев он выдал первую продукцию для фронта. Ввести в строй оловозавод планировалось в 1942 году, но он выдал первую продукцию в декабре 1941-го. Меньше двух месяцев понадобилось для пуска цехов знаменитого Сестрорецкого (ныне Новосибирского инструментального) завода. Тысячи рабочих, инженеров, техников направил областной комитет партии на завод имени В. П. Чкалова. Круглые сутки шел монтаж оборудования эвакуированных предприятий. И вскоре из нашего города на фронт пошли эскадрильи прославленных боевых истребителей. За годы войны на заводах города смонтировано и пущено 16 тысяч различных станков. Чтобы привести их в движение, понадобилось в пять раз увеличить мощность новосибирской ТЭЦ-2 и смонтировать новые электростанции, на которых было установлено оборудование эвакуированных Каширской и Сталиногорской ГРЭС. То, что планировалось на годы, было выполнено за несколько месяцев. Город и область превратились в индустриальный гигант, откуда на фронт непрерывным потоком шла военная техника, оружие, боеприпасы и, вместе с ними, эшелоны продовольствия. Сейчас, с высоты сорока мирных лет, кажется невероятным тотчеловеческий подвиг. На скудном военном пайке, в холодных, нетопленых цехах, а то и прямо под открытым небом, люди сутками не отходили от станков... Столь крупный центр оборонной промышленности в глубоком тылу вызвал особый интерес фашистской разведки. Но оказалось, что сплетенная за долгие годы с истинно немецкой педантичностью шпионская сеть порядком потрепана сибирскими чекистами. Разрозненные, часто противоречивые данные, поступающие из Новосибирска, вносили разнобой и путаницу в планы германского командования. Забегая вперед, скажем: за все четыре года войны им так и не удалось получить достоверной информации из нашего города и области. Более шестидесяти самых опытных сотрудников Управления государственной безопасности сражались в рядах сибирских дивизий и соединений. Многие из них шли на смерть, зная, что их последний подвиг останется безымянным. Посланцы новосибирских чекистов боролись с вражеской агентурой не только в тылу, но и на фронте, в отделах контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам»). Только в битве за Москву, судьбу которой во многом решали сибирские дивизии, контрразведчики обезвредили в тылу и зоне боевых действий свыше 400 фашистских агентов и более 50 диверсионно-разведывательных групп. А сколько шпионов и диверсантов было подготовлено в фашистских спецшколах и заброшено в глубокий советский тыл! Не случайно службы разведки занимали особое, привилегированное положение в фашистской Германии. Это была главная опора Гитлера, его секретное оружие, ибо при огромной растянутости фронтов Великой Отечественной войны ложная, тщательно подготовленная чекистами информация оборачивалась для фашистов потерей целых дивизий, танковых и авиационных соединений. Бдительность рабочих помогла чекистам в конце 1942 года разоблачить и обезвредить несколько крупных агентов фашистской разведки и их пособников на оборонных заводах Новосибирска, на химических заводах Кемерова, на Кузнецком металлургическом комбинате. Но не только самоотверженной службой помогали чекисты действующей армии. В годы Великой Отечественной войны новосибирцы отчисляли свои сбережения на строительство танков, самолетов и другой боевой техники. В июне 1942 года молодые рабочие нашей области собрали около трех миллионов рублей на строительство эскадрильи истребителей «Новосибирский комсомолец». В том же году область внесла 106 миллионов рублей на постройку эскадрилий «За Родину». В 1943 году сибиряки передали летчикам-фронтовикам еще 120 боевых самолетов, построенных на сбережения трудящихся. С первых дней в этом патриотическом движении тыла самое активное участие приняли новосибирские чекисты. Из справки Центрального архива Министерства обороны СССР от 8 июня 1984 года: «...с 29 октября 1942 г. по 1 марта 1943 г. 91 ИАП (истребительно-авиационный полк) находился на доукомплектовании и переучивании на самолетах ЯК-7б и ЯК-9 в Новосибирской области... Полк получил с завода 32 самолета ЯК-9, в том числе 10 самолетов, как подарок... построенный на средства сотрудников управления НКВД*["11] по Новосибирской области». На бортах самолетов одной эскадрильи 91 истребительного авиационного полка ярко алели названия «Чекист», «Дзержинский» и «Менжинский»... Эти боевые машины стали грозой фашистских стервятников в небе Украины. На одной из них летал командир 91 истребительного авиационного полка Александр Сергеевич Романенко, сбивший сам 18 вражеских самолетов и 5 в групповых вылетах. 28 сентября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Перед фашистскими шпионско-диверсионными центрами была поставлена задача — любыми средствами сорвать ритмичную работу новосибирских оборонных заводов. Диверсиями в цехах, убийствами активистов и ведущих специалистов, ложными слухами — посеять панику среди жителей города. Но, опираясь на помощь трудящихся, новосибирские чекисты сорвали планы врага.Новосибирск вызывает «Абвер»
Подлинные имена «германских агентов» в этом рассказе мы называть не станем по причине, которую читатель вскоре поймет сам. Шел 1941 год... В одном из боев был контужен командир Красной Армии Сарафанов. Очнулся он в темном сыром подвале фашистского штаба. Допрос. Снова допрос. Он потерял счет пыткам и избиениям. Каждый день вытаскивали его из подвала и полуживого швыряли обратно. Однажды всех военнопленных построили в колонну, повели к железнодорожному вокзалу и втиснули в забитые до отказа людьми товарные вагоны. Только через несколько дней бесконечного пути открыли двери, и тех, кто еще мог двигаться, снова построили в колонну. Ослабевших расстреливали на глазах товарищей. Так Сарафанов оказался в одном из фашистских концлагерей. Колючая проволока в несколько рядов под смертельным напряжением, а внутри специально обученные собаки разрывали каждого, сделавшего неосторожный шаг в сторону. Измученные, голодные люди спали в нетопленых бараках, а днем работа в каменоломне... И снова короткие автоматные очереди по каждому, кто утром не мог подняться с голых нар, кто падал от изнурительной работы. Однажды в концлагере появились люди в гражданской одежде. Военнопленных выстроили на плацу, и прибывшие медленно обходили длинные шеренги, внимательно прислушиваясь к пояснениям коменданта. Иногда они задерживались, и офицер в гестаповской форме отдавал короткую команду. Солдаты выхватывали из строя человека и уводили в сторону. К концу обхода неподалеку от ворот собралось человек двадцать военнопленных. Попал в эту группу и Сарафанов. Их поместили в отдельный барак и стали вызывать по одному. Назад никто не возвращался. На второй день дошла очередь до Сарафанова. В просторной комнате сидело несколько человек в штатском и гестаповский офицер. — Ваша фамилия Сарафанов? — Да, — выдавил он. — Мы знаем, что вы командир Красной Армии, но к советской власти у вашей семьи должны быть кое-какие претензии. Ваши родственники состояли до революции в монархической партии, а родная тетка еще со времен гражданской войны живет за границей. — Я слышал об этом в детстве, но никогда не видел ее в глаза и ничего о ней не знаю. — Могу вас порадовать. Она жива, здорова, часто вспоминает о вас и даже, узнав, что вы в плену, хлопотала перед германским командованием. Вы сможете поехать к ней в гости и навсегда остаться в Германии. Но это право нужно заслужить... — Чего вы от меня хотите? — насторожился Сарафанов. — Вы долго жили в Новосибирске. Правда, последние пять-шесть лет служили в Красной Армии далеко от родных мест, но надежные знакомые наверняка остались... Как бы вы отнеслись к нашему предложению — снова вернуться туда? Сарафанов недоуменно посмотрел на сидящих людей. — Конечно, не в качестве командира Красной Армии. Мы сделаем вам другие документы. Гестаповский офицер, которому, видно, наскучила затянувшаяся беседа, раздраженно сказал что-то по-немецки. Говоривший с Сарафановым смутился и резко сменил тон. — Господин офицер спрашивает: «Вы умеете работать с радиостанцией?» — Не приходилось. — Это ничего, вы пройдете специальную подготовку. Гестаповец опять недовольно буркнул. — Итак, господин Сарафанов, у вас есть отсюда два выхода. Подойдите к окну. Видите у стены... Это один. Есть и другой. Мы обучаем вас работе с радиостанцией и устраиваем поездку в Новосибирск. Вы передаете немного интересующих нас данных и возвращаетесь в Германию к родной тете. Она заверила нас, что подождет, пока немецкая армия победно закончит войну. Мы ждем вашего решения.Два месяца спустя Сарафанов сидел в кабинете следователя Новосибирского управления государственной безопасности и давал подробные показания о системе вербовки, обучения и заброски агентов фашистскими разведцентрами... Этот план родился у него там, в особом бараке концлагеря. Тогда, в беседе с этими штатскими и гестаповским офицером, он понял — появилась возможность вырваться из фашистского плена и помочь своей Родине... С первых дней обучения в разведшколе он понял: провести опытных вербовщиков непросто, но это был единственный шанс. Долгих два месяца он видел, как по малейшему подозрению, по неосторожному слову и даже жесту курсанта немедленно «пускали в расход» в назидание остальным. И все-таки он выиграл первый раунд. Теперь предстояло осуществить второй этап плана, не менее сложный и опасный. Через несколько дней позывные его рации прозвучали в эфире и «Абвер» получил первую информацию о продукции нескольких оборонных заводов города. Она была тщательно подготовлена... новосибирскими чекистами. Так началась «игра» с фашистской разведкой, получившая условное название «Фисгармония». Свыше ста радиограмм с «ценной» информацией о продукции заводов, о формировании воинских частей, об эшелонах, идущих через город, передал Сарафанов в «Абвер». С каждым сеансом германская разведка все больше «входила во вкус». Видно, не один орден появился на груди ее сотрудников за ценнейшую информацию. Новосибирским чекистам все труднее было удовлетворять их растущие аппетиты. Пришлось запросить у «Абвера» еще одного помощника. Некоторое время спустя в Новосибирск прибыл новый агент — Соловьев. Он доставил радиооборудование, шифры и 375 тысяч рублей для вербовки и подкупа. Правда, прежде, чем появиться в Новосибирске, он, едва приземлившись на советской территории, явился с повинной в ближайшее Управление государственной безопасности и рассказал о полученных инструкциях и о высокой оценке в «Абвере» агента Сарафанова. С приездом Соловьева операция «Фисгармония» пошла более успешно... Но не так наивны были руководители «Абвера», чтобы беспредельно доверять даже своей лучшей агентуре. Однажды, зайдя в рабочую столовую, Соловьев услышал знакомый голос. Осторожно отыскав взглядом оживленного рассказчика, он узнал своего «однокашника» по разведшколе, некоего Харитонова. При ближайшем знакомстве с новым посланцем «Абвера» оказалось, что он возглавляет шпионско-диверсионную группу, направленную для проверки информации Сарафанова и Соловьева. Через некоторое время «Абвер» получил от Харитонова несколько радиограмм, подтверждающих сообщения главных агентов, после чего группа бесследно исчезла. Такая же участь постигла в нашем городе еще несколько фашистских «шпионов». Но их судьба не очень беспокоила хозяев. Главные агенты продолжали успешно работать до самого конца войны.
Тайна кладбищенского пня
Контрразведка Ленинградского фронта задержала фашистского курьера, когда он пытался извлечь из дупла березового пня донесение агента о дислокации частей Красной Армии. Пень находился у кладбищенской ограды неподалеку от дороги на деревню Графскую. Никаких данных о фашистском агенте курьер не знал. Красная Армия перешла в наступление, и маленькая деревушка оказалась в глубоком тылу. У кладбищенского пня устроили засаду, но больше там никто не появлялся. Тайну эту раскрыли новосибирские чекисты. В то военное время они были частыми гостями в государственных учреждениях, на заводах, фабриках, в колхозах, совхозах. Однажды по поручению Искитимского райкома ВКП(б) старший лейтенант госбезопасности А. Ф. Хотченко выступал перед служащими районных организаций с беседой о политической бдительности. После беседы к нему подошли несколько работников райфо и рассказали о странных разговорах, которые ведет с населением и сослуживцами финагент Преображенского сельсовета Николаева. По ее словам, германская армия непобедима, а если и отступает, то только по стратегическим соображениям. На оккупированных советских территориях фашисты якобы заботятся о мирном населении, снабжают его продовольствием, оказывают помощь в сельхозработах. Заявление работников райфо насторожило молодого чекиста. Он навел справки о финагенте. Николаева прибыла в Новосибирскую область из-под Ленинграда. Несколько месяцев их село было оккупировано фашистами, а после освобождения почти всех его жителей временно эвакуировали в глубокий тыл. Валентина Николаева сама попросила направить ее в Новосибирскую область, где проходил военную подготовку брат. Познакомился старший лейтенант госбезопасности А. Ф. Хотченко и с самой девушкой. Присматривался к новому человеку, и, честно говоря, ему не верилось, что эта невысокая, красивая девятнадцатилетняя девушка с такой русской внешностью — курносый нос на круглом лице с широкими бровями и большими доверчивыми глазами — может восхвалять фашистов. Тем более сама побывала в оккупации. «Может, напутали люди, — думал старший лейтенант. — Устали от войны, появилась излишняя подозрительность?» По просьбе чекиста из Новосибирского управления госбезопасности ушел запрос в Ленинградскую область. А когда пришел подробный ответ, Хотченко понял — не так проста эта с виду добродушная девушка. Из показаний ее бывших односельчан вырисовывался совсем другой образ Валентины Николаевой. Вот свидетельствует ее бывшая подруга: «На станции Бологое нас было шестеро девушек из деревни Любань. Мы уходили вместе с войсками Красной Армии в тыл. Все эти дни Валентина Николаева и Мария Варламова уговаривали нас вернуться в свою деревню, хотя мы точно знали, что она занята фашистами. Со станции Бологое мы ушли вчетвером. Николаева и Варламова остались»... Показания односельчан, переживших оккупацию: «Как только в деревню вошли фашисты, Василий Николаев со всей семьей (жена, три дочери и сын) добровольно явились в комендатуру и предложили свои услуги. Их направили на работу в пекарню, где они день и ночь выпекали хлеб для германской армии. Скоро оккупанты назначили Николаева-отца старостой. В их доме офицеры германской армии постоянно устраивали пьянки и танцы. Дочери старосты — Валентина и Серафима похвалялись, что они находятся с оккупантами в самых близких отношениях. Даже собирались выйти замуж и уехать в Германию. Они не стесняясь разгуливали по улицам в обнимку со своими «женихами». Семья Николаевых получала из комендатуры часть награбленных у односельчан продуктов. Сам староста и его сын с помощью подобранных ими полицаев и фашистских солдат уводил у населения скот, отбирали сено для германских лошадей и гоняли под дулами автоматов голодных крестьян на изнурительные работы. При отступлении фашистов все жители Любани укрылись в лесу, чтобы их не угнали в Германию, а семья Николаевых осталась на месте и помогала немецким солдатам грузить награбленные вещи и оборудование пекарни»... Старший лейтенант отложил последний лист показаний жителей деревни Любань. Теперь ему стали понятны высказывания Николаевой о хорошей жизни на оккупированной земле. Она и в самом деле, в отличие от своих односельчан, жила сытно и весело. Насторожили чекиста и поездки Валентины в Искитим и Бердск, где ее видели около предприятий, выпускающих оборонную продукцию. Начиная следствие по делу Валентины Николаевой, старший лейтенант госбезопасности все же надеялся на ее искреннее раскаяние. По материалам дела на нее ложились тяжкие обвинения, но не должностное, а простое человеческое сочувствие к этой молодой, только-только начинающей свою жизнь девушке у Хотченко оставалось. И он предложил ей на первом допросе добровольно рассказать о своей связи с фашистами и разъяснил, что искреннее признание может облегчить ее судьбу. Но Николаева оказалась «крепким орешком». Первый допрос: — Расскажите, Валентина, зачем вы посещали фашистскую комендатуру? В ответ удивленно-наивный взгляд из-под распахнутых ресниц: — Бог с вами, какую комендатуру? Я боялась даже близко к ней подходить. Зачитываются показания ее бывших односельчан — одно, второе, третье... Николаева: — Ах, вспомнила. Несколько раз мне приказывали принести туда дрова и растопить печь. Никаких разговоров с офицерами я не вела. Зачитываются показания ее близкой подруги Марии Варламовой. Николаева: — Она сама выдала немцам коммунистов, комсомольцев и активистов села. Я только рассказала офицеру, кто сейчас находится в селе, а кто эвакуировался в тыл. Больше я с гестаповцем не встречалась. Зачитываются показания отца и брата. Николаева: — Я случайно узнала: в соседнем селе находятся партизаны — и рассказала об этом немецкому офицеру. Он вызвал солдат. Им удалось арестовать нескольких человек. Мой отец показывал им дорогу и советовал, как лучше оцепить село, чтобы из него никто не ушел. Очная ставка с братом. Николаева: — А ты забыл, как выдал двух партизан? Увидел их на опушке леса, побежал в комендатуру и показал солдатам, где они скрываются. Следователь: — Через несколько дней после ухода фашистов из деревни Любань около кладбища был задержан немецкий разведчик. При нем оказалось подробное донесение о воинских частях, зенитных и артиллерийских батареях вокруг сел. Вот это донесение. Оно вам знакомо? Опять удивленно-наивный взгляд Николаевой: — В первый раз вижу. — По заключению графической экспертизы, донесение написано вашей рукой. — Я выполняла задание гестаповского офицера под угрозой расстрела. — Но к тому времени Красная Армия освободила вашу деревню. — Офицер гестапо сказал, что они временно отходят на более удобные позиции и скоро вернутся. Попробуем теперь свести отрывочные признания Николаевой, показания свидетелей и сухой язык документов в рассказ о падении человека, молодой девушки, и решить, прав ли был Военный трибунал, приговорив ее к 15 годам лишения свободы и к 5 годам поражения в правах. Итак, шел октябрь 1941 года... Как установило следствие, отстав от подруг и дождавшись на станции Бологое прихода фашистской армии, Николаева и Варламова подробно рассказали офицеру германской разведки, где и какие части Красной Армии они встречали, по каким направлениям отступали войска и где оставили заслоны. Их никто не принуждал. Свой первый шаг к предательству они сделали добровольно и сами круто изменили свою судьбу. Офицер разведки выяснил, куда они идут и как их фамилии. И трудно сказать, кто первым попал в Любань — сами подруги или сообщение о них. На второй день их попросили помочь фашистским солдатам закопать убитых красноармейцев, а также поручили «черную» работу — обыскивать павших и доставлять в штаб ордена, документы, деньги и личные вещи. Они согласились сразу и в первый же день завели знакомства с офицерами, а вечером организовали для них танцы. Через несколько дней у подруг появились «женихи», а сестра Варламовой заневестилась с самим комендантом по имени Вилли. Вот такая «беззаботная компания» веселилась целых два месяца на оккупированной русской земле. Валентина Николаева, ее сестра Серафима и Мария Варламова не очень заботились о верности своим «женихам». Они с готовностью оказывали гостеприимство всем фашистам. Единственное требование — офицерское звание. С простыми солдатами и другой «мелкой сошкой» они не знались. Но вот однажды встревоженная Мария чуть свет застучала в окошко подруге и прямо с порога сообщила: — У меня сегодня ночевал офицер с фронта. Под город Тихвин прибыли сибирские дивизии, и немцы начали отступать. В тот же вечер Николаеву вызвали в штаб. Знакомый офицер любезно предложил ей стул, распорядился принести кофе. — Мы имели возможность убедиться в вашей преданности Великой Германии, госпожа Валентина. Должен вас огорчить, мы ненадолго покидаем село. Офицер отпил глоток кофе, холодным взглядом окинул растерянную собеседницу. — Вы зря печалитесь, госпожа Валентина. Когда мы вернемся, вы станете богатой хозяйкой... Он снова сделал глоток, раскурил сигарету. Со стороны их беседа походила на теплую встречу двух давних знакомых. — О вашей связи с немецкой разведкой знаю только я и несколько надежных людей. — Я думала, — пробормотала Николаева, — вы возьмете меня с собой. — В тылу вы можете оказать Германии больше услуг, и когда мы окончательно разгромим русских, вы станете хозяйкой большого поместья. — Что я должна делать? Офицер загасил сигарету, отставил в сторону кофе. — Во-первых, никому о нашем разговоре, даже самым близким родственникам. Вашего отца, бывшего старосту, вызовут на допрос, и он может проболтаться. Вы понимаете, о чем я говорю? — Понимаю, господин офицер. — Отлично, мы всегда находили общий язык. Вы должны выяснить: какие части стоят в селе, их вооружение, где располагаются артиллерийские и зенитные батареи. — Но как я передам эти сведения, господин офицер? — Вы хорошо знаете свое кладбище? В самом конце его, в нескольких шагах от дороги, есть старый березовый пень. Вы должны написать донесение, завернуть в тряпку и опустить на самое дно дупла. — Да, господин офицер. — А теперь слушайте меня совсем внимательно. Советское командование может переселить вас в тыл, куда-нибудь далеко от фронта. Например, в Сибирь или на Урал. Это очень важные районы, и германское командование нуждается в самой подробной информации о них. Мы ставим перед вами две задачи. Первая. Находясь в тылу, говорить всем, что мы ничего не отбираем у мирных жителей, не притесняем их... Нужно убеждать людей, что германская армия несет русским людям сытую и, как это у вас говорится, вольготную жизнь. Вы будете рассказывать о нашем хорошем отношении с военнопленными, призывать уезжающих на фронт добровольно сдаваться германской армии. — Но они читают газеты и слушают радио... — Говорите, что это советская пропаганда. Офицер откинулся на спинку стула. — И второе. Вы должны собирать подробные данные о воинских частях и секретных заводах. Будете писать письма Марии Варламовой и рассказывать о своей жизни, зашифровывая в них донесения. Если вы не сможете писать подруге, собирайте побольше данных, мы пришлем за ними связного. Все шифры и пароли получите у Варламовой. До скорой встречи, Валентина. Не забывайте, от хорошей работы зависит ваша будущая жизнь.* * *
— Скажите, Николаева, как вам удавалось прятать донесения в березовый пень? Неподалеку от кладбища проходила передовая, и гражданским лицам туда подходить запрещалось. — С передовой приходили солдаты. Я знакомилась и провожала их за село. — А как вы собирали шпионские данные в нашей области? Ведь вы не разбираетесь в продукции заводов, мало знакомы с военной техникой, но, судя по изъятым у вас записям, вам удалось собрать важные секретные сведения. — О военной технике мне рассказывал брат, мы с ним виделись часто и он просматривал мои записи. А о заводах... — Николаева на минуту замялась, — некоторые мужчины хотят возвыситься в глазах красивой девушки, показать, что они занимаются важным государственным делом. — Она нагло взглянула в глаза следователю. — Из таких можно выудить любые сведения, если обнять покрепче, а я это умею. Завершая этот печальный рассказ, остается добавить: специальная комиссия Верховного Суда СССР, внимательно рассмотрев материалы дела, оставила приговор Военного Трибунала в силе, о чем было сообщено В. В. Николаевой. Понесли суровое наказание и бывший староста деревни Любань, и его сын Виктор, главный консультант Валентины по военным вопросам, и дочь Серафима, и близкая подруга Николаевой — Мария Варламова.Трус
— Во, жизнь, — пожаловалась своей товарке Пелагея Александрова, — цигарку не из чего свернуть. Газеты до дыр зачитывают, на закрутку ни у кого не выпросишь. — Ладно, Пелагея, помогу твоему горю, — посочувствовала подруге Мария Аверьянова, — у сестры заприметила несколько газеток. Сунула она их под матрац, да видать запамятовала. На обед пойду, возьму. ...После обеда в цехе № 8 Новосибирского завода имени Воскова произошла неприятная история. Заглянув по делам в комнатку Пелагеи Александровой, одна из работниц заприметила на ее столе несколько газет с незнакомыми названиями: «Новое слово», «Заря». С больших снимков улыбались фашистские солдаты в обнимку с русскими женщинами, какая-то делегация «хлебом-солью» встречала колонну танков с черной свастикой на башнях. «Что за странные газеты», — подумала женщина. Пригляделась повнимательнее и обомлела: четким русским шрифтом написано «Отпечатано в Берлине». В голове мелькнула мысль: «Неужто старейшая работница завода Пелагея Александрова занимается такими делами?» На обратном пути завернула к мужу, парторгу соседнего цеха. — Брось глупости говорить, что мы, Александрову не знаем, завод вместе поднимали, а ты на нее такое. — Своими глазами видела. Не веришь, сходи, посмотри. Прямо на столе, в открытую лежат. Когда старший лейтенант госбезопасности Еремин прибыл по экстренному вызову на завод, газеты лежали на том же месте, а за столом сидела сама Пелагея и, добродушно улыбаясь навстречу гостям, с удовольствием раскуривала аккуратную самокрутку. — Это ваши газеты, товарищ Александрова? — вежливо осведомился сотрудник госбезопасности. — Чьи же еще, теперь хоть покурить можно. Бумага, правда, какая-то жесткая, да ничего, по нынешним временам сойдет. — Откуда они у вас? — Газеты-то? Свет, вишь, мил человек, не без добрых людей, — принесли на курево. — Вы их читали? — Когда мне читать, работы выше головы, и политинформации в цехе каждый день, так что в курсе всех фронтовых событий. — А кто вам принес эти газеты? — Подруга, Мария Аверьянова уважила. — Вы не могли бы ее пригласить? — Марию-то, да сию минуту покличу. Некоторое время спустя обе ошеломленные женщины рассматривали экземпляры фашистских изданий, один из которых был свернут аккуратной гармошкой для курева. — Да не глядела я на них, — уверяла Мария Аверьянова, — взяла несколько штук у сестры из-под матраца и сразу на завод. Во время обыска в доме Аверьяновых, под матрацем одной из сестер — Екатерины — была обнаружена стопка газет на русском языке, которые фашисты распространяли среди жителей оккупированных районов. Екатерина сидела тут же, и Еремин обратился к ней: — Откуда у вас фашистские изделия? Растерянная Екатерина Аверьянова напряженно смотрит куда-то в угол комнаты. Следователь видел, какая борьба идет сейчас в душе этой красивой, чуть курносой девушки, с пышной волной русых волос и крутыми дугами бровей. И только глаза, злые и колкие, помогали заглянуть внутрь и обнаружить ее вздорный характер. В последнее время особенно близкие отношения установились у Екатерины с двоюродным братом Александром, недавно объявившимся в Новосибирске. Их часто видели вместе, несколько раз он ночевал у сестры. — Может, вам, Аверьянова, кто-нибудь подбросил газеты? — Кто мне подбросит, сама положила. Брат попросил припрятать до поры, я не смогла отказать... — Тогда расскажите нам подробнее о брате. Все, что вы о нем знаете...* * *
Когда фашисты окружили небольшой отряд красноармейцев, Александр Аверьянов схоронился в логу среди буйных зарослей чертополоха. Он немного прополз, припадая к корням пахучей травы, и обнаружил глубокую воронку, прикрытую сверху вывороченным корнем. Ствол дерева прикрывал воронку со стороны поля, где сейчас шел неравный бой. Силы измотанного отряда красноармейцев были слишком незначительны, чтобы оказать серьезное сопротивление, к тому же последнее, что видел Аверьянов, скорострельные пушки, которые немцы выкатывали на прямую наводку. Сначала он слышал короткие автоматные очереди — это стреляли красноармейцы, они уходили влево, к реке. «Значит, немцы будут стрелять в ту сторону», — подумал Аверьянов и замаскировал вход пучками наскоро сорванной травы. Пушки начали бить часто. Он понимал — отряду не пробиться: река простреливалась с берега и на той стороне тоже были фашисты. Снова стало тихо, так тихо, что слышно, как в траве путается легкий ветерок. Затем неторопливые шаги и отрывистые негромкие голоса фашистов. Аверьянов вздрогнул, схватил автомат, но отдернул руку, словно коснулся раскаленного металла. По телу пробежала дрожь... В полевой жандармерии его не били. Тощий, нахохлившийся офицер подробно расспрашивал, кто он, как оказался в тылу немецкой армии, какое задание выполнял отряд. Срывающимся голосом Аверьянов торопливо рассказывал об известных ему воинских частях, называл фамилии командиров. В углу комнаты быстро стучала пишущая машинка. Офицер предупредил, если данные не подтвердятся, он передаст его в гестапо, а там не станут церемониться. Он так и сказал по-русски: «Не станут церемониться» — и посмотрел на побледневшего парня. Тот весь сжался под холодным взглядом, внимательно выверил каждое слово своих показаний и дрожащей рукой подписал. Через несколько дней его доставили на какую-то станцию и кинули в обитый железом пристанционный склад. Как только мрачное помещение с наглухо забитыми окнами до отказа наполнилось людьми, подогнали эшелон. Вагон скрипел, надсадно трещал на стыках, но каким-то чудом не разваливался. Рядом с Аверьяновым, притиснутый к вагонной двери, стоял молодой парень в разорванной офицерской гимнастерке. — A-а, сволочи, — ругнулся он, — прикончили бы на месте. Нет, гады, везут в концлагерь. Аверьянов вздрогнул, и тело его покрылось противным липким потом. Он слышал о фашистских концлагерях... Через несколько дней эшелон остановился. Послышались резкие окрики команды, заскрипели двери теплушек. Фашисты решили навести ревизию живому грузу. Люди падали на жесткий гравий, разбивая в кровь лица и руки. Фашисты выталкивали их прикладами, резкими окриками поднимали с земли и сбивали в тесную кучу у края платформы. И вдруг вся охрана ринулась к вагонам, раздались короткие автоматные очереди, взвыла сирена. Аверьянов почувствовал осторожное прикосновение. Это был тот самый молодой офицер, что ехал с ним в теплушке. Взглядом он показал на низкое строение в нескольких шагах от края перрона. Аверьянов оглянулся: охрана металась около вагонов. Они сделали несколько шагов в сторону и оказались в кустах за стеной низкого строения. — Дальше куда, — растерянно шепнул Аверьянов, — поймают, застрелят на месте. — Кировоград это. Здесь у меня мать с отцом. До ночи бы переждать, там проберемся. Разъяренные фашисты снова затолкали пленных в вагоны, и эшелон ушел дальше. ...Ночью беглецы выбрались к окраине города. Офицер постучал в темное окошко небольшого домика. — Кто там? — послышался приглушенный женский голос. Оказалось, родители офицера уехали из города к родственникам, в дальнюю деревню, а в доме поселилась незнакомая девушка. Она собрала ужин — несколько картошек да кусок черствого хлеба. К вечеру следующего дня офицер засобирался: — Давай, друг, пробираться к родителям в деревню. До нее верст десять. А оттуда — к партизанам. Аверьянов встал, сделал несколько шагов и со стоном повалился на пол. Офицер и девушка подскочили, уложили его на кровать. Тихим голосом Аверьянов пробормотал товарищу: — Ты иди, иди в деревню, а я отлежусь и тоже уйду к партизанам. По одному даже лучше.Девушку звали Валентиной. Она оказалась скромной, тихой, невзрачной простушкой. В город приехала перед самой войной из деревни и остановилась на квартире у приветливых хозяев. Когда город заняли фашисты, хозяева с двумя ребятишками ушли к родственникам — в городе их многие знали. А квартирантка осталась. Жила Валя тихо, незаметно. Домик на самом краю, и к ней только раз зашел немецкий патруль проверить документы. Аверьянов быстро оценил обстановку. Дня два он пролежал в кровати, а Валя выполняла роль прилежной сиделки. На третий день он бодро ходил по дому, забыв о своей болезни. Рослый, красивый парень, с крупным веселым лицом и ямочкой на подбородке, со стрелами разлетных бровей, да еще образованный, городской... Дней через пять они строили планы, как будут жить после войны в большом городе. А пока ему нужны документы: в любой день может нагрянуть патруль и его расстреляют. Девушка от этих слов приходила в ужас и металась по городу, стараясь найти хоть какой-то выход, чтобы сохранить своего красавца жениха. Дня через три ей повезло — встретила школьную подругу из села. Оказалось, та работает в жандармерии и может все устроить. Вечером к ним пришли гости — Валина подруга с каким-то мужчиной. Он представился: — Алексей Гержов... Посидели немного. Поговорили о том о сем. Гержов как бы невзначай обронил: — Не устоять против германцев советской власти. — Внимательно посмотрел на Аверьянова. — Надо, пока не поздно, устраиваться в новой жизни... Аверьянов не спускал с него глаз и неопределенно поддакивал. Тогда Гержов обратился к девушкам: — Вы бы погуляли немножко, красавицы, у нас тут небольшой разговор будет... На другой день Аверьянов переехал к Гержовым, а еще через несколько дней его определили на квартиру к супругам Валюшек. О невесте своей он тут же забыл и в скором времени женился на дочери хозяина — Клавдии. Свадьбу праздновали скромно — из гостей только следователь жандармерии Алексей Гержов с женой да родители невесты. До освобождения Кировограда Красной Армией Аверьянов скрывался у Валюшеков. Они же помогли ему связаться с подпольщиками, но гестапо вскоре напало на след и арестовало всех членов группы сопротивления. Аверьянова от фашистских застенков снова уберег Гержов. Правда, с приближением Красной Армии следователь жандармерии исчез столь поспешно, что «забыл» в городе свою жену. И Аверьянов собрался домой к родителям под Новосибирск в деревню Вертково, пообещав вскоре вызвать к себе и жену. Его снарядили в путь, и вскоре он поселился в родных местах, предъявив в сельском Совете справку об освобождении от воинской службы. Вот и все, что смог узнать следователь Управления государственной безопасности от Екатерины Аверьяновой о ее двоюродном брате. Насторожила Еремина одна случайно оброненная Екатериной фраза: «Брат просил устроить его к нам на курсы»... Окончившие эти курсы получали доступ к секретным документам государственной важности. Зачем больному Аверьянову такая хлопотная должность? Было в деле и много других неясностей...
* * *
— Ну что, гражданин Аверьянов, так и будете выкручиваться или все-таки расскажете, наконец, правду? — Я говорю правду. — Вы бы хоть запоминали свою ложь. То вы в глаза не видели Гержова, то жили несколько дней, случайно, у него на квартире, а из материалов следствия выясняется, что он был даже свидетелем на вашей свадьбе. Следователь внимательно посмотрел на Аверьянова и ему стало неприятно от вида этого трясущегося молодого парня. — Я хочу предупредить, Аверьянов, сегодня вам в последний раз предоставляется возможность чистосердечного признания. — Я все рассказал, мне больше нечего добавить. — Тогда начнем восстанавливать события по порядку. О чем вы говорили со следователем фашистской жандармерии в первый вечер знакомства? — Я не знал, что он следователь, и просил помочь достать документы. — Тогда ознакомьтесь с показаниями вашей близкой знакомой Валентины К. и ее подруги. Вы не знали, что в тот вечер они не пошли на улицу, а сидели в соседней комнате и слышали ваш разговор с Гержовым. Следователь заметил, как Аверьянов вздрогнул и в глазах его промелькнул животный страх. — Он угрожал передать меня в гестапо. — И спасая свою жизнь, вы дали подписку работать на фашистов. — Я только дал подписку, но на них не работал. — В этом нам еще предстоит разобраться. Итак, через несколько дней Гержов устроил вас на квартиру Валюшеков? — Они меня скрывали от фашистов. — Согласитесь, Аверьянов, не логично получается. Один из самых жестоких предателей, Гержов вдруг спасает бежавшего советского военнопленного. От его рук погибли сотни людей, а к вам он проникается симпатией и оберегает от жизненных невзгод... Кстати, на квартиру Валюшеков несколько раз приходили гестаповцы с проверкой документов. Как вам удавалось спасаться? — Я прятался в кладовке. — Но однажды они застали вас? — Тогда я тяжело болел. — И гестаповцы оказались столь гуманными, что не побеспокоили больного человека без документов? — Я не знаю, почему они меня не задержали. — А свадьба? Вы официально зарегистрированы фашистскими властями тоже без документов? — Это устроил Гержов. — Ладно, Аверьянов, хватит нам ходить вокруг да около. Придется восстановить всю картину вашей жизни в оккупированном Кировограде по материалам следствия.* * *
Это была тонко продуманная в гестапо операция. Когда Аверьянов поселился в семье Валюшеков, соседи быстро узнали, что Пантелей Корнеевич с риском для жизни укрывает у себя советского офицера. Через некоторое время на него вышли члены подпольной группы и предложили переправить офицера в партизанский отряд. Тогда-то Аверьянов срочно лег в постель. По свидетельству врача, тоже служившего у фашистов, он не мог даже подняться с кровати. И подпольщики поверили. Кроме того, сын Валюшека выполнил несколько поручений и даже помог доставить в партизанский отряд оружие. Правда, вскоре партизанскую базу окружили каратели, а подпольщиков, связанных с Валюшеком, арестовало гестапо. Но и отец и сын остались на свободе. — Вы, Аверьянов, тоже к этим арестам руку приложили. — Я никого не выдавал. — Вы были связным между Валюшеками и гестапо. Так? — Мне пригрозили расстрелом, если откажусь. — Подпольщики выходили прямо на вас, Аверьянов. Помните, к вам подошла на улице девушка, сказала пароль и предложила немедленно доставить в партизанский отряд? Вы отказались, а девушку арестовали, едва она отошла от вас. — За мной постоянно следили. — И арестовывали по вашему сигналу. Так? — Да. — А теперь расскажите, с каким заданием вы приехали в Новосибирск? — Я должен был расхваливать гитлеровскую армию и жизнь в оккупации. Для этого мне дали пачку фашистских газет. Но я боялся вести такую агитацию. — В это я могу поверить, Аверьянов. Но решили через сестру получить доступ к секретным документам, чтобы при надобности оказаться полезным фашистской разведке? Аверьянов молчал. Бледный лоб его покрылся холодной испариной, руки дрожали. Весь он сгорбился, словно старался вжаться в стул. — И последний вопрос, Аверьянов. В тот день, когда бежавший с вами офицер уходил к партизанам, у вас действительно отказали ноги? — Я испугался, нужно было пробираться через фашистские посты.Суд над Аверьяновым не состоялся. Нервы его сдали окончательно, и даже экстренное вмешательство врачей не смогло вернуть его к жизни.
Битая ставка
Это случилось незадолго до конца войны... В Веселовский районный отдел НКГБ пришел житель села Морозовка Карасукского района и рассказал, что вот сейчас, на улице он встретил своего земляка, Николая Мухоеда. Но Николай вдруг заявил, что видит его в первый раз и в Морозовке никогда не был... — Это что же, товарищи дорогие, — сокрушался старичок, — нешто я Кольку не знаю. Почитай, вырос на моих глазах, а тут, на́ тебе, не узнает деда Егора. И в толк не возьму, почему он в тылу ошивается. Намедни мать его видел — сокрушается родимая, что от сына с фронта весточки нет, а он, подлец такой, глаз домой не кажет. — Спасибо, дедушка, за сообщение, но помогите нам разыскать вашего земляка... — Отчего не помочь. Земляка дед Егор заметил на дороге, что уходила из села: перепуганный неожиданной встречей, «земляк» намеревался «дать тягу». Парень действительно оказался Николаем Мухоедом, хотя поселился в Веселовке под чужим именем и фамилией. Документы у него были «в порядке». Оказалось, что поддельным паспортом, военным билетом и справкой из госпиталя о тяжелом ранении снабдил его какой-то Владимир, но где он сейчас, о том Мухоед не знал. О полученных данных доложили начальнику УНКГБ, комиссару госбезопасности П. П. Кондакову. Всем районным отделам, особенно Карасукскому, было дано указание немедленно начать розыск «вооруженного человека по имени Владимир». Подробное описание внешности неизвестного сообщил Мухоед. Начальник Карасукского райотдела НКГБ капитан В. Т. Мазунин решил побеседовать с членами медицинской комиссии райвоенкомата — не встречались ли они с похожим человеком? Оказалось, с месяц назад райвоенком направил на медицинское обследование человека, который вызвал у них подозрение. Звали его Владимиром, по фамилии Шумов, москвич, до войны учился в институте. Его спросили, почему он не продолжает образование, а уехал в такое отдаленное село. Шумов жаловался на контузию, участившиеся приступы эпилепсии, в подтверждение представил документы из госпиталя. Ему дали отсрочку от военной службы на полгода, с последующим переосвидетельствованием в стационаре районной больницы. Установить место работы Шумова не составило труда. Молодого, грамотного парня, фронтовика назначили заведующим райсобесом. А поселился он... у родственников Николая Мухоеда, причем неделю спустя женился на его двоюродной несовершеннолетней сестре Екатерине. Мать Екатерины рассказала капитану Мазунину, что ее зять — майор, имеет много орденов, но из стеснительности их не носит. В Москве у него квартира, но в ней сейчас живет его товарищ. Когда кончится война, они с Екатериной поедут учиться в столицу.Доставленный в Карасук Николай Мухоед узнал в своем родственнике «Владимира». При обыске на квартире Шумова чекисты обнаружили пистолет «ТТ» и 42 патрона к нему, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», удостоверение личности инженер-капитана отдельного запасного полка и целую пачку чистых бланков воинских документов, справок из госпиталей, орденских книжек и требований для проезда по железным дорогам. Чистые бланки и личные документы Шумова немедленно переслали в Новосибирск, откуда вскоре пришло заключение специальной экспертизы — все документы фальшивые. Уличенный на очной ставке Николаем Мухоедом и материалами следствия, Шумов признался, что он заброшен в тыл германской разведкой и настоящее его имя — Эразм Григорьевич Гресь, уроженец города Харькова. Он действительно до войны учился в Москве и был призван в армию. После тяжелого боя на Рижском направлении 26 июля 1941 года у деревни Великая Грива сержант Эразм Гресь «пропал без вести». Онпопал в лагерь военнопленных неподалеку от литовского города Вильмари. Попал полным сил и здоровья, без единой царапины, чтобы, как он собственноручно напишет три с половиной года спустя в Управлении государственной безопасности, «начать новую жизнь». Первой ласточкой его «новой жизни» оказался моложавый майор — вербовщик в форме власовской армии. В фашистском концлагере он намеревался пополнить потрепанное воинство генерала-предателя за счет малодушных, сломленных издевательствами, пытками и непосильной работой военнопленных. Но пожива оказалась слишком незначительной — десятка полтора отчаявшихся истощенных людей. Жалкая кучка под охраной фашистов плелась к воротам лагеря, трусливо и зло поглядывая то на охрану, то на вербовщика. И только один человек шел легко и свободно, и в списке завербованных он стоял первым — бывший московский студент Эразм Гресь. Он сразу заявил, что хотел бы встретиться с представителем «Абвера» для особого разговора, и не мог скрыть сожаления, когда ему сказали, что для исполнения его желания нужно «верой и правдой» доказать свою преданность Великой Германии. Лишь два года спустя, после участия в карательных экспедициях и жестоких расправах с мирным населением на оккупированной территории, мечта Эразма Греся, наконец, сбылась — его направили в разведшколу «Абвера», неподалеку от Кенигсберга. Начальник школы капитан Реддер встретил «новобранца» холодно, почти зло. — Садитесь и пишите подписку о вашем добровольном поступлении на службу в германскую разведку, — хмуро бросил он, — и запомните, теперь вы — Семен Рогов. Свое прежнее имя лучше забыть. Через восемь месяцев Греся, а теперь Семена Рогова снова вызвал капитан Реддер. — Я имею данные о вашей полной готовности. — Я бы хотел, герр капитан... — Здесь хотим мы. Можете готовиться к отъезду. Пятерых выпускников шпионской школы поселили на отдельной квартире в городе Цихинау. Под надзором фельдфебеля фон Трайдена они проходили дополнительную подготовку и окончательную проверку на пригодность к выполнению заданий фашистского командования в советском тылу. К августу 1944 года их осталось четверо — одного пристрелил пьяный полицай. 15 сентября 1944 года их выбросили с самолета в районе Новгород-Волынска. Гресь приземлился первым. На фоне ярких звезд он видел, как его «друзей» сносит сильным ветром прямо на город, и понял — теперь на них рассчитывать не приходится: летят прямо в руки советских чекистов. Может, догадаются застрелиться, а если нет? ...Пока его не начали искать, нужно унести ноги подальше. Затемно он успел пробраться к железнодорожной станции и на ходу втиснулся в эшелон, уходящий на Восток. В дороге Гресь и обзавелся новым «другом» — Николаем Мухоедом, и вместе с ним сошел на маленьком разъезде, неподалеку от Карасука. Дальше дороги «друзей» разошлись. На прощанье Гресь выпросил у Мухоеда адрес его родителей и попросил написать им («на всякий случай, может, когда и доведется заехать по крайней надобности») «о своем доблестном командире», и если случится ему заехать в гости, чтобы приняли, как родного сына.
* * *
Следователь Управления государственной безопасности внимательно посмотрел на молодого парня. — Как же вы мыслили свое дальнейшее существование, Гресь? — Хотел забраться куда-нибудь подальше, в Сибирь. Нужно было переждать время. — На что же вы надеялись? — Я рассчитывал подольше пробыть в деревне, где меня никто не знает. Думал, здесь-то не найдут. Если бы не связался с этим Мухоедом, жил бы себе спокойно. — Без роду-племени, под чужим именем, даже отцу с матерью нельзя показаться... — Переждал бы время, а там, за давностью лет... — Для военных преступников, Гресь, у нас в стране «давности лет» не существует. Неужели вы, неглупый человек, до сих пор не поняли, что ваша настоящая жизнь закончилась в тот день, 26 июня 1941 года, когда вы перешли на сторону врага?Конец агента
Громом салютов и оркестров приветствовала страна победителей. Воинские эшелоны встречали музыкой, песнями, осыпали цветами. Прямо на перронах проходили митинги, и на глазах у людей были слезы радости, великой радости Победы и окончания тяжелой, кровопролитной войны. С одним из таких эшелонов вернулся в Новосибирск высокий, широкоплечий парень. Легко растолкав встречающих, он пробился к выходу и очутился на привокзальной площади. Какие-то девушки стрельнули лукавыми глазами и смутились, словно споткнувшись о холодный взгляд красавца. Озираясь по сторонам, парень пересек площадь и скрылся в переплетении привокзальных улочек с деревянными, утопающими в зелени, домишками. Он не случайно озирался по сторонам — опасался встречи с земляками, и хоть родом был не из города, но в то шумное и счастливое время на улицах Новосибирска вполне можно было встретить возвращающихся фронтовиков из Чистоозерного района, а то и столкнуться с земляками из села Пограничное. Они могли спросить, почему он не торопится в родное село, а вернувшись домой, рассказать его отцу с матерью, что жив-здоров их Иван и видели его в областном центре... И не только родителям. Одним словом, решил Иван Теблюс затеряться в городском многолюдье, а там видно будет. Специальность у него была по тем временам дефицитная: шофер-тракторист, но устроился он сторожем-истопником на маленькой торговой базе. Здесь и нашел его младший лейтенант госбезопасности Коростелев, в комнатушке, где стояла кровать, видавший виды столик да колченогий стул. Младший лейтенант осмотрелся: — Что ж, Иван Эдуардович, в такой тесноте ютитесь? — Пока ничего лучшего не нашел. Да я не в обиде, трудно сейчас с жильем. — Поехали бы к родителям в Пограничное, у них хороший дом. Всё спрашивают, не видел ли кто их Ваню. И война закончилась, а он как в воду канул — ни писем, не вестей. — А вам откуда известно? — Не только они, мы вас тоже ищем. Потому и пришлось съездить в Чистоозерный район, может, думали, там о вашем местожительстве знают. — Зачем я вам понадобился? — Хотим узнать подробности и кое-какие детали вашего пребывания в плену. — Когда из концлагеря освободили, я все рассказал представителю специальной комиссии. И другие военнопленные мои слова подтвердили. — Наши войска не только освободили узников, но и захватили документы концлагеря, а органы контрразведки задержали несколько представителей администрации. Оказывается, вы не все рассказали членам специальной комиссии. В кабинет следователя УНКГБ он вошел внешне спокойным. — Расскажите, гражданин Теблюс, когда и при каких обстоятельствах вы попали в плен к фашистам? — 29 ноября 1944 года на территории Польши. Я вез незнакомого лейтенанта. Попали под бомбежку. Взрывом лейтенанта убило, а я потерял сознание. Очнулся в каком-то леске, среди фашистов. Меня хотели расстрелять, но офицер распорядился доставить в штаб. Оттуда я и попал в концлагерь во Франкфурте-на-Одере. И находился там до освобождения советскими войсками. — У какого населенного пункта это произошло? — Не упомню я иностранных названий. — Куда нужно было доставить лейтенанта? Теблюс сосредоточенно думает. — Нет, не упомню... — А номер вашей воинской части, фамилию командира? Опять лоб парня прочеркивают морщины. — После той контузии, гражданин следователь, у меня память отшибло. И фашисты били резиновыми дубинками по голове... Я почему и в Новосибирске-то остался. Думал, здесь врачи хорошие, смогут вылечить. — Обращались к врачам? — Времени не было — ночью сторожил, днем печки топил. — Лето на дворе, какие печи... А жизнь в концлагере тоже забыли? — Не-ет, это век буду помнить фашистским гадам, как они над нами издевались. — И на допросы вызывали? — Известное дело, избивали до полусмерти, только я им ничего не сказал. — Не случалось на допросах подписывать какие-нибудь документы? Следователь заметил, как вздрогнул парень. — Может, в беспамятстве что и подписал. — Посмотрите на эту красную бумажку. Знаете, что это такое? — В первый раз вижу. — Это подписка о согласии сотрудничать с германской контрразведкой. На ней ваша собственноручная подпись и присвоенная кличка «Медведь». — Заставили подписать, гады. Говорили, если не подпишу — расстреляют. Но я никого не выдал. — У вас действительно слабая память, Теблюс. Вот фотокопии ваших доносов. По первому расстреляли пятерых коммунистов, по второму — организатора-антифашиста, в третьем вы сообщили о готовящемся побеге и участники его попали в засаду. — Они избивали меня, грозились расстрелять, если я не буду выдавать коммунистов и тех, кто плохо отзывается об администрации лагеря. — Освобожденные узники концлагеря подтверждают — вас часто вызывали к коменданту, но ни разу вы не вернулись избитым. Рассказали они и о ваших дружеских отношениях со старостой лагеря Полищуком. — После контузии, гражданин следователь, у меня пропала память. Я путаю фамилии, события. Не знаю теперь, что было на самом деле, а что померещилось. После допроса следователь зашел к начальнику отдела капитану Иванову. — Может, у Теблюса и впрямь пропала память, товарищ капитан? — Давайте направим его на психиатрическую экспертизу. — Мне кажется, он морочит нам голову, товарищ капитан. У него на совести, видно, есть и другие грехи. Нужно запросить воинские части, где он проходил службу, в частности, 543 артиллерийский полк. — Нет возражений, действуйте, старший лейтенант.— Итак, гражданин Теблюс, продолжим наш разговор. И давайте сразу условимся — не ломайте комедию. Медицинская комиссия пришла к заключению — никаким пыткам и издевательствам вы не подвергались и здоровью вашему можно только позавидовать. И с памятью у вас все в порядке. Так когда попали в плен? — 29 ноября 1944 года на территории Польши. — А если получше припомнить? — Сами же сказали, что с моей памятью все в порядке. — По данным командования армии, вы оказались в плену несколько раньше — 29 июля 1941 года, при весьма загадочных обстоятельствах. Ваша часть попала в окружение под Минском и с боями пробивалась к своим. Во время первой стычки с фашистами вы таинственно исчезли. — Меня контузило, и я упал. А когда очнулся, кругом были фашисты. — И что случилось дальше? — Меня направили в лагерь военнопленных. Нам удалось бежать: перерезали колючую проволоку, когда часовой разговаривал с другим часовым. Нас было пять человек. Мы пробрались в Минск и там устроились в железнодорожные мастерские. — Без документов? И фашисты не обратили внимания на новых рабочих? — Документы сделали нам минские подпольщики и раздобыли одежду. — Тогда вспомните имена тех, кто был с вами в группе. — Они не называли имен. — А с кем вы вместе работали? — Я никого не знал. — А сами под какой фамилией работали в железнодорожных мастерских? — Под своей.
* * *
— Опять крутит этот Теблюс, товарищ капитан, — следователь устало присел к столу начальника следственного отдела. — Придется запрашивать Минск. — Попросите наших белорусских товарищей тщательно проверить его показания. Но сегодня получено новое сообщение — в октябре 1941 года какой-то Иван Медведев проходил подготовку в разведшколе под Магдебургом, затем был заброшен в тыл советских войск. В разговорах он упоминал, что родом из Новосибирской области. По приметам похож на вашего подопечного. Вполне возможно, что Медведев и Теблюс — одно лицо. — Похоже... У него и кличка была «Медведь».* * *
— Ну что ж, гражданин Теблюс, долго вы еще намерены запутывать следствие? Из концлагеря вы не бежали и в железнодорожных мастерских Минска никогда не работали. Но следствие располагает новыми документами. Ознакомьтесь, еще одна ваша подписка о согласии работать на фашистскую контрразведку, но датирована она августом 1941 года. Кроме того, в разведшколе Магдебурга под фамилией Медведев обучался человек по приметам очень похожий на вас, даже упомянут заостренный подбородок. Что вы можете сказать по этому поводу? Теблюс долго молчит. Плечи безвольно опущены, руки дрожат, в больших открытых глазах — животный страх. Следователь не торопит. Он понимает, парню нужно осознать, что дальше «крутить» бессмысленно. — Так что? Расскажете правду или снова намерены выкручиваться? — Я хочу признаться во всем чистосердечно. — Поздновато, конечно, гражданин Теблюс, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так когда вы попали в плен к фашистам? — 29 июля 1941 года под Минском. Меня доставили к офицеру. У него на столе лежали все мои документы. Он сказал, что по приказу Гитлера может меня немедленно расстрелять. «Но ты совсем молодой и хочешь увидеть своих родителей, — сказал офицер, — если дашь согласие работать на Великую Германию, мы сохраним жизнь». — И вы, Теблюс, согласились? — Кому же охота погибать. Они и направили меня в разведшколу под Магдебург. — Под какой фамилией вас забрасывали в тыл? — Я несколько раз переходил линию фронта со своими подлинными документами. Мне их вернули после окончания разведшколы. — Одним словом, занимались шпионажем, гражданин Теблюс. — Они угрожали мне расстрелом и пытками в гестапо. — Но на советской территории со своими документами вы могли прийти в любой особый отдел. — Я боялся, что меня будут судить за сотрудничество с фашистами. — К тому времени вы успели сообщить германскому командованию секретные данные о частях, где служили. Но еще оставалась возможность искупить вину перед Родиной. — Я готов это сделать сейчас. — Слишком поздно, гражданин Теблюс. Следствие окончено, и теперь вас будет судить военный трибунал. Но объясните, как вы, преданный слуга фашистов, снова оказались в концлагере? — В августе 1944 года мне в контрразведке дали новое задание. Под видом военнопленного меня поместили в концлагерь, чтобы выявить коммунистов и организаторов антифашистского движения. К тому времени я понял — Германия проиграла войну, и решил: если меня освободят из концлагеря советские войска, то никто не узнает о моем прошлом. — И до последнего дня выдавали фашистам патриотов сопротивления? — Иначе я не дожил бы до нашей Победы. — Нет, гражданин Теблюс, это мы можем говорить «наша Победа», а вы, вместе со своими хозяевами, проиграли войну, и свою жизнь, за которую так дрожали...Валерий Ниязматов Юрий Соломонов Операция «Аурум» Повесть

I
Из газеты, купленной в киоске аэропорта, Юсупов узнал, что в Москве ливневые дожди, и пожалел, что не прихватил с собой плащ. «Ну что ж, — упрекнул он мысленно самого себя, будешь теперь мокнуть, как бездомный цуцик, под дождем. Ведь говорила Халима — на всякий случай возьми!.. Нет! Решил: коли в Ташкенте жарынь плавит асфальт и на небе ни облачка, то и в Москве... Ну ничего, в крайнем случае куплю какой-нибудь дешевенький плащик». Акрам Каюмович нажал рычаг на подлокотнике, и спинка кресла плавно откинулась чуть назад. Юсупов устроился поудобнее, прикрыл глаза и стал по стародавней привычке прислушиваться к гулу запускаемых авиационных двигателей. По долгу службы ему приходилось много летать, и всякий раз он испытывал предстартовое волнение, беспокойство. Что ни говори, как ни совершенна нынешняя техника, а все же случаются иной раз и авиационные катастрофы. И если раньше небольшие ЛИ-2 и ИЛ-14 в случае необходимости могли аварийно приземлиться на какой-нибудь лужайке, а пассажиры отделаться травмами и испугом, то нынешние воздушные красавцы, если уж выходят из подчинения, то, как говорится, с гарантией на вечные времена. Он подумал еще, что на самолете, в котором он теперь наглухо заперт, загерметизирован, установлено немало электронного оборудования, изготовленного на заводе, возглавляемом им, Акрамом Каюмовичем Юсуповым. И эта мысль, рожденная «ведомственным патриотизмом», притушила смутную тревогу. Юсупов гордился своим заводом, своим коллективом. За последние пять лет ни единой рекламации! «Однако хватит рефлексий, — приказал себе он. — Вот поднимемся в воздух, и надо выспаться». Всю ночь он не спал, готовился к докладу в союзном министерстве. А в пять, на рассвете, позвонил из Сургута племянник, стал вопить в трубку, что он, мол, дико счастлив, влюблен, любим и женится. Долго рассказывал о невесте и приглашал на свадьбу. Племянника Акрам Каюмович любил, хороший, самостоятельный парень, — говорил Юсупов о нем, ставя в пример своим сыновьям. «На свадьбу, конечно, не поеду, не до этого, — думал Юсупов, — а вот поздравительную телеграмму и свадебный подарок надо прямо из Москвы послать». Гул моторов усиливался, достиг высокой ноты. Огромный корабль дрогнул, медленно покатился, разворачиваясь к стартовой полосе. «Поехали! — мысленно произнес Юсупов и улыбнулся. — Ну прямо как Гагарин!» Начавший было движение самолет вдруг остановился, гул двигателей стал затихать. Акрам Каюмович поверх плеча соседа по креслу заглянул в иллюминатор. К самолету мчалась милицейская «Волга» с «мигалкой» на крыше, за ней, поотстав, катил автотрап. В этот момент кто-то осторожно тронул его за плечо. Юсупов повернулся и увидел склонившуюся над ним стюардессу. Ее большие, чуть раскосые глаза смотрели виновато. — Товарищ Юсупов? Вас просят пройти к трапу, — сказала она. — Что? — не понял Акрам Каюмович. Стюардесса наклонилась к самому его уху; — Мы получили по рации распоряжение. Говорят — срочно. Юсупов пожал плечами, но к двери все же пошел, ощущая на себе любопытствующие взгляды остальных пассажиров. Дверь уже раздраили, трап был подогнан. Перед Акрамом Каюмовичем предстал высокий, спортивного вида молодой человек в светлом костюме. — Акрам Каюмович? — полувопросительно, полуутвердительно спросил молодой человек. — Поездку придется отложить, вам необходимо срочно прибыть на завод. — Черт возьми, в чем, собственно, дело! Что за тайны мадридского двора? — не то возмутился, не то пошутил директор. — Извините, объясню все чуть позже. Двигатели самолета были уже выключены, и в наступившей тишине из салона доносились голоса пассажиров, шумно обсуждающих происшествие. Юсупов услышал чей-то задорный голос: «А я вам говорю, что не иначе как валютчика изловили, стали бы из-за алиментщика рейс задерживать». «Ну, вот уже и валютчиком стал», — невесело подумал Акрам Каюмович, садясь в милицейскую машину. Они молча домчались до здания аэропорта, молча прошли сквозь людские толпы. У подъезда стояла белая «Волга». Открыв дверцу машины, молодой человек жестом пригласил Юсупова сесть, затем сам сел за руль. «Волга» резко рванула с места и на полном ходу понеслась к городу, виртуозно лавируя в потоке движущихся машин. Мастерски вел машину этот молодой человек. После паузы, возникшей еще в аэропорту, он спокойно произнес: — Понимаете, там у вас в четвертом цехе подвальное помещение затопило. Юсупов поднял брови: — Ну знаете! Я все-таки пока еще не сантехник, черт возьми! У меня же отчет в министерстве. Неужели без директора некому этим заняться? Вот хотя бы вы — кем у нас работаете? Молодой человек хмыкнул: — Я же сказал — у вас затопило, Акрам Каюмович. А я из уголовного розыска, майор Рахимов. Юсупов посмотрел на него изумленным взглядом. — Не расстраивайтесь. Все уладится, улетите завтра утренним. Кстати, прихватите плащ, в Москве, говорят, дожди. А насчет главного, из-за чего я приехал... Ох, как не хочется вас огорчать! — Вы, товарищ майор, ведете себя как герой одного анекдота. Чтобы подготовить женщину, у которой на курорте скоропостижно скончался муж, вызвался поехать молодой человек. Когда она открыла дверь, он спросил: «Здесь живет вдова такая-то?» — «Такая-то живет здесь, но я не вдова, у меня есть муж». — «Нет у вас мужа, он умер!». Разве не похоже? Рахимов деликатно засмеялся: — Похоже... — Я, пожалуй, последую примеру молодого человека. На ваш завод для технических целей прислали шестнадцать килограммов золота? — Да, а что? — чувствуя что-то недоброе, спросил Юсупов. — Так вот... Нет у вас больше этого золота. Его похитили! Акрам Каюмович явственно ощутил, как волосы на его голове поднимаются дыбом, словно колючки у ежа. У него перехватило дыхание. — Не может быть... — глухо произнес он. — Если бы! — вздохнул майор. Главного инженера завода Насырова, одетого всегда с иголочки, в белоснежной сорочке, было не узнать. Всклоченный, забрызганный грязью, обычно деликатный, мягкий в обращении, Насыров орал в телефонную трубку: — На проходной самый тщательный контроль! Всех подозрительных задерживать и немедленно сообщать! Скрупулезно сверять фотографии на пропусках с личностью владельца... Насыров поднял усталые глаза и, увидев Юсупова, устремился к нему, позабыв положить трубку на рычаг. — Пойдемте прямо к цеху, Акрам Каюмович. Я дал телеграмму в Москву, что вы задерживаетесь. Такое чепе, что в голове не укладывается. На месте взлома уже полковник Махмудов с оперативной группой. Неподалеку от четвертого цеха стояли две ярко-красные машины. На земле сохли, под начинающим припекать солнцем, толстые брезентовые шланги. Пожарные в ожидании новых распоряжений покуривали. — Откачивали воду из подвала? — спросил Юсупов. — Да. Но там еще такая грязь и сырость... Вслед за Насыровым директор спустился по мокрым ступеням в темный подвал. Из глубины его доносились приглушенные голоса. Неожиданно вспыхнул яркий свет — это зажглись портативные софиты. Из темноты вырос человек с кинокамерой. Он навел ее на пролом в стене. Директор вздохнул, — за этой кирпичной стеной, обезображенной черным проломом, находился металлический сейф для хранения технического золота. Того самого, что привезли на завод несколько дней назад для выпуска нового изделия. Того изделия, о запуске в производство которого собирался докладывать в Москве Юсупов. Середина массивной стенки сейфа была вспорота автогеном. — Шестнадцать килограммов сто восемьдесят два грамма, — горестно вздохнул главный инженер. Юсупов удрученно кивнул головой. К ним подошел моложавый мужчина, с висками чуть тронутыми сединой, представился Юсупову: — Полковник Махмудов. Извините, что нарушили ваши планы. — Это вы нас извините, полковник, — невесело усмехнулся Юсупов. — Задали вам работенку. Так сказать, ограбление века. — Позвольте несколько вопросов. — Слушаю вас. — Золото было доставлено на завод четыре дня назад? — Да, его привезли под вечер... — Юсупов нервно похрустел пальцами и вдруг произнес просительно: — Очень... очень прошу отыскать золото побыстрей. Без него мы провалим план... Хоть в петлю лезь! Махмудов сочувствующе посмотрел на подавленного директора завода. — Прямо как в опере: «Люди гибнут за металл!». Только вы погодите обзаводиться веревкой. Поищем ваше золотишко. Поищем. Кто, точнее, сколько людей могли знать о поступлении золота? Директор задумчиво заговорил: — Сейчас трудно сказать сколько, но в сущности немного. Хотя то, что золото будет необходимо в производстве, понимает каждый, кто причастен к технологии готовящегося к выпуску изделия. А что касается доставки золота на завод... Понимаете, из этого вроде бы не делали особой тайны и в то же время не афишировали. Получили как обычное сырье, без всякого шума. — Но ведь не на тачке его привезли. Очевидно, была спецмашина, охрана, — сказал Махмудов, как показалось директору, с некоторым раздражением. — Кстати, кто конкретно принимал золото? — Хомяков, — подсказал главный инженер. — Хомяков, начальник отдела снабжения. Принял по акту. Золото действительно привезли в спецмашине, под охраной. Он лично уложил пакеты с золотыми пластинками в сейф и запломбировал его. Дверца сейфа, да и входная дверь в этот отсек подвала находилась под охранной сигнализацией. А рядом со входом на ночь выставляется охрана. — Разрешите доложить, товарищ полковник? — вступил в разговор молчавший до сих пор громадный, рыжеволосый, голубоглазый парень в модных джинсах и голубой тенниске. — Докладывайте, — Махмудов обернулся к Юсупову: — Прошу любить и жаловать — капитан милиции Васюков. — В метрах пятнадцати от входа на склад, там же в подвале, вахтер устроил себе лежанку. Он поднял тревогу, когда его самого стало заливать водой. Короче говоря, старик спал и, как поется в песенке, «видел сны и зеленел среди весны». А преступников уже и след простыл. Была бы моя воля, запретил бы брать стариков на работу, пользы немного. — Пользы, может быть, и немного, — разозлился вдруг Юсупов, — а вот вы, молодой, сильный, пошли бы к нам на завод охранником? — Не пошел бы. У меня, знаете ли, самолюбие, — ответил капитан. — Когда пойму, что на своем месте мало что могу, тогда приду к вам охранником, — последние слова он произнес улыбаясь. — Сейчас у вас есть отличный шанс удовлетворить ваше самолюбие, — мрачно ответил директор. — Васюков, не забывай, что твое преимущество с годами проходит и ты со временем станешь стариком, — улыбнулся полковник, пытаясь разрядить накалившуюся обстановку. — Акрам Каюмович, нам понадобится список лиц, прямо или косвенно причастных к похищенному золоту, и тех, кто с сегодняшнего дня уволился или выехал в командировку. — Список? — переспросил директор. — Ну что же, начните с меня. Я только что пытался улететь в Москву...II
К вечеру все члены оперативной группы Махмудова собрались в его кабинете. Каждый докладывал о том, что сделано за день. Полковник молча слушал эти до обидного лаконичные отчеты и перебирал в памяти известные ему преступления предыдущих лет. Он не мог, как ни старался, вспомнить что-то, подобное этому ограблению, подобное хотя бы по своей дерзости. Казалось невероятным даже само предположение ограбить сейф на территории завода, сейф, находящийся под охранной сигнализацией. Однако кажущаяся невероятность, обернувшаяся свершившимся фактом, потребовала теперь от всех собравшихся в кабинете людей предельного напряжения сил и возможностей каждого, кто начал незримую борьбу с преступниками. Махмудов с удовлетворением отметил про себя, что молодые сотрудники, включенные в опергруппу по его настоянию, взялись за дело смело, без робких оглядок на своих признанных коллег. — Итак, мы располагаем следующими фактами, — негромко произнес Махмудов, подводя итог сказанному. — Вес похищенного золота шестнадцать килограммов сто восемьдесят два грамма. Преступники, взломав кирпичную стену склада, смежную с помещением, где находится аппаратура для кондиционирования воздуха, проникли к сейфу с золотом. Используя автоген, распотрошили боковую стенку сейфа, не нарушив сигнализацию, подключенную к двери несгораемого шкафа. Затем, открыв кран пожарного гидранта, покинули склад через пролом в стене. На найденных на калорифере обрезках шлангов никаких отпечатков пальцев не обнаружено. Нет отпечатков пальцев и на кислородном баллоне, спрятанном в вентиляционной шахте. Словом, преступники ушли, не оставив следов. А может, не преступники, а преступник-одиночка? — Вряд ли, — торопливо произнес Васюков. — Одному не справиться. Резак, баллон с кислородом. К тому же, как говорят наши клиенты, на стреме постоять кому-то надо. — Я согласен с Васюковым, — подал голос майор Рахимов. — Преступников было как минимум двое. И еще, товарищ полковник, я уверен, что этот вопрос вы задали, как говорится, для затравки, вы ведь сами ни на минуту не сомневались, что ограбление совершено не «медвежатником»-одиночкой. Махмудов доброжелательно посмотрел на Рахимова. Он питал к этому молодому человеку самые добрые чувства. Отважный, смекалистый, Икрам Рахимов был слабостью полковника Махмудова. На губах майора, в его глазах всегда светилась улыбка. Но это была обманчивая улыбка. Она частенько вводила в заблуждение его «подопечных». Им казалось, что допрос ведет легкомысленный человек, «свой парень», но на деле оказывалось — допрашивает розыскник, обладающий «железной логикой», цепким умом. И то, что Икрам дружит с Васюковым, тоже радовало полковника. Дмитрия Васюкова воспринимали иные сотрудники как любителя пофантазировать. Действительно, бывало и такое, но в общем-то Васюков отличался мгновенной реакцией и, как хороший шахматист, представлял положение на четыре хода вперед. «Перспективный работник», — говорил о нем Махмудов. — Так, что мы еще знаем? — задумчиво произнес полковник. — Время совершения преступления, — опять же первым ответил Васюков. — Когда вахтер обнаружил, что подвал залит водой, он уже был полностью заполнен. Мы подсчитали объем подвала, объем вытекающей из гидранта воды, и получилось, что ограбление совершено примерно в семнадцать тридцать. — А у нашей группы другие подсчеты, — сказал Рахимов. — Преступление могло произойти и позже семнадцати тридцати. — Ясно, ясно, — согласился Васюков, — мы исходили из предположения, что преступники открыли гидрант на всю катушку. А ты со своими ребятами учел поправку на хитрость преступников. Они могли открыть гидрант не полностью, чтобы успеть спокойно покинуть территорию завода до того, пока вода не зальет весь подвал. — Осталось выяснить какие-то пустяки — кто именно совершил преступление, где золото и куда эти негодяи подались? — подвел итог Махмудов. — А очень даже возможно, что на рабочее место подались. Девяносто девять шансов из ста за то, что грабители работают на заводе. Откуда постороннему знать и о золоте, и о том, где и как оно хранится? Могли выйти на улицу и через проходную. Эта версия Васюкова и самому Махмудову казалась наиболее вероятной, однако он молча слушал рассуждения своих подчиненных. — Пуд золота через проходную? — усомнился Рахимов. — А ты разве не помнишь случай, как на одном заводе запросто вынесли осциллограф. Не исключено и то, что золото спрятано на территории завода. Преступники ждут удобного момента. Возможно также, что они надеются вынести золото по частям. — По частям — навряд ли, — заметил Махмудов. — Преступники знают, что мы организовали поиск. А вообще-то дела наши пока аховые. Пока что мы знаем только то, что ничего толком не знаем. А теперь получите задания. Группе Васюкова продолжать сбор вещественных доказательств, и не только на заводе, но и за его территорией. Мы обнаружили в подвале лишь обрезки шлангов и кислородный баллон. А где сварочный аппарат? Где камера для получения ацетилена?.. Группе Рахимова искать хоть каких-нибудь свидетелей, пусть косвенных. — На заводе свыше двух тысяч человек, — заметил Рахимов с неизменной своей благожелательной улыбкой. — Ничего, — успокоил Махмудов, — мы с вами, майор, считать до двух тысяч еще не разучились....Вечером Махмудов сидел дома перед телевизором и рассеянно смотрел на парусные гонки. Неправдоподобно синее море, белоснежные яхты скользили по морской глади под приятную музыку. Изредка телекомментатор произносил тривиальную фразу: «Кто же победит?..» «Мне бы твои заботы!» — сердито подумал полковник. В прихожей раздался звонок. Пришла сестра жены — Зульфия, энергичная, громогласная, сразу заполонившая дом шумом. — Мы с мужем едем на дачу. Я обещала Алишерчику взять его с собой. Младший сын Махмудова Алишер радостно запрыгал, потом вопросительно глянул на отца. — Уступаем, — засмеялся отец. — Напрокат. — Очень хорошо, — крикнул из своей комнаты старший сын полковника — Хамид. — Забирайте, тетя, забирайте этого «вождя краснокожих». Житья от него нет. Наконец-то мы отдохнем по-человечески, без этих воплей. — Ну, ты не очень-то! — возмутился Алишерчик. — Думаешь, если студент, то и оскорблять можно? — Так его! — весело воскликнул отец. — Ты, отец, не очень веселись, — откликнулся Хамид. — Помяни мои слова: лет через десять, если не уйдешь к тому времени на пенсию, ты будешь ловить своего младшего сына. Ты посмотри на эти дерзкие глаза, на эти кошачьи повадки — натуральный индеец. Вождь краснокожих из О’Генри, по сравнению с нашим, просто ребенок, ангел. Вчера, между прочим, он разбил мне диск, за который я собирался выменять «Бонни М». Фарид Абдурахманович махнул рукой и ушел на кухню — там свояченица уже выставляла на стол банки с вареньем, баклажанной икрой. Без подарков она никогда не приходила. Она заболевала, если ее деликатесы не вызывали шумного восторга. И поэтому Махмудов с ходу стал восхищаться дивным цветом вишневого варенья, изумительным запахом баклажанной икры, до которой, по совести говоря, он не был большим охотником. Зульфия расцвела. Произнесла не без гордости: — Удачно вышло. Цвет цветом, но ты еще и попробуй. Язык проглотишь. — И тут же, без передышки: — Слушай, а что приключилось на заводе... Ну, на этом самом, который электролампочки делает?.. Чуть свет туда пожарные машины неслись. Говорят, взрыв был, есть раненые. Сосед по лестничной площадке собственными ушами слышал, как громыхнуло! — Вранье все это, — нахмурился Махмудов. — Ничего особенного. Завод работает. Черт-те что болтают, а ты повторяешь. — Нет дыма без огня. И лицо твое я хорошо изучила. Ты чем-то озабочен. — На моей работе не соскучишься. — Верно. Но все же, что приключилось, а? — Много будете знать, прекрасная пери, — скоро состаритесь, а женщине стареть не резон, — отшутился Махмудов. Зульфия обиженно надула губы. — Вы, милиционеры, обожаете всякие тайны. — Служба такая. Хм... А икра действительно несравненных вкусовых качеств. И я сейчас проглочу язык, а потому не смогу ответить на твой вопрос насчет завода. Так, ерунда, в общем. Зазвонил телефон. Махмудов направился в столовую. Снял трубку. — Добрый вечер, Фарид Абдурахманович. Юсупов с завода беспокоит. Думаю, дай позвоню, вдруг что-нибудь новое... Нет? Извините меня... И поймите правильно. Ведь от того, как скоро вы найдете пропажу, зависит все: судьба плана, сроки перехода цеха на новый вид очень нужной стране продукции, заработки рабочих и служащих. В разработке нового изделия принимали участие наши заводские инженеры. Мы так надеемся на вас! Я еще хотел сказать, что мы готовы оказать всяческую поддержку, если нужна какая-нибудь помощь... — Я все понимаю, — тихо сказал Махмудов, устало прикрыв глаза. — Сделаем все возможное. Постараемся, Акрам Каюмович. Что касается помощи, то сделайте одолжение, предоставьте нам на заводе какое-нибудь помещение. Наша группа, временно разумеется, должна обосноваться у вас. — Есть, есть помещение! — воскликнул обрадованный директор. — Кабинет заместителя главного инженера. Он уже третий месяц в заграничной командировке. Кабинет просторный. В приемной секретарша. Если захотите чаю — пожалуйста. Коли автомашина понадобится... — Спасибо. Если что-то потребуется, я обязательно позвоню. — Да-да, конечно. Всего вам доброго, Фарид Абдурахманович! «Ишь ты! — с усмешкой подумал Махмудов, кладя на рычаг трубку. — Даже имя-отчество мое разузнал. Вот уж поистине нужда заставит белый хлеб есть. Не хотел бы я быть сейчас на его месте!». Фарид Абдурахманович боковым зрением заметил жену и свояченицу, с любопытством прислушивавшихся к его разговору с Юсуповым, и шутливо погрозил пальцем. Халима смутилась, юркнула на кухню, а задиристая Зульфия рассмеялась. — Ага! — воскликнула она. — Вот и проболтал свою тайну! Значит, что-то было? Было? Махмудов отрицательно качнул головой и тоже рассмеялся.
III
В кабинете, где обосновалась оперативная группа, было шумно. — Я убежден, что золото преступники вынесли сразу же! — азартно доказывал Васюков. — Зачем его оставлять на заводе? — Возможно, ты и прав, Дима, — мягко отвечал Рахимов, — но все же следует отработать различные версии. — Тут не только пуд золота — токарный станок можно вынести запросто, среди бела дня. Я только что специально вышел через проходную с сифоном за пазухой. Вахтер и глазом не моргнул. — Ты, Дима, случай особый. Вахтер знает, что ты из уголовного розыска. — Во-во!.. — Васюков даже обрадовался. — Того знает вахтер, другого, третьего... А для вахтера не должно быть знакомых. Положен досмотр — делай свое дело, пусть даже сам министр через проходную шествует! — Золотые твои слова, Дима. А теперь давай лучше пораскинем мозгами, где сварочный аппарат? Куда он девался, а? — Надо искать. — Гениальное предложение, — Рахимов расхохотался и хлопнул друга ладонью по крутому плечу. — Все остришь! — буркнул Васюков. Вмешался Махмудов: — Все, братья Аяксы*["12]! Пошутили, и хватит. Смотрите на этот чертежик. Вот подвальное помещение. А это — кладовая для хранения кислородных баллонов. Преступники... Да-да, преступники. Одному действительно не справиться... Преступники могли пронести баллон только вдоль стены цеха. Так? Окна заводоуправления выходят как раз в сторону стены... — Следовательно, — подхватил Рахимов, — кто-нибудь из сотрудников заводоуправления мог видеть. Территория даже ночью освещена. Васюков встал, подошел к кондиционеру, насладился прохладным ветерком и заявил: — Если бы кто-нибудь видел, нам давно бы сообщили. Здесь производство. Люди работают, понимаешь, вкалывают. Кто это станет специально стоять у окна? — Надо выяснить, кто выдает баллоны, — произнес Махмудов, задумчиво постукивая карандашиком по столешнице стола. — А я уже все разузнал, товарищ полковник, — объявил Васюков, слегка рисуясь собой. — Кладовая с баллонами на замке. Ключ хранится у заместителя начальника цеха Харченко. Он отвечает и за противопожарную безопасность. Цеховые сварщики последний раз меняли баллон две недели назад. В остатке было шесть баллонов. Шесть я и насчитал. — А куда девают использованные баллоны? — поинтересовался руководитель группы. — Их складывают возле транспортного цеха. Когда их накапливается достаточное количество, отвозят на кислородную станцию для заправки. — Со сварщиками беседовали? — Так точно. Никаких ценных сведений. Разве что... — Громадный Васюков пригладил ладонями непокорную рыжую шевелюру. — Сварщики говорили, что как-то странно все получилось. Неделю назад работали до обеда — кислород в баллоне был. А вернулись с перерыва — нету кислорода. Пришлось получить новый баллон. Рахимов, внимательно слушавший друга-соперника, вдруг вскочил и расхохотался. — Ну ты даешь, Димочка! О чем только ни говорил! О том, как заводской сифон пытался стащить, о вдохновенных тружениках заводоуправления, которые якобы глаз от письменных своих столов не отрывают, все пишут, пишут, чертят, вычисляют!.. А о таком факте, как пустой баллон, лишь так, между прочим упомянул! — Смех без причины, Икрамчик... Сам знаешь, что это такое! — надулся Васюков. — Ну, опустел баллон, кончился кислород, иссяк. — Стоп! — полковник вскинул руку, наводя тишину. — Молодец, Икрамджан! Я, кажется, понял ход ваших умозаключений. Докладывайте. — Дело, очевидно, было так. Преступники взяли пустой баллон возле транспортного цеха, подключили к сварочной установке, а баллон с кислородом спрятали, чтобы позже подключить его к той горелке, которой разрезали сейф. — Весьма правдоподобная версия, — удовлетворенно произнес полковник и укоризненно глянул на смущенного Васюкова. — Один — ноль в пользу майора Рахимова. Пожалуй, даже два — ноль! Кто-то несмело стукнул в дверь, и в кабинет вошел высокий, худой пожилой человек. Облачен он был в белый халат, и потому Васюков принял его за доктора, даже воскликнул: — Медицине — пламенный привет. Зачем пожаловали? Среди нас вроде нет ни больных, ни раненых! — Не доктор я, — ответил, хмурясь, человек в белом халате. — Я — Савельев. Воцарилось молчание. Наконец Махмудов поинтересовался: — В чем дело? — Ну, Савельев я, — упрямо ответствовал пожилой человек. — Неужто не помните? По прежней своей работе меня прозывали «Лобзиком». Уж очень аккуратно вскрывал я сейфы... — А-а-а... «Лобзик»! — с деланным радушием протянул Махмудов. — С чем пожаловали? — Тут дело такое, гражданин... товарищ начальник... Слышу — сейф взяли. Я — бывший спец по сейфам. «Медвежатник» первой руки. Вот и пришел... Там, в приемной, вся моя бригада. Ребята подтвердят, что я от верстака не отлучался и вместе с ними возвращался домой. Так сказать — алиби! Да и зачем мне золотишко?.. Жена умерла. Детей не благословил господь. Зарабатываю прилично. Савельев уставил в собеседника свои слегка поблекшие голубые глаза, и Махмудову стало чуточку не по себе. — Савельев! — с укоризной произнес полковник. — Вас-то зачем к нам принесло? Вы — вне подозрений. — Точно? — не без яду ответствовал Савельев. — Свежо предание, да верится с трудом. В приемной вся моя бригада — уже говорил об этом. Но только веры у вас нет, я знаю. Такое чепе на заводе!.. Кого же и потрясть, как не Савельева? А мне пятьдесят девять лет, и умереть я желаю в почете! — Ну уж — и умирать! Живите, Савельев, работайте... — Пустые слова! — перебил Савельев. — Вы бы меня все равно вызвали. А мне пятьдесят девять годков. И я свое честно отбыл. И живу нормально. А все же чувствую... На словах-то все хороши. «Трудовое воспитание, золотой ключик к душе»... А как случись что — меня не обходят вниманием. Это в газетах пописывают, мол, споткнулся человек на дороге жизни, но помогли ему люди... На своей шкуре испытал. Тиснули на одном заводе пишущую машинку, а я на тот завод, как на грех, и поступил... Тут же меня за галстук! — Мы вас ни в чем не обвиняем, — мягко сказал Махмудов. — Пока. А потом, когда у вас зарез выйдет? — Идите, Савельев, домой. Никто вас не подозревает. Хотя... Если по-честному... Мы подработали и ваш вариант. Сами знаете: доверяй, но проверяй. Мы и директорскую версию проработали, хотя он и большой человек. Не обижайтесь, Савельев. Бывший вор-«медвежатник» столкнулся взглядом с Махмудовым. Молвил, дрогнув голосом: — Спасибо... Спасибо, товарищ полковник. Верю. А то ведь... Я с того завода, где машинку увели, тут же уволился. Горечь на душе. Подался на один завод, на другой... Всюду говорят: мест нет! Врали ведь, меня опасались. А товарищ Юсупов мне поверил. Я за это ему до гробовой доски благодарен. А сегодня пришел к нему, объясняю, так, мол, и так, что мнеделать? Директор в глаза не смотрит, сбивчиво уверяет, что я вне подозрений. Но я все же его спрашиваю: идти мне к полковнику Махмудову или не надобно? Директор говорит: «Сходи на всякий случай, объясни все». И в глаза мне глядеть избегает. Сомневается, значит, во мне. Вот сам явился к вам и говорю, как на духу: непричастен я к этому сейфу! Полковник подошел к Савельеву, дружески пожал руку. — Идите, дорогой, и не терзайте душу свою понапрасну. — Помолчав, сказал, улыбаясь: — А вид у вас, Савельев, в белом халате действительно докторский. — Это у нас спецодежда такая, — Савельев тоже улыбнулся. — Чистота в цехе требуется. И вообще... Спасибо... Спасибо, гражданин... товарищ Махмудов, за доверие! Когда Савельев ушел, Васюков спросил шефа: — Фарид Абдурахманович, зачем вы сказали, что мы проработали версию Савельева и даже директора? Ведь ничего подобного... — А затем, дорогой капитан, чтобы успокоить человека. Иной раз ложь бывает во спасение. Да и не поверил бы он мне, если бы я сказал: «Да что вы, Савельев! Мы вас давным-давно в ангелы без крыльев записали!». А вот с директором завода я сейчас поговорю не столь дружески. Он снял трубку и попросил секретаршу соединить с Юсуповым. — Акрам Каюмович? Это Махмудов говорит. Не ожидал, не ожидал от вас такого пассажа!.. Что за пассаж? Поясню: зачем вы Савельева послали? У вас что, есть подозрения? Ах, на всякий случай! В порядке, значит, перестраховки. Я понимаю ваше нетерпение. Но не нужно нам посылать людей, доказывающих свою невиновность. Если мы с кем-то захотим побеседовать, мы уж вас об этом попросим, Акрам Каюмович. И вы не сердитесь. Нас вы тоже поймите. Время-то бежит. Полковник положил телефонную трубку. Веселым взглядом окинул своих подчиненных. Васюков неодобрительно хмурился. — Воспитывать директоров заводов в духе дружбы и товарищества, конечно, дело полезное. Но лично я не отказался бы ознакомиться с листками по учету кадров и автобиографиями тех, кто ранее был судим, а нынче работает на заводе. Затем побеседовал бы со всеми, кто внушает подозрение... — Эх, Дима! — не выдержал майор Рахимов. — Умный ты парень, а иной раз такое ляпнешь!.. Как понимать твою, с позволения сказать, «формулу»: «Внушает подозрение»? Допустим, прочитал ты в личном деле, что такой-то или такая-то когда-то... и так далее. Значит, таких, некогда допустивших ошибки людей — на допрос, мол, прошу садиться, курите, а кстати говоря, не вы ли это уволокли пудик золотишка? — Всякую здравую мысль можно при желании вывернуть наизнанку, — рассердился Васюков. — А помнишь, как мы взяли бандюгу Чесалкина? Если бы я тогда его кореша, пристроившегося кладовщиком, не расколол, и по сей день бы небось искали ветра в поле! — Ну и жаргон у тебя, Дмитрий Алексеевич! — Махмудов поморщился. — Так ведь тот кладовщик и на работу устроился, чтобы подготовить хищение. — А может, и на заводе есть эти, разные мнимые!.. Спору положил конец Махмудов: — Дебаты прекращаются. До сих пор не имеем ничего существенного, кроме разговоров.IV
Тщательное обследование цехов не принесло желаемых результатов. Группа Васюкова осматривала буквально каждый метр территории завода. Оставалось прочесать последние 100-150 метров. — Смотрите, смотрите! — воскликнул вдруг молоденький лейтенант. — Возле забора трава примята, несколько досок... Васюков немедленно сообщил об этом Махмудову. — Это уже кое-что, — оживленно сказал Махмудов, взглянув на доски. Он поднял с лейтенантом пятидесятку, и она легла на забор подобно сходне. — Попробуем подняться... Внизу, у противоположной стороны забора, трава тоже была примята. Прибывшая на место служебная собака след не взяла — преступники засыпали следы нюхательным табаком, молотым черным перцем. Сделали для очистки совести отливки неясных следов. Однако полковник заметно повеселел. — Это уже кое-что, уже кое-что... Во всяком случае мы теперь знаем, что преступники покинули территорию завода именно в этом месте. Просто лихому парню, которому, скажем, до дома ближе, если через забор, — такому нарушителю порядка незачем засыпать свои следы всякой дрянью. — Опытные канальи, — угрюмо произнес Рахимов. — Следы мы зря отливали. Преступники, конечно же, переменили обувь. — Внимательно осмотреть все вокруг! — скомандовал Махмудов. — А мы с вами, братья Аяксы, пойдем вперед! — решил полковник. — Видите, примерно в полукилометре отсюда пустырь, точнее — свалка мусора, над которой курится дым?.. Совершим-ка мы туда экскурсию. Васюков попытался сострить: — Уважаемые товарищи. Сейчас вы станете свидетелями того, как сотрудники уголовного розыска меняют профессию... — Дмитрий Алексеевич! — укоризненно произнес полковник. — С чего бы у вас такое игривое настроение. Глядя на вас, можно подумать, что преступники уже задержаны. А что касается перемены профессии, то для нас, розыскников, свалка иной раз оборачивается Клондайком. Вы и сами знаете этому немало примеров. Васюков знал: когда полковник начинает сердиться, он переходит на «вы». Кучи мусора горели. Едкий дым пощипывал глаза, вызывал кашель. — Пока ничего интересного, — произнес Васюков и закашлялся. — Подлый дым. Резина, что ли, горит?.. Точно. Кто-то бросил резиновую камеру от автомобиля. Дмитрий в сердцах поддал истлевшую наполовину камеру ногой. — Минутку! — вдруг азартно воскликнул Махмудов и подбежал к автокамере. — Ну, братья Аяксы, кажется, мы с вами что-то нашли... Рахимов и Васюков недоуменно переглянулись. — Что нашли?.. — повторил полковник. — А то, что мы с вами искали. Конкретно — емкость для получения ацетилена. У этой камеры два штуцера. Зачем два, как по-вашему?.. Второй штуцер сделан специально широким. В него засыпали карбид и заливали воду. Вот и питание для резака, которым вскрыли сейф. Покончив с сейфом, злоумышленники перебрались через забор и бросили камеру на свалку. Рахимов с Васюковым вновь переглянулись, — силен шеф, а вот им и в голову не пришло. Махмудов, словно угадав мысли своих сотрудников, пояснил: — Дело в том, что я ведь не всегда в уголовном розыске трудился. В молодости был газосварщиком. А уж потом по комсомольскому набору — в милицию. Запомните, и другим передайте: старые знания никогда не в тягость... Камерой займется Рахимов... В вулканизаторской мастерской завода толстый механик, смахивающий на Бальзака, отвечал на вопросы Рахимова неохотно. «Да, многие приносят к нам камеры подзалатать. Что ж, лишняя копейка не помешает. И людям польза. Нынче личных автотачек развелось видимо-невидимо... Что? Кто из заводских недавно приходил?.. Три дня назад Петров был из гальванического. Я еще поинтересовался, говорю: «Значит, Жора, и ты машину приобрел?» — «Нет, — отвечает. — Племянник из Самарканда. В дороге проколол покрышки. И сам ты не трудись, — настаивает. — Я лично камеру лучше новой сделаю. В голубом детстве посещал кружок «Умелые руки». Шутник такой... Ну, я возражать не стал... Петрова майор застал на рабочем месте. Невысокий, плотный, лысоватый. Смуглость лица его контрастировала с белой, незагорелой шеей. «Должно быть, заядлый рыбак, — предположил Икрам. — Застегивает наглухо ворот от комаров». — Георгий Поликарпович, три дня назад вы чинили автомобильную камеру. Так? — Ну, чинил, — карие, с хитрецой глаза Петрова въедливо уставились на Рахимова. — Чинил. А вы кто такой будете? Зачем вам? Он внимательно с головы до ног оглядел Рахимова, одетого в штатское. Вытер ветошью руки, присел, вынул папиросу. Внешне он был абсолютно спокоен. Майор предъявил удостоверение. — Хм... — Петров почмокал полными губами. — Солидная контора. Значит, вас интересует камера. А я-то, грешным делом, подумал, что вы ко мне насчет золота. Нынче весь коллектив как на иголках. — У вас есть автомобиль? — Нет. Так я не в рабочее время латал. В обеденный перерыв. Приехал племяш, понимаете, попросил. — Георгий Поликарпозич, у вас же нет племянника. Или я ошибаюсь? Петров покраснел, засопел. — Какая разница?.. Есть... Нет. Чинил — и все тут. А к золоту у меня никакого касательства! Или вы все-таки по этому делу меня на зубок пробуете? — Речь идет о камере, которую вы латали. Зачем было вам? По загорелому лицу Петрова пробежала судорога. Он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу: — Может, опять Сенька делов натворил?! Ну я ему задам!.. Сперва, понимаешь, мопед угнал, покататься ему, видите ли, захотелось! А теперь, значит... Ну я ему задам! За мопед его на учет в милицию взяли, как сомнительного. Я его, конечно, отхлестал от всей души. Не помогает!.. Недавно приходит: «Батя, такое дело... Другу моему мотоцикл предки отвалили за примерное поведение. Я попросился за руль, да камеру и проколол. Друг говорит: или чини камеру, или гони монету на новую». Вот и пришлось...Через полчаса майор Рахимов установил, что у Петрова действительно есть непутевый сын. История с мотоциклом походила на правду. «Другу этого Сеньки, — сообщили из инспекции по делам несовершеннолетних, — и в самом деле купили мотоцикл...» А в это время Васюков докладывал полковнику: — Экспертиза показала, что в камере, обнаруженной нами на свалке, было вещество для получения ацетилена, необходимого для газосварочных работ, — карбид. Широкий штуцер изготовлен на токарном станке. — Лиха беда начало, — удовлетворенно кивнул Махмудов. В кабинет вошел Рахимов, любезно пропуская впереди себя вихрастого угрюмого паренька лет семнадцати. — Представляю счастливого владельца мотоцикла. Эксперту даже не понадобилось осматривать баллоны. Владелец утверждает, что ни одно колесо еще не спускало. — А зачем чинить-то? — ломким баском произнес паренек. — Машина новенькая. У меня мотоцикл-то с той среды. — Семен Петров друг твой? — поинтересовался Махмудов. Паренек опасливо глянул на полковника. — Ну, друг. А что?.. Опять что-нибудь натворил? — Как звать-то тебя, парень? — Серега. Сергей Фомин, — поправился он. — Давал ты Семену водить свой мотоцикл? — Чо я, чокнутый, что ли? Мотор-то на ограничителе. Тут аккуратно надо. Никому не давал. — Молодец. Ты, я вижу, парень рассудительный. А твой друг на сей раз ничего такого худого не натворил. Небольшая проверка. Будь здоров. Едва за Серегой затворилась дверь, Махмудов встал, походил по кабинету. — Значит, обманывает Петров. Это — раз. А во-вторых, — штуцер. Он вынул из ящика стола дополнительный штуцер, который был установлен на найденной автокамере. — Взять бы Петрова за жабры, поднажать!.. — мечтательно произнес Васюков. — Все ясно. Приплел несуществующего племянника, пацана своего впутал. Темнит Петров. Прижать как следует — и расколется... На этот раз «братья Аяксы» выразили полное единодушие, — Рахимов поддержал друга: — Дима дело говорит, товарищ полковник. Экспертиза показала, что после обработки на станке штуцер подтачивали напильником. Поискать бы его у Петрова. И еще исследовать его спецодежду, наверняка обнаружится пыльца бронзы. Фарид Абдурахманович внимательно посмотрел на своих подчиненных. — Ну, ну. Горячиться не будем. Слушайте, торопыги, сколько раз предупреждал: не спешите с выводами. А Петрова мы, конечно, поспрошаем. Потолковать с ним просто необходимо.
Несмотря на жару, Петров-старший явился в костюме и при галстуке. Полковник Махмудов показал ему рукой, садитесь, мол, и продолжал что-то писать. Георгий Поликарпович обвел взглядом кабинет заместителя главного инженера, осторожно присел на краешек стула. Взгляд его остановился на штуцере, лежащем на письменном столе. Махмудов поднял голову, перехватил взгляд Петрова. — Что, Георгий Поликарпович, знакомая вещица? — Он тронул пальцами штуцер. — Объясните, пожалуйста, что это за штуковина? Петров подержал штуцер на ладони, словно взвешивая. — Клапан какой-то. Бронзовый. — Точнее — штуцер. И вот что любопытно: штуцер сей, как выяснилось, изготовлен с помощью вашего слесарного инструмента, на вашем рабочем месте. И что особенно непонятно, на вашей спецодежде экспертиза обнаружила бронзовую пыльцу. Ситуация, складывается серьезная. Вам хорошо известно, что на заводе произошло крупное хищение. А штуцер этот мы обнаружили на камере, брошенной на свалке. А камера эта — самодельная емкость для получения ацетилена. Как это ни печально, но на вас падает подозрение. Улики налицо. Давайте теперь поговорим начистоту. То, что вы работали с камерой в вулканизаторской, вы отрицать, надеюсь, не станете? Рахимов и Васюков с интересом наблюдали за шефом. Ничего не скажешь, мастер своего дела. Тем временем полковник продолжал: — Ни на каком мотоцикле сын ваш, Семен Петров, не ездил и, следовательно, повредить камеру не мог. И насчет племянника вы говорили неправду. Получается, что именно вы изготовили самодельный газовый аппарат. На резаке обнаружены частицы металла, полностью совпадающие по химическому составу с металлом, из которого сделан сейф. Можете ознакомиться с материалами экспертиз... Ну, Георгий Поликарпович, что вам остается сделать? Петров сидел на стуле, покачивая головой. Он совершенно спокойно выслушал Махмудова, не проявляя при этом никаких эмоций. Со стороны казалось, что он находится в оцепенении. — Что мне остается теперь делать? — едва слышно проговорил Петров после долгого молчания. — Остается одно... Удавиться к чертовой матери. Голову в петлю — и привет... Он такими потерянными глазами посмотрел на Махмудова, что тот подумал: а и в самом деле чем черт не шутит... «Стоп! Кто-то здесь уже собирался вешаться», — подумал полковник. Он вспомнил, что фраза эта впервые вырвалась у директора завода. Правда, директор говорил, желая наглядно показать, как он переживает случившееся. А этот... Петров... Его хоть и шутником представили, но в данном случае он, кажется, шутить не станет. Какой потерянный у него взгляд. Неужели все так просто и дело идет к развязке? — Скажите, Петров, — спросил полковник, — будь вы на моем месте, какое вы приняли бы в данном случае решение? — Арестовать... — тихо произнес Петров. — Потому и захотелось удавиться! Что ж, берите меня, небось уже припасли наручники для особо опасных преступников? — С арестом пока повременим, — поднял руку Махмудов. — Сперва вы дадите правдивые показания. — Правдивые?.. Ну, ну. Если правдивые, то я к ограблению сейфа имею такое же отношение, как... — он поискал сравнение... — как к космическим полетам. — Что? — порывистый Васюков вскочил, возмущенный наглостью преступника. Рахимов дернул под столом друга за брючину, мол, без эмоций, шеф все сделает как надо. — Опять, значит, начнем фантазировать? — четко спросил полковник. — Вы же сами сказали... Правдивые показания... — Петров умолк. По его лицу видно было, что в нем зреет какое-то важное решение. — И я вот... Понимаю, не в бирюльки играете. И насчет племянника врал, и Семку своего приплел зря. Камеру чинил, верно. Скажу, если вам так надо. Только один уговор: никаких протоколов. — Допрос фиксируется, — возразил Махмудов. — А вы спервоначалу просто меня выслушайте — как душевные люди. Может, это и фиксировать не надо. А не поверите, что ж, тогда берите меня как есть. Вам честь и почет, конечно... Только откуда я вам золотишко возьму, если я и в глаза его не видел, а? После некоторого раздумья полковник произнес: — Давайте так договоримся, Петров. Мы вас, конечно, выслушаем, сперва неофициально, говоря вашими словами, «как душевные люди». Ну и, разумеется, проверим — тоже неофициально — все вами сказанное. А там дальше видно будет. Отнесемся со взаимным доверием. Ладно? Петров согласно кивнул, отер ладонью лоб с залысинами. — Знаете, о чем я вас хочу спросить... Вы жене своей изменяете? От такого поворота разговора Махмудов даже слегка опешил. — Хоть и изменяете — не скажете, — твердо заключил Петров. — И правильно сделаете. Самое негодное дело о своих победах над бабами язык чесать. Чинил я камеру. Чинил. Но никаких штуцеров... Просто залатал в двух местах. Она меня попросила... — Кто — она? — уточнил Махмудов. — Александра... Семыкина Александра Павловна. — Работает или... — А как же, конечно, работает. Прекрасная женщина, только несчастная была. — Была? — Угу. Теперь она даже вроде помолодела. Бухгалтером она. Хорошая женщина. Мужа имела непутевого. Баламут. Он хотя и лишний рубль умел выудить — шоферил, однако распоряжался худо. Александра едва на «Запорожца» сумела сумму придержать. Помер муж ее шесть лет назад. От водки сгорел. Не пошла ему на радость левая деньга. Трезвый когда был, рассказывает Александра, тогда еще ничего. Смирный. А как нальет шары — прямо-таки зверь, аспид! Петров умолк. Фарид Абдурахманович его не торопил: видно было, человек собирается с мыслями. Георгий Поликарпович потеребил в руках носовой платок и продолжал глухим, прерывающимся голосом: — Вскорости после кончины мужа ее непутевого познакомились мы. И вот вышло такое... Сошлись мы. Полюбили друг дружку. Я ведь как женился-то?.. Сумбурно вышло, наперекосяк. Пригласили меня как-то на пельмени. Веселая компания. То да се... Утром проснулся — что за чудеса? Не на койке я в своей общаге, а возлежу, притонувший в пуховой перине; на стенке коврик с лебедями, с другой стенки на меня из рамки молодой Николай Крючков глядит и улыбается. А рядышком в постели незнакомая брюнетка тихо посапывает носиком. Я даже, знаете ли, перепугался. Что такое, неужели я с дочкой знаменитого артиста в постели нежусь!.. И голова трещит. Васюков не выдержал, прыснул, да и Рахимов прикрыл рот ладонью. — Вам, молодым, смешно. А мне тогда не до смеха было. Брюнетка проснулась и все пояснила. Компания именно у нее пельмени устраивала. Я изрядно перебрал в смысле напитков. Гости уже все разошлись, а я остался. И стал упрашивать Марину, брюнетку ту самую, стать моей женой. Она и согласилась. Два десятка лет назад я был мужчина ничего себе, видный. Зарабатывал поболее двух инженеров. Что делать? Бабником, извините, я никогда не был. А тут дал слово — сдержи его. Это у меня в крови. К тому же выяснилось, пока мы разрешения на регистрацию брака ждали, что Марина беременна. Такие дела. Точно в срок родила она старшенького, Федора, ныне моряка Тихоокеанского военно-морского флота. А потом и Семка объявился, оболтус. Петров отпил воды, вздохнул. — Дом мой считается счастливым. Вот только Семка иногда куролесит. Но у него возраст такой, переходный. Войдет в ум — образумится. Парнишка душевный. Жена всякие соления закручивает в банках. Чистота. Порядок. Я и полагал, что так и надо, повезло мне... до встречи с Александрой. Тогда только понял: вот она пришла, любовь!.. До того меня всего перевернуло, что я даже задумал развестись с Мариной. Однако Александра так сказала: «Бросишь семью, и я тебя брошу. Поздно судьба нас свела. Противно мне строить свое счастье на горе целой семьи. Конечно, подло и тайком видеться...» С той поры и веду я двойную жизнь. Теперь понимаете, по какой причине я врал про племянника и прочее? — А как объясните тот факт, что экспертиза обнаружила на вашей спецодежде бронзовую пыль и что на ваших инструментах... — Не ведаю. Это уж вы постарайтесь объяснить, на то вы и уголовный розыск. — Он помолчал некоторое время, потом добавил с усмешкой: — А может, признаться, что я это золото взял? Вам гора с плеч. — Знаете что, — Махмудов уже не скрывал своего раздражения. — Вы сейчас объяснили свое, прямо скажем, странное поведение. Мы ничего еще не проверили, и поэтому не надо здесь кокетничать. Вас вызвали как подозреваемого. «Признаться»! Может, вы нам и золото вернете? — Вот видите, как вы раскипятились, когда я вам сказал про свою, так сказать, двойную жизнь... «Что это я? Ведь не на него злюсь, а на себя, — подумал Махмудов. — Если он говорит правду, злиться можно только на неудачу. Но штуцер! Он же изготовлен его инструментом!» Полковник отправился с докладом в министерство, а его «Аяксы» занялись новыми версиями. К вечеру опять собрались в кабинете заместителя главного инженера. — Слушай, Дима, есть версия, которую не вредно бы обсудить с шефом. Что, если кто-то воспользовался инструментами Петрова и спецодеждой умышленно, чтобы бросить тень на Георгия Поликарповича? — Хм... У меня тоже эта идейка в голове шевелится. Только я полагаю, что злоумышленники сделали это не для того, чтобы напакостить, отомстить Петрову. Просто решили пустить нас по ложному следу. — В данном случае для нас мотивы, которыми руководствовались преступники, не столь уж важны. А вот улика, и, на мой взгляд, довольно важная, — Рахимов разжал пальцы, и Васюков увидел на ладони друга голубой значок — «125 лет Иртышскому речному пароходству». — Ну, что скажешь? — спросил Дмитрия приятель. — Майор Рахимов стал почетным сибирским речником? — Дима, неужели сам догадался? Ничего от тебя не скроешь... — Ладно, кончай резвиться, объясни толком. — Охотно, Дима. Петров нашел этот значок в своем платяном шкафчике. Запал в щель между досками. Булавочка на значке отломана. Соображаешь теперь, а? Громадный Васюков вскочил, стиснул друга в богатырских объятиях. — Осторожнее, буйвол! — отбивался Икрам. — Сломаешь. А я тебе еще пригожусь! — Слушай, — вдруг поостыл Васюков. — А может, Петров умышленно подбросил? — Может быть. Все может быть, как любил говаривать чеховский герой маляр Редька. Но маловероятно. Я все-таки полагаю, что это преступник потерял значок. Надевая халат Петрова, зацепил за значок, булавочка плохо припаяна. Таких значков в городе, я уверен, раз, два — и обчелся. До Иртыша ох как далеко! — Тогда немедленно займемся коллекционерами, — воскликнул Дмитрий. — Заняться можно, но какой же уважающий себя коллекционер носит на груди значки? Он свою коллекцию держит за семью замками. Значок принадлежал либо работнику пароходства, либо человеку, купившему его по случаю. Обычно командированные приобретают значки в память о своих странствиях. — Истинные твои слова, дружище! — Васюков вновь излучал энергию. Всем видом своим он выражал готовность немедленно кинуться на розыски командированных, вернувшихся из Омска. Вошел полковник Махмудов. — Что это вы такие возбужденные, не иначе золото нашли? — Пока нет, товарищ полковник. Но тут такое дело!.. — вскричал Васюков. Выслушав обоих, Фарид Абдурахманович, привычно постукивая в задумчивости карандашиком по столу, сказал: — Я бы предложил все-таки начать с коллекционеров. Васюков широко улыбнулся и подмигнул Икраму, мол, знай наших. — Тут придется поработать. Но начнем с коллекционеров. Даже если добудем, так сказать, отрицательный результат... Это ведь тоже результат. Коллекционеров, собирающих значки, не так много в городе. Может быть, имеются такие коллекционеры и на заводе. Вот с них-то и начать надо. Человек, который этим занимается, не может пропустить ни одного лацкана. На заводе оказался лишь один коллекционер-«значкист» — Шаломаев, работник бухгалтерии. Ему осталось совсем немного до пенсии, однако этот был из тех стариков, которые, по меткому выражению народному, — быка за хвост удержат. Бодрый, смешливый, без намека на животик или там сердечно-сосудистые недуги. Оказался он еще и говоруном. — Так-так, — протянул Шаломаев, познакомившись с Васюковым. — Значит, такие молодцы и ловят всевозможных жуликов? Очень, оч-чень приятно. Я и сам, знаете ли, в армии на границе служил... Тоже в переделках пришлось побывать. Помню как сейчас... — Товарищ Шаломаев, у меня времени нет, — взмолился Васюков, чувствуя в первых словах старика пролог к великому повествованию. — Скажите, вы значки собираете? — Что значит собираю?! — обиженно засопел счетный работник. — Собирают бумажную макулатуру, старое тряпье. Я — коллек-цио-нирую!!! Любой значок — это событие истории, судьбы людей... Помните, у Блока?.. «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран...» — «И сразу мир предстанет странным, окутанным в цветной туман», — подхватил Васюков, не ожидавший от себя такой прыти. Он не был знатоком поэзии, а строки эти запомнил случайно, читая Паустовского, который цитирует много поэтических строк. Шаломаев изумленно воззрился на богатыря. Коллекционер собирался что-то сказать. — Вот если о событиях... — Васюков, кажется, встрял вовремя. — Что вы думаете о юбилее Иртышского пароходства? Шаломаев посмотрел на него поверх очков: — А собственно, в чем дело? — Нет ли у вас такого значка — «Сто двадцать пять лет Иртышскому речному пароходству»? — Нет, я, знаете ли, коллекционирую значки, посвященные городам и кинофестивалям. Кстати, вы ведь, надо полагать, знаете, что скоро в нашем городе состоится Международный кинофестиваль... — Павел Васильевич, — с нескрываемым нетерпением перебил его Васюков, — меня интересует значок только Иртышского пароходства. Может, вы видели его на ком-нибудь? По нашим данным, на заводе был человек, носивший этот значок. — Варвар, — коротко резюмировал коллекционер. — Значки надобно хранить и беречь, как зеницу ока, а не похваляться ими, не уподобляться некоторым интуристам. — Вот, взгляните, Павел Васильевич, — Дмитрий вынул из кармана значок. — Вроде видел на ком-то, но сейчас сразу не припомню — на ком. Мне время нужно, память-то дырявая стала. В общем, если что — дам знать. Оставьте телефон... А может, и не на заводе видел... «Черта лысого он вспомнит», — думал Васюков, выходя из здания заводоуправления. Он уже шел по заводскому двору, как вдруг услышал голос Шаломаева, кричавшего ему из окна второго этажа: — Вернитесь, молодой человек!
V
— Что нового у вас, майор Рахимов? — поинтересовался полковник Махмудов. — Пока похвастать нечем. Все выезды из города перекрыты. Однако «подопечный» еще не появлялся. Как только скажется в нашем поле зрения — установим постоянное наблюдение. — А у вас что? — обратился руководитель оперативной группы к Васюкову. — Мои ребята работают по утвержденному вами плану. Только все это, на мой взгляд, мартышкин труд. Вряд ли золотишко на территории завода. Полковник вскинул брови. — Почему так считаете? — Установлено же: значок принадлежал заведующему складом Эркину Камалову. А этот субчик на заводе не появляется. Рахимову нужно брать его как можно скорее, товарищ полковник! — Ну, возьмем. А дальше? Камалов скажет: «Я потерял значок, а кто-то нашел». — Потерял!.. Потерял в чужом шкафу, в чужом цехе. — Ты не кипятись, Дима, — вмешался Рахимов. — Если даже Камалов и принимал участие в похищении золота, не следует пороть горячку. Он наверняка станет утверждать, что преступник умышленно подбросил в чужой шкафчик значок, чтобы сбить с толку розыск. — Да черт с ним, со значком! — воскликнул Васюков. — Надо брать Камалова и искать у него золото. — Минутку терпения! — Рахимов похлопал друга по крутому плечу. — Есть еще кое-что сообщить. Замок на вещевом шкафчике типовой. Отомкнуть его не составляет труда. Петров из гальванического дал показание, что последнее время Камалов часто к нему заходил — по делу, а то и безо всякого дела. Наконец я разговаривал с вахтером, дежурившим в день ограбления. Камалов вышел через проходную спустя два часа после окончания смены. — Почему вахтер запомнил столь точно — через два часа? — Разговорились они. Камалов сам пожаловался, мол, работы по горло. Лишних два часа торчал после смены. Учет, переучет. Вахтер попросил у завскладом электроплитку для своей конторки. Он говорит, Камалов выглядел как-то странно. Глаза блуждающие, на лбу испарина, толстяк ступал тяжело, еле-еле. Пожаловался, что заболел. Он вообще от природы полный, толстый даже, а тут еще прихворнул. — Плитку вахтеру дал? — Махмудов встал, прошелся по кабинету. — В том-то к дело, что на другой день тот посмотрел на явившегося к нему на склад вахтера как на ненормального. Словно память Камалову отшибло. — Камалов и сегодня на работу не явился, — угрюмо произнес Васюков. — Говорят, заболел. — Что ваши люди, майор? — Махмудов повернулся к Рахимову. — У Камалова все закрыто. За домом установлено наблюдение. — Вот вы, братья Аяксы, и навестите болящего.Дом Камалова, большой, кирпичный, под железной крышей, выделялся на тихой улочке. Ворота и калитка были на запорах. — Не будем же стоять здесь как истуканы, перелезем, — предложил капитан. — Не солидно как-то, — поежился Рахимов. — Ну да делать нечего... Рахимов и Васюков перемахнули через ограду и очутились в саду. Бетонная дорожка вела к крыльцу. На входной двери висел массивный амбарный замок. — Со склада спер! — гоготнул тихонько Васюков. Обошли вокруг дома. Рахимов осторожно заглянул в окно... Ничего не видать. Занавески задернуты наглухо. Майор потрогал раму — створки окна с тихим скрипом разошлись. — Неладное что-то! — шепнул другу Васюков. — Постой, куда! — вновь зашептал капитан. — Санкции на обыск у нас нет. — Знаю. Икрам пододвинул к окну лежащий под развесистой яблоней ящик, встал на него... — Ну, что? — Посмотри сам, Дима. С трудом удерживаясь на зыбком, шатающемся ящике, Васюков ухватился за подоконник и заглянул в окно. — Неужели опоздали?! — вырвалось у него. В дальней от окна комнате на ковре лежал человек. Голова неестественно закинута, правая рука подвернута под спину, ноги скорчены. Тут же, на ковре, — поднос с бутылками и снедью. — Дела-а-а... — Протянул Васюков, спрыгнув с ящика на землю. — Немедленно пригласить соседей в качестве понятых, передать по рации полковнику... — Помолчав, Рахимов произнес сокрушенно: — Вот ведь как иногда получается.
Майор, осторожно ступая по ковровым дорожкам, первым вошел в дом. Камалов лежал в той же немыслимой позе. По его серому, безжизненному лицу, по губам разгуливали мухи.

— Неужто убили?! — всплеснула руками соседка, приглашенная в качестве понятой. Но тут «мертвец» вдруг хлопнул себя левой рукой по щеке, пробормотал что-то нечленораздельное и, повернувшись на бок, оглушительно захрапел. С ним произошла какая-то перемена: то он лежал, словно труп, не шелохнувшись и вроде бы и не дыша, а сейчас подергивался, прерывая храп поскуливанием: ему, наверно, мерещился пьяный кошмар. — У, алкаш поганый! — возмутилась соседка. — А вчера жаловался мне, дескать, больной, хворый, на работу не пойдет. Потом глянула — на дверях замок. Ну, думаю, все же пошел на работу. Еще пожалела: вот как за дело болеет, хворый ушел. В это время Камалов открыл глаза и дико посмотрел на непрошеных гостей. Полное лицо его перекосила гримаса ужаса. — Не-не надо... Не надо меня у-у-убивать!! — Успокойтесь, Камалов. У вас в гостях уголовный розыск. Признаться, именно мы-то и опасались, что с вами приключилось несчастье. Вы уж извините нас, Камалов, за невольное вторжение. Толстяк сидел на ковре и хлопал глазами. И вдруг, спрятав голову между колен, зарыдал, запричитал быстро-быстро, так, что невозможно было ничего понять. За этими всхлипами оперативники едва расслышали шум подъехавшей машины — прибыл Махмудов. Ему не пришлось перелезать через ограду, так как ворота и калитка были уже открыты. Васюков и Рахимов, принявшие хозяина дома за убитого, взломали замки. Полковник обежал комнату быстрым взглядом. Обстановка дорогая, но все выглядело как-то безвкусно, неуютно, как в плохоньком комиссионном магазине. «Живет, конечно же, не на зарплату», — сделал вывод полковник. И тут же обратился к хозяину дома: — Кто же вас запер, а? Камалов теперь сидел, скрестив ноги, и покачивался, как китайский болванчик. — Проспаться ему надо, — сердито произнес Васюков. — А может, его запер этот... Мансуров? — подсказала соседка. — Кто таков? — быстро спросил Махмудов. — Дружок его новый. Худой такой, жилистый. А глаза как у волка. Злющий такой! Как сатана. А когда выпьет, добреет. — Откуда вам все это известно? — Соседи ведь с Камаловым. Вот аккурат позавчера Мансуров и приходил. Я еще говорила, мол, не дружи ты, Эркин-ака, с этим худущим злюкой. Не доведет до добра. Полковник взглянул на Васюкова. — Есть данные о Мансурове? — Так точно. Три месяца назад поступил на завод слесарем. Отбывал срок наказания за грабеж. На работе характеризуется в основном положительно. — Надеюсь, Мансурова на беседу не вызывали?.. Помните наш разговор? Майор бросил тревожный взгляд на друга. Дмитрий, расправив богатырские плечи и широко улыбаясь, отрапортовал шефу: — Разговор помню. Никаких оскорбляющих достоинство людей поступков. Просто поговорил с кадровиком. Вообще-то Мансуров ему не по душе. Долговязый, жилистый, глаза тяжелые. Но это все лирика и эмоции. А так никаких нарушений. — Благодарю, — полковник тоже улыбнулся. — Благодарю также и понятых. Можете быть свободны. Помните: вы обязаны хранить тайну. Второй понятой, хмурый бородач, пробурчал: — Тайна!.. Очень великая тайна, что Камалов закладывает!.. Пойдем, Максимовна. Понятые ушли. Полковник нетерпеливо потер ладони. — Что же нам теперь делать, ждать, пока этот гуляка проспится? — А я уже проспался, — неожиданно подал голос Камалов. — И я готов сейчас... — он захлебнулся слюной, закашлялся и, тяжело поднявшись на коротенькие свои ножки, с неожиданной силой вскричал: — Добровольное!.. Чистосердечное признание!.. Я знал, что все так кончится. Прошу принять во внимание!.. Чистосердечное... Честно говоря, профессиональное чувство розыскников было уязвлено. Конечно, это просто здорово, что так быстро и без особых трудов схвачен один из преступников, который горит желанием рассказать все начистоту. И все же... Как-то обыденно все вышло. Никаких интеллектуальных дуэлей с хитрым противником, мастерски проведенных операций. И как назло название всей этой операции, в которой участвует большая оперативная группа, дали помпезное — «Операция «Аурум». Золотая латынь! Аурум по латыни — золото. А сейчас этот тип выложит про это золото все как на блюде. Махмудов уселся в старинное полукресло с продавленным сиденьем, вздохнул. — Что ж, чистосердечное, так чистосердечное. Выкладывайте. Только не вздумайте водить нас за нос. Камалов попытался опуститься на колени, молитвенно сложив ладони на пухлой груди, но его подхватил под мышки Васюков. Пробасил: — У нас так не принято, гражданин, обожающий злато. Просто садитесь вот на этот колченогий пуфик и выкладывайте все, как на духу. Знаете, что полагается за хищения в очень крупных размерах, а? — Знаю... Вышка, — вздохнул толстяк и заплакал. — Дмитрий Алексеевич!.. — одернул полковник Васюкова. — Слушаюсь. — Рассказывайте, Камалов, — полковник вытащил из кармана свои любимые сигареты «Новость». — Не желаете? — Мне бы полстаканчика. Для наведения ясности в голове. Вон в той бутылочке. — O! — улыбнулся Фарид Абдурахманович. — Вы, я вижу, лечитесь по древнему рецепту — от чего заболели, тем и врачуетесь. Увы, не могу. Допрашивать подозреваемого, который находится в состоянии опьянения, знаете, как-то не положено... — Так я же буду в лучшем состоянии, а не в худшем. У меня мысли путаются. — Ничего, мы их потом распутаем. Выкладывайте свое чистосердечное... Запинаясь, действительно путаясь в мыслях, сбиваясь, толстяк начал свою исповедь: — Когда мы из подвала вылезли и я пришел к себе на склад... меня всего колотило. И всю ночь... милиционеры снились... Кошмары всякие. Что вы улыбаетесь? Старшина в окно влез, прозрачный такой и с жезлом, гонялся за мной, а жезл этот — как дубинка... — Во дает! — не выдержал Васюков. — Прямо сказки Гофмана. — Какого Гофмана? Не знаю я никакого Гофмана, — заканючил Камалов... — В этом мы не сомневаемся, — остановил его полковник. — Ближе к делу... — Вчера он зашел и говорит: «Из дома не показывайся! Болей себе на здоровье». — Кто говорит? — не удержался и Рахимов. — Прозрачный старшина милиции? — Нет, не он. Мансуров. Хаким Мансуров. Он знает, что я в любой момент больничный могу взять на законном основании. Гипертония у меня на высоком уровне. — А пьете! — Махмудов покачал головой. — А!.. Пьешь — помрешь, не пьешь — все равно помрешь. А тут еще Мансуров... «Пей! — приказал. — Когда ты под мухой, ты похрабрее. А в трезвом виде трус отчаянный. Появишься на заводе, на твою поганую морду посмотрят, и сразу — браслетки на лапы. Дома сиди. Болей. Пройдет шухер — и порядок». Он и запер меня. Принес выпивки навалом, закуску. Приказал пить и спать. А вы тут как тут... Он ведь уверял, что у нас все чисто... Почему же вы?.. — Повремените с вопросами, Камалов. Не мы же делаем чистосердечное признание. — Полковник уставил немигающий взгляд в мутные, бегающие глаза преступника. — Где золото?.. Где?!. Быстро! — Золото? — Камалов развел руками. — Нет у меня никакого золота. — Что-то непохоже это на чистосердечное признание, — произнес Икрам. Махмудов переглянулся со своими подчиненными, мол, не вмешивайтесь, без эмоций. — Клянусь жизнью своей! — завопил Камалов и как-то очень сноровисто сполз с пуфика, упав все же на колени. — Чистую правду говорю!.. — Правду девяносто шестой пробы, — не удержался, скаламбурил Васюков, вновь усаживая своего подопечного на пуфик. — Мы с Мансуровым договорились так: мне он платит деньгами, а золото забирает себе. — Сколько обещал денег? — Мы не знали в точности, сколько будет в сейфе золота. Хаким обещал стоимость третьей части. — Почему только третьей части? Так рисковать за треть? Глазки Камалова шустро забегали, заюлили. — Я боюсь его, Хакима. Зверь, а не человек! Разве ж я пошел бы на такое дело?! Сами видите, живу хорошо. Честно говорю, имею свежую копейку. А он меня раскусил, понял, что я трус. Да, я трус! Он знал: сколько предложит — я на все соглашусь. А третья часть — это мало, что ли? Я бы и на меньше согласился... Боюсь я его... — Трусость — дурное свойство человеческое, — возразил полковник, — но оно не врожденное, а... — Не скажите! — темпераментно воскликнул толстяк. — Трусость от рождения. Есть люди, которые петь не умеют или там рисовать... Вот вы... — Камалов, словно родному, протянул Васюкову коротенькие свои ручки. — Могли бы вы, как эти балеринки, по сцене прыгать, разных там принцев изображать? Тут, несмотря на серьезность обстановки, розыскники заулыбались. Рахимов, представив себе Димку в роли умирающего лебедя, даже прыснул в кулак. Лишь Васюков, растерянный, взъерошенный, оскорбленный в лучших чувствах, что ему, капитану-розыскнику, этот забулдыга предлагает принцев плясать, пробасил совсем неостроумно: — Подозреваемый Камалов, без нелепых острот. Я при исполнении. — Что вы! — преступник закатил глазки. — Я совсем не хотел!.. Просто для примера. Махмудов слегка поднял руку, призывая всех к порядку. Обратился к Камалову: — Расскажите подробно, как вы совершили хищение золота. Сколько человек участвовало в преступлении. Главное, подробно, со всеми деталями. — Значит, дело было так... Мансуров каким-то образом узнал, что на завод должно поступить золото. Как-то вечером, перед уходом домой, он зашел ко мне на склад и уговорил сходить в какой-нибудь ресторан. Когда мы изрядно выпили, Мансуров предложил мне вместе с ним взять сейф... Барыш, говорит, поделим честно... Я, конечно, не верил, что это можно сделать, и по пьяному делу дал согласие помочь ему. Знаю же, такие ценности так просто не оставляют, охрана там, сигнализация всякая. Ерунду задумал... «Смотри, если откажешься, я тебя пришью у тебя же дома», — пригрозил мне на следующий день Хаким. Тогда уж я понял, что дело не шутка. А на попятный как пойдешь? — Камалов, облизнув пересохшие губы, продолжил: — Вы не знаете, какой человек Мансуров. И хитрый... На следующий день, после того как золото привезли на завод, он спустился ко мне на склад, в подвал. Поговорили о том о сем, по складу он походил, хоть это и не положено. «Я там незаметно осмотрел, где проходят провода сигнализации, — сказал он мне потом. — Обнаружил, что на задней стене отсутствует сигнализация». И сильно обрадовался, вижу. Но все же решил проверить, так ли это на самом деле. Выждав момент, когда все складские ушли домой, Мансуров спустился в комнату кондиционеров и несколько раз ударил кувалдой по той стене. Сигнализация не сработала. Оказывается, Мансуров раньше был сварщиком, дело знал. Купил где-то редуктор и шланги и, обмотав ими себя под одеждой, в три приема принес ко мне на склад. Затем, в обеденный перерыв, когда сварщики ушли в столовую, мы вдвоем подменили кислородный баллон на пустой и спрятали его в вентиляционной шахте, рядом с подвалом. Принес камеру не то от «Москвича», не то от «Волги», я точно не знаю, знаю, что она была небольшая. Вставил где-то в камеру штуцер с резьбовой пробкой, чтоб загружать карбид и заливать воду. После четырех вечера, когда все ушли, мы спустились в комнату кондиционеров и затаились там. Где-то через полчаса начали большими отвертками ковырять стену, проковыряли отверстие, куда пролазила рука. Потом ломом поддали, как рычагом, это отверстие расширили, так что можно было пролезть. Мансуров быстро соединил шланги, закрепил резак, заправил карбид в камеру, налил воды и начал резать сейф. Разрезал одну обшивку, там оказалась какая-то прослойка, он сбил и выгреб ее и принялся за вторую стенку сейфа, и потом начал вытаскивать пластинки в целлофановых пакетах. Некоторые с одной стороны, где он резал, обгорели, концы оплавились. Мансуров сложил все золото в заранее приготовленную сумку с четырьмя лямками и подвязал ее на себя, а сверху надел пиджак. Баллон с кислородом протер промасленной тряпкой, ею же вытер шланги, порезал их и бросил на калорифер. Остальное — камеру, резак и редуктор — положил в мешок и отдал мне. Приказал: «Лезь наверх, остальное я все сделаю сам...» Камалов ненадолго умолк и облизнул пересохшие губы: — Дайте хоть глоток, ну воды хотя бы. Жадно выпив стакан воды, Камалов опять умолк. Руки его тряслись. Да и всего его била сильная дрожь. — Так, что же было дальше? — нетерпеливо спросил Махмудов. — Я вышел во двор, спрятал свой мешок в углу, осмотрелся по сторонам, никого поблизости не было. Через несколько минут вышел Мансуров, тихо сказал: «Следы заметал: открыл гидрант, так что не боись — концы в воду». Захватив с собой мой мешок, Хаким подался в сторону забора, перелез через него и потопал как ни в чем не бывало. Я пошел к себе на склад,что-то делать пытался, но какая уж тут работа? Руки тряслись, вот как сейчас. Как на склад насилу доплелся, снял тапочки и обул туфли, а тапочки выбросил в урну, когда уходил домой. — Почему вы тоже не ушли через забор? — Мансуров запретил. Ты, говорит, толстяк, будешь прыгать — или ноги или шею обязательно сломаешь, потом возись с тобой. Но я так думаю, — продолжал Камалов, — ему нужно было, чтобы я через проходную прошел. На складе я, наверное, с полведра воды выпил, все не мог прийти в себя. И все равно через проходную шел, помирал со страху. Охранник мне говорит что-то, я головой киваю, а сам об одном думаю: «Скорей бы, скорей бы на волю...» На следующий день на работу пришел и увидел... машины ваши милицейские увидел. Ну, тут со мной началось вообще не знаю что. Через некоторое время ко мне зашел Мансуров и сказал, чтобы я взял себя в руки, не распускался, как сопляк, или он убьет меня. «Лучше прикинься больным и сиди дома, я после смены зайду. Ты меня понял?» — пригрозил он. Еще бы не понял! — Обещал Мансуров зайти к вам домой? — Как же! Сегодня вечером должен. Он так и сказал: «В четверг вечером». Махмудов насмешливо поглядел на протоколировавшего показания Васюкова, затем на Рахимова. — Ну вот, молодые люди, а вы боялись, что без работы останетесь. Махмудов заметно повеселел. — Что ни говори, а на розыскной работе скучать не приходится. Васюков, свяжись со своими ребятами на заводе, пусть возьмут под наблюдение Мансурова. Капитан согласно кивнул. Фарид Абдурахманович закурил. Прикинув что-то в уме, объявил: — Я думаю, нам есть смысл повидаться с Мансуровым. Васюков, быстро к соседке. Чтобы сидела в своем доме и носа не высовывала. Побудь у нее гостем. Да, кстати, у вас случайно не найдется еще одного такого же замка, как тот, что висел на двери, а то ребята, увидев в окно неладное, вынуждены были его сломать, — обратился Махмудов к Камалову. — Сейчас, сейчас, я два таких покупал, — торопливо сказал Камалов, исчезая в соседней комнате. Через минуту он вышел оттуда с замком. — Ишь ты, «покупал», — ухмыльнулся Васюков, глядя на Рахимова. — Разрешите исполнять? — Разрешаю. — Васюков! — крикнул вдогонку Рахимов. — Очень тебя прошу, только без амуров. Громадный друг его, обернувшись, погрозил кулачищем. На двери снова появился замок. В доме опять стало тихо. — Мы же с вами, майор, — продолжал Фарид Абдурахманович, — попросим приюта у гражданина Камалова. Вы как, не против, Эркин Камалович? — Ради бога, ради бога! — скороговоркой ответствовал толстяк. — А мне что делать? — Отдыхать. Только без спиртного, договорились? — Ох, зарежет меня Хаким, зарежет! У него есть такой нож... Кнопку нажмет — лезвие выскакивает, — запричитал Камалов. — А как насчет огнестрельного оружия? — Не видел. Но, может, есть и бимбер. — Бимбер? — улыбнулся полковник. — Я смотрю, вы с жаргоном преступного мира знакомы. Откуда? — Он и научил. Страшный человек! Убьет он меня, а я жить хочу! Жить! — Идите, отдыхайте. Мы же здесь, с вами. Время тянулось томительно. Ночь опустилась на город, в тишине лениво проквакала лягушка. Камалов все же изловчился хватить стакан водки, и на «старые дрожжи» его развезло. Он сразу же похрабрел. Стал даже бормотать, как он «покажет» этому бандиту Мансурову. Скоро он заснул. Спал Камалов неспокойно, время от времени что-то бормотал во сне — видно, вновь явился ему в сновидении прозрачный, парящий в воздухе старшина милиции. Послышались шаги, — кто-то шел по бетонированной дорожке. — Спокойно, — прошептал Махмудов и вынул из подмышечной кобуры пистолет. Из-под спортивной куртки выхватил пистолет и Рахимов. Не было слышно, чтобы кто-то открывал замки на воротах и на входной двери. Неизвестный обошел дом, затем донесся приглушенный басок Васюкова: — Товарищ полковник, отбой. Громадный парень, кряхтя, влез в окно. За ним впрыгнул молоденький лейтенант. — Лейтенант Пименов, из группы капитана Васюкова, — доложил он. — Мансуров работал сегодня во вторую смену. Затем сел в автомашину «Москвич-408» за номером ТША 39-42. Мы поехали за ним. Думали, что он сюда, к Камалову. А Мансуров рванул на большой скорости в сторону Самарканда. Нам было приказано действовать только в черте города. Поэтому мы просто передали Мансурова самаркандским товарищам. Получили сообщение: он там ужинал в ресторане, затем беседовал с администратором гостиницы, договаривался о номере. В ресторане выпил двести граммов коньяку, а с собой захватил две бутылки. — Он не заезжал на бензозаправку? Если он надумает вернуться, ему необходимо заправить машину. Завтра ведь ему на работу. — С будущего понедельника, товарищ полковник, Мансуров в отпуске, — добавил за лейтенанта Васюков. — Завтра, выходит, у него последний рабочий день. Но вряд ли он собирается приходить на завод. Может, отпросился. Самое время сейчас к нему домой с обыском нагрянуть. Махмудов устало опустился в кресло, рядом с проснувшимся и сидящим на ковре Камаловым. — Вздор... Значит, так, — заговорил он, уже обращаясь к хозяину дома. — Вы, надеюсь, понимаете, что теперь от вашего поведения многое зависит... и наша работа, и ваша судьба. Вы, разумеется, сухим из воды не выйдете. Но суд, я полагаю, примет во внимание ваше чистосердечное признание. — О чем вы говорите! — вскричал Камалов. — Я готов, как пионер!.. Всегда готов. Только я боюсь... — Мы же вам обещали. Мансуров вам не причинит вреда. — А этот?.. «Третий»! — «Третий»?! — удивленно переспросил Махмудов. Вытаращили глаза и «братья Аяксы». — Что же вы молчали?! — Я думал, вы поняли. Ведь Мансуров собирался делить золото на три части. Я этого «третьего» боюсь больше Хакима. Мансуров сам боится этого «третьего». — Он участвовал во взломе сейфа, этот «третий»? — Что вы?! Это такой человек!.. Я его никогда не видел. Он все это и придумал, он знал, когда привезут золото, он передал Мансурову план подвала и вообще все расписал по нотам. Мансуров всегда твердил: «Это голова, это гений». Я так понимаю, что это шеф и подсказал мне — через Мансурова, — испуганно пояснил Камалов, — изготовить штуцер на рабочем месте Жорки Петрова... Мансуров обещал мне деньгами выдать третью часть стоимости золота. Но я так думаю, что Мансуров три четверти золота отдаст тому... «третьему»! А нам уж — что останется. А я что?.. Я и за червонец пошел бы, потому как боюсь я Хакима... — И вы даже не догадываетесь, кто этот «третий»? — спросил полковник, нервно почесывая подбородок. Васюков и Рахимов знали, что это было признаком сильного волнения. — Понятия не имею — ни сном ни духом... Мансуров только и говорил: «Наш шеф... Мой шеф...». Последние слова Камалова покоробили Фарида Абдурахмановича. Он знал, что «братья Аяксы» тоже называют его «нашим шефом». Васюков не выдержал, подскочил к толстяку: — Не верю, что ты не знаешь этого третьего! — Тихо, — почти шепотом, но очень ясно произнес Махмудов. — Васюков, успокойтесь. Человек обещал дать чистосердечные показания. Это в его интересах. — Еще как! — зачастил Камалов. — Клянусь, говорю правду. Какой мне смысл теперь-то врать? Я говорю правду, одну лишь правду! Почему вы мне не верите? Я готов помочь вам... Я с самого начала чувствовал, что пропаду с этим Мансуровым. — Камалов, не стыдясь, громко всхлипнул. — Клянусь, я говорю правду... Фарид Абдурахманович тронул за руку Камалова. — Мы вам верим. Сейчас постарайтесь успокоиться и уснуть. Мы сейчас уйдем... — Нет-нет!.. — Камалов суматошно всплеснул пухлыми руками. — Я не останусь один!.. Боюсь!.. Умоляю вас.... — Не бойтесь, — успокоил его Махмудов. — Видите этого грандиозного молодого человека? — он кивнул в сторону Васюкова. — Отныне он ваш телохранитель. До окончания расследования, он — дальний родственник вашей соседки, Максимовны. Он и жить у нее будет. — Полковник улыбнулся Васюкову. — Дима, ты приехал в отпуск. Отдыхай. Надеюсь, договоришься с Максимовной. И глаз не спускай с дома нашего подопечного, искренне раскаявшегося гражданина Камалова. Хозяюшке все объясни толково. Она все поймет. Короче — работай. И никаких серьезных самостоятельных решений. Понял?.. В случае непредвиденных обстоятельств дай знать. Оставляем тебя здесь как человека, не обремененного семьей. Задача ясна? — Так точно, — нехотя отвечал Васюков, явно огорченный тем, что его вроде поставили на второстепенный участок операции. Машина медленно шла по ночным улицам. Навстречу им плыли огоньки свободных такси. Город, празднично иллюминированный, отдыхал в ожидании предстоящего фестиваля. — Хорошо живет на свете... кто? — загадочно улыбаясь, спросил Икрам. Махмудов недоуменно пожал плечами... — ...Винни-Пух!.. — заключил Рахимов. — Еще бы! — кивнул Махмудов. — Чего ему не жить? А вот нам — не очень-то. Чистосердечное признание толстяка прибавило нам забот. Надо искать «третьего». Признайся, вы с Димой наверняка испугались, что операция окончилась столь прозаически. А, оказывается, мы даже не добрались до начала конца. — Ну и что, Фарид Абдурахманович? Все-таки кое-чего достигли, ну хотя бы — конца начала.
VI
Утром полковник Махмудов прибыл с докладом к заместителю министра внутренних дел генералу Ткачеву. Выслушав начальника опергруппы, генерал сказал; — Стало быть, картина прояснилась. Но почему не задержали Мансурова? Человек заявляет о своем соучастии в преступлении с ним, а мы оставляем его на свободе. Мансуров может сбежать — раз, наложить на себя руки — два. Сам погибнуть от ножа соучастника — три! Не много ли риска?! — Никак нет, товарищ генерал. За ним установлено наблюдение. Не хотим раньше времени спугнуть. Вдруг он с этим, «третьим», должен встретиться?.. А то ведь потеряем «третьего». Думаю, арестовать Мансурова — риска не меньше. — Ну хорошо, согласен с вашими доводами. Но Васюкову надо было у Камалова остаться, чтобы сидел в доме, как сурок. Полковник смущенно хмыкнул: действительно, пожалуй, так было бы гораздо лучше. — Рахимова я в Самарканд отправляю, товарищ генерал. — Хорошо. Может быть, там пора брать Мансурова? — Рановато. Нам «третьего», «третьего», самого главного преступника надо накрыть. — У меня, — генерал басовито кашлянул, — у меня тоже ведь начальство имеется. Интересуется, каковы успехи. А что можем выложить? — Пускай высокое начальство потерпит. Не в городки играем. — Тебе хорошо философствовать. А с меня требуют максимальную раскрываемость совершенных преступлений, чтобы злоумышленники знали: наказание неотвратимо... — Прямо как в учебниках уголовного права и криминалистики! — развел руками Махмудов. — Возражаешь? — Что вы, товарищ генерал!.. Я — «за»! И кое-что ведь уже сделано: Камалов раскрылся. Поймаем и остальных... — Камалов, как я понял, патологический трус. Во время очных ставок со своими сообщниками, которых он смертельно страшится, он может и отказаться от данных им показаний. Скорее всего так и будет, учтите это. — Все возможно. И все же основа есть. — Ну, тогда добро, действуйте, Фарид Абдурахманович. Спустя час тот самый молоденький лейтенант, который приходил в дом Камалова сообщить об отъезде Мансурова в Самарканд, прибыл к Махмудову с докладом. — Ну, что скажете хорошенького, лейтенант Пименов? Лейтенант сообщил о новых данных, полученных о прошлом Мансурова, которые не отражены в его личном деле: в прошлом еще и аферист. По предварительному сговору с одним юнцом, родители которого уехали в отпуск, с помощью четырех балбесистых маменькиных сынков, превратившихся в уличных шалопаев, имитировал ограбление квартиры юнца-сообщника. То есть, шалопаи полагали, что взаправду «берут» квартиру, но на самом деле новоявленные «домушники» сами стали жертвами своего главаря. Из квартиры юнца, фамилия которого Фирсов, было изъято много хрусталя, отрезы, импортный магнитофон и другие ценные вещи. Все это отнесли на квартиру Мансурова, затем обмыли «успех». Но через дня два к одному из участников «ограбления» явился «смертельно напуганный» Мансуров и сообщил, что его «замели». «Ну, а в милиции, сам понимаешь, мастера развязывать языки, пришлось мне и тебя с твоими «керями» назвать. Спасибо хоть следователь понятливый попался, сказал: «Не хочется жизнь пацанам портить. Я тебя пока отпущу, Мансуров. Все равно ты от нас никуда не денешься. А не хотите сидеть, так топай к своим соплякам и скажи: пусть предкам своим во всем покаются и приготовят по две «косых» с носа. Уловил? По две тысячи с каждого. С тебя, Мансуров, тоже». И родители поверили этой гнусной клевете на следователя. Кому хочется, чтобы любимое чадо угодило за решетку? Кто побежал в сберкассу за денежками, кто по знакомым — одолжиться. В итоге мошенники получили восемь тысяч рублей, из них Фирсову Мансуров «кинул» только одну тысячу. И еще посмеялся, мол, остальной «приварок» он вручает своему юному «корешу» в виде вещей, которые из его квартиры временно забрали. Махмудов, хмурясь, выслушал сообщение. Вот ведь как! Милиционеры, розыскники ночей не спят, жизнями рискуют. А находятся негодяи... Но главное — родители хороши! Поверить такой грязной клевете! Глаза им, что ли, с перепугу застило? Вернувшись домой, Махмудов прилег на диван, закрыл глаза — он любил иной раз так полежать, подумать, сосредоточиться.Васюков у Максимовны вел себя как добрый родственник. Возился в садике, подправлял покосившийся заборчик, отделяющий домик «родственницы» от владений Камалова. — Парфенова предупредили, чтобы насчет меня не распространялся? — спросил Васюков хозяйку. — Он ведь видел меня, когда был понятым. — Передала твою просьбу, Дима. — Максимовна, одинокая пожилая женщина, сразу как-то привязалась к славному парню. — Игнат Фомич — человек правильный. Ежели бы все такие, как он, были, мы бы давно коммунизм построили. — Тогда всё в порядке, — согласился Васюков. Разговор далее продолжался за чайным столом. — Что же это Камалов в одиночестве живет, а, Максимовна? — Жена померла, детей у них не было. А жена у него хорошая была, терпела от него всякое, а главное — жадный больно. — Давно вдовец? — Давно. Нестарый еще мужик, мог бы семейством обзавестись, ан не желает. — Жену помнит? — Эх, куда хватил! От жадности не женится. И о чем думает, дуролом?.. Дом — загляденье, вещей всяких пропасть. Неужто полагает с собой в могилу все унесть? — Ну, до могилы ему еще далеко. — Приходила тут к нему одна, Валей зовут. Только это не его, а Хакима подружка. И чего она такого нашла в Мансурове, вот уж я в толк никак не возьму. — Зачем же она сюда приходила? — Да вроде как в гости. Симпатичная девушка, только больно накрашена, и наряды глаза режут. — Модница? — Модницы они разные бывают. Я ей сказала: и чего ты с этим, своим валандаешься?.. А она меня как шуганет. А потом села на крыльцо и давай реветь. Вот такая любовь. После чая Васюков сказал: — Я, Максимовна, чуток вздремну, а вы присматривайте за соседским домом. Если кто появится — будите. Мне еще ночью дежурить. — Понятное дело, — ответила женщина. — Ты спи, не сомневайся. У меня самой сын в Брянске, в ГАИ работает. Так, что я, считай, свой человек-то. Смеркалось, когда Максимовна разбудила «родственника». — Пришел кто-то. Васюков вскочил и, осторожно выбравшись на веранду, увидел идущего по дорожке человека, которого сразу узнал — это был отставной «медвежатник» Савельев! Теперь понятно, почему «гость» прошел через калитку. Он отомкнул ее отмычкой. Недолго он возился и с замком на парадной двери. Вошел — и тут же из дома Камалова донесся дикий вопль. Капитан, перескочив через забор, бросился на помощь. Ворвался с пистолетом в руке. — Руки вверх!.. Лицом к стене. Руки на затылок. Бывший «медвежатник» исподлобья поглядел на Васюкова, набычился, однако приказание выполнил. Камалов, дико тараща глаза, вспотевший от пережитого страха, лепетал: — Я так и думал... Догадывался!.. Вот он — третий, самый главный! Наверно, пришел за золотом. А где я его возьму? Выходит, Мансуров золото прикарманил. Как хорошо, что вы вовремя пришли на помощь!.. Если бы у меня было это золото, он меня тут же пришил бы! — Балда! — подал голос Савельев. — Что еще интересного скажете? — спросил задержанного Васюков, чрезвычайно довольный собой. Вот ведь как получилось! Самого взял! — Орясина! — коротко ответствовал Савельев. — Что? — не понял Васюков. — Орясина ты, говорю. «Поймал злодея!..» Звони своему начальнику. С тобой я и разговаривать не желаю. Вызванная Васюковым по телефону милицейская машина вскоре доставила Савельева в кабинет Махмудова. Полковник и задержанный молча разглядывали друг друга. Угрюмое лицо бывшего «медвежатника», изрезанное морщинами, хранило на себе следы бурно прожитых лет. В прищуренных глазах — ирония. Молчание нарушил задержанный: — Значит, все-таки взялись за Савельева? — А зачем вы пожаловали к Камалову, да еще с отмычками? — За золотом пришел. — Что? — полковник даже растерялся. Неужели тоже чистосердечное признание? — Как вы сказали? — Да вы не радуйтесь до времени. Просто я умом достиг, что Камалов с Мансуровым сейф с золотишком пощупали. Вот и решил: подержу Камалова за яблочко, он и расколется. Помочь хотел розыску, вам то есть. — Что же вы сразу нам не сказали про Камалова и Мансурова? Приходили ведь к нам, не так ли? — Приходил. Но тогда я еще не все постиг. Да и прошлое не позволяет — доносить. Хотел тихо-мирно все провернуть. — Как же вы догадались, кто преступники? — А так... Мансуров этот меня сперва обхаживал, давай, мол, кореш, тряхни стариной. Дело жирное наклевывается. Все вроде бы в шуточку, а сам с меня диких своих глаз не спускает. Что, дескать, ты на заводе припухаешь? Подумаешь — на Доске почета твоя фотография!.. Я его, конечно, послал к родительнице. И еще сказал: уматывай, пока цел!.. А когда заварушка вся эта приключилась, стал я прикидывать, вычислять. Мансуров что-то к Камалову последнее время стал заглядывать. Эркин-то в прошлом электросварщиком вкалывал. Не всегда он на складе прохлаждался. Нашли они с Мансуровым общий язык... А тут гляжу: одни враз заболел, другой в отпуск с низкого старта рванул... Махмудов нервно расхаживал по кабинету. — Вы уж извините нас, Степан Семеныч, — говорил полковник. — Накладка получилась. Но и нас понять должны. Мы ждем у Камалова человека, который является главарем, и вдруг приходите вы, да еще с отмычками. Кстати, к чему вы их храните, зачем? — В хозяйстве годятся. Какой сосед дверь захлопнул, а ключ забыл — меня просят. И вообще... На память о молодости моей беспутной. Что же теперь-то, а? Где же золото? — Ищем. — Понятно. А на задержание я не обижаюсь. Так уж вышло. Да мне и не в новинку это. — Савельев нахмурился и вдруг произнес доверительно: — Понимаете, товарищ Махмудов, сколько лет моей жизни — как в песок! У других моих сверстников уже внуки. А я... Как в песок. Когда молодой был, глупый, полагал: слава у меня, деньги! Да еще азарт был... Кто кого перехитрит. И получалось, что какой я не мастер был сейфы щупать, а все же отвечать за это пришлось. Повидал я небо в клеточку!.. Поздно понял. Одно утешает: лучше поздно, чем никогда. Фарид Абдурахманович вышел с Савельевым на улицу. — Я на завод, а вас на дежурной машине до дому подброшу, Степан Семеныч. — Ежели на «канарейке» с синей полоской, то лучше я пешком. Подумают соседи, что опять Савельев с милицией не поладил. — Обыкновенная «Волга». — Тогда благодарствую.
VII
Часа через два Махмудов собрался домой. Он решил пройтись пешком. Захотелось размяться, поразмышлять в одиночестве. Проходя через парк, увидел пустующую скамейку. Сел, любуясь фонтаном, на струе которого почти чудом крутился и подпрыгивал мячик. «Ситуация не так уж сложна, — размышлял он. — Мансуров взят под строгий контроль. Никуда он не денется. Выждем, когда он все же встретится с главарем — и дело в шляпе! Васюков по-прежнему у своей дальней «родственницы» поджидает гостя. Рахимов вцепился мертвой хваткой в Мансурова. Вопрос времени, не более». Он поднялся со скамейки и зашагал домой. Жена ждала его. Сыновей не было — младший у соседа, старший — в институте. Халима ласково взъерошила волосы усталого мужа. — Ну и муженька аллах послал! Домой является только спать, и то не всегда. Небось и не ел еще. Садись, — сразу же обедай, завтракай и ужинай. — А что Хамид в институте делает? Сейчас же каникулы. — Какой-то вечер готовят, посвященный предстоящему кинофестивалю. — Вечер, — заворчал Махмудов, — чего, спрашивается, в стройотряд не поехал, здоровый парень... — Ты еще скажи: «Я в его возрасте!..» — улыбнулась жена. — А ты еще скажи: «Мой сын устал, перезанимался, у него нервы!..». — Ему, Фаридджан, очень хочется побывать на кинофестивале. — Ладно уж, как-нибудь стану посвободней, доберусь до него. Не годится это, когда все делом заняты, по городу болтаться. Кстати, недавно Сабиров, ну тот, кто занимается с подростками, видел Хамида в компании подростков, лет шестнадцати, очень беспокойных мальцов. — Хамид сам мне говорил о них. Хочет в боксерскую секцию залучить, все делом станут заниматься, а не безобразничать. — Хм... — Фарид Абдурахманович улыбнулся. — Скажи, пожалуйста! Воспитатель. Это какие же подростки? — А помнишь, мы на старой квартире жили? — А-а... Махмудов вспомнил старый двор. Уютный, тихий. Но трудных подростков там хватало. Значит, Хамид по собственной инициативе ведет работу? Кто бы мог подумать!.. А может, призвание? Все может быть. Учится на юридическом. А вдруг — смена растет? Они только недавно переехали сюда, в большой новый дом. Махмудов новое свое жилище не жаловал. Хоть и просторно, и все удобства. Но там, на старой квартире, прошла лучшая часть жизни. Молодая! Даже о мангалке он вспоминал с умилением. «Старею!» — решил он. Халима только недавно перестала удивляться, что Махмудов мало с кем из соседей здоровается. «Ты что, не соображаешь? — шутливо ворчал он. — Я же с ними на работе восемь раз раскланивался». — «Но все равно нужно говорить «добрый вечер». — «Ну да, человеку, с которым только что приехал со службы на одной машине...» Выпив чаю, перекусив, Фарид Абдурахманович вышел на балкон, наслаждаясь прохладой. Из комнаты послышался телефонный звонок. Халима сняла трубку и, волоча за собой длинный шнур, появилась на балконе. — По Махмудову соскучились. — Товарищ полковник, — докладывал дежурный. — Рахимов передал телефонограмму из Самарканда. Вам лично... Читаю: «На дороге Самарканд — Бухара в автомобильной катастрофе погиб Мансуров. Случайное столкновение с бульдозером, стоявшим на обочине. Мансуров скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание». Дежурный умолк. — Всё? — спросил Махмудов глухим голосом. — Всё. Но передавал не сам майор — через дежурного. — Спасибо. — Он положил трубку и стал медленно мерять балкон шагами. — Дела, — произнес он вслух. Снова зазвонил телефон. Теперь уже длинными протяжными звонками. На проводе был Самарканд. — Здравия желаю, товарищ, полковник! Рахимов говорит. — Спасибо тебе за «добрые» вести, Рахимов, — сердито ответствовал Махмудов. — Еще чем-нибудь порадуешь?.. Как же это ты опростоволосился? Для этого тебя я в Самарканд посылал, чтобы ты сомнительные реляции передавал по телефону? — Товарищ полковник! — взволнованно докладывал Рахимов. — Ну кто мог подумать?.. Мансурова мы взяли под наблюдение. Никуда бы не ушел. Каждый его шаг был нам известен. И вот... Произошло вот что... Мансуров позвонил некоему Собетову, пригласил в гостиницу. Тот приехал. Оба пошли в ресторан. Сели обедать. Почти не разговаривали. И пили мало. После обеда распрощались. Я подумал: а вдруг Собетов заполучил золото где-нибудь по дороге в ресторан?.. Все может быть. А вдруг злоумышленники просто отметили в ресторане счастливое окончание «золотой аферы»? Нашли предлог остановить машину Собетова. Задержали. Собетов перепугался. Но ничего не мог сообщить нам из того, что нас интересовало. — Почему Собетов приехал к Мансурову? — Говорит, что Мансуров предлагал купить золото. Обещал привезти очень много золота. И просил: если все купить Собетову не под силу, пусть рекомендует других надежных покупателей. Собетов утверждает, что он отказался и от золота, и от посредничества. Но, по-моему, врет. Личность темная: зубной техник, неоднократно имевший неприятности по «золотой части». — Так... А гибель Мансурова?... Не могли ему заинтересованные лица помочь отправиться на тот свет? — Исключается. Трагическая случайность. Из ресторана Мансуров вернулся в свой номер. Поговорил с дежурной по этажу. Затем спустился этажом ниже, в буфет, за чаем. Туг я, честно признаться, чуточку утратил бдительность. Подумал: коли чаевничает, то можно и мне малость расслабиться. Отправился на тот же этаж, спросил зеленого. А в это время, оказывается, — надо же такому случиться! — Мансуров быстренько вышел, сел в своего «Москвича» и помчался по шоссе!.. Пока мои ребята оповестили меня, время прошло. Кинулись в погоню. Уже совсем было догнали... Он, надо полагать, понял, что за ним не праздные туристы катят, прибавил еще скорости... На вираже не справился с управлением и врезался в бульдозер, стоящий у обочины... Скончался, как уже вам докладывали, не приходя в сознание. В машине его ничего интересного нами не обнаружено. В костюме погибшего нашли сто сорок шесть рублей деньгами, расческу и импортный нож с автоматически выскакивающим лезвием. Экспертиза установила, что Мансуров находился в состоянии легкого опьянения. — Скажи-ка, а мог Мансуров до погони заподозрить, что за ним ведется наблюдение? Икрам до того разволновался, что Махмудову его даже жалко стало. — Исключено, товарищ полковник. Он же за чаем ходил. Значит, хотелось ему спокойно посидеть. — А может, он нарочно так поступил, чтобы тебя ввести в заблуждение. Ты ведь тоже решил почаевничать. А он тем временем... А когда он заметил погоню, то и вовсе уверился. Газанул — и ушел от нас, раз и навсегда. Рахимов молчал. Затем, вздохнув, согласился: — Может быть, вы и правы, Фарид Абдурахманович. Все, казалось бы, предусмотрел. Однако, видимо, чем-то раскрыл себя. Надо было его раньше задержать. Ведь так и не дождались «третьего», главного преступника. — Да нет. Это мало что дало бы нам. Ладно, приедешь, напишешь объяснительную на имя Ткачева. Что теперь делать, не переживай, — сказал Махмудов, хотя сам испытывал при этом чувство величайшего разочарования. — Кстати, этот вот Собетов. Где он был, когда произошло ограбление сейфа? — Алиби у него железное. Отдыхал в Международном доме отдыха журналистов в Варне. — Он что, не только зубной техник, но еще и журналист? — Зубному технику, товарищ полковник, всюду дороги открыты и двери нараспашку — в Варну, в писательские дома творчества. И это до тех пор, пока у людей будут выпадать зубы, которые необходимо заменить протезами. Блат — короче говоря. — Увы! — вздохнул полковник. — Понятно. Возвращайся, парень. Махмудов положил трубку на рычаг, задумался. «Да-а... Ситуация!.. Собетов, похоже, говорит правду. Он ведь не знает, что Мансуров погиб. А говорит, что тот предлагал ему золото... А что толку от этой его правды? Один лишь Мансуров мог открыть все. Неужели навсегда исчез главарь?.. Ну, уж это чёрта с два!»Мечта Махмудова — хоть немного отоспаться — так и не сбылась. На заре к нему домой прибежал прибывший из Самарканда Рахимов. — Ну, — вздохнул Фарид Абдурахманович, — что еще новенького? — Товарищ полковник, Васюков, как известно, все еще пребывает в качестве «дальнего родственника». И вот час назад вдруг — стук в окно. Прибежал Камалов. Бледный, губы трясутся, сам не свой. Лепечет: «Только что звонили по телефону. Кто-то измененным, неестественным голосом произнес: «Принеси товар в условное место завтра в половине седьмого вечера». Камалов убежден, что говорил тот самый, «третий», или кто-то из его приспешников, по его поручению. — А что Камалов? — Он так перепугался, что брякнул, вроде никакой он не Камалов, что звонят не по адресу. Махмудов, на ходу сбрасывая халат, отправился в спальню. Вскоре вернулся при полном параде, в штатском. — Чаю, Икрамджан? — Не отказался бы. Только нам скорее идти надо. Мало ли что может произойти? — Думаешь все же, что Камалов прячет золото?.. Почти уверен, нет у него ничего. А вот как по-твоему, майор, почему именно к Камалову обратился Мансуров? Камалов ведь трус. — У Камалова на складе можно было спрятать шланги, резак, инструменты. И еще он стяжатель. Вот сколько добра накопил. Зачем только — непонятно. — Правильно говоришь. Трусость и жадность и погубили его. И еще, как выяснилось, Камалов тоже когда-то был сварщиком. Так что умение его было здесь нелишним. А ведь все на Мансурова валил — он-де сейф резал один. Да, звонок этот очень важен, можно только порадоваться: ведь если Камалову звонил «третий», значит, у него тоже золота нет. Так что надежда разыскать похищенное не утрачена. Если бы этот таинственный «третий» заполучил золото, зачем бы ему звонить, а? — Интересно, знает ли этот таинственный «третий» о гибели Мансурова? — Вряд ли. Но то, что у главаря грабителей золота нет, — совершенно очевидно. — Я согласен с вами, иначе и вправду зачем ему звонить Камалову?.. — «Третий», как мы теперь его называем, видно, персона незаурядная, так сказать, преступный интеллектуал. Он не входил в контакт с Камаловым. И еще неизвестно, сам ли он звонил... Впрочем, звонил, пожалуй, сам, изменив голос. Ему невыгодно иметь лишнего свидетеля или соучастника. Несомненно, хитрый, осторожный субъект. Халима молча принесла чай. — Давай, майор, по-быстрому — и по коням... — полковник разлил ароматный напиток по пиалам и закончил: — Не исключено, что Камалов водит нас за нос. Эту версию тоже надо иметь в виду.
...Васюков осторожно снял телефонную трубку, протянул Камалову. Сам же приложил к уху подключенный к проводу наушник. — Ну вот что, Камалов, — произнес неизвестный каким-то фальшивым, как у провинциальных трагиков, голосом, — ты тюльку не маринуй. Выкладывай товар, иначе ох как нехорошо тебе будет! — Какой товар?.. Кто вы? — пролепетал Камалов, задыхаясь. — Завтра же, слышишь? На площади Навои, ровно в три часа дня. — Я не понимаю, о чем вы? — ответил Камалов, тараща глаза на Васюкова. Дмитрий закивал: мол, соглашайся на встречу. — Смотри, кореш, пожалеешь. — Я!.. Если вы так... У меня ничего нет... — Есть! — Но как же я вас узнаю? — Это другой разговор. Я тебя знаю. До завтра. И горе тебе, если стукнешь, спасая свою шкуру! — Что вы! Да разве я... — Все! Завтра в три. Неизвестный повесил трубку, а Камалов, оцепенев, все еще держал свою около уха, уставив на Васюкова невидящие глаза, в которых плавал ужас. Дмитрий осторожно взял у него трубку, положил на рычаги. Сказал, успокаивающе похлопав по плечу: — Ты, мужик, того... не кисни. Полковник решит, идти тебе или оставаться дома. А если все же придется тебе явиться на свиданье, не бойся, надежно прикроем. Наша фирма работает с гарантией. — Пырнет финкой — вот и вся гарантия, — плаксиво промямлил Камалов. — А ты к нему вплотную не подходи. Шажка на два дистанцию держи. Остальное наше дело. Но сейчас тебе самый раз крепко подумать. Может, ты все же нам очки втираешь, а? Как насчет золотишка? Дома у тебя его, наверняка, нет. Может, ты его в другом местечке припрятал. Клад, скажем, зарыл, как средневековый пират? — Да что вы ко мне прицепились с этим золотом! — в сердцах возопил толстяк. — Ох!.. И зачем я только ввязался в это дело?!. Проклятый Хаким! Видал бы я его в гробу и в белых тапочках!.. «Похоже, что Камалов не врет, — решил капитан. — А может, актерствует? При таком страхе! Исключено. О гибели Мансурова он не подозревает. Все время ведь под моим контролем». — Пристали ко мне с этим проклятым золотом! — запричитал подопечный Васюкова. — Шантаж какой-то. Один грозит. Другие угрожают. Я прокурору пожалуюсь! Не имеете права. Вас приставили ко мне охранять, а не золото выманивать, которого у меня нет. Да! Нет ничего — и все. Сколько раз говорить! — Никто тебя не шантажирует, Камалов. Разве что тот неизвестный. И, пожалуйста, без истерик. Васюков как-то свыкся со своим подопечным, даже стал, незаметно для самого себя, иногда говорить Камалову «ты». Эркин Камалович вдруг сник, понурился. Уставив пустые глаза в ковер, сказал тихо, проникновенно: — Я в самом деле не знаю, где золото. Не вру я. Мансуров золото унес. Ушел — и пропал. Смылся гад, а меня под финку подставил! Мансурова поймайте, что вы в меня вцепились? — С Мансурова теперь взятки гладки, — сорвалось вдруг у Дмитрия с языка. Он тут же умолк, проклиная свою оплошность. Но Камалову и этой коротенькой реплики было достаточно. У него отвисла нижняя челюсть, полное лицо позеленело. Похватав ртом воздух, он вскричал: — Его убили!.. Убили! Чтобы замести следы. Теперь до меня добираются!.. Послушайте!... Я требую... Меня надо немедленно арестовать. В одиночную камеру меня! Слышали, как он со мной говорил?! Он знает, что нет у меня никакого золота. Он хочет, чтобы я пришел, и тогда меня... Немедленно позвоните полковнику, слышите!.. Я требую... В одиночную камеру, за решетку. Под надежную охрану!.. Васюкову и жалко было раскаявшегося преступника, и противно было смотреть на него — потерявшего голову от страха, зареванного. — Ладно, мужик. Не психуй. Все образуется. Ты его боишься, а он нас еще пуще страшится. Понял? Не дадим тебя в обиду. И материалы в суд направим нормальные, мол, искренне раскаялся гражданин Камалов, изо всех сил старался помочь следствию. Суд это все, надо полагать, примет во внимание. Глядишь, и скидка тебе выйдет.
VIII
— Кончайте курить, братья Аяксы, — сказал Махмудов и приоткрыл боковое стекло «Волги». Васюков поспешно загасил сигарету и сунул в пепельницу. Рахимов же произнес строптиво: — Не могу, товарищ полковник. — Это еще почему? — Фарид Абдурахманович обернулся с переднего сиденья: не понравился ему вызывающий тон майора. — А я ведь вообще не курю, запамятовали, Фарид Абдурахманович? Это вы с Васюковым надымили. Полковник рассмеялся. В этот момент динамик рации щелкнул и голос, каким обычно говорят вокзальные дикторы, произнес: — Седьмой, седьмой, я пятый. Манок вышел из трамвая, направился к площади. Следуем за манком... Остановился у киоска... Купил сигареты... Следует дальше... Сейчас выйдет на площадь. Вы его видите? — Видим, — ответил Махмудов, — продолжайте наблюдение. Камалов двигался к памятнику великого поэта, словно приговоренный на эшафот. Ноги его заплетались. Остановился. Попытался закурить, но никак не мог зажечь спичку. Он все время озирался, видно, опасаясь внезапного нападения. Возле памятника он все же закурил, зябко подергивая плечами. — Дрейфит мужичок, — произнес Васюков со смешком. — Сколько раз ему втолковывал: не бойся, обережем... А все без толку. Как все-таки странно устроен человек: взломать сейф и уволочь пуд золота не устрашился, а прогуляться по свежему воздуху под нашим прикрытием... — Ты бы помалкивал, капитан, — промолвил Махмудов. — Твоя работа. Кто тебя просил проболтаться про Мансурова? Теперь он и в автокатастрофу не верит. Издали донесся бой городских курантов. Три часа. Камалов нервно потер ладони, обошел вокруг памятника, отер платком лицо. Вид у него был жалкий. Вдруг к «манку» подошел человек. Сзади подошел. Камалов вздрогнул, попятился. Но тут же остановился. Протянул пачку сигарет. Человек закивал, взял сигарету, прикурил и пошел себе своей дорогой. — Ну и ну! — не выдержал Васюков. — Эдак и инфаркт схлопотать недолго. — Седьмой, седьмой. Я пятый. Ждем распоряжений. Уже пятнадцать тридцать. — Ничего не предпринимать. Оставайтесь на месте. Камалов вновь стал кружить вокруг памятника. Через час Махмудов распорядился: — Поехали. Делать здесь больше нечего. Никто не придет. — Надо было все же дать ему в руки чемоданчик, — произнес Васюков, сокрушенно вздыхая. — Ясное дело — не подошел тот, «третий». Увидел, что Камалов без товара, — и решил не рисковать. Машина пересекла площадь — это был условный знак Камалову и второй машине. «Манок», приободрившись, зашагал восвояси. — Мне — за ним? — спросил Васюков. — Ох, и надоело мне в гувернерах! Только что сопли не утираю ему. Рахимов засмеялся. — Ишь ты, в гувернеры норовит!... Ты у него вроде как в денщиках состоишь. Махмудов велел водителю остановиться у арыка. — Посидим на природе, Аяксы? Все трое присели на скамеечку возле арыка, в котором весело плескалась шумливая детвора. Махмудов успокоил Васюкова: — За своего «воспитанника» не бойся. Вторая машина его сопровождает. До твоего прихода наблюдение за ним ведет лейтенант Пименов. А мы сейчас вот о чем потолкуем: как no-вашему, почему не явился таинственный «третий»? Капитан и майор стали высказывать различные предположения. Полковник рассеянно слушал друзей. Затем, широко улыбнувшись, решительно заявил: — «Третий» не должен был прийти. — Почему? — хором воскликнули «Аяксы». — Потому что второй звонок Камалову организовал я. — Как?.. Зачем? — поразились друзья. — Окончательная проверка Камалова на искренность. Видели, как он изнемогал от страха?.. Если бы он укрывал золото, то наверняка прихватил бы с собой хоть часть похищенного, чтобы задобрить грозного главаря. Я специально приказал тебе, Васюков, временно покинуть дом своего подопечного, чтобы он свободно себя чувствовал. — Если Камалов и скрывает «товар», то не у себя дома. — Правильно. Но, дорогой мой майор, необходимо учитывать характер преступника. Он бы не выдержал, выложил бы свой клад. — Понятное дело! — воскликнул Васюков. — Трус он. — И еще я устроил это неудавшееся свидание в качестве репетиции. Не исключено, что и «неизвестный» позвонит и потребует встречи. Надо было проверить, выдержит ли Камалов. И надо сказать, в общем он справился с заданием. И даже тягу не дал, когда к нему неожиданно подошел курильщик-«стрелок». Теперь Камалов психологически подготовлен, убедился, что не так страшен черт, как его малюют. — Ловко! — воскликнул Васюков. — Действительно, с таким субъектом надо репетировать подобного рода свидания. — Что ни говорите, а Камалов все же ничего мужичишка, хотя и натворил безобразий, — заметил Рахимов. — Искренне раскаивается в содеянном и изо всех сил желает помочь следствию. Я даже удивился, когда он после долгих колебаний дал согласие отправиться на это свидание. Васюков спросил со вздохом: — Фарид Абдурахманович, мне что, опять в няньки? — Нет, дорогой. Скажи своему подопечному, чтобы выходил на работу. Пусть тот, «третий», переведет дух. Он, конечно же, узнает, что исполнитель его злой воли «выздоровел» и спокойно приступил к своим служебным обязанностям. Возможно, главарь и навестит Камалова на складе. А мы будем держать подопечного под неусыпным, но скрытым наблюдением. Людей для этого у вас, братья Аяксы, достаточно. Поехали на службу... В кабинете Рахимов молча разложил перед Махмудовым множество фотографий. — Похороны, — коротко доложил майор. Фарид Абдурахманович надел очки — у него была небольшая дальнозоркость. Очки он надевал лишь тогда, когда знакомился с документами. А на расстоянии видел прекрасно и стрелял из пистолета по-снайперски. Икрам не раз восхищался стрельбой шефа в тире. Даже немного завидовал. Успокаивал себя лишь тем, что зато он, Икрам, мастер спорта по самбо. — Маловато народу на похоронах, — констатировал полковник. — И скорбных лиц не густо. — У Мансурова на заводе друзей не было. Всего три месяца работал. Из родственников лишь брат. — Разве он прилетел? Он вроде бы отказывался, говорил, что ничего общего с Хакимом Мансуровым не имеет. — Было такое, товарищ полковник. Но мы его все же по телефону уговорили приехать. Все-таки похороны. А на похоронах, Фарид Абдурахманович, много народу бывает в двух случаях: когда из жизни уходит очень хороший человек, и тогда все скорбят, либо когда негодяя отпетого хоронят — каждому хочется лично убедиться, что действительно стало еще одним прохвостом меньше. — Любопытная теорийка... Хм... Кто эти люди? — Несколько представителей от цехов. Профсоюз отрядил для совершения обряда. А вот эти... Раз, два, три... Покойный с ними через бутылку общался. Народец хилый, пьяный, никто из них, полагаю, не может быть тем таинственным «третьим». — Как сказать. Внешность обманчива. А это что за девушка? — Думается, она случайно попала в кадр. Она возле другой могилы стояла. Потом подошла. Посмотрела и сразу удалилась. — К какой могиле она подходила? — Запущенная могила, без надгробия, без надписи. Но мы, если надо, выясним. — Надо выяснить. А это кто? — Брат Мансурова. Сразу с кладбища отправился в аэропорт. От вещей, оставшихся после брата, отказался. «Я, — сказал, — и так сыт его наследством, тяжкими воспоминаниями». Рабочий человек. Мастер. Награжден. Вот вам, Фарид Абдурахманович, и факт: в одной семье росли! — Больше никого не было на похоронах? — Никого. Полковник задумался. «Девушка?.. А может, и в самом деле случайно попала в кадр? Увидела похороны, захотелось взглянуть. И все же... Разыскать бы ее. На всякий случай... Как утопающий за соломинку, цепляюсь за эту девицу».
Фарид Абдурахманович вспомнил, как его, когда он еще майором был, поносил один матерый уголовник-интеллектуал по кличке «Романтик». Он говорил с усмешечкой: «Я, гражданин начальник, — поэт, а ты бухгалтер. Над тобой всю жизнь цифирь висит. По каждому делу тебе перед своим начальством отчет надо держать. А я вольная птица. Рискуешь ты своей жизнью не добровольно, как я, а за зарплату. На рожон лезешь, чтобы кривую раскрываемости взметнуть вверх. А я по своей воле все творю. Сам себе хозяин. И орден ты получил только потому, что наш брат, уголовничек, тебе подсобил. Эх, жаль, промахнулся я. Повезло тебе, майор». Наглый тип. Он, Махмудов, тогда не выдержал, в дискуссию с ним вступил. Сказал: «Всякий преступник не вольный человек, а раб. Злая воля не может быть свободной волей. И вообще, преступник — это плохой счетчик, поскольку не может подсчитатьвсе невыгоды конфликта с уголовным кодексом». — «Я поэт свободы!»— гордо возразил интеллектуал-«Романтик». — «А чемодан с награбленным женским бельем — это для музы, да?.. А кастет, которым проломил голову ночному прохожему — предмет вдохновения?! — Не удержался, добавил: — Поганец ты!» Размышления полковника прервал Васюков. Лицо его сияло. И он действительно на этот раз отличился. Оказывается, он быстренько съездил к Максимовне и предъявил ей фотографию, на которой была девушка. И Максимовна тут же опознала в ней ту самую Валю, подружку Мансурова, которая иногда заходила вместе с ним к Камалову. Фрагмент фотоснимка с изображением девушки был немедленно увеличен, размножен и передан во все службы. ...Вновь все трое собрались в кабинете заместителя главного инженера. — Все же я склоняюсь к тому, — говорил Махмудов своим молодым помощникам, — что третьего надо искать на заводе. Ведь он должен быть знаком с планом завода, расположением сейфа в подвале цеха, узнать о времени доставки золота. Рахимов возражал: — Все это он мог узнать у того же Мансурова. Что тут сложного? Вот цех, а в подвале цеха сейф, а тут гидрант и так далее. — Тоже довод. Давайте поспорим. В спорах рождается истина... Однако ни Мансуров, ни Камалов не имели легального доступа в четвертый цех. Вход в него имеют сотрудники, у которых пропуска... Ну же... Думайте, ребятки. Что помалкиваешь, Васюков, или заважничал, обнаружив некую Валентину? — Значит, кто-то из цеха навел, — тут же отозвался Дмитрий. — Не обязательно. Большинство работников заводоуправления имеют допуск во все цеха. А нам надо обнаружить одного... — Или одну, — вставил Рахимов и добавил: — А что, если Валентина?.. Главарь! Тонкий, умный «третий». Полковник улыбнулся. Он понял, что Икрам подначивает друга. — Валентину нам найти надо обязательно. С ее помощью мы наверняка кое-что выясним. — Найдем Валентину, — уверенно заявил Васюков, который, видимо, уже считал безвестную Валентину своей собственностью. — Не иголка в стоге сена.
IX
Перед Махмудовым стоял стройный брюнет лет тридцати с небольшим, в легком, стального цвета, костюме. «Пижон и чистюля, — подумал о нем Фарид Абдурахманович. — Из кармашка пиджака кокетливо выглядывает платочек. Стиляжные темные очки, импортные. Тонюсенькая «водолазка»... Вот, оказывается, какие они — московские пинкертоны». — Ну, как там Москва, на месте? — пошутил Махмудов. — Молодеет и хорошеет. — Молодой человек тут же перешел к делу. — Прибыл на практику. Меня генерал Ткачев к вам направил. Очень хотелось бы подключиться. — Генерал уведомил меня. Вы в академии учитесь? — Да. После окончания юридического факультета работал в Алма-Ате. И вот теперь учусь снова. Да, извините, как-то по-штатскому все получилось. Только хотел доложить, а вы о Москве спросили. Майор Ибрагимов, Шухрат Ибрагимович. Прибыл, товарищ полковник, в ваше распоряжение. — Полковник Махмудов. Фарид Абдурахманович. Прошу любить и жаловать, — улыбнулся руководитель розыскной группы. — Что же это вы, дорогой, родную республику покинули, а? — По приказу вышестоящего начальства. — Это я так, в шутку. А занятие мы вам, пожалуй, подыщем. И довольно интересное. У вас как с нервами, не шалят? — Пока не жалуюсь. — И прекрасно, прекрасно, Шухрат Ибрагимович. Пока отдыхайте. Я вас вызову. В кабинет вошел директор завода. — Я к вам, Фарид Абдурахманович. «Московский узбек», как мысленно прозвал Махмудов приезжего, откланялся. — Так и не уехали с докладом в московское министерство? — притворно вздохнул полковник. — Милости прошу, садитесь. Юсупов с сердитым видом опустился в кресло. Пробурчал: — А что докладывать? Как меня обворовали? — Не вас, не вас, Акрам Каюмович. Обокрали государство. Так что же привело вас ко мне? — Вместо себя я отправил главного инженера Насырова. — Излюбленный прием чутких руководителей, — улыбнулся Махмудов. — Об успехах и свершениях сам директор в Москву летит докладывать, а за всякие там чепе — другим приходится отдуваться... Ну, ну, не сердитесь. Уж и пошутить нельзя. — Мне сейчас, полковник, не до состязаний в остроумии. Насыров звонил: Москва не планирует перенос сроков выпуска нового изделия. Там верят, что преступники будут обнаружены, а похищенное золото найдено. До начала изготовления... — Сочувствую вам, Акрам Каюмович. — Я к вам не за сочувствием пришел. Ну хорошо, — Юсупов рубанул рукой воображаемого преступника, едва не свалив с приставного столика графин с водой. — Я понимаю: вы не волшебники. Стараетесь, да ничего пока не обнаружили. — Как сказать, — загадочно произнес Махмудов. — По крайней мере я ничего не знаю. — Тайна следствия. — Меня сроки поджимают, понимаете?.. Сро-ки! — повысил голос директор завода. — Давайте, черт возьми, сообща действовать. Нужна повальная проверка личных дел?.. Пожалуйста! Провести в цехах рабочие собрания!.. Пускай люди выскажут свои подозрения... Мне, полковник, золото это как воздух нужно! Труд сотен людей прахом... Да что там... Махмудов нахмурился. Он понимал состояние директора завода, однако не мог одобрить его «левацких» замыслов. — Потерпите еще, товарищ Юсупов. Мы работаем. Десятки наших сотрудников заняты поисками. Но насчет повальной проверки личных дел, разоблачения «ведьм» на рабочих собраниях... Извините, но этого я от вас не ожидал. Если сделать так, как вы предлагаете... В коллективе воцарится всеобщая подозрительность, а к чему такое приводит — мы уже знаем. Нет, не годится травмировать весь коллектив. Рабочие нам и так здорово помогают. — А мне нужно золото! — Вы в лучшем положении, Акрам Каюмович. Мне нужны и золото, и преступники. В данном случае — преступник. — Неужели один сработал? — ахнул Юсупов. — К сожалению, ввести вас в курс дел не имею права. Обратитесь к моему руководству. Если оно сочтет нужным, информирует. Могу лишь утешить вас, если это можно назвать утешением, — не один сработал. — Значит, остальных уже задержали? — обрадовался директор. Полковник развел руками: — Потерпите, дорогой товарищ. Я не меньше вашего переживаю. Вам только золото надобно, повторяю, а мне еще и уголовники. Главный преступник необходим. Обезвредить его во что бы то ни стало — моя задача. — Ну да, — не без иронии произнес Юсупов, — поймать, обезвредить, а потом перевоспитать. — Да. Иных и перевоспитывают. Не всех, к сожалению. Но перевоспитывают. Вот вы сами... Поверили Савельеву? А ведь матерый был уголовник. К нему претензии имеете? Юсупов как-то обмяк. Ему вдруг пришло в голову, что полковник подстроил какую-то каверзу. Что сказать?.. Портрет Савельева на Доске почета. Передовик. — Что молчите?.. Имеете претензии к Савельеву? — Хм... — Прекрасный человек — Савельев. Если хотите знать, он нам старался помочь найти негодяев. Значит, перевоспитали Савельева? Юсупов широко, облегченно вздохнув, улыбнулся. — Ну, Савельев... Это особый случай. — Каждый человек, Акрам Каюмович, — особый случай. Доверяй, но проверяй — мудрый принцип. Но оскорблять недоверием всех скопом — это жестоко. А жестокость никогда не порождала добрых чувств. Поверьте мне, дорогой мой. Это говорю я, чья работа не из чистеньких, кому каждодневно приходится иметь дело с изнанкой жизни. А я, вы знаете, все же не очерствел душой. И как бывает радостно, когда вдруг приходит письмо от моего бывшего «клиента» — домушника, карманника, грабителя даже, когда вдруг читаю... «Дорогой товарищ Махмудов Фарид Абдурахманович! Счастлив, что могу назвать Вас своим товарищем, потому как я теперь человек, могущий такое слово говорить...» И так далее. Махмудов умолк. Молчал и Юсупов. Наконец директор, вздохнув, молвил горестно: — Хороший вы человек, Фарид Абдурахманович. Побольше бы таких. Тогда и меня пожалели бы. Вы думаете, директорское кресло — сахар?.. Оно не кресло, а, извините, «испанский сапог»... Такое орудие пытки было в средние века. Эх, так бы к нам, директорам, заботливо относились. А нас только и знают, что бьют. Возьмите меня. Текучесть кадров на заводе — пятнадцать процентов. Почему? Условия у нас плохие?.. Дудки. Летом увольняются, и айда на заработки. Лук выращивают. Сейчас в сельском хозяйстве стимулы хорошие. Поработает в поле мой, скажем, слесарь, глядишь: на собственной автомашине к заводу подкатывает, устраиваться на работу. И берешь его, поскольку рабочих нехватка. — Это за сезон — автомашина? — спросил Махмудов. — Точно. Один явился. Я к себе его позвал. Он мне все объяснил. Есть неподалеку подсобное хозяйство. Репчатый лук выращивает. План — десять центнеров с гектара. Слесарю моему там выделили два гектара. Он всей семьей работал. Лук требует ночных поливов. Днем если поливать, — вред один: корни у него портятся. Так тот слесарь всей семьей ночью поливал. Ублажали свои два гектара. И вырастили по пятьдесят центнеров!.. Для приличия выдал подхозу по двенадцати центнеров с гектара. Остальное — чистый доход. Опять помолчали. Затем Махмудов сказал, улыбаясь: — А может, и нам с вами того... В подхоз податься? Тихое, спокойное занятие. — Нет уж. Нас туда не затащишь. Горбатого могила исправит. — Это точно. — А терпеть мне приходится много обид, — продолжал Юсупов. — Взять, к примеру, выпускников ПТУ. Они с первых же дней на заводе поблажку чуют. Я же его уволить не могу, пусть даже он мне уникальный станок раскурочит!.. Он на рабочем месте «под мухой», а я его перевоспитывать должен. Он кричит: я рабочий, меня где хочешь возьмут с руками и ногами. А я молчу, потому что действительно — возьмут. И за все с директора спрос. Кто виноват? Директор! — Сочувствую вам, Акрам Каюмович, — склонил голову Махмудов. — Надеюсь, что не за горами то время, когда и с директоров заводов станут спрашивать без снятия стружки. Вернемся, однако, к нашему золоту. Преступник... Или точнее преступники... Они были хорошо осведомлены о заводских делах, знакомы с технологической документацией. Какой круг лиц причастен к технологии и срокам доставки золотого сырья? — Конструктор, технолог, снабженец... Мало ли кто?.. Впрочем, это был, вероятно, человек, причастный к работе над новым изделием. Вошел Васюков. Вид озабоченный, несколько даже растерянный. Юсупов, сообразив, что явились новые следственные факты, не подлежащие разглашению, удалился, откланявшись. — Ну-с, господин Холмс, — ласково сказал полковник, — что новенького? Васюков положил на стол бронзовую пластинку. — Сегодня Камалов пришел на работу, а пластиночка эта на его столе лежит. На пластинке была гравировка хитрой вязью:Э. КАМАЛОВ
1932—1979
— Час от часу не легче! — Махмудов повертел в руках пластинку. — Что это еще за фокусы? — Все ясно, товарищ полковник. «Третий» — на территории завода. Это раз. А во-вторых, — он угрожает смертью Камалову. И не случайно табличка бронзовая. Преступник намекает на золото. — Как чувствует себя Камалов? — Опять впал в истерику. Кричит: вы ждете, чтобы меня кокнули, чтобы ценой моей жизни главного найти!.. Я утешаю, мол, возьми себя в руки. Я же рядом с тобой, твой подсобный. На завод поступил работягой, чтобы тебя, гада, оберегать. Целыми днями твои железки таскаю, скоро сам, наверное, передовиком стану. — Как трудовые успехи? — поинтересовался Махмудов. — Четвертый разряд. И без скидок. Я же до милиции имел дело с металлом. А если станете донимать, товарищ полковник, останусь там до пенсии. Помните рубрику на последней странице «Литературки»? Есть такая: «Журналист меняет профессию»... И было сообщение: «Журналист Ивашечкин получил задание на время стать водителем такси для создания очерка. В редакцию он больше не вернулся». — Очень веселое сообщение. Но меня другое беспокоит. Кто сработал траурную табличку? Зачем? Или «третий» узнал, что мы на Камалова вышли, и теперь его предупреждает: молчи! Либо требует от него похищенного золота. Васюков вскочил, произнес с чувством: — Все непонятно. Если бы Камалова преступник решил убрать, зачем ему рекламные трюки? Человек, конечно, венец природы, только, как известно, хлипкое это все-таки существо. Раз — и нет его. Мне так думается, что «третий» и в самом деле не ведает, где золото. Полагает, что у Камалова. Потому и давит на психику. Полковник одобрительно кивнул. — Похоже на правду. Но где же, в самом деле, золото?.. Не мог Мансуров его с собой забрать!.. Ты, Дима, не кипятись. Учись выдержке. Ты сейчас шагай к Камалову. Что хочешь делай, а помоги человеку, успокой. А Рахимову я поручу установить, кто сию табличку изготовил. Судя по затейливой вязи, профессионал творил. Пусть проверит.Икрам Рахимов выяснил, что в городе имеется более трех десятков граверных мастерских. Распределив их между своими сотрудниками, взял и себе две — граверную при Центральном универмаге и при похоронном бюро. И тут ему, прямо скажем, повезло, — гравер похоронного бюро, флегматичный человек средних лет, с обширной лысиной и печальными глазами, сразу признал свою работу. — У вас ведется регистрация заказов? — поинтересовался Икрам. — А как же? Без учета никак невозможно. У нас ведь не частная лавочка. Мы — люди государственные. Прикрыв рукой улыбку, майор спросил: — Можно установить фамилию заказчика? — Разумеется. — А внешность заказчика могли бы описать? — Внешность?.. Зачем мне чья-то внешность? Мне подают в окошечко заказ — я беру, читаю текст, написанный на бумажке. Знаете, попадаются мне иной раз такие трогательные тексты. Некоторые, наиболее меня растрогавшие, я даже храню у себя на столе под стеклом... Флегматик оказался на редкость разговорчивым. Поэтому Рахимов деликатно перебил говоруна: — Все это крайне интересно, уважаемый, но если вы вообще сохраняете тексты, представленные заказчиками... — Храню, как зеницу ока. А то ведь бывают разные неприятности. Один тип, знаете ли, принес текст: «Скарбю...» ну и так далее. А потом ему кто-то объяснил: не скарбю, а скорблю. Он прибежал скандалить. А я ему — его же бумажку. Нате, гражданин, читайте... И вновь Рахимов деликатно прервал гравера: — Мне бы взглянуть на текст, по которому выгравировали вот эту табличку. Гравер полистал журнал регистрации заказов, сверил номер и вытащил из папки листок бумаги. — Пожалуйста. Икрам разочарованно вздохнул: текст был отстукан на пишущей машинке. — Фамилии заказчиков регистрируете? — Конечно. Вот, пожалуйста... Так... Хм!.. Заказчик Камалов Эркин. — Что?! Изъяв под расписку отпечатанный текст, Рахимов попрощался с гравером.
Генерал Ткачев приятно удивил Махмудова. Выслушав очередной доклад полковника, не стал поторапливать, подталкивать, не выражал недовольства тем, что ни «третий», ни золото еще не обнаружены. Напротив, подбодрил. Это был опытный оперативник, понимающий в розыскном деле толк. — Хитрый достался нам преступник, — произнес генерал, — действует тонко и осмотрительно. В нашем деле, как и в науке, отрицательный результат — тоже результат. Теперь уже сомневаться не приходится: пресловутый «третий» — реальная фигура, а не плод фантазии. И он ищет похищенное Мансуровым и Камаловым золото. Любопытная ситуация!.. Куда же оно девалось?.. Ваша задача — во что бы то ни стало разыскать Валентину. — Ищем, товарищ генерал. Валентин в городе около пятидесяти тысяч! — Понимаю. Но искать надо. И еще... Берегите Камалова, чтобы волосок с головы его не упал.
X
— Совсем заработался! — сокрушенно произнесла Халима-ханум, встречая усталого мужа. — Сын билеты на кинофестиваль раздобыл. Мы уж и звонили тебе, и ждали до половины седьмого. Потом оставили твой билет на столе с запиской. — Не до кинозвезд мне сейчас, дорогая. — Радж Капур приехал. — Привет ему передай, — буркнул Махмудов. — Ты остришь, папа, а нас сейчас, между прочим, по телевизору должны показывать, — встрял сын. — Места достались хорошие, телекамера нас вроде зафиксировала. — Поужинать бы, — попросил Махмудов жену, и она отправилась на кухню. В «Новостях» действительно раза два мелькнули лица жены и старшего сына. Затем начался приуроченный к фестивалю репортаж со съемочных площадок «Узбекфильма». «Пусть вас не удивляет, дорогие телезрители, — скороговоркой комментировала женщина-киновед, — что эти девушки лишь в конце семидесятых годов сбрасывают паранджу. Ведь они надели паранджу всего два часа назад, когда начались съемки эпизода в фильме о становлении Советской власти в глухом узбекском кишлаке...» Фарид Абдурахманович, сидя в кресле и рассеянно поглядывая на экран, раздумывал: не пойти ли поспать, завтра опять с раннего утра... И вдруг он вскочил с кресла: он увидел ее лицо!.. На экране девушки подходили одна за другой на передний план и сбрасывали в кучу паранджи и чачваны. И среди них — она, девушка, попавшая в кадр на фотографии, зафиксировавшей похороны Мансурова! Смотревший телепередачу Хамид заулыбался: — Наш папа, кажется, влюбился. В кино много хорошеньких. Почти все хорошенькие девушки мечтают стать кинозвездами. Только мечты мечтами, а чтобы стать звездой... — А эти, в паранджах, разве они не киноартистки? — Что ты, папа! Это массовка. Я тоже однажды в массовке снимался. Мы всем курсом ходили, и почти всех нас убили. Зато заплатили каждому по трешнице. — Убили?! — Ну да. Мы вроде бы под бомбежку попали. Зазвонил телефон. — Фарид Абдурахманович, — взволнованно заговорил Рахимов. — Сейчас по телевизору... — Видел, видел. — Значит, я не ошибся? — Похоже, что так. Затем раздались новые звонки. Те, кто был занят поиском Валентины и видел телепередачу, словно сговорившись, решили порадовать своего полковника. Махмудов повеселел. Подошел к жене, обнял за плечи. — Видишь, дорогая, какой у меня хороший вкус. Не успела мне девушка приглянуться, уже друзья звонят, впечатлениями делятся, советы дают. Ах, как хочется с ней поскорей познакомиться! Халима грустно усмехнулась: — Желаю успеха. Только разыскать девушку твоей мечты все же затруднительно. Ведь это массовка. Отснялись в эпизоде, получили гонорар — и все по домам!Помощник режиссера, выслушав Рахимова и Васюкова, вознес руки к небесам. — Этого мне еще не хватало, помнить фамилии и имена участников массовок! За кого вы меня принимаете? Это, говорят, Наполеон знал по имени всех солдат старой гвардии. А я не Наполеон. Да и не верю я, что Бонапарт всех помнил. К нам тысячи приходят. Это же кино, очередное чудо света, волшебный фонарь, так сказать, латерна магика! — Нас интересует одна девушка. — Все равно их тысячи! Такое впечатление, что страна больше не нуждается во врачах, учителях, ткачихах... Вроде в государстве отчаянная безработица!.. — помреж вдруг схватил мегафон и возопил ужасным голосом: — Софиты готовы?! Чего копаетесь! Декораторы, как у вас дела?! Немедленно заканчивайте монтаж зиндана!! Поорав еще в страшный свой мегафон с динамиком и убедившись, что подготовка к съемке пошла резвее, помреж малость помягчал душой. — Покажите-ка еще разок фотографию... Хе... Кто ее знает? А вообще-то в массовке попадаются и настоящие перлы в смысле таланта. Помню, снимали мы фильм, и главную героиню в кишлаке нашли. Пришла на массовку, а Митя, режиссер, мой друг и тиран, как увидел, так и ахнул. А у нас на героиню актриса из театра уже утверждена! Так с ней нервный припадок был. А что делать?! Однако Митя пробил! Бульдожьей хватки мужчина. Правда, некоторое время побаивался в театр ходить. Одним словом — цирк, а не кино! Он повертел фотоснимок и бросил его на столик. — Ничем не могу помочь. Друзья разочарованно переглянулись. Посмотрели немного, как готовятся к съемке. Потом пошли с площадки. И вдруг услышали: — Постойте, может быть, я смогу вам помочь... Их окликнул высокий худущий парень в перемазанном красками комбинезоне. В руке он держал малярный валик, с которого стекала алая, как кровь, краска. Оказывается, он слышал краем уха разговор друзей с громогласным помрежем. Парень пояснил: — Я здесь декоратором. Подрабатываю. Вообще-то студент, но это не важно. А я запомнил девушку эту. Им директор картины деньги сразу после съемки выплачивал. Прямо на площадке. Она и говорит: «Стоило из-за трешки полдня мучиться!» А я ее укорил в шутку: «Эх, девушка! Разве дело в трояке? Это подумайте только — вы в кино снялись! К святому искусству приобщились». А она смерила меня сердитым взглядом и отрезала: «И не подумаю больше сниматься. Обалдеть можно от этих бесконечных пересъемок. Дубль, дубль, дубль!..» И пошла. — А вы? — азартно спросил Рахимов. — Что — я? — не понял маляр-студент. — Вы за ней пошли? — Нет, декорации пошел ставить. — Жалко, — вздохнул Васюков. — Жаль, что вы оробели. — А вы откуда знаете? — парень смутился, покраснел. — Да я так, в шутку. — А-а-а!.. Но я к чему рассказываю. Примерно недели через две встречаю ее в сквере. Сидит на скамейке с сигаретой. Вроде ждет кого-то. Я подошел, спрашиваю: ну как, девушка, в кино больше не тянет? Напомнил ей об эпизоде «Женщины и девушки открывают лицо». Она говорит: «Я теперь и без кино проживу. Просто были у меня трудные обстоятельства». Тут к ней подошел мужик. Лет за тридцать ему. Такой же длинный, как я. И худой, но не такой, как я. Физиономия свирепая, а глаза, как у голодного волка. Она сразу же вскочила. А мне даже не по себе стало, так он на меня посмотрел. Хотя я и не трусливого десятка. Он мне, правда, ничего не сказал. Только глянул дурными глазищами. И они пошли. — Могли бы узнать его? — Запросто. Рахимов вынул из кармана фотографию Мансурова. — Он! — воскликнул парень. — Голову даю на отсечение, — он. — А куда этот человек и девушка пошли, не заметили? — с замиранием сердца спросил Васюков. — Там рядом парикмахерская, дамский зал. Девушка вошла, а он на улице остался. Через минуту-другую она вышла. Тот тип меня заметил, сказал что-то девушке, она пожала плечами. Мне неловко стало, и я зашагал по своим делам. Распрощавшись с симпатичным пареньком, друзья покинули съемочную площадку — Что скажешь? — поинтересовался Икрам. — Есть кое-что? — Вроде бы. Валя эта либо очередь занимала, либо... — Работает в парикмахерской. Заглянула на минутку к подружкам. — Если бы она там работала, то и осталась бы на работе. — В некоторых парикмахерских выходные дни по графику, уловил? Студент-маляр, не подозревая того, оказал опергруппе неоценимую услугу. Валентина Волкова действительно недавно поступила на работу в парикмахерскую. Все остальное было выяснить несложно. Двадцать два года. Одинокая. Имеет на окраине города небольшой домик, доставшийся ей по наследству. Несколько месяцев назад умерла ее мать. В парикмахерской работает маникюршей. Молоденький лейтенант Пименов, которому было поручено собрать сведения о Валентине Волковой, на словах еще добавил; — Она красивее, чем на фотографии. Блондинка с голубыми глазами. Заведующая парикмахерской, с которой я беседовал, даже позавидовала. Не успела, говорит, поступить на работу, а за ней уже мужчины гурьбой. Вы, юноша, уже третий по счету. Я ведь не из угрозыска вроде приходил, а как человек имеющий серьезные намерения. Дескать, понравилась мне Валя, ночей не сплю и прочее и тому подобное. — Молодец, Сеня, — похвалил лейтенанта Махмудов. — А кто еще женихи, не считая тебя, конечно? — Про первого ничего не сказала, а про второго одно твердила — симпатичный мужчина. Да она, завша эта, в таком возрасте критическом, что для нее все мужчины симпатичные. Все рассмеялись. — Лейтенант Пименов, вам и вашим людям — взять под наблюдение Валентину Волкову. Работать аккуратненько, не травмировать. Задача ясна? — Так точно, ясна! Разрешите выполнять? — Идите. Лейтенант вышел, а Махмудов обратился к «Аяксам». — Итак, что мы знаем, товарищи? «Третий» не знает местонахождения похищенного золота. К сожалению, не знаем этого пока и мы. Главарь банды наверняка знает о гибели Мансурова. Где может быть спрятано золото? Или у Камалова, или у Валентины, которая была подружкой Мансурова. Как видите, сообщники совершенно не доверяли друг другу. — Товарищ полковник, — не выдержал Васюков. — А что, если с обыском к Валентине? Вдруг да повезет! Смелость города берет! — Не следует путать смелость с глупостью, — бросил реплику Рахимов. — Обыскали — и ничего не нашли. Что тогда? — Прокурор, давший санкцию на обыск и арест Волковой, будет в восторге, — полковник не без юмора глянул на сконфузившегося Диму. — А что же, в самом деле, теперь нам делать, а?.. Валя! Всем ею заниматься. Наверняка пресловутый «третий» уже ищет с ней встреч, контактов. Может быть, он не сам к ней отправится. Осторожный дьявол. Возможно, найдет связного. Впрочем, опять же, зачем ему лишний соучастник?.. И самому ему удобнее выведать местонахождение золота. Не исключено, что он прибегнет к угрозе оружием, чтобы запугать девушку. Но может статься, что Валентина эта — прямая сообщница Мансурова. Сложная ситуация. Но я, друзья, на вас надеюсь. — Постараемся, Фарид Абдурахманович, — улыбнулся Васюков. — Как только к нашей девице начнет подкатываться ухажер, мы его тут же цап-царап! — заключил Рахимов. Пришла очередь ядовито улыбаться Васюкову, ибо полковник укоризненно покачал головой. — Ай-яй-яй!.. Не ожидал от тебя такой накладки. Что же получается? Девушка красивая, эффектная. Мало ли кто может захотеть познакомиться с ней. Такой, как маляр-студент, скажем. А его за это под белы руки?.. И если даже сам «третий» пожалует. Взяли мы его... А дальше? Какие у нас против него улики? Никаких! Абсолютно! Даже на бумаге, что мы изъяли у гравера, отпечатки пальцев лишь мастера-говоруна. Нет у нас доказательств участия в преступлении таинственного главаря. А доказательства должны быть. Всенепременно. Иначе грош цена всей нашей работе.
XI
— Товарищ полковник, — доложил лейтенант Пименов, руководитель группы наблюдения, — объект вышел из парикмахерской, следует по улице. За ней идет, нагоняя, мужчина лет тридцати. Они останавливаются. Беседуют. — Опишите мужчину. — Высокий, поджарый, одет в вельветовые брюки бежевого цвета и в джинсовой рубашке супер-люкс. Темные солнцезащитные очки. — Не можете сказать, зачем он ее догнал? — Судя по поведению обоих, они разговаривают впервые. Думается, мужчина заводит с ней знакомство. Она вроде бы попыталась уйти... Он что-то говорит ей... Она смеется. Оба смеются. Теперь пошли вместе. Продолжаю наблюдение... Постараюсь подойти поближе...— Вы ходите за мной второй день, — произнесла Валентина. — Я это еще вчера заметила. Что вы хотите? — Я бы хотел видеть вас сидящей напротив меня где-нибудь в уютном месте. Ну, скажем, в «Бахоре». Можете вы поверить в искренние чувства с первого взгляда?.. Прошу вас, зайдемте, посидим. — Вы приглашаете меня в ресторан? Так. Затем мы будем танцевать, потом вы позовете меня к себе под «честное благородное слово» слушать хорошую музыку и пить растворимый кофе. — Растворимый кофе не в моем вкусе, я предпочитаю натуральный. — А я предпочитаю ночевать в своей постели. — Вы заметили, что я несколько иначе ставлю вопрос. Я просто хочу есть, и вы — хотите тоже. — Послушайте, это мое личное дело! — Питание — не личное дело. Кто же пройдет мимо, если рядом голодает ребенок? — Где вы видите ребенка? А, это я, что ли? — А разве нет? Давайте так, если вас сейчас впустят вместе со мною в «Бахор» — значит, вы достаточно взрослая особа. — Ох и хитрый же вы! — Я не хитрый, — я голодный. И вы — тоже. Если мы будем спорить и дальше, нам просто не достанется места. Смотрите, сколько желающих, — кивнул он в сторону людей, выходящих из автобуса, прибывшего на конечную остановку. — Только учтите, я человек невеселый. Могу испортить вам аппетит и настроение. — Ничего не может испортить аппетит мужчине! Тем более присутствие красивой женщины. — Однако... Красноречие ваше, хотя и не цицероновское, но вроде бы искреннее. — Не красноречие это, нет! Это душа моя...
— Они вошли в ресторан, — доложил Пименов. — Всё. Махмудов отошел от пульта связи. — Хотел бы я знать, о чем они сейчас говорят, — молвил Васюков. Полковник усмехнулся: — О чем говорят молодые люди, симпатичные друг другу? — А я откуда знаю? — Дмитрий надул губы. — С такой работой, как у нас, не очень-то поговоришь с девушкой. Чувствую: быть мне старым холостяком. Вам хорошо, вы еще в институте женились. А я помру бобылем. Ни свет ни заря — уже поднимают по тревоге! — Не паникуй, капитан, вот найдешь преступников, золото — я тебе обещаю такую невесту подыскать, что всю жизнь будешь мне в ножки кланяться. — Ну, если так, чего ждать, — Васюков расплылся в улыбке, — давайте в «Бахор». Там он, наш ненаглядный «третий», в ресторане. Тепленьким возьмем. — Торопыга ты, Васюков. Возьмем, допустим, а дальше что? Улики? — Разговорим. — Рано тебе еще жениться, Васюков!
— Вы знаете, я почему-то люблю ужинать именно в этом ресторане. Наверное, чувствовал, что когда-нибудь я буду здесь сидеть с вами. — Ах, оставьте эти ваши шутки. Плов нужно есть, пока он горячий, не мне вас учить. — Да, да. Вы смотрели что-нибудь из фестивальных фильмов? — Мне не до этого. Да и билетов не достать. В прошлом году была неделя мексиканских фильмов. Мне достали билеты, ну и что хорошего? Так... — Ну, с билетами — это я беру на себя. Хоть сегодня на последний сеанс. Но вот как быть с вашим плохим настроением? Назовите обидчика, и я вызову его на дуэль! — Какие нынче дуэли? — Тогда танцевать. Срочно на круг.
— Значит, танцуют, лейтенант? — Так точно. Танго. — Она волнуется, есть что-нибудь тревожное в поведении? — Как вам сказать?.. Сейчас она повеселее. — Что скажете о ее молодом человеке? — Субъективно — пижон, но... Красивый и обходительный, по крайней мере, со стороны так кажется. Издали. Фотоснимки скоро вам принесут. — Подождем снимки, — Махмудов посмотрел на Васюкова. — Значит, говоришь, — тот самый, кого мы ищем? — Он самый, товарищ полковник, интуиция подсказывает. — Дорогой капитан, интуиция — это не доказательство. А как у вас насчет информации, которая, как известно, — мать интуиции?
— Посмотрите!.. Пока мы танцуем, за наш столик кого-то подсадили. Хотя мне все равно... Втроем даже веселей. — Я чувствую, вам так и хочется, чтобы я сражался сегодня на дуэли. — Бросьте, какие в наше время дуэли, при таких-то мужчинах. — Каких? — Не хочу на эту тему даже говорить. Пойдемте сядем. Мне скоро пора домой.
— К ним подсел третий, товарищ полковник. Не могу сказать, были ли они раньше знакомы. Вроде бы случайная встреча. Разговаривают дружелюбно, улыбаются. — Внешний вид новичка? — Тоже лет тридцати или чуть поболее. Высокий, волосы светлые. Шикарные джинсы «Леви Страус», фирменная рубашка по фигуре. На руке браслет серебристого цвета. В общем, современный мужичок. — Снимки сделаны? — Так точно. Скоро получите.
— Извините, что я опять вмешиваюсь в ваш разговор, но неужели вы собираетесь тратить время и смотреть такой фильм? — А что вы имеете против? — Я его видел. Если коротко — бодяга. Режиссер из слаборазвитой страны. И вообще, что это за фестиваль? Другое дело — Канны! — Вы бывали в Каннах? — Нет, но буду. Обязательно буду. А вот не находите ли вы, что нам можно было бы и познакомиться? Меня, например, зовут Олегом. — Вадим. — Валентина. — И прекрасно. — Я не только Валя. Я еще и маникюрша. А вы? — При чем тут профессия, простите? Главное, какие деньги она мне дает... Что вы так смотрите на меня? Не вы, Валя, я вашему спутнику — Вадиму. — Хорошо, допустим, будут у вас деньги. Дальше — что? — Дальше — все! Деньги дают человеку свободу. — Чепуха! Сами по себе деньги никакой свободы не дают, — решительно произнес Вадим. — Даже — наоборот. Я всегда удивлялся, что люди, имеющие деньги, так бездарно ими пользуются. Шкафы какие-то покупают, ковры, люстры. А потом боятся дохнуть на эти шкафы. Какая же это свобода? Я не из тех, кто живет по принципу: «Копеечка рубль бережет». Есть у меня деньги — я их трачу. Но без них... Это очень плохо, сидеть без денег, не правда ли, Валя? — Смешно спорить. Мне приходилось находиться в безденежной ситуации. — Все ясно. А сейчас могу вам обоим достать последний диск «Бонни М». Что скажете? — Валяйте. — Отлично. Еще вопрос. Могу ли я пригласить вашу даму на танец? — Извольте, если дама не возражает...
Махмудову положили на стол еще влажные фотоснимки. — Ого! — только и произнес Махмудов. Валентина была красива. Но это была красота усталой молодой женщины, пережившей недавно какую-то драму и только-только возвращающейся к нормальной жизни. Неужели она любила Мансурова?.. Трудно сказать. Думается все же, что она его боялась. Но гибель его, возможно, гальванизировала ее чувства. Мужчины были улыбчивы, обаятельны, источали мужество и элегантность. Над снимками склонились Рахимов и Васюков. — Где-то я этого типа в вельветках видел, — сказал Рахимов. — А я — этого джинсового пижона, — подхватил Васюков. — Но где?..
— Где вы учились танцевать, Валя? — А что, Олег? — Вы танцуете чудесно. И еще хочу сказать, пока мы вдвоем... Я за вами следую уже несколько дней. Но этот ваш Вадим все время заступает мне дорогу. — Я с ним лишь сегодня познакомилась. — Ваша правда. Я сказал фигурально. Я никак не мог найти вас. — То есть как? — Так. Не знал вашего адреса. Но мне о вас рассказывал один мой приятель. — Это еще кто? — Поверьте, говорил в самых возвышенных тонах. — Кто же он? — Он уехал в отпуск. — Ч-что же он говорил? — Не скажу. Но я сказал ему, что после его слов я во что бы то ни стало найду вас. И я во сто раз более счастлив, чем тогда, когда это ему сказал. — Вы, наверное, полагаете, что я должна от этих слов таять? — Повремените пока. — Может, закончим вечер? Мне завтра на работу. — Мне тоже. А скажите, если не секрет, кто этот счастливец, с которым вы сюда пришли. — Толком не знаю. Вроде хороший человек. — Еще бы! Когда я сказал о значении денег в нашей жизни, он чуть не выскочил из собственной кожи. Бессребреник!.. Ха-ха. — Что в этом смешного? — Жить без денег? Как это глупо. Зачем же тогда и жить? Я ведь тоже вырос в интеллигентной семье. Знаю два иностранных языка. И с детства мне талдычили предки: «Учись, человеком станешь». А что на деле?.. Товарищи мои, которые и грамоте-то толком не обучены, но занимаются торговлишкой, другими делишками, живут во сто раз лучше меня. Я вот и решил: баста! Займусь исправлением дефектов в моей трудовой зарплате, ха-ха-ха! — И что же вы предприняли, Олег? — Об этом потом. Давайте еще с вами повидаемся. — Как это понимать? — Считайте, что я в вас влюблен. Одна беда — этот Вадим. Он вас провожает? — А как вы думаете? — Я не просто думаю, я страдаю от одной этой мысли!.. — Не страдайте. Посмотрите, как он спокойно ждет, когда мы закончим танец. Учитесь выдержке. — Что бы там ни было, я все же надеюсь встретиться с вами. И еще вот что меня мучает... Не хотел вам говорить, но... Я знаю вас не несколько дней. Я видел вас раньше. Вы были с человеком, которого сейчас, увы, нет в живых... Что с вами, Валя?.. Я причинил вам боль? Простите. — Вы были знакомы с Хакимом? — Так... Шапочное знакомство. Вы были с ним в ресторане «Зарафшан». Он был сильно выпивши. — А когда он был не сильно? Только и знал, что пить. Откуда вам известно, что он погиб? — Слухами земля полнится. — Что же, скажу без экивоков. Переживаю его нелепую гибель. Но с ним мне было тяжело. Трудный был человек. И я его боялась. Его, по-моему, многие страшились. — Еще раз простите за мою неловкость. Тоже завел разговор... Вы знаете, я немного ревную вас к Вадиму. Как он ухитрился первым познакомиться с вами? — Значит, вы меня вроде выслеживали? — Не выслеживал. Это дурно звучит. Просто хотел сблизиться с вами. Только сегодня узнал, что вы работаете в парикмахерской. Но Вадим меня опередил. Проклятая застенчивость! — Я что-то не заметила. Сколько мы с вами знакомы? Час не больше. А вы уже почти полноправный член нашего коллектива. — Почти полноправный — означает, что провожать вас отправлюсь все же не я? — И не он.
— Ну, что там? — спросил Махмудов вошедшего в кабинет Васюкова. — Тот, что пришел с ней в ресторан, все же захотел ее провожать. Вышли на улицу. А наша Валя остановила такси и была такова! Обоих с носом оставила. Правда, кавалер вел себя примерно. Даже не настаивал. Записал телефон. Даже руку ей поцеловал, как в лучших романах... — Телефон записал? — Да. Затем она приехала домой. Погас свет. Все. — Прекрасно! А теперь — все по домам. Завтра много работы.
XII
В этот вечер в доме Камалова опять зазвонил телефон. Хозяин вздрогнул, ощутил дрожание поджилок. Дежуривший у него оперативник ободряюще кивнул. Раскаявшийся преступник нерешительно поднял трубку. — Камалов, — услышал он вкрадчивый голос. — Как же дальше жить будем, а, Камалов? Или жить надоело?.. Молчишь. Страшно? Это ты молодец, что страшишься. Мансуров тебе золото передал. Смотри, шкуру с тебя спустим, с сукиного сына. В буквальном смысле. Поразмышляй денек-другой. А там... Что молчишь, чижик? — Только не надо меня пугать, — просипел в трубку толстяк слова, которым его научили люди Махмудова. — Подумаешь, замаскировался. Будешь пугать, разговора не будет, понял? Бросив трубку, он вытер пот со лба. Теперь он боялся одного, что тут же раздастся следующий звонок, а говорить в таком же тоне у Камалова уже не было силы. Звонка не последовало.— Удалось установить личности обоих ухажеров? — этими словами Махмудов начал утром оперативное совещание. Поднялся Рахимов. — Русоволосый в джинсах — Олег Сагитов, сотрудник заводского патентного бюро. По профессии переводчик. На заводе всего полгода. Знает два иностранных языка. Биография бурная. Не в интересующем нас смысле, а как бы романтичная. Тридцать два года, а его поносило по городам и весям! Работал в Сибири, на крупных стройках, теперь вот в Средней Азии. — Романтика трудных дорог, — откомментировал Васюков. — Возможно. — Он сейчас на работе? — Махмудов явно заинтересовался. — Сагитов временно прикомандирован к оргкомитету фестиваля в качестве переводчика. — Так. А что узнали о втором вздыхателе? — полковник улыбнулся. — Здесь дело сложнее, — поднялся Васюков. — Мои люди выяснили лишь то, что зовут его Вадимом. После ресторана проводили до места жительства. Вадим совсем недавно снял комнатку у полуглухой старушки. Сказал, что приехал в отпуск, на фрукты. Откуда — неизвестно. Паспорта хозяйке не показал. Да она и не спрашивала. Платит за комнату тридцать рублей в месяц. Таков уговор. — Что ж, и это неплохо, — похвалил полковник и дружески улыбнулся Дмитрию. — А хотелось, наверно, взять этого Вадима за локотки, а? — Еще как, товарищ полковник. Но я строго соблюдал приказ: не беспокоить, только наблюдать. — И правильно сделал. Теперь вопрос к обоим братьям Аяксам. Валентина от Вадима и Олега после ресторана ускользнула. Ухажеры вернулись в «Бахор», вроде бы подружились. Еще посидели с часок. И в это время, один за другим, отлучались: оба звонили по телефону-автомату в вестибюле. Как раз в это время и раздался звонок к Камалову. Может, кто-то из них запугивал? Что думаете по этому поводу, майор? — Трудно сказать. Могло быть просто совпадение во времени. Не исключено, что и позвонил один из них. — Есть еще третья версия, — подал голос Васюков. — Можно допустить, что Вадим и Олег — сообщники, и делают просто вид, будто случайно познакомились. — Прекрасно, капитан! — похвалил Фарид Абдурахманович. — Хитроумная версия, но вполне допустима. Но давайте сперва займемся Сагитовым. Он теперь, как говорится, наш кадр. За Вадимом продолжать вести наблюдение. Но не беспокоить, а то еще вспугнете. О Сагитове же все узнать досконально. Подробнее о прошлом. Сделать соответствующие запросы. Узнать, встречался ли с Мансуровым, Камаловым, что делал в день взлома сейфа. — Эх, взять бы его с поличным, с чемоданчиком в руках! — мечтательно произнес Васюков. — С каким чемоданчиком? — не понял Махмудов. — Да это я так, — смутился Дмитрий. — В детективных романах сыщикам благодать: выследили преступника — и хватают его с чемоданом в лапе. А в чемодане золото, валюта, наркотики... Икрам хохотнул. — Легкой жизни захотелось, Димочка? — Опять перепалка, Аяксы? — улыбнулся Махмудов. — Не позволю в служебное время. А теперь геть из министерства. Идемте-ка на завод. Там у нас есть уютный кабинет. Погода прекрасная. Прогуляемся пешочком. Утро было прохладное, приятное. Улицы уже заполнились людьми, спешащими по своим делам. Медленно катил «Икарус» с эмблемой кинофестиваля — кинознаменитости с утра отправились на экскурсию. Шагали по своим делам и трое штатских, ничем внешне не отличающиеся от остальных граждан. Только эти трое шли не к станкам, не к чертежным доскам и арифмометрам, не к прилавкам магазинов и не в филармонию... Они шли искать золото и его похитителей. — Зайдемте-ка для начала к директору, — предложил Махмудов. Ознакомившись с фотографиями. Юсупов произнес, снимая очки: — Этого, что в темных очках, не знаю. А второй — Сагитов, из патентного. Правда, ставки переводчика у нас нет, но мы кое-что изыскали. Зачислили на должность инженера по технике безопасности. Ничего не поделаешь, нужно шагать в ногу со временем, в иностранную техническую литературу заглядывать. А тут пришел ко мне Карпинский, начальник патентного, говорит горячо: «Появился парень. Два языка знает. И вообще голова. Оформим его инженером?» — Это еще ничего — инженером, — вставил Васюков. — В одном месте инженера на работу приняли как машинистку и дворника. Ловко схимичили. — Хочешь план выполнять — умей крутиться, — развел руками директор. — Сагитова я пригласил на беседу, чтобы не брать кота в мешке. Мало ли что — Карпинский. Старик увлекающийся. Заходит в кабинет эдакий полувикинг! Русоволосый, сероглазый. Одет с иголочки. Умен, ничего не скажешь. К нам иной раз иностранные делегации заглядывают. У меня свой переводчик.Престижно. И не просто переводчик. Иной раз и подскажет, что ответить. И в патентном бюро им дорожат. Редкостное инженерное чутье. Сразу вник в специфику нашей технологии, нашел в зарубежной литературе многое, что нас заинтересовало. По-французски и по-английски с детства говорит. А французам он Верлена на французском читал. — Образование? — В том-то и дело, что нет высшего образования. Отец у него — профессор-лингвист и мать преподавательница английского. Но со второго курса института иностранных языков ушел. С родителями не поладил. Слышать о них ничего не желает. — Отрицательные качества имеются? — Как вам сказать?.. Что-то в нем авантюрное иной раз проглядывает. И еще крайне высокомерен, считает себя личностью исключительной. Как-то даже со своим шефом, Карпинским, в философскую дискуссию вступил, доказывал, что и впрямь есть на свете личности, которым все дозволено, и они могут переступить по ту сторону добра и зла. Карпинский прибежал ко мне, возмущается: «Ницшеанец какой-то!» Хороший старик Карпинский. Мы с ним участвовали в пуске нашего завода. Он был заместителем главного. Постарше меня лет на восемь, да и здоровье шалит. Попросился на более тихую работу. — Значит, за Карпинского ручаетесь? — Вы что, смеетесь, Фарид Абдурахманович? Кристальный человек Федор Федорович Карпинский. Если он и порекомендовал Сагитова, то лишь в интересах дела. — Спасибо за информацию, Акрам Каюмович. Не могли бы ответить еще на один вопрос: где был Сагитов в день взлома сейфа? — С ходу не скажу. Но постараюсь навести справки. Директор проводил Махмудова до дверей своего кабинета. Пожимая руку, спросил не без тревоги: — Значит, вы подозреваете Сагитова? — Никого мы пока не подозреваем, Акрам Каюмович. Мы пока ищем. — А кто ищет, тот всегда найдет, — вставил Васюков. — Устами младенца глаголет истина, — не замедлил откликнуться Рахимов. Очутившись в «своем» кабинете, Рахимов обратился к шефу: — Не вызывает у меня почтения романтическая биография Олега. — Много мы изучаем лишнего, — буркнул Васюков. — А надо что-то предпринять. Немедленно! — Сейчас надо позавтракать, Аяксы. Я лично — не успел.
XIII
Валентина слегка отодвинула занавеску на окне и увидела Вадима с изящным «дипломатом» в руках. Он приветливо помахал ей, приглашая выйти. — Дядя ручкой делает, — тут же отозвалась другая маникюрша. — Ничего. Вельветовый. Похож на киноактера. Не из этих ли, а? Нынче кинозвезд в городе навалом. — А-а!.. — отмахнулась Валя. А сама подумала: «В самом деле, интересный — высокий, смуглый». И направилась к выходу, извинившись перед клиенткой. — У, жадина! — крикнула ей вслед веселая маникюрша. — Отдай лучше мне! Вадим встретил ее букетиком гвоздичек, который вынул из «дипломата». — Что же это делается? — произнес он с нарочитым испугом в голосе. — Без десяти семь, а вы еще на работе?! Нельзя себя так изнурять? Это безнравственно. — Мы работаем до семи. — У меня билеты на фестиваль. С Капуром-младшим. После фильма он выступает. Неужели вам не интересно, Валя? — Интересно. Знаете ли, что вы подделываетесь под стиль нашего вчерашнего знакомого? — Наверное, потому, что он вам нравится. — Мне? Странное заключение... Я уехала. А вы, кажется, остались вдвоем. — И еще немного посидели. Но это все частности. Мы идем в кино? — Ладно, пойдем. Только, прошу вас, не прилагайте усилий к тому, чтобы я вас возненавидела. И не старайтесь разыгрывать из себя супермена. Вам это не идет. — Заметано, — обаятельно улыбаясь, сказал Вадим. Возле Дворца искусств угрюмо колыхалась толпа, издававшая один-единственный ор: «Нет ли лишнего билетика?!» Город словно с ума сошел — жил звездами, их кинопобедами, кинорадостямн и кинотрагедиями. Как и следовало ожидать, индийский фильм оказался мелодрамой. Валентина, добрая душа, отчаянно сопереживала перипетии героев. И еще ее посещала мысль: «Тебе хорошо? Ну и радуйся. Все позади. Он исчез, его нет. Теперь ты свободна, хотя...» И на глаза ее навертывались слезы, возможно, вызванные очередным мелодраматическим поворотом событий в фильме. И еще рождалось чувство непонятное, похожее на то, когда человек вдруг изловчился скинуть щелчком с платья сороконожку, паука... Вадим, словно прочитав ее мысли, тихо шепнул: — После фильма обязательно скажу Капуру, что вы смотрели невнимательно. О чем вы грустите? — Да так, — она попробовала улыбнуться. — Я знаю, точнее догадываюсь. Неудачная любовь? — Нет, он не стоил того, чтобы его любить. — Тогда о чем вы вздыхаете? — Привыкла. Моя жизнь была подчинена этому человеку. Я не могла уйти, потому что я слабая. Вот и вчера в ресторан пошла и сегодня с вами сижу здесь, потому что я слабая. С тех пор, как умерла мать, у меня страх одиночества. — Тише, товарищи, — зашикала на них сзади полная дама. Они вышли из зала еще засветло. Народу вокруг Дворца было невпроворот. Ждали очередного сеанса. Вадим с Валей не без труда пробирались сквозь людские волны. И вдруг она почувствовала, как ее кто-то взял за локоть. Она резко обернулась — это был вчерашний знакомый. — Ну и ну! — воскликнул Олег. — За спиной у короля кардинал плетет свою интригу?.. Вы были в кино вдвоем, без меня. Моей обиде нет предела. Я ведь обещал билеты! Отчего такое недоверие? Или следуете сомнительной песенке «третий должен уйти»? Я, например, не согласен. А я, глупец, раздобыл-таки диски, которые вчера обещал. Наивняк! Пока я, высунув язык, носился по оффисам, вы смотрели без меня индийский кинофильм. И это, кстати сказать, смягчает вашу вину. На такого рода картины я не ходок. Не люблю плакать по пустякам. Я вообще не люблю пускать слезу. Это занятие слабаков. Но как теперь быть?.. Теперь я хозяин. И я приглашаю вас, друзья, в пресс-бар на коньяк. Вход туда открыт лишь избранным — по аккредитации. Я — избранный! И я угощаю. Валентина хотела что-то возразить. Но они уже очутились в красиво расцвеченном зале, где играла музыка и стоял разноязычный гомон людей. Последней мыслью перед тостом в ее честь было: «Я ведь забыла, как их обоих зовут».XIV
Камалов возился в своем саду, отпущенный «по болезни» с работы. Махмудов помог ему оформить больничный листок. Но на душе Эркина было маятно. Он понимал, что ни сад, ни огород, ни дом — полная чаша — не дадут ему душевного успокоения. Однажды у него возникла мысль: воспользоваться предоставленной ему свободой, отсрочкой ареста и распродать наиболее ценные вещи. Но это была глупая мечта. Дом и вещи — все это ему уже не принадлежало. «Опишут, конфискуют, передадут в доход государства! — горестно решил толстяк. — И зачем я ввязался?» — К своему имуществу ты относись теперь как к декорации, — сказал ему как-то Васюков. А жизнь продолжалась. Была она и не веселой, и не грустной. Сотрудники милиции обходились с ним чуть ли не дружески. А капитан Васюков даже говорил Камалову «ты», как доброму знакомому. Днем жизнь его текла тихо и даже вроде бы приятно. Вроде бы и не крушил он ломиком стенку, и не смотрел, как Мансуров резал горелкой сейф, и не подставлял принесенную Мансуровым сумку под пакеты с пластинками золота. Но как только смеркалось, Камалов испытывал душевную маяту. Все чаще он видел ужасные сны. Являлся проклятый сейф. Потом вдруг возникали, охваченные ужасом, огромные глаза покойной жены. Только глаза... А жены не было. Еще снился подземный коридор, по которому ведут в наручниках его, Камалова! А вчера вот явился Мансуров. Он небрежно крутил ключи от машины на указательном пальце и беззвучно говорил: «Камалов! Мне некогда, магнитофон мой отвези Валентине. Понял? А сумку выбрось к чертям. А то у тебя хватит ума за водкой с ней бегать. Отвези магнитофон. Девушка молодая, потанцевать захочет. Ясно?.. Ха-ха-ха!» Камалов и во сне покрывался ледяным потом. Эту сумку из брезента, с четырьмя лямками он хорошо знал. В ней Мансуров и унес золото. Но при чем тут магнитофон? Тогда, после ограбления сейфа, Мансуров унес золотишко. Вскоре явился с магнитофоном и распорядился отнести его Валентине немедленно. Рано утром. Но потом передумал. Забрал с собой... Он проснулся, клацая от страха зубами. Огляделся... Ничего. Заглянул за спинку дивана, и сердце его покатилось куда-то в пятки. За спинкой дивана он увидел ту сумку!.. Пустая. Как она туда попала? Неужели Мансуров ее закинул, чтобы в случае чего бросить тень на Камалова? Но был ведь обыск!.. Да, работали щупом, их интересовал металл. А сумка... Что делать?.. Звонить полковнику Махмудову? Но кто же теперь поверит, что он, Эркин, ничего не знает о золоте?.. Толковать, что был тогда пьян и ничего не удержалось в памяти... И этот «третий»... Если узнает! Куда ни кинь — все выходило хуже некуда. Оставалось одно — петля. Однако вешаться не хотелось. Камалов тихо заныл, словно у него заболели зубы. Ему теперь казалось, что злой рок преследует его. С того несчастного дня, когда скончалась жена. Как он был к ней несправедлив! Лишь после смерти Нины он стал смутно понимать, кого он потерял. И вроде вместе с Ниной умерло и в нем, Эркине, что-то лучшее. Смутно он понимал, что память Нины требует его духовного обновления. Но вышло наоборот. Жена молчаливо терпела его скупердяйство. Теперь надо было исправляться... Нет! Он стал еще более жаден, капризен и несправедлив. Вскоре и память жены уже не тревожила душу. У Нины оказалась своя сберкнижка. По завещательному распоряжению ее все деньги были переданы дочери. Это взбесило Камалова, привело к разрыву с единственно близким человеком — падчерицей. Она уехала к родственникам жены. А он, Эркин, остался один, как перст. Тогда он и сблизился с Мансуровым. Хаким тоже был зол на весь мир. Но, в отличие от Камалова, он был дерзок и деятелен. Мансуров подавил его волю, запугал страшными своими волчьими глазами. Он прибрал заведующего складом к рукам целиком. И еще жадность, вспыхнувшая в душе Камалова с новой силой, сделала свое дело. Им удалось взять золото и уйти незамеченными, потому что у Камалова были руки мастера, а у Мансурова — дерзость. Они ведь сделали это почти в открытую. Мансуров постоянно твердил: «Не дрейфь, со мной не пропадешь!» Мансуров говорил это много раз и в трезвом, и в пьяном виде. Но теперь Хаким лежит в земле, а он, Камалов, так легко ему доверившийся, ползает сейчас по ковру и скулит, не зная, что теперь делать... Сколько же будет тянуться эта неизвестность? В смежной со столовой комнате сидел в кресле молоденький сотрудник угрозыска в белой тенниске и джинсах — такой на вид невинный мальчик! — почитывал книгу. Камалов, бодрячески насвистывая, прошел на кухню, достал бутылку «Пшеничной» из буфета, хватил залпом стакан, и ему полегчало. Опять нахлынули хмельные фантазии... А что, если Мансуров все же спрятал золото где-то здесь, в его доме? Мало ли что был обыск. Там тоже люди. Могли проворонить. Вот бы найти! Тогда он, Камалов, станет хозяином положения. Вполне возможно, что его и вовсе освободят! Зачем им какой-то Камалов? Им золото во́ как надо! Завод без золота провалит план. И он, внутренне трепеща, начал искать: с остервенением двигал мебель, перетряхивал одежду, громыхал посудой. Молоденький, в тенниске, поинтересовался, в чем дело. Подопечный отвечал глухо: — Колечко... Покойной жены колечко... Потерял. Потом сел — почти рухнул — на ковер и заплакал.В воскресенье Валентина отправилась на искусственное озеро, которое помпезно величалось «Морем», где ее уже поджидали новые знакомые, Вадим и Олег. Компания расположилась под большим цветастым зонтом. Разложили закуски, Олег вытащил из сумки-холодильника полдюжины пива, бутылочку коньяка. — Люблю отдохнуть на лоне природы, — Вадим с хрустом потянулся. — Надо быть ближе к природе. Природа делает человека философом. Всякая мало-мальски приличная мысль рождается вдали от шумных городов. А то дышим в душных кабинетах черт знает чем. Сейчас много болтают о сохранении экологического баланса. Но ведь человек тоже входит в этот баланс. — Извините, Вадим, — спросил Олег, сбрасывая с себя пеструю пляжную рубашку, — а что у вас за специальность? — Историк. — Завидую вам. А я всего лишь переводчик, толмач, так сказать. Зарубежный гость произносит: «Бон жур, мон ами советик!» А я, как попугай, перевожу: «Здравствуйте, советские друзья!» Другое дело историк!.. «Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя». А какой раздел истории вас подкармливает, если не секрет? — Интересует, — вы хотели сказать? — Разумеется. Но и подкармливает тоже, не так ли? — И кормит, и даже поит, — улыбнулся Вадим. — Так какой же раздел истории вас поит? Может, вы историк-актуалист?.. «Профсоюзная организация города Славограда в борьбе за окончательную ликвидацию алкоголизма». Все рассмеялись. — Нет, я не актуалист, — покачал головой Вадим. — Я даже новой историей не занимаюсь. Моя специальность в узком смысле — древняя Спарта. Законы Ликурга, гимн Диоскуров... Ах, какой был великий народ — спартиаты! Этот народ гордо говорил: «Пусть другие строят вокруг своих городов крепостные стены. Мы никого не боимся». — Бегство от современности — лучшая ваша рекомендация. Мир одряхлел. Цивилизация сделала из людей жалких хлюпиков. — Ну, вы уж чересчур, Олег, — вмешалась Валя. — Нет, он в известной мере прав, — заступился Вадим. — Вы знаете, я сегодня поймал себя на том, что вот уже несколько месяцев не любовался небом, забыл, что по ночам небеса украшаются прекрасными звездами. Урбанизм губит человека. Опять-таки мой печальный пример. Чтобы провести отпуск на лоне природы — приехал в ваш город. На фрукты. — Как, вы не ташкентский? — удивилась Валя. — Вы, по-моему, узбек, не так ли? — По-моему — тоже, — улыбнулся Вадим. — Но живу и работаю в Москве. Превратности судьбы. — Почему же тогда — Вадим? — спросил Олег. — Дружба народов в действии. А у русского писателя Аркадия Гайдара сын — Тимур. Мне еще повезло. Одного моего школьного товарища родители нарекли Электроном! Отсмеявшись, Олег произнес с пафосом: — Нет, друзья, что бы там ни говорили защитники урбанизации, а на лоне природы чувствуешь себя настоящим человеком. И мысли светлые действительно в голову приходят. — Интересно, — улыбнулась Валя, — какие счастливые мысли посетили сейчас вас? — Одна мысль, Валюша, но, думается, счастливая. Отчего бы вам, Валечка, не пригласить нас к себе в гости? От этих слов Вадим подскочил, словно его катапультой подкинуло. — Слава природе!.. У меня эта мысль на языке сидела. Валя, вы убедились, что оба ваших поклонника люди не из легкомысленных. Но пора все же разобраться. Мы просим: пригласите к себе в гости нас. Чтобы как-то все прояснилось. Раз и навсегда. Валя, промолчав, поднялась, пошла к морю. Молодые люди открыли по бутылке пива. — По-моему, Вадим, — заговорил Олег, с удовольствием попивая пиво, — она вам нравится. — А вам? — Что вы, Вадим! Просто в тот момент, когда я с ней познакомился, мне было тяжко. Плохо жить на свете одинокому человеку. Спасибо, что вы появились, Вадим. Они занялись пивом, изредка поглядывая на Валю, плещущуюся возле берега. — Слушайте, Олег, — спросил Вадим, закусывая сыром, — а как вы относитесь вообще к женитьбе? — Честно?.. После тюрьмы это худшее наказание, какое может быть в жизни здорового, полного сил мужчины. — У вас была возможность сравнивать? — Вы задаете дерзкие вопросы, мой милый. А любовь тогда хороша, когда ты ничем и никому не обязан. Но, став мужем, ты становишься крепостным мужичком. В новой, конечно, редакции. Женщина, которую ты любил по Пушкину — «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты!..» — превращается в возмутительную свою противоположность, шастающую в затрапезном халате, сварливую бабу в бигуди, требующую денег, денег, денег!.. — Это философия, взращенная на кофе со сливками. — Хотите сказать, что вы прошли огонь, воду и все остальное? — Я сказал только то, что сказал. — Послушайте, вы мне нравитесь все больше. С вами можно иметь дело... — А я к вам, Олег, только присматриваюсь. — Отлично сказано, отлично. Из «моря» вышла Валентина, прыгая на одной ноге, выливая из уха воду. Вадим преподнес ей стакан пива. — Не возражаете, Валечка, если и мы окунемся? — Вода прекрасная. — Олег, пойдемте? — Нет, я лучше еще посижу. Не остыл. — Тогда я один пошел. Вадим с разбега бросился в воду, поплыл хорошим кролем. — Классно плавает парень, — сказал Олег. И тут же, с ходу, не дав опомниться, спросил: — Заметили ли вы, что нравитесь ему? — Ну, — игриво ответила Валя, — допустим, заметила. Дальше что? — А дальше, милая Валя, должен вам сообщить нечто чрезвычайно серьезное... Олег умолк. Валя посмотрела на него и поняла: он не шутит. Присев поближе к нему, она услышала: — Слушайте меня внимательно. Человек, который сейчас так замечательно плывет кролем, — тяжкий преступник, его разыскивает правосудие. И я, Валечка, его представитель. Спокойно... Не делайте таких круглых глаз. Ведите себя естественно, как и раньше. От этого зависит успех той операции, которую мы задумали. И, что делать, вы становитесь невольно ее участницей. Когда мы встретимся наедине, я сообщу вам некоторые подробности. А пока ни он, ни кто-либо другой не должен знать, кто я на самом деле. — Но почему именно я оказалась в центре событий? — Дело в том, что ему нужны вы, потому что вы были человеком, близко знавшим Мансурова. Валентина сцепила на груди руки, вздохнула. — И сейчас он не дает мне покоя! Я как знала, чувствовала!.. Что же он совершил?.. Господи! Этого мне еще не хватало! Послушайте, сейчас ходят в городе толки о каком-то золоте. И еще — дерзкое ограбление сберкассы... Не он? — Нет. Но вы невольная его соучастница. Мне хочется вас реабилитировать... Прошу вас, улыбайтесь, — он возвращается. А я как раз пойду и поплаваю. Но молчите. Это в ваших интересах, иначе не ручаюсь за вашу жизнь. Смуглый поджарый Вадим вышел из воды. Олег ловко открыл бутылку пива. — Прошу вас, ученый муж, отведать. Тринкен зи бир, либер зи мир. Пейте пиво, любите меня!.. Я тоже окунусь. Олег с разбега прыгнул в воду. После недолгого молчания Вадим произнес: — Знаете, что я вам хочу сказать, Валя? Только вы не пугайтесь. И обещайте, что все сказанное останется между нами. — Хорошо, — ответила она незнакомым, каким-то металлическим голосом. — Обещаю. Только не надо меня разыгрывать. Я не люблю глупых шуток! — Увы, это не шутка. Я познакомился с вами не только потому, что вы красивая, интересная девушка. Видите ли в чем дело... Человек, который только что здесь сидел, подозревается в преступлении. Она изумленно подняла на него глаза, чувствуя, что вот-вот рассмеется, но, взглянув на Вадима, не смогла издать ни звука. Валентина сидела на песке, приоткрыв — несколько по-детски — рот. — Не надо пугаться. Все идет хорошо, Валюша. Мы вас знаем, и мы в вас верим. Улыбнитесь, пожалуйста, — он возвращается. — Так как насчет приглашения в гости, Валечка? — вытирая лицо полотенцем, спросил Олег. — Что-то я себя нехорошо чувствую, — тихо произнесла Валя. — Солнце припекает. Знаете... Мне пора. Нет-нет, не провожайте. Прошу вас обоих, — не надо. У меня с детства головные боли. А в гости можно, только в другой раз, хорошо? — Как вам угодно, — с грустью молвил Вадим. — Мы сейчас поймаем такси... А может, все-таки проводить?.. Понимаю, мы с Олегом в чем-то провинились. Если так — извините великодушно. — Ну пока, не провожайте. Доеду на автобусе. Она почти бежала к остановке. Может, разыгрывают?.. В памяти всплыло злое лицо Хакима, его волчьи глаза... Нет, какой уж тут розыгрыш?!. И зачем она им понадобилась? Увязая ногами в песке, она шагала к автобусной остановке и размышляла. Вот тебе и поклонники!.. Но кто из них хороший человек, кто из милиции?.. Кому открыться?.. А что открывать-то? Ни о чем преступном знать не знает. Хакима не любила — боялась. А накануне... Пожалела. Перед своим отъездом пришел взвинченный, злой. Не говорил — вроде бредил... И на кладбище пошла не хоронить, не провожать в последний путь, а смотреть — правда ли, что его нет. А главное — какой стыд! — убедиться пошла. А уходя, вдруг разревелась. Жалко стало. До боли душевной стало жаль его — злого, жестокого, унижавшего ее не раз и не два. Бабья жалость одолела. Ведь он бывал не только звероватым. Под хорошее настроение ему ничего не стоило сделать и доброе дело. Однажды старушке ни с того ни с сего подарил сто рублей. Страшно — наповал! — ударил в челюсть пьяного хулигана, оскорблявшего девушку. Был умен каким-то особым, практическим умом; помогал ей, Валентине, решать жизненные ребусы. А сколько заботы проявил, когда скончалась ее мама?! И все же он, ее единственный друг и защитник, был далек от нее. Ей было стыдно за его тюремное прошлое, а он даже кичился прошлым перед ней. Она страшилась его замыслов насчет «крупного дела», а он смеялся: «Валюша, куколка моя! Быть тебе скоро примой на нашем крохотном земном шарике!» И называл ее королевой. А через минуту мог «королеву» обругать страшными словами, ударить! Он исчез, сгинул. И он преследует теперь ее. О, эта сумка из брезента! Зачем она согласилась сшить ее?.. Неужели?!. Сейчас только и разговоров о похищении золота. Взяв тогда сумку, Хаким глянул страшными своими глазами: «Пожелай успеха, королева». А на другой день пришел веселый и бешеный, пьяный. Поцеловал, потом — ударил. Сказал: «Мне бы выбраться за красные флажки!» — «Неужели милиция?» — с трепетом спросила она. «Нет, Валюша, — отвечал, неприятно улыбаясь. — Есть люди пострашнее. Но с ними померяться силами стоит. Провести за нос одного. Ух, как приятно даже подумать! И я сделаю все...» — Хаким умолк. Кого он имел в виду? И так ли случайна его гибель?.. А эти двое! Кто из них кто? Кто-то из них преступник. И он хочет сблизиться с ней, а другого отдалить от нее. Оба назвались работниками правосудия. А может, они оба преступники?! ...Валентина вошла в дом, заперла на оба ключа дверь. Села на диван и долго сидела неподвижно, пока не стемнело. О, как одиноко и тревожно! Она вскочила, нервно заходила по комнате. Что делать? Заявить в милицию?.. А сумка, которую она собственноручно сшила для Хакима! Прочнейшая сумка из брезента, с четырьмя лямками!.. Для чего она была предназначена? Вдруг лицо ее перекосилось от ужаса — ей явилась дикая и такая правдоподобная мысль: «Пуд золота, о котором нынче толкует весь город, похитил с завода Мансуров!.. Он! И сумку просил сшить небольшую. Зачем? Зачем такую прочную и еще на четырех лямках? Он украл... Он! А я соучастница. Кто поверит, что я ничего не знала?.. Принимала от Мансурова подарки. Не было сил отказываться. Даже не спрашивала, откуда у него такие деньги. Страшилась. Потому что боялась его. Опомнилась, дурочка... — Она застонала и испуганно прикрыла рот ладонью. Стряхнула с себя одурь страха. — А я ничего не знаю и знать не хочу. Пусть докажут, что я была с ним заодно». Уже в постели она твердо решила: «Надо идти в милицию. Все это вздор. В милиции быстро выяснят, кто есть кто. А может, это просто дурацкая шутка?.. Олег и Вадим договорились меня разыграть?.. Зачем?» Утром, однако, Валентина в милицию не пошла. Даже нашла этому оправдание: и так опаздывает на работу. Она стояла на автобусной остановке, когда возле нее затормозили бордовые «Жигули». Передняя дверца распахнулась, и Валя увидела сидевшего за рулем улыбающегося Олега. — Салют, Валюша! Мотор подан, прошу садиться. Мигом домчу вас до парикмахерской. Ну же, поспешайте. Начальство торопит, а нам еще надо выяснить некоторые детали. Валентина повиновалась. Уже в машине, набравшись смелости, спросила: — Извините, но... Покажите ваше удостоверение. Олег усмехнулся. — Святая простота! Кто же на такие задания отправляется с удостоверением?.. И пистолета, голубушка, у меня при себе нет. Какой может быть пистолет у скромного переводчика с английского и французского, ха-ха-ха! Тут дело тонкое, не пистолетом орудовать, а головой работать надо. — Я опаздываю на работу. — Не задержу. Несколько вопросов. Мансуров заезжал к вам перед своей роковой поездкой в Самарканд? — Заезжал. Но при чем тут Мансуров? — Мансуров? Его уже, к сожалению, нет. А на нет — и суда нет. А вот что он вам говорил перед отъездом? — Ничего особенного, едет в Самарканд, затем в Бухару. Обещал не задерживаться. — Зачем он туда поехал? — Не знаю. Он со мной не очень-то откровенничал. — Все же постарайтесь припомнить, может, что-то необычное сказал, похвастал чем-нибудь? — Вроде не хвастал. Впрочем... Одна фраза меня немного удивила. Он сказал, что скоро будет жить как король. — Так. «Жигули» мчались по улицам, и у Валентины рябило в глазах от скорости и волнения. — Мне на работу, — несмело повторила Валя. Олег молчал, видно, что-то обдумывал. Сбавил скорость. Спросил тихо: — Оставлял он у вас какие-нибудь вещи? Валя покраснела. Неужели сотрудник уголовного розыска узнал про подарки? — Я имею в виду не подношения и сувениры, которые он вам, возможно, дарил. Свои вещи не оставлял? Чемодан или еще что-нибудь в этом роде, рюкзак, например. — Нет, не оставлял... Ох, нет! Как же я забыла? Перед отъездом он купил магнитофон. «Комета». Тяжеленный такой. Я его еще спросила, зачем ему такой громоздкий маг, когда сколько угодно хороших портативных. А он засмеялся и ответил: «Купил на счастье. Поставь его в платяной шкаф и не трогай. Вернусь — будем с тобой крутить бит-записи и прожигать жизнь...» Однако вот и моя парикмахерская. Олег затормозил. — Погодите, Валя, не выходите, — произнес он жестко. — Мы сейчас же вернемся к вам домой и взглянем на магнитофон. Это очень важно, Валюша! Вы можете очень помочь следствию. — Хорошо. Но мне надо предупредить заведующую. Что ей сказать? Милиция... — Ни в коем случае. Операция совершенно секретная. Пожалуйтесь на головную боль. А если понадобится, мы оформим вам больничный лист. Едва Валентина вошла в вестибюль, на ее плечо легла чья-то рука. Она отпрянула в испуге — и увидела улыбающегося Вадима. — Рад вас приветствовать, Валюша!.. Ба! Да и Олег здесь? Вот не ожидал. Нет, вру — ожидал. Олег был бы простофилей, уклонившись от встречи с вами. Обидно, но ничего не поделаешь. Честное соревнование. Не так ли, Олег? — Ну, — угрюмо произнес Олег. — Что дальше? — А дальше вот что: есть билеты на французский фильм, внеконкурсный! Вентура играет комиссара полиции, прикинувшись главарем банды. Говорят — закачаться можно! — Но я... Как уйти с работы? — Чепуха. Идите и скажите, что к вам приехала тетушка из Сыктывкара, сидит, бедняжка, на крыльце и мучается зубами. Точнее — отсутствием оных. И так далее... Валентина пожала плечами и отправилась к заведующей. Оба «соперника» молчали. Наконец Вадим спросил: — Давно на колесах? — Второй год. — «Спорт-лото» или лотерейный билет осчастливили? — Папа оставил на добрую память. Вадим усмехнулся: — Удачно выбрать отца — тоже великое искусство. Увы, меня не посетила сия муза. А вот и наша Валя. — У меня к вам, Вадим, есть серьезный разговор. — Я всегда, Олег, готов к вашим услугам. — Спасибо. После кино, договорились? — О’кэй! Сидя в машине, Валентина улыбалась, несколько экзальтированно смеялась, слушая шутки «поклонников», а сама мучительно думала: «Теперь ясно, что они следят друг за другом. Кто за кем охотится? А может, они просто договорились?.. Надо держаться, иначе все кончится для меня плохо, очень плохо». Посмотрев кинофильм, посидели в кафе-мороженом. Затем по предложению Олега пошли в «погребок». Оба «вздыхателя» были щедры. Заказывали то одно, то другое, стремясь опередить друг друга. «Господи! — казнилась Валя. — Ну почему я с утра не заявила в милицию? Это же уголовники! Оба зачем-то хотят втянуть меня в темную историю». Валентина вспоминала обстоятельства, при которых она познакомилась с Вадимом и Олегом, и все более утверждалась в той страшной мысли, что она завязла. Даже фамилий их не знает. Если придется давать показания, кто поверит, что она может назвать лишь имена преступников! И какие ловкие, хитрые! Держатся безукоризненно. Никаких нахальных домогательств. Благородные молодые люди, не то в шутку, не то всерьез, ухаживающие за молодой женщиной. Остроумцы, весельчаки — вот и все. Что еще о них можно сказать? И все же Валя чувствовала, что они очень интересны друг другу. Так интересны, что иногда забывали о ней. Вели они себя в высшей степени внимательно и достойно, но за всем этим каскадом шуток и обаятельных ухаживаний чувствовалось нечто иное. Они определенно наблюдали друг за другом. А может быть, это казалось ей после их странных признаний? Но ведь стоит появиться одному, как тут же возникает другой. Кто же за кем охотится?.. Или все это хитрая игра двух сообщников? Она маленькими глотками пила шампанское, поглядывая на кусочек шоколада в фужере, который положил Олег. Шоколад был облеплен пузырьками. Олег и Вадим вели веселый треп. А она думала, думала... Остановив «Жигули» возле ее дома, Олег спросил: — Может, пригласите, прекрасная дама? — В другой раз. Устала, мальчики. Они не настаивали. Вошла в дом, прислонилась к стене, опустив в изнеможении руки. И тут же встрепенулась, бросилась к двери. Заперла. И еще подперла шваброй. Чепуха какая!.. Швабра. Разве она защитит? Давно уже укатили «Жигули» с ее «поклонниками». А Валя все прислушивалась. А вдруг один уехал, а другой остался и подслушивает!? Возможно, они сообщники Хакима, опасаются, что она многое знает, и хотят убрать опасного свидетеля!.. «Надо все же позвонить в милицию...» Она осторожно сдвинула занавеску... Никого. Сделала шаг от окна, и сердце вдруг зашлось, провалилось. Что это? Кто-то шел по дорожке. Поднялся на крыльцо. Раздался осторожный стук в дверь. Почему стучат, когда есть звонок? Валентина замерла, оцепенев от страха. Стук повторился. Скованная ужасом, она еле вымолвила: — Кто? — Откройте, пожалуйста. Не бойтесь, я не хочу вам сделать ничего плохого. Я сам несчастный! — Кто вы? Голос за дверью был знаком, но это не Олег и не Вадим... Наемный убийца?! — Откройте, ради бога! Я — Камалов. Не помните? Вы ко мне приезжали. Однажды Мансуров и я приходили к вам. Пили зубровку. Мне еще плохо стало. Откройте, пожалуйста. Спасите меня! Камалова она вспомнила. Полный, неряшливый, суетливый человек. Мансуров его представил коротко: «Кореш мой. Мастер — золотые руки. Закуску пошарь. Кое-что обмыть требуется». Помедлив еще секунду, Валентина повернула ключ. Камалов вошел, пошатываясь. Она даже подумала, что он пьяный. Впрочем, от него действительно попахивало. Но пьян он не был. Попросил воды. Сел на первый подвернувшийся стул и с ходу спросил, заикаясь: — Валя... Вы ведь Валя, не так ли?.. Вам Хаким не оставлял магнитофон?.. «Комета», кажется. Тяжеленный такой. Он перед своим отъездом вам должен был оставить. Валентина зло блеснула глазами. — Так это вы впутали Хакима в темное дело?.. А на вид тихоня! Что вы натворили? Зачем вам магнитофон?.. Зачем меня теперь преследуют подозрительные типы? Я устала! Понимаете — у-ста-ла! Мне страшно. Проклинаю день, когда встретила этого вашего дружка. Он мне жизнь искалечил! Она распалялась все больше и больше, говорила гневно, не выбирая выражений. А Камалов сидел сгорбившись, нервно жуя губы и ломая пальцы. — Будьте вы прокляты! — вскричала Валентина. — Оставьте меня в покое. Вам нужен магнитофон?.. Вот он! — Она подбежала к шифоньеру, выволокла из него увесистый чемоданчик из серого кожемита. — Вот он. Забирайте его и проваливайте!.. Я догадываюсь, что в нем. Да! И если меня спросят, я не стану молчать. Ради чего молчать? — Это вы правильно решили, — вдруг тихо, буднично произнес Камалов. — Молчать не надо. Я тоже не хочу молчать. Потому и пришел. Я ведь некоторым образом арестован. И это хорошо... То есть не то, чтобы хорошо. Но так надо. И я не жалею. Не надо мне краденого богатства. Я теперь все понял, Валя!.. Только поздно. Была бы жена жива, разве бы я решился! Это все Мансуров. Он волю мою подавил, подмял! А теперь мне отвечать. Мансуров исчез... А они золото ищут! Милиция ищет. И сегодня я вдруг вспомнил, меня словно молнией ударило — магнитофон! И я сообразил: к кому он мог его отнести, как не к вам! К кому же еще? Сейчас его надо... срочно в уголовный розыск магнитофон доставить. К полковнику. Там есть полковник, понятливый, дотошный человек. Он все поймет. Я скажу ему: «Получайте золото! Но прошу занести в протокол, что я его доставил добровольно. Самолично!..» Суд это учтет. Не может не учесть. И вы должны все это подтвердить... Я как вспомнил, утра не смог дождаться!.. И — к вам!.. Спасибо, Валя. Так я беру? Камалов не говорил — шелестел, так распирало его внутреннее волнение. Он приоткрыл крышку, панель, убедился, что пакеты на месте. При этом он говорил что-то себе под нос, как пьяный. — Так я пойду, Валя?.. В моем доме дежурный розыскник сидит. А за воротами темно. Мысли у меня путаются. Я в кухонное окошко выбрался. Меня, должно быть, уже хватились. Минута дорога́, Валя. Этот магнитофон ищет наш сообщник, главарь. Не открывайте никому сегодня. Вас могут убить. Главарь — страшная личность! — Кто он? — хрипло произнесла Валентина. — Хотите верьте, хотите нет, но я его не знаю. Он тайный главарь. Он меня запугивал по телефону, требовал «товар». Он и сюда придет. Заявится. Вы не открывайте. Если что — звоните в милицию. Этот человек хуже смерти. Его боялся сам Мансуров! — Спасибо, утешили, — криво усмехнулась Валентина, ощущая внутри холодок. И вдруг разозлилась на ночного визитера: — Всё?.. Кончили исповедь? А теперь проваливайте с вашим магнитофоном! Надоело все! Камалов в испуге попятился, прижимая магнитофон к груди, и юркнул за дверь. Простучал ботинками по крыльцу, исчез. Валентина тяжко вздохнула. Заперла дверь. Стала раздеваться, чтобы наконец лечь и уснуть. И вдруг подумала: «Обманул, подлец! Не понесет он магнитофон в милицию. Сел, должно быть, на ночной поезд, — и ищи ветра в поле! А завтра нагрянет милиция!.. А я, дура, дура!». Она решительно подошла к телефону. Но от волнения забыла, как звонить: «Ноль два или ноль три?.. Ноль два!» Набрала номер. Услышав голос дежурного, произнесла твердо: «Вы золото ищете?»...
XV
— Ах, лейтенант, лейтенант! — распекал Махмудов растерянного паренька. — Как же это вы оконфузились? — Я не спал, товарищ полковник, — оправдывался лейтенант. — Все время находился при Камалове. Потом он пошел спать. Я смотрю: спит, похрапывает. Думаю, порядок. Понадобилось на минутку отлучиться. Возвращаюсь — нет его! — Если Камалов действительно решил принести золото в уголовный розыск, то его надо искать на подступах к нашей фирме. — Но и вокзалы, аэропорт, автостанции не вредно перекрыть, — добавил Васюков. — Сомнительно, что Камалов к нам шел. Даже пешком он давно дошел бы. Вот уж действительно, неисповедимы пути... Золото хуже алкоголя. Камалов — трус, а не побоялся участвовать в ограблении. И сейчас пустился во все тяжкие. — Философ ты, Дмитрий Алексеевич, — сердито произнес Махмудов. — От такой жизни станешь философом. Дал Камалов тягу, а нам вопросец: «На каком основании не доставили преступника Камалова в тюрьму? Придется виновным отвечать!» Эх, почему я не пошел участковым инспектором? Тихая, спокойная работа. Тебя все знают, ты всех знаешь. Хулиганы шапки перед тобой ломают. Жизнь, как в кино про Анискина. — Поехали искать, — прервал рассуждения Васюкова полковник. Они медленно ехали по притихшим ночным улицам. Рация помалкивала, а это означало, что Камалов в милиции не появлялся. ...Вдруг фары из темноты выхватили человеческую фигуру. Неизвестный шел навстречу машине, суматошно размахивая руками. Шофер притормозил. Человек — молодой парень в клетчатой ковбойке — заглянул в машину и облегченно вздохнул: — Наконец-то!.. Там человек в кювете. Иду с дежурства, слышу — стонет кто-то в кустах. Подошел, гляжу — мужик. Ну, как водится, я подумал: пьяный. А пригляделся — нет вроде. То ли плачет, то ли стонет. За сердце держится. Я к нему, спрашиваю, что болит... Не отвечает. Вроде как чокнутый. Оставить одного пожалел, мало ли что может натворить. И милиции нет. Спасибо, вы завернули... Так я пошел? — Идите, товарищ, — кивнул Махмудов. — Спасибо за заботы. Махмудов с помощниками направились в кусты. Посветили фонариком. «Чокнутый», сидевший в канаве, вздрогнул, отнял от лица руки. Глаза опухшие, испуганные. Эго был Камалов. В кабинете Махмудова он немного успокоился, рассказал, что с ним произошло. — Когда я наконец сообразил, что это за магнитофон, я побежал к Валентине... Почему ночью?.. Боялся, как бы меня не опередил тот, «третий», главарь, который угрожал мне по телефону. Я его никогда не видел, но это страшный человек. Способен на все... Забрав магнитофон с «товаром», тут же поспешил в милицию. Очень торопился. И страшно волновался. У меня, знаете ли, сердце пошаливает. Вот я и присел у арыка дух перевести. И вдруг я слышу шепот: «Не оглядывайся, Камалов! Оглянешься — всё, понял? А чемоданчик оставь, а сам иди, куда шел!»
Камалов молитвенно приложил к груди руки и закончил обреченно: — Я, конечно, пошел, не оглядываясь. Дошел еще до одного арыка, и тут силы оставили меня. Васюков не выдержал, на правах «старого знакомого» и «опекуна» сказал с издевкой: — Ух и мастер ты, Камалов, арапа заправлять! Так тебе и поверили. Мы же эту «Комету» нашли. — Нашли!!! — возопил на радостях толстяк. — Чего радуешься? Смотри, как просиял. Ну ты и артист, Камалов. Не был бы я твоим гувернером и телохранителем, — честное слово, — поверил бы!.. Нет в магнитофоне никакого золота! — Как так нет?! — ахнул Камалов. Камалов, подобно рыбе, выброшенной на берег, стал судорожно хватать ртом воздух. — Васюков! — одернул Махмудов капитана. — Я вас позже кое о чем проинформирую. — Слушаюсь! — Дмитрий с неприязнью покосился на Камалова. Полковник обратился к Камалову. — Следовательно, Камалов, вы решили взять на себя нелегкие функции частного детектива?... Допустим. Хотя немного странно: сам украл золото... — И сам же захотел вернуть золото государству! — с готовностью подхватил толстяк. — Так где же оно? Бронзовые пластинки, обнаруженные в «Комете», тоже ценный цветной металл, или, точнее, сплав. Но это совсем не золото. Камалов сидел бледный, растерянный, покрытый ледяной испариной.
Дорога вилась серпантином по горе. На одном из ее поворотов стоял Олег и любовался с высоты озером, сверкающим будто ртуть, собравшаяся в ложбине. Часть озера пересекала дамба, образуя уютную бухточку со стоявшими на приколе моторными лодками, яхтами. Послышался шум мотора. Из-за поворота показалось такси. Машина затормозила, и из нее пружинисто, спортивно выскочил Вадим — в новеньком джинсовом костюме, в сабо на высоких каблуках; упер руки в бока, эдакий ковбой из голливудского «вестерна». — Привет! — Салют! — ответствовал Олег. — Что-то ты задерживаешься. — Дела, дела... — Отпусти кэб. Пешком прогуляемся. Такси укатило. А приятели не спеша отправились вниз, к озеру. — Где это ты прибарахлился? — Хочешь жить — умей вертеться, — не без самодовольства отвечал Вадим. — Чистокровная «Монтана». — Ладно. Теперь о деле. Где товар? — Сработано чисто. Товар в надежном месте. — Тачку менял? — А как же! Сюда ехал сперва автобусом, потом частника зацепил. Трамвайчиком прокатился. И вот на такси. — Хвоста за собой не приволок? — Какой хвост? Аккуратно все сделано, без шума. — А он как? — Известно — как. Покорно отдал. И пошел себе, пошел, покачиваясь, как плохой актер, играющий короля Лира. — Тебе не кажется, что он на крючке? — Кто его знает? Какая разница? Дело ведь сделано. — Ошибаешься, Вадим, или как тебя там еще... — Не понимаю... Олег усмехнулся. — А вот здесь как раз, среди кусточков, можно и дух перевести. Посидим, а? — Можно. А то я, честно говоря, немного устал. Почти не спал. — Ты еще молодой, Вадик, стыдно тебе уставать. Это мне, пожалуй, простительно. — Ты разве старше меня, Олег? — Года на два, на три. А по опыту — и того поболее. К моим годам ты, Вадим, майором будешь. Впрочем, ты, возможно, уже и сейчас майор. Вадим удивленно воззрился на собеседника. — Это в каком смысле? — А в самом прямом смысле. Ты что думаешь, я фрайер? Я тебя сразу раскусил. Меломан. Растроганный мальчик! Дон Жуан! Нет, ничего не скажу, работал ты неплохо. И девушку кое-когда пронимало, и я чуть было слезу умиления не пустил. Теперь нам надо вновь переходить на «вы». Ведь вы, Вадим... Простите, не знаю вашего офицерского звания... Вы сейчас находитесь при исполнении служебных обязанностей. — Что ты городишь? — Прошу вас, не надо. Я о вас все же высокого мнения. Не хотелось бы разочаровываться. Проигрывать надо достойно. — Ничего не понимаю! — А жаль. Неужели вы вообразили себе, Вадим... Позвольте мне так продолжать называть вас, поскольку я не знаю вашего настоящего имени и фамилии?.. Неужто вы были убеждены, что я введен вами в заблуждение? Вы из уголовного розыска. И первое, на чем вы промахнулись, — это ваше прекрасное имя Вадим. Я знаю узбеков Маратов, Джонридов (в честь Джона Рида), есть даже сын героя гражданской войны по имени Маузер... Но Вадим!.. Очень не характерно. И то, что вы приехали из Москвы, историк, спец по древней Спарте, и остановились у какой-то старушки, а не у родственников, которых у каждого узбека полгорода, — тоже меня насторожило. И то, что вы первым — понимаете ли — первым! — познакомившись с Валентиной, внешне влюбленный в нее — позволяете водить со мной дружбу, согласились на честное соперничество!.. Ох, как вы промахнулись. — Олег! Вы больны. — Совершенно верно. Друг мой, я очень и очень болен!.. Болен в хорошем смысле слова. Я презираю людей. Я выше всяческих посредственностей. Мой идеал — супермен, перешагнувший за пределы суетного мира, презирающий законы, которые выдуманы для защиты беззащитных. На свете не существует ни добра, ни зла. Есть лишь одно — польза! И еще — прекрасное ощущение смертельной игры. И я сейчас с вами играю, милый Вадим. Вы сидите и думаете: «Вот глупец, выкладывается, и за это заработает пару лишних лет!» А мне смешно! Шухрат Ибрагимов, недавно прибывший из Москвы практикант и ставший на время«Вадимом», внимательно смотрел на своего противника. — Дорогой Олег, то, что вы сейчас рассказали, не имеет ко мне никакого отношения. Ваши суждения — плод больного воображения. — И прекрасно. Плод. Но согласитесь, — великолепный плод. Скажу вам по секрету... Мы сейчас шли по горной тропинке. Вы впереди, я — сзади. Слева — пропасть. Ну что стоило мне слегка подтолкнуть вас в спину?.. А я этого себе не позволил. Во-первых, из уважения к вам. Во-вторых, — из принципа. Я убежден, что людей следует убивать в самых крайних случаях. — Непонятно, Олег. Если принять на веру все, что вы сказали, мне в самый раз лежать на дне ущелья. — Не скажите, мой друг. По мельчайшим вашим промахам и по причинам, о которых уже упоминал, я понял, с кем имею дело. И я сперва возгордился. Надо же! Чуть ли не Джеймса Бонда на меня натравили. Я проникся к вам, Вадим, добрыми чувствами, а добрые чувства никогда не доводят до добра. К тому же мне стало ясно, что вас вывели на меня, а нас обоих держат на крепком поводке. Зачем же мне вас убивать? Да и вообще наши с вами отношения стали напоминать встречу боксеров, которых вот-вот дисквалифицируют за пассивное ведение боя. А за такой бокс, сами знаете, снимают с ринга. Кому-то надо было атаковать. Тогда я сказал себе: а почему бы и нет? — С вами не соскучишься, — улыбаясь, сказал «Вадим». — Забавный вы человек. Но чего вы добиваетесь? — А это уж как вам угодно понимать. Но я кое-что скажу. Чтобы раздразнить вас. Я всегда уважал противника, даже если он этого не заслуживал. И вот итог: я кое-что сделал на своем коротком веку. Но ни разу не был на жесткой скамье, которая называется скамьей подсудимых. Это потому, что я талант. Жестокий талант, если хотите, но талант. Я ни во что не верю. У меня нет идеалов, за которые вы и такие, как вы, кладут жизни. Сияющие вершины — это для дюжинных людишек. Зачем мне строить светлое будущее, за которое меня мои потомки будут поносить?.. Пример житейский. Вы старались, приготовили вкуснейший борщ для своих детей, а они садятся за стол, пробуют и говорят презрительно: «Опять пересолил, батя!.. Да мы лучше бутерброд с колбасой пожуем. И не модно нынче борщи поглощать». — Однако... — Погодите. Кстати, Вадим, вам джинсовку «Монтана» выдали на работе напрокат?.. Ну, ну, не изображайте удивление. Лучше послушайте внимательно. Я горел желанием задать вашей фирме задачу с тремя неизвестными. Продумал все до мельчайших подробностей. Но... Угораздило же Мансурова врезаться в бульдозер! Но это даже упрощало дело. И вам полегче — задача с двумя неизвестными. Ну, одного, Камалова, вы быстренько раскрыли. И это, честно говоря, лежит тяжким грузом на моей душе. Трус всегда трус... Но не в нем дело. Мы с Мансуровым вели интеллектуальную игру. Он хотел меня объегорить с золотом. Я — его. О, это великолепная была игра!.. «Вадим» посмотрел на «приятеля» вдумчивым взглядом. — Поражаюсь, зачем вы мне все это говорите, если я, как вы утверждаете, из уголовного розыска? — Прошу, бывший Вадим, оставьте свой образ веселого отпускника, влюбленного в историю древней Спарты! Не обижайте. — И не подумаю. Мало ли что вам в голову взбредет. Но рассказываете вы интересно. — Рассказываю потому, что с меня у вас, ментов, взятки гладки. Попробуйте арестовать? Через три дня я напишу жалобу прокурору. Не имеете права держать меня за решеткой, не предъявив через три дня мотивированного обвинения. — Я хочу сообщить о магнитофоне, а вы всё за свое... — «Комета» давно уже в милиции. Только начинка у нее не музыкальная. Представляю, какие физиономии были у Махмудова и его присных! Шухрат Ибрагимов весело поглядел на Олега. — У вас, мой друг, навязчивая идея. Право, забавно. Но если уж вам так хочется... Давайте сыграем в «казаки-разбойники». Будем исходить из нелепого вашего предположения, что я майор милиции, хотя это, извините за резкость, — бред собачий! Я всего лишь скромный историк, угодивший в неприятную историю. — Бросьте, милейший. Ну, не майор, так капитан... — А уж это совсем нехорошо, — рассмеялся «Вадим». — Мне обидно, что вы лишаете меня майорского звания. Нет уж, пусть я буду майором. А теперь — выкладывайте подробности ограбления. — Подробности, майор?.. Смеетесь. Это вы выкладывайте подробности ограбления честного прохожего по фамилии Камалов. Вы отняли у него магнитофон по моему поручению. Но кто это сможет доказать? Еще древние римские юристы вывели железную формулу, которой придерживается и наше уголовное право: «Тестис унус — эстис нуллюс», то есть: «Один свидетель — не свидетель!». — Найдутся другие свидетели. — Кто, Камалов? Или, может быть, Валентина? А что они могут показать?.. Я не похищал золота. Я не похищал даже магнитофона «Комета». Это вы ограбили Камалова. И тут вы, прямо скажем, перегнули палку. Слишком натурально вошли в образ некоего Вадима, историка. Вы должны отвечать за свой некрасивый поступок как за грабеж. Такие дела, бывший Вадим. Шухрат, лежавший на жухлой траве, мило улыбнулся. — Я хотя и историк, но знаком и с основами юриспруденции. Поступки человека оцениваются по субъективной стороне деяния. — Мне это известно. Так называемое объективное вменение в нашем праве не существует. Я уважаю свою специальность, бывший Вадим, и потому внимательно слежу за нужной литературой. В нашей стране наказания без доказанной вины не существует. И это прекрасно! Чего вы, дорогой мой сыщик, добились, навязав мне свою дружбу? Арестуйте меня. И что? Что вы мне предъявите?.. Ничего! А вас можно привлечь к ответственности. Я дам показания о том, что вы, выслушав мой рассказ о Камалове, отправились его грабить. И Камалов может ваш голос узнать, хотя вы и угрожали ему шепотком. Шухрат помолчал. Затем произнес вкрадчиво: — Давайте, Олег, вот о чем подумаем... Есть, как я слышал, в юриспруденции такое понятие — мотив преступления. Действия людей, их оценка зависит от внутренних побуждений. Вот, скажем, взял человек и отрезал своему ближнему ногу. Зверское преступление?!. Не торопитесь с выводами. Надобно знать, какими мотивами руководствовался этот, на ваш взгляд, изверг. И вот выясняется: человек, причинивший страшное увечье, — всего-навсего хирург, который ампутировал ногу, пораженную гангреной. Врач спас человеку жизнь! Им двигали самые благородные, гуманные мотивы. — Все это прекрасно. Но вы же по моему наущению ограбили Камалова, отняли у него магнитофон с золотым содержимым! — Хм... А представьте себе, Олег... В порядке фантазии, разумеется... Представьте, что существует где-то... — «Вадим» неопределенно помахал над головой рукой, — что существует бумага... Этакий, знаете ли, протокол, в котором зафиксированы действия некоего майора... Я майор или капитан?.. — Ладно, будьте майором, мне не жалко, — милостиво разрешил Сагитов. — Премного благодарен!.. Так вот, в той бумаге зафиксированы мотивы моих действий по отношению к Камалову. Допустим, в той бумаге еще сказано: «Задержать такого-то, изъять у него магнитофон «Комета», в котором, по предположениям, находится золото, похищенное с такого-то предприятия». — Ловко! — Элементарно. И заметьте, я ведь не представлялся грабителем. Просто сказал Камалову, подойдя к нему сзади: «Не оглядываться...» и еще что-то в этом роде. Я мог бы так поступить и как официальный представитель карающих органов. «Приятели» помолчали. Наконец Сагитов произнес, посмеиваясь: — Люблю иметь дело с достойным противником. Вы, бывший Вадим, держитесь молодцом. А у самого небось на душе кошки скребут. Вот перед вами я, Олег Сагитов. Организатор похищения пуда золота. А взять вы меня не можете. Потому что наше уголовное право проникнуто гуманизмом. Как сформулировал основатель классической школы права Чезаре Беккариа в своем знаменитом трактате «О преступлениях и наказаниях»?.. Он провозгласил: «Лучше оправдать десять виновных, нежели осудить одного невиновного». И наша юридическая наука и судебная практика строго придерживается этого замечательного принципа. — Ну уж коль скоро вы начали ученую дискуссию, — заметил Шухрат, — то не худо бы вам вспомнить и о формуле Бентама. — О том, что всякий преступник — плохой счетчик, не может разумно подсчитать все выгоды соблюдения законов! — досказал Сагитов. — А я не бухгалтер. Сильная личность не нуждается в арифмометре. — Сильная личность... Белокурая бестия, — усмехнулся майор. — Все это уже было, Сагитов, и очень плохо кончилось для тех, кто проповедовал человеконенавистнические бредни. — Вот что, бывший Вадим, давайте закончим эту милую беседу. Я получил удовольствие от своеобразной дуэли с вами. Торжествую свою победу. Мне больше ничего не требуется от вас. А вы, пожалуйста, смело и бодро шагайте к начальству с рапортом. Можете представить нашу схватку окончившейся как бы боевой ничьей. Я же, грешный, отправлюсь по своим делам. У меня ведь есть и официальное занятие. А у вас, наверное, все еще теплится эта надежда? — Какая же? — Ждать, что я постараюсь вас убрать и захватить золото. Ведь теперь путь к золоту — по логике вещей — через ваш труп. — В этом есть свой смысл. — Но так может быть только в скверных детективах. Убрав вас, я действительно становлюсь преступником. А я этого не люблю. — А не боитесь, что сейчас вдруг выкатит из-за поворота милицейская машина и на вас очутятся наручники? — Нет, не боюсь, бывший Вадик. Не арестуете вы меня. Нет у вас еще достаточных улик, и, что самое интересное в этой истории, не будет их. Никогда. Не брал я золота этого в руки и брать не буду. Вы понимаете, в чем суть? Свобода не знает цены. Так вот. — И вам нисколько не жаль затраченных трудов, утраченных грез?.. — Грез?.. Помилуйте. Это была игра. Мир так скучен, так банален, в конце концов, что хочется игры. Рискованной игры, щекочущей нервы. Обратите внимание, я, еще не имея золота, уже купил себе удовольствие своеобразной дуэли с вами. Думаю, вы меня понимаете. — Не совсем понимаю, но все же... В вас что-то есть. — Надеюсь, вы не начнете меня агитировать податься в сыщики? Ну, а теперь, хоть вы и интересный собеседник, мне пора. Меня ждет работа. Это вы, счастливец, трудитесь в соответствии со своим призванием. А мне за мои игры зарплату не платят. И не расстраивайтесь, золото вы нашли. А это главное. Так что еще и благодарность получите. Ну, а я буду жить как жил. А вообще-то я тщательно соблюдаю даже мелочные правила общежития. Ни одного прокола за нарушение правил дорожного движения. А если хожу пешком, перехожу улицу только на перекрестках... Однако мне пора. Внизу, на набережной, мой «Жигуль» ожидает. Могу подвезти. — Не откажусь, спасибо. — Значит, не желаете порвать наше знакомство? — Ни в коем случае. Очень интересно с вами. И игра такая забавная... Умственная гимнастика. Но насчет моей персоны, уверяю вас, вы ошибаетесь. Я всего лишь скромный историк, прибывший в ваш город на фрукты.
XVI
Полковник Махмудов вышагивал по кабинету, поглаживая гладко выбритый подбородок. — Ум за разум заходит! Ну и фрукт этот Сагитов. Сумел раскусить нашего «московского узбека», майора Ибрагимова! И какой нахал! Действительно, сейчас его брать невозможно. Где... Где золото? И зачем надо было подкладывать в «Комету» бронзовые пластинки? Рахимов промолвил: — Насчет подмены золота в маге бронзой... Дело ясное. Мансуров, видимо, хотел надуть Сагитова, планируя либо скрыться с золотом, либо уверить главаря в том, что во взломанном сейфе умышленно хранили бронзу, а золото упрятали в другое, более надежное место. — А я так думаю, — произнес Васюков, — может, Валентина лишь прикидывается тихоней, а сама по приказу Мансурова подменила в маге золото бронзой? — А я так не думаю, и больше того, почти уверен, что она ничего не знала о золоте, и еще, если верить тому, что глаза — зеркало души, Валя рассказала все, что ей было известно. Ты помнишь, какие у нее были при этом глаза? — торопливо сказал Икрам. — Те-те-те!.. — Дмитрий улыбнулся до ушей. — С тобой все понятно, уж не влюбился ли ты, друг мой, в эти правдивые глаза? — Прибереги свои шуточки до другого раза. — Опять схватились, братья Аяксы, — полковник досадливо махнул рукой. — Давайте лучше о деле, а о глазах поговорите после, во внеслужебное время. — Да, тем более, что внеслужебного времени у нас очень много! — иронически заметил Икрам. — Что касается Валентины... Не спорю, она скомпрометировала себя близкой дружбой с уголовником. Однако, когда они познакомились, она не знала да и не могла знать о его прошлом. Вспомни, что она говорила о Мансурове. Поначалу он был добрый, ласковый, а потом, когда сблизились, стал часто появляться под хмельком. В такие моменты он бывал каким-то злым, бешеным, мог приласкать, мог и ударить. Не забывайте, как раз в ту пору у нее умерла мать. Девушка осталась одинокой... И вот появилась опора в жизни... — Дорогой Икрам, мы непременно примем это во внимание, правда, Дима? — лукаво взглянув на Васюкова, сказал Махмудов. — У меня вот никак не укладывается в сознании, какой был смысл Мансурову прятать бронзовые пластинки в магнитофон. В Самарканде-то он предлагал продать золото. Никак это все не вяжется между собой. Я все-таки склонен думать, что подмена — дело рук Сагитова. — Может, заодно на участке настройки выяснить насчет магнитофона? Вдруг Мансуров приносил его туда? — предложил Васюков. — Там в рабочее время и бритвы чинят, и радиоприемники. Правда, я очень сомневаюсь, что Мансуров это мог сделать. Не такой он был дурак. — Когда только успевают? — вздохнул Махмудов. — Участок работает с полной нагрузкой лишь в конце месяца. Старая беда — авралы. А бывают дни, когда рабочие сидят полсмены без дела. Поневоле займешься отхожим промыслом, — отозвался Рахимов. — Но я насчет магнитофона уже проверил. Не приносил его Мансуров. Да и зачем? Чтобы были лишние свидетели, улики? Он мог вполне свободно распотрошить магнитофон и за пределами завода, в этом деле особого умения не надо. — Вот-вот, и я о том, ломать не строить, — закивал головой Васюков. — Ну, а как по-вашему, кому пришла в голову вся эта история с магнитофоном? Рахимов и Васюков отвечали одновременно, не задумываясь: — Конечно, Сагитову. — А может быть, в этой истории есть и «четвертый»? — предположил Махмудов. — Тогда этого «четвертого» нужно тоже искать на заводе... — Не обязательно, Дима, надгробную пластинку Камалову мог подложить и Сагитов по указанию «четвертого», главаря. — А если так, друзья мои, то вот явилась мне какая мысль... Очень может быть, что Мансуров, узнав о желании главаря спрятать похищенное золото в магнитофон, на досуге придумал, в свою очередь, надуть и Сагитова. Однако он не успел завершить подмену — врезался в бульдозер. А подмену совершил сам Сагитов. Он же парень не промах. И ходит теперь, посмеиваясь в кулачок над всеми. — Но магнитофон хранился у Валентины, — заметил Рахимов. — Ну и что с того? — тут же возразил Васюков. — Сагитов мог подобрать ключи к дому девушки с прекрасными глазами, столь тебя поразившими. — Вот это-то и надобно вам доказать, действуйте, — проговорил полковник, шагая по комнате из угла в угол.Двое молодых людей сидели в открытом кафе. По их лицам можно было заключить, что беседуют либо коллеги по работе, либо старые добрые друзья. — Мне так кажется, Вадим, — заговорил Олег, с ехидством произнося последнее слово, — вы решили реабилитировать себя в глазах начальства. А то с чего бы опекали меня так плотно, что я постоянно чувствую ваше присутствие. — Ну, раз вы, Олег, не исключаете такую возможность, не буду вас разуверять. Вам же нравится эта игра — водить милицию за нос. Поводите еще немного. Очень прошу, доставьте себе такое удовольствие. — Честно говоря, мне с вами приятно общаться. После нашего знакомства я стал лучшего мнения о вашей конторе. Ее престиж растет прямо на глазах. Только одного я не пойму. Ну зачем вам, бывший Вадим, надо было селиться у какой-то выжившей из ума бабули?.. Всего за червонец я выяснил: у нее, у старухи, поселился московский красавчик, ученый муж, который почему-то решил провести время отпуска не в самых удобных для отпускника условиях. Зачем?.. Мало, что ли, у нас санаториев, домов отдыха? Или исчезли у нас прекрасные домики на лоне природы? Нет, вы решили отдохнуть в густонаселенном доме старой постройки. Явный вышел прокол в вашем ведомстве. Я бы лично поселил вас в лучшей гостинице! Это престижно и впечатляет. А так что вышло? Сплошное недоумение и только, а все из-за экономии. — Ну, а почему уставшему от городской суеты отпускнику и не остановиться у тихой старушки? Покой и благодать: спи сколько хочешь, не вздрагивая от рева гостиничных пылесосов и перебранки горничных. Так что, «друг» мой Олег, зря вы на мое, в кавычках, разумеется, ведомство всех собак вешаете Дело тут не в экономии. Не все же так фетишизируют деньги, как вы... — Да. Не стану кривить душой, я люблю деньги. Они как-то очень мило скрашивают жизнь. Но перейдем к делу, которое вас принуждает ходить за мной. Это золото, о котором вы так печетесь, — оно не полностью завладело мною. Захотелось мне до слез, до судорог, сыграть партию с вашей фирмой. Контора ваша вооружена самыми новейшими приборами, работают в ней спецы, так сказать, криминалисты милостью божьей. А я один против этого монолита. Разве не интересно схватиться?.. Поверьте, подобные поединки рождают в памяти бессмертные строки, надеюсь, известного вам поэта: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю!..» — А вы не боитесь, Олег, — спросил майор, — что в кармане у меня портативный магнитофон... — Помилуйте! Этого я от вас просто не ожидал! — воскликнул Сагитов и даже руками замахал протестующе. — Жить в правовом государство — это же чудесно! Магнитофонные записи недействительны. Не мне вам говорить об этом, майор. Мало ли в какой обстановке их смогли записать? Могли быть в записи купюры, монтаж. Да и сам голос... Небезызвестный вам пародист Владимир Винокур сымитирует любой голос. Не всегда есть возможность доказать, что голос на пленке принадлежит человеку, обвиняющемуся в семи смертных грехах. Так что не обижайтесь, но не думайте обо мне так плохо. — Не забывайте, что вам могут предъявить обвинение. — В чем?.. Что я участвовал в хищении золота?.. Ха-ха. Во-первых, этого не было. Во-вторых, знаете, за что я уважаю наше правосудие? Хотя бы за то, что оно содержит в себе такую важную штуку, как презумпция невиновности. Послушайте, как звучат эти чудные слова: никто не должен доказывать свою невиновность, пока не будет доказано обратное, то есть вина. Моя вина! На мне, стало быть, вовсе не лежит бремя доказательств своей невиновности. Это — ваша забота! А раз так: примите мои искренние сочувствия! — А ведь вы обеспокоены, Олег, — улыбнулся «Вадим». — Зря вы мне сейчас про презумпцию невиновности говорите. Тем самым вы выдаете свое беспокойство, если не сказать точнее — страх. Пытаетесь зондировать почву, хотите проведать, что милиции еще известно, не так ли? Вы утратили уверенность в себе. А это ой как плохо! — А вы? — криво улыбнулся Сагитов. — Я смотрю, вы уверены в себе. — Что я?.. Я всего лишь скромный историк... Мне просто интересно... — Вот как! Но и вам радоваться нет оснований. Начальство небось уже сняло с вас стружку, «историк». Сказало наверняка начальство: «Не оправдал ты, парень, доверия. Вычислил твою легенду Сагитов...». — И все-то вы знаете, — кивнул майор. — Хитроумный вы человек. Талант, ничего не скажешь. Однако талант не добрый, преступный, извините за откровенность. — А я и сам это знаю, — расхохотался Сагитов. — Какой уж есть. Как говорится, чем богаты, тем и рады... Майор Ибрагимов допил кофе, закурил сигарету. Глянул испытующе на своего «дружка». — Давайте по-честному. Олег. Зачем вам было подменять в магнитофоне золото бронзой? Серые, стальные глаза Олега пристально уставились на майора. — Вы мне насчет золота не заливайте. Хотите на всякий случай потрясти? А это уже шантажом попахивает, и вас, я думаю, за это по головке не гладят. Надо, дорогой майор, соблюдать этику профессии. Или вы решили немного порезвиться? Какая к черту бронза?!. Взяли золото — и радуйтесь. А вот меня не взяли — это ваша печаль. — Зачем же мне вас разыгрывать? Я же сказал — золота в магнитофоне нет. — Не может быть! — глаза Сагитова сузились, стали насмешливо-злыми, хищными. — Ваша работа? Признавайтесь! — Ну нет, — Ибрагимов усмехнулся. — Вы же представили меня Валентине Волковой опасным преступником. И тем самым закрыли для меня двери ее дома. Вы же в ее глазах — карающий меч правосудия. — В этом моем поступке ничего криминального нет и объяснить его проще простого — я хотел отшить вас как соперника. Все логично, — задумчиво проговорил Сагитов. И сразу же, после небольшой паузы, зло выдавил: — Сука... Кого обманул, падаль... Ну дает. В гробу бы тебе перевернуться. Сам сгинул и пудик золота похоронил. — Это вы про Мансурова? — спросил майор. — А про кого же еще. Гад, жиганец проклятый! Был бы он жив!.. — Вас послушать, Мансуров специально погиб, чтобы вам досадить. Вроде нехорошо так отзываться о своем бывшем дружке. — Ладно, хватит. Никакой он мне не дружок. Так, работали на одном заводе. И вообще, я ничего не знаю. Ясно вам? К золоту вашему не причастен. Пока... Он встал, вынул из кармана ключи от машины. Уходя бросил: — А про этот разговор забудьте. Его не было. И меня нет в этой истории. Всё, точка. Хватит баловаться. Оревуар, бывший Вадим. Сагитов сел в машину, и через несколько секунд «Жигуленок» скрылся за поворотом дороги, раскаленной от поднимающегося дневного зноя.
XVII
Капитан Васюков гневался. Наглец Сагитов не давал ему покоя. — Я уверен, что на заводе найдутся люди, которые подтвердят, что между Мансуровым и Сагитовым была связь... — Преступная связь и просто знакомство, дружба, суть вещи разные, — напомнил полковник Махмудов. — Впрочем, не будем отбрасывать совсем и эту возможность. Может, что и найдете любопытное. Дмитрий ушел. И тут же появился майор Ибрагимов. Вид у него был не лучший. Виноватое выражение лица, понурость. — Полно горе горевать, майор, — подбодрил Ибрагимова полковник. — Обидно, Фарид Абдурахманович. Моя вина. Раскрыл меня Сагитов. — Все гладко да четко бывает в мечтах, Шухрат Ибрагимович. Хитер оказался твой подопечный, ловкач. Такому палец в рот не клади. Но кое-что тебе удалось. Да что там кое-что — многое! Ты же помог сузить поиск, ты, как и мы, знаешь теперь — кто заварил кашу. Дело за доказательствами. И в этом направлении не ты один, много людей работают. — Получается, что они все ошибку мою исправляют. — Ошибку... — вздохнул Махмудов. — Дело наше такое, что сразу-то и не скажешь, где и в чем ошибся. Иногда и победа оборачивается поражением. И напрасно твой «приятель» Сагитов радуется. Я не хочу говорить тебе банальностей. Ты знаешь без меня — за ним ничего не стоит. Он — волк-одиночка. — Утешаете, Фарид Абдурахманович? Спасибо и на этом. — Пошли на воздух, майор. Грешно в кабинетах долго засиживаться. Они вышли на улицу. Огромный город шуршал автомобильными шинами, шумел, мельтешил людскими толпами. — И откуда такие, как Сагитов, берутся? — негромко произнес Шухрат. — Ладно, ладно, а то сейчас начнешь философствовать. Они остановились возле магазина «Телевизоры». Выставленный на витрине цветной «Фотон» показывал фильм «Берегись автомобиля». — Помните, как начинается эта картина? — спросил Ибрагимов. — Нет, не припоминаю. — Она начинается словами: зритель любит детективные фильмы: приятно чувствовать себя умнее автора... — Это ты к чему, Шухрат Ибрагимович? — К тому, что Олег Сагитов тоже зритель. И сейчас он с удовольствием чувствует себя умнее нас всех. Махмудов рассмеялся. — Ничего, цыплят, как говорится, по осени считают. А в кино вот я давно не был. И фестиваль еще не кончился, посмотреть бы кое-что, да где время взять. Тут не до кино. Семью-то почти не вижу. Ну, а ты и на фестивале уже побывал, давай-ка присоединяйся к группе Рахимова. Дел еще невпроворот.Махмудов стоял у окна и с угрюмым видом жевал бутерброд с сыром, запивая остывшим чаем. На обед в свою столовую он опоздал. «Все равно сегодня «рыбный день», — утешил он себя, покупая в буфете бутерброды. Настроение у Махмудова испортилось после разговора с генералом Ткачевым. — Не могу себе простить, что я пошел у вас на поводу. Нужно было арестовать Мансурова в самаркандской гостинице, устроить очную ставку с Камаловым, и вы бы давно вышли на этого «третьего». Теперь вот вынуждены тянуть кота за хвост, — ворчал генерал. Слушая генерала, Фарид Абдурахманович в душе согласился с ним. Но кто мог предвидеть эту автокатастрофу? Все же шло как по писаному... Допив совсем уже холодный чай, полковник решил заглянуть к майору Рахимову. В прохладном помещении архива в одиночестве сидел за столом Икрам, напоминая прилежного ученика. Сидел, подперев голову рукой, и увлеченно что-то изучал. — Расшифровываешь письмена древних ацтеков? — спросил Махмудов, садясь напротив. — У меня тут занятие куда интереснее. В этом прохладном местечке нашел я нечто любопытное. Вот посмотрите, пожалуйста. Это дело Лисовского, известного в прошлом специалиста, мастера по изготовлению украшений из золотых заготовок приискового золота. Лисовский был дважды судим за эти дела. К нему часто обращались те, что с законом не в ладах. Достигнув почтенных лет, вроде бы осознал свои заблуждения. Сейчас в добром здравии, живет в нашем городе. Работает часовым мастером в комбинате бытового обслуживания. Рахимов замолчал, просматривая свои записи, потом добавил: — Так что не исключена возможность, что человек, имеющий много золота, может обратиться к нему. В городе это самая подходящая кандидатура. Я поручил своим навести о Лисовском справки. Говорят, капризный старик и нам помочь наверняка откажется, потому как еще придерживается своего кодекса «чести». К нему надо будет найти подход. — Что еще? — Еще я просмотрел преступления, которые совершались под руководством «дирижера». В основном мелкие грабежи, кражи. То киоск мальчишки взломают — дядя взрослый подучит, то прохожего оберут. Но вот одно дело мне показалось очень любопытным. Два парня были задержаны во время попытки ограбить «Ювелирторг» в Чирчике. Работали по железно рассчитанной схеме. До этого один из них был дважды судим за хулиганство: драки, поножовщина. Другой — «бич» районного уголовного розыска — пьяница, дебошир, любитель побаловаться морфием. Он-то и имел контакт с «дирижером». Но случилось так, что этого второго, его фамилия Щекочихин, еще до суда госпитализировали в психиатрическую больницу: галлюцинации, бредовый синдром, провалы в памяти. Врачи дали заключение: результат безудержного употребления морфия и спиртного. Короче говоря, на суде о «дирижере» говорил тот, второй, который его и в глаза не видел. В конце концов «дирижера» так и не установили, и дело в отношении его пришлось оставить за нерозыском. — А чем кончилась болезнь Щекочихина? — Он поправился. Отбывает еще срок. Правда, на суде Щекочихин утверждал, что не может вспомнить, где встречался с «дирижером». Говорил: забыл все начисто. Забывчивость свою объяснял перенесенной болезнью. К делу больше не возвращались. — Установили, где он отбывает наказание? — Да. Я записал номер «почтового ящика».
Махмудов и Савельев расположились на лавочке возле цеха. Там, где, пообедав, рабочие садятся перекурить перед работой. Старик жмурился на солнышке, покуривая сигаретку. — Как трудовые успехи? — начал издалека полковник. Бывший «медвежатник» оказался на удивление острым на язык. — Трудовые успехи у меня нормальные. А вы все ищете, долгонько. В наше время так долго не ловили. Вы-то, пожалуй, тогда уже работали. — Неужели уж я так старо выгляжу? Правда, некоторых из вашего поколения я в деле застал, когда перешел работать в милицию. А вот один как-то мимо меня прошел... — Надо же, так и прошел? Даже и не остановился? Вы вот что, товарищ Махмудов, говорите-ка прямо, для чего ко мне пожаловали? А то я ведь стар стал, намеки перестал понимать. Полковник, несколько смущенный прямотой собеседника, спросил: — Чего уж там!.. Скажите, Степан Семенович, знали ли вы Лисовского? — Самсона, что ли? Кто ж его в городе-то не знает? Фигура. Бывшая знаменитость. Но нынче интерес к нему пропал. Как и я, за ум взялся. А раньше шибко популярным был. Женщины его примечали. Знакомства с ним искали. Драгоценности делал — одно загляденье. Руки у него золотые, что и говорить! — Из краденого золота? — Почему же? Не всегда из краденого. Но ему было все равно. Лишь бы золото, платина. А почему вы меня об этом спрашиваете? Опять, что ли, Самсон тряхнул стариной? — Нет, Лисовский ведет себя прилично. А заговорил я о нем потому, что вы его хорошо знаете. Надо бы по-человечески потолковать с Самсоном Давидовичем. Хотим попросить его помочь нам. Возможно, он знает или просто догадывается, кто взял золотишко. Не вам, Степан Семенович, объяснять, какие последствия грозят заводу, если мы не найдем золота. — С этого бы и начинали. А то разговоры... «Как трудовые успехи?»... Я хошь и завязал давно, но мораль прежней моей жизни соблюдаю. И никогда бы не пошел на то, чтобы «стукнуть» на бывшего кореша. Но тут особая модель. Тот гад, что золотишко взял, сколько хороших людей под удар поставил!.. С будущего месяца ни заработков, ни премий!.. Считай, у рабочих украл. В мое время таких подлюг в сортире топили. Гнида, одним словом! — Я и пришел к вам, Степан Семенович, попросить вас потолковать с Самсоном.
Лисовский, поглядывая на старого дружка, заваривал чай. Спросил вроде так, между делом: — Может, чифир сварганить? Вспомним молодость. — Ну его к черту, этот чифир! У меня с него сердце надорвалось. Нашел что вспомнить, Самсон! Худо мы с тобой молодость растранжирили. — Оно, конечно, верно. Угарно прожили. Зато остаток жизни вроде ничего доламываем, а? — Ну, а здоровье-то как? — Чего-чего, а этого немного осталось. Годы, они дают знать. Видеть вот плохо стал. А без глаз в моей работе — беда. В очках и то уже не то. Хоть профессию меняй. — Слушай, милый, — произнес тихо Савельев. — Дело есть. Помоги. — Я делами, Степа, больше не занимаюсь. Часовой мастер. Живу неплохо. Все, что человеку надо, — есть: приемник, телевизор, холодильник. Телевизор, правда, старый, черно-белый. Сейчас на цветные мода. А на что он мне? Я дальтоник. — Я, Самсон, о честном деле толкую. Слышал, наверное, грабанули на нашем заводе золотишко. А без него заводу зарез. Беда прямо-таки. У нас там поговаривают — новое пришлют сырье-то это рыжее. А вдруг не пришлют? Волнуются работяги. Разве ж мы когда с тобой трудовой народ наказывали? Да ни в жизнь!.. Нэпманов щупали, всяких подпольных богачей, а трудягу — ни в жизнь! — Это факт! — Лисовский разлил по чашкам чай. — Я, собственно, почему золотишком занимался? Это ж не хлеб, не мануфактура, без которых человеку никак не жить. Золотишко — баловство. У кого есть много, тот с жиру бесится. Такого и наказать не грех. — Скажи по совести, Самсон, не приходил ли кто к тебе, как к спецу по переплавке золота?.. Ну, значит, помочь сделать что-то? — Не, Степа, не приходил. Разве что иной раз золотые часы принесут в починку. Да и то редко. Не любят нынче золотые почему-то. — Ты не крути. Я не о том. Переплавить золото — уметь надо. За этим никто не захаживал? Золотых дел мастер испытующе посмотрел на старого приятеля. Поправил на носу старомодные очки. Помолчав, сказал не без гордости: — А я его послал куда подальше. Взял и сказал: «Пошел-ка ты!..» Савельев вытащил из кармана фотографию: — Не этот? — О! Да, я смотрю, ты, Степ, легавым стал. Савельев смерил старого друга взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. — Ты, Самсон, того, не заговаривайся. Я ж те, дурню, битый час втолковываю, почему к тебе пришел... — А ты, Степ, все такой же, горячий. Я грешным делом подумал: вот и пришел тебе конец, Самсон. Лисовский, виновато улыбаясь, встал из-за стола, взял в руки снимок, скользнул по нему оценивающим взглядом. — Не, это не он, это же фраер какой-то. — А тот каков? — Тот художником представился. И вид взаправду как у художника: волосы лохматые, борода, блуза вся испачкана краской. В темных очках. Только вот чуток приблатненный. «Мне, — говорит, желательно статуэтку выплавить». И мнется так, мнется. «Уже не из золота ли?» — спрашиваю. «Да, — говорит. — Полтора килограмма золота от бабушки осталось». Так и сказал: от бабушки. Ласково так сказал. «А зачем же статуэтку отливать? — интересуюсь. — Разуму вопреки. Такие деньги псу под хвост!» А он так ухмыльнулся в бороду и говорит: «Почему же псу-то под хвост? Мне про вас сказывали — первоклассный мастер. Художник. Иль, — говорит, — дисквалифицировались?» Ну, я, понятное дело, на крючочек цеплять стал. «Кто, — говорю, — сказывал?» — «Подельник*["13], — говорит, — ваш, вы вместе с ним пяток лет хозяину отдали». Я сразу стал тюльку гнать. «Какому, — говорю, — хозяину?» — «Вы что, меня за вахлака какого-то принимаете? В тюряге с ним срок отбывали», — отвечает он и улыбается, пакостно так. Тогда я и послал его. Он, видать, не ожидал такого поворота. «Уплачу по-царски. Не обижу», — говорит. Я его снова послал подальше и адрес напомнил, чтобы не забыл. Самсон Давидович налил еще по чашке чаю и, словно вспомнив, добавил: — Приблатненный этот до двери дошел и говорит: «Вы подумайте, я еще к вам загляну». Я так понимаю, что этот «художник» за границу нацелился. С золотишком и про тетушку какую-нибудь вспомнил. Покрасит статуэтку под чугун — и порядок. Или просто хочет спрятать, чтоб не видно было, что из золота. Как-то читал в газете: полвека запирали ворота в коммунальном доме ломом. Кривой такой, никому не нужный лом, черный. А один мальчишка, баловства ради, однажды ударил этим ломом по булыжнику, а лом-то на конце как заблестит! Из чистого золота оказался. Раньше в этом доме жил нэпман. Потом его за разные махинации в шкатулку! Но прежде он, опасаясь обыска, и соорудил золотой лом. — И на чем дело покончили, а, Самсон? — Он сказал напоследок: «Ну, если от денег отказываетесь, я сам переплавлю. Ничего, грамотный, почитаю литературу. И очень сожалею, что вы, Самсон Давидович, отказываетесь от крупного гонорара. Хотел я скрасить вашу беспросветную жизнь. Опять же — очки бы новые купили». — Что же ты, Самсон, куда надо не сообщил? — На кой черт мне это надо! Затаскали бы, повестками закидали. Устал я от всего этого. А отдыхать-то ой как мало осталось! А тут начались бы расспросы, вопросы обидные. Давай им письменные показания... — Это верно, — вздохнул Савельев. — По себе знаю. Только произошла на заводе кража — я, не дожидаясь, сам пошел доказывать, что к делу этому касательства не имею. И ребят из бригады привел, свидетелями. Мне и сказали: «Иди, Савельев, не виноват ты, не надо ничего объяснять». А начальник ихний, чтобы меня успокоить, стал мне «лапшу на уши вешать»: мы, говорит, не только вас, Савельев, но и директора вашего «отработали», идите, не отрывайте нас от дела. А директор у нас заслуженный человек, депутат Верховного Совета — если ему не доверять, так кому же тогда? Я понял все и на радостях полковника того по старой привычке гражданином начальником назвал. После этого я даже себя моложе стал чувствовать. И к тебе пришел без всякого принуждения. Подумал: надо помочь, а ты вон как меня встретил. Но я, Самсон, на тебя не обижаюсь. Ты ж одичал совсем, людей, можно сказать, не видишь. Сидишь в своей будке с микроскопом в глазу, как филин. — Тундра ты, Степан, не зря в «медвежатниках» ходил, тундрой и остался. Надо же такое сказать: с микроскопом... — Ладно, ладно, Самсон. Ты лучше скажи, узнал бы его, если встретил где? — Кого? — Художника. — Как того не узнать. Патлатый, да еще с бородой. — Ежели он вновь объявится, не отказывайся от работы. Скажи, что согласен, деньги срочно понадобились. А уйдет — позвони вот по этому телефону. Просто скажи: «Самсон разговаривать желает». Помоги заводчанам, голубчик.
XVIII
Щекочихин, молодой, чернявый паренек, с глазами, исполненными какой-то скрытый печали, внимательно слушал майора Рахимова. Потом вдруг перебил: — Вы бы еще начали с исторического значения свержения царского самодержавия. Что вы мне все так разжевываете, как будто я идиот. Я вас понял. Не дурак. Между прочим, в консерватории учился, а школу всего с тремя четверками закончил. Я из тех, кому тюрьма на пользу пошла. Вас интересует какой-то человек? Так и говорите. Все, что смогу, — сообщу. Опротивели мне уголовники, особенно такие, что из себя «паханов» и «философов» корчат! Ух, как я их ненавижу. Одно затруднение — провалы в памяти. Все марафет проклятый. — Что? — не понял Рахимов. — Марафет. Морфий, значит, наркотик. Хуже, чем рабом быть где-нибудь в древнем Риме. — Да уж, — посочувствовал майор. — Наркотики — страшная штука. А сейчас как вы себя чувствуете? — Полный порядок! Чудо произошло. Я совсем безнадежный был. А врачи вытащили прямо с того света. Сейчас я в форме. А тогда, когда попался на грязном деле, я, по сути дела, невменяемым был. Готов был ограбить все аптеки мира. — Начальство отзывается о вас очень положительно. Есть представление к досрочному освобождению. Работаете хорошо, руководите музыкальным кружком... — Да вроде бы так. Надоело «бичевать». Выйду, на Маринке женюсь. Давно б женился, если бы этот не подвернулся. — Кто? — Ну, этот самый... Не помню, как его звали. Если бы увидел негодяя, может, и вспомнил бы, узнал бы. — Знаете что? Мы сейчас покажем вам в кинозале пленку. На ней засняты разные люди. Может быть, заметите старого знакомого? Человеческая память — явление удивительное. Один португалец, кажется, ударился головой и заговорил по-французски, хотя раньше французского не изучал. Или наоборот было — француз ударился и заговорил по-португальски. Потом выяснилось, что в детстве сосед у него был француз или португалец. Малыш, сам того не замечая, уложил на полочку памяти чужой язык. А после травмы и обнаружилось... Словом, если согласны, идемте. Застрекотал кинопроектор. На экране возникли картинки жизни огромного города. Рахимов понимал, как тяжело этому парню, роковым образом попавшему в беду, смотреть на оживленные улицы, на веселых, нарядно одетых юношей и девушек, его сверстников. Наконец, кинокамера стала сосредотачиваться на отдельных людях, показывать их крупным планом. Один... Другой, третий... — Ну, — спросил Рахимов с замиранием сердца. Парень сглотнул слюну, произнес осипшим голосом: — Сейчас... Прошел один. В музучилище с сестренкой моей учился. Скрипач. Теперь, наверное, уже в консерватории... Камера остановилась на «Жигулях» с открытым капотом. Кто-то, нагнувшись, копался в моторе. Рахимов затаил дыхание; узнает или не узнает?! Олег Сагитов разогнулся, и теперь стоял выпрямившись, вытирая руки белым платком. Внимательно оглядел руки, подошел к урне и бросил туда платок. Вынул сигареты. Щека парня, смотревшего фильм, слегка дернулась, он подался вперед. Пленка кончилась. Вспыхнул свет. Щекочихин сидел, прикрыв глаза руками, как бы силясь что-то вспомнить. — Еще раз, если можно, — тихо прошептал он, словно опасаясь, что спугнет видение прошлого. — Все не надо. Концовку. Автомобиль. Икрам потом рассказывал, что просто сам не знает, как его тогда не хватил микроинфаркт. Сердце его готово было выскочить из груди. Неужели узнал? И снова Олег Сагитов стоял и вытирал запачканные руки белоснежным носовым платком. Вытер. Скомканный платок бросил в урну... — Мессир! — вскричал вдруг Щекочихин. — Его звали Мессир!.. Это он. Ну, конечно, он. Только тогда он был чуть помоложе. Мессир, голубчик, как же ты мучил меня! Он умел доставать марафет. Так мы и познакомились. Он и в ювелирку меня послал из-за марафета. Сказал, всегда будет. Ах, Мессир! — Мессир — кличка? — спросил Рахимов, стараясь не выдать своего волнения. — Да... — рассеянно ответил Щекочихин. — Фамилии его я не знал. Он так себя и называл — Мессир. Еще он хорошо говорил по-английски. Я ему еще сказал однажды, когда он не хотел мне дать дозу: «Образованный садист!» Ох, у него и удар! Тогда я его почувствовал. «Ну, вот, кажется, и конец приходит Олегу Сагитову, — ликовал Рахимов. — Ах, как уютно он себя чувствовал под защитой презумпции невиновности!»— Вы правы, товарищ полковник, — согласно кивнул эксперт — аккуратный старший лейтенант с университетским значком на мундире. Такой чистенький, вылощенный, что хоть на выставку его, если бы, конечно, бывали выставки образцовых старших лейтенантов. — Я тоже считаю, что преступник хотел переплавить золото с одной целью — чтобы было удобно его реализовать, перевозить и так далее. Не будет же он с весами стоять на базаре и кричать: «Кому высокопробное, годное к употреблению, золото в пластинах?» А статуэтку он почти без риска мог отнести в ювелирную мастерскую, сказав, что она фамильная, родовая и изготовить из нее кучу всяких безделушек. — Может он самостоятельно переплавить пуд золота? — поинтересовался Махмудов. — В домашних условиях это практически невозможно. Требуется температура не ниже тысячи двести по цельсию. Для этого необходимо использовать промышленное напряжение. — Ясно. Спасибо за консультацию. — Не за что, товарищ полковник, — образцовый старший лейтенант подошел к зазвонившему телефону. — Полковника Махмудова? Передаю трубку. Звонил майор Ибрагимов. — Через полчаса интересующий нас человек уезжает с гостями кинофестиваля в Самарканд. Разрешите сопровождать? — Выдумал! Он же тебя знает. — Он нас всех знает, товарищ полковник. — Верно. Мы там, на заводе, все время крутились. — Я осторожно, товарищ полковник. Чует сердце, что едет он неспроста, не только в качестве переводчика. Он же на фестивале числится переводчиком пресс-центра. Билет у него в одиннадцатый вагон, а кинодеятели — с первого до восьмого вагона. Немного подумав, полковник ответил: — Ладно, ни пуха тебе ни пера! — К черту, товарищ полковник!.. Извините. Так же принято. — Ладно уж, — Махмудов повесил трубку и тут же набрал номер. — Васюков?.. Быстренько на вокзал. В штатском, разумеется. Когда нужно, тебя не заставишь форму надеть, а тут вдруг спрашиваешь. И не спускай глаз с майора Ибрагимова.Следуй за ним, как нитка за иголкой. Если что — подстрахуй. В общем, сам понимаешь. Ехать в разных вагонах.
Поезд, заполненный разноязычным народом, плавно отошел от платформы. Кинозвезды, поражавшие публику экстравагантными туалетами, приникли к окнам вагонов и так махали руками провожавшим, словно и не знали, что ровно через сутки вновь увидят тех, кому щедро рассыпали воздушные поцелуи. Знаменитый комик, нарядившийся в синий узбекский халат, подпоясанный ярким платком, самозабвенно играл на бубне. Поезд еще не успел выехать за пределы города, как началось паломничество в вагон-ресторан. Сидевшие только что без дела официантки мгновенно преобразились в расторопных хозяек. Расточая вокруг обаятельные улыбки, они лихорадочно вспоминали уже забытые уроки иностранных языков. Тереза Диоп, единодушно признанная на фестивале жемчужиной Африки, грациозно извиваясь, пустилась в пляс, ничуть не обращая внимания на узость проходов вагона. Проводница седьмого вагона — молоденькая девушка, старавшаяся казаться серьезной при исполнении обязанностей, поначалу хмурилась, но вот индиец, одетый в белоснежные штаны и в белый китель, пригласил ее танцевать, по-восточному сложив руки на груди. Проводница, смущенно улыбаясь, не без изящества вскинула головку и, передернув плечиками, пошла в веселый пляс. Это был поистине очень веселый и праздничный поезд. Под мерный стук колес Ибрагимов играл в нарды с шумно дышавшим пожилым армянином. «Любопытная штука жизнь. Вот ведь как иногда получается... Преступник едет не скрываясь, а я, работник милиции, от преступника прячусь! — размышлял майор, кидая игральные кубики нард. — Он же чувствует себя как дома. Ну и дела!» За окном вагона опустилась густая южная ночь. Партнер по игре, утомившись, решил лечь спать. Постепенно стихало веселье. Ночь брала свое... Глаза Шухрата Ибрагимова стали слипаться. Стук колес убаюкивал. В полусне Шухрат ощутил, как поезд стал притормаживать... «Какой-то полустанок, — решил майор. — Однако так и заснуть недолго! Надо бы собраться с силами, перетерпеть». Он встал, поглядел в окно... Действительно, полустанок. Темень. Даже платформы не видать. Тихо, стараясь не шуметь, вышел из купе. Взглянул на часы. Они показывали два часа тридцать пять минут. «Часа через четыре будем в Самарканде, — прикинул в уме Ибрагимов. — Ну и ночка!.. Теперь я понимаю, почему вахту с двенадцати ночи до четырех моряки называют «собакой». Он опустил стекло. Сразу же повеяло ночной прохладой. Остановившийся было поезд, лязгнув буферами, дернулся, стал медленно набирать скорость. Все быстрее, быстрее... За окном мелькнул станционный дежурный с фонарем в руках. «Дружок»-то мой, поди, спит давно», — подумал Ибрагимов. В это мгновение какой-то мужчина, видимо, спрыгнувший с переднего вагона, пробежал по инерции по ходу движения поезда. — Э, милок, чуть не проспал свою остановку, — улыбнувшись, тихо сказал вслух Шухрат и осекся. В свете станционного фонаря он разглядел, что спрыгнувший был бородатым человеком с мольбертом на плече и чемоданом в руке. — «Художник!» — выпалил майор. — «Художник!» — и в три прыжка оказался в тамбуре. Оттолкнув собиравшегося закрыть дверь проводника, Ибрагимов выпрыгнул из поезда. — Куда? — успел он услышать испуганный голос проводника. Коснувшись ногой земли, Шухрат слегка согнулся и тоже пробежал несколько метров по шуршавшей пересохшей траве. «Хорошо, что поезд еще не успел набрать скорость, а то в такой темноте недолго и шею свернуть», — мелькнуло у него в голове. Осмотревшись по сторонам, майор увидел метрах в пятидесяти, перпендикулярно рельсам, узкий снопик света от карманного фонаря. — Он, — облегченно выдохнул Шухрат, неслышно шагая за видневшейся при зыбком свете луны одинокой фигурой. «Художник!» — ликовал майор. — Я ведь, олух, тебя чуть не упустил!». Тот, кто шагал впереди, шел, не оглядываясь, освещая себе путь фонариком. Прикинув на глаз длину луча фонарика, Шухрат старался держаться на таком расстоянии, чтобы преследуемый им человек, даже оглянувшись, не смог осветить его. Вдруг тонкий лучик, издали похожий на клинок огромной рапиры, исчез, растаял. Человек словно сквозь землю провалился. Ибрагимов почувствовал, как ноги его стали непослушными, деревянными. Куда он мог деться?! Шухрат прибавил шагу, почти побежал, стараясь не шуметь, не выдать себя тяжелым дыханием. Ага! Тропинка пошла на изволок. Он, видимо, перевалил через холм, потому и не видно фонарика... Вот и перевал. Вон он, голубчик!.. Светит фонариком. Интересно, далеко ли он собрался? Только что маячивший лучик замер. Ибрагимов различил в темноте очертание какого-то недостроенного здания, а рядом вроде бы трансформаторная будка. Шухрат мягкой кошачьей походкой приближался к строению. Теперь их разделяло всего метров десять. Ибрагимов лег на живот и медленно пополз ближе. «Художник» что-то делал у будки, держа фонарь в левой руке. Вдруг вокруг него стало совсем светло. Ярко вспыхнула электрическая лампочка, «Ага, подключил переноску», — догадался майор, бесшумно поднимаясь на ноги в десяти шагах от «художника». Ибрагимов торжествовал и потому не удержался от озорства. — Ку-ку! — прокуковал Шухрат, держа в руке пистолет. «Художник» вздрогнул от неожиданности, его словно подбросило огромной пружиной. — Ручки вверх, родимый, — продолжал веселиться Шухрат. — Чуть-чуть поближе прошу... Так. — Майор протянул свободную руку и сорвал со злоумышленника приклеенную бороду. — Ба!.. Кого я вижу! Ибрагимов успел лишь заметить, как у него из руки вылетел пистолет, а в глазах рассыпалось множество нестерпимо ярких звезд. И тут же почувствовал, как на него всей тяжестью навалился «художник», и крепкие холодные руки сцепились у него на шее. Майор был физически силен и неплохо владел приемами самбо. Но, оглушенный неожиданным ударом, словно поплыл куда-то. Противник, как клещами, сдавливал горло. Чувствуя, что задыхается, Шухрат с трудом скинул с себя «художника» и вскочил на ноги. Он увидел лежащий на земле, почти рядом с ним, пистолет. В голове у майора гудело, движения были какими-то замедленными. Он не успел нагнуться, чтобы взять оружие, как почувствовал, что «художник», схватив за волосы, опрокидывает его назад. Падая, Шухрат ухитрился отбросить пистолет ногой. И тут же подумал: «Как глупо!.. Вот и конец... Он сейчас отпустит меня и бросится за пистолетом...». Так оно и произошло. Преступник с кошачьей легкостью оторвался от земли, молниеносно рванулся к оружию... Пытаясь встать, Шухрат успел заметить, как метнулась чья-то огромная тень, хакнула, словно колуном тяжелое полено разрубили, — и «художник», как огромная тряпичная кукла, пролетев с метр, рухнул навзничь.

— Нокаут, — раздался басок Васюкова. — Откуда ты взялся? — изумился Шухрат, все еще тяжело дыша. — Гулял, — невозмутимо отвечал Дмитрий. — Давай теперь его отхаживать. Он нам еще очень пригодится. ...Восточный край степи посинел, порозовел, показался золотистый ломоть восходящего солнца. По степи шагали трое. Двое — чуть поотстав, третий — впереди, понурившийся, волочащий чемодан с приспособлениями для плавки, через плечо у него висел деревянный ящик-мольберт с золотыми пластинками. Три фигуры, четко вырисовываясь в лучах восходящего солнца, шли вперед, к железнодорожному полотну.
XIX
— Я вас сразу хочу предупредить, полковник: отвечать на ваши вопросы я не буду. — Это почему же? — Я уже представляю эту скучную беседу. Отправьте меня в камеру и велите дать какую-нибудь книгу. Лучше стихи. — Верлена? — Хотя бы Верлена. А что вы против него имеете? — Я имею против вас. Нам все же придется побеседовать. Давайте уж, не ломайтесь, Мессир. — Не понимаю. — Так, кажется, вас звали знакомые? Сагитов театрально улыбнулся: — Полковник, вы меня явно с кем-то путаете. — Может быть, вам ни о чем не говорит и фамилия Щекочихин? Лицо задержанного вновь растянулось в неестественной улыбке. — Теперь я кое-что понимаю. Вы предлагаете мне прочесть заупокойную мессу? — Ну, зачем же так спешить? — Как, он еще жив? Все равно, полковник, это не меняет дела. Вы поставили не на ту лошадку. Он же сумасшедший. Его показания не идут в счет. И вы знаете об этом прекрасно. — Сагитов, вы считаете себя человеком интеллигентным. Наверно, читали сочинение Котошихина, подьячего Посольского приказа, жившего в семнадцатом веке, озаглавленное «О России в царствование Алексея Михайловича». Правда, Котошихин плохо кончил. Он изменил Родине, бежал в Швецию, но и там ему не повезло: его обвинили в убийстве и казнили. Я же хочу вам предложить прочесть мемуары Щекочихина, человека, сумевшего выбиться на правильный путь в жизни. У меня тут медицинское заключение, врачи признали его здоровым. А это — его показания, то есть мемуары. Их можно назвать и так: «Мои встречи с Мессиром». Он вас опознал, вспомнил все, что связано с Мессиром, понимаете? Вы, пичкая наркотическими препаратами, добивались того, чтобы его и человеком нельзя было назвать. Однако, к вашему глубочайшему сожалению, вам, Сагитов, не удалось достичь желаемого результата. В серых, по-волчьи сверкающих глазах Сагитова вспыхнули и тут же погасли злые огонечки. — Приемчик не новый. Сослаться на свидетеля, который в действительности мертв. Вы еще показания Мансурова предъявите. — Ну зачем же, мы обойдемся и без его показаний, — вежливо улыбнулся полковник. — Следовательно, вам знакома эта фамилия — Щекочихин? — Допустим. Я и вашу фамилию знаю. За это тоже к уголовной ответственности привлекают? — усмехнулся Сагитов. — Ну что вы, право?.. Вы почитайте, почитайте сочинение Щекочихина. Вы, как знаток, пожалуй, не откажете ему и в литературных способностях. — Этот малец мертв. Он погубил себя всякой дрянью. Его даже не судили — отправили помирать в тюремную больницу. То, что вы даете мне прочесть, — фальшивка. Махмудов заранее решил предварить допрос Сагитова этим, на взгляд полковника, убедительным аргументом. Начни он с истории о похищении золота, Сагитов, несомненно, чувствовал бы себя куда уверенней. — Ну, как, мемуары Щекочихина не щекочут вам нервы? — невольно скаламбурил полковник. — За мои нервы не беспокойтесь. Полковник нажал на кнопку. И через несколько минут в кабинет ввели Щекочихина. — Что скажете, Сагитов? Презрительно взглянув на Щекочихина, Сагитов отвернулся. — Щекочихин, а вы узнаете этого человека? — Еще бы. Это Мессир. Этот негодяй, пользуясь моей молодостью, убивал во мне с помощью инъекций морфия человека, физически меня чуть не уничтожил! Бледный, как бумага, Сагитов глухо проговорил: — Прикажите увести его... Полковник кивнул стоявшему у двери конвоиру. Щекочихин вышел из кабинета. — Если вы пытаетесь доказать мою причастность к попытке ограбления «Ювелирторга», занятие ваше абсолютно бесперспективное. То дело меня вовсе не касается. Тут все проще простого... Мы сидели, выпивали, болтали о том о сем. И я тогда рассказал ему про один западный фильм. А этот юнец оказался впечатлительным малым. Вместе со своим приятелем сделал из ружей обрезы — и пошли грабить. Обвинять меня — значит обвинять кинематограф, литературу в растленном влиянии на личность. Не так ли? А если завтра я кому-нибудь перескажу «Преступление и наказание», а затем слушавший меня прихлопнет богатую старушку. Мне за это отвечать? — То судебное дело меня пока не очень интересует с точки зрения доказательств. Важно, что и то преступление организовал Мессир. А посему, Мессир, давайте выкладывайте все подробненько об обстоятельствах похищения из заводского сейфа золота, предназначенного для технических целей, общим весом шестнадцать килограммов сто восемьдесят два грамма. Сагитов угрюмо молчал. — Не будем терять время, Сагитов. И коль скоро вы считаете себя интеллектуалом, то, разумеется, знаете, что за хищения в больших размерах полагается суровая кара. — Ладно, — Сагитов решительно взмахнул рукой. — Меня действительно задержали с похищенным Мансуровым и Камаловым золотом. По крайней мере я так понял в ходе первого допроса. Но к хищению с завода никакого отношения я не имею. С Камаловым шапочное знакомство, всего лишь. С Мансуровым иногда выпивал. Вот и всё. Когда же разнесся слух о наглом грабеже сейфа, я стал логически, так сказать, «вычислять» преступников. На Камалова я и не подумал. Слишком толст и мещанист. А Мансурова угадал. И тогда я стал ухаживать за его подружкой. Сразу подумал: у кого Мансуров может спрятать золото?.. Только у нее. Открыть в ее доме замки не составляло труда. — Народная мудрость гласит, Сагитов, — улыбнулся полковник: — «Замки для добрых людей». Или не так? — Пусть так. Я выждал, когда Валентина ушла на работу, и проник в ее дом. Нашел магнитофон. Очень тяжелый. Я хотел вернуть золото заводу. Люблю театральные эффекты... — Ох, Сагитов, Сагитов! — Фарид Абдурахманович с укоризной посмотрел на Олега. — Ум за разум у вас зашел. Майор Ибрагимов и капитан Васюков задержали вас именно тогда, когда вы собирались переплавить золото. Запамятовали, а? Преступник нервно пожевал губами. Криво улыбнулся. — Забудешь все на свете! Этот ваш бугай... Васюков в такой нокаут меня уложил... Я до сих пор полностью не очухался. Обрадовался! Сила есть — ума не надо! — Зачем же так? Васюкова и умом природа не обделила. У вас была возможность убедиться в этом. Горяч, правда, порывист. Но со временем пройдет. Перспективный розыскник. — Я заявляю протест! — вдруг истерично вскрикнул Сагитов. — Истязать задержанных запрещено законом! Я буду жаловаться! — Ну и ну-у!.. — протянул Махмудов. — Вот так сильная личность. Не надо, вы так испортите долго навязываемое нам впечатление о себе... А на что жаловаться? Вы завладели пистолетом, и через мгновение могли превратить майора Ибрагимова в решето. Капитан Васюков действовал законно, находясь в состоянии крайней необходимости. Вам, надеюсь, знакома эта юридическая формула?.. Или вы только цените презумпцию невиновности? Сагитов сидел сгорбившись, глядя в пол. Пальцы его беспокойно бегали по коленям. — А теперь слушайте, — продолжал полковник, — я вам расскажу, как было все на самом деле. Если я допущу в своем изложении какую-то неточность, вы уж поправьте меня. Сделайте милость... Когда Мансуров с Камаловым взломали сейф, вы наблюдали за их действиями. Сообщники ваши перебросили через забор свои приспособления и сложенное в специальную сумку золото. Камалов вернулся к себе на склад, поскольку вы — именно вы, Сагитов! — не разрешили, — через Мансурова, разумеется, а не лично! — Камалову прыгать с высокого забора. Он мог провалить все дело: толстяк сломал бы ногу, вовсе разбился. Поэтому Камалову и пришлось, отдышавшись, выходить через проходную. Фарид Абдурахманович закурил. — Дайте и мне, — хрипло произнес Сагитов, вскинув голову. — Извольте. Но пойдем дальше. По договоренности с вами Мансуров, убедившись, что ушел незамеченным, явился к вам домой. Там вы договорились с Мансуровым спрятать добычу в полый корпус магнитофона «Комета». Придумано ловко. Кому придет в голову, что магнитофон с золотой начинкой? Но еще более хитроумно вы задумали надуть своих сообщников, а точнее — исполнителей преступного замысла, — Мансурова и Камалова. Вы предложили Мансурову обмыть дело, выпили за успех... Не так ли?.. «Мессир» молчал, но всем видом своим как бы подтверждал слова полковника. — Что ж, молчание — знак согласия. Итак, вы напоили Мансурова, а может, и подсыпали в спиртное «малинки». Он заснул, а вы тем временем подменили в магнитофоне золото бронзой. И тогда наступил, что называется, «бронзовый век». — Шшшу-у-тите... — выдавил из себя с трудом Сагитов. — А почему вы тогда не смеетесь, Мессир?.. Замысел ваш, разумеется, от начала и до конца аморален и преступен. И все же в изобретательности вам отказать нельзя. И непредвиденное обстоятельство — гибель Мансурова — вам помогло. Вы решили все свалить на Камалова. Вы подбросили ему в дом брезентовую сумку, в которой Мансуров вынес золото. Сделать это не составляло для вас труда. Диван стоит рядом с окном. Вы и швырнули сумку за спинку дивана... Хотите еще сигарету? — Вы мне, полковник, приписываете какие-то школьные проказы. — Да нет, вы далеко не школяр. Два майора, Ибрагимов и Рахимов, и капитан Васюков, молчаливо присутствующие на этом «дружеском разговоре», переглянулись. Дмитрий за спиной Сагитова вскинул вверх большой палец, мол, вот дает шеф! — Но пойдем дальше, — продолжал Фарид Абдурахманович. — Когда Мансуров вышел из игры, вы дали волю своей преступной фантазии. Вы и бронзовую табличку с датами рождения и предвещаемой смерти Камалова заказали только для того, чтобы убедить нас, что тот самый, тогда еще неизвестный нам «третий», сам ищет золото. По этой причине и звонили ему по телефону, угрожали, требуя вернуть золото. — Прошу учесть... — Сагитов закашлялся. — Какую дрянь вы курите! Я могу сказать вам, где можно достать приличные западные сигареты... Но это как-нибудь позже. А сейчас я хочу подчеркнуть: я мог бы скрыться. — Нет, не могли. Эта мысль даже не приходила вам в голову. Мансуров погиб, Камалова вы не опасались, поскольку он понятия не имел о том, что вы — главарь и организатор преступления. Оставалась только Валентина. В порыве откровенности Мансуров мог рассказать ей о вас, о вашей роли. Такую возможность исключить вы не могли. Вы знали, или по крайней мере слышали, что иных преступников неудержимо тянет еще раз побывать на месте свершения преступления, иные же, особенно под хмельком, жаждут поделиться с близким человеком своими, так сказать, «подвигами». А что, если и в самом деле Мансуров проговорился о вас? Поэтому вы решили незаметно выяснить это у Валентины, срочно превратившись в ее поклонника. Напомнили ей про Мансурова, наводя ее на нужный вам разговор. Но вам стало немного не по себе, когда вы узнали, что у Волковой только что объявился новый поклонник. Вас насторожило, что поклонник этот даже не пытается отделаться от вас, не проявляет абсолютно никакой ревности. И тогда вы своим звериным инстинктом почувствовали: новоявленный «поклонник» ведет себя так неспроста. — Вам не кажется, что ваш монолог несколько затянулся? А знаете ли, полковник, почему вы с таким упоением наслаждаетесь сейчас своим рассказом? Только потому, что я стал играть на грани фола с вашим майором. Я мог бы и не делать этого. И коль скоро мы так мило, откровенно беседуем, я, в свою очередь, признаюсь, что это была моя единственная грубая ошибка. Я перегнул палку, и она сломалась. Иначе черта с два вы бы меня взяли. — Вы пытаетесь обмануть себя, Мессир! Ваша, как вы выразились, игра на грани фола с майором Ибрагимовым тут ни при чем. Вы же все равно бы пришли к Валентине Волковой. Вам надо было удостовериться — что ей известно о вас! Эта неопределенность не давала вам покоя. Скажу вам больше: даже если бы вы смогли переплавить золото без помощи Лисовского, вы стали бы искать желающих приобрести этот металл. Вы забыли главное: в отличие от нас вы одиноки. Несомненно, что вы угодили бы в капкан. Может быть, чуть позже. Помните старинную мудрость: «Сколько вор не ворует, а тюрьмы не минует»? Остается уточнить, зачем вам, Сагитов, понадобилось переплавлять похищенное золото. Не так ли?.. Отвечаю. Вы хитрый преступник. Сообразили: хотя и удобно расторговывать небольшие пластины золота, но это опасно. Схватят вас за руку — и пиши пропало. Эксперты установят, что химический состав золотых пластин адекватен химическому составу золота, украденного из заводского сейфа!.. Поэтому-то вы и решили изменить химический состав золота, добавив в процессе переплавки немного серебра, других ингредиентов. В случае провала доказывали бы с пеной у рта, мол, это мое наследство, бабушка завещала, троюродный дедушка подарил. Не так ли?.. И тогда вы обратились к Лисовскому. Он, правда, не оправдал ваших надежд. Лисовский давно осознал пагубность своих прежних делишек. — Вы сказали — Лисовский? Неужели этот бывший уголовник, этот выживший из ума старик уже успел сообщить вам о моем приходе? Лисовский — глас народа! Уму непостижимо! — Не надо, Сагитов. Для кого эти театральные возгласы? Вы же сами прекрасно знаете, что под ваши мерки подходит все меньше людей, буквально единицы. — Напрасно вы думаете, что только жажда наживы толкнула меня на это... это... — Давайте будем называть вещи своими именами, Сагитов. Вы хотели сказать — на это тяжкое преступление. — Пусть будет по-вашему. — Благодарю, — не без иронии произнес Махмудов. — Так что же еще толкнуло вас на ограбление? — Еще... жажда приключений, желание испытать силу своего мышления! И... если хотите — полет фантазии. — Далековато завела вас жажда приключений, впрочем, благодаря этому полету вашей фантазии, вы, вероятно, уже вполне ясно представляете, что вас ожидает. — Я скажу все. Все чистосердечно! Я еще молод. Мне всего тридцать четыре. Я жить хочу... Когда Сагитов в сопровождении конвоира вышел из кабинета, полковник с нескрываемым облегчением сказал: — Ну вот, друзья, операция «Аурум» закончена. А Мессир-то каков оказался, а? Вот уж поистине поговорка в самую точку: «Назвался волком, а хвост собачий».Ближе к вечеру Махмудову позвонил Юсупов. Долгого разговора не получилось. Директор наконец-то улетал в Москву. Махмудову надо было идти к генералу. Задержавшийся у полковника майор Рахимов, улыбаясь, произнес: — Фарид Абдурахманович, напомните Акраму Каюмовичу, чтоб захватил с собой плащ. По радио передают: в Москве по-прежнему ливневые дожди. Рабочий день закончился, когда Махмудов заглянул в кабинет Рахимова. Майор играл с Васюковым в шашки. — Ну, ну, — сказал полковник. — В шашечки режемся! — В поддавки, — уточнил сидящий рядом Ибрагимов. — Глупости все это, — с напускным неудовольствием произнес полковник. — Лучше бы на курсы иностранного языка записались. Верлена бы в подлиннике читали. — Верлена, — рассеянно сказал Васюков, отдавая «под сруб» сразу четыре шашки. — Верлена — это можно...














Последние комментарии
21 минут 44 секунд назад
24 минут 39 секунд назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 14 часов назад