Антология советского детектива 49. Компиляция. Книги 1-12 [Евгений Дзукуевич Габуния] (fb2) читать онлайн
- Антология советского детектива 49. Компиляция. Книги 1-12 (и.с. Антология советского детектива-49) 11.51 Мб скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Евгений Дзукуевич Габуния - Любовь Львовна Арестова - Валерий Изидорович Винокуров - Борис Яковлевич Боксер - Вильям Михайлович Вальдман
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Азад Авликулов Без ветра листья не шелестят Повесть


I
Шермат-ата накинул на плечи чекмень, взял посох и, опершись о него обеими руками, застыл, точно изваяние, на взгорке возле юрты. Бодом-хола хлопотала возле очага. Она знала — если муж принял эту позу, значит, у него скверное настроение и лучше в такой момент не тревожить его расспросами — отойдет, сам обо всем расскажет. Но одно дело понимать, а другое — чувствовать. Беспокойство и тревога не давали ей покоя. «Неужели на курултае что-то случилось, — думала хола[1], — или дома что-нибудь не так? В «Чинар» утром Шермат-ата уехал веселым, гордым от сознания, что опередил всех соперников. Что же произошло?» Но чем больше задавала себе хола вопросов, тем путаннее становились ее мысли. Наконец, вздохнув, она прошептала: «О аллах, упаси моего мужа от напастей!». Хола вспомнила утро. Как всегда, за завтраком ата[2] включил транзисторный приемник. Районная передача была посвящена итогам только что завершившейся и области окотной кампании. Ата прибавил громкости — что же это о нем ни слова не говорят! И вдруг — ему даже показалось, что голос диктора стал торжественным, — услышал: «Рекордный приплод в расчете на сто овцематок получен в совхозе «Чинар». Отара известного чабана Шермата-ата Бакиева принесла по двести десять ягнят. Такого успеха овцеводство долины Сурхана еще не знало!» Шермат-ата аж языком от удовольствия прищелкнул. — Слышала, кампырджан[3]?.. — спросил он жену. Бодом-хола улыбнулась, промолчала. — И не то еще будет. Сегодня это известие облетело область, завтра прозвучит на всю республику, а там, глядишь, и до Москвы дойдет! — И что тогда, дадаси[4]? — жена все так же добродушно улыбалась. — Как это что? Звезду героя могут дать. И буду я первым героем в совхозе... Да-а, — продолжал он размышлять вслух, — если несколько лет подряд повторю свой рекорд, то вторую звезду не пожалеют. Тогда уж мой бюст наверняка поставят в совхозном саду. — Что поставят? — переспросила жена. — Бюст, говорю. Ну, голову мою и часть плеч. — Вай-уляй, — воскликнула хола с испугом, — это еще зачем?! — Не волнуйся, — ответил ата, рассмеявшись, — не эту голову, другую. Из бронзы отольют. Есть такой закон: на родине дважды Героя ставят его бюст. В знак особого уважения, поняла? — Поняла, — не очень уверенно произнесла жена. — Добрые намерения — половина успеха, Шерзад, — сказала хола, назвав мужа ласково именем старшего сына, как принято в кишлаке, — пусть ваша мечта сбудется на радость детям и внукам! — Сбудется, — уверенно ответил чабан, — ты еще, кампырджан, и Рахима своего в знатных людях увидишь, гордиться им будешь. Бодом-хола пожалела, что времени нет, иначе она, конечно, подробнее расспросила бы мужа о бюсте. Например, что важнее — бронзовая голова или орден? Ну, ничего, вот вернется отец из «Чинара», тогда можно будет и продолжить разговор... ...Шермат-ата стоял неподвижно. Солнце уже наполовину зашло за гребень Кугитанга, и потому тень старика была длинной. Адыры[5], подступившие к подножию Кугитанга, таяли в дымке сумерек, а вдали величаво дремал Сангардак, купая свою снежную голову в лучах заката. У самого горизонта, где-то над Аму, пылало облако, похожее на нарисованную детской рукой сказочную птицу Семург. Внизу, по широкому ложу джайляу[6], что оставили здесь некогда промчавшиеся сели, рассыпались «овцы». Белые, серые, черные и рыжие валуны, вокруг которых разбросаны поменьше камни-голыши — «ягнята». Было тихо и спокойно, казалось, что утомленная зноем природа погрузилась в глубокий сон. Кавардак, который так любил ата, был готов, и Бодом-хола решила позвать мужа ужинать. Его молчание становилось просто невыносимым. — Дастархан накрывать, дадаси? — громко спросила она. — А? — Ата вздрогнул, огляделся по сторонам, словно бы всё, что окружало его, увидел впервые. — Ты что-то сказала? — Что с вами, ата? Может быть, дома что-то случилось? — Саит, — чуть слышно ответил ата, — Саитджан умер! — Он выронил из рук палку, присел на кошму и, обхватив голову руками, зарыдал. — Когда? — Хола подбежала к мужу. — Три дня назад я разговаривала с ним в кишлаке. Сердце, да? О небо! Что ты наделало?.. — Вчера, — сквозь рыдания ответил ата. — Нашли его в ущелье Шорсу, говорят, сорвался в пропасть. Сегодня похоронили. О аллах, за что осиротил меня, последнего друга отобрал?! Он замолчал. Долго смотрел невидящим взглядом на ближайший адыр, затем, вздохнув, тихо сказал: — Прости меня, Саитджан, пусть земля тебе будет пухом! — Аминь, — сложив вместе ладони, присела на корточки хола и повторила за мужем: — Пусть вам, Саит-ака[7], земля будет пухом. — Я джинны[8], — сказал Шермат-ата сурово, — самый настоящий джинны! Век себе не прощу, что напрасно обидел друга, не прощу! — Когда это случилось, ата? Почему я ничего не знала? — Э, женщина, не лезь в душу, — прикрикнул ата, — занимайся-ка своим казаном! И Шермат-ата опять остался наедине со своим горем, которое, кажется, состарило его на десяток лет. Он будто стал ниже ростом, ссутулился. А солнце уже село, исчезла огненная птица Семург, что парила над горизонтом. Лишь вершина Сангардака, залитая киноварью позднего заката, напоминала гигантский язык чабанского костра. Ата немного успокоился. Хола видела, как муж неуклюже встряхнулся, словно бы сбрасывал с плеч тяжкую ношу. Она негромко поинтересовалась — много ли народу было на похоронах. — Весь «Чинар», — неохотно ответил Шермат-ата, — участники курултая тоже провожали его, из Ташкента люди были. — Он махнул рукой. — А что толку, оттуда обратной дороги нет! Издали донесся голос Рахима: — Гёль, гёль, проклятая! — Собирай ужин, — сказал ата. Он взял посох и поспешил на помощь Рахиму. Когда отец и сын вернулись к юрте, над джайляу появились первые звезды...II
Сойдя с автобуса, который несколько раз останавливался в пути из-за неполадок и потому так безбожно опоздал, Захид сокрушенно покачал головой — спешить, пожалуй, уже некуда. Никого из руководителей, конечно, в этот час на месте нет. Придется предстать пред их очи вечером, до планерки или после нее. Он глянул на часы — четверть первого. Площадь, где развернулся автобус, дышала жаром. Середина июня даже в этом высокогорном уголке давала о себе знать. Захид поспешил под раскидистый тал, где уже было достаточно народа. Там, у подножия дерева, бил родник. Тут было прохладно, и Захид немного остыл. Он решил осмотреть кишлак. Сейчас это сделать было как раз удобно — пока его здесь никто не знал. Захид неторопливо зашагал по улицам. Ведь они даже в эти безжалостные полуденные часы могли бы рассказать о многом. По внешнему виду домов можно узнать, хорошо ли живут их владельцы, а по состоянию улиц — о благополучии самого́ колхозного хозяйства. Телеантенны на крышах, шторы на окнах, паутина электро-, радио- и телефонных проводов, высота и крепость заборов — все это рассказывает о жизни людей. Захид усмехнулся, вспомнив события вчерашнего дня. Еще утром он вошел в районный отдел милиции инспектором уголовного розыска, а вечером уже вышел участковым уполномоченным по совхозу «Чинар». Вот уже поистине в милиции, как в армии, вопросы решаются быстро, оперативно. После утреннего совещания начальник отдела, майор Махмудов, попросил его остаться в кабинете. — В прошлом году, — сказал он, дружелюбно глядя на Акрамова, — выпускник высшей школы милиции лейтенант Акрамов был автором одного не лишенного глубокого смысла афоризма. — Какого, товарищ майор? — Захида немного смутило необычное начало беседы. — «Лучше маленькая самостоятельность, чем высокая зависимость». Кажется, так? — А... было, было, — лейтенант облегченно вздохнул — вроде бы ничего страшного не предвидится. — Только не мною, товарищ майор, это придумано. — Вот как?! Но, если мне не изменяет память, вы любите это повторять. — Да. Но просто я переделал на современный лад древнее народное изречение: «Лучше в своем доме быть султаном, чем в чужом дворце — рабом». Майор улыбнулся, а Захид опять подумал: «К чему все-таки начальник завел подобный разговор?» Он мгновенно перебрал в памяти события ближайших дней — нет, не чувствует он за собой никакой вины, не совершил ничего такого, что шло бы вразрез с мнением старших товарищей. — Как бы то ни было, лейтенант, — сказал Махмудов, — мы решили предоставить вам эту «маленькую самостоятельность». Приказом начальника областного управления вы назначены на должность участкового уполномоченного по совхозу «Чинар». Участок большой, но в оперативном отношении считается спокойным. По-моему, за то время, что вы работаете у нас, там ничего серьезного не случилось? — Верно, товарищ майор, — согласился Захид, но, подумав, добавил: — За исключением гибели капитана Халикова. — Ну, это несчастный случай, — нахмурился Махмудов, — нелепо погиб товарищ. Халикова Захид знал мало. За прошедший год ему так ни разу и не довелось побывать во «владениях» капитана. А сотрудники райотдела отзывались о нем с уважением. По их словам, Саит-ака был прекрасным оперативником, местным, так сказать, Шерлоком Холмсом. Отличался честностью, был предельно принципиальным работником. О том, что он пользовался авторитетом, говорил и тот факт, что на похороны капитана приезжал заместитель министра. — Все ясно, товарищ майор, — поднялся Захид. Он не знал, радоваться этой неожиданной новости или огорчаться. Правда, как и любой выпускник высшей милицейской школы, он мечтал о самостоятельной работе, которая давала возможность испытать, на что способен. — Готов выполнять доверенное мне дело. — Захид приложил руку к козырьку. — Разрешите идти? — Идите, лейтенант. Да, кстати... захватите с собой материал о гибели капитана Халикова. Может, удастся на досуге побывать в тех местах, где он погиб. Постарайтесь еще раз изучить все обстоятельства его смерти. Ну, а теперь — идите. — Есть! — Захид четко, по-армейски, повернулся и вышел из кабинета... ...Знакомство с кишлаком Акрамов начал с площади. Ее полукругом опоясывали здания клуба, Дома быта, правления сельского Совета и рабкоопа. Между ними располагались различные магазины, образуя своеобразный торговый центр. Ниже, через дорогу, напротив здания рабкоопа, шумел листвою чинар-великан. Табличка, прибитая к стволу дерева, гласила, что ему девятьсот лет, по преданиям, под ним отдыхал легендарный Машраб. В дупле же его в разные годы размещались то библиотека кавполка, то магазин, то сельский Совет. Вдоль бетонированного русла арыка, уносившего воду родника в дарью[9], выстроилась дюжина чинаров поменьше. За ними сиял большими окнами двухэтажный ресторан «Шалола». Совхоз «Чинар» оказался кишлаком довольно большим. Он лежал вдоль Большого Узбекского тракта, растянувшись километра на два. Основная его часть находилась на пологом склоне горы. Захид шел не спеша, осмысливая впечатления, думая о предстоящей работе. Неожиданно рядом раздался смех. Захид невольно придержал шаг. На скамейке, перенесенной с аллеи в глубину сада, сидели трое — мужчина средних лет в голубой шелковой тенниске и две женщины, судя по всему, молодые — обе были в ярких атласных платьях и в столь же ярких нейлоновых косынках. О их молодости говорил и заразительно звонкий беззаботный смех. — Минутку, минутку, — произнес мужчина, — сейчас я вас познакомлю с новым жителем «Чинара». — И он крикнул вслед Захиду: — Товарищ Акрамов! Захид остановился, повернулся к ним: — Слушаю вас. — Я не ошибся, назвав эту фамилию? — Нет. Я — Акрамов. — Отлично. Тогда выручайте, товарищ лейтенант. Эти девушки меня совсем изведут. Может, хоть представителя власти побоятся? Взяли меня, понимаете, в оборот... «Видно, кто-то из начальства, — подумал лейтенант, — знает мою фамилию». Захид подошел к ним и щелкнул по привычке каблуками. — Здравствуйте, товарищ лейтенант! — мужчина протянул руку. Захид пожал ее. — Представляю вам, девушки, нового участкового уполномоченного товарища Акрамова Захида Акрамовича. — Девушки кивнули. — А эти красавицы, лейтенант, работницы комсомольско-молодежной фермы. Слева от меня Сахрохон, заведующая, а справа — Азадахон, одна из лучших доярок не только фермы, но и совхоза. Садитесь, пожалуйста. Говорят — в ногах правды нет. — В ногах идущего правда есть, — ответил Захид строкой давно прочитанного стихотворения. Мужчина удивленно вскинул брови. — Верно. — А себя забыли представить, Мурад-амаки, — напомнила Сахро. Девушка была постарше своей подруги. Довольно красива. Захиду показалось, что она смотрит на него с любопытством. — Ярматов, секретарь парткома совхоза. Прошу вас, — он подвинулся. Но Захид сел не возле парторга, а рядом с Азадой. На вид ей было около восемнадцати, может, чуть меньше. Лицо белое, будто солнце вовсе не касалось его. Он видел ее профиль. Нос прямой, густая бровь напоминает крыло ласточки, губы пухлые, а подбородок круглый. Все это делало ее похожей на гречанку. Из-под расшитой ферганской тюбетейки, обвитой жгуче-черными косами, выбились мелкие кудряшки. Прозрачная, ярко-красная косынка, расчерченная золотыми нитями, лежит на плечах. — Какая помощь от меня требуется, Мурад-ака? — спросил Захид. — Бога они уже не боятся, — произнес улыбнувшись Ярматов. — Аджину[10] и подавно. Может, вас, а... — Выходит, я страшнее аджины? — Не в этом смысле, конечно. Просто ваша форма должна подействовать. Вот я и говорю, товарищ лейтенант, нельзя никуда посылать наших девушек, потом сам же покоя лишишься. Начнут приставать: дай то, найди другое, сделай третье. А где взять все это? — Там же, где взяли латыши, — сказала Сахро горячо. — Ведь и в Латвии руководители, как наши. — А ты не спросила у них, Сахрохон, каким путем они все это достали? — Спрашивала. — Ну и что говорят? — Говорят — все, что показывали нам, создавалось постепенно. А у нас и этого «постепенно» нет. Как работали наши прабабушки, так и мы продолжаем. Лучше бы я не ездила, одно расстройство! — Сахрохон позавчера вернулась из Латвии, — пояснил Ярматов, — насмотрелась там... и вот, не успев стряхнуть дорожную пыль, явилась ко мне с претензиями! — Я понял, — сказал Захид. — Настоящие молочно-товарные фермы я там увидела, — сказала Сахро. — Как лаборатории какие, честное слово! Кругом чистота, запахов нет и в помине, дышится, как на джайляу. Коровы будто бы только из бани, а у нас... Молока — давай, давай, а как условия создать — так перебьетесь! — Не все сразу, сестренка, — ответил секретарь парткома, — будет и в нашем «Чинаре» то, что ты видела в Латвии, даже, может, лучше, с учетом всего нового. Я слышал, что в области создается специальная мехколонна, которая будет строить новые и механизировать старые фермы. Обратимся в обком партии, попросим, чтобы эта мехколонна начала работу с реконструкции наших ферм. Но вам и самим, как говорится, нечего сидеть сложа руки. — Дайте нам два бульдозера. — Хоть три! Еще что? — Пока и этого достаточно. — Вот тебе и раз. Такое длинное вступление для того, чтобы попросить всего два бульдозера? — Три, — поправила его Сахро. — Вы же только что обещали. — Пусть будет три. — Но это пока, а в будущем... — Значит, мне и завтра покоя не будет, так выходит? — Ой, Мурадджан-ака, какой вы догадливый!.. — Спасибо за комплимент, девушки, — рассмеялся парторг. — Если что нужно, заходите, не стесняйтесь. Сахро и Азада встали и, простившись, направились к выходу. — Ну и боевые, — сказал, ласково поглядев им вслед, Ярматов.III
У мужчин-горцев иногда случается такое, о чем они не только женам, но и самым близким друзьям не рассказывают. Вот почему Бодом-хола ничего не знала о ссоре мужа с Саитджаном Халиковым, капитаном милиции. Вообще-то это даже и не ссора была, а скорее — серьезный разговор. Произошел он в прошлом году. Было, как и сейчас, начало лета, и хола находилась у мужа на джайляу. В один из дней сюда приехал капитан. На довольно потрепанном ядовито-желтом «Ирбите», который он сам называл Тулпаром, как сказочный Алпамыш своего коня. Хозяин джайляу встретил гостя радушно, хотя был несколько удивлен визиту именно в это время. Друзья, как положено по обычаю, трижды крепко обнялись. Затем ата пригласил гостей в дом и посадил на шелковую курпачу[11] в красном углу. Дверь юрты специально приоткрыли, чтобы Саитджан видел, что в его честь заколют взрослого барана. Рахим начал разделывать тушу, а хола принялась разводить огонь сразу под очагом и в тандыре. Шермат-ата расстелил дастархан и произнес традиционное: — Хуш келибсиз[12], Саитджан! — Спасибо, Шерматджан. Зря ты затеял хлопоты с бараном, ведь я ненадолго. — Не обедняем, друг! — сказал ата. — Не дело это, побывать у меня на джайляу и не отведать свежей баранины! — Как здоровье, Шерматджан? — Слава аллаху, скрипим. И сам вроде еще крепок, а внуки — так вообще богатыри. Давно не был у меня, а? — Не ждал, выходит? — Признаться, не ждал. Не оттого, что, ну... как бы тебе сказать... — Даже в кривом переулке старайся идти прямо, — подсказал капитан. — В моем доме ты всегда гость желанный, сам знаешь. Но ведь лет десять как ты в это время уходишь на Кугитанг? — На этот раз решил изменить себе, Шерматджан. Вот и приехал сюда. Ну, рассказывай о себе. — Трудимся помаленьку, окот завершился, теперь одна забота — молодняк сохранить. По делу, Саитджан? — Вообще-то да. — Капитан никогда не скрывал от Шермата-ата своих служебных тайн. — Есть сведения, что некоторые чабаны продают смушку на сторону. Не слышал? — Чепуха! — воскликнул ата. — Хотел бы я видеть того смельчака, который посягнет на государственное добро?! Твои сведения не верны! — Возможно, — сказал капитан, — но... служба, брат! Сигнал поступил, я обязан проверить. — Лично я рад, что поступил сигнал. По крайней мере, ты — мой гость. С чайником чая на бронзовом подносе вошла хола. Она поздоровалась с капитаном еще раз, произнесла «Хуш келибсиз», спросила: — Здорова ли ваша жена — моя подруга, Саит-ака? Как дети, внуки? — Спасибо, все в порядке. Внуки рождаются, растут, а мы, к сожалению, стареем быстрее, чем они взрослеют. Подруга ваша скучает, все кого-нибудь посылает узнать, не вернулись ли вы. — Скоро увидишься, кампыр[13], — сказал ата жене. — Теперь уж мы тут с Рахимом управимся. — Упра-а-вимся, — передразнил его Халиков, — да вы оба без нее давно бы сбежали отсюда. Правда, келин[14]? — Что вы, Саит-ака, — ответила хола смущенно, — дай бог долгих лет и крепкого здоровья Шермату-ака. Мы без него ничего не значим. Она поспешила к очагу, а ата протянул капитану пиалу чая... Каждый год, едва начинается окот, хола бросает все дела в кишлаке и перебирается в джайляу. Она знает, что в эту пору мужу и сыну голову некогда причесать, не то, чтобы подумать о пище или постирушке. Да и за ягнятами женский глаз куда лучше присмотрит. — Хорош ли нынче «урожай»? — спросил гость. — Не очень. Меньше, чем в прошлом году. — Значит, на орден не потянешь? — Даже на медаль... Тогда мне орден Ленина дали, за сто девяносто ягнят от сотни маток, а в этом году сто шестьдесят еле получилось. — Почему «получилось», Шерматджан? Разве это не в твоих руках? Ничего, у других, говорят, и этого нет. — Другие — это другие, Саитджан, а я пока в совхозе один. — Скажи — в области! Но если и дальше будет так продолжаться, кое-кто тебя перегонит. Особенно из стариков. — Пусть, я не обижусь. Богаче все будем. А пока... я все же один. — Пока... Как только твои секреты станут известны другим, рекорды посыплются, как из рога изобилия. Обставят тебя, ей-богу! — Разве я против, Саитджан? — ответил ата. И снова, как и при встрече, мелькнула мысль: «Неспроста ты приехал, Саит, не за тем, чтобы проверить сигнал». — А секреты... — Шермату-ата показалось, что друг это слово произнес с иронией. — Нет их у меня. Работаю, как вол. Остальное делает наука! — Разве у других нет всего этого? — Не знаю. Я не обязан знать! — Твои успехи, Шерматджан, вызывают сомнения у людей. Я хотел предупредить тебя, чтоб не очень увлекался, а то ведь можно такие неприятности нажить! — Не волнуйся, Саитджан. Перед людьми я чист, как стеклышко. А ты... раз уж взял в руки большую палку, так и ударь хоть раз... — Тебе что, синяка хочется? — Лучше синяк, чем догадки. — Хорошо. С тех пор, как ты приехал с курултая с орденом, среди чинарских чабанов только и разговору, что о тебе. — Завидуют! — Не завидуют, а обвиняют. Считают, что награда незаслуженная. Не обижайся, слова врага — мед, слова друга — перец. — Если есть, что сказать — не щади отца родного! — Тогда слушай. Тут вошла Бодом-хола. Она внесла миску с жареным мясом и поставила посередке дастархана. — Кое-кто в совхозе считает, — сказал капитан, — что ты обманул государство. Да, государство и партию, в которой сам состоишь! Считают, и не без оснований, думаю, — что у тебя котлов два, а половник один. В этом весь секрет. — Не понял намека. — Кроме совхозной отары, у тебя появилась своя, пусть не целая, но все же... И ты за счет собственных ягнят увеличиваешь приплод совхозных овец. Ты решил: то, что добавишь сегодня, завтра вновь вернется к тебе в виде премии. Убыток, если и есть, невелик, зато слава!.. Имя на всю область гремит. К тому же блага... Новая «Волга» вне очереди. Надумал строиться — пожалуйста материалы! Не было у тебя ста девяноста ягнят, не было! — Так-так, интересно, а сколько же было, а? — спросил ата с насмешкой. Халиков пожал плечами. — А кто же знает, Саитджан? Может, те, что шепчутся за моей спиной? — На бумаге все было, а фактически... Свыше десяти лет после мартовского Пленума, Шерматджан, не только ты, но и другие чабаны получают в награду за перевыполнение планов приплода и сохранения молодняка ягнят. Это, как говорится, законно. Но этих ягнят-то из своей же отары берут, да самых крепких и обязательно — ярочек. А ведь те собственные ярочки давно уже стали овцами, сами дают приплод. — Природа. Им в этом не может сам аллах помешать. — Об этом и речь... Я часто думал, куда совхозные корма деваются? Каждую осень рапортуем: есть два плана! Но едва весна начинается — кормов уже нет, овцы дохнут, как мухи! Государство вынуждено выплачивать миллионы рублей страховых сумм. Теперь-то я разобрался в этой арифметике! — Если и завелась у кого из чабанов скотинушка, Саитджан, никто ее не украл. По закону завелась. Ни одна чабанская семья столько съесть не может, вот и получается что-то вроде отары. — Наверно, есть и другие пути? — Какие? — Скажем, получать премию деньгами. — По червонцу за голову?! Спасибо! Пусть тогда совхоз забирает моих овец, не жалко! Но вместе с ними и совхозную отару! Партия правильно делает, что материально стимулирует наш труд, а те, кто распускает сплетни, враги этой политики, их нужно судить! Скажи сам, Саитджан, зачем мне, старому человеку, таскаться по горам за отарой, ночей не спать, мерзнуть, жариться на солнце?! Ведь можно устроиться сторожем в магазине и жить припеваючи! Днем возись в своем огороде, что тоже не бесполезно, а вечером торгуй водкой по спекулятивной цене. — Не получился у нас разговор, Шерматджан, — с досадой произнес капитан, — не хочешь ты меня понять! — Еще как понял! Хочешь, чтобы я сдал своих овец и восхищался собой — ах, какой я молодец, какой сверхсознательный! Так, что ли? — В конечном счете, так. Но главное — хочу, чтобы ты остановился. Жадность — страшный порок. Она рождает и тщеславие. Это еще хуже. Не дай бог, заболеешь ими, вылечиться трудно, тут никакой врач не поможет! Понимаю, совхозу был нужен передовик, ты им стал. Теперь — стоп, тормози, брат! — Тормози?! Тебя бы в мою шкуру, Саитджан! — воскликнул ата. — Думаешь, легко быть передовиком? Хуже, чем отстающим! Как курултай или слет какой, так сотни глаз смотрят на тебя, ждут, чего же ты еще наобещаешь. И начальство туда же: мол, давай-давай, подай пример, зажги сердца! А костер давно выдохся, нужно дрова подкладывать, да побольше, чтоб ярче горел. Я иногда чувствую себя колесом, пущенным с горы по узкому желобу. Катишься и знаешь, что не упадешь и не остановишься. — Я вот и хотел остановить тебя, Шерматджан. — Кто это тебе позволит? Впрочем, и мне тоже. Смотри, Саит, начнешь упорствовать, себе же лоб расшибешь. — Ты мне спас жизнь, — сказал капитан, — без тебя я бы замерз на волжском льду. И ты мне с тех пор брат. Я буду драться, чтобы имя моего брата не склонялось злыми языками, чтобы жажда славы не затмила его разума! — О том, что было, не вспоминай. Ты на моем месте поступил бы так же. А сейчас... что конкретно предлагаешь? — Отдай собственных овец совхозу, Шерматджан. Оставь себе то, что положено по уставу и... от греха подальше! Уверен, что эта твоя инициатива будет достойна оценена государством. — Дураки на этом джайляу, Саитджан, давно перевелись, поищи их в другом месте. С пустой сумой идти по миру!.. Стар я для этого. Да и овец нет у меня, проверяли — не нашли! — Что ж, придется лучше поискать. — Капитан встал. — За хлеб-соль спасибо. — Куда вы, Саит-ака? — спросила хола, принесшая в касах[15] шурпу. — Шурпы хоть отведайте! — Спасибо, келин, как-нибудь в другой раз. Сейчас я спешу. — Оставь его, — сказал Шермат-ата, видя, что жена хочет возразить гостю, — у него и в самом деле важные дела. А сам подумал: «Послушать Саитджана, так надо хозяйства всех чабанов перекроить... А кто на это сейчас пойдет!» С тех пор друзья встречались редко.IV
— Идем к нам, — предложила Сахро Азаде, когда они вышли из совхозного сада. — Жарко что-то, чайку попьем, от нас и до фермы ближе. Сахро права. От них до фермы рукой подать, минут пять ходьбы. Коттедж, в котором она живет, самый крайний из домов, построенных совхозом специально для учителей, на берегу дарьи. Муж Сахро преподает историю в школе, он и Азаду в прошлом году, вернее последние пять лет, учил. Зовут его Улаш-ака, а ученики просто — «муаллим»[16]. Азада несколько раз бывала в доме заведующей фермой, знает, что там в это время прохладно. Двор весь усажен деревьями, а с дарьи всегда веет свежестью. — Хорошо, зайдем, — согласилась Азада. — Может, у тебя дела? — спросила Сахро. Ей показалось, что девушка не очень охотно произнесла это «хорошо». Дела у Азады, конечно, были. Сообщили, что вот-вот должна мать с джайляу вернуться, надо было навести в доме порядок — помыть, почистить, подмести. Но и от приглашения заведующей отказываться не хочется — с ней всегда интересно. Пусть уж дела остаются на вечер. — Какие там дела, Сахро-апа[17], — ответила она бодро. — Ну раз так, идем, сестренка. Как-то не по себе мне сегодня. Сахро часто пытается понять причины своей привязанности к Азаде. Казалось бы, что общего между нею, замужней женщиной, матерью, к тому же красавицей, и вчерашней школьницей? Только ли работа? Нет. Она руководитель, а Азада — доярка, одна из двадцати с лишним женщин, среди которых Сахро наверняка могла бы найти подругу более подходящую. Но нет же, душа лежит к этой скромной и простой девушке. Она не может точно сказать, какая черта Азады ее привлекает больше всего, но знает одно — когда рядом эта девушка, легче на душе, словно она родной ей человек. Они вошли во двор и будто попали в другую страну — прохладную, зеленую. — А хозяин-то дома, — не слишком любезно произнесла Сахро, — ну ничего, мигом спровадим в чайхану, пусть там развлекается, а с женщинами ему нечего делать! — Зачем, апа, — возразила Азада, — пусть муаллим останется, с ним так интересно! Улаш-ака учил Азаду истории с пятого по десятый класс, она знала его как доброго, умного человека. Детям казалось, что нет и не может быть такого, чего бы не знал Улаш-ака. Первая жена Улаша-ака, тоже учительница, умерла от сердечного приступа лет пять назад. Дети их давно выросли и после окончания вузов разъехались кто куда. Ни один не остался в «Чинаре». И потому после смерти жены учитель вдруг остался совсем один. Согнуло горе муаллима — взгляд его стал каким-то тусклым, не было в нем прежней страсти, с которой отдавался он любимому предмету. Ученики, и Азада тоже, помогали Улашу-ака по дому, а иногда приходили просто так, поболтать, отвлечь его от тягостных мыслей. Но время шло, горе понемногу стиралось, и муаллим вновь обретал себя, становился прежним — страстным и увлеченным педагогом. Два года назад он женился на Сахро, муж которой, уехав на курсы повышения квалификации, познакомился в Ташкенте с другой женщиной и больше в «Чинар» не вернулся. Женитьба Улаша-ака на молодой — моложе, чем младшая его дочь, — красивой женщине вызвала немало пересудов в кишлаке. Но и тут время сделало свое дело — зубоскалы поостыли, смирились, тем более, что жили они дружно и счастливо. — О-о, Азадахон, — произнес радостно Улаш-ака, появившись в дверях дома. — Здравствуйте, муаллим! — Здравствуйте, здравствуйте. — Он продолжал стоять в дверях. Одет по-домашнему: в полосатые пижамные брюки, белую майку. Азаде показалось, что муаллим выглядит как-то неряшливо, да и обрюзг вроде бы. — Располагайтесь, девчата, а я сейчас вам чай приготовлю. — Мы сами, муаллим, справимся, — возразила Азада, — а вы отдыхайте. — Давай-ка, Азада, — распорядилась Сахро, — располагайся, он все, что нужно, сделает. — Хорошо, будет исполнено, — ответил, улыбнувшись, Улаш-ака. Улыбка получилась вымученной, она предназначалась скорее для гостьи, чем для жены. — У нас что-нибудь готовое есть? — спросила Сахро, забравшись на чарпаю[18]. — Да, джаным[19], я... — О боже, этот человек убьет меня своей болтовней! — воскликнула Сахро, не дав мужу договорить. — Ну что ты, что ты сердишься, Сахрохон? — попробовал оправдаться Улаш-ака. — Не спорьте со мной, ака, именно так! Джаным, да джаным, — передразнила она его, — словно нам по семнадцать лет. Особенно вам! — это она произнесла с насмешкой. — Извини, — сказал муаллим тихо. — Я только хотел сказать, что сам минут двадцать назад пришел, так что пока не успел... Собирался приготовить... И опять жена перебила его бесцеремонно. — Что? Что собирался? — Азаде показалось, что она допрашивает мужа. — Собирался приготовить пельмени, — ответил Улаш-ака. — Э-хе-е! Долго ждать! Нельзя ли что-нибудь побыстрее? — Сейчас сделаем. — А пока давайте чай. — Будет исполнено, Сахрохон. — Улаш-ака поспешил на кухню. «Точно робот какой, — подумала Азада об учителе, — за двадцать минут уже и двор подмел, и чарпаю застелил, да еще и чай успел вскипятить». А вслух заметила: — Очень сдал наш муаллим, выглядит как-то нездорово. — А ну его, — махнула Сахро пренебрежительно рукой. — Чего уж там сдал! Как будто он выглядел когда-то лучше. Азада не знала об отношениях Сахро и мужа, ей всегда казалось, что мир и согласие царят в их доме. И вдруг этот разговор при ней. Она была неприятно поражена. — Пожалуйста, девушки, — сказал Улаш-ака, поставив на столик поднос с чайниками и пиалами. — Вы пока утоляйте жажду, а я быстро приготовлю что-нибудь и для утоления голода. Как работается, Азадахон? — Спасибо, муаллим, привыкаю. — Не только привыкает, — сказала Сахро, — но уже ударница. Бывалым дояркам носы утерла! — Слышал и очень рад. Ну, пейте. — Улаш-ака отправился на кухню. И вновь не сдержалась Сахро, сказала со злостью: — Как он появляется перед глазами, меня начинает трясти. — Разве муаллим плохой человек, апа? — Не знаю. Наверное, наоборот, слишком хороший. Слишком. Сахро рассуждала о предстоящих переменах на ферме, а девушка в это время думала об Улаше-ака, не понимая, почему тот вызывает раздражение у Сахро. Ведь заведующая сама о нем сказала — хороший, слишком хороший. Разве так бывает? Какого же ей мужа нужно? Такого, чтоб каждый день напивался, а потом устраивал в доме скандалы? — Скажи, Азада, — неожиданно весело подмигнула ей Сахро, — а этот лейтенант милиции парень ничего, а? — Не знаю, апа. — А мне так сдается — ничего! Высокий, стройный. И красивый! Нос, как у орла, с горбинкой... Эх, везет же некоторым женщинам! Ну почему аллах не дал мне такого мужа?! Я бы... я бы его рабой была. Во всяком случае, мне он понравился, этот парень. Слушай, а может, мне завести с ним роман, а? — Воля ваша, Сахро-апа, — ответила Азада холодно, — только зря вы муаллима обижаете. И унижаете. Не заслужил он этого. — Ну, это наше семейное дело, милая, — нахмурилась Сахро. — Каждый живет так, как ему удобнее. — Потом изобразила беспечную улыбку на лице: — Не думай об этом, Азадахон, перемелется — мука будет. У нас с Улашем-ака иногда бывают размолвки, но потом все приходит в норму... «Приходит в норму у вас лично, наверное, Сахро-апа, — подумала Азада, — а у муаллима!.. Так ли уж бесследно для него все это проходит?» Азада покачала осуждающе головой, стала прощаться. — До свидания, апа. — До свидания! «Девушка права, — думала Сахро, — зря я при ней так с мужем обошлась. Ведь это ее учитель. Что Азада теперь обо мне думать станет? Ну, с другой стороны, почему Улаш-ака появился перед девушкой в таком неприглядном виде? Мог ведь переодеться! Тьфу! Живот висит, точно вымя у тощей коровы! Волосы какие-то масляные. Ладно, я с ним об этом еще поговорю. А Азада... ей нужно как-то поделикатнее объяснить, чтобы не думала, что я изверг какой...»V
Вообще-то секретарь парткома Мурад Ярматов родом из соседней области, но живет он так давно в «Чинаре», что все жители кишлака считают его местным. Сюда он приехал лет двадцать назад после окончания Ташкентского университета учителем математики. Здесь и женился, вступил в партию. Постепенно поднимался по служебной лестнице, был завучем, заместителем директора школы по воспитанию. А последние четыре года возглавляет партийную организацию совхоза. «Таким же, как этот лейтенант, я приехал в «Чинар», — думал Ярматов, сидя рядом с Акрамовым, — вот уже называют меня партком-бобо[20] или Мурад-ака! Время летит, черт возьми, летит!» — Ну, рады вашему прибытию, Захидбай, — сказал он Акрамову, когда девушки ушли. — Спасибо, Мурад-ака. — Ждали вас рано утром. А потом разъехались по отделениям, решив, что вас какое-то важное дело задержало. Давно уже в кишлаке? — В начале первого приехал. — У родника нашего отдыхали? — Нет, знакомился с кишлаком. — Ничего особенного, горный кишлак. Таких много в отрогах Гиссара и Байсун-тау разбросано. — А вот чинар такой все же единственный. Так ведь? — Верно. Такого дерева, пожалуй, нигде и в республике нет. Вы партийный человек, Захид Акрамович? — Пока кандидат. — Отлично. Молодые, грамотные коммунисты нам очень нужны. Не взыщите, если мы вас поручениями, как говорится, под завязку нагрузим! — Пожалуйста, Мурад-ака. Участок, как предупредили меня, спокойный, должен же я чем-то заниматься! — Да-а, спокойно тут. Ни краж, ни хулиганства. Народ здесь добрый, честный. Правда, иногда случаются ЧП, но так редко и по таким пустякам, что и говорить о них не стоит. В этом покойного Саита-ака заслуга большая. — Я много слышал о нем. — Душевный был человек, — задумчиво проговорил Ярматов. — Но иным на этой должности и быть-то нельзя, вот какая штука. Люди доверяют милиции, несут ей свои печали и тревоги. Разве можно пускать в милицию черствых, злых? При всем том Саит-ака был принципиальным человеком, мне покоя не давал. — Да ведь и у вас должность такая, что люди к вам и с горем, и с радостью идут, Мурад-ака. — В этом смысле у нас с вами работа одинаковая, Захид Акрамович. — Что же волновало Саита-ака больше всего? — спросил Захид. — Как ни парадоксально — благополучие чабанов. — Выступал против? — Против чего? — Благополучия. — Я бы не сказал. Просто его возмущало то, что система материального стимулирования труда чабанов оставляет лазейки для всевозможных махинаций. Верно, в чем-то Саит-ака был прав, но, с другой стороны... Грязь можно найти даже в кристально чистом ключе, все зависит от нас. В кабинете своем были уже? — Успеется... — Идемте. До планерки время еще есть, мы вполне успеем побывать там. Кабинет участкового уполномоченного расположен в правом крыле здания сельского Совета. В окно открывается вид на площадь. Мебели немного, да и та вся старая, ветхая, особенно диван у дальней стены. — Здесь у вас несколько убого, — заметил Ярматов. Захид подумал о том же. — Саит-ака не обращался к нам по этому вопросу. Но надо дело поправить. Кажется, на складе остался еще одни кабинетный гарнитур, отдадим его вам. ...Над кишлаком опустился вечер. Когда Ярматов и Захид пришли в контору совхоза, в кабинете директора уже находились директор Ульмас Муминов и председатель сельсовета Хадича Бердыева. Захид познакомился с ними, сел за стол. Ульмас-ака был настоящим богатырем, над столом возвышался, точно гора. Хадича-апа рядом с ним казалась хрупкой, маленькой. — Парень он холостой, — сказал о Захиде Ярматов, — так что пока мы достроим дом, сможет пожить в гостинице. — А мы его тут женим, — сказала Бердыева таким тоном, словно продиктовала пункт решения исполкома. — Невест в «Чинаре» достаточно, и все словно пери! — Если у него нареченной нет, — поддержал директор, — мы ему такую красавицу сосватаем! — Сельсовет тут же зарегистрирует! — Хадича-апа повернулась к Захиду. — Спешите, товарищ лейтенант! — Есть спешить! — ответил он бодро, а сам с грустью подумал о той, которую хотел назвать нареченной. Предала его та девушка, вышла замуж, пока он учился в высшей милицейской школе. За директора универмага. Прошло около трех лет, но любовь в душе все еще не остыла, нет-нет да и напомнит о себе — болью в сердце, грустью и тоской. — Территория совхоза большая, — сказал Ульмас-ака, — некоторые пастбища находятся за сто километров отсюда, а вам, товарищ лейтенант, придется бывать и там. — Я это знаю, — Захид тряхнул головой, точно отгонял прочь непрошеные воспоминания. — Обо всем этом мы с лейтенантом успели переговорить, — отозвался Ярматов. — Транспортом в таких случаях, как и раньше, будем обеспечивать из нашего гаража. — Служба у товарища Акрамова беспокойная, участок громадный, может, выделим мы ему новый мотоцикл, пусть ездит на здоровье, а? — предложил неожиданно директор. — А что, дельное предложение, — поддержала его Хадича-апа. — Ну что ж, давай выделим, — согласился Ярматов, — тем более, что я уже успел пообещать ему кабинетный гарнитур. Пусть уж у него все будет новым. — А для нас Захидбек — человек новый, — сказала Хадича-апа, — интересно, что он заметил, как говорится, свежим глазом. — Да по совести говоря, мало еще успел увидеть, — ответил Захид. — Детей много в кишлаке. — Ну, их в любом поселке хватает, — рассмеялась апа. — Согласен, но про детей я начал вот почему: через кишлак проходит Большой тракт с его постоянным автомобильным движением. А тротуаров нет. А если несчастье?.. — Пока проносило, — сказала Хадича-апа, — но тротуары, конечно, необходимы. Ульмас-ака, лейтенант правильно подметил. — Вот-вот, — вмешался в разговор Ярматов, — и дело это как раз по линии Совета, так что вам, Хадича-апа, и карты в руки. — И вам тоже как депутату этого Совета, — не осталась в долгу Бердыева. — Общее это наше дело, — сказал директор, — тротуары сделать нужно. У нас в кишлаке, если заметили, — он повернулся к Акрамову, — очень много дорожных знаков. Кое-кто считает, что этого достаточно. — И в береженый глаз сор попадает, — заметил Захид. — А еще вот что меня удивило — к роднику у вас относятся бережно, а вот чинар безжалостно обкуривают шашлычным дымом. — И это резонно, — согласился директор. — Ладно, придумаем что-нибудь. — Теперь о своих планах, Ульмас-ака, — сказал Захид. — Хочу побывать на джайляу, на фермах, везде, где работают и живут чинарцы. — Пожалуйста, начинайте хоть с завтрашнего дня. Кажется, Джавлиев собирался к Шермату-ата? — спросил директор у Ярматова. — Да. Что-то он зачастил туда, думаю, к осени на свадьбе будем гулять. — И хорошо, Мурадджан. Пара получится отличная! Так вот, пусть Джавлиев захватит и товарища Акрамова, а потом покажет совхоз. Ну, а теперь начнем планерку. Захид вопросительно посмотрел на директора. — А мне можно присутствовать? — Покойный Саит-ака ни одну не пропускал. Акрамов облегченно вздохнул — кажется, контакт налажен. — Что же, — ответил он, — постараюсь следовать его примеру.Планерка — рабочее собрание командиров производства. Тут говорят о том, что волнует руководителя в данный момент, предъявляют требования к невыполнившим своих обещаний, принимают решения. Захид, как говорится, слушал да на ус мотал. С кем-то мысленно соглашался, кого-то упрекал за бахвальство, словом, по-своему принимал участие в работе планерки. И уже позже, изучая у себя в кабинете картотеку капитана Халикова, записывал в блокнот заинтересовавшие его сведения о некоторых жителях «Чинара» и его отделений. Захид почувствовал, что незаметно для себя он стал причастен к заботам и тревогам почти двадцати тысяч человек, седобородых старцев и крошечных их внуков, многодетных матерей и еще безусых юнцов — всех, кто жил в совхозе. В гостиницу Акрамов пришел поздно. Оттуда он позвонил дежурному районного отделения и сообщил — если не случится ничего непредвиденного, утром уедет по отделениям и вернется через несколько дней. — В случае необходимости меня можно разыскать через секретаря сельсовета, — сказал он на прощание...
VI
В каждом узбекском кишлаке непременно есть балагуры и шутники, любители острого слова. По вечерам собираются они в чайхане, и плоха та чайхана, где не начинается в конце концов аския —состязание острословов. В этом смысле чукургузарцы — жители седьмого отделения совхоза «Чинар» — были в несколько затруднительном положении, ибо чайхана у них отсутствовала. Да в ней, пока в домах не появились телевизоры, особой необходимости и не было, мужчины собирались у кого-нибудь из приятелей во дворе и были этим вполне довольны. Но вот стали появляться в домах телевизоры, и жены под разными предлогами принялись отказываться от гостей-весельчаков — они мешали смотреть интересные передачи. И повадились тогда по вечерам ходить мужчины в сельский магазин. Весело стало там, порой стены сотрясались от хохота, но продавец вскоре выставил их, потому что в такие вечера резко падала выручка. И тут как раз райбыткомбинат открыл в кишлаке парикмахерскую. Оживились чукургузарцы. Поскольку в кишлаке не оказалось собственного брадобрея, прислали из района. Им был уста[21] Нияз, сорокапятилетний мужчина. Человеком он оказался добродушным, веселым, столько знал анекдотов и смешных историй, что уже спустя неделю парикмахерская стала самым многолюдным местом в кишлаке. Уста повесил в парикмахерской полукиловаттную лампочку, и, едва она вспыхивала, как туда валил народ. Кто-нибудь устраивался в кресле, а остальные рассаживались на скамейках вдоль стен. Уста намыливал голову или лицо клиента и заводил разговор — неважно о чем, ведь предметом аскии может быть пустяк из пустяков. В него втягивались и остальные, мало-помалу разгоралась аския. Расходились, как правило, за полночь, чисто выбритые, надушенные тройным одеколоном. Но уста Нияз любил не только шутить. Часто он брал у кого-нибудь ослика и, прихватив снасти, на все воскресенье отправлялся вверх к родникам, где якобы водилась особенная форель. Когда уста возвращался с рыбалки, никто не знал, но каждый понедельник вечером лампочка вновь призывно вспыхивала в его парикмахерской...VII
Секретарь комитета комсомола Юсуф Джавлиев был коренастым парнем лет двадцати пяти. Одевался он, как настоящий спортсмен-мотоциклист, в коричневую куртку из искусственной кожи, сверкающую молниями, ярко-желтый шлем и модные ветровые очки. Появился Юсуф в гостинице рано утром, едва Захид успел встать. — Товарищ Акрамов? — спросил он и, получив утвердительный ответ, представился: — Джавлиев, секретарь комитета комсомола. — Очень приятно, — сказал Захид и, пожав парню руку, предложил: — Завтракать будете? — Не откажусь, товарищ лейтенант. На столе уже стоял ароматный шир-чай и завтрак, приготовленный хозяйкой гостиницы, которая выполняла одновременно обязанности повара. Позавтракав, вышли во двор, где у крыльца стоял мотоцикл Юсуфа. Захид отстегнул дерматиновый тент и устроился в люльке, а Джавлиев, важно нацепив очки, сел за руль. Он резким толчком ноги завел мотор, включил скорость, и машина рванулась вперед. Проехав с полкилометра по асфальту, Юсуф свернул влево и на полном ходу проскочил брод через речку. Отсюда неширокая каменистая дорога, петляя между адырами, карабкалась вверх, к видневшимся вдали снежным вершинам. Юсуф сбавил скорость, чувствовалась нагрузка на мотор — он гудел во всю мощь, и рев его, отраженный адырами, по ложбинам возвращался обратно стократным эхом. — Захид Акрамович, — сказал Юсуф громко, — отдохнем малость, а? — Давай. По правде говоря, Захид уже устал. Два часа трястись в люльке по дороге, которую и сам шайтан обойдет стороной, дело нелегкое! — Давно бы в порядок дорогу-то привели, — сказал он, когда Юсуф остановил мотоцикл на небольшой площадке. — Силенок не хватает, — ответил комсорг, — облисполком обещал сделать дорогу на свои средства, но и у него, видать, деньжат нет пока. — До места далеко еще? — спросил Захид, выбравшись из люльки. — Это смотря куда, Захид Акрамович. Если на сенокос, так часа четыре еще, а если к Шермату-ака, то часа через полтора будем. — Юсуф слез с седла и вслед за Акрамовым стал размахивать руками и приседать, чтобы размяться. — Перекусим немного и дальше. — Семья большая? — поинтересовался Юсуф у Акрама. — Мать, отец, сестра да я. — Личную я имею в виду. — Пока один. — Вот и я холост. Четверть века за плечами, а рубашки все еще мать стирает. — Ульмас-ака вчера хвастался, — заметил Захид, — что в «Чинаре» полно красавиц, но я что-то, глядя на вас, начинаю сомневаться в этом. — Он не соврал, — сказал Юсуф, — просто я сам... После десятилетки пошел в сельскохозяйственный техникум, потом призвали в армию. Вернулся, рекомендовали секретарем комитета комсомола. Пока входил в колею, время пролетело, но теперь вроде бы освоился, можно подумать и о личном. Осенью, если удачно все сложится, сыграю свадьбу. — Кто невеста, если не секрет? — спросил Захид. — Держу одну на примете. Сама она об этом пока не знает, но, видно, догадывается. Зовут ее Азада, она дочь чабана, гостем которого мы сегодня будем. — Я ее видел вчера, — сказал Захид, — думаю, что выбор ваш хорош. — Где же, интересно, вы могли ее видеть?! — В совхозном саду. По-моему, Азада еще очень молода? — Семнадцать с хвостиком, так что никто не придерется, даже вы, Захид Акрамович, — представитель власти. — Скажите, а что из себя представляет Сахро? — Ну, как вам сказать... — замялся Юсуф. — Как представителю милиции, — рассмеялся Захид, — говорите правду и только правду. — Кто поймет природу женщины, Захид Акрамович? Дает она, к примеру, ей главное достоинство — красоту, но не позаботится, чтобы женщина эта была и счастлива. Сколько я знаю красивых женщин, столько же почти знаю разбитых судеб. Вот и наша Сахро не оказалась исключением, не повезло ей. А я вижу, заинтересовала вас она, Захид Акрамович? — сказал Юсуф. — Да нет, просто так спрашиваю, — ответил Захид и поспешил переменить тему: — Вы — командир дружинников в «Чинаре», Юсуфджан. С покойным Халиковым в контакте были? — Конечно. Лично я с ним много спорил. — О чем? — Обо всем. Он в последние годы, мне кажется, каким-то странным стал. Совал нос не туда, куда следует, собирал материалы на чабанов. А зачем, скажите? Живешь себе спокойно, пользуешься уважением земляков, так зачем тебе ненужные хлопоты? Никто ничего не украл, никого не убил! В кишлаках спокойно, чего еще нужно? Не понимал я его, нет. — А если конкретно, Юсуфджан, о чем все-таки спорили? — О пустяках, Захид Акрамович. Вот вдолбил Саит-ака себе в голову, что некоторые чабаны слишком быстро стали богатыми, — и все. А чего удивляться! Хорошо работают, скот появился у каждого, а он пока немалых денег стоит. — Сверхуставной скот? — спросил Захид. — Немного, конечно, но есть. — Значит, прав был Халиков, что возмущался. — Почему? Ведь чабаны не украли его, скот этот, а получили от государства как премию. Государство дает, а участковый голову ломает над тем, как отобрать... Э, не будем, Захид Акрамович, о покойниках нельзя говорить плохо, не принято. Отдохнув и перекусив холодной бараниной, они двинулись в путь. Дорога стала еще каменистее. — Видите впереди перевал? — прокричал Юсуф. Захид кивнул. — Недалеко от него находится джайляу Бакиева, нашего знаменитого чабана. — А чем он знаменит? — Захиду тоже пришлось кричать. — Со вчерашнего дня только и слышу о нем, а что он сделал конкретно, пока не знаю. — Шермат-ата — сардар[22] чабанов Сурхандарьи. Он больше всех получает приплода в расчете на сто овцематок. Награжден орденом Ленина, да и фронтовых наград у него хватает. Как собрание какое или курултай — его в президиум. А вообще... крутой старик! — Что значит — крутой? — Властный очень. Семья у него большая, так он всех держит в руках. — Юсуф так громко говорил, что даже охрип. — И вы туда хотите? — усмехнулся Захид. — Ну нет, невесту уведу в свой дом... Мотоцикл поднялся к перевалу. В лицо ударил холодный ветер. Юсуф не стал брать перевал, а поехал по склону. Дорога здесь была ровной, хоть и петляла, обходя глыбы скал, встречающиеся на пути. Через полчаса примерно мотоцикл оказался на гребне адыра, откуда открывался вид на джайляу Шермата-ата...VIII
Еще не все доярки успели подоить коров, когда двор фермы стал наполняться грохотом моторов. Сначала появились бульдозеры, за ними прикатили три трактора с прицепами и экскаватор «Беларусь». — Кажется, денек предстоит горячий, — сказала Сахро женщинам, сдававшим молоко учетчику, — быстренько по домам и тут же обратно! Одевайтесь в то, что погрязнее да подешевле, лопаты не забудьте прихватить. Вскоре на ферму приехал Ярматов. Его «газик» остановился у конторки, где возле молоковоза толпились доярки. Парторг вылез из кабины и, подойдя к ним, громко поздоровался: — Ассалом алейкум, девушки! — Ваалейкум ассалом, — дружно ответили те. — Не ждали? — спросил он, имея в виду технику. — Честно говоря, нет, — ответила за всех Сахро. — А мы взяли да и решили создать механизированный отряд, чтоб конвейерным способом... Пока не будет образцового порядка, Сахро, ни один трактор не уйдет отсюда. А чтобы никаких недоразумений не было, самого главного инженера назначили руководителем. — Спасибо, Мурад-ака, — сказала Сахро. — Мы, когда услышали шум бульдозеров, растерялись даже — ведь не надеялись, что все так быстро образуется. — Не верите, значит, парторгу? — Да нет, просто думали, будет как всегда. Одна неделя уйдет на напоминания, вторая — на раскачку... Правда, Азада? — Ну да, — подтвердила Азада. — Удивили вы нас, Мурад-ака! Спасибо! — Во-первых, плохо вы думаете о своем начальстве, — шутливо заметил Ярматов, — а во-вторых, не меня нужно благодарить — ситуацию. Так случилось, что оказалось возможным выделить вам технику. И потом... за живое задел меня рассказ Сахро. Надо, чтобы двор фермы полностью очистили от навоза, мы потом заасфальтируем его. Пока Сахро с учетчиком принимали молоко, пока отправляли его на завод, вернулись переодевшиеся женщины. У каждой в руках — лопата. Сахро распределила их по участкам и сама встала рядом с Азадой. — Что хмуришься, подруженька, — спросила она, — чем-то расстроена? Азада посмотрела на свою заведующую осуждающе. — Жаль мне муаллима, Сахро-апа. Сахро не удивило это признание, она еще вчера поняла, что огорчило девушку. — Понимаю, Азада. Ты извини, что так несуразно получилось, сама не знаю, что это вчера на меня нашло — тяжесть какая-то легла на душу, и все тут. — Ладно, забудем это. — Ну вот и молодец. А знаешь, почему нам повезло с бульдозерами? — Мурад-ака пообещал — и сдержал слово! — Пообещал! Ситуация, как он выразился, помогла. Мне кажется, если бы ему и директору не влетело от первого секретаря райкома партии за кукурузу, они бы о нашей ферме и не подумали! Азада с недоумением взглянула на заведующую — мол, при чем тут кукуруза. Сахро поняла этот взгляд, объяснила: — Весной, когда проходил курултай работников сельского хозяйства, Ульмас-ака выступал, ну и пообещал, что кукурузоводы совхоза получат по восемьдесят, что ли, центнеров зерна с гектара. А недавно к нам комиссия приезжала, проверяла состояние этой самой кукурузы. Ну, после проверки и произошел скандал! Дела-то, оказывается, из рук вон плохо идут. Предложили нашим руководителям принять срочные меры, а иначе — партбилет на стол! И правильно сделала комиссия. Забеспокоились директор с парторгом. — Все-то вы знаете, Сахро-апа! — воскликнула Азада. — Ничего, время придет — и ты узнаешь. Ну-ка, спросим у кого-нибудь из ребят, правильно ли я предполагаю. Идем. — Сахро взяла девушку под руку и повела в дальний конец двора, где тарахтел экскаватор, нагружавший прицепы. Трактористу, молодому пареньку, крикнула: — Эламан, куда велено навоз свозить? — На кукурузу, куда еще! — подмигнул парень. — Ну, видишь, — сказала Сахро, — вот тебе и ситуация, значит. А, да нам все равно, лишь бы навести тут порядок! Сахро ловко, словно всю жизнь только этим и занималась, орудовала лопатой. Сняв с головы платок, она подпоясала им платье, чтобы не мешало. И сразу преобразилась — стала тоненькой, стройной. Доярки обратили внимание на эту перемену и одна за другой прекращали работу, наблюдая за своей заведующей восхищенными взглядами. Сахро почувствовала на себе эти взгляды и, гордая оттого, что даже женщины обращают на нее внимание, выпрямилась, смахнула рукавом пот с лица. — Эгей, подруженьки! Что это вы как завороженные застыли, может, устали уже? — Нет, Сахрохон, — ответила Саломат-апа, самая старшая в этой группе, — залюбовались тобой. Вроде бы попривыкли к тебе, не замечаем твоей красоты, а вот сейчас, без платка да подпоясанная, выглядишь, точно пери какая. Эх, жаль, не мужчина я. — Что бы тогда? — А наплевала бы на все пересуды и увела тебя от мужа! Женщины рассмеялись, а Саломат-апа с горечью добавила: — Меня вот только некому от моего ненаглядного увести. Чтоб ему пусто было, пьянице несчастному! Джаббар-ака, ее муж, работает тут же на ферме пастухом. Зарабатывает хорошо, да только все спускает на водку. Вообще-то, когда он трезвый, тише человека во всем «Чинаре» не сыщешь, но как хватит лишнего... тут уж ему море по колено. И кто только с ним не беседовал по этому поводу, кто только не взывал к его совести — все впустую! Только вечер опускается на кишлак, неведомая сила тянет Джаббара-ака в магазин за бутылкой. — Ничего, дорогая, призовем все же к порядку твоего ненаглядного, — пообещала Сахро, — приехал новый участковый, попросим его, чтобы помог. Сахро сняла платок с пояса и, накинув его на плечи, вышла из коровника. — Да, не я одна такая несчастная, вот и бедной Сахро не повезло, — вздохнула Саломат-апа. — Разве этот, прости меня аллах, старикашка ей нужен? Настоящего бы ей джигита, как Юсуфджан, например! Азада слушала и ушам своим не верила — как они такое могут говорить об учителе. — Не надо так о муаллиме, — попросила она женщину. — Такого человека, как он, редко встретите. Если бы вы знали, какой он умный, добрый. Как любит Сахро-апа, чуть не на руках ее носит! — Правильно все, Азада, — согласилась Саломат-апа миролюбиво, — но речь-то сейчас о другом идет. — О чем же, апа? — Рано тебе знать, сестренка. Придет время... Впрочем, я тебе не желаю в мужья старого человека... Ну да ладно, не сердись, я ведь по глупости такое ляпнула. Не знали женщины, не догадывались, какое смятение внесли в душу своей заведующей. Их восхищенные взгляды, их безыскусные, но такие восторженные слова с новой силой пробудили в Сахро прежние чувства — она красива, молода, она может нравиться. Но только ли восхищенные взгляды подруг вызвали в ее душе эту неуемную радость? Вчера вечером долго не могла она уснуть, все пыталась понять, что же с ней происходит? Ведь та вспышка, свидетельницей которой стала юная Азада, была по сути дела первой, никогда прежде не демонстрировала Сахро своих неприязненных чувств к мужу. Прятала она эти чувства глубоко-глубоко в сердце, боясь признаться в них не только Улашу-ака, но и самой себе. А вот вчера увидела молодого, стройного лейтенанта Акрамова — и словно ток по всему телу пробежал. Разве может сказать женщина, за что, почему вдруг сразу, с первого мгновенья, начинает нравиться ей мужчина?! Просто, видно, слишком долго томилась, изнывала душа Сахро без настоящей любви, ведь Улаш-ака скорее для нее отец, чем муж. Мимолетной была эта встреча, но какое сильное впечатление произвела на нее! Нет, теперь она понимает, почему сорвалась, почему так раздраженно разговаривала с мужем. Она сравнила его, уже старого, обрюзгшего, переставшего следить за собой, с подтянутым, энергичным, обаятельным лейтенантом милиции. Что и говорить, сравнение это было далеко не в пользу Улаша-ака. Правда, потом, вечером, когда Улаш-ака вернулся домой с сыном — они где-то долго пропадали, и Сахро даже стала беспокоиться, — она почувствовала вдруг себя виноватой. Ей подумалось, что муж так долго не возвращался потому, что ему было обидно, больно встречаться с женой, ни за что ни про что унизившей, оскорбившей его. Она подняла виноватый взгляд на отца своего ребенка, тихо сказала: — Улаш-ака, не обижайтесь, пожалуйста. И сама не знаю, как это получилось. Больше такого не повторится. — Сахрохон, о чем ты? — смутился учитель. — Ведь ничего не произошло, все в порядке, родная.IX
Двое суток объезжал Акрамов свой участок. Юсуф показывал чудеса езды на мотоцикле. Он даже свозил Захида в зону альпийских лугов. Травы там еще едва прикрывали землю, но уже стоял над землей пьянящий их аромат. — А что же будет, когда все расцветет? — сказал Захид, жадно, полной грудью вдыхая благоухающий воздух. — Люди тут обходятся без водки, экономят. Надышатся — и хмельные, — рассмеялся Юсуф.Лейтенант предупредил дежурного райотдела, что о его местопребывании будет известно секретарю Совета. Однако ж ни из одного отделения он не мог сообщить, где именно находится. Оказалось, что рации, на которые он понадеялся, ни в одном отделении не работали. — Рации только во время окотной кампании действуют, — сказал Юсуф. — В это время из облсвязи приезжают специалисты... И вот они возвращаются домой. Еще не совсем рассвело, только лента Большого тракта, на который они, наконец, выбрались, блестела впереди. По обе стороны дороги катились адыры, в лицо дул холодный ветер. Мотоцикл мчался на предельной скорости, потому что дорога еще «не проснулась», встречный транспорт появлялся совсем редко. Той жуткой тряски, что пришлось испытать на крутых тропах, не было, и Захид, прикрыв глаза, подводил мысленно итоги всему увиденному. Особенно ему запомнилось время, проведенное на джайляу Шермата-ата. Запомнилось потому, что поразил его там один факт. Джайляу напоминало половину громадного конуса. Вроде бы разрезали этот конус надвое по вертикали и одну часть вдавили в грудь горы. С боков джайляу окаймляли пологие холмы, а там, где оно суживалось, белела юрта чабана. От очага тянулся сизый дымок, а чуть пониже, как небрежно брошенная старая шина, лежал круг кутана — загона для овец. Два волкодава с обрубленными хвостами и ушами встретили мотоцикл громким лаем. Они готовы были броситься на седоков, но Джавлиев, чуть приглушив мотор, прикрикнул: — Алапар, пошел вон! Белый пес с крупными черными пятнами на спине перестал лаять и, зайдя слева, побежал рядом с мотоциклом, почти касаясь головой колена Юсуфа. Замолчал и второй пес. — Смотри-ка ты, узнали, — сказал Захид. — Мне ведь тут приходится часто бывать. Привыкли. — Как будущему родственнику? — Как члену парткома, — улыбнулся Юсуф. У юрты, опершись на посох, стоял коренастый старик, накинув на плечи чекмень — халат из груботканой шерсти. Посох в его руках блестел, как лакированный. Когда подъехали к самой юрте, Захид увидел женщину, сидевшую на корточках у очага, а со стороны кутана шел долговязый парень с палкой за плечами. Юсуф остановил мотоцикл почти рядом со стариком. — Ассалом алейкум, ата, — поздоровался Захид, подойдя поближе. — Ваалейкум ассалом, — ответил чабан, пожав руку лейтенанту так, что тот чуть не вскрикнул от боли. — Это наш новый участковый, — представил Юсуф Захида, — товарищ Акрамов Захид. О-о, и Бодом-хола еще тут, на джайляу! — Жена чабана, где ж ей быть! Прошу! — старик откинул дверку юрты и жестом, приложив руку к груди, пригласил Захида. Чабан пропустил в юрту сначала Захида, затем Юсуфа, а сам остался, чтобы отдать кое-какие распоряжения. В юрте было просторно, на полу лежала кошма — на ней расстелены курпачи[23]. У стены, что напротив двери, на ящиках из-под чая высилась гора сложенных одеял и ватных подушек. Справа от входа, на полу, стоял большой казан. Из мешочка, подвешенного к одной из стоек юрты, торчали ложки и ножи. На другой стойке висел бурдюк с кислым молоком. — Вы располагайтесь, Захид Акрамович, — сказал Юсуф, — я сейчас. — Он вышел из юрты. Захид разулся и прошел на курпачу, лег, облокотившись на подушку. Появилась жена чабана, она чем-то неуловимым напоминала председателя сельсовета Хадичу-апа. Захид поднялся с курпачи. — Отдыхайте, отдыхайте, — замахала на него руками хола, — я на минуту зашла, только взять супру. Мужчины принялись разделывать тушу барана, мясо некуда складывать. — Барана? А почему именно сейчас они его разделывают?! — удивился Захид. — Так принято у нас. Гости в такое время года не так уж часты. Весной — это да, комиссия за комиссией жалует на джайляу, думаешь — уж скорее бы закончился окот. Тогда устаешь от гостей, а сейчас... гость в дом — радость в дом. Хола взяла супру — скатерть из сыромятной кожи — и вышла. Захид снова прилег, взял в руки свежий номер «Гулистана», что лежал на кошме возле ящика, и начал листать. — Не скучаете, товарищ Акрамов? — спросил чабан, войдя в юрту. — Да нет, журнал вот свежий смотрю. Чабан скинул с плеча чекмень, сел на другую курпачу, поджав под себя ноги. Захид залюбовался стариком. Глаза — живые, острые. Носит ата пышные усы, густые брови делают его лицо строгим. Голова гладко выбрита, в широкой, как лопата, бороде блестят редкие седые нити. Но что особенно бросается в глаза, так это его руки — большие, сильные, натруженные, точно у кузнеца. — Сколько же вам лет, Шермат-ата? — спросил Захид, отложив журнал. — В позапрошлом году той справлял, значит, нынче уже шестьдесят пять. — И всю жизнь чабаном? — С тринадцати лет. Начинал с чулика[24]. Три года был перерыв, на войну уходил. — И хола всегда с вами? — А куда ей деваться? Раньше бывало уедет в кишлак рожать, а как ребенку исполнится месяц-полтора, снова возвращается. Теперь дети выросли, внуки пошли, так что самым любимым ребенком у нее остался я. «Да разве дашь такому палвану[25] шестьдесят пять, — подумал Захид, — самое большое — пятьдесят с лишним. А силен, как буйвол, руку сжал — до сих пор болит». — Куда же Джавлиев ушел? — спросил он. — Сыну помогает. Пусть тренируется, а то числится зоотехником, а с какой стороны к овце подойти, не знает. В этом доме он не гость. — Слышал я, — сказал Захид, желая польстить чабану. В юрту вошли сын чабана и Юсуф с блестящими от жира руками. Захид стал рассматривать Раима. Он был молод, худощав. Брови, как у отца, густые, ершистые, на губах — пушок. — Я пойду, ата, — сказал Раим, немного посидев с гостями, — отара далеко ушла. — Иди, сынок... Захид и Юсуф пробыли у старика часа три. Чабан, пока не накормил тандыр-гуштом, не отпустил гостей. Выходя из юрты, Захид увидел голову только что забитой овцы. В ее ушах тускло поблескивала бирка — такими обычно клеймят совхозных овец. «Неужели для нас ата прирезал совхозную овцу», — подумал Акрамов, и эта мысль неприятно поразила его. Казалось, и сам он стал соучастником преступления. Он был здесь новичком, да к тому же гостем, и потому не знал, как теперь поступить! — Много овец в отаре, ата? — спросил Захид, увидев рассыпавшихся на джайляу животных. — Полтысячи овец да триста ягнят. — А я подумал, что больше тысячи, — сказал Захид. — Добра без счета не бывает, — неопределенно ответил старик, нахмурившись. Он повернулся к Юсуфу и, видимо, желая перевести разговор на другое, сказал: — Посмотрел бы мой мотоцикл, что-то уж очень шуметь стал. — В другой раз, ата, — ответил Юсуф, — нам с товарищем Акрамовым ехать пора. — Ну, ладно, — согласился старик. — В следующий так в следующий. — У него и мотоцикл есть? — спросил Захид Джавлиева, когда они, попрощавшись с гостеприимным хозяином, отъехали от юрты. — Мотоцикл?! — усмехнулся Юсуф. — У него две «Волги». На старой сын — председатель рабкоопа — ездит, а на «ГАЗ-24» — сам. — Вот как! — удивленно воскликнул Захид. — Старик, если захочет, может запросто собственный самолет купить. Только подскажите, где их продают. — Он что, миллионер? — Не миллионер, но и не бедняк. Богатство его некраденое, Захид Акрамович, руками его золотыми нажитое. Посчитайте сами — за каждые две сотни приплода ему дают девять штук ягнят как премию. Сорок-пятьдесят в год. И так лет десять подряд. — Так у него же целая отара получается! — сказал Захид. — Если эту отару «обратить» в звонкую монету, пожалуй, еще три «Волги» можно купить. — Не знаю, — ответил Юсуф, — я над этим не думал. — Когда породнитесь с ним, — сказал Захид, — точно сыр в масле кататься будете. — У старика не больно-то разгуляешься, — скряга! Чем богаче становится — тем жаднее. Даже дочь родная, Азада, и та заметила. — Да, странное существо человек, — сказал Захид. — Чем больше ему дается, тем большего он требует. Жадность и алчность, между прочим, часто порождают преступления. — Ну, старик не из таких, конечно. Прежде всего он работяга. Да и для гостя ничего не жалеет. — Потому и заколол совхозную овцу? — Схватил, видно, первую попавшуюся, Захид Акрамович. Не беспокойтесь, бирку он перевесит на свою. Сколько было ревизий, ни одна еще недостачу у него не находила. — А личных его овец кто-нибудь считал? — Сколько раз пытались внезапно явиться с такими проверками, ничего не выходило. В горах действует беспроволочный телефон. Чабаны тоже не дураки, собственные овцы пасутся там, где их и шайтан не отыщет. «Чаканы»[26] называются эти отары. И один аллах знает, кто их пасет, за какую цену. Тракт стал оживать, то и дело попадались встречные машины. В том месте, где к тракту примыкал проселок, ведущий из седьмого отделения, на асфальте отпечатался пыльный след колес грузовика. И, судя по ширине оттиска протекторов, машина въехала на тракт тяжело груженной. Все это в долю секунды отметил про себя Захид. — Нажмите на газ, Юсуфджан, — попросил он, — попытаемся догнать транспорт, что вышел недавно на дорогу. — Шерсть уплывает? — сразу догадался тот. — Я не знаю, что на машине везут, но причины для подозрения есть. Назову те, что видны даже непрофессионалу. Первое — ширина оттиска шин. Это говорит о том, что машина тяжелая. Второе — совхозные машины шли бы вниз по тракту, в сторону райцентра, а эта идет в «Чинар». Третье — для шоферов «Чинара» время слишком раннее, а эта спешит. Впрочем, все может оказаться и иначе. — В нашем совхозе нет машин с таким рисунком шин. — Вот видите, друг, — улыбнулся Захид, — оказывается, вы наблюдательный человек. Теперь слушайте дальше. У грузовика подшипники правого переднего колеса имеют люфт, шоферу за это дело полагается «строгач» и прокол в талоне. — Ну, такие тонкости мне не по зубам, — сказал Юсуф. — Эту неисправность может заметить любой опытный шофер, достаточно ему вглядеться в «восьмерку» на дороге... Машину они догнали недалеко от кишлака. Это был, как и предполагал Захид, старенький грузовик, в кузове которого высились большие тюки, обернутые паласами, из-за заднего борта торчали спинки трех стульев, стойки от юрты. Все это в нескольких местах было перехвачено прочной бельевой веревкой. — Ошиблись, Захид Акрамович. По-моему, кто-то из чабанов уезжает, — разочарованно сказал Юсуф. — В кишлаке проверим. — А когда мотоцикл обогнал грузовик, Захид крикнул: — Не ошиблись. Пассажир в кабине не похож на чабана. Остановились возле чинары и стали ждать грузовик... Вскоре он появился. Остановился сразу за чинарой. На площадке для стоянки машин. Из кабины вылез грузный смуглый мужчина с выпуклыми, как у рыбы, глазами и крупным носом на блестящем лице. Он, не дожидаясь, пока Захид подойдет, хрипло закричал: — Можно было и за кишлаком остановить! — Там воды нет, ака. А у вас мотор перегрелся. Ассалом алейкум, — поздоровался Акрамов, подойдя к кабине, где все еще сидел водитель. — Ваалейкум, ака, — ответил тот неохотно. Он взял ведро, что висело на гвозде под кузовом, и проворчал: — Самовар, а не мотор, чуть что — сразу кипит. — Участковый уполномоченный лейтенант Акрамов, — представился Захид, пропустив мимо ушей реплику шофера. — Прошу ваши документы. — Пожалуйста, — тот вытащил из кармана путевой лист. — Откуда едете? — Там все написано, — ответил шофер. — Написано из Термеза, но сейчас-то вы едете из седьмого отделения совхоза. — Правильно, товарищ лейтенант. У моего начальника в седьмом отделении родственник живет, вот мы и заехали к нему на ночь. — Что везете? Тут в разговор вмешался человек с рыбьими глазами. Глядя с неудовольствием на Акрамова, он спросил: — В чем дело, товарищ лейтенант? — Обычная проверка. — Машина как машина, что ее проверять? — Придется немного подождать, — развел руками Захид. Он видел, что мужчина, несмотря на начальственный тон, явно нервничает, и это еще больше усиливало подозрения. Захид обратился к шоферу: — Залейте воду, товарищ Хасанов, путевка пока останется у меня. — Слушайте, лейтенант, — разозлился мужчина, — вам что, делать нечего, а? Мы спешим, надо до обеда пройти перевал Акрабад. — Во-первых, не лейтенант, — строго заметил Захид, — а товарищ лейтенант, во-вторых, разворачивайтесь, Хасанов, поедем в сельсовет. — Он сел в кабину и жестом предложил шоферу занять место. Хасанов начал разворачивать машину, и в это время на подножку вскочил его начальник. — Товарищ лейтенант, что вы делаете? — голос его вдруг стал заискивающим. — Отпустите шофера, ведь из-за ваших проверок мы не успеем пройти перевал. — Перевал пройдете запросто, — сказал Захид, — не волнуйтесь. Ответите на кое-какие вопросы и... до свидания! — Что вы парню голову морочите? — Лицо толстяка побагровело. — Что вам, других машин мало? Задерживайте любую да и придирайтесь сколько влезет. — Слушайте, вы, товарищ... — Эгамов, — сердито проворчал тот. — Так вот, товарищ Эгамов, спокойнее надо, спокойнее. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются. — Теперь Акрамов был уверен, что подозрения его не напрасны. Подъехали к зданию сельсовета. Захид пригласил шофера и Эгамова к себе в кабинет. Через минуту приехал и Юсуф. — Меня интересует ваш груз, Хасанов, — обратился к шоферу лейтенант. — Про все сказано в путевке, — завел тот прежнюю песню, — домашние вещи. — В седьмом отделении совхоза живет мой родственник, да вы, наверное, знаете его — уста Нияз, — вмешался Эгамов. — Хочу забрать к себе. Везем его вещи. — Есть такой человек в седьмом отделении, Юсуфджан? — спросил Захид секретаря комитета комсомола. — Есть. Парикмахер. Но, мне кажется, он там только работает, а живет в райцентре. — А вы-то кто? — спросил Юсуфа Эгамов. — Откуда знаете, живет Нияз там или нет? — Знает, — ответил за него Акрамов. И обратился к Эгамову: — Где и кем работаете? — Я — директор Баскентской заготконторы. — Каким же образом оказались в Сурхандарье? Ведь ваш район в соседней области? — В командировку приезжал. — Прошу документы. Эгамов вытащил из кармана бумаги и положил перед Захидом на стол. Акрамов ознакомился с ними. Ничего подозрительного. Но он все же решил придержать бумаги у себя. — Получите после проверки. А вы, Юсуф, пригласите, пожалуйста, кого-нибудь из жителей кишлака. — Это еще зачем? — спросил Эгамов. — Будем проверять ваш груз — нужны понятые. Давайте-ка начистоту, товарищ Эгамов! Приезжали закупать шерсть? — Не обязан вам докладывать. Акрамов развел руками. — Воля ваша. Юсуф привел женщину лет тридцати пяти. Представил: — Ойша-апа Ярова, депутат сельского Совета, воспитательница детского сада. — Молодец вы, Юсуфджан, — похвалил Акрамов, — депутат — это очень хорошо! Садитесь, апа. Ну, товарищ Эгамов, может, все-таки сами скажете, сколько шерсти везете? — Проверяйте, но имейте в виду, ваше самоуправство без последствий не оставлю! Буду жаловаться. — Идемте, товарищи, — не обращая внимания на угрозы, предложил Захид женщине и Юсуфу. Эгамов и его шофер тоже вышли. Шерсти оказалось около тонны. Кроме того, в кузове Захид обнаружил сто каракульских шкурок, среди них четыре сура[27]. Составили акт. Вернувшись в кабинет, Захид позвонил в контору совхоза и попросил прислать представителя, чтобы принять шерсть и смушку на временное хранение. — Не отдам, — завопил Эгамов, — не имеете права отбирать! — Шерсть является предметом государственной монополии, товарищ Эгамов, — сказал Захид, — вам это как директору заготконторы, надеюсь, известно. И все, что закуплено на территории нашей области, должно быть изъято. Кстати, если бы это случилось у вас, там поступили бы точно так же. — Хорошо. Ну, а кто же мне издержки возместит? — Не знаю. Это уж решит ваше начальство. Юсуфджан и вы, Ойша-апа, можете идти. Спасибо вам за помощь. — Я побуду здесь, если позволите, — сказал Юсуф. — Хорошо. Прибыл завхоз. Акрамов предложил ему принять груз и дать сохранную расписку. Завхоз увел Хасанова. — Сдадите шерсть и смушку, возвращайтесь ко мне, — напомнил шоферу Захид. — Что вы на это скажете, Юсуфджан? — спросил Акрамов секретаря. — В общем-то, обычное явление, Захид Акрамович. Если бы наша область выполнила план по шерсти, пусть бы закупали на здоровье, но вот смушка... да еще сур — тут дело нечистое, ведь в седьмом отделении его никогда не водилось. — Редкость? — Сур? Одна штука на черном рынке тысячу рублей стоит. — Вот оно что! Верно, товарищ Эгамов? — Не знаю, никогда не торговал, — зло ответил тот. Вернулся шофер с сохранной распиской. Захид велел передать ее Эгамову. — Можно ехать? — спросил тот, пряча расписку в карман. — Придется задержаться, приедут товарищи из ОБХСС. А шоферу мы пожелаем счастливого пути. Машина теперь намного стала легче, так что ей никакие перевалы не страшны! — произнес с насмешкой Акрамов.
X
— Что-то Юсуфджан зачастил к нам, ты не заметила? — спросил ата, проводив гостей. — Наверное, партком посылает. — А ты не обратила внимание, что слишком уж он ласковым да услужливым стал. Что бы я ни сделал, что бы ни сказал, — все у него вызывает восторг и умиление. Тут что-то есть. Где мед, там и муха. Не в зятья ли к нам метит? — В доме дочка выросла — возле дома войско выросло, говорят мудрецы. Может, вы и правы. — Так пусть знает, что и ноготка моей дочери не увидит. Потому что не стоит этого ноготка. Пока я жив, этому босяку никогда не бывать мужем Азады. Ишь, на кого замахнулся! У самого три овцы в доме! И как только он умудряется кормить целую дюжину братьев и сестер! Или, может быть, рассчитывает свои заботы на наши плечи переложить? — Если Азадахон любит его, никуда нам не деться. — Она не настолько глупа, — уверенно сказал чабан, — я знаю. Азада выберет себе такого мужа, чтобы жить за его спиной, как за каменной стеной. Я уже стар и хочу, чтобы мой зять, как и сыновья, приумножали то, что нажито мной. — Аллах милостив, — сказала хола, — будем уповать на него. Как аллах рассудит — так тому и быть. Ата помолчал немного, словно взвешивая — делиться своими соображениями с холой или нет, и, наконец, задумчиво проговорил: — А знаешь, жена, этот лейтенант, оказывается, холост. Парень вроде ничего, а? — Красивый, — согласилась хола. — Что значит — женщина, только-то и заметила, что красивый. Шермат-ата улыбнулся своим мыслям и, взяв посох, направился вниз, к отаре. Он неторопливо спускался по узкой тропке, а сам со всех сторон взвешивал внезапно пришедшую мысль. «Парень серьезный, сдержанный. Четверть века прожил, а уже высокую должность доверили. Скрытный... Ну, да это черта всех работников милиции. Покойный Саитджан тоже не очень-то много говорил. Родители у лейтенанта, по словам Юсуфа, достойные люди. Надо поговорить с дочкой, осторожно так поговорить — обратить внимание на достоинства Захида».XI
— Э, нет, ты, Хасанов, подожди, — заволновался Эгамов. — Сейчас вот со мной разберутся, и уедем оба. Верно, товарищ лейтенант? — Этим вопросом он хотел выяснить, насколько серьезно относится участковый к скупке сырья представителями другой области. «Если дело закончится только изъятием шерсти и смушки, беда не велика, — решил директор, — на инкассо выставим счет, совхоз все оплатит. Но сур... ах, сын ослицы! — обругал он себя мысленно. — Надо было сунуть шкурки за спинку сиденья! За сур по головке не погладят». С той минуты, как лейтенант задержал машину, Эгамова тревожит и другой вопрос — кто из чукургузарцев успел сообщить в милицию?! «Уста Нияза в это дело впутывать пока не следует, — решил он, — постараюсь убедить этого желторотого милиционера, что данный случай — первый и последний в том кишлаке. Ну, а если дело зайдет далеко, тогда можно и про уста сказать... в конце концов, шерсть и смушку закупал он, фамилии людей тоже он подсказывал...» — Так я пока придержу машину, — вновь обратился Эгамов к Захиду, не ответившему на первый вопрос. — Приедет товарищ из райотдела, — сказал Акрамов, — тогда видно будет. А машину... она принадлежит вашей организации, с поста директора вас тоже пока не сняли, так что распоряжайтесь ею, как вам будет угодно. — Подожди во дворе меня, Сафаркул. — Не будем время терять, — сказал Захид. Он вытащил из ящика стола несколько листков чистой бумаги, — поговорим о деле. — Допрос? — спросил Эгамов. — Пока дознание. — Имейте в виду — я ничего подписывать не собираюсь. — Видно будет. Итак, вы знакомы с людьми, которые продали вам шерсть и шкурки? — В тот кишлак я заехал всего на один вечер, навестить уста Нияза, — ответил Эгамов, — ну, собрались соседи поболтать со свежим человеком. Я поинтересовался, можно ли у них купить немного сырья. Народ оказался гостеприимный, люди организовали всё — мне только оставалось деньги заплатить. — Почему груз замаскировали? — Ничего мы не маскировали, товарищ лейтенант. Палки от юрты мне нужны лично, стулья — тоже. — Дайте закупочные квитанции, — попросил Захид. — Пожалуйста, — Эгамов с готовностью вытащил из кармана стопку квитанций и положил перед лейтенантом. — Видите ли, — объяснил он, — в принципе мы должны составлять такую бумажку на каждого, кто нам хоть полкило шерсти продал. Но, как правило, ни один заготовитель этого не делает. — Почему? — Ему бы пришлось только тем и заниматься, что квитанции выписывать! — Значит, и вы... так же. — Ну да. На десять-пятнадцать закупок одну квитанцию! Акрамов переписал фамилии тех людей, указанные в квитанциях, на отдельный листок. Спросил: — Все они жители Чукургузара? — Конечно. Впрочем, бог их знает. Люди называли себя, я выписывал им бумажки. А из какого они кишлака, не интересовался. — Вот тут встречаются такие, что продали по десять штук смушек и по сорок килограммов шерсти. Разве в таких случаях райзаготконтора не интересуется, откуда у одного человека столько сырья? — А чего сомневаться, — усмехнулся Эгамов, — товар налицо, цены не превышают государственные. Если не доверять людям, то из индивидуального сектора ничего не заготовишь. А этот сектор дает пока что тридцать процентов товарной продукции сельского хозяйства, товарищ лейтенант! — Ладно. Все, что вы мне сейчас рассказывали, четко изложите на бумаге, — предложил Захид. — Я оставлю вас ненадолго — надо отлучиться по делам. — Он положил квитанции в сейф. — Что ж это получается? — возмутился Эгамов. — Шерсть отобрали, смушку отобрали, теперь и квитанции тоже? — Успокойтесь, если они нам не понадобятся — вернем, — сказал Захид уже на пороге. Он пошел к секретарю сельсовета, чтобы уточнить, живут ли названные Эгамовым люди в Чукургузаре, а заодно и познакомиться с секретарем. Дверь в кабинет секретаря была приоткрыта. В небольшой комнате за столом сидел пожилой мужчина и что-то с озабоченным видом писал. — Ассалом алейкум, — поздоровался Захид. Мужчина поднял голову и неторопливо водрузил на место сползшие на кончик носа очки. — Никак товарищ Акрамов? — Так точно. — Очень приятно. — Секретарь привстал и протянул ему руку. — Давайте познакомимся. Секретарь исполкома сельского Совета Маджид Умаров. А если попросту — Маджит-тога[28]. Можете и вы так называть. — Да. Помогите мне в одном деле. Вот здесь, — Захид подал ему листок, — фамилии чукургузарцев, нужна справка — действительно ли они там проживают. — Через часок сделаю, товарищ Акрамов. — Из райотдела не звонили мне? — Нет. Прислали пакет, я принял его и положил в сейф председателя. Занесу позже. Когда Захид вернулся в кабинет, он застал Эгамова вроде бы несколько успокоенным. Директор написал объяснительную записку. Он дважды подчеркнул то, что шерсть и смушку купил случайно, будучи в Чукургузаре в гостях у родственника. Не преминул написать и о том, что ни с кем из жителей кишлака не знаком, квитанции же выписывал, как принято якобы среди заготовителей, — одну на несколько человек сразу. В конце обязался впредь не вести заготовки на территории совхоза, пока на это не будет разрешения сельского Совета. — Ну что ж, — сказал Захид, — прочитав записку, — все правильно, чувствуется, что вам не впервой такие бумаги составлять. — Э, дорогой, верно вы подметили — приходилось, не раз приходилось! — произнес, вздохнув, Эгамов. — Ну, ладно, товарищ директор. Предварительный разговор у нас состоялся, а теперь — пока не прибудет представитель районного ОБХСС — походите по кишлаку. Эгамов подозрительно посмотрел на лейтенанта, но, так ничего и не сказав, вышел. Вскоре зашел Маджид-тога. — Золото, что ли, прислали вам? — сказал тога, подавая тяжелый пакет. — Спасибо, — Акрамову не терпелось поскорее вскрыть пакет. Маджид-тога, видно, понял это и удалился. Уезжая из района, Захид не успел получить материалы о гибели капитана Халикова, так как следователя, занимавшегося этим делом, не было на месте. Теперь перед ним, туго стянутые бечевкой, лежали фотографии места происшествия и папка служебного расследования. В пакете оказалось и письмо начальника районного ОБХСС капитана Хакимова. Он писал, что в рабкоопе совхоза «Ок алтын» обнаружены махинации с мясом. Тамошние шашлычники, оказывается, продавали шашлык по цене, устанавливаемой коопсбытсекцией, хотя половина расходуемого для этой цели мяса была не кооперативной, а следовательно, и дешевле раза в два. Акрамову, как и другим участковым уполномоченным, предписывалось изучить работу местного общепита. «Будетисполнено, товарищ капитан», — подумал Захид и положил все бумаги в сейф. До прибытия товарища из райотдела, который решит судьбу задержанного Эгамова, Акрамов не мог приняться за другую работу, хотя дел было непочатый край. Он сидел за столом и от нечего делать точил и без того острые карандаши. — Приветствую вас, лейтенант, — громко произнес капитан Хакимов, появившись в дверях. Подтянутый, чисто выбритый, он сразу наполнил кабинет густым запахом «Шипра». — Здравия желаю, товарищ капитан, — вежливо поздоровался Захид, выйдя из-за стола. — Что у вас случилось? — спросил капитан. — Я докладывал товарищу Махмудову. Шерсть перехватил, смушку. В том числе и сур. У директора Баскентской райзаготконторы. — Он здесь? — Будет минут через двадцать. — Допросили? — Взял объяснительную записку. — Захид достал ее и подал Хакимову. — Все правильно, лейтенант, — произнес тот, прочитав записку. — Заготовители такой народ, их, как и волков, ноги кормят. Подвернулось — скупили. — А квитанции? — спросил Захид. — В этом преступления нет, Захидбай. Он прав, этот директор. Если выписывать за каждый килограмм шерсти квитанцию, то ему нужно возить с собой еще и счетоводов. Я бы таким пустяком не стал заниматься и вам не советую. Сырье изъяли? — Конечно. — Тем более. Придет этот Эгамов, верните ему документы и пусть катится на все четыре стороны! — А сур, товарищ капитан, где он взял сур? — Наивный вы товарищ, — сказал снисходительно Хакимов, — поработаете два-три года, поймете, что у здешних чабанов можно и не то купить. Письмо мое получили? — Сегодня. — Займитесь торгашами обстоятельно...Вернулся Эгамов. Подобострастно поздоровался с капитаном, спросил у Захида: — Ну, как мои дела? — Забирайте бумаги, почтенный, — ответил за лейтенанта Хакимов, — и постарайтесь больше не появляться в наших краях. Сами понимаете, такое сырье... — Ясно, товарищ капитан. — Все. — Спасибо. — Эгамов спрятал бумаги в карман, проворчал: — Эх, товарищ лейтенант, из-за вас столько времени зря потеряли! Все так просто решилось! И директор вышел с видом победителя. Зазвонил телефон. Захид снял трубку, услышал голос Ярматова: — Захиду Акрамовичу привет! — Здравствуйте, Мурад-ака. — Он прикрыл ладонью трубку и сказал Хакимову: — Секретарь парткома звонит. — Слушаю вас! — Жду вас в кафе гостиницы, завтракать пора. — У меня гость, Мурад-ака, — сказал Захид. — Просите и его. Акрамов положил трубку и сказал капитану: — Партком-бобо приглашает на завтрак. — Вот это деловой разговор, — произнес тот рассмеявшись. — А этот тип из Баскента... Если такими заниматься, нам с вами некогда будет голову причесать. Идемте! За столом, где Мурад-ака предложил гостям выпить по пиале чая, разговор зашел о делах совхоза. — Будь моя воля, — сказал секретарь парткома, — я бы никому зла не причинял. К сожалению, не получается. Пестрота ведь только у овец в шерсти, а у людей-то она внутри. Одного просто пожуришь, другого серьезно предупредишь, а третьему откажешь в незаконных претензиях: есть и такие, сделают на грош, а требуют алтын. Но в основном народ у нас хороший, вот что я скажу. Трудятся на совесть и живут богато! — Да, вы правы, — сказал Захид, — чинарцы живут богато! В этом он убедился, побывав на пастбищах и фермах. Вот в его родном кишлаке было иначе, там в отношении личного скота действовали строго по уставу, завелась лишняя — будь добр, отдай! Правда и теперь там появляются любители нажиться за счет государства. Они просто умело используют головотяпство отдельных руководителей. — Ерунда все это, — сказал как-то Захиду, когда Акрамов принялся ругать раисов за то, что они пока не могут вытеснить частников с базаров, его одноклассник и друг Ядгар, колхозный экономист. — Наша республика обязана давать стране хлопок, это ее интернациональный долг. Хлопок — это изобилие на дастархане. Я знаю вот этот закон, а остальное меня не волнует! — Ну и жаль... Сейчас Захид рассказал об этом разговоре капитану и Мураду-ака. — Знаете, Захидбек, — сказал Мурад-ака, — когда меня только избрали секретарем парткома, я с жаром взялся наводить порядок. Подключил к этому делу контролеров, принялись выяснять, у кого сколько лишних овец, отобрали пяток-другой. И что вы думаете? Вторым концом палки себя же по лбу ударил. — Каким образом? — спросил Захид. — А простым. Буквально на следующий день явились в контору те, у кого отобрали овец, положили чабанские посохи на стол директора и ушли. Что делать?! Не могу же я заменить всех чабанов? Интересы совхоза, а значит и государства, выше. Может, я и не отступил бы, но обстоятельства... — Да, обстоятельства... — задумчиво произнес капитан. — Схватят за горло, хоть караул кричи. Впрочем, вот что я вам посоветую, лейтенант. Не наживайте себе лишних врагов. О том, что чабаны имеют по несколько овец сверх нормы, знают люди повыше нас с вами. Когда потребуется что-то предпринять — дадут команду. — Пока придет эта команда, — воскликнул Захид, — мы можем потерять куда больше, чем имеем сейчас и будем иметь через пять лет! — О чем вы, лейтенант? — Я говорю о нравственном уровне, товарищ Хакимов. — Ерунда все это! — сказал капитан. — Я согласен с вашим другом Ядгаром — придет время, и все встанет на свои места. — Наверное, мы в чем-то здорово ошибаемся, что-то не учитываем в своей работе с людьми. — Все учитываем, Захид Акрамович, — сказал Мурад-ака, — но... как всегда, появляются обстоятельства, как говорится, от нас не зависящие. В данном случае — это принцип материального стимулирования, разработанный Министерством сельского хозяйства. Не вообще принцип материального стимулирования, тут никаких разговоров быть не может, а только та его часть, которая предусматривает стимулирование натурой, то есть ягнятами. Надо, мне кажется, поощрять достойных только денежными премиями. Смотрите, что получается. Кондитер, выпускающий сверхплановую продукцию, получает за это деньги... — А не муку или торт, — закончил его мысль капитан. — Вот именно, а мы — пожалуйста, ягнят! Словом, сложно во всем этом разобраться пока. — И все равно, — сказал капитан, — в конце концов уровень сознательности будет настолько высок, что люди сами откажутся от, казалось бы, законных и в то же время незаконных излишеств. — Вот именно, якобы законных. И этот прискорбный факт, если хотите знать, существенно сказывается и на нашей с вами работе, товарищ капитан. Ягнята растут, дают приплод, который по сути дела уже не есть предмет оплаты за хороший труд, так ведь? — Ну ладно, товарищи, — сказал Мурад-ака, видя, что спор этот может быть бесконечным, — выпьем чаю да займемся делами.
XII
Из всех членов своего многочисленного семейства лишь только со старшим сыном Шерзадом делился ата заботами. Сорок лет — пора зрелости, да и не доверят пост председателя рабкоопа человеку, не наделенному мудростью. Шерзад осторожен, семь раз отмерит, прежде чем отрежет. Сам ата на решения скор, решителен. И медлительность, неторопливость сына частенько его спасала от необдуманных поступков. Хотя, если говорить по совести, Шерзад порой казался отцу тугодумом и тем самым раздражал его. Они с холой отправились с джайляу домой, и всю дорогу ата решал, делиться ли со старшим сыном своими планами насчет Захида — начнет опять все обдумывать, взвешивать. Но Бодом-хола решительно посоветовала: — Дадаси, халат, скроенный по совету, никогда не жмет. — Ладно, — кивнул ата и всю остальную дорогу до дома не произнес больше ни слова. Когда он остановил мотоцикл посреди двора, с супы[29] под чинарой бросились к ним внуки, окружили со всех сторон и такой галдеж устроили, что ата вынужден был прикрикнуть: — Эгей, потише вы! — Кахраманджан, Надырджан, Хуррамбек, Зухраджан... — хола называла внуков по именам, и ата, поняв что это будет продолжаться долго, пока бабушка не перечислит всех, покачал головой, слез с седла и направился к супе. Он сел на дастархан, а старшая невестка Марьям тут же поставила перед ним касу с шавлей. — Ну, как вы тут, дети мои? — спросил он, обращаясь одновременно ко всем. — Спасибо, ата, — ответил также за всех Шерзад. — Как сами? — Слава аллаху, здоров. Мать вон привез. Все уши нам с Рахимом прожужжала: домой да домой! — Хорошо сделали, ата, дети тоже соскучились по ней. На этом часть встречи была закончена. Ата принялся за пищу, остальные последовали его примеру. Уважение к главе семьи, вообще к старшему в доме, — неотъемлемая часть жизни в кишлаке. Уважение это воспитывалось столетиями у молодых поколений и передавалось как бесценное достояние от потомства к потомству. В этом же доме уважение к главе семьи было возведено в культ, который стал насаждаться Бодом-холой особенно рьяно в последние годы. Она сама беспрекословно исполняла любое желание Шермата-ата и требовала того же от членов семьи — сыновей, снох, внуков. Даже в таком простом деле, как обед и завтрак, хола стремилась подчеркнуть авторитет мужа, ему и Шерзаду накрывала отдельный дастархан. Сегодня же вся семья оказалась за одним столом, и потому особенно невестки чувствовали себя не совсем уверенно, они не столько ели, сколько следили за тем, чтобы кто-то из детей не нарушил покой деда. — Зайдешь ко мне, — сказал ата сыну, пообедав. Обратился к невестке: — Постели, пожалуйста, Марьям, в комнате! — Сейчас, атаджан! — Она поспешно встала. Поднялся и ата. Едва он скрылся в доме, как семья, безмолвно сидевшая за дастарханом, преобразилась — дети принялись шалить и задевать друг друга, матери то и дело покрикивали на них, а хола делала замечания и невесткам, и внукам. — Хочу посоветоваться с тобой по одному делу, — сказал ата, когда Шерзад, грузный, гладко выбритый и надушенный дорогим одеколоном, присел на курпачу. Сам ата возлежал, опершись на подушку. — Слушаю, ата. — Вчера мимоходом заезжал ко мне Юсуф, комсомольский секретарь. Зачастил он к нам что-то, думаю, неспроста. Но это пока дело второстепенное. Речь о другом. С ним был новый участковый. Я его встретил как подобает, заколол лучшую овцу, приготовил тандыр. Да вот дернул меня черт повесить овечью голову на кол у входа в юрту! Оказывается, он заметил бирку на ее ухе: конечно, начал расспрашивать Юсуфа, что да как. Почему, мол, старик так легкомысленно относится к совхозному добру, за это, говорит, и влететь может. Как думаешь, не начнет он подкапывать под меня, а? — По-моему, напрасно ваше беспокойство, ата, — ответил Шерзад, — вчера Акрамов был у меня в рабкоопе, произвел впечатление дельного, самостоятельного человека. Скромный, говорит мало, уважает старших. О том, что побывал на джайляу, ничего не сказал. — А зачем приходил-то? — Познакомиться. Я представился: Шерзад Шерматович, говорю, а он улыбнулся — отец шер и вы шер? Да, ответил я, издержки традиции, в именах моих братьев тоже шер — Шерали, Шеркабул, Ганишер, Алишер. Отцу хотелось, чтобы мы были шерами — тиграми. — А тигром-то из вас стал лишь Рахимджан, — заметил ата. — Ладно, рассказывай дальше. — «Скажите, Шерзад-ака, много работников принято в рабкооп после гибели капитана?» — поинтересовался у меня лейтенант. — Я сказал, что несколько человек, все местные, их здесь как облупленных знают, надежные товарищи. Никто не судился. Кому охота отчитываться перед начальством за растратчиков и расхитителей? — «И все же хотелось бы познакомиться с личными делами тех работников рабкоопа, что являются материально ответственными лицами», — настаивает Акрамов. Я возражать не стал, дал распоряжение отделу кадров подобрать личные дела. Мне кажется, глаз у парня острый. Он посоветовал открыть буфет, который бы работал только ночью, обслуживал шоферов, проезжающих через кишлак. — Правильный совет, Шерзад. А то, что глаз острый, мне и Юсуф говорил. По следу колес определил Акрамов, что везет машина. Кстати, что сделал он с этим заготовителем? — как можно равнодушнее спросил ата. — С Эгамовым, что ли? — Ну, с тем, у кого шерсть отобрал. — Отпустили его, ата. Приехал капитан Хакимов из района и отпустил. — Значит, будь на то воля самого Акрамова, посадил бы в каталажку? — Бог его знает. Не думаю. Заготовки сырья — распространенное дело, ведь завтра в соседнюю область могут поехать наши кооператоры, что ж, и их в тюрьму сажать? Шермат-ата сидел, глубоко задумавшись, наконец, он словно вспомнил о сыне, поднялся. За ним встал и Шерзад. — Поеду я, Рахиму одному трудно. Как Азада? — Ничего, ата. Сахрохон доброжелательно относится к ней, да и работает она хорошо. Что еще нужно? — Ты незаметно разузнай, как она к Юсуфу относится. Ни мне, ни матери не хочется, чтобы этот босяк вошел в наш дом зятем. Зачастил он на джайляу что-то...XIII
Весь вечер Захид изучал материалы служебного расследования. Из них явствовало, что разбившегося капитана первыми обнаружили ученики школы имени Ушинского. Сопровождаемые преподавателем истории Улашем Саатовым, они в тот день возвращались по ущелью из похода. Судебно-медицинский эксперт в своем заключении указал, что смерть наступила в результате разрыва кишечника, почек и печени. Кроме того, капитан сильно ударился головой о камень, что привело к кровоизлиянию в мозг. Эксперт-криминалист заключил, что Халиков сорвался с тропы сам, схема падения его тела, вычерченная на отдельном листке, и расчеты подтверждали эту мысль. Отсюда и вывод — капитан Халиков погиб в результате несчастного случая. Но, сличая схему с фотографией обрыва, с которого упал капитан, Захид обнаружил небольшой выступ. Он располагался примерно на одной прямой линии между точкой, откуда сорвался капитан, и точкой, где упал. Падая, капитан никак не мог миновать этот выступ и, следовательно, при своевременной реакции зацепился бы за него, погасил скорость и упал к подножью обрыва, в воду. В этом случае, если река была достаточно глубокой, он, возможно бы, и не разбился. На схеме выступа не значилось. Захид записал это обстоятельство в блокнот, решив при удобном случае провести эксперимент, хотя пока и не представлял, как именно проведет его. На следующее утро Захид позвонил в школу и попросил учителя Саатова зайти. ...В кабинете уже стояла новая мебель, и яркая зелень обивки преобразила комнату, сделала ее веселой и светлой. — Прошу вас, Улаш-ака, — указал он учителю на кресло за журнальным столиком. Сам сел в другом. — Спасибо, товарищ Акрамов. — Мне бы хотелось услышать более подробный рассказ о происшествии. — А что, собственно, случилось? — заволновался учитель. — Может, моего друга Саитджана... — Нет-нет, — успокоил его Захид, — просто мне хотелось бы услышать подробности. И только. — Понимаю. — Скажите, что вы сделали, когда увидели Халикова на дне ущелья? — Окружили, конечно, ведь первая наша мысль была оказать помощь, но ничего у нас не вышло. Тогда быстро сделали носилки и понесли его в Чукургузар, оттуда по рации сообщили в совхоз. Из совхоза передали в районный отдел милиции, прилетел вертолет. Халикова увезли, а я с работниками милиции снова вернулся в ущелье. Там нас расспрашивали, что-то фотографировали, измеряли. Когда мы вернулись в «Чинар», оказывается, капитан уже умер. Жаль Саитджана, справедливый был человек, честный! Одно слово — фронтовик! — Теперь, пожалуйста, о походе, — попросил Захид. — Мы побывали в пещерах, а утром двинулись через седловину, отделяющую Кугитанг от Байсун-тау, в небольшую долину, где из ручьев и родников образуется Шорсу. — А люди-то хоть есть в тех краях? — В самом ущелье никого не встретили, а на Кугитанге люди есть, правда, в основном чабаны. По ту сторону главный хребет пологий, долин не счесть, арча растет, травы вдоволь. — Много отар? — Не-е-ет, две-три, по-моему, встретили. С чабанами не разговаривали, проходили чуть поодаль, поэтому я не могу сказать, какому хозяйству принадлежат отары. Но, скорее всего, это овцы туркменских совхозов или колхозов. — Спасибо, Улаш-ака. — Мне можно идти? — Да, пожалуйста. Извините, что оторвал вас от дел... Проводив учителя, Захид решил сходить в контору, узнать у Мурада-ака или директора совхоза о ближайших задачах, чтобы принять участие в их решении. Мурад-ака был у себя, и Захид зашел к нему. Поздоровался. — Ну как, Захид Акрамович, мебель? — Спасибо, теперь мой кабинет стал похож на кабинет представителя власти. Но я зашел по другому поводу, Мурад-ака. Я ведь теперь член вашего коллектива, хочу узнать, чем могу быть полезен? — Туго идут заготовки шерсти из индивидуального сектора, вынуждены создать оперативную группу, в состав которой включаем и вас. Мы вам очень благодарны за проявленную бдительность в деле с Эгамовым. Ну и, главное, мой друг, пора на партийный учет. — Простите, — виновато ответил Захид, — я совсем забыл об этом, сейчас же съезжу в район и все оформлю.Дорога до райцентра шла под уклон, и мотоцикл катился сам. Захиду кое-где даже приходилось тормозить, чтобы не опрокинуться. В районный отдел он прибыл к концу рабочего дня и сразу направился к секретарю партбюро майору Ташеву. Тот выслушал его и улыбнулся: — Ах, какой нетерпеливый вы, думаете, так просто это делается? Я должен написать решение, вы — заявление. Потом пойдете в райком партии, там выпишут прикрепительный талон. Не раньше, чем завтра к обеду управитесь, дорогой. «Отпрошусь у начальника, — подумал Захид, выходя из кабинета Ташева, — поеду сегодня к своим, проведаю их». — Освоились, лейтенант? — спросил Махмудов, ответив на приветствие Захида. — Почти, товарищ майор. Совхоз большой, кишлаков в нем много, да и народу достаточно. — Начальник областного управления объявил вам благодарность за задержанную шерсть и смушку, поздравляю! — Служу Советскому Союзу! — произнес Захид, встав с места и приложив руку к козырьку. — Садитесь, Захидбек, рассказывайте, как начали работу. — Я уже докладывал, товарищ майор, несколько дней знакомился с совхозом, побывал уже в райкоопе. — Ну, и ничего подозрительного? — спросил Махмудов. — Пока нет. — Я же предупредил вас, что участок спокойный. Так оно и есть!.. Захид решил пока умолчать о своих соображениях насчет чабанских личных отар и заговорил о гибели Халикова. — Может, я ошибаюсь, — сказал Акрамов, — но в заключении эксперта-криминалиста, кажется, допущена неточность, товарищ майор. — Вот как! — воскликнул Махмудов. — И в чем она, по-вашему, заключается? — На пути падения капитана Халикова находился выступ, а эксперт не взял этого в расчет. — Нарисуйте, — майор подал ему листок бумаги. Захид начертил схему. И объяснил: — Примерно в семи метрах от места, откуда сорвался капитан, находится вот этот выступ. Саит-ака вполне мог зацепиться за него и погасить скорость падения. Тогда бы он упал вот сюда, в воду, а его нашли на пять метров дальше. У меня возникла мысль — а не столкнули его с обрыва? — Ну? — Если его внезапно столкнули, товарищ майор, тогда картина меняется. От неожиданности он мог растеряться и вместо того, чтобы зацепиться за выступ, оттолкнуться от него. Но миновать выступ капитан никак не мог. — Это уже идея. Но ее надо тщательно проверить на месте. Кстати, что вы там Хакимову насчет лишних овец у чабанов говорили? — неожиданно спросил майор. — Поделился соображениями, товарищ майор, — ответил Акрамов. — Соображения эти держите пока при себе, лейтенант, — сказал Махмудов, — когда надо будет, спросим. Вы меня поняли? — Так точно, — Захид встал. — Хочу на вечер поехать к своим, разрешите? — Разрешаю, лейтенант.
XIV
Записка, которую Эгамов переслал уста Ниязу, была короткой: «Последнюю партию отобрал участковый «Чинара», как пронюхал — неизвестно. Милиционер переписал фамилии тех, на кого мы выписывали квитанции. Надеюсь, их помните и вы? Сделайте все, чтобы в случае проверки люди подтвердили правильность записей. С расходами не считайтесь. Шарифджан». Получив ее, уста встревожился. «Не дурак, видать, этот мужик, — подумал он об Акрамове, — раз самого Эгамова схватил! Если начнет копать, то быстро сообразит, что в одном Чукургузаре я не смог бы заготовить столько сырья, значит, спросит, где взял остальное. А что я отвечу?» Как ни крутил уста, как ни прикидывал, а все-таки пришел к выводу, что придется тогда выкладывать правду. А правду эту могли и не подтвердить, потому что люди, с которыми он имел дело, не захотят подставлять себя под удар. «Что ж это получается, — терзался уста, — орудовали вместе, а отвечай один! Да за такие дела ведь тюрьма положена». А этого уста Нияз боялся больше всего. Однажды он уже понял, что значит лишение свободы. И сидел-то всего ничего, месяца три, пока не разобрались, что к чему, но время это показалось вечностью. Сидел за драку, а сейчас... Уста не был знаком с Уголовным кодексом и не мог определенно сказать, какое наказание предусматривается за посредничество в незаконных сделках, но то, что оно полагается, не сомневался. Надо устроить плов — повод для этого всегда найдется, и как бы между прочим поговорить с людьми. Те, с кем он на дружеской ноге, пойдут навстречу. Но вот беда — когда Эгамов выписывал квитанции, уста называл первые попавшиеся фамилии, в получении денег расписывался сам. Тут его подвела беспечность. И все из-за Шарифджана, торопил! И вот результат! Долго ломал уста голову над тем, что же предпринять, и не придумал ничего лучшего, как срочно выехать в Баскент — посоветоваться обо всем с Эгамовым. Еще в первый год работы уста в Чукургузаре руководство отделения предложило ему перевезти в кишлак и семью, обещало выделить коттедж с участком. Но он отказался. — В райцентре у меня свой дом, — сослался Нияз, — участок. На нем высажено около двухсот кустов граната. Одним словом, обжитое место. — Мы не настаиваем, уста, — согласились в правлении, — просто думали, что нелегко, наверное, жить на две семьи. Позже, когда уста начал выполнять поручения Эгамова, он понял, что поступил осмотрительно. Частенько Нияз вешал на двери табличку «уехал домой», и никто не интересовался, где он был на самом деле, что делал. В Баскент Нияз приехал около полуночи на такси, которое нанял на оба конца. Когда Эгамов открыл на нетерпеливый стук калитку и увидел уста, он не на шутку перепугался, решив, что случилось серьезное — не будет же человек мотаться триста километров по горным дорогам из-за пустяков. Директор пригласил гостя в дом, а шоферу предложил пока отдохнуть на чарпае во дворе. Узнав о причине столь позднего визита, рассмеялся. — Чудак вы, уста Нияз, паникер. С вами иметь дело, мой друг, оказывается, опасно, чуть что — расколетесь. Разве так можно? — Вы же написали, Шарифджан, — ответил уста, — вот я и подумал... — Ничего вы не думали, — перебил его зло Эгамов, — перепугались, как заяц, и помчались ко мне. Я просто предупредил вас, чтобы вы были осторожны, и все! — Но зачем же тогда эта фраза — «не считайтесь с расходами»?! — спросил уста. — И вы, небось, тоже опасность почуяли... раз денег не жалеете? Эгамов вдруг ласково улыбнулся. — Прошу за дастархан, уста. Угощайтесь, пожалуйста. И главное — не волнуйтесь. Закупки сырья у населения — наша работа, и капитан из ОБХСС, которого ваш участковый вызвал в «Чинар», понимает это. Иначе он не приказал бы лейтенанту вернуть мне документы. Не думаю, чтобы после указания начальства участковый затеял перепроверку, у него и без того дел хватает. Тем более, что я объяснил — сырье куплено случайно. — Как это случайно? — не понял уста. — Я сказал лейтенанту, что вы мой дальний родственник и я заехал к вам всего лишь на один вечер, навестить. Ну, собрались у вас соседи, как это обычно бывает. Узнав, что я заготовитель, они согласились помочь, мне же осталось только деньги заплатить. — Как вы условились с таксистом? — спросил хозяин. — Сотню сверх показаний счетчика. Эгамов положил перед уста две сторублевые ассигнации. — Хватит? — Конечно. — Возьмите, дорогу оплачу я. И не паникуйте, ради аллаха. Не надо надевать калоши, не видя воды. Уста понял, что ему пора убираться. Поблагодарив за хлеб-соль, он встал. — Поеду я, Шарифджан. — С богом, ака. И если случится что, звоните. Баскент, квартира Эгамова. Здесь меня все знают. А угощение устройте, это не помешает. — Устрою. Да, чуть не забыл, Шарифджан. О самом главном, пожалуй. Каждый раз больше половины сырья покупаю у чабанов-чакана. Их я не знаю, как мне быть? — Во-первых, не каждый раз, а только один, — поправил его Эгамов, — а во-вторых, где они пасут скот? — По ту сторону Кугитанга, на туркменской территории. — Ну и хорошо. Если лейтенант вдруг станет интересоваться — говорите правду. Не поедет же он в самом деле в другую республику, чтобы удостовериться, купили вы там сотню-другую килограммов шерсти или десяток шкурок?!XV
— Ох, сынок, — как всегда незлобиво проворчала Мухаррама-апа, усадив Захида на чарпаю и подав чай, — говорят, дочь в доме — гость, а сын — хозяин. У нас же наоборот. Джамиля всю жизнь с нами, а ты за последние семь лет, точно гость — появишься ненадолго и опять исчезаешь. Пока учился в Ташкенте, я думала — вот закончишь училище, а там и невесту в дом приведешь, внуки появятся. — Мало вам внуков, анаджан, — рассмеялся Захид, разливая чай. — Вон у Джамили сразу два богатыря растут! — То совсем другое, Захиджан. Сын моего сына — тюльпан моего сада. Так говорят в народе. Нам с отцом хочется видеть твоих детей. — Успеете еще, — ответил Захид. — Вот женюсь на чинарской красавице и пойдут дети один за другим. — Ох, сынок, — спохватилась апа, — ты пей чай, а мне в садик пора за внуками. Время! — Может, я схожу? — предложил Захид. — Нет, нет, отдыхай, наверное, устал?! — замахала на него руками Мухаррам-апа. — Что я, камни, что ли, ворочаю, анаджан? — Э, сынок, головой думать — потруднее, чем жернов крутить! Отдохни, скоро и отец с Джамилей вернутся. Встречу Ядгара, скажу, что ты приехал. — А где Пулат-ака? — спросил Захид о зяте. — У поливальщиков нынче самый сезон... Пулатджан днюет и ночует в поле. Воды, говорят, мало, вот и придумывает разные новшества. ...Захид растянулся на курпаче. Небо над головой начинало темнеть, гасли верхушки деревьев, пылавших в лучах заката. Тихий, казалось, вымерший днем, кишлак оживал. Из-за дувалов слышались крики ребятишек, пахло дымом гузапаи[30] и жареным луком, гремели ведра, и кто-то, включив на всю громкость радиолу, уже крутил пластинки с записями Мамурджана Узакова. По улице, мыча и блея на все лады, возвращалось стадо. Раньше, когда улица была грунтовой, обычно за стадом поднималось облако пыли, сейчас кишлак заасфальтировали, и пылью даже не пахло. Скрипнула калитка, вошел Ядгар. Захид вскочил с курпачи и кинулся навстречу другу. Прежде Ядгар был щуплым малым. А теперь его не узнать — располнел, приобрел солидную осанку. Движения его стали неторопливыми, а речь степенной, как у начальства. Ядгар присел на чарпаю: — Как живешь, товарищ комиссар милиции? Судя по слухам, на новом месте кипучую деятельность развернул? — О каких слухах говоришь, Ядгар? — Вчера в районе был, ну и посидел немного в ресторане. — С кем? — Да с Хакимовым. Он и рассказал, что ты... — Ерунда, — перебил его Захид. — То дело выеденного яйца не стоит. Лучше о себе расскажи. — Наше дело колхозное, — сказал Ядгар, — пашем, сеем, убираем, опять пашем, и так всю жизнь. Сейчас вот с водой туго. Разбросали всех специалистов по бригадам арыки стеречь. Ночью арыки караулим, а днем в конторе дремлем. — А как же огороды? — Спроси что-нибудь полегче... Захид налил в пиалу чая и протянул другу. — Я тоже вот оказался в райотделе, отпросился на один вечер к своим, — сказал он. — Обычно молодые стремятся ближе к дому устроиться, а ты норовишь подальше сбежать! — Разве я сам? — Шучу. Когда ж свадьбу играть будем? — Что вы, сговорились, что ли?! — воскликнул Захид. — Не успел войти в калитку, мать о невесте спрашивает, теперь — ты. — Видишь ли, Захидбай, — сказал Ядгар поучительно, — все твои друзья уже женаты, имеют детей, а ты точно белая ворона. Да и родителям твоим неудобно перед земляками. А ты не обижайся — женись быстрее.С внуками Хасаном и Хусаном вернулась Мухаррама-апа. Она посадила их на чарпаю и, наказав Захиду с Ядгаром присмотреть за ними, поспешила на кухню. Малышам было немногим больше года. Они сразу же встали у хан-тахты и начали ходить, держась за ее края. Тут уж Захиду и Ядгару стало не до разговоров. Наконец пришла Джамиля, и мужчины облегченно вздохнули. А чуть позже — вернулся и Акрам-тога. Он поздоровался с сыном и занял место на чарпае. Вид у него был усталый, озабоченный. — Не больны, ата? — спросил участливо Захид. — Да нет, просто не высыпаемся, сынок. День и ночь в поле... Акрам-тога всю жизнь был рядовым колхозником. Не стремился попасть на трактор или освоить другую какую машину, ему нравилось все делать своими руками. Когда колхоз перешел на выращивание хлопчатника, Акрам-тога пошел в поливальщики. — Как ты там, на новом месте? — спросил тога у Захида. — Осваиваюсь, ата. Еще рано делать выводы! — Привыкнешь, — сказал отец, — везде люди живут, одни законы. — О, аллах, и вы туда же, — произнесла недовольно Мухаррам-апа, появившись с миской жареного мяса, — я никак не могу уговорить Захиджана вернуться в свой кишлак, а вы... привыкнешь. Нечего ему там привыкать, дадаси, пусть в своем колхозе участковым работает. — Как будто это от него зависит, — сказал отец. — Служба! Ладно, раз сын приехал, ставь, жена, что-нибудь покрепче на стол. Апа пошла в комнату, принесла водку. Мужчины выпили, с удовольствием стали закусывать. Захид, честно говоря, изрядно проголодался и теперь уплетал мясо за обе щеки, будто вкуснее еды на свете не встречал. — Что за кишлак, сынок? — поинтересовалась мать. — Показал бы, что ли? — Квартиру обещают дать, анаджан, тогда и приедете. А кишлак большой, народу много. Вокруг громоздятся горы, бьют родники, чинары могучие растут. — O-о, холаджан, — начал объяснять Ядгар, — «Чинар» прекрасное место. Рай! А девушки — пери! — Пери, говоришь?! Тогда я спокойна, Ядгарджан. Какая-нибудь обязательно вскружит ему голову... Акрам-тога, не любивший пустых разговоров, перебил жену: — Когда возвращаешься, сынок? — Утром, ата. — Ну, тогда будь здоров, не забывай нас. Мне пора идти...
XVI
Двадцать пять лет для всякой здоровой и не обремененной чрезмерными заботами о семье женщины — пора расцвета, когда, как говорят в народе, в ее букете раскрываются все десять бутонов. Сахро было двадцать пять. Избалованная с юных лет вниманием поклонников, она однако так и не узнала еще, что такое радость любви. С первым мужем ей пришлось пожить так недолго, что она не успела и осознать — счастлива ли. Как всем девушкам кишлака, ей с юных лет внушали, что, выйдя замуж, она должна будет жить интересами, заботами, потребностями мужа. И действительно, с первых же дней замужества Сахро всю свою молодую силу, весь жар души отдавала тому, чтобы муж чувствовал в доме уют, тепло, заботу. А он принимал это как должное. Старания жены не вызывали у него ни радости, ни желания как-то отблагодарить — так должно быть. Душа Сахро, жаждавшая любви, ласки, нежных, добрых чувств, не нашла отклика в душе мужа. И когда муж ушел, она не испытала потрясения. Не было настоящей любви, не о чем было и жалеть. И если прежде дом, семья для нее были главным, то теперь она вся отдалась работе. Дома Сахро была лишь женой, женщиной, призванной соблюдать интересы мужа, работа заставила взглянуть на себя иначе, она поняла, что может как-то самоутвердиться, может завоевать уважение и признание земляков. Когда вдовец-учитель сделал ей предложение, она растерялась — выйти замуж за старого человека, значит, навсегда проститься с мечтой о настоящей любви. Но, с другой стороны, Улаш-ака был добрым, честным человеком, он мог ей стать защитой и опорой. Сахро согласилась. Но вот в кишлаке появился Захид, и Сахро, сама не осознавая почему, потянулась к нему. Была ли это любовь или только потребность в любви, она не могла объяснить себе. Сахро понимала, что Захид, опасаясь сплетен и пересудов, уклоняется от встреч с нею, и однако встречи эти то и дело случались — то на планерках у директора совхоза, то на совещании у секретаря парткома. Сахро не скрывала, вернее, не могла скрыть своих чувств. Как-то так получалось, что она непременно оказывалась сидящей рядом с Захидом. Меньше всего в это время Сахро интересовало то, что говорилось на совещании, она то и дело задавала шепотом какие-нибудь вопросы Захиду и, ожидая ответа, глядела на него своими огромными черными глазами нежно и призывно. В такие минуты Захид смущался, часто отвечал невпопад. Что и говорить, ему нравилась красавица Сахро. Но смущало, а порой и просто отталкивало упорство, с каким эта женщина пыталась обратить на себя его внимание. Хорошо еще, что Ульмас-ака, Ярматов и другие товарищи делают вид, будто ничего не замечают, и не злословят по поводу столь откровенного поведения Сахро, хотя поводов было более чем достаточно. Из-за нее Захид на время оставил мысль побывать на ферме. Лейтенант понимал, что обязан познакомиться с работниками фермы, но едва вспоминал о заведующей, как это желание пропадало. Однако Захиду пришлось-таки побывать на ферме. Как-то Сахро пришла в сельсовет и, побывав у Маджида-тога, постучалась к Захиду. — Ассалом алейкум, Захид-ака, — поздоровалась она громко, вероятно, чтобы услышал секретарь Совета, — оказалась вот в вашем здании и решила заглянуть. Можно? — Не ожидая приглашения, Сахро переступила порог. — Я по делу. — Ваалейкум ассалом, — ответил Захид, — прошу, если по делу. — Захид придал голосу как можно большую деловитость. — Чем могу быть полезен? — Хочу посоветоваться с вами. Знаете, у нас работает пастухом Джаббар-ака. Пьет он сильно, буянит дома. Жена его — одна из наших доярок. Жалуется на него, просит принять меры. Говорила я с ним, да все без толку. А теперь вот решили обсудить его поведение на собрании и хотим, чтобы вы приняли участие. Тогда разговор получится строгим. — Когда собрание? — спросил лейтенант без особого интереса. — Народ уже в сборе, ждем вас. — Так быстро? — удивился Захид. Он нехотя поднялся. — Ну что ж, едемте. Захид выкатил из подвала мотоцикл. Откинул с люльки чехол, пригласил ее. — Садитесь, Сахрохон. — А вы сплетен не боитесь, Захид-ака? — спросила она лукаво, поудобнее устраиваясь на сиденье. — Каких сплетен? — Кишлачных. Тут у нас народ... пальца в рот не клади! Хотите, я вам приятную новость скажу? — Скажите, — Захид завел мотор. — Женщина одна в вас влюблена. — Сахро не решилась сказать правду. — Ну, и кто она? — Догадайтесь... — Не стоит на пустяки тратить время, — пробормотал Захид и включил скорость. Мотоцикл плавно тронулся с места. — Передайте, пожалуйста, этой женщине, что в меня влюбляться нельзя. — Это почему же? — Невеста есть. — А если та женщина неотразимо хороша? — Меня это не волнует. — Ну, конечно, — с обидой произнесла Сахро, — вы человек интеллигентный, уважаете только скромненьких, вроде Азады. А эта скромненькая своего комсорга Юсуфа терпеть не может, однако ж, как только тот появляется на ферме, улыбочками его встречает. А по мне так — не нравится, ну и пусть идет на все четыре стороны. Захид и сам не мог понять, почему вдруг от сообщения Сахро стало так радостно на душе. Значит, Азада не любит комсорга. Он улыбнулся, сказал весело: — Эй, Сахрохон, видно, девушка не хочет обижать Юсуфа. — А может, про запас держит? — съязвила Сахро. — Тихая вода быстрее утопит... Они въехали во двор фермы. Ферма оказалась большой, ее длинные коровники, приземистые, как мазанки, стояли на берегу реки за поворотом. — Поверните вон туда, — показала Сахро на отдельно стоящее белое здание, — там у нас контора и комната отдыха. У здания толпились женщины в белых халатах, несколько молодых парней и мужчина средних лет. Захид остановил мотоцикл невдалеке от них и заглушил мотор. — Товарища лейтенанта привезла, девчата, — крикнула Сахро и легко выпрыгнула из коляски, — пусть знает он, какие отсталые элементы еще живут в нашем «Чинаре». Женщины расступились, пропуская Акрамова и Сахро в большую комнату, где в несколько рядов стояли стулья и стол, накрытый красной скатертью. «Заседание товарищеского суда, — подумал Захид. — Кстати, почему я до сих пор не поинтересовался товарищеским судом совхоза, дружинниками? Существуют ли они здесь?» Он прошел в первый ряд и сел у окна, Сахро заняла место за столом, а работники фермы — в зале. Избрали президиум, как на настоящем собрании: женщины назвали Азаду и еще одну доярку. Сахро деловито, спокойно вела собрание, иногда бросала реплики, вызывающие улыбки доярок, и абсолютно не обращала внимание на гостя. Такой Захид ее видел впервые и был даже приятно удивлен. Но не знал он, что Сахро с трудом давалось это спокойствие. С преувеличенным вниманием слушая рассказ Саломат-апа о прегрешениях мужа, она думала о другом. Как больно ранили сегодня ее слова лейтенанта. Она почувствовала, что ее настойчивость противна Захиду, что он не проявляет к ней интереса совсем не из-за боязни сплетен и разговоров — Сахро ему не нравится, вот и все. В своем стремлении завоевать любовь Захида она переступила какую-то грань и тем самым оттолкнула его. Захид тоже слушал рассказ доярки в пол-уха. Он смотрел все время в окно, где по двору, задрав хвосты, носились телята. Изредка бросал взгляды на Азаду, сидящую в президиуме, Азада писала протокол собрания. «Но почему все-таки он так обрадовался заявлению Сахро, что Азада равнодушна к комсоргу. Неужели он сам... На первый взгляд, она и в самом деле незаметна, не то, что Сахро, зато, когда приглядишься... хороша!»— отметил Захид про себя. А Саломат-апа тем временем все говорила и говорила о том, как тяжело ей жить с непутевым мужем. Захид посмотрел на Джаббара-ака, понуро сидящего рядом с президиумом, — опухшее лицо, красный нос, обвислые, будто намокшие, усы. — Сил моих нет, люди добрые, терпеть дальше это пьянство. Детей жалко. Помогите, прошу вас, — Саломат-апа приложила платок к глазам. — Ну а вы что скажете, Джаббар-ака? — спросила Сахро. Тот встал, но не поднимал головы. Молчал. — И не стыдно вам, ака, стоять вот так среди женщин и мальчишек, ровесников ваших детей, а? Шестеро у вас растут, один другого лучше, жена работящая, все семейные заботы на свои плечи взвалила, да и зарабатывает больше вас! А где же ваше мужское самолюбие? — Огород совсем запустил, — снова подала голос жена, — раньше хоть помидоры свои были, а нынче, наверное, на базаре будем покупать. — Мало что пьянствуете, — сказала Сахро, — еще и ущерб семейному бюджету наносите. Нельзя ли, товарищ лейтенант, посадить его на пятнадцать суток за тот дебош, который он дома недавно устроил?! Пусть подумает на досуге. — Если сейчас собрание решит, — ответил Захид, подмигнув Сахро, — посадим его года на два в тюрьму со строгим режимом. — Ну как, товарищи, примем такое решение? — обратилась Сахро к женщинам. Пастух, наконец, понял, что дело принимает серьезный оборот, и извиняющимся тоном попросил: — Сахро-апа, женщины, простите меня. Даю слово мужчины — в рот больше не возьму эту гадость! — А можно ли верить вам, Джаббар-ака? — Можно, можно, — уже радостнее заговорил пастух, — а то позор-то какой по всему кишлаку, скажут — женщины в тюрьму упекли. — А вы думали, у нас силенок не хватит?! Ошибаетесь, мы не позволим обижать жену и детей. Садитесь. А что вы скажете, женщины? Сначала сдержанно, а потом все свободнее, стали выступать доярки. Поначалу ругали пастуха, затем перешли к собственным неурядицам. — Ну все, товарищи женщины, — пообещал пастух, — я смотрю, уж лучше бросить пить, чем слушать такое! — Ладно, подруги, — сказала Сахро, — на этот раз поверим Джаббару-ака, в протокол запишем ему выговор. Но если он слова своего не сдержит... не миновать ему нашего гнева. После собрания Сахро предложила Захиду познакомиться с хозяйством. Коровники были выбелены, но пока, как объяснила заведующая, не оборудованы. Сахро с увлечением рассказывала о фермах Прибалтики, делилась своей мечтой — здесь, у себя, сделать нечто подобное. Из коровника, что стоял на самом берегу дарьи, вышла Азада с полным ведром молока. — Ее вы уже знаете, — как-то странно усмехнулась Сахро, — думаю, знакомить не надо. — Не надо, — сказал Захид и, подойдя к девушке, поздоровался: — Ассалом алейкум, Азадахон! Как дела, сестренка? — Ваалейкум, — ответила Азада и смутилась. — Дела идут хорошо. — У отца на джайляу бываете? — Редко, — ответила за нее Сахро, — но скоро Шермат-ака сам ближе к кишлаку переберется. В это время раздался звонкий голос одной из доярок: — Эгей, Сахро-апа, к телефону, директор совхоза требует. — Сейчас, — недовольно произнесла Сахро и оставила их. — Что же вы не отвечаете на вопрос, Азадахон, или всегда вот так полагаетесь на начальство? — Она влюблена в вас, влюблена, — выпалила вдруг Азада и так зарделась, что и алый мак не смог бы с ней соперничать. Захид внимательно посмотрел на девушку, покачал головой, и Азаде показалось — лейтенант осуждает ее за неожиданную выходку. — У Сахро муж, ребенок. Скажите ей при случае, пусть лучше свою любовь расходует на них. Азада просияла и с детской непосредственностью воскликнула: — А мой папа в восторге от вас, говорит, что вы — деловой парень. — А я бы хотел, чтобы от меня в восторге была такая девушка, как вы. — Захид и сам удивился своей смелости. Но тем не менее так же свободно продолжал: — Возможно ли это, Азада? — Он дотронулся до ее плеча. — Не знаю, — Азада отвела его руку, оглянулась смущенно. — Кто-нибудь увидит еще, Захид-ака. У Захида сразу же испортилось настроение. — Извините, я совсем забыл, что у вас есть жених. — Это кто же вам такое сказал? — А разве это неправда? — Я никогда не буду его женой, ака! — Тогда почему вы не скажете ему прямо об этом? — Не знаю, как-то жаль обидеть. — Но рано или поздно это надо будет сделать,верно? Вы молча принимаете его ухаживания, и он надеется, что и вы любите его. Ведь чем дальше, тем больше Юсуф привязывается к вам. Ну, да что я вам советы даю, ведь это ваше личное дело, Азадахон. Скажите лучше, зачем я вам нужен был? — Когда? — Как когда? А кто обо мне у Маджида-тога спрашивал? — A-а. Так это Сахро-апа просила пригласить вас на собрание. Кстати, вот и она. Не приведи аллах, узнает, о чем мы говорили, — съест! — Я не позволю, — рассмеялся Захид. — А вы, Азадахон, сообщайте мне, пожалуйста, те дни, когда в кино ходите. — Это зачем еще? — Стану вашим телохранителем. — Хорошо. Я позвоню вам, ака. Когда к ним подошла Сахро, оба почему-то ужасно смутились. Особенно Азада, кровь так и прилила к ее лицу. В этот миг поняла Сахро, угадала женским своим чутьем, что за время ее отсутствия между Акрамовым и Азадой произошло нечто такое, что рушило все ее планы и надежды. На этот раз выдержка изменила Сахро, и она, пытаясь унизить соперницу, грубо выговорила ей: — Азада, хватит болтать, занимайся-ка своим делом. Но, видимо, плохо она знала свою подругу. Азада спокойно посмотрела на заведующую, так, словно и не слышала окрика, затем нежно улыбнулась Захиду и дерзко сказала: — Хайр[31], Захид-ака, я вам обязательно позвоню!..XVII
Чабаны и их помощники — особая категория работников, самая, можно сказать, привилегированная. Оно, пожалуй, так и должно быть, ведь хозяйство своими успехами обязано прежде всего этим людям, днем и ночью, в стужу и зной заботящимся об общественном стаде. Ульмасу Муминову, директору совхоза «Чинар», казалось, что такую простую истину некоторые активисты не понимают, более того, пытаются посягнуть на благополучие чабанов. Вот и сейчас, слушая вожака народных контролеров Узака Амирова, которого партком утвердил руководителем оперативной группы, он думал о том же. — Ни для кого не секрет, — убеждал Амиров директора, — что у наших чабанов, если их хорошенько «потрясти», можно найти еще не один килограмм шерсти. Зачем же, спрашивается, ходить по всем дворам и клянчить — не откажите, горим синим пламенем?! Пять человек отрываем от их прямых обязанностей! — Шерсть есть в каждом дворе, — ответил Ульмас-ака, — и не надо клянчить, как вы выразились, а следует объяснить людям. Они, пожалуй, пойдут навстречу. Ну, а если кто-то начнет демагогию разводить... — А в это время чабаны, те, кто как раз и обязан сдавать шерсть, будут придерживать свое? Дождутся, пока цены подскочат, а затем уж выбросят для продажи? — Ну, а почему мы должны позволять шоферам, скажем, или трактористам, Узакбай, дожидаться этого повышения? Не лучше ли сейчас закупить у них шерсть? — Да у них же ее гораздо меньше, чем у чабанов. Или вовсе нет. — Выходит, в седьмом отделении у святого духа закупал шерсть и шкурки баскентский представитель? — Может и у него, откуда мне знать! — Что вы предлагаете? — Надо заставить чабанов сдать шерсть сейчас. — За чем же дело встало?! — разозлился директор. — Заставьте! Только помните, если кто-нибудь из них принесет мне свой посох, я вручу отару вам. — Я зоотехник, и не мое это дело! — Все вы так, — усмехнулся Муминов, — чуть что — дипломом козыряете, а с меня, между прочим, про-о-дукцию спрашивают! Мясо, молоко, шерсть, каракуль. И дают ее бездипломники, работяги! Ульмас-ака возглавляет совхоз давно и успешно. При нем крошечный горный колхоз вырос в крупное каракулеводческое хозяйство, насчитывающее в отарах свыше ста тысяч голов овец, а в табунах тысячи голов лошадей, верблюдов, коров. В последние годы совхоз стал развиваться интенсивно. В «Чинаре» и в поселках отделений поднялись новые здания школ, детских и культурных учреждений, каждая вторая семья жила в новом доме, а желающих строиться все прибавлялось. Это радовало директора — значит, народ живет в достатке. — Вот здесь, — сказал Муминов, достав из ящика стола пухлую папку, — заявления работников совхоза на выделение им легковых машин или, в крайнем случае, мотоциклов с колясками. Посмотрите список, Узакбай, две трети желающих — не чабаны. Значит, зажиточно сейчас живут не только чабаны?! Так почему только чабанские излишки вы видите? — Шерсть нужна сегодня, сейчас у чабанов можно получить ее, Ульмас-ака, оптом, как говорится, а не по триста граммов со двора. Тогда мы начнем свою деятельность с дома директора совхоза, — шутливо произнес Амиров, видя, что ему не переубедить Муминова. — И председателя группы народного контроля, — добавил в тон ему Муминов. — Согласен. Да, а участковый уполномоченный будет работать с нами? — Он включен в группу решением парткома. В кабинет директора вошли Бердыева и Ярматов. — Никак, начала оперативная группа работу? — спросил секретарь парткома Амирова. — Пока нет, — ответил за него директор. — Решили обсудить генеральный план ее действий. — Вот как! — И потом. Что это за опергруппа без уполномоченного?! А он, по нашим данным, раскатывает с красавицами на мотоцикле. Не солидно! — Но необходимо, — заметил Ярматов, — если Джаббар-ака бросит пить, считайте, что парень не зря прокатился. — Вы говорите прямо-таки загадками, — усмехнулся Амиров. — Какая связь между красавицей, пьяницей и мотоциклом? Не улавливаю ее. — Он поднялся из-за стола: — Пойду группу собирать. — Бывает, — сказал директор. — Когда Амиров вышел, он повернулся к Хадиче-апе. — Средства на строительство тротуаров облуправление выделило, четыреста тысяч. — Ну и прекрасно. Надоело ходить по мостовой и все время остерегаться, как бы машиной не сбило. Планы наши на сегодня не изменились? — спросила она директора. — Нет, еду в третье отделение. — Тогда вам поручение как члену исполкома, Ульмас-ака. Сегодня оттуда пришло письмо, прочтите-ка. — Она вытащила конверт и подала Муминову. — Черт возьми, — воскликнул директор, прочитав письмо, — до некоторых просто не доходит, что время нынче другое, все еще хотят жить по старинке. Ну, я этому Баратали всыплю сегодня! — Сыну Сахиба-бобо? — спросил Ярматов. — Ему. Дочь школу закончила, хочет учиться дальше, а он решил ее замуж отдать, уже и калым получил. Возьму-ка я с собой Акрамова, вдвоем мы нагоним там страху! — Правильно, — поддержала директора Хадича-апа. — Если у Акрамова нет срочных дел, почему бы ему не съездить с вами? — Видите ли, — перебил ее снова Ярматов, — у меня для лейтенанта приготовлено важное дело, так что придется ехать без него. — Самое важное дело — спасение девушки, Мурадджан, — недовольно сказал директор. — К тому же я хочу ближе познакомиться с ним. Поездка — хороший повод. — Ну, ладно, — согласился партком-бобо. — Я, как и договорились, поеду на Чаппасу. Побуду там два дня. А уж потом мы с лейтенантом займемся тем делом. Новый директорский «уазик», жесткий, как арба, и тяжелый, как танк, выехал из «Чинара» в одиннадцать утра. Когда он поднялся на горб косогора, перед путниками открылась даль гор. Накатывались друг на друга зеленые адыры, залитые ослепительным солнцем. Где-то в дымке марева едва угадывались Железные ворота — громадные скалы, стиснувшие дарью у самого выхода ее в степь. Машина свернула на проселок, как и все внутрисовхозные дороги, каменистый и колдобистый, и пошла по нему, переваливаясь с боку на бок. Прибыли в третье отделение и сразу же направились к дому Баратали. «Феодал», оказавшийся мужчиной средних лет, увидя столь представительную «комиссию», как-то сразу скис и поспешил дать расписку в том, что вернет калым и не будет препятствовать учебе дочери. Директор совхоза даже был несколько разочарован таким оборотом дела. А он-то собирался дать бой феодальным пережиткам. — Ну что ж, — обратился он к Захиду, — давайте-ка займемся настоящим делом. И они отправились на молочно-товарную ферму, затем побывали на покосе янтака[32], посмотрели, как идет сев кукурузы на силос. Обедали в поле вместе с рабочими. Когда возвращались в «Чинар», директор вдруг разоткровенничался, стал рассказывать о себе. Несмотря на жесткую тряску, Захид слушал с интересом. — Директором я стал не сразу, Захидбек. С тех пор, как помню себя, пришлось испытать немало. В тринадцать лет пошел чуликом, только «выбился» в чабаны — война началась. С первого до последнего дня защищал Родину. Вернулся и снова взял посох в руки. Учился в вечерней школе, когда уже трое сыновей росло, а диплом зоотехника получил в тот день, когда старший стал студентом. Вот так. Я родился здесь и знаю горы, как собственный дом, все их закоулки пешком прошел. Где какая трава растет, где волки водятся, где можно мумие отыскать, а где и кекликов[33] пострелять, — спрашивайте, не стесняйтесь, подскажу. — Ну, места охоты, видимо, лучше капитана Халикова никто не знал? — Да... И еще вот что, брат, запомни. Ни в коем случае нельзя обижать чабана — он главное лицо в совхозе. Правда, согласен, некоторые из них заразились накопительством, но даже и они, когда вопрос ставится ребром, радеют прежде всего об общественном поголовье, потому что знают — без него не может быть и личного. Вы думаете, в нашем совхозе не бывает падежа овец? Бывает, да еще какой! Только на сдаче мяса, шерсти, шкурок это не отражается. А почему? Потому, что чабан восстанавливает поголовье за счет личного. Этого, к сожалению, некоторые демагоги в «Чинаре» не понимают. Ну и что из того, что у чабана завелась скотинка?! Он ведь не украл ее, заработал честно, по закону. Зато он в холод и в зной на ногах, с самого утра до полуночи ходит за отарой и, если я как директор защищаю его, то только потому, что знаю, как нелегок труд чабана... — Вот вы, Ульмас-ака, сказали про некоторых чабанов — «заразились», — вдруг перебил директора Захид. — Но это ведь плохо. Когда, к примеру, врачи обнаруживают такого больного, его же изолируют! — Никто из чабанов, Захид Акрамович, Рокфеллером не станет, ему просто не позволят! — Директор, видя, что разговор принимает нежелательный оборот, заговорил о другом: — Скоро дом сдадут, товарищ лейтенант, готовьтесь к новоселью...XVIII
Семья Шермата-ата — большая, и отношения между ее членами сложные. Конечно, как и в любой кишлачной семье, вся жизнь здесь подчинена слову и воле старшего — Шермата-ата. Но если внешне дети безропотно подчиняются главе семейства, то внутренне частенько с ним не соглашаются. Действительно, ведь они уже стали взрослыми, имеют каждый свой характер, свой взгляд на жизнь, свои принципы и убеждения. Например, Шерзад причисляет себя к реалистам. Он считает, что мир, к сожалению, далек от совершенства. И еще многое надо изменить, чтобы он стал таким, каким видит его Азада — этот большой ребенок. Для сестры мир — это порядок и гармония. И если вдруг гармония почему-либо нарушается, то, полагает Азада, стоит лишь обратить на это внимание, осудить это нарушение, и оно само по себе исчезнет. Отсюда и прямолинейность, и бесхитростность девушки. Она всегда говорит то, что думает. Азада, правда, никогда не откровенничала с братом, она замкнутая, но уж Шерзада не проведешь, он видит сестру насквозь. Потому-то и не представляет, как выполнить поручение отца — в самую душу заглянуть Азаде, узнать о ее сокровенных думах и желаниях. Нет, не раскроется девушка, не станет выворачивать душу наизнанку. И не из ложной скромности или стыдливости, а потому что любовь для нее — чувство слишком личное, не предназначенное для обсуждения. Мог бы поговорить с ней по душам Шерали, то есть не выпытывать, не дознаваться об ее симпатиях, а просто навести ее на мысль о лейтенанте как-то ненароком, в беседе. Но его, к сожалению, нет в «Чинаре». И это тоже непонятно Шерзаду. Вроде бы умный человек Шерали, отец троих детей, а взял да и наплевал на семейные традиции. Вместо того, чтобы жить в «Чинаре», отправился в эту дыру — пятое отделение, да еще не в само отделение, а в фисташковую рощу Куштанского лесхоза, где устроился лесничим. И надо же — жена у него образованная, институт закончила, а преподает все в той же дыре, пятом отделении. И довольна. Другая бы мужу за такую жизнь что ни день истерики закатывала, а Чаман только улыбается. И ничего-то им не нужно — ни дома собственного, ни мебели. Принцип у них — живи сегодняшним днем. — Но если вы живете лишь сегодняшним днем, — как-то спросил Шерзад Чаман, — так что же тогда Шерали возится с этими фисташками — экспериментирует без конца? Хочет повысить урожайность, масличность! Но зачем ему это? — Любой принцип можно истолковать и так и этак, ака, — ответила невестка. — В личной жизни он для нас приемлем. Крыша над головой есть, любимая работа — тоже. Дети и достаток есть. Зачем нам больше? — Но ведь и о будущем надо думать? — То, чем занимается ваш брат, и есть наше будущее. Все это будет для людей! Шерзад вспомнил о просьбе отца поговорить с Азадой, увидев Сахро у конторы совхоза. «А не побеседовать ли сначала с ней, — подумал он, — Азада, кажется, души не чает в своей заведующей, так, может, Сахро в курсе сердечных дел сестры?» Шерзаду, так же, как почти всем чинарским мужчинам, нравилась эта красивая женщина. Когда муж оставил Сахро, Шерзад не удержался, стал оказывать ей знаки внимания. — О-о, Сахрохон, ассалом алейкум, рад видеть вас как всегда цветущей и неотразимой, — рассыпался в любезностях Шерзад. — Ваалейкум, Шерзад-ака, — в тон ему ответила Сахро, — спасибо за комплименты, они всегда меня радуют. — Как моя сестренка, джаным? — Работает, передовая доярка! — Молодец! Не позорит имя отца. Вы спешите, Сахро? — Кто не спешит в наши дни, ака? — Верно. А то, может, присядем, разговор есть небольшой. Они прошли на боковую аллею и присели на скамью. — Мы люди взрослые, — сказал Шерзад, — и можем себе позволить быть откровенными, не так ли? — Смотря в чем, — заметила Сахро. — Тоже правильно. Видите ли, меня, вернее, всю нашу семью, беспокоит Азада. Сами знаете, возраст у нее... Короче говоря, девушка на выданье, а мы все еще в неведении — не знаем избранника ее сердца. А отдавать за кого попало — не хочется, да и положение не позволяет... Слышал, что Юсуф приударяет за ней! Да об этом и сам отец догадывается. В последнее время парень всячески старается угодить старику, по делу и без дела на джайляу появляется. Сахро из всего сказанного не поняла, как же родители Азады относятся к секретарю комитета комсомола, поэтому и ответила неопределенно: — И на ферме Юсуф бывает часто, видно потому, что у нас комсомольцев много. Вижу иногда — разговаривает с ней, а о чем... — Сахро пожала плечами. — На мой взгляд, Юсуфджан парень неплохой. — Э-э, это совсем не то, — высокомерно произнес Шерзад, — все равно, что голодному желудку горький чеснок. Самостоятельности в нем маловато. — В его годы и у вас, наверное, не было ее, — сказала Сахро. — В его возрасте я уже был завторгом рабкоопа. Если он действительно приглянулся моей сестренке, то... я считаю так — лучше маленькая работа, чем большой разговор. А у него вся работа из одних разговоров состоит. — Не волнуйтесь, не люб Азаде комсомольский секретарь. Просто она не может отважиться и сказать ему об этом, — неожиданно заявила Сахро. — Она не отважится, мы скажем, Сахрохон. Спасибо за хорошую весть. — А разве вам неинтересно, кто же приглянулся Азаде? — шутливо спросила Сахро. — Вот это мы все и хотели бы знать. — Акрамов. Азада уже обещала позвонить ему. Шерзад улыбнулся. — Ну что ж, серьезного парня выбрала сестра. Я бы на месте отца одобрил такой выбор. Шерзад не мог скрыть радости. «Если виноградную лозу не укоротишь, она и до Кашгара доползет, — подумала Сахро. — Разочарую-ка я этого толстяка, пусть не радуется преждевременно». — Только зря лейтенант Азаде голову кружит, — сказала она с сожалением. — Зря? — Ну да. Я слышала, у него невеста есть. — Интеллигент! — воскликнул зло Шерзад. — Одну имеет, другой голову дурит. Надо предупредить сестренку, как бы беды не вышло. Шерзад обдумал все, что услышал от Сахро. С одной стороны, конечно, хорошо, что Азада равнодушна к Юсуфу, но вместе с тем... Если лейтенант помолвлен — тогда позор на весь «Чинар». За ужином, выбрав удобный момент, он сказал жене, но так, чтобы услышала и Азада: — Оказывается, участковый наш — бабник. Имеет невесту, а говорят, в «Чинаре» уже кому-то голову вскружил. Надо Ярматову подсказать, чтобы по партийной линии его...Первый трехэтажный дом в «Чинаре» наконец-то был сдан. Его построили на взгорке, в углу сада, недалеко от конторы. Он был как городской, этот дом, со всеми коммунальными удобствами. Еще при закладке было решено отдать его приезжим специалистам — учителям, медикам, агрономам, ветеринарам. Захиду выделили квартиру на третьем этаже — однокомнатную секцию с большим окном и балконом, выходящим на площадь. Из всех жильцов только ему провели телефон, мол, служба такая — в любое время может лейтенант понадобиться. Квартира Захиду понравилась, особенно его радовало то, что из крана текла вода, душевая работала и газ уже был подключен. Комната оказалась большой, светлой, из окна виден был кишлак и скалы за ним. — Кто-нибудь из коренных чинарцев поселился в этом доме? — спросил Захид у коменданта. — Предлагали многим, но все отказались, — ответил тот. — Не привыкли, понимаете. Разве дехканин сможет спокойно жить, если у него в хлеве не мычит корова, не блеет овца, если из подворотни не лает собака, и вообще во дворе не слышен крик ишака? И... потом, третий этаж и огород как-то не уживаются... В совхозе Захиду дали грузовик, и он, заехав в райцентр на старую квартиру, забрал там свои пожитки и отправился к родителям — ведь квартиру нужно было чем-то обставлять. Родные его встретили радостно. Джамиля захлопотала на кухне, Пулатджан, который оказался дома, пошел в магазин, а мать, усадив сына и шофера за дастархан, стала потчевать их чаем и попутно жаловаться на детей — мол, странные они какие-то пошли, чуть что, норовят удрать из дома, «в самостоятельность». Захид, слушая ее, вспоминал народную пословицу: «Дочка, тебе говорю, а ты, сноха, слушай». Он усмехнулся. — Вот видите, шоферджан, — заметила мать, — Захид ничего всерьез принимать не хочет... Возвращались они в «Чинар» ранним утром. — Лето, — сказал шофер Калтура-ака, коренастый сорокалетний мужчина, — прекрасное лето!.. Захид кивнул. Действительно, хлопковые поля, люцерники и кукурузные клинья, словно изумрудные ковры, застелили землю. В открытое небо кабины влетает утренний ветер и разгоняет остатки сна. Захид молча любуется красотой долины, и радость переполняет его сердце. — У каждого цветка свой запах, — как бы уловив настроение Захида, сказал шофер. — Лето — один из цветков года. «Сегодня займусь устройством быта, — размышлял Захид, — приведу в порядок квартиру, а завтра подключусь к оперативной группе». Он гнал от себя мысли об Азаде, старался думать о предстоящем расследовании дела Халикова, только не о ней. Но это ему плохо удавалось. Когда девушка не явилась в кино, странная мысль пришла Захиду в голову. А что если здесь сыграло свою роль слово Шермата-ата. Он вспомнил, как зло высказался старик в адрес Юсуфа, когда тот ненадолго вышел из юрты. Захид тогда в душе пожалел Юсуфджана, неплохого, как казалось ему, парня, а про Шермата-ата подумал: «А этот чабан рассуждает, как самый настоящий феодал». Машина въезжала в «Чинар», а Акрамов так и не решил, как же ему теперь поступить, как вести себя с Азадой. Весь день Захид приводил в порядок квартиру, а вечером зашел к Ярматову. — Мурад-ака, я должен извиниться, — сказал он, — но пока с оперативной группой работать не смогу. — Что-нибудь срочное? — Да. Время уходит, я хочу, как говорится, по горячим следам проверить одно дело в Чукургузаре. — Что ж, не смею задерживать.
XIX
Чукургузар означает — глубокий брод. Здесь Шорсу вырывается из теснины ущелья и, прежде чем продолжить путь между адырами, широко разливается, упершись о каменистые пороги, как о плотину. В живописном месте, расстелив на берегу курпачи, расположилась под вечер компания уста Нияза. Все были заняты делом: кто нарезал морковь для плова, кто устанавливал казаны, кто раскладывал костер, лишь бухгалтер Самад, худощавый тридцатилетний щеголь, отдыхал, удобно расположившись на курпаче, изредка отдавая распоряжения. Самад считал, что его миссия уже окончена, ведь это он достал мясо, рис, морковь. Поводом для угощения послужило вот что. Абрай-кара, бригадир молочно-товарной фермы, растил семерых дочерей, симпатичных, очень похожих друг на друга. Девочки росли, старшие уже работали, средние учились, а младшие ходили в детский сад. Абрай-ака, человек общительный и добродушный, с тех пор, как в кишлаке открылось заведение уста Нияза, не знал покоя — градом сыпались на него шутки завсегдатаев парикмахерской. И причиной тому были семь его дочерей. Но вот у Абрая-ака родился сын, и он, довольный и счастливый, поспешил в парикмахерскую. Уста Нияз тут же смекнул, что рождение бригадирского сына — удачный повод для мужской пирушки, на которой он попробует выполнить просьбу Эгамова. — Не дело, Абрайджан, — сказал он, усадив бригадира в кресло вне очереди, — отмечать такое великое событие в учреждении. Давайте так: я вас сейчас сделаю молодым джигитом, а через час, скажем, всей вот этой компанией мы явимся к вам?! Как, товарищи? — В принципе правильно, — поддержал уста зоотехник Салиев, — но к Абраю-ака идти сейчас нельзя, жена еще в роддоме, как-то неудобно. — Лето, уста, — напомнил кто-то, — посидеть можно где угодно, а лучше всего — у дарьи. Абрай-ака предложение поддержал: — Надо поручить кому-нибудь все это организовать. А расходы несу я. ...И организацию дела поручили бухгалтеру Самаду. Наконец дастархан был накрыт. Ошпаз[34] поставил на дастархан чаши с пловом, а поднос уже в третий раз пошел по кругу. — Говорят, если в доме многолюдно, то и на улицу выйти не страшно, Абрай-ака. Пусть у каждого сидящего здесь будет так! — воскликнул Самад. — Доброе слово — мед, — сказал уста, — я присоединяюсь. Уста, решивший во что бы то ни стало поговорить во время угощения о своем деле, все никак не мог выбрать удобного момента, ибо дело это никак не вязалось с настроением. Не придумав ничего путного, уста вынужден был пойти на откровенность. — Друзья! Говорят, широкая овчина не разорвется, а тесная община не разбредется. Живу я в вашем кишлаке уже пять лет, у каждого из вас отведал хлеба-соли, все вы для меня как родные. Надеюсь, и вы не считаете меня чужим. — О чем речь, уста? — воскликнул Кадыр. — Мы вас никому в обиду не дадим. — Спасибо. У меня случилась небольшая неприятность, о ней неудобно в такой радостный час и говорить, но... — Говорите, говорите, уста, — поддержал его Самад, — слушаем вас. — Покупал я у вас иногда кило-полкило шерсти, случалось брать и смушку — что делать, семья, ее кормить надо! А потом продавал все это Эгамову. Ну так вот, перехватил Эгамова участковый, завел дело, следствие вести хочет, словом... — А что это он вдруг лезет не в свое дело, этот лейтенант, — воскликнул Самад, — какое ему дело, кому и что я продал?! Мое — что хочу, то и делаю! — Вот и я говорю, если начнет Акрамов допытываться, надо ему так ответить, чтобы никогда больше не совался! — Так и сделаем! — пообещали ему хором друзья...XX
Азада ничем не показала Сахро, как глубоко ее обидело поведение заведующей. То уж вроде души не чаяла в молодой своей подруге, а то вдруг унизила при постороннем человеке, при лейтенанте Акрамове. Конечно, влюбилась Сахро в лейтенанта, по всему это видно, но неужели нельзя сдерживать своих чувств — и добрых, и злых. То Улаш-ака ни за что ни про что оскорбила, а теперь вот ее, Азаду. Она с подругой Мухаббат зашла по каким-то делам в контору, вдруг, увидев телефон, мгновенно решила — позвоню. Пусть слышит Мухаббат, пусть передаст Сахро, чтобы та не очень-то нос задирала. Когда Захид ответил на звонок, Мухаббат сначала не поняла, о чем идет речь, с кем разговаривает подруга, но в глазах ее загорелось любопытство. Как только Азада положила трубку, Мухаббат вроде бы безразлично поинтересовалась: — Какой фильм привезли? — Говорят, индийский. — Ой, Азада, возьми меня с собой, ладно? — Хорошо, зайду, — нехотя согласилась Азада. — А кому ты звонила? — Одному человеку. — Секрет? — Захиду-ака, участковому. — Участковому?.. Зачем? — Он друг Шерзада-ака, — соврала Азада, — обещал, если станут приставать ребята, защитить. — Ну, конечно, — согласилась Мухаббат, — с милиционером не страшно. Азада и ждала, и боялась предстоящей встречи. Ждала потому, что, во-первых, нравился ей лейтенант, во-вторых, хотелось доказать этой гордячке Сахро, а боялась... он ведь намного старше ее, человек с высшим образованием — как вести себя с ним, что говорить?! Азада целый день была в приподнятом настроении. Работала легко, споро, то и дело улыбаясь каким-то своим мыслям. Наблюдавшая за ней Мухаббат не выдержала, спросила: — Влюбилась, что ли, подружка? — С чего ты взяла? — Цветешь вся, ног под собой не чуешь! Азада смутилась и ничего не ответила подруге. Но та не унималась. Ей казалось, что она совершила открытие, и этим открытием ей хотелось с кем-нибудь поделиться. Дождавшись, когда Азада уйдет на обед, Мухаббат поспешила к Сахро, которая принимала молоко от доярок. Спросив о том, о другом, Мухаббат как бы случайно проговорила: «А нашу Азаду теперь милиция в кино сопровождает. Сама слышала, как они сегодня договаривались». Сахро спокойно посмотрела на доярку, сделала вид, что ее ничуть не трогает эта новость, но в душе у нее похолодело. «Ну вот, — подумала заведующая, — обидела я Азаду, а теперь она все назло мне будет делать. Надо с ней примириться. А Захид! Ну что он нашел в этой кубышке!» Сахро в последнее время ломает себе голову над тем — любит ли действительно Акрамова, или это просто увлечение, желание взять у жизни реванш за не слишком счастливую юность?! Но, думая о Захиде, мечтая о его любви, она тем не менее ни разу даже не вообразила, что сможет оставить Улаша-ака. Значит... значит, не безразличен он ей, этот старый, добрый, мудрый человек! Так что же с ней происходит? ...Когда Азада вернулась с обеда, Сахро пригласила ее к себе, усадила на стул, сказала как можно мягче: — Слушай, подруженька, хочу дать тебе совет. Никогда и никому не доверяй своих тайн, знай, у всякого друга есть еще друг. Откуда, например, Мухаббат известно о том, что ты решила с Захидом-ака в кино пойти? — Так разве это тайна? Что здесь такого? Захид-ака обещал защитить меня, в случае, если кто-нибудь станет приставать. Сахро показалось, что Азада говорит вызывающе, и от этого ее тона она сразу забыла о своем благом намерении примириться с девушкой. — Боюсь, что у Акрамова невеста есть в городе. Смотри, узнает она, неприятности будут. От приподнятого, радостного настроения Азады не осталось и следа.XXI
День только начинался, но Чукургузар уже проснулся, сизые столбы дыма от его очагов уходили в тихое небо. По улицам лениво брели коровы, подгоняемые мальчишками к окраине, где на взгорке, опершись о посох, стоял пастух. — Красота! — воскликнул Улаш-ака, когда Захид остановил мотоцикл и заглушил мотор. Собираясь в Чукургузар, Акрамов пригласил учителя, и тот принял приглашение, поскольку уже был в отпуске. Они направились в контору отделения, откуда как раз вышла большая группа заведующих фермами и бригадиров. За ними показался и начальник отделения Бекназаров, немолодой уже человек, ветеринар по профессии. Все они поздоровались с приехавшими. — Какие ветры вас занесли к нам, Захид Акрамович? — спросил Бекназаров, когда процедура взаимных расспросов была закончена. — Домулло Улаш-ака в отпуске, пригласил меня посмотреть музей первобытного искусства в верховьях Шорсу, — ответил громко Захид, чтобы все слышали, — почему бы не развеяться? Они устроились на чарпае во дворе Бекназарова, хозяйка дома расстелила перед ними дастархан и подала каждому по касе ширчая, в котором плавали куски сливочного масла. Молча позавтракали, а когда принялись за чай, хозяин спросил: — Так что это за небольшое дело, Захид Акрамович? — Хочу побывать на месте гибели капитана Халикова, — ответил Захид, — а Улаш-ака покажет это место и... расскажет все, что он видел. — Дадим лошадей. Впрочем, я тоже могу поехать с вами, если, конечно, не возражаете. — Будем рады, — сказал Захид. — И еще одно. Меня интересует шерсть и смушка, которые Эгамов покупал здесь. — Эгамов официально здесь ничего не покупал, — ответил начальник отделения, — эту черную работу выполнял наш парикмахер уста Нияз. — И давно он этим промышляет? — Года четыре, пожалуй. Летом и осенью каждый год. Видно, имеет с этого какой-то доход, иначе зачем бы ему этим заниматься? — Но откуда он мог заполучить такое количество шерсти? — У чакана-чабанов, они ведь тоже стригут овец. На Кугитанге таких чабанов хватает! — А что, им разрешают там пасти овец? — Кто запретит? Горы государственные, жалко, что ли, лишь бы их на совхозные пастбища не пускали! — Вы не слышали, чьих овец они пасут, ака? — Чакана — значит, личный. Личные пастухи. — Но чьи именно? — Это у них спросить нужно. Обычно пять-шесть человек нанимают чабана и его помощника, договариваются об оплате. — Узнать бы хозяев этих овец! — Там, в горах, и наши чабаны есть, и туркменские. «Надо встретиться с теми чабанами, — подумал Захид, — и выяснить подробности». — А можно подсчитать, хотя бы примерно, сколько за эти годы уста скупил шерсти и смушки? — Можно узнать, Захид Акрамович, более или менее точно. — Будьте любезны, помогите получить такие данные. — Хорошо. Сейчас пойдем в контору, и я поручу бухгалтеру, пусть пройдет по всем дворам. Правда, часть людей на сенокосе. — Ничего, ака. Пусть он возьмет сведения у тех, кто в кишлаке. Уста здесь? — Вчера уехал домой, якобы в отпуск собрался. — Жаль. — Его в райцентре всегда можно найти, если понадобится. Копается, поди, на своем участке! — И все заготовленное парикмахером забирает Эгамов? — А кто же еще? — Знаете, почему я об этом спросил? Эгамов в своей объяснительной записке указал, что здесь он был всего один раз. — Перепугался. А с перепугу чего не наплетешь? Два раза в год, в начале лета и поздней осенью, он тут как тут, в Чукургузаре! — Вам-то откуда все это известно? — Чукургузар не Москва, тут все на виду у людей. Знаю... Пока им готовили лошадей, Бекназаров пригласил к себе Самада — бухгалтера — и объяснил, что следует сделать....Ущелье узкое, стены почти отвесные; кое-где, кажется, подступают друг к другу так близко, что можно перепрыгнуть с одной скалы на другую. Глянешь вверх — и надо фуражку придерживать, чтобы с головы не сорвалась. Изредка ущелье раздается то в одну, то в другую сторону, образуя широкие площадки, густо поросшие арчой и кустами шиповника. Повсюду бьют прозрачные родники. Тропка, по которой они едут, часто пересекает реку, и тогда лошади оказываются почти по брюхо в воде. — Дорогу бы пробить, — сказал Бекназаров, — столько здесь чудесных мест для пионерских лагерей и для домов отдыха! — Ничего не надо, Джалилбек, — сказал Улаш-ака, — пусть хоть одно место в области останется в первозданном виде. Арча по существу только тут и осталась, а на Сангардаке и Гиссаре ее уже вырубили всю. А без арчи откуда воде взяться? Сами рубим тот сук, на котором сидим, — повторил он. — Вы только посмотрите, какое величие скал, какая торжественная тишина тут стоит! Где вы еще такое найдете? Место в ущелье, где погиб капитан Халиков, довольно широкое. Здесь река, несущая свои воды у подножия левой стены, резко сворачивает вправо. Дальше, вверх по течению, площадка образует крутой косогор, поросший арчой. Стреножив коней, они приступили к делу. Улаш-ака лег на землю и постарался принять ту позу, в которой лежал Халиков в тот день, и Захид сфотографировал учителя. Затем домулло показал места, где лежали ружье капитана и подбитый им кеклик. Вместо ружья использовали палку, а кеклика заменили тюбетейкой начальника отделения. Захид все это снял на пленку. — Интересно, можно ли подняться наверх? — спросил он. — Тропа очень крутая, — ответил Улаш-ака, — она теперь мне не по зубам, как говорится, а вы, думаю, сможете. — Я тоже иду с вами, — сказал Бекназаров Захиду. Они пошли вверх по течению, отыскали тропу и начали подниматься. Тропа, петляя между арчовыми зарослями, кое-где проходила по сплошному галечнику, который осыпался. Здесь требовалась большая осторожность — иначе сорвешься, косточек не соберешь. Шли, помогая друг другу. Захид вновь принялся щелкать затвором аппарата. Отсюда выступ был виден полностью, он оказался довольно большим. «Человек на этом месте вполне может сорваться, — подумал Захид, — круто очень. Но никак Халиков не мог упасть в пропасть. В любом случае он зацепился бы за выступ». Захид подтолкнул ногой небольшой голыш, и тот полетел, но задержался на выступе, правда, на самом краешке. Бекназаров, молча наблюдавший за действиями лейтенанта, и сам начал толкать камни, только с разных «точек» отрезка тропы. Часть из них оказалась в пропасти, а часть, та, что падала с того места, откуда сорвался капитан, задерживалась на выступе. — На краю выступа можно оказаться в том случае, — сказал Бекназаров, — если самому прыгнуть. — Или если кто-то сильно толкнет в спину. — Да, тогда, конечно, не удержишься. — В этом весь вопрос, Джалил-ака, — сказал Захид. Ошибка баллистической экспертизы поставила перед Акрамовым массу вопросов. Кто посягнул на жизнь капитана? Почему? Как он, капитан, и икс-преступник оказались на одной тропе? Захид поднялся чуть выше. Тропа выходила на небольшую полоску ровной земли, обычную для подножия гор, а затем петляла между скалами и арчой. Бекназаров следовал за ним. — По гребню проходит граница между Туркменией и Узбекистаном, — сказал он. — Та сторона тоже крутая? — спросил Захид. — Нет, там долина, которая принадлежит госземфонду. — Там и пасут чакана-чабаны? — Наверное. — Может, побываем на тех пастбищах, Джалил-ака? — предложил Захид. — В народе говорят, недалека та гора, что видна. Но чтобы оказаться по ту сторону хребта, надо идти до ночи. Вы посмотрите внимательнее, тропа порой кружит на одном месте. А сколько таких участков! Надо гору у подножия объехать на мотоцикле. — Из Чукургузара это можно сделать, ака? — Нет. Сначала надо отправиться в Гагаринский район, на целину попасть, потом вдоль железной дороги добраться до Келифа, а уж оттуда... — Словом, придется полтысячи километров отмахать? — спросил Захид. — Не меньше. Вот если бы вертолет! — Ну что ж, поедем обратно, может, и вертолет найдем. — Эта мысль понравилась Захиду. — А выше по течению люди живут? — Глухомань. Медведи, может, живут да кобры водятся... Красота в ущелье только летом восхищает, а зимой... Все завалит снегом — ни пройти, ни проехать! — Как же первобытные люди жили? — Улаш-ака знает, — рассмеялся Бекназаров, — это по его части...
— Древние люди жили только в верховьях реки, — объяснил учитель, когда они возвращались. — В том месте, где Кугитанг сходится с Байсун-тау, существует небольшая седловина, пологая с обеих сторон, ее и на машине можно проехать. И ущелье там неглубокое, вода пресная. — Понятно, домулло, — сказал Захид и спросил у Бекназарова: — Ну, а вообще-то люди ходят здесь? Им ведь не миновать ваш кишлак, если надумают пройти по этой тропе, значит, кто-нибудь да увидит их. — Знаете, — сказал Бекназаров, — в ущелье часто бывал уста, почти каждую субботу он ловит тут рыбу. Вот у него надо спросить, видел ли он людей на этих тропах? — Спрошу, — сказал Захид, а сам подумал, что имя уста Нияза что-то слишком часто упоминается. То он замешан в скупке шерсти и смушки, то помогает достать дефицитный сур, которого в кишлаке отродясь не водилось, то вот теперь выясняется... рыбачит каждую субботу. ...Первое, что сделал Захид, когда они возвратились в Чукургузар, принялся подробно расспрашивать бухгалтера. — У него такая хитрая штучка есть, — усмехнулся Самад. — Табличка — «Уехал домой». Выставит ее, и пропал. Но в тот день, когда погиб капитан Халиков, уста Нияз был в кишлаке. Это я точно знаю. — А накануне вечером? — спросил Захид, поняв, что бухгалтер догадался о причине их поездки в ущелье. — У меня в гостях. До ночи мы болтали о всяких пустяках, потом я предложил ему остаться до утра. — И он остался? — Да. Утром мы вместе пошли на работу. — Ну, а просьбу мою вы выполнили? — Конечно, — Самад подал Акрамову три разграфленных и аккуратно заполненных листа. — Тут все — что куплено, в каком количестве, у кого, когда. В конце списка я попросил каждого, с кем разговаривал, расписаться... А вот это, — он подал еще один лист, — те, кто находится на Чаппасу. Если срочно нужно, я могу съездить туда. — Спасибо. Мне и самому нужно побывать там, Мурад-ака дал кое-какие поручения, так что заодно я и с людьми поговорю. — Захид бросил взгляд на итоги, которые бухгалтер вывел карандашом в конце списка, и решил не заводить пока речь о квитанциях. Кто знает, может они действительно были выписаны, как утверждал Эгамов. Его сейчас занимало другое. Разница между тем, что перехвачено у баскентца, и тем, что купил уста у населения, составляла солидную цифру — около семисот килограммов шерсти и девяноста шкурок каракуля. Сур в списке сырья вообще не значился.
XXII
... Едва Акрамов переступил порог кабинета, как зазвонил телефон. Секретарь Ярматов предупреждал Захида, что вечером в клубе состоится собрание партийно-хозяйственного актива, посвященное итогам работы в первом полугодии. — Приедет секретарь обкома партии по сельскому хозяйству, — сказал он, — вам следует вместе с Юсуфом, командиром дружинников, позаботиться о порядке в клубе. — Хорошо, Мурад-ака, — ответил Захид. — Порядок обеспечим! Он позвонил Юсуфу, договорился с ним о встрече в клубе. И только потом уже связался с начальником райотдела Махмудовым и подробно доложил о результатах поездки на усадьбу седьмого отделения, а также об осмотре места гибели капитана Халикова. Поделился с майором всеми сомнениями и предположениями. Махмудов предложил было ему самому явиться в райотдел, но, узнав о собрании, приказал передать фотопленку с первой попутной машиной, чтобы проявить ее и провести новую экспертизу. — Уста вашего я допрошу сам, — сказал майор, — а вы, Захид Акрамович, не отлучайтесь из «Чинара», не поставив в известность меня лично. — Слушаюсь, товарищ майор! — ответил Захид. Летние вечера в «Чинаре» наступают медленно. Уже и солнце вроде бы давно опустилось за плечо горы, а небо все остается прозрачно-синим. Собрание началось ровно в восемь. Его открыл секретарь партийного комитета Ярматов. Он предоставил слово директору совхоза Муминову, и тот почти сорок минут рассказывал собравшимся о том, как поработали животноводы в первой половине года. Выходило в общем-то неплохо. Ульмас-ака упомянул имена передовых чабанов, а о Шермате-ата и его успехах подчеркнул особо. Потом слово взял секретарь обкома партии. — Коллектив вашего совхоза, — сказал он, — по заготовкам кормов идет впереди других животноводческих хозяйств области. Областной комитет партии и облисполком, рассмотрев итоги социалистического соревнования во втором квартале, решили присудить переходящее Красное знамя совхозу «Чинар». Разрешите вручить вам эту заслуженную награду и пожелать в дальнейшем новых успехов! Под дружные аплодисменты Ульмас-ака и Ярматов приняли знамя. Затем начальник отдела кадров зачитал приказ о премировании работников, среди которых Захид услышал и имя Азады. Мало того, он услышал и собственную фамилию. Совхоз премировал его за конфискованную шерсть и смушку. Когда начался концерт участников художественной самодеятельности, Мурад-ака кивнул ему — пошли. Захид вышел в фойе, и Ярматов шепнул ему: — Идемте в гостиницу, Ульмас-ака дает небольшой банкет в честь присуждения нам знамени. Стол был накрыт в гостиной. Он не ломился от яств, но все же щедро представлял дары горной земли. Буквально через минуту Захид встал из-за стола. — Извините, товарищи, — ответил он на немой вопрос Ярматова, — мне нужно идти. Директор принялся возражать, но секретарь обкома сказал Захиду: — Идите, товарищ лейтенант, служба — прежде всего! Вернувшись в дом культуры, Захид устроился в последнем ряду у двери и стал смотреть концерт. Пели и танцевали, как говорится, от души, и чинарцы сопровождали каждое выступление горячими аплодисментами. Правда, несколько местных длинноволосых пижончиков в ярких рубашках, повязанные широкими крикливыми галстуками, шумели, но шум был скорее от избытка энергии, чем от стремления побуянить. Захид стал осматривать ряд за рядом, настроение его падало — Азады он отыскать не смог. Но вдруг он услышал шорох атласного платья, напоминающий шепот ветерка в кроне тала. Захид мгновенно оглянулся и увидел Азаду, проходившую мимо. — Добрый вечер, Азадахон, — поприветствовал он радостно. — Добрый вечер, Захид-ака, — ответила девушка и нерешительно остановилась. — Уже уходите? — Пора, ака. — Всего десять часов, — сказал Захид, взглянув на часы. — Рано вставать надо. — Можно проводить вас? — просительно проговорил Захид. — Чтоб никто не приставал, а? — Что вы, Захид-ака, — ответила она шепотом, — в кишлаке такое не принято. Это ведь в книжках провожают. Он посмотрел девушке в глаза и прочитал другой ответ: «Я пойду тихо, если захотите — догоните...» Азада прошла в дверь, а он спустя минуту, отыскал старшего среди дружинников и, наказав ему быть начеку, вышел на улицу. Когда он догнал ее возле родника, все хорошие слова, что собирался сказать, оставили его, спросил невпопад: — Что-то я сегодня Шермата-ака не заметил? — Был он, — ответила девушка. — А потом забрал маму и уехал на джайляу, что-то нездоровится ему. Дальше шли молча. — Может посидим где-нибудь? — предложил, наконец, лейтенант с дрожью в голосе. Он боялся, что Азада непримет его предложения. — Только недолго. — Азаде хотелось самой услышать от Акрамова про невесту, правда ли это? А уйти никогда не поздно. — Конечно, — обрадовался Захид, — как только вам надоест, мы уйдем. Во дворе кишлачного Совета есть скамейка... Он открыл калитку, пропустил девушку вперед. Было тихо. Захид платочком смахнул пыль со скамьи, посадил Азаду и сел сам. — Замерзла? — спросил он, вновь перейдя на «ты». — Свежо ведь, Захид-ака! Он снял с себя китель, накинул ей на плечи. — Азада! — Захид произнес ее имя нежно, ласково. — Что, ака? — Хочешь, я открою тебе один важный секрет? — Хорошо, ака, откройте. — Я полюбил тебя, — проговорил Захид тихо и почувствовал, как кровь прилила к лицу. Но сказанное слово — пущенная стрела. — Это правда! Ты мне скажи только одно — нравится тебе Юсуфджан? — Нет. — А я... я нравлюсь тебе? — Но ведь у вас невеста есть, Захид-ака, как же вы можете? — Невеста? Какая невеста? Откуда ты ее взяла?! — Вы же сами одной женщине сказали. — Я имел тебя в виду. Честное слово. — Сахро вас любит. — А ты? — Не знаю, Захид-ака. Он растерялся. Что же делать дальше, что говорить? Но, может быть, Азада права? Трудно вот так сразу сказать — любит ли она, ведь они с Захидом по сути дела вместе впервые. Не надо торопить события. — Родная! — Захид сказал это слово шепотом, но ему показалось, что его услышал весь «Чинар», деревья в садике, камни вокруг. Он обнял ее и тихонько привлек к себе. — Не надо, Захид-ака, — сказала девушка, отстранившись, — увидит кто — передаст отцу. — Ты ж не боишься? — Боюсь. Мы все его дома боимся. — Он что, деспот? — Да нет, нас так воспитывали, чтобы старших слушались. — Тогда это не страх, джаным, а уважение. — Может быть. — Она сняла китель и положила ему на колени. — Я пойду. Захид положил ей руку на плечо и осторожно, словно боясь спугнуть, коснулся губами ее горячей щеки. Азада выскользнула через калитку на пустынную улицу, махнув на прощанье рукой. Захид смотрел ей вслед и казалось, что это не Азада, а часть души улетает, скрывается в тени деревьев. Он пошел за девушкой по улице, приотстав шагов на двадцать. Она вошла в дом, а Захид еще долго бродил возле усадьбы. Когда он вновь пришел в клуб, концерт уже окончился, чинарцы, оживленно обсуждая выступления артистов, расходились по домам. — Вы куда исчезли, Захид Акрамович? — услышал он голос Юсуфа и вздрогнул. Сам того не ожидая, он смутился. — На концерте вас не было. — Что-нибудь случилось? — спросил Захид. — Концерт был отличным, — будто с сожалением произнес Юсуф, — а вы ушли. И Азада куда-то исчезла! — Азада домой ушла, — как можно спокойнее ответил Захид. — Я проводил ее, не волнуйтесь. — Рахмат, Захид Акрамович. Лучше заботливый друг, чем беззаботный родственник, говорят. Я братишке своему наказал, чтобы он находился при ней, да только этот шалопай, едва увидел дружков, забыл обо всем на свете. Юсуф говорил так искренне, что Захиду стало на мгновенье как-то не по себе, будто он украл его счастье. Но Азада! Азада-то ведь не любит Юсуфа. — Пойдем-ка спать, Юсуфджан, раз все в порядке, — сказал он. — Мне хотелось поговорить с вами, Захид Акрамович. — В другой раз, дружище, — ответил Захид, подумав, что разговор с Юсуфом может превратиться в неприятное объяснение, а он сегодня был счастлив, и не хотелось расставаться с радостным, приподнятым настроением. — Ладно, в другой раз, — согласился Юсуф.XXIII
Выслушав утром по телефону сообщение Акрамова, майор Махмудов подумал о том, насколько он предусмотрительно поступил, поручив лейтенанту перепроверить материалы служебного расследования. Получив фотопленку, майор тут же передал ее в лабораторию, а когда — по ускоренному методу — были, наконец, готовы отпечатки снимков, пригласил эксперта-криминалиста и вместе с ним произвел новые расчеты. Ошибка эксперта была явной, он признал это и дал другое заключение. Теперь он высказал предположение, что тело капитана могло оказаться в ущелье лишь «под воздействием внешней силы». Более точно эксперт ничего сказать не мог. Этого было достаточно, чтобы районный прокурор вынес постановление о создании следственной группы и новом расследовании дела. Возглавил группу старший следователь прокуратуры Расул Маханов, опытный оперативный работник. В расследовании решил принять участие и сам майор. — Ну что же, — сказал Маханов, ознакомившись с материалами, которые были получены от Акрамова, — от показаний уста Нияза сейчас будет зависеть если не исход дела, то значительное его прояснение. — Я послал за уста машину, — сказал Махмудов. Уста Нияз явился бледный, перепуганный. Вошел в кабинет и остановился возле двери. — Проходите, садитесь, — предложил майор. Когда Нияз ответил на все вопросы, касающиеся его биографии, и поставил свою подпись под пунктами протокола об ответственности за дачу ложных показаний, Маханов спросил: — Знаете, зачем мы вас пригласили, уста? — Догадываюсь. Наверно, по делу конфискованной у Эгамова шерсти и смушки? — Что можете рассказать об этом? Давно знакомы с Эгамовым? — Знаю его пять лет. — Уста, хоть и был напуган, отвечал уверенно, видно, решил, что в Чукургузаре друзья не подвели. — Парень он веселый, я тоже люблю шутить. В тот раз Эгамов был в Термезе и по пути домой заехал ко мне в Чукургузар. Я, конечно, устроил пирушку в его честь, собрались друзья. Между делом Эгамов интересовался, можно ли в кишлаке купить шерсть, смушку, сур. Чукургузарцы народ гостеприимный, решили помочь гостю, все сами организовали. Сколько он купил шерсти и каракулевых шкурок, как рассчитался с людьми, я не знаю. Раньше директор там закупок не делал, хотя и заезжал ко мне. — Мы же условились, уста, — усмехнулся следователь, внимательно выслушав рассказ, — говорить только правду, а вы... Ежегодно Эгамов приезжал к вам два раза, в конце весны и поздней осенью. Всего он был в Чукургузаре восемь раз, правильно? Уста Нияз вздрогнул, виновато посмотрел на Маханова. — Э... Извините меня, пожалуйста. — Уста сообразил, что милиции, как видно, все известно. И он решил сказать правду. — Точно, восемь раз. — Нам известно, уста, — сказал следователь, — у кого и в каком количестве вы закупили шерсть и каракуль. В этот раз где-то на стороне, а не в Чукургузаре, вы приобрели семь центнеров шерсти и девяносто шкурок. Где, у кого? Уста окончательно сник. Да, в милиции парни не дремлют. — У чакана-чабанов, ака, — признался он чистосердечно. — Их имена? — Всех не помню, домулло. — Называйте тех, кого помните. — Ураз-бобо и его помощник Кулдаш, Халдар-ата и его чулик Усар-палван. Потом... Бехкан-ага... еще... Базарбай. У них в основном я и брал шкурки. — И сур тоже? — Сур попал мне единственный раз. — Кто вам его продал? — Чакана Халдар-бобо. — Вы знали, что занимались незаконным промыслом? — спросил майор. — Откуда, товарищ начальник?! Если бы я знал, разве... Кувшин разбивается только один раз! — На сегодня, пожалуй, хватит, — произнес Маханов, поняв, что Нияз Хамидов в данном случае просто перекупщик. — О нашей беседе никто не должен знать! — Конечно, домулло, разве я не понимаю? Да провалиться мне сквозь землю, если хоть одно слово скажу кому! — Подпишите протокол. — И когда уста поставил подписи, добавил: — Без нашего ведома никуда из райцентра не отлучаться! — Буду сидеть дома как привязанный, домулло! Уста ушел, а следователь и майор стали обсуждать план дальнейших действий. — Знаете, Расул Маханович, — сказал майор, — нам не надо, думаю, вдаваться в подробности, то есть выяснять, чьих именно овец пасут эти чакана, важно встретиться с теми, кого здесь назвал уста. — А почему бы не назвать и хозяев овец? Нет, товарищ майор, будем выяснять все... — Надо позвонить в Баскент, пусть там ребята покопаются в бумагах Эгамова, может, еще что выплывет. — Прокурор позвонит, — сказал Маханов. — А на Кугитанг вышлем оперативную группу. Сейчас свяжусь с областным начальством, пусть выделяют вертолет... Хоть погода и была плохой, уже к вечеру оперативная группа обследовала отроги Кугитанга и вернулась в район. Оперативники встретились на джайляу с туркменскими чабанами, с чабанами-чакана. Они установили, что капитан Халиков в тот день был среди них, выяснял имена хозяев овец и ушел вместе с Халдаром-бобо на северную сторону хребта. В тот же день отара этого чабана снялась с места и ушла в неизвестном направлении...XXIV
Трудно в кишлаке что-нибудь скрыть от людских глаз. На следующее утро весь «Чинар» знал, что Захид и Азада вдвоем сидели на сельсоветовской скамейке. Слух этот, конечно, достиг и Сахро. Она пришла в коровник. Поздоровалась с дояркой. — Слушай, Азадахон, — как можно безразличнее сказала заведующая, — нельзя потушить звезды, сколько бы на них ни дули. — Вы к чему это, Сахро-апа? — поинтересовалась Азада. — Говорят, Захидджан удостоил тебя своим вниманием? — Как это понять? — Обыкновенно. Говорят, обнимал тебя, слова приятные на ушко нашептывал. — И не стыдно вам, — ответила зло Азада. Сахро смутилась, такой резкой отповеди она не ожидала от тихони Азады. Она сочла за лучшее удалиться, но обида, кипевшая в сердце, не давала ей покоя, заставляла что-то предпринять, как-то отомстить сопернице. И тут на ферме появился Юсуф. У Сахро сразу же созрел план мести. Как обычно, Юсуф подкатил на мотоцикле прямо к зданию конторы, сразу же зашел к Сахро. — Ассалом алейкум, Сахро-апа, — сказал он еще с порога. — Ваалейкум ассалом, — ответила она, протянув комсомольскому секретарю руку. — Проходите, садитесь. Рассказывайте, что новенького на белом свете. — Свет-то сегодня серый, пасмурный во всяком случае, — ответил Юсуф. — И вообще, знаете, зиму обещают суровую, так что чинарцам туговато придется. — Корма будут — остальное приложится. Юсуфджан, меня это не волнует. — Но это волнует партком, — сказал Юсуф. Он любил при случае подчеркнуть, что является членом парткома. — Ну что ж, вот вам сводка за последнюю пятидневку. — Она раскрыла папку и хотела протянуть секретарю, но тот жестом остановил ее: — Зачем? Я уже успел посмотреть сводку в конторе. Ничего не поделаешь, наш рабочий день начинается со сводок. — Вот-вот, — сказала Сахро с насмешкой, — всегда так: пока чабан спит, волк овечку уводит. — Не понял намека, — сказал Юсуф, — о чем вы? — Не кажется ли вам, Юсуфджан, что пока вы просиживаете штаны со своими сводками, овечку уводит волк, прикинувшийся другом? Юсуф в самом деле не понимал, о чем идет речь, и терялся в догадках. Наконец он спросил напрямик: — О ком говорите, Сахро-апа? — Вчера, говорят, Азаду домой провожал новый участковый лейтенант Акрамов. — Знаю. Он мне сказал об этом. — Вот как! И вам все равно?! — Ничего особенного не произошло, апа. Захид Акрамович поступил правильно. По крайней мере, никто из шалопаев не посмел привязаться к Азаде! — Ну и наивны же вы, Юсуфджан, — воскликнула Сахро. — Думаете, Акрамов взял девушку за ручку и повел прямо домой! К вашему сведению, целых два часа они сидели в садике сельского Совета. Кстати, невеста ваша позволила накинуть себе на плечи милицейский китель. — Этого не может быть! — воскликнул Юсуф горячо и... осекся. Память мгновенно восстановила прошедший вечер. Действительно, когда он искал Азаду, он не увидел и Акрамова. — Я сейчас выясню все у самой Азады, — проговорил он уже тихим, упавшим голосом. Сахро подошла к окну. Она видела, как взбешенный Юсуф резко сорвал с места машину и понесся к коровнику.XXV
Юсуф зашел в кишлачный Совет перед обедом, когда Захид, убрав бумаги в сейф, собирался уходить. Признаться, лейтенант ждал встречи с комсомольским секретарем — надо же поставить, как говорится, все точки над «и». Но он не думал, что встреча эта произойдет в его рабочем кабинете, да еще так скоро. — Салом, — тихо поздоровался Юсуф и, словно не замечая, что хозяин собирался уходить, прошел к столу и сел. — Как дела, здоровье? Захид сразу почувствовал в тоне Юсуфа напряженность, натянутость, понял, что тому, видно, все известно про вчерашнее. — Давайте откровенно, Юсуф, — сказал он, не отвечая на приветствие. — Вы, думаю, зашли ко мне по какому-то делу, а не просто для того, чтобы справиться о здоровье? — Верно, по делу, и очень серьезному. — Слушаю вас. — Скажите, Захид-ака, вы считаете меня своим другом? — Товарищем. — А разве это не одно и то же? — Конечно, нет. Товарищей у меня много, а друзей... двое-трое... — А вот я считал вас близким другом, Захид Акрамович, — сказал Юсуф, — верил вам. Но, оказалось, ошибся. — Давайте обсудим все по порядку, — предложил Захид. — Давайте. — Я вас не предал, никому о вас худого слова не сказал, ничего недостойного в отношении вас не совершил. — Не совершили? А это как назвать? Весь «Чинар» знает, что Азада — моя невеста, а теперь... Вы опозорили меня перед людьми. Разве настоящий джигит так поступает?! — Азада вас не любит, об этом весь «Чинар» знает, кроме... вас. — Странно, целый год встречалась со мной и вдруг... не любит. — Странно другое — вы за все это время не захотели понять, что нелюбимы ею. — Уезжайте отсюда, товарищ лейтенант, не ломайте моего счастья! — голос Юсуфа дрожал, он поднялся. — Я буду бороться за нее. — Сюда я приехал не по своей воле, — ответил Захид, — и оставлю «Чинар», когда прикажут. — За этим дело не встанет, — с угрозой произнес Юсуф. Уже уходя, зло прокричал: — Обязательно прикажут! — Но даже тогда Азада не достанется вам.XXVI
Дел было много, да кроме того хотелось быть в курсе расследования, и Захид без конца звонил в районное отделение милиции, справлялся, что нового сообщил им уста Нияз, каковы результаты повторной экспертизы. Не заметил, как наступил вечер. Он решил обойти кишлак, закрыл кабинет и вышел на крыльцо. На верхней ступеньке задумчиво сидел Маджид-тога. — Отдохните, Захидбек, — предложил секретарь. — Погода в эти дни совсем не летняя. Такого я что-то не припомню на своем веку. Видите, тучи... Из-за Кугитанга в сторону вершин Байсун-тау, цепляясь за острия скал, плыли тяжелые тучи. Но дышалось легче, чем утром и днем. Казалось, яблони и урючины в садике ожили, выпрямив поникшие ветки. Во дворике Маджида-тога было чисто, уютно. Когда хозяин и Захид устроились на чарпае в ожидании чая, из репродуктора, висевшего на дереве, раздался громкий голос диктора. Местное радио начинало вечернюю передачу. Сначала было сообщение о различных новостях в районе и области, а под конец выпуска вместо обычной сводки погоды передали предупреждение: «На отгонных пастбищах ожидаются сильные грозы!» Диктор трижды повторил эту фразу. Подобные сообщения приносят овцеводам тревоги и волнения. Грозы в горах — это особенно опасно! Ни один, даже самый мудрый чабан не решится предсказать, над какой из сотен долин разразится гроза, где обрушится на горные склоны ливень, вызовет сель, от которого в мгновенье ока ничего не останется на джайляу. — Небо в горах, брат, так же коварно, как и некоторые горянки, — прокомментировал сообщение диктора тога. — Грозы могут такое устроить... Но... говорят, сначала еда, потом деловая беседа. Прошу, — он протянул гостю пиалу с чаем. Не успел Захид полакомиться ароматным жареным мясом, которое только одним своим видом и запахом вызывало аппетит, как зазвонил телефон. Разыскивали Акрамова. Майор Махмудов приказал лейтенанту немедленно выехать к Шермату-ата и узнать точное местонахождение Халдара-бобо. — Срочное задание? — спросил Маджид-тога. — Нужно немедленно увидеться с Шерматом-ата. Я пойду, тога. Спасибо за хлеб-соль. — Жаль, не удался наш ужин. — Теперь уж в другой раз, — сказал Захид. ...Из «Чинара» Акрамов выехал, когда над кишлаком уже опустились сумерки. Прежде чем отправиться в дорогу, он заехал в гараж и заправил мотоцикл. Все это отняло более получаса. Он миновал брод, и вскоре дорога пошла по дну ущелья. В прошлый раз он проезжал здесь днем, и теперь пытался разглядеть запомнившиеся отметины — глыбу странной формы, камень особой раскраски. Но сейчас все глыбы и все камни, попадая в полосу света, были желтыми. Вскоре блеснула и первая молния, осветив небо и горы, четко обозначив вдали зубчатку главного хребта. Захид увидел, что на склонах соседних адыров, словно клубы дыма, стелются черные тучи. Спустя минут десять молнии начали вспыхивать по всему небу и так часто, что казалось, он находится не на горной дороге, а в громадном цехе электросварки. В их свете Захид видел, как тучи скатываются все ниже и ниже. Отчетливее слышались раскаты грома. И чем выше к этим тучам поднимался мотоцикл по горной дороге, тем сильнее грохотал гром. Тучи будто устроили на склонах адыров грандиозную сечу и жутким грохотом пытались оглушить смельчака, отчаявшегося приблизиться к ним. Но Захид не обращал внимания на разбушевавшуюся стихию. Все его мысли сейчас были сосредоточены на одном — выбраться на тропу, ведущую в сторону джайляу. Попасть на нее надо во что бы то ни стало, как говорится, с первого захода, иначе, точно самолету, не рассчитавшему посадку, придется снова и снова кружить по этой дороге. Вдруг при очередном всполохе молний Захид увидел лежавший невдалеке на склоне белый валун, похожий на огромную овцу, и две змейки-колеи, пробитые в траве мотоциклом с коляской, — вот она, точная примета. Помнится, мимо нее проезжал Юсуф. Машина шла совсем медленно, прощупывая светом фар каждый метр обочины — где-то здесь, среди нагромождения битого камня, должна быть едва заметная полоска тропки. Молнии осветили небо, и Захид увидел ее. Он осторожно свернул на тропу. Сначала предстоял резкий спуск, и машина сползла, точно на полозьях, затем начиналась гладкая, как в степи, дорога. Захид резко увеличил обороты мотора. Из-под колес с треском разлеталась мелкая галька. Начался дождь, он все усиливался и, наконец, обрушился таким ливнем, что Захид до нитки вымок в считанные секунды. Стена ливня была плотной, она отсекала свет фары в двух шагах, а там дальше, как в бездне пропасти, затянутое черной мглой лежало джайляу Шермата-ата. Захид решил оставить машину на гребне и продолжить путь пешком. Заглушив мотор, он достал из багажника свой тяжелый милицейский фонарь и, включив его, то и дело спотыкаясь о камни, пошел по скользкому склону.XXVII
Шермату-ата нездоровилось: дышать было тяжело, грудь сдавливала неведомая сила, все тело разбито. Бодом-хола напоила мужа отваром трав, и ночь ата проспал спокойно, но утром он вновь почувствовал себя неважно. ...К вечеру подул ветер. Сначала слабый, он быстро обрел крылья и разметал мглу над джайляу. Посвежело, и от того ата почувствовал себя лучше. Он вышел из юрты. В это время из пелены, внезапно окутавшей джайляу, вынырнул мотоцикл. Юсуф подкатил прямо к юрте, не слезая с седла, поздоровался с чабаном. — Куда путь держишь, джигит? — спросил ата. — На Чаппасу, — ответил Юсуф. — Еду по поручению Ярматова. — Ты без поручений нигде не бываешь, — заметил ата, — слезай, чаем напоим. — Спешу, ата, надо засветло добраться. — Ну, а завернул-то для чего, новость, видно, привез? — спросил ата. — Привез. — Выкладывай. — Азаду, любимицу вашу, — со злорадством сказал Юсуф, — вчера вечером люди вместе с новым участковым видели. Сидели они на скамеечке в сельсоветовском саду и обнимались. В «Чинаре» только и разговору, что об этом. Прощайте! — Жалеешь, что не с тобой ее видели? — крикнул ата вслед разворачивавшему машину Юсуфу. Его уже не занимала только что услышанная новость. Погода стремительно портилась, и это беспокоило Шермата-ата. На землю упали первые капли, а потом вдруг началось настоящее столпотворение — сплошная стена дождя стояла над джайляу. Ата побежал к сыну, чтобы помочь пригнать овец. — На адыр надо было сразу гнать, — с тревогой произнес ата, видя, как вода отрезает выбранный ими участок суши от склонов. — Пока не поздно, перегоним? — спросил Рахим. — Воды сейчас еще не очень много. — Нет, Рахим. Мы будем здесь возиться с овцами, а мать там с ума сойдет, не зная, где мы и что с нами. Ты, сын, побудь здесь, а я поспешу к матери. — Хорошо, ата. — Главное — следи, чтобы поток не утащил какую-нибудь овцу. Иначе... все остальные бросятся за ней, решив, что это вожак показал пример, понял? — Понял, ата. А вода все прибывала, и у чабана уже не оставалось надежды, что сель промчится мимо, оставив лишь грязный след. Шермат-ата стал уже беспокоиться и за юрту. Он взял второй фонарь и обошел ее со всех сторон. Убедился, что юрта пока вне опасности. Поспешил к кутану и тут обнаружил, что поток начал подмывать стены с обеих сторон. «Не дай аллах обвалится стена, — подумал он, — овца упадет в воду — конец всему. Вся отара окажется в мощном потоке». — Хола, иди сюда, да побыстрее! — позвал ата жену. — Где вы, дадаси, — спросила хола, — я ничего не вижу. — Иди на свет, на свет! — крикнул ата и начал размахивать фонарем. — К кутану, к кутану иди! Она подошла минут через пять, но время это показалось старику вечностью. Найдя сравнительно мелкий брод в потоке, ата помог жене перейти на левый берег, отдал фонарь и приказал: — Стой здесь, я буду переносить овец и подавать тебе...XXVIII
Захиду немало пришлось попетлять, преодолевая потоки. Он ненамного ошибся в своих расчетах и вышел всего лишь метров на двести выше юрты. Оттуда лейтенант заметил тусклую точку «летучей мыши», раскачивающейся на ветру. Захид направился к ней вдоль бурного и шумящего, точно настоящая горная река, потока, ширину которого даже острый луч его фонаря не мог охватить. Пенящиеся волны этой реки уже несли кусты тамариска и небольшие деревья, вырванные с корнем. А со склона, через каждые пять-шесть шагов, в реку эту вливались новые ручьи, и Захиду стоило немалых трудов перебираться через них. Наконец, он оказался против юрты, но подойти к ней не мог — здесь клокотала вода. — Э-гей, — позвал Захид, — есть кто-нибудь? Послышался лай собак, а затем голос Шермата-ата, приглушенный, хриплый: — Сюда, сюда, идите к кутану! Я здесь! Захид пошел в сторону кутана прямо через ручьи, вода кое-где была уже по пояс. Вскоре из тьмы вынырнули собаки чабана, а еще через некоторое время он заметил и второй огонек. Бодом-хола стояла по колено в воде и держала фонарь, приподняв его над головой. — Ассалом алейкум, хола, — громко поздоровался Захид. — Ваалейкум, — ответила старуха, не повернувшись, лишь переступив с ноги на ногу, пропуская, видно, зацепившуюся ветку янтака. — Хорошо, что приехали, а то отец наш совсем выбился из сил. Захид снял с себя китель, хотел было снять и сапоги, но тут из воды, вернее, из гущи ночи над ней, точно призрак появился чабан, держа в руках присмиревшую овцу. — Сапоги не следует снимать, — сказал ата вместо приветствия и протянул Захиду овцу. — Вода несет столько камней, не дай бог, зашибете ногу! Захид принял овцу и поставил на берег. Подобрал с земли прутик и хлестнул ее по ногам. Овца побежала вверх по склону, туда, где светились, точно изумрудные точки, глаза ее сородичей. — Идите за мной, здесь не очень глубоко, — сказал ата. Через минуту они выбрались на другой берег. Став на твердую землю, Захид пересек двор и увидел, что и по ту сторону клокочет поток, еще сильнее, чем здесь. — Где вы, Захидбек? — услышал он голос чабана. — Иду, — крикнул Захид и повернул обратно. — Проклятье, — выругался ата, когда лейтенант подошел к нему, — никогда не думал, что сель может обрушиться на мое джайляу. Они вошли в помещение, и Захиду показалось, что темнота во дворе по сравнению с той, что здесь, — не темнота, а так — сумерки. Как слепой, с вытянутыми руками, он двинулся в дальний угол кутана. В лицо ударило теплым дыханием овец, и он, нагнувшись, сгреб в охапку трепещущее от страха животное и понес его к выходу. За ним, чавкая полными воды сапогами и тяжело дыша, шел ата. — А я ведь по делу к вам, ата, — сказал Захид, когда они, поставив овец на берегу, повернули назад. — По какому? Если не очень важному, то... может, потом, а? — Дело важное, ата. Мы разыскиваем чабана по имени Халдар-бобо. — Я такого чабана вообще не знаю. — Ата взобрался на берег и подал руку Захиду. — Зачем он вам? — Нужен. — Нет, Захидбек, не знаю. — В тоне старика слышался упрек — мол, видишь, что творится, а ты... нашел время! «Ладно, — решил Захид, — о Халдаре разговор и в самом деле никуда не уйдет, главное сейчас — спасти овец». ...Отара дала о себе знать издалека — сотнями тревожно блеющих голосов. Овцы тесно сгрудились на все убывающем участке суши. Сквозь отару пробиться было невозможно, пришлось обогнуть ее и, проваливаясь в воду, идти вдоль кромки берега. Наконец, Захид увидел Рахима. Тот стоял по пояс в воде и, ухватившись за рога козла-вожака, пытался стащить его в поток. — Как вы тут, Рахимджан? — спросил Захид, подталкивая вожака сзади. — Да вот, бьюсь, — ответил юноша, и по голосу было видно, как он измучился, — ягнят я всех перенес на тот берег, а овцы, сами знаете, без этого истукана шагу не сделают. А он словно в землю врос, проклятый. Вы-то давно здесь, Захид-ака? — Порядочно! Ну, взял! — лейтенант мощным рывком сдвинул козла с места, столкнул его в воду, и тот покорно пошел за Рахимом. — Гёль, гёль, — по-чабански стал выкрикивать Захид, сгоняя в воду овец, и те сначала робко, а затем всей массой ринулись в поток. Чтобы ни одна овца не потерялась, он встал ниже по течению, не переставая подгонять: — Гёль, гёль, гёль! Рахим оставил вожака на противоположном берегу мощного потока и поспешил на помощь Захиду. — Теперь отара спасена, ака. «Чем она занята сейчас? — подумал Захид об Азаде. — Может быть, думает обо мне, волнуется за меня?!» — Овцу понесло, — вдруг крикнул Рахим. Захид вздрогнул — нашел время для сладких грез! Он увидел черную точку в пене высоких волн. — Плавать умеешь? — А там мелко, ака... — Рахим бросился за овцой и, достигнув середины потока, сразу же провалился по грудь. Вязкий от грязи поток стремительно увлекал его вниз. — Захид-ака! — закричал беспомощно юноша. — Помогите! Лейтенант бросился спасать парня. С трудом добравшись до Рахима, он схватил его за вздувшуюся пузырем рубашку и поплыл к берегу. Обессилевший Рахим совсем не помогал ему. И течение все дальше и дальше уносило их, приближая к Каракыру, нависшему над долиной черной громадой. Захид не мог не видеть, что поток, несущий их, ударяясь о скалу, как бы опрокинувшись и сделав крутой вираж, падает в огромную воронку. В нескольких метрах от нижней кромки скал Захид почувствовал под ногами землю, оперся о нее, подтащил Рахима и, собрав последние силы, вытолкнул парня на берег. В это время накатившаяся сзади мощная волна подхватила Захида и понесла к скалам. Оказавшись на гребне волны, которая через какую-то секунду, ударившись о скалы, упадет в воронку, Захид неимоверным усилием попытался ухватиться за острие выступа. Это ему удалось, и он чудом повис на камне. Минуту-другую он был словно в каком-то забытье, и лишь руки крепко обнимали спасительный камень. Придя в себя, Захид начал прощупывать ногами камни, чтобы найти опору. Осторожно наступил на один, но камень тут же ушел под воду, чуть было не сорвав его самого. Теперь Захиду хорошо была видна бурлящая воронка. Он понимал — одно неверное движение и... конец! «Надо использовать силу самой волны, — мелькнула мысль, — чтобы выбраться». Рассчитав, когда появится следующая волна, он, словно бы оперевшись о ее гребень, рывком подтянулся, а когда волна повернула обратно, оказался на плече глыбы. Волна перекинула его, точно суму через седло. Он ударился грудью о камень и потерял сознание.XXIX
Халдар знал хорошо своего преследователя и потому спешил. Он знал, правда, что бегством ему не спастись. Нельзя убежать от самого себя, от собственной трусости, от животного страха, который следует за ним по пятам вот уже более сорока лет. Страх этот уж давно превратил Халдара в существо без роду и племени, в изгоя, обреченного на вечное одиночество. Впервые он испытал это липкое, унизительное, раздавившее его волю и честь чувство страха летом 1943 года под Курском. В тот день земля, кажется, проваливалась в преисподнюю, а небо обрушивалось на людей грохочущим адом. Вместе с товарищами Халдар, тогда еще красноармеец Гулям Бердыев, лежал в окопе и молил неведомого аллаха об одном: сохранить ему жизнь. Вспыхнула ракета, из окопов с криком «ура!» устремились вперед товарищи, но Гулям так и остался лежать в своем убежище. Страх сковал его тело, его разум и волю. Лишь глубокой ночью, когда раскаты боя доносились уже издалека, он, точно змея, выполз из окопа и подался к темнеющему неподалеку лесу. Гулям понимал, что возвратиться в далекую Сурхандарью будет нелегко, но страх изобретателен и жесток. Положив на пенек два пальца левой руки, дезертир отсек их ножом штыка. Перевязав руку бинтом из индивидуального пакета, он вышел утром из леса и смело направился на восток. И никто не спросил документов, наоборот, каждый, кто встречался с ним, в меру сил старался помочь. Все знали: солдат пролил кровь в бою. Вот так, пользуясь доверчивостью и состраданием советских людей, Бердыев добрался до Сызрани, а там сел на товарняк, идущий в Сталинабад. В родной кишлак он пришел поздней ночью. Когда жена и двое сыновей, плача от радости, бросились ему на шею, Бердыев на какое-то мгновенье и впрямь почувствовал себя человеком, заслуживающим такую встречу. Но потом жена решила пригласить соседей, и чувство это исчезло, как дым. — Не надо, — сказал он, опустив глаза, — лучше, если о моем возвращении в кишлаке не узнают. Поправлюсь, уеду на фронт, а там... если суждено, вернусь, как все! Жена поняла, в чем дело, но заявить в сельсовет на отца своих детей не решилась. Недели три она прятала его от чужих глаз, но, как говорят в народе, нельзя подолом закрыть луну. Подруги, работавшие с нею на ферме, стали замечать, что с нею творится что-то неладное, начали расспрашивать, предлагать помощь. А она и в самом деле извелась вся, шутка ли, муж — дезертир. А тут еще пришло извещение о том, что муж ее, красноармеец Гулям Бердыев, пропал без вести. Это-то известие словно подхлестнуло женщину, сделало решительной и смелой. Она предложила мужу или уйти из ее жизни навсегда, или вернуться в дом солдатом. Страх овладел им. Он ушел из дома. Ушел, чтобы больше никогда не вернуться. Несколько лет прожил дезертир в горном кишлаке, куда можно было попасть только в знойные дни саратана, в остальное время перевалы заваливал снег. Жил под именем Халдара Шакурова, жил, не зная покоя. Вздохнул он более или менее свободно, когда у чабанов стали появляться личные овцы. Такие чабаны не спрашивали документов, договаривались об условиях оплаты — и работай на здоровье. У Халдара теперь была работа, появилась возможность прожить остаток дней спокойно... Но капитан Халиков перепутал все карты. Халдар узнал его сразу, хотя не видел четверть века. Да, это был тот самый сержант Халиков, с которым довелось вместе служить. Халиков тогда на фронте обрадовался, узнав, что с Бердыевым земляки. Армия готовилась к наступлению, дел было невпроворот, но сержант находил время и частенько заглядывал в окоп земляка, чтобы вновь и вновь расспросить о родной Сурхандарье. А когда в небе повисла ракета — сигнал к атаке, Халиков одним из первых бросился вперед. Это Халдар успел заметить... Халдару показалось, что и капитан узнал его, но не подал виду. И хотя разговор между ними поначалу велся о вещах, далеких от прошлого, страх снова вселился в душу Халдара. В тот день капитан спустился с ним с гребня Кугитанга, опираясь на палочку. На поясе висела кобура с револьвером, а на плечах — ружье. Он поздоровался с ним и представился: — Я участковый уполномоченный по совхозу «Чинар» капитан Халиков. Прошу предъявить документы. Палван, напарник Халдара, протянул паспорт, и капитан, просмотрев документы, вернул его обратно. А вот трудовую книжку колхозника, выписанную на имя Халдара, положил в планшет. — Чьих овец пасете? — спросил Халиков. — Колхозных, — поспешно ответил Палван. — Какого именно колхоза? — Имени Калинина, Миркинского района, — вставил Халдар, а сам подумал: «Пока милиционер выяснит подробности, пройдет три-четыре дня, за это время отару можно спрятать в какой-нибудь пещере». — Ну что ж, проверим, — спокойно сказал капитан и попросил Палвана поймать любую овцу. Палван не спешил выполнять просьбу, тогда Халиков сам ухватил одну из овец, глянул на ухе и, не обнаружив бирки, покачал головой: — Овцы личные, зачем лжете? Чьи они? — Если по правде, ака, — тихо проговорил Палван, — то это отары чабанов туркменского колхоза. — Допустим. Назовите их фамилии. — Мы не знаем, — ответил Халдар. — Так не бывает, Шукуров, — усмехнулся капитан, — уж вы-то об этом, как человек много проживший, отлично знаете. Надеюсь, и меня не принимаете за глупца? Ну что ж, — заключил Халиков, не получив ответа, — если трудно вспомнить здесь, придется это сделать в «Чинаре». — А почему именно мне? — нервно спросил Халдар. Он боялся, что капитан, выясняя его личность, докопается до прошлого. — Собирайтесь, Шукуров, — приказал капитан, — или прямо здесь выкладывайте правду. Я и сам догадываюсь, чьих вы пасете овец. Однако мне нужны не догадки, а точные данные. Если же вы дадите верные показания, вина ваша будет меньше. — Какая вина? — переспросил Халдар. — Мы трудимся, а труд — это не преступление. — Ну, это как посмотреть, — сказал Халиков. — Вы пасете незаконных овец. Разве вы не знаете об этом? Знаете. Кстати, почему в отаре ягнят мало? — Прирезали на смушку. Часть продали, около двухсот штук отвезли хозяину. — Шерсть тоже ему отвозите? — Нет, продаем. — Кому? — У нас покупатель оптовый, — ответил парень, — уста Нияз из Чукургузара. — Вот что, Шукуров, все, что вы мне здесь рассказали, придется говорить в «Чинаре». Может быть, и очная ставка понадобится, так что... Идемте. — Пусть Палван идет, товарищ капитан, — сказал Халдар. — Он помоложе меня, ему легче делать такие переходы. — Ему лучше остаться при отаре, — жестко заметил Халиков. — А вы не волнуйтесь, задерживать я вас не собираюсь, отпущу сразу же. Кекликов по дороге постреляем, а устанем, так передохнем. Халдар нехотя пошел за капитаном. — На фронте были? — спросил капитан. Халдар вздрогнул. «Вот оно, начинается». — Одно названье, что был, — соврал он. — До передовой так и не доехал, эшелон разбомбило, два пальца вот осколком оторвало. — А сами откуда? — Из Лянгара, — ответил Халдар, подумал: «Лянгаров в Узбекистане немало, пусть догадывается сам, из какого именно». — Внуки есть? — поинтересовался Халиков. — Наверное, — ответил Халдар и заметил, что капитан посмотрел на него с недоумением. Он тут же взял себя в руки. — Двое сыновей было у меня, когда я с женой разошелся, маленькие. Теперь, конечно, женились они, детей растят. — Давно разошлись? — В последний год войны. Я вернулся домой и... — А она с бригадиром любовь закрутила? — Если бы любовь! — вздохнул Халдар, поблагодарив мысленно капитана за то, что подсказал ход, который может оправдать многие его поступки. — Бывает, — сказал Халиков. — Несчастье порой выбивает человека надолго из колеи, иные так и не находят себя. Но это — редко. Как правило, время излечивает и не такие травмы. Скажите, а где вы служили? И вновь Халдара словно кнутом ударили, он даже съежился. — В армии, конечно, — пробормотал невнятно. — В каких частях, я имел в виду? — В пехоте, а что? Капитан оживился: — Я тоже был пехотинцем, брат. Они уже шли по другую сторону хребта. Тропа петляла меж стволами вековой арчи, ветки которой были серыми от пыли. — А вы давно в этих краях? — спросил Халдар. — Родился и вырос в «Чинаре». Они вышли на прямую тропу, которая вела в ущелье. На этом месте Халиков подстрелил кеклика. Дальше двигались молча. «Капитан узнал меня, — думал Халдар, — это точно. Не зря он завел разговор о фронте, о войне. Не подает, правда, виду, но, судя по всему, что-то замышляет». Он то и дело бросал настороженные взгляды в сторону Халикова. «Что делать? — лихорадочно размышлял чабан. — Надо найти какой-то выход, иначе — всему конец». Халдар первым дошел до края ущелья. Он немного спустился по тропе и сразу же оказался за выступом, так что капитан его уже не мог увидеть. Решение пришло мгновенно. Когда участковый оказался рядом, он что было сил толкнул его. Капитан полетел в пропасть. Халдар осмотрелся. Ущелье было пустынным, только шумела река. Чабан спустился вниз и, убедившись, что Халиков уже ни о чем не сможет рассказать, повернул обратно. В отаре появился глубокой ночью. Ни слова не сказал о происшедшем своему напарнику. А через некоторое время он узнал, что в «Чинаре» появился новый уполномоченный, беспокойный человек, которому до всего есть дело. ...И вот теперь он уходил с джайляу, еще сам не зная куда. Халдар отошел на приличное расстояние, когда услышал за спиной раскаты грома. Оглянулся и увидел вспышки молнии. Преодолевая адыр за адыром, под утро он оказался на Кизирыкском массиве Шерабадской степи. Выйдя к асфальтированной дороге, подождал, пока подвернется попутная машина. Машина мчалась по территории нового района. Вдоль дороги поднимались молодые деревца, в бетонированных руслах арыков бежала прозрачная вода. На хлопковых картах тарахтели тракторы, похожие издали на зеленых кузнечиков. Поражали своей белизной поселки целинников. Издали они были похожи на города. «И куда еду? Кому я нужен? — горько размышлял Халдар. — Вон, куда ни посмотришь, полно стариков, моих сверстников, но все они довольны жизнью. Им не надо скрываться. Не надо никуда бежать. И я мог бы вот так беззаботно жить в старости...» Он вдруг беспокойно заерзал на сиденье. «И правда, куда бежать-то, где скрываться? И так всю жизнь прятался от людских глаз!» Халдар вдруг почувствовал себя усталым, опустошенным. «Ну нет, с меня хватит. Никуда не поеду. Нет сил больше прятаться, — неожиданно для самого себя принял он решение. — На станции отправлюсь в милицию, скажу: — Я дезертир, в сорок третьем бежал с поля боя, судите меня! Моя фамилия Бердыев, имя — Гулям!» Пока ехал до станции, так и этак обдумал пришедшее внезапно решение. Ему казалось, что признание в дезертирстве само собой снимет с него подозрение в убийстве капитана Халикова. «А за то, что сбежал когда-то, много не дадут, — думал он, — государство, наверно, уже простило таких, как я». На станции, куда привез его паренек, он явился в отделение милиции и все рассказал молоденькому лейтенанту. — Хорошо, бобо, — сказал тот и запер старика в КПЗ, а сам позвонил в район дежурному внутренних дел и доложил: — Человек, которого разыскивает отдел уголовного розыска, только что пришел сам, но под другой фамилией.XXX
Захид очнулся под утро. Он попробовал повернуть голову. Это ему удалось. Тогда он поджал ноги и, опершись о край выступа, попытался втиснуться в глубь щели. Тело его казалось одеревеневшим, и ему с большим трудом удалось сесть. «Интересно, где сейчас Рахим», — подумал он. Захид помнил, что парень выбрался из воды неподалеку отсюда, громко крикнул: — Рахи-и-им! Эгей, Рахи-и-им-джа-а-ан! А рассвет наступал удивительно быстро. Фиолетовое пятно над Бабатагом стало светлеть и, ширясь по небосводу, гасило звезды. «Надо как-то выбраться отсюда», — наконец решил Захид. Подняться в полный рост не позволял каменный козырек, и Акрамов двигался к краю выступа, сидя, отталкиваясь здоровой левой рукой. Добравшись до края, Захид увидел, что от земли его отделяет отвесная стена, примерно, метра два высоты. Что делать? Не сидеть же здесь вечно! Он прыгнул. Острая боль пронзила все его тело. Захид потерял сознание. Он не знал, сколько времени лежал вот так в грязи, у подножия Каракыра, но когда пришел в себя и открыл глаза, увидел склонившегося над собой Рахима. Захид попытался встать, но не мог. — Живы? — спросил Рахим и улыбнулся. — Как будто, — ответил Захид. — Ой-бо-о, а отец уже... — Шермат-ака решил, что мне — конец? — Из подобных водоворотов еще никто не выходил живым. — Меня не успело засосать в воронку, брат. На гребне волны я выплыл вон туда, — Захид кивнул на выступ. — Не двигайтесь, ака, отец за носилками пошел, сейчас он придет. — Не привык я в грязи валяться. А ну, помогай! Рахим опустился на колени, подложил руки под спину Захида. Захид, стиснув зубы от боли, встал. — Теперь пошли, — сказал он, когда боль поутихла. Земля была скользкая, грязь тяжелыми комьями прилипала к сапогам. Захид то и дело спотыкался о камни, а боль всякий раз отдавалась в груди. — Много животных погибло? — спросил он Рахима. — Совхозных три овцы и несколько ягнят, зато у отца... Надо же, — простодушно воскликнул Рахим, — этот грязный тип Халдар пригнал сюда овец перед самым селем, будто нарочно это сделал! — Его фамилия Шукуров? — Кто его знает, может и Шукуров! Отец его где-то отыскал. — Он пас ваших овец? — Не только наших. — На Кугитанге? — Да, там. — Когда этот Халдар был на джайляу? — Перед самым селем, ну, может, часа за полтора. — Что же вы сразу мне не сказали, — с досадой произнес Захид, — куда он ушел? — Не знаю. Чабан спешил. С самодельными носилками подошел Шермат-ата. Старик не мог скрыть удивления. Он принялся расспрашивать Захида о самочувствии. — Жив — это главное, — отметил Захид, решив не ссориться со стариком. — Как вы перенесли бедствие? — Слава аллаху, пронесло, — ответил, облегченно вздохнув, ага. Он боялся упреков со стороны лейтенанта и, не услышав их, несколько успокоился. — Стена кутана чуть не придавила, проклятая! Если бы не овцы... — Давно ли Халдара Шукурова знаете? — перебил его Захид. — А в чем дело? Вы и вчера, помнится, о нем спрашивали? — ата решил уклониться от прямого ответа. — Этот человек совершил преступление. — Какое, если не секрет? — Халдар-бобо подозревается в убийстве Саита Халикова, — сказал жестко Захид, решив, что теперь нетсмысла скрывать это от чабана. — Куда он ушел? — О аллах, — растерянно воскликнул ата, — а я думаю, чего этот бродяга все по сторонам озирается и торопится?! Знал бы я, что он так с Саитом обошелся, да я бы его... своими руками задушил. Старик продолжал охать, а Захид размышлял: «С тех пор, как ушел Халдар с джайляу, прошло около семнадцати часов, далеко уйти он не мог. Видно, чувствует, что ищут его, и сбежал. Показываться в многолюдных местах он, конечно, не решится, значит, вынужден будет скрываться где-то в горах. Надо немедленно сообщить в райотдел и начать поиски». — По какой дороге Халдар пригнал отару, ата? — По дороге? Будь он проклят, этот бандит, загнал совсем овец. Через седловину Байсун-тау гнал, да еще на пути — сотня адыров и саев. «А наши искали его на Кугитанге», — усмехнулся Захид. Они подошли к стойбищу Шермата-ата. Проходя мимо кутана, Захид заметил, что сель поработал здесь вовсю. Треть помещения была снесена. — Это ерунда, — сказал ата, перехватив взгляд Акрамова, — починим. Жаль, что вот Халдар сбежал! — Не уйдет. Бодом-хола, завидев их, начала было хлопотать у дастархана, но Захид отказался завтракать, он попросил Рахима срочно отвезти его в райцентр. — Как же так, сынок, — покачала головой Бодом-хола, — надо хоть немного подкрепиться! Посмотри, на кого ты похож! — В другой раз, хола, а сейчас надо спешить. — Вай, сынок, разве так можно?! — не унималась старушка. — Ладно, не мешай, старая, — строго взглянул на жену ата, — пусть едет, пока этот негодяй Халдар далеко не ушел! — А зачем ему Халдар? — спросила хола, когда молодые люди уехали. — Как зачем?! Этот бандит Саитджана убил, понимаешь?! — Ата весь затрясся от злости. — О небо, что ты наделало! Руками моего чабана убило единственного друга! Шермат-ата обхватил руками голову и застонал от невыразимой душевной муки.XXXI
— Отцу Захида сообщили о случившемся? — спросила Азада, когда Рахим, возвращаясь из райцентра, заехал в «Чинар» и рассказал ей обо всем, что произошло на джайляу. — Наверное, — ответил Рахим, — я ведь сначала его в милицию повез. Так он приказал. — Сухарь! — упрекнула Азада брата. — Захид-ака из-за тебя чуть не погиб, а ты... — Чего ты кричишь, — разозлился Рахим. — Да мне, хочешь знать, вовсе не до того было. Слава богу, что живым в больницу доставил. Азада побледнела, спросила дрогнувшим голосом: — Что сказали врачи? — Сказали — скоро поправится. Азада опустила голову, чтобы скрыть набежавшие слезы. — А как мама с папой? — спросила наконец Азада. — Здорово намучились они, — ответил Рахим. — Всю ночь не спали, вымокли до нитки. Кутан, правда, развалился. Ну, хоп, я поехал. ...Вечерело. На «Чинар» падала тень вершин Кугитанга, а над дальними адырами все еще продолжался день. Азада отправилась на ферму. Нужно провести вечернюю дойку. Освободилась, когда уже всюду зажглись фонари. Девушка зашла на почту, заказала переговоры с правлением колхоза, где жили родители Захида. Оказалось, что там пока ничего не знают о случившемся. Секретарь партийной организации, с которым она разговаривала, пообещал немедленно сообщить матери и отцу Захида. Домой не хотелось идти. На душе было как-то неспокойно. Она подумала вдруг о Сахро, и почувствовала почему-то за собой вину. Может быть, сходить к заведующей. Поговорить по душам. — Что случилось? — спросила Сахро, увидев входящую Азаду. — A-а, Азадахон, — улыбнулся Улаш-ака, как всегда, появившись из кухни с миской плова, — очень кстати пришла. Значит, свекровь добрая попадется тебе, примета такая есть. — Он поставил миску на стол и спросил: — Ну, как дела твои? — Спасибо, муаллим, — ответила девушка, — ничего. — Ну, если так, садись поближе к столу, ужинать будем. После ужина, когда Улаш-ака, собрав пустую посуду, отправился на кухню, Сахро не очень-то ласково осведомилась: — Что же случилось? — Захид-ака попал в больницу. — Вай-уляй! Когда это произошло? — в голосе Сахро звучало неподдельное сочувствие. — Сегодня, апа, — ответила Азада. — Спасал вчера во время селя колхозную отару, попал в водоворот и покалечился. Слышавший рассказ Улаш-ака подошел к столу. — Надо навестить человека, — произнес он, — завтра же! Молодец, Азадахон, что известила нас о беде! — Недаром столько лет проработал Улаш-ака педагогом. Он понимал людей, понимал их душевные движения. Догадался старый учитель, почему именно к ним пришла Азада. Девушка любит лейтенанта. Она стесняется сама навестить его. Ее приход — это мольба о помощи. — Я и зашла к Сахро-апа, чтобы посоветоваться, — сказала тихо Азада. — Отлично сделала, — подбодрил ее Улаш-ака. Сахро с грустью посмотрела на Азаду. Она давно поняла, с чем пожаловала сегодня ее бывшая подруга. Девушка пришла за помощью. Нет и следа ее былой самоуверенности. В глазах мольба. Откуда ей знать, этой юной счастливой Азаде, какие душевные муки терпит Сахро, женщина, не видавшая настоящего счастья! Не сбыться последней мечте, последней надежде. Азада отняла их у нее. — Ты хочешь, девочка, чтобы мы с Улашем-ака навестили Захида? — усталым голосом спросила она Азаду. — Ведь за этим ты пришла? Девушка вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась. Сахро встала, подошла к ней, положила руку на вздрагивающее девичье плечо. — Ну, ну, не плачь. Завтра же мы отправимся к твоему любимому, и ты тоже. — Сахро-апа, — девушка смущенно смотрела на свою заведующую. — Простите. Я чувствую себя виноватой. Улаш-ака сделал вид, что не понимает, о чем речь. А Сахро грустно сказала: — Ну что ты, девочка! В любви виноватых нет. ...Кровать Захида стоит у окна. Мать, сидевшая рядом, заметила, что, увидев кого-то во дворе, сын оживился. Она подошла к окну, спросила: — Из «Чинара»? Сын молча кивнул. — Которая из них? — Что «которая», — сделал Захид вид, что не понял материнского вопроса. — Ну, невеста-то твоя? — улыбнулась мать. — А вон та, юная. — Хорошенькая. Гости пробыли у Захида около часа. Сахро незаметно поглядывала то на Азаду, то на больного. «Каким счастьем, какой радостью светятся их глаза, — думала она с тоской. — Да, их любовь подобна селю, сметет все преграды на своем пути». — Ладно, дети мои, — сказала мать Захида, — вы посидите немного, а я подругу проведаю, она в сердечном отделении лежит. Где это, а? — В терапии, — сказал Захид, — я провожу вас. — Пожалуй, это лучше сделаем мы с Сахрохон, — вмешался Улаш-ака. — Я там лежал, хочу с доктором своим поговорить. Они вышли, оставив Захида и Азаду наедине. — Спасибо, — сказал Захид, взяв руку девушки в свою. — За что, Захид-ака? — За все. Азада неожиданно прижалась к перебинтованной груди Захида, прошептала: — Я верю вам, Захид-ака. Я так вам верю!...Любовь Арестова Тайна двойного убийства


Дополнительное расследование

ГЛАВА 1
Главный инженер станции технического обслуживания автомобилей под романтическим названием "Радуга” Иван Сергеевич Гулин недоуменно пожал плечами, глядя, как вздрагивает тонкая филенчатая дверь его кабинета. С чего разъярилась его посетительница? Ишь, как грохнула! Принимать ее он не был обязан. Надо было отправить ее вначале к диспетчеру, тогда бы узнала цену его разговора и участия! Замена кузова не простая операция, вечно с нею морока. Дефицит — одно слово. Но ей кузов обещали. Иван Сергеевич вздохнул — вот она, благодарность. Глянул на успокоившуюся дверь, взял хрусткий светло-коричневый конверт, оставленный женщиной. Большой конверт, канцелярский. "Нам бы такие заказать”, — отметил про себя, снял скрепку, держащую незаклеенный мысок, не глядя достал из конверта белый сверток бумаг. Развернуть их он не успел. Дверь широко, до упора распахнулась, в кабинет стремительно вошли какие-то люди. Один — в форме капитана милиции, накрыл рукой желтый конверт и дрогнувшие пальцы Гулина с белым свертком. Иван Сергеевич попытался выдернуть пальцы, но не смог. Растерянный взгляд главного инженера выхватил из стоящих у двери людей бледное лицо недавней посетительницы. Она не мигая смотрела на письменный стол, на руки капитана и беззвучно шевелила неестественно яркими губами. — Гулин? — властно спрдсил капитан, но Иван Сергеевич не ответил, только кивнул. В горле стоял горький ком. — Вы подозреваетесь в получении взятки, — услышал он жесткие слова капитана и весь похолодел: "Вот оно, вот оно как бывает”, — забилась в мозгу фраза. — Прошу подойти понятых, — это голос другого человека, в штатском, что как-то успел уже встать за спиной Ивана Сергеевича. Капитан убрал руку, взял из безжизненных пальцев Гулина белый сверток, развернул. Зеленые купюры, аккуратные, новые, блестящие… Деньги. С этой минуты для Ивана Сергеевича наступила другая жизнь. Совсем в других измерениях.ГЛАВА 2
В пустом коридоре шаги звучат гулко, из открытых форточек тянет свежестью раннего летнего утра. Я люблю приходить на работу пораньше, летом — особенно. Кажется, отдохнувший за ночь кабинет помогает собраться с мыслями. Никто еще не сидит в коридоре, молчит телефон и неотложные вопросы скромно ждут, за какой из них я примусь в это неурочное время. Словно понимают: в такой час обстоятельствами командую я. Сегодня нужно отпечатать обвинительное заключение по уже законченному делу. Мне нравится печатать самой — видеть, как мысли обретают форму слова и ложатся на бумагу. Ровно, аккуратно — я умею печатать. Дело помню наизусть — все детали, оттенки, доказательства. Листаю, лишь когда цитирую свидетельские показания или заключения экспертов. Поистине золотые утренние часы. Работа уже подходила к концу, когда раздался резкий телефонный звонок. Аппарат внутренней связи был угловатым, маленьким, а звонил громко и раздраженно. Сколько уже раз просила я заменить телефон, но у завхоза прокуратуры не доходили руки, а у меня недоставало времени настоять на своем. Вызывал прокурор. В длинном узком кабинете прокурора, далеко отодвинув стул от традиционной приставной тумбы, сидел заместитель прокурора Захожий. Щегольской серый костюм и светлая рубашка резко контрастировали с необычно багровым лицом. Захожий был вне себя — даже уши пылали, даже упала на вспотевший лоб черная прядочка из аккуратной прически, а он и не замечал этого. И прокурор, наш обычно невозмутимый, корректный Буйнов, которому так не подходила его фамилия, едва сдерживался — я успела хорошо его изучить за пять лет совместной работы. На мое приветствие Захожий едва кивнул, а прокурор, поздоровавшись, указал на стул: — Садитесь, Наталья Борисовна. Я села напротив Захожего, и он, заметив мой удивленный взгляд, поправил, наконец, прядочку. Просто-таки вложил ее в рядок аккуратных блестящих волн — осторожно, ладонью с оттопыренным мизинцем. — Вот, — прогудел Буйнов, подчеркнуто обращаясь только ко мне, — вот до чего мы дожили, — и прихлопнул широкой короткопалой ладонью том уголовного дела, лежащий на полированном столе. Бежевая обложка дела испещрена записями и номерами, по которым я угадала безошибочно: дело побывало в суде — вот он судейский номер — и вернулось в прокуратуру. "Значит, доследование”, — поняла я и невольно вздохнула. Такой брак и в чужой работе был позором для всех. Его переживали даже те, кто к расследованию не имел отношения. — На дополнительное расследование, — подтвердил Буйнов мою догадку, — удружил нам товарищ Захожий. Дорвался до власти, — он повысил голос. — Я па-апрашу, — привстал со стула Захожий, но Буйнов, не глядя, поднял в его сторону ладонь. Захожий понял, умолк. — Выслушаем вас еще, это я вам обещаю, — сказал прокурор, все также не глядя в сторону своего заместителя, — а сейчас давайте к делу приступать. Буйнов помолчал и добавил с горечью: — К дополнительному расследованию. Стало ясно, зачем я здесь: придется проводить это самое дополнительное расследование. Попыталась и не могла вспомнить — какие сложные дела были у Захожего месяц-другой назад. Нет, не было у него таких дел, ничего особо сложного мы не обсуждали. А в прокуратуре у нас неукоснительно соблюдалось правило: по серьезным делам советуемся, помним долго и потом следим, как пройдет дело в суде — самую справедливую и строгую оценку нашей работе дает все-таки суд. Так по какому же делу брак? Молчание в кабинете стало тягостным. Наконец прокурор сказал Захожему: — Вы можете идти. И к делу прошу не подключаться. Вы слышите? — он опять чуть повысил голос: — Никакого вмешательства — ни здесь, в прокуратуре, ни на станции технического обслуживания! ’’Взятка на СТОА”, — догадалась я. Вот какое дело возвращено на дополнительное расследование. Что же там? Дело связано с арестом, и сомнений у Захожего не вызывало — вот и все, что я знала о нем. Конечно, доследование — всегда ЧП, всегда разбор и разнос, однако же Буйнов сейчас явно выходит из обычных рамок. Все это настораживало, беспокоило. "Везет мне”, — уныло подумала я. Доследовать всегда сложнее, чем идти по свежим следам, — знаю по опыту. Захожий не прощаясь вышел. Черная прядка волос опять упала на лоб, но он ее не поправил. Прокурор положил на полированную тумбу дело в уже потрепанной обложке. — Вот, — тихо сказал он, — придется тебе, Наталья, разбираться. Кто тут прав, кто виноват? С первого раза, как видишь, не поняли. Когда Буйнов обращался ко мне вот так неофициально, по имени, я знала — он ждет от меня полной, что называется, выкладки. Доверяет. Надеется. На меня надеется. Кому как, а мне это нравилось. Старый, опытный прокурор был со мной на равных — приятно. Хоть меня тоже новичком не назовешь — работаю следователем уже семь лет, и пять из них прошли рядом с Буйновым. Сколько раз он помогал мне советами, да и делами, сколько уроков преподал, сколько распутали вместе уловок бывалых и опытных подследственных. Не представляю себе нашу прокуратуру без приземистой невысокой фигуры Василия Семеновича в синем форменном мундире. Бритая крупная голова, кустистые седоватые брови над внимательными серыми глазами — таков был наш прокурор. Мы любили его и побаивались: был он вежливым и тихоголосым, но слова для нас находил, как говорится, доходчивые. Сейчас Буйнов говорил со мной спокойно и доверительно. — Вкратце тебе расскажу, что случилось. Не справился Захожий с делом… — На нем лица нет, — попыталась я защитить товарища. — Не жалей его, не жалей, — поморщился прокурор, — : он мало того, что дело запортачил, еще и в амбицию ударился. А в нашем положении да с нашими прокурорскими правами — амбиция самое последнее дело. Понимаешь, Наталья, — Буйнов показал на дело, которое лежало передо мной, — в тех корочках целая жизнь, судьба, да еще и не одна, возможно. Раз тебе большие права даны, об обязанностях не забудь — чужую судьбу ломать никому не позволено. Буйнов потер пальцами виски. — Я поддерживал в суде обвинение по делу. И сам его попросил на доследование, — продолжал он, — сам, понимаешь? Суд согласился. Ты фабулу знаешь? — Откуда? Захожий у нас человек самостоятельный. — Ну, изучишь подробно сама. Скажу только — все по делу гладко, очень гладко. Получил главный инженер "Радуги” взятку. Взяли его с поличным — деньги на столе, даже в руках были. Да… слишком гладко на бумаге. Но человек-то, Гулин этот, взяточник — он меня и смутил. Смутил тем, что отрицал все решительно, несмотря на очевидность обвинения. — А Захожий? — напомнила я. — Захожий в позу встал: все, мол, в порядке, я лично эту станцию знаю. Представляешь! Он "лично”… И все тут! Откуда, спрашиваю, знаешь? А он: машину ремонтировал свою, познакомился. — Что же плохого, что ремонтировал? — А то и плохо, что следом за ремонтом и дело это возникло. Захожий меня тогда замещал, помнишь, передал бы дело другому, но сам взялся и вот — результат. Буйнов встал. Поднялась и я. — Забирай дело. Распишись в канцелярии. И уже у двери догнал меня голос прокурора: — Наталья Борисовна, Гулин болен, наверное. Смотреть на него страшно. Обернувшись, я увидела, что Буйнов обхватил подбородок ладонью и качал, качал головой, словно от сильной зубной боли. — Проверю, Василий Семенович, — пообещала я и вышла из кабинета, прижимая дело, не сулившее мне спокойствия.ГЛАВА 3
И вот оно передо мной это злополучное дело. У меня свой метод изучения дел — начинаю с конца, чтобы знать уже увиденные другими слабые места обвинения. Определение о направлении дела на дополнительное расследование. Претензии свои суд изложил лаконично и четко. Ясно. Придется не только следствие проводить заново, но и проверить правильность первоначального. Теперь посмотрим обвинительное заключение, там подробная фабула и изложены доказательства. Итак, Гулин Иван Сергеевич, 42 года, несудимый, обвиняется в том, что 30 апреля получил от некой Сватко взятку за замену кузова автомобиля ГАЗ-24 "Волга”. А в марте получил от Любарской — за установку нового двигателя на "Жигули”. Ничего не скажешь, обвинение серьезное. Вину свою отрицает, утверждая, что свидетели его оговорили. Доводы об оговоре опровергаются тем, что свидетели не были с ним знакомы и не имели оснований для оговора. Не совсем убедительно. Свидетель Сватко — подтверждает дачу взятки, добровольно сообщила в милицию о требовании Гулина, помогла его разоблачить, в связи с чем от уголовной ответственности освобождена. Свидетель Любарская — та же картина. Вина подтверждается изъятием переданных Гулину денег. Это убедительно. А почему он отрицает вину, раз пойман с поличным? Какой в этом смысл? Интересно, как характеризуется Гулин? Нахожу характеристику с места работы: требовательный, вспыльчивый. За характеристикой подшит протокол допроса директора станции. Директор говорит, что плохого за Гулиным не замечалось и его преступление для коллектива и лично для него, директора, — полная неожиданность. Значит, и с этой стороны загадка. Честный человек и взятка — несовместимые понятия. Вновь возвращаюсь к концу дела. Протокол судебного заседания. Ну что за почерк у секретаря! Огромные нечеткие буквы выстроились, как сплошной забор, прямо клинопись какая-то. Когда же, наконец, будут печататься протоколы? Говорим о культуре в работе, а что такое этот почерк-загадка? Самое настоящее бескультурье! Чтение протокола, точнее, расшифровка почерка нерадивой секретарши, меня раздражает, но надо досконально знать, что же было в судебном заседании. Гулин позицию свою не изменил. Все отрицает. Но не может объяснить, почему его обвиняют эти незнакомые ему женщины. А действительно, почему? Вопрос вопросов. Сватко и Любарская продолжают настаивать на своем. Что это суд так долго допрашивал Любарскую? И потом Буйнов еще задавал уйму вопросов. Уточняли детали — что, где, когда, кто был, что видел. Ага, тут есть шероховатости — в ответах. Однако же могла женщина запамятовать, могла значения не придать каким-то фактам. Посмотрим. А у Сватко все гладко, четко. Ну, наконец-то закончен протокол. Теперь начинаю читать дело с самого первого листочка. Постановление о возбуждении уголовного дела утвердил Захожий. Точно, он тогда замещал прокурора. Заявление Сватко о том, что Гулин просит взятку за установку нового кузова для "Волги” и предложил ей сегодня принести деньги. Под заявлением дата — 30 апреля. Дальше пошли протоколы. В присутствии понятых изъяты деньги на столе Гулина. Обыск дома, опись имущества. Читаю опись. Что-то негусто для взяточника. Сообщения об обыске и задержании Гулина подписаны Захожим. Проверяю даты — сроки не нарушены, нет. Очень оперативно все сделано. Только вот Гулина перед майскими нерабочими днями я бы не стала задерживать. Зачем? Проверяю: точно, 1 и 2 мая никто с Гулиным не работал, его объяснений и допросов нет. Адресованное прокурору заявление Любарской — четкое, спокойное. "Хочу заявить о том, что вынуждена была дать взятку…” Штамп регистрации — 3 мая. Н-да. Срок задержания Гулина истекал 3 мая. Смотрю постановление о применении ареста в качестве меры пресечения. В нем указаны два эпизода: Сватко и Любарской. Значит, вынесено после получения второго заявления, на котором, к сожалению, время приема не поставлено. Арест санкционировал Захожий. Преступление опасное, пойман Гулин почти за руку и, как указано в постановлении, "находясь на свободе, может помешать установлению истины по делу”. Значит, Гулин мог помешать установлению истины? Этот вывод мне тоже придется проверить. Я не делала никаких записей. Пыталась составить общее впечатление, но оно не было пока определенным. Это и понятно, успокаивала себя, ведь все обвинение под сомнение поставлено, какая же может быть определенность с первого чтения. Объяснение, затем показания Гулина. Гулина — подозреваемого, Гулина — обвиняемого, Гулина — подсудимого. Однако же! Твердо стоит на своем. А эти женщины — Сватко, Любарская? Изобличают! Кто-то лжет. Обвиняемый или обвинители. Кто же? Когда я раздумывала над этим вопросом, в дверь кабинета просунула голову помощник прокурора Инна Павловна — с ней мы ходили обедать. — Уже? — удивилась я. Инна засмеялась: — Заработалась ты совсем. Бежим быстрее, а то народу будет много. Внизу, в полуподвале, у нас было нечто вроде полустоловой-полубуфета. Салаты, бутерброды и второе — четко сменяющие друг друга сосиски и котлеты с зеленым горошком. Ассортимент не ахти, но нас устраивало — быстро можно было перекусить и все же горячее. В городской столовой в обеденное время мы не укладывались, да и жаль было терять на очереди драгоценные наши минуты. Нам всегда их не хватало — нескольких минут, нескольких часов, нескольких дней. Инна Павловна повествовала мне о своих заботах — у нее дочь, девятиклассница, начинала постигать жизнь, не считаясь с материнским опытом. Я досконально знала все Иннины семейные перипетии и очень подозревала, что Инна регулярно водит меня в буфет именно за возможность высказать свои сомнения. В советах она не нуждалась, к выводам приходила сама, но ей нужна была слушательница — таковой являлась я. Сегодня я слушала Инну Павловну невнимательно, но она не очень обращала на это внимание. Выговаривалась. А я думала о Гулине. Мне не терпелось приступить к его делу, этому странному делу. Сейчас, когда не было передо мной бежевых потрепанных корочек и того, что за ними, вопросы оформлялись, выстраиваясь в длинный ряд. Инна завершила свой монолог, как раз когда я допила остывший невкусный чай, она научилась точно рассчитывать время. И на мой рассеянный ответ не обиделась, только сочувственно спросила: — Сложное дело? Я молча кивнула, и мы разошлись по своим кабинетам. Составить план дополнительного расследования по такому делу непросто. Записывала, зачеркивала, читала дело снова, сравнивала, анализировала. Понимала, что очень важно в таком деле начать, но каждый вопрос казался мне первоочередным. Где же главное звено, за которое я должна сейчас ухватиться? Рабочий день заканчивался, но я не собиралась уходить, пока не будет готов план. Опять раздался противный злой звонок внутреннего уродца-телефона, и я пожаловалась, наконец, прокурору: — Василий Семенович, ну когда же мне заменят аппарат? Этот такой заполошный… —: Ладно, ладно, — прокурор нетерпеливо перебил меня, — распоряжусь. Слушай, Наталья, я тебе помощь выхлопотал. — Помощь? — Конечно, да еще какую! — подтвердил Буйнов. — Волну тебе подключают. — Здорово! — обрадовалась я. Капитан Антон Волна был оперуполномоченным ОБХСС нашего горотдела, работал со мной по многим сложным делам. Мы дружны с ним. Азартный и расчетливый, капитан, как считалось, был удачливым в работе, но я-то хорошо знала, что приносило ему успех в делах. Работал он беззаветно, не считаясь со временем и обстоятельствами. Итак, Антон — это была первая удача, правда, не зависящая от меня. Я наскоро поблагодарила Буйнова и отложила набросок плана. Есть прямой смысл составить его вместе с Антоном. Розыски Волны ни к чему не привели. Антон как сквозь землю провалился… Дооформила законченное утром дело, подшила его, сделала опись документов — самую нелюбимую работу. Выглянула в коридор — в приемной прокурора горел свет. Я отнесла ему готовое дело, он глянул недовольно: что поздно так? Но тут же принялся читать. А я отправилась домой. Недаром я радовалась своему помощнику. Антон Волна разбудил меня телефонным звонком чуть свет, избавив от необходимости его разыскивать, что я собиралась сделать с утра. — Через полчаса заеду за тобой, Наталья. С утреца и займемся делами, — сказал он, даже не спрашивая моего согласия и не извиняясь за ранний звонок. Я заворчала было, что не успею собраться, но Антон не стал слушать моих возражений: — Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя — глаза продирает, — назидательно изрек он одну из своих поговорок, которые ужасно любил и вставлял при каждом удобном случае. Я подсмеивалась над этим невинным увлечением, но он продолжал свое, и, надо отдать справедливость, пословицы его всегда были к месту. Опять рухнули мои благие намерения относительно утренней гимнастики. Волна жил неподалеку, и я едва успела выпить чашку кофе, как за окном газанула машина Антона, подавая таким способом сигнал к выходу. Широкоплечий, рослый Волна едва помещался в своем потрепанном "жигуленке”. Колени почти доставали до баранки, а сам руль в огромных руках капитана выглядел игрушечным. Антон распахнул переднюю дверь, я уселась рядом с ним. — В прокуратуру, шеф, — шутливо сказала я. Антон кивнул, и мы помчались по еще пустынным утренним улицам, умытым ночными трудягами-поливалками и принаряженным блестящими лужицами непросохшей воды. Еще в машине началось обсуждение наших планов. На мой вопрос о причине подключения к делу Антон ответил: — Мне самому не совсем ясно. Начинали-то другие ребята. — Ты говорил с ними? — Был разговор. Все, говорят, в норме, законно. Заявление по форме, женщина явилась к ним сама. — А раньше? Ничего не замечалось за этим Гулиным? Антон помолчал. — Здесь разговор особый будет. Ничего за ним не числилось такого, хотя на "Радуге”, по моим последним данным, пошаливает кто-то. Кто конкретно — пока не знаю, не скажу. Но информация такая есть — личности отирались там, мягко говоря, не светлые. Дефицит уходил на сторону. — Откуда такие данные? — поинтересовалась я. — Это мой вопрос, — уклонился капитан от прямого ответа, — но я вчера, доложу тебе, денек провел на СТОА, приглядывался. — Вот почему я тебя разыскать не могла! — Потому и не могла. Люди, знаешь, там разные работают. Есть что надо ребята, а есть — руки погреть пришли… Одним словом, Наталья Борисовна, дорогой мой старший по следственно-оперативной группе, предстоит нам работенка. — Не журись, — засмеялся Антон, видя, что я задумалась, — справимся. Ты да я, да мы с тобой, да нас двое — целая бригада! В прокуратуре Антон попросил дело, пролистал его, и мы принялись обсуждать наш теперь уже совместный план. Объем работы получался внушительный. Волна не раз крякал, запуская пятерню в свой густущий каштановый чуб. На сегодня решили: капитан продолжает работу на "Радуге”. Задачу его мы сформулировали так: почему понадобилось давать взятки за работу, которую обязаны были выполнить просто по службе? Какое отношение к заказам имел Гулин? Мне же хотелось в первую очередь побеседовать с самим Гулиным. Я рассчитала, что до обеда с этим управлюсь, а после встречусь с потерпевшими — так именовались по делу Сватко и Любарская. Капитан обещал мне обеспечить их вызов, и мы расстались до вечера. В следственном изоляторе меня ждала первая неприятность. Арестованный Гулин находился в больнице. Дежурный врач по селектору сказал, что к больному не допустит, у Гулина предынфарктное состояние и всякие волнения ему противопоказаны. Напрасно пыталась я уговорить врача. Никаких доводов он слушать не стал и велел позвонить не раньше чем через неделю. Нечего сказать, хорошенькое начало для дополнительного расследования, весь срок для которого положен — один месяц. Всего четыре недели, которые пробегут так стремительно, что не успеешь и оглянуться. Пришлось возвращаться ни с чем. Едва я успела открыть свой сейф, как, осторожно постучав, в кабинет вошла невысокая худенькая женщина в строгом темном костюмчике. Частая седина в коротко остриженных волосах. Тревожные глаза. — Вы Тайгина? — спросила незнакомка. — Да. — Я Гулина. Мне бы переговорить с вами. — Здравствуйте, — я показала на стул возле моего стола, села напротив. На приветствие она так и не ответила. Опустив голову, нервно мяла на коленях бежевую сумку, пока я доставала из стола бланки, ручку. А я обдумывала, с чего начать этот первый допрос. Решила: пусть-ка сама начнет рассказ. — Слушаю вас. Женщина подняла глаза, и я увидела, как они наливаются слезами. Нужно было помочь ей справиться с волнением. Слезы — плохой спутник допроса. Да и жаль мне было эту женщину. Я видела, как она страдает. Вообще, в расследовании самым тягостным для меня было видеть мучения людей, близких потерпевшим ли, преступнику ли. Все, как правило, переживали искренне и глубоко. Поистине, у каждого преступления не счесть жертв, и когда только люди научатся понимать это? — Расскажите вначале о себе, — попросила я. — Работаю в поликлинике, медсестра процедурного кабинета. И с Ваней, с Гулиным, — поправилась она, — познакомилась, когда ходила делать уколы его больной матери. Вы знаете, — заторопилась она, — у него ведь мама очень больна. Очень. Инсульт, — голос Гулиной опять задрожал. — Успокойтесь, пожалуйста… — Лидия Ивановна, — подсказала она. — Дело вашего мужа будет расследоваться дополнительно. Давайте спокойно поговорим, Лидия Ивановна. Она покорно кивнула. Достала из сумки небольшой красный блокнот, положила на край стола. — Что это? — спросила я. — Блокнот мужа. Я нашла его в рабочей куртке. Здесь какие-то записи, может, будут нужны вам. Я осторожно полистала блокнот. Несколько страниц занято записями: цифры, цифры, вопросы, прочерки, опять цифры; вопросы — построчно, системно. Что здесь записывал Гулин? Спросить бы его самого, но… А блокнот может пригодиться, мало ли что. Пригласив понятых, оформила протокол доставления. Отныне блокнот принадлежит делу. Записи были мне непонятны, но я очень надеялась на капитана Волну — он поможет разобраться, а там, глядишь, и Гулин поправится. В присутствии понятых Гулина собралась, перестала плакать, и мы продолжили с ней беседу уже более спокойно. Лидия Ивановна много говорила о муже. Я понимала, что она могла быть необъективной. И с такими вещами сталкивала меня служба, да и не раз. И все же… — А не было ли у вашего мужа врагов? — спросила я. Женщина недоуменно вскинула брови: — У Вани? Враги? Что вы! Какие у него могли быть враги! Он и проработал там не больше года, станция поближе к дому, а он за мать беспокоился. — Но я читала в деле: он вспыльчив, резок. Такие недоброжелателями быстро обзаводятся. Она подумала немного: — Не замечала я в нем особой резкости. Вспыльчив — да, но не по мелочам. И отходит быстро — сердиться на него невозможно, по-моему. Впрочем, — печально добавила она, — кто-то ведь оклеветал его. А что оклеветали — я уверена. Вот так закончился допрос Гулиной. Я не сказала ей о болезни мужа — к чему волновать напрасно. Гулина ушла, а симпатия к ней осталась. Не верю сказкам про бесстрастных следователей. Нередко истина открывалась мне через чувства, помогавшие найти правильный путь. В конце концов и сами чувства возникали не на пустом месте, а на основе фактов, событий. Наскоро перекусив в буфете, я принялась снова листать дело Гулина, ожидая потерпевших. Антон, правда, мне не звонил, но я знала, что он их вызвал — Волна есть Волна. Открыла протокол допроса Сватко. Галине Михайловне 45 лет. Возраст серьезный. Так сказать, не шаловливый. Инженер. Анкетные данные не помогли представить себе эту женщину. И допрос слишком уж схематичен. Несколько раз Захожий допрашивал Сватко. Но только о самом факте. А вот почему она именно к Гулину обратилась? Да, правильно сердился прокурор — слабенько следствие проведено. Целый список вопросов успела я составить, время шло, а потерпевшие — ни та, ни другая — не приходили. Устав ждать, нашла номер телефона конструкторского бюро, где работала Сватко. Вежливый женский голос ответил, что Галина Михайловна отпросилась в поликлинику. Я недоумевала — в чем дело? Если бы Волна не смог обеспечить явку женщин — сообщил бы об этом. Выходит, капитан уверен, что потерпевшие придут. Снова и снова листала я дело, сердясь, что топчусь на месте. Еще раз перечитала заявление Сватко, потом Любарской. Первая писала собственноручно, заявление второй отпечатано, но, я видела, не профессиональной машинисткой, хоть и достаточно опытной рукой. К заявлению Любарской приложен конверт, я поначалу на него внимания не обратила. А тут пригляделась — штампа почтового на конверте нет. Видимо, в наш ящик брошено, есть у нас ящик для заявлений прямо в вестибюле, секретарь из приемной выбирает письма два раза в день. И вдруг я ощутила какое-то беспокойство. Неопределенно так, но чувствую какую-то несуразность. Смотрела на конверт, на заявление, на знакомый прокурорский штамп регистрации. А потом осенило — на заявлении Любарской сгибов нет! Вот в чем дело! Конверт приложен, надписан, как положено, — прокурору, а заявления, выходит, в конверте не бывало! Непонятно. Любарская могла и лично заявление отдать, но зачем тогда этот конверт здесь подшит, что доказывает? Начальник канцелярии, которой я показала заявление со штампом и конверт, лишь пожала плечами: — Не помню, Наталья Борисовна, столько бумаг проходит через мои руки. Извините, не помню. Подумав, к Захожему решила не обращаться, пока не уточню эти обстоятельства у самой Любарской. Открыла ее анкету. Любарская Рената Леонидовна. 38 лет. Замужем, детей нет. Заведующая аптекой № 17. Тоже очень слабо. А интересно, как эта самая Рената появилась со своим добровольным заявлением в день, когда истекал срок задержания Гулина? Словно специально пробудилась ее гражданская совесть именно в этот день? Я собралась было звонить в аптеку Любарской, но дверь широко и вольно распахнулась. — Разрешите? В кабинет вошла подтянутая, с гордо вскинутой головой женщина, моложавая, длинноногая, со вкусом и, на мой взгляд, кокетливо одетая. Нежно-сиреневая легкая блузка с воланами и кружевами, белая юбка в складку — да, женщина была эффектной. — Галина Михайловна Сватко, — представилась она. — Вы меня вызывали? — умело подведенные большие глаза смотрели открыто. Я представилась и объяснила цель вызова. Сватко пожала плечами: — Ничего нового добавить я не могу. Все, что случилось со мною, рассказано и записано. Свой поступок считаю правильным — со взяточниками надо бороться. Это такие ужасные люди! По моей просьбе Галина Михайловна повторила свой рассказ. Именно повторила — я хорошо изучила ее показания. Наступила пора задавать вопросы. — Вы знали Гулина ранее? — Нет, откуда? — женщина вздернула плечо. — Почему же пришли со своей просьбой именно к нему? Вопрос не удивил Сватко. — Я не помню кто, но мне рассказывали, что с ним легче уладить такие проблемы. Рекомендовали, одним словом. — И все же припомните, кто вас к нему направил, — настаивала я. Сватко впервые ответила жестко. — Пыталась вспомнить, но не могу. Ответ меня не убедил. Помнит, конечно, помнит. Не к первому попавшемуся пошла — к Гулину. Но сказать, кто направил, не хочет. Значит, нужно искать причину — почему? — Есть у вас знакомые на станции? — стала уточнять я. — Нет знакомых! — прозвучало это слишком категорично. Слишком решительно, чтобы быть правдой. Следственная работа научила меня разбираться в таких ответах. И видно было, как не нравится моя настойчивость Галине Михайловне. Смуглое лицо разрумянилось, женщина еще более похорошела. Смущение шло ей, но и выдавало. "Нет, голубушка, придется тебе, правду все-таки рассказать”, — подумала я и сказала напрямик: — Галина Михайловна, ваши показания мы будем проверять, учтите это. Кстати, а почему на работе вы отпросились в поликлинику? Мы ведь повестки выдаем — оправдательный документ? — Проверяйте преступников, а не меня, — Сватко вскинула голову, глаза сузились, щеки запылали ярче, — а на работе ни к чему знать, где я бываю. Ваша повестка мне не нужна. — А с Любарской вы знакомы? — С Любарской? — переспросила она и тут же ответила: — Конечно. Мы встречались. И здесь, и в суде. Причем неоднократно, — добавила с некоторым ехидством. — Только здесь и в суде? Красивое лицо скривилось: — Это имеет значение? — Да. — Моя личная жизнь вне вашей компетенции. — До определенных пределов, Галина Михайловна, только до определенных пределов, — спокойно ответила я, — пока она не затрагивает общественных интересов и не вступает в конфликт с законом. Такие выпады мне приходилось отражать довольно часто. Личная жизнь. Интересное понятие… Сколько порою укрывается за этим ненаказанного зла и другой гадости. Мне не раз доводилось перетряхивать то, что только называлось личной жизнью, а было на самом деле либо причиной, либо следствием преступлений. — Ну, знаете! — возмутилась Сватко. — Похоже, я на вас пожалуюсь. — Ваше право, — согласилась я. — Но прошу ответить на мой вопрос. — Вы знаете, где работает Любарская? — спросила Сватко. — Знаю, она заведует аптекой. — Тогда вы должны знать, что к ней многие обращаются за лекарствами. Я не исключение. — И других отношений между вами не было? — Нет, — отрезала она. — Я могу идти? Сватко подчеркнуто внимательно прочла протокол, энергично расписалась и, сухо простившись, ушла. Я вынуждена была признать, что контакта не получилось, ничего нового к делу не прибавилось. Если не считать впечатления, что Сватко не совсем искренна. В плане нашей работы по делу я сделала дописку: "Капитану Волне выяснить связи Сватко”. Кого-то эта женщина все же скрывала. Любарская не появлялась. До конца рабочего дня время еще было, и я позвонила в аптеку. Ответила мне сама Любарская. Услышав, кто и почему ее беспокоит, стала торопливо извиняться. Важное совещание, срочная работа — все было в этом извинении и, наконец, прозвучало главное: — Я думала, можно обойтись и без меня. — Но к вам, тоже имеются дополнительные вопросы. — Какие вопросы? — в голосе Любарской слышался откровенный испуг. — И все же вам придется явиться на допрос, — строго сказала я. Любарская замолчала, слышно было лишь ее дыхание, потом попросила: — Можно завтра? Не могу сегодня, занята очень, честное слово! Мне ничего не оставалось как согласиться. Рабочий день кончался, у каждого свои заботы и дела, может, и важные. И все же мне очень, очень не нравилось, что Любарская не явилась сегодня. Что ж, буду ждать Антона. Я невольно вздохнула, снова раскрыла дело. Перечитала допрос Сватко, записанный теперь уже моей рукой, утвердилась в первоначальном мнении: Сватко кого-то скрывает. Кажется, того, кто надоумил ее прийти к Гулину. Зачем? Чем она навредит тому человеку? Впрочем, если он имеет отношение к делу, она раскроет его, когда назовет. Эпизод со Сватко ясен, как день: взятка передана и разоблачена, причем в присутствии совершенно посторонних людей. Если Любарской нужно было верить на слово, то здесь — уйма свидетелей, изъятые деньги… А не Любарская ли направила ее к злополучному главному инженеру? Ей он помог за взятку, она и отправила знакомую по своей дорожке. А та возмутилась, раскрыла взяточника. И Любарской пришлось признаться! А наверное, не хотелось. "Вот как было на самом деле”, — обрадовалась я догадке, объясняющей мои сомнения. Как же следствие упустило этот момент — не проверили связь между потерпевшими? И я почти попалась на эту удочку Сватко! Но у меня есть время, и завтра предстоит допрос Любарской. Уже по краткому телефонному разговору я чувствовала, что с ней будет работать легче. А пока — материалы дела. Я принялась скрупулезно, фразу за фразой, сравнивать заявления потерпевших. Нет ли тут чего интересного? Предчувствие меня не обмануло. Вот: "Добровольно сообщая об изложенном, прошу в соответствии с требованиями закона освободить меня от уголовной ответственности”. Этой фразой — дословно — заканчивались оба заявления! И еще насторожил меня стиль фразы — совсем не характерные слова для лексикона инженера, да и аптекарши тоже. На мой взгляд, так юрист может написать — только юрист. Ишь, "в соответствии с требованиями закона”! — привычный, часто встречающийся штамп в наших документах. Откуда он появился в заявлениях? Со вздохом я сделала еще одну пометку в плане — это уже себе. Волна мне так и не позвонил, я сердилась на него — что за совместная работа без взаимной информации — даже в течение дня. Нас ведь всего двое, а времени — в обрез. Пора было заканчивать работу, все давно разошлись, и я поехала домой. Дело лежало в сейфе, но мысли о нем не оставляли меня и в дороге, пока я медленно ехала в успевшем уже опустеть троллейбусе, и дома, когда готовила свой легкий ужин — так и не могу я привыкнуть готовить по-настоящему для себя одной. И к одиночеству тоже не могу привыкнуть. Все кажется — вот возвратится он — мой Саша, Сашуня, Алексашка, веселый, голубоглазый, и я разглажу ранние складочки у его милых губ и скажу ему, как мне без него плохо, как скучаю и думаю о нем. Но мой Саша ко мне никогда не придет. Коротким было мое женское счастье. И лучше об этом не надо. Больно. А Волна нашелся. Позвонил, когда я уже устала злиться на него. Коротко, по-деловому доложил, чтоновости есть и обсудим их завтра при встрече. Я пожаловалась ему на неявку Любарской, он строго заметил: — Зря не настояла. А выслушав мои подозрения, глубокомысленно изрек: — Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Я пожелала ему спокойной ночи, в ответ он засмеялся: — Отдыхом еще и не пахнет. Я не из дома звоню. Привет, — в трубке раздались короткие гудки.ГЛАВА 4
С Антоном вместе в кабинет вошел и чопорно поздоровался высокий сухой старик в очках, седой, сутулый и длиннорукий. — Радомский Здано Янович, — представил его капитан, — бухгалтер-ревизор, мой помощник и друг. Старик чинно склонил голову, и я, желая отдать дань такой вежливости, вышла из-за стола, приветливо улыбнулась. Новость для меня первая: зачем понадобился бухгалтер по делу о получении взятки? Интересно, куда это задумал меня втравить опер БХСС? Выходит, вместо того, чтобы заниматься нашим делом согласно плану, он расколупывал какие-то свои милицейские дела? Помощничек, ничего не скажешь! Капитан Волна словно читал мои мысли. — Поспешай медленно, — выдал он мне первую утреннюю порцию своих пословиц. — Дела наши, Наталья Борисовна, на сегодняшний день таковы, что без глубокой проверки "Радуги” не обойтись. Два дня я провел там — и недаром. Что я узнал? Первое, — капитан загнул палец на огромной ладони, — есть у них план реализации услуг населению. Выполнен план отлично. Но это — липа. Второе — явно химичат с дефицитом: и поступление, и расход крайне запутаны, как, впрочем, и весь учет. Третье — заказы-наряды на ремонт машин нуждаются в проверке. Это бланки строгой отчетности, а обращались с ними, словно с листками от прошлогоднего календаря. Антон продолжал говорить и загибать пальцы, а я думала, что капитан, конечно, порядок на СТОА наведет, но гулинское-то дело, как быть с ним? Что оно выиграет? Волна, наконец, заметил мое неудовольствие, улыбнулся смущенно: — Мы ведь вместе решили причину взяточничества на "Радуге” вскрыть? Я кивнула. — Этим и занимаюсь, — сказал Антон, — и о Гулине помню постоянно. Кстати, давай-ка его цифирь, сейчас Здано Янович ее посмотрит. Красную книжечку Радомский положил на чистый лист бумаги и осторожно раскрыл. — Непонятно, — начала было я, но старик строго посмотрел поверх очков: — Что тут непонятного, сударыня? Гляньте. Мы с Антоном склонились над книжицей. — Вот, — продолжал Радомский, — эта шестизначная цифра — не что иное, как номер заказа-наряда. Они все шестизначные. Так? — Точно, — подтвердил Антон. Я помалкивала. — Это вот — номер прейскуранта, вот шифр деталей, а это, конечно же, цена, потом дата. Значит, — Радомский показал на столбики цифр, — главный инженер с какой-то целью выписал реквизиты заказов-нарядов. Судя по вопросительным знакам, для проверки. Здесь вот знак вопроса у цены, здесь у шифра деталей, — узловатый длинный палец эксперта показывал цифры, и я поняла: действительно, Гулин намеревался проверить их. Вопросы остались, значит, не сумел. — Так что, Наталья? — торжествующе глянул на меня Волна, — ум хорошо, а два лучше. — Три, — поправила я. — Три, — согласился Антон и продолжал: — с учетом всех моих и твоих сведений, — он кивнул на красную книжку в руках Радомского, — давай-ка мы назначим на "Радуге” ревизию. Одно другому не помешает, — сказал он, видя, что я поморщилась, — обещаю, что ревизия дело не задержит. Подумав, я согласилась. Все время, пока мы возились с книжкой Гулина, я ждала: вот постучит Любарская, вот придет. Но ждала тщетно. Мое беспокойство Антон заметил. А когда, не выдержав, выглянула в коридор, спросил сочувственно. — Нету? — Нет, — вздохнула я, — и что случилось? Ведь договорились на утро, точно договорились. — Такой оборот не исключался, — сказал капитан. — Ты не допускаешь, что она побаивается? У меня лично такое впечатление. А причину неявки установим. Ты займись ревизией, а я Любарскую разыщу. Мы с Радомским принялись тихонько обсуждать задачи предстоящей ревизии, а Антон сел к телефону, и я вполуха слушала, что у него. В аптеке сказали, что Любарская в аптекоуправлении. Там следы ее потерялись. Потом Антон еще звонил, о чем-то договаривался и, глянув на часы, умчался, оставив нас с экспертом. — Через полчаса буду, — пообещал он. Здано Янович не стал ждать капитана. — Он знает, где меня найти, — сказал мне, прощаясь, и сделал приятное добавление: — Рад буду с вами поработать, сударыня. Наслышан о вас. Позвонил Антон и удивил меня: — Жди, сейчас свидетели будут. — Любарская? — обрадовалась я. — Нет, лучше! — ответил капитан. — Только ты учти, свидетельница — глухонемая. Мой изумленный возглас был прерван бесцеремонно: — Свидетелей не выбираем. А приедет она с переводчицей, не волнуйся. Я еще позвоню позднее. Вскоре пришли две женщины. Одна сразу поздоровалась, вторая с улыбкой кивнула — это и была глухонемая свидетельница — среднего возраста, коренастенькая, одетая в маловатое пестрое платье. Внимательные глаза ее быстро оглядели комнату и остановились на мне, круглое лицо осветила приветливая улыбка, ставшая еще радостней, когда улыбнулась и я. Начался необычный допрос. Я смотрела, как переводчица быстро орудует руками: раскрытая ладонь, обращенная к женщине, напряженно следившей за ней, затем быстрый жест у лица, опять раскрытая ладонь, как вопрос, и снова жесты — складываются ладони домиком, вот ударил кулак о кулак, заработали пальцы, губы. Глухонемая кивает головой, потом начинает так же быстро манипулировать пальцами, губами — непонятный мне язык, необычный способ общения… Переводчица медленно роняет слова: — Таня работает в аптеке уборщицей. Любарская начальник… Очень любит чистоту, следит строго. Дома тоже чисто, нарядно — у Любарской дома, — поясняет она, — Таня помогает начальнице по хозяйству дома. Убирает, моет… Глухонемая внимательно следит за нами, переводит взгляд с одного лица на другое, изредка, уловив момент, кивает головой, произносит гортанные звуки, напоминающие слова: — Та-а, — подтверждает слова переводчицы. — …За работу Любарская платит деньги, вкусно кормит, дает одежду. — Та-а-а, — радостно кивает глухонемая и оглаживает на коленях короткое, не по моде, платье. — Вчера домой пришла печальная, со слезами. Ходила по комнатам, потом говорила по телефону, сердилась. — Та-а, — хмурит брови моя необычная свидетельница. — Она понимает речь по губам, сама пытается говорить, — объясняет переводчица, и Таня понимает, улыбается благодарно. — После телефона прошло время. Наверное, час. Приехал на машине говорящий мужчина и Любарскую увез. Возвратилась поздно. Таня закончила свои показания, и через переводчицу я принялась выяснять детали. — Что за "говорящий” мужчина? — Глухонемые называют так всех нас, не страдающих этим недугом, — поясняет переводчица, — а мужчину Таня не видела. Она переспрашивает Таню, та вытягивает шею и говорит — быстро-быстро складывает пальцы. — Уехали на машине "Жигули” зеленого цвета, — говорит переводчица, а Таня радостно кивает. Женщины еще находились у меня, когда позвонил капитан Волна. Он был уже на СТОА. Услышав о мужчине и зеленых "Жигулях”, озадаченно сказал: — Что за оказия такая? И Любарской нет нигде — как провалилась. Подождем до завтра. — Слушай, Антон, закончу допрос и приеду к тебе на СТОА. Что я буду людей вызывать сюда? Приеду и допрошу там, на месте. Ты мне кабинетик устрой пока, — попросила я. — Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, — пошутил Волна и одобрил мое решение. В нашем положении надо было успевать поворачиваться. Я еще "поговорила” с Таней, выяснила, что у Любарской близкая подруга Галя, красивая, очень гордая. По всем приметам выходило, что эта Галя — Сватко. Таня подтвердила мою догадку о том, что Любарская и Сватко хорошо знакомы и не только по несчастью. Следовало еще проверить эту версию, одного показания Тани мало, но я не беспокоилась: дружба женщин не могла быть секретом, и мы это установим без затруднений. Прокурор дал мне свою машину, и капитан Волна встретил у проходной "Радуги”, но все же мне пришлось предъявить охраннику свое удостоверение, и он добросовестно изучил его, да еще и сверил фото с оригиналом. — Вы всегда так бдительны? — не удержалась я. — Всегда! — отрезал он. Мы прошли в административный корпус. Через просторную приемную, где вежливо поздоровалась со мной молоденькая секретарша, попали в кабинет директора — большой, залитый солнцем, с красивой мебелью. Приглушенно звучала музыка. "Венчает юные сердца седой паромщик”, — вкрадчиво пела Пугачева, а навстречу нам вышел из-за массивного стола интересный в возрасте мужчина в новеньком коричневатом костюме — не летнем, несмотря на жару. Крупные, словно рубленые черты лица, русые седеющие волосы, разделенные сбоку пробором, серые глаза под странно короткими бровями. — Шершевич, — представился он, — Виктор Викторович. Директор этого, — он широко повел рукой в сторону окон, — заведения. Мы сели в мягкие кресла, и директор принялся насмешливо-жалобно рассказывать. — Никому угодить не могу, Наталья Борисовна, хоть и стараюсь. А тут еще эта история с Гулиным. Ах, как неприятно, как некстати все это, как мешает нам, всему коллективу! В голосе Шершевича послышались капризные нотки, это меня особенно удивило. Мужественный, крупный, солидный мужчина — и этот тон. Я глянула на Волну, увидела в его глазах смех. Поняла: Шершевич играет со мной, кокетничает. Всерьез не принимает. И такое со мной бывало. Да и не раз. Поэтому не разозлилась, как раньше. Спокойно встала. — Простите, приступим к официальной части знакомства. Где я могу вас допросить? Здесь нам не помешают? Капитан Волна подыграл мне. — Вам готов кабинет. Можете приступать к допросам там — я вас провожу. По взгляду Антона я поняла: поступила правильно, не дала фамильярничать директору, избалованному вниманием. Изменил тон и Шершевич. — Где вам будет угодно, Наталья Борисовна. Мне лично удобней здесь. Он нажал на белоснежную клавишу селектора, строго сказал: — Машенька, меня нет, — и повернул ко мне посерьезневшее лицо: — Слушаю вас. Антон ушел, а я допросила Шершевича — подробно, скрупулезно — о работе, о коллективе, о Гулине. Директор обстоятельно и почтительно рассказывал о том, что мне было уже известно. Заканчивая скучный допрос, я неожиданно для себя спросила: — У вас есть машина? — "Лада”, — ответил Шершевич удивленно. — Какого цвета? — Коричневого с перламутром, — короткие брови директора поднялись, образовав на лбу несколько глубоких морщин. Значит, машина коричневая. Не зеленая. Впрочем, я на это не надеялась, спросила для порядка. И еще потому, что мне не нравились нарочито серьезные серые глаза Виктора Викторовича. Глядя в них, я видела — Шершевич усмехается. Не открыто, а где-то внутри. Чему усмехается? Гулина ему жалко, за коллектив больно, и всё же глаза его время от времени словно дымкой подергивало — он отгораживался каким-то дополнительным знанием и, я видела, чувствовала, пренебрежением или превосходством. Относилось ли это лично ко мне или к моему делу? — Вы знакомы с Любарской и Сватко? — как и о машине, я спросила это для порядка, потому что ответ заранее знала и не ошиблась: — С потерпевшими? Безусловно! — ответил Шершевич спокойно. — Я с ними беседовал. Выяснял детали. Мне ведь, согласитесь, как руководителю нужно тоже меры принять. Сегодня Гулин берет взятку, завтра другой — этому надо положить конец. Нельзя было с этим не согласиться. Но я продолжала упрямо: — До этой истории вы с ними не встречались? Серые глаза стали прозрачнее, смотрели как сквозь меня: — С Любарской был знаком. Знаете, аптека, лекарства — с одной стороны. И автомобиль в неумелых женских руках — с другой стороны… — Почему же в марте, когда машине Любарской потребовался ремонт, она обратилась не к вам, а к Гулину? Вы раньше ей помогали? — Помогал, конечно. А в марте… — Шершевич пожал плечами, опять недоуменно вскинул бровки: — Я сам удивлен, признаться вам. Кто поймет женскую логику? — он развел руками, улыбнулся. — А Сватко? — Машину знаю лучше, чем хозяйку. Ее "Волга” уже бывала у нас, меня приглашал мастер для консультации, встречал потом саму женщину, здоровались. — К вам она не обращалась с просьбой о замене кузова? — спросила я Шершевича, который явно скучал от моих однообразных вопросов. — Вы должны знать, — в голосе Шершевича послышалась назидательность, — что замена кузова ГАЗ-24 — самая для нас больная точка. Кузовов чрезвычайно мало, и на этот вид ремонта — жесткая очередь. По году люди ждут. Я в очередность не вмешиваюсь. — А Гулин вмешивался в очередность? — не отставала я. Директор пожал плечами: — Мне такие факты неизвестны. А Гулина я знал с лучшей стороны, о чем неоднократно, — он сделал ударение на этом слове, — рассказывал. О чем было еще спрашивать директора? Он лично проводил меня до кабинета с табличкой "Старший юрисконсульт Паршин В. Р.”, распахнул передо мной тонкую дверь и удалился, сказав: — Я у себя и к вашим услугам. В кабинете юрисконсульта сидели Волна, Радомский и еще невысокий, узкий в плечах мужчина. На маленьком лице его выделялись глаза — блеклые, круглые, без ресниц, сильно увеличенные толстыми стеклами очков. Это был Паршин, хозяин кабинета. Мы договорились к вечеру осмотреть территорию "Радуги”, потом я передала капитану Волне список людей, с кем хотела бы побеседовать. Антон внимательно прочел его и над первой строкой вписал: "Иванцов Николай Петрович”. Подавая мне исправленную бумагу, Антон подмигнул весело, обнадеживающе и сказал: — На ловца и зверь бежит. — Я рассмеялась. Антон оставался верным себе, и по его настроению видно было — дело у него ладилось, не то, что у меня: все неопределенно. Его задача была яснее. Он знал, что искал. А чего хотела я? Обвинение Гулина было незыблемым. Иванцов Николай Петрович оказался тем самым бдительным охранником, с которым я едва не поссорилась при входе. Капитан, как я заметила, помалкивал тогда, а сейчас, едва вошел Иванцов, встал: — Ну, я пошел, — сказал он и увел с собой Радомского и юрисконсульта. Поговорить с капитаном наедине мы не сумели, и я осталась с Иванцовым, не зная, с чего же начать разговор. Выручил сам Иванцов: — Меня-то зачем тревожите? — спросил он с открытой неприязнью. — Одного упекли беднягу, еще я вам понадобился? Поди, места свободные есть в тюрьме, может, меня хотите приспособить? Валяйте, пойду. Рядом с Гулиным и в тюрьме честь посидеть. Я изумилась. Так открыто и наступательно Гулина никто не защищал. Хорошо говорила о нем жена, директор сокрушался и недоумевал, а этот охранник сразу полез чуть не в драку. Мне хотелось задать вопрос, но Иванцов и рта не давал раскрыть. — Погодьте, погодьте, — отгородился он от меня жесткой ладонью, — дайте я скажу, потом вам спрашивать. Я уж вашему товарищу выговаривал: как же можно человека судить, а у людей о нем не спросить?! Нет, вы спросите сперва у народа, кого в тюрьму надо волочь. Народ, он все видит, он знает все, от него, брат, не скроешься. Маленький кабинет был насквозь прокален солнцем, не спасало от жары открытое настежь окно. Иванцов вытер рукавом голубой рубашки пот с лица, глянул на мое ошеломленное таким натиском лицо и заговорил более миролюбиво: — Я, дочка, войну прошел. Цену жизни знаю. Ты думаешь, если я у ворот поставлен, то дальше этого ничего не вижу? Ошибаешься. Я вижу, и другие тоже. Молчали до поры — но до поры, учти. А сейчас, однако, самое время пришло… Ты мне скажи, дочка, — охранник слегка приглушил голос, — ответь мне: кому это надобно, чтобы Гулина со станции убрать? Взятки? Так осмотрись кругом внимательно, кто у нас эту божью росу собирает. Осмотрись, осмотрись. А они ведь, эти выродки, и над нами насмехаются, и над вами тоже, учтите… Я не поняла вначале, что случилось. Открылась вдруг дверь кабинета, показалась длинная рука Волны, придерживавшая дверь, послышался его необычно суровый голос: — Прошу вас, входите, входите. Что же так, под дверью стоять? И откуда-то из-под руки капитана появился смущенный донельзя Паршин. — В чем дело? — спросила я, обращаясь к юрисконсульту. Паршин молчал, за него ответил Антон: — Да вот, товарищ стоит под дверью своего кабинета, а войти не решается. Паршин обрел дар речи: — Мне срочно нужна одна бумага… — Так возьмите, — сказала я. Юрисконсульт порылся в столе, нашел какую-то папочку, пробормотал: "Извините” и выскочил из кабинета. На мой вопросительный взгляд капитан ответил: — Слишком долго он войти не решался. Пришлось помочь, — и развел руками. Вмешался Иванцов: — Интересуется он мной, а не бумажкой. — Знает кошка, чье мясо съела? — спросил Антон Иванцова. Тот серьезно ответил: — Знает эта кошка, знают и другие. Капитан остался в кабинете, и мы долго беседовали с Иванцовым. Волна задумчиво кивал головой, а я записывала показания Иванцова и сердилась: он проливал свет на такие вещи, которые подлежали проверке в первую очередь, но проверены не были. Прощаясь, Антон пожал руку охранника: — Ну что, отец, повоюем? — Повоюем, — ответил тот вполне серьезно, — есть у нас кому воевать и с кем тоже. Когда мы остались одни, Антон сказал: — Без ревизии, видишь, не обойтись. Приезд сюда Радомского окончательно раскрыл карты. Те, кому надо, догадались о предстоящей проверке — теперь держи ухо востро. Чую, события будут разворачиваться. Пример тому — Паршин. Ведь он под дверью-то подслушивал! Поймал я его прямо на месте, так сказать, преступления! Зачем ему это? — Вопрос не из легких. Зачем? Антон помолчал. Затем энергично хлопнул рукой по столу, поднялся: — Выясним! Я пошел, а у тебя есть пара часов — допрашивай. Народ предупрежден, будет подходить. Я продолжала допросы. По-разному говорили люди о главном инженере: осторожно, с неприязнью, с открытой симпатией — мнения, конечно, расходились. И порядки на "Радуге” тоже оценивали по-разному. И все же подтверждалась правота Антона: без глубокой проверки СТОА судить о вине Гулина нельзя. С одной стороны, возможность получения им взяток была, но с другой — получал взятки он или кто-то другой? Тогда кто? И почему именно Гулин обвинен? И при чем здесь эти женщины, потерпевшие? Ах, сколько у меня было вопросов, сколько вопросов! Когда-то я получу на них ответы? Солнце вначале оставило в покое оконную раму, затем ушло куда-то за угол здания. За открытым окном слышны были голоса рабочих, спешивших домой. Я сложила в папку протоколы и сидела в кабинете одна, ожидая Антона. Юрисконсульт больше не появлялся. "Зализывает раны”, — посмеивалась про себя. Позади стола юрисконсульта приткнулась к стене небольшая тумба, на ней под серым чехлом — пишущая машинка. Я сняла чехол. Довольно новая "Оптима”. Что, юрисконсульт сам печатает свои бумаги? Возможно, ведь писанины у него немало — претензии, рекламации, письма, ответы… Вставила в "Оптиму” чистый листок, пропечатала: "Саша, Саша, Саша”, — целую строчку дорогого имени. "Больно, больно”, — вторая строка легла на бумагу. Опомнившись, резко выдернула листок, смяла. "Сколько можно?!” — и тут же бережно расправила, погладила первую строчку, словно прикоснулась к любимому, утраченному навсегда. Осторожный стук раздался в дверь. — Войдите, — громко сказала я, сунув измятый лист в карман платья. Вошел Шершевич, удивленно глянул, как я, пряча повлажневшие глаза, встаю из-за машинки. — Наталья Борисовна, если нужно что печатать — я распоряжусь. Не проблема. — Благодарю, я просто по привычке. Директор бросил взгляд на машинку: — Ну смотрите, а то поможем. — Нет-нет, — заторопилась я, — давайте в обещанный обход. — За этим я и зашел. Антон Петрович ждет на территории. — Склады не закрыты? — спросила, чтобы не молчать. — Что вы, я приказал задержаться, — ответил Шершевич. Территория "Радуги” была обширной, но Виктор Викторович жаловался нам на нехватку площади, тесноту цехов. Капитан Волна что-то помечал в своей записной книжечке, а я запоминала объяснения директора и привыкала к новой для меня терминологии — каждое новое дело требовало от следователя специальных знаний, и мне предстояло еще разбираться в этой отрасли — в ремонте автомобилей. Уже смеркалось, когда мы закончили работу. У будки охранника стояла старенькая машина капитана, а рядом, словно укор нерадивому автомобилисту, красовалась ухоженная, густо-коричневая "Лада” с красивым и редким перламутровым отливом. "Директорская”, — догадалась я. Шершевич оглядел капитанского "жигуленка”. — Антон Петрович, — укоризненно сказал он, — непорядок! Пока вы у нас, давайте мы ваших лошадей подлечим! Сделаем в лучшем виде. — Перетопчутся! — весело ответил Антон. — Подумайте, подумайте, — рассмеялся Шершевич, — мы вам по закону оформим, не просто так. В машине Антон, оглядев меня, прицокнул языком: — Видок у тебя, мать, не ахти. Устала? — Да как обычно. — Вот что, — сказал он решительно, — сопротивление бесполезно, сдавайся без боя. Едем к нам на дачу, там Людмила с Катюшкой клубнику собрали. Люда меня давно корит, что долго не встречаемся, вот обрадуется, когда я тебя привезу. Я запротестовала. Антон тихо так, сочувственно, но твердо проговорил: — Идет жизнь, Наташа. За нее Александр себя не пожалел. И не один он. Всегда так было, такие уж мы есть. Ты друзей не сторонись, мы всегда с тобой, и память о Саше с нами. Горе надо с друзьями делить, с настоящими, Наташа. Что мне было ответить? Все верно говорил Антон. Почему мне вдруг стало казаться, что память о Саше принадлежит только мне? Это усилило боль утраты, но Сашу, Антон был прав, не забыли, не могли забыть. Скоро год, как там, на далекой земле, он погиб вместе со своими больными. Год — а словно вчера это было. Много раз я корила себя, что отпустила его, ругала друзей — не уговорили. И понимала — все равно он был бы там, где больше страданий. Саша — настоящий врач, удержать его было невозможно. Саша, мой Саша. Ты не принадлежал ни мне, ни себе. Только больным, а теперь вот — вечности. Память твоя, Саша, пусть не отдалит — сблизит меня с друзьями. Прав Антон, прав. Я почти не слушала капитана, который продолжал рассказывать мне что-то о даче, о Катюшке — развлекал меня, как умел. Молча кивала, надеясь, что Антон не заметит моего состояния, и он, молодец, старательно делал вид, что не замечает. Когда мы приехали, я уже справилась с собой. То, что Антон громко именовал дачей, было небольшим с односкатной крышей строением, похожим скорее на овощной киоск. Однако Антон с Людмилой любили копаться в земле, участок снабжал овощами и ягодами не только их маленькое семейство, перепадало и другим. Людмила действительно обрадовалась, Катюшка скакала вокруг меня, одним словом, я была окружена вниманием и заботой. Клубника была вкусной, ужин отменным — мы блаженствовали, но я увидела, как взглянул Антон на часы. И уже когда сумерки начали сгущаться, капитан встал, смущенно сказал нам: — Вот что, девочки, вы располагайтесь, а у меня небольшое дельце в городе. Я, чтобы вас не будить, там и заночую. А утром — как штык буду, доставлю вас на работу. Людмила, размягченная разговорами, лишь махнула рукой: — Ладно, дорабатывай ночью, если днем не справился. Я вышла вслед за Волной, и он сказал мне: — К утру я тебе полную выкладку сделаю о Любарской — где она. И кое-что еще. Лады?ГЛАВА 5
Капитан Волна спешил. Кажется, все он днем предусмотрел, однако же спокойнее, если сам проверит на месте. Радомский расшифровал записи Гулина. Это были действительно заказы-наряды, и на поставленные Гулиным вопросы должен теперь ответить он, капитан Волна. Завтра, как договорились, Радомский начнет ревизию. Но капитан разделял тревогу старого ревизора — за станцией следовало присмотреть. Интересно, кому и зачем потребовалось на одну и ту же машину открывать три заказа-наряда — один за другим. И получать два мотора в сборе, два блока цилиндров двигателя, три коробки перемены передач? Это не машина получалась, а какой-то "тяни-толкай”. Капитан улыбнулся, вспомнив "тяни-толкая” из Катюшкиной книжки. Гулин заметил подозрительные наряды, записал. Не на свою ли голову? Волна не сказал следователю об открытиях Радомс-кого. Слишком усталый вид был у Тайгиной. Он вздохнул, вспомнив беседу в машине. Не может Наташа смириться с гибелью мужа, никак не привыкнет к тому, что его уже нет. Погасли веселые искорки в Наташиных карих глазах, густые черные брови словно траурные полосы на бледном лице, и уголки полных губ так до обидного горько опущены. Наташа… Нелегко ей, но напрасно она замкнулась в своем горе. Жизнь продолжается, несмотря на утраты. И надо помочь ей, расшевелить. Это дело друзей, их дело. Вспомнил, как провожали Александра — веселого, оживленного, полного желания в тяжкий час помочь людям. А смерть-то, подумать страшно! Бандиты ворвались в больничку, где работал Саша, и на этот раз он не мог спасти своих пациентов, разделил их горькую участь. А какой был парень! Безотказный, жадный до дела. Не было для него ни дня, ни ночи, в любое время по первому зову шел, лечил, заботился. Непросто, ох как непросто жить Наталье после этого горя. Но ей только тридцать и она женщина, должно же еще прилепиться к чему-то и ее раненое сердце… Антон не стал вечером тревожить Наталью — пусть отдохнет, а пока он выполнит свои оперативные дела. На то он и подключен к делу. Мысли капитана вновь вернулись к "Радуге”. Завышения цен по заказам-нарядам, что записаны у Гулина в книжечке, это так, семечки. А вот почему на кузовном участке такая перегрузка? Почти вдвое выше нормы. И кузовок стоит аварийный без номера. А тут еще Любарская — где она? Целый день в нетях. Оставив машину за углом ограды "Радуги”, капитан подошел к проходной, осторожно постучал в запертую дверь. Шторка на небольшом квадратном окошке отодвинулась, выглянул Иванцов, кивнул капитану и открыл дверь. Едва тот вошел, Иванцов заговорил: — Прав ты был, капитан. Что-то не по себе мне здесь сегодня. — Что-нибудь произошло? — встревожился Волна. — Да ничего вроде не случилось. Только прибег уж в десятом часу сменщик мой — Хомин. Давай, говорит, ночь за тебя отдежурю, мне отгул надобен на завтра. Я говорю — непорядок, без начальства не могу. Он, знаешь, на своем стоит. Виктор Викторович, мол, разрешил, я звонил ему, у моей жены сестренница заболела, просится жена к ней, обещался завтра съездить. Я говорю, дескать, чего ты будешь женину сестренницу нянчить, пусть жена и едет, а он, знаешь, свое долдонит. Я-то помню ваш наказ — стоять на позициях, а тут такое дело. — И что? — поторопил капитан замолчавшего было охранника. — А то. Пусть, говорю, мне сам Виктор Викторович позвонит, не могу я с поста уйти. Знаешь, а неудобно вроде перед Хоминым. Чего греха таить, подменялись мы иногда — дело житейское. Ну что ты будешь делать! — засок-рушался опять Иванцов. — Так чем дело кончилось? — Ничем не кончилось еще, то и тревожно. Стал Хомин названивать директору, а того дома нет. Потом юристу нашему домой. Тот на месте, велел мне трубку взять. "Разрешаю”, — говорит. А я на своем: без директора не могу. Вот неприятность какая вышла из-за вас, — он укоризненно смотрел на Волну, и тот успокоил: — Обойдется, отец. Все правильно. И на чем порешили? — Убежал Хомин. Говорит, найду директора, а тебе этого не забуду. И юрист пообещал — не забуду. Эк памятливые! — сердито сказал Иванцов. — А я вот здесь теперь тревожусь. Что, коли найдут директора, мне уходить? Или как? — Это мы обмозгуем, — сказал капитан. — Приспичило ему! Сестренница… Ишь, приболела, — ворчал старик. А Волна размышлял. Действительно так нужен Хомину отгул, что не постеснялся на ночь глядя юриста поднять, директора — кто знает, где он, — разыскивать. Или нужно было убрать от ворот Иванцова? Зачем? Кому? Капитану вспомнилась напряженная фигурка тщедушного юриста у двери кабинета. Подслушивал — нет сомнений. Иванцова подслушивал и, конечно, слышал разнос, незаслуженно учиненный охранником Тайгиной. Нет, прав Радомский: станцию стоит покараулить. Так спокойней. — Вот что, отец, — сказал капитан, — как договорились, с поста — никуда. — А если директор? Оперуполномоченный уже принял решение: — Сейчас я кого-нибудь подошлю из наших — вдвоем веселей. А чуть что — на меня ссылайся, не велено, мол, милицией. — Это я могу, — протянул Иванцов, — но что товарищ ваш будет — лучше. Охранник запер дверь за Антоном, и тот поехал в гор-отдел, застал на месте участкового инспектора. — Сделаем, — коротко пообещал участковый, — я сам ими интересуюсь. Эта "Радуга” и у меня в глазах полыхает. Итак, вопрос со станцией был решен. Оставалась Любарская. Час поздний, пора ей быть дома. На телефонный звонок никто не ответил. Что, неужели так и нет ее дома? А Таня звонка не слышит. Еще попытка: Волна набрал номер телефона Сватко. Трубку сняли сразу. — Але? — вопросительный голос Сватко звучал бодро. Капитан извинился за поздний звонок, спросил: — Вы случайно не в курсе, где Любарская? — Совсем не случайно — нет. Откуда мне знать? — голос стал раздраженным, — и вообще оставьте меня в покое. Я уже пообещала жаловаться и сделаю это. И положила трубку. Ну что ты будешь делать! Где искать Любарскую? Не случилось ли с ней чего? Капитан Волна тревожился Как нарочно, память моментально стала подбрасывать случаи — из своей и чужой практики — да один другого неприятнее. Нет, надо разыскивать женщину — работник милиции чувствовал ответственность за нее. Влипла Любарская в неприятную историю со взяткой, не попала бы еще в какую беду. И эта возня с охранником — Антон понимал, что затронул какое-то звено, связанное с преступлением, по которому работал. А раз так — всякое может быть. Подумав, позвонил в "Скорую”. Нет, вызова к Любарской не было. Значит, не заболела внезапно. На ночь глядя не очень-то много возможностей розыска женщины. Да и, Антон понимал, нельзя сильно активничать, еще скомпрометируешь ни в чем не повинную женщину, которая, может быть, подругу решила навестить. Или еще какая-то у нее уважительная причина. Но тревога не отпускала. Волна понял, что не успокоится, вышел к подъезду и, прежде чем направиться на "Радугу”, куда обещал заехать, повернул руль своих "Жигулей” направо, на проспект, откуда, он знал, не больше 25–30 минут до дома Любарской. Пустынные серые улицы словно усиливали тревогу. Вообще капитан не любил ночной город. Днем улицы наполнялись людьми, заботами — жизнь кипела — и это было хорошо. Дом, где жила Любарская, Антон нашел быстро. Зашел в первый же подъезд, определился: квартира Любарской по его подсчетам находилась на 6-м этаже второго подъезда. Оглядел фасад дома, который явно готовился к ночи, гася за окнами огни. На шестом этаже кое-где светились окна. Кажется, и у Любарских одно окно освещалось. Капитан присмотрелся. Это кухня, потому что ниже парой этажей светящееся окно задернуто веселой, в горошек шторкой с оборочками — такие обычно бывают в кухнях. И плафончики попроще. Проследил взглядом — точно, на кухне Любарских горел свет. Подавил желание подняться в квартиру — слишком поздно для непрошеного, да и нежеланного гостя. Медленно проехал вдоль улицы, нашел телефон-автомат. Двушки, как назло, в кармане не оказалось, пришлось бросить в автомат гривенник. Трубку никто не брал. Возвращаясь по слабо освещенной улице к дому Любарской, Антон раздумывал, как поступить. Показалась из-за поворота встречная машина, капитан машинально взял руль вправо, и в тот же миг лобовое стекло пронзил сноп света — водитель встречной машины включил дальний свет. Совсем ослепленный, Волна заслонил локтем лицо, нажал на тормоза, колеса впились в асфальт, машина встала. Пока зрение приходило в норму, Антон чертыхался, ругая неосторожного водителя. Как же можно врубать дальний на освещенной улице?! Жаль, не успел заметить машину, хотя по звуку мотора, кажется, это был "жигуленок”. А водителя следовало бы наказать за такие дела, ведь до беды недолго с хулиганскими замашками. Происшествие на дороге окончательно испортило настроение капитана — сплошное невезение, а не вечер. "Ночь, — поправил он себя, — ночь, а не вечер”. Он вышел из машины, до дома Любарской прошел пешком — всего-то несколько метров. Окно на шестом этаже уже погасло. Все, беспокоить жильцов нельзя. Ночь. Антон Волна заехал на "Радугу”. В будке у ворот довольный Иванцов пил чай с участковым — усатым молодцеватым своим ровесником. Хоть здесь был порядок. Глубокой ночью капитан добрался до дома и уснул, едва коснувшись головой подушки.ГЛАВА 6
Ночью прошел небольшой дождь, разрядил духоту. А утро выдалось хмурым и сумрачным, стволы деревьев у близкой опушки обнимал ранний молочный туман. Антон тоже был невеселым. Едва мы, высадив у детсада Людмилу с Катюшкой, остались одни, капитан принялся рассказывать о ночных событиях. Узнав о том, что не нашлась Любарская, встревожилась и я. — Давай заедем к ней, — попросил Антон. Дубовая дверь квартиры Любарской на лестничной площадке среди коричневых дерматиновых сестер выглядела, словно невеста, — светлая, нарядная, с блестящей ручкой финского замка. Антон нажал на кнопку звонка, затем растерянно оглянулся на меня: — Если дома только Таня — не услышит. Но послышалось щелканье замков, загремела цепочка, и дверь приоткрылась. Увидев испуганно-круглые глаза Тани, я поняла, что Любарской нет. Она не пригласила нас, вышла сама на площадку, затрясла отрицательно головой: — По-охо! — напряженно выдавила Таня. — По-охо! — и принялась жестикулировать пальцами, губами. ’’Плохо”, — было ясно. А больше ничего мы не могли понять. Увидела это и Таня, глаза налились слезами. Волна беспомощно развел руками: — Вышлю переводчицу, — раздельно, по слогам и почему-то очень громко сказал он Тане. Та согласно закивала, поняла. По пути в прокуратуру я спросила Антона: — Говоришь, ослепила тебя машина? И у дома Любарской? — Почти, — насторожился Волна. — Не узнал машину? — Ночью все' кошки серы, — сказал Антон. — По мотору — "Жигули”. — Да не она ли сама тебя и ослепила? Ехала домой, увидела тебя и не пожелала с тобой встречаться. Ослепила — ис глаз долой! — А что, это мысль. У Любарской как раз "Жигули”. Но фары, фары мощнейшие были. В общем, — подытожил капитан, — раз дело приняло такой оборот, надо заняться Любарской. Заскочу только на "Радугу”, помогу Радомс-кому начать ревизию. — Антон, опечатай склады на всякий случай, — посоветовала я. — Сказали "а”, надо говорить "б”. Волна согласился: — Пожалуй, ты права. Сейчас организуем. Он уехал, а я сразу позвонила в аптекоуправление — так мне не терпелось, так необычно было исчезновение потерпевшей. В отделе кадров мне сразу, без проволочек, сказали, что вчера под вечер Любарская взяла по семейным обстоятельствам неделю в счет отпуска. Вот это новость! Может,' ошибся Антон вечером, может, Таня хитрит и Любарская дома? "Что ж, вот приедет — пусть выясняет”, — решила я. Однако странно тревожным было все это. Справилась о Гулине. — Еще день-два, — сказал мне врач. Подождем. День-два не так и много. Едва положила трубку, раздался звонок: — Тайгина? Наталья Борисовна! — голос начальственный, уверенный и чуть знакомый. — Слушаю, — осторожно ответила, стараясь вспомнить, кому принадлежит вальяжный баритон. — Лебедев говорит… — А, Лебедев. Знаю. Встречались в исполкоме. Что за надобность во мне? — Наталья Борисовна, — голос Лебедева стал строгим и укоризненным. — Что за дела у вас на "Радуге”? Ко мне жалобы идут, работу срываете… — Вас информировали неверно, — я воспользовалась небольшой паузой, — работу на станции мы не срываем, расследуем дело, которое поручено прокурором… Лебедев перебил: — Но вы дергаете людей, отрываете от работы, задаете нелепые вопросы, а сейчас — пожалуйста, опечатали склад. — Я расследую дело. — Ну какое там дело, — раздраженно сказал мой собеседник, — посадили взяточника — и славу Богу! При чем здесь производство? Из-за одного преступника теперь страдает дело. Мы этого вам не позволим! Я старалась говорить спокойно, хотя поднималась злость. Не успели еще приступить к ревизии — пожалуйста, нашлась защита! И доводы какие — страдает производство! От ревизии ли оно страдает — надо разобраться. — Простите, но следствие ведется по плану. Ревизия на станции необходима. А виновным Гулина может признать только суд, так в нашей Конституции записано. Пока же не признал, засомневался и предложил провести новое расследование, что мы и делаем. Законными методами. — Да зачем вам ревизия? Вы подозреваете что-нибудь? Какие сомнения в виновности этого взяточника Гулина? — Следствие только началось, — сказала я, — и я не могу отвечать на ваши вопросы. — Мне не можете отвечать? — в начальственном голосе появились визгливые нотки и ударение — на первом слове. — Вам, — сухо сказала я. — И тоже в соответствии с законом. — Придется ответить, — поднял голос Лебедев, — и не только мне! — По всем вопросам прошу к прокурору, — твердо ответила я. — Не думаю, чтобы ваше вмешательство шло на пользу делу — и нашему, уголовному, и производственному. Лебедев не попрощался, как, впрочем, и не поздоровался, бросил трубку. Огорченная разговором, я обдумывала его. Кроме неприятного осадка, он оставил у меня уверенность в том, что мы задели на "Радуге” сферы, проверка которых кому-то нежелательна. Оперативность проявлена поразительная. Волна еще не сообщил мне о своих действиях, а исполкомовский Лебедев знает. И не только знает — пытается помешать. Откровенная угроза слышалась в его обещаниях! Ну уж нет. Не пройдет. Вспомнились его слова о преступнике — Гулине. Как уверен! А вот суд усомнился, Буйнов тоже. И я сомневаюсь. Вообще в нашей работе, я в этом уверена, сомнение — великая вещь и залог справедливости. Это несомневающиеся могут обвинить невиновного. От них, несомневающихся, второе страшное зло — непогрешимость решения. Нет уж, я буду сомневаться и искать. До последнего, пока не возникнет уверенность. Но другому дано право усомниться в правильности и моего решения. А если возникнет такое — новая и новая проверка. Истина вообще-то скрытная особа, а если еще ей, как в наших делах, помогают укрыться? У нас не просто производство, а производство справедливости, как же можно вот так, уверенно… Пришлось зайти к прокурору. Доклад мой не понадобился. Видимо, Лебедев звонил и ему. Я видела, что правое ухо Буйнова горит — он, когда сердился, так крепко прижимал трубку к уху, что оно краснело. — Ничего, Наталья, — сказал он. — Такие укусы беру на себя. Ты, видно, на правильном пути. Эта "Радуга”, понятное дело, обслуживает многих подобных "адвокатов", так что защита объясняется просто, да в наши дни не поможет. Справимся. Ишь ты, зона вне проверок и критики. А вот что у тебя с потерпевшей вышло? — Не можем разыскать потерпевшую. — Как не можете? — удивился Буйнов. — Тут жалоба на тебя. — От Любарской?! — Какая Любарская? От Сватко. Пишет, что беседовала ты с ней нетактично и она против этого возражает. Значит, и Галина Михайловна возражает против моих действий! А я ее интересы, вроде бы, не затронула. Если только насчет личной жизни… Но все ведь было тактично, и, собственно, ничего такого мы и не коснулись — не впустила меня Галина Михайловна в свою личную жизнь, но, поди ж ты, пожаловалась. Прокурору пришлось все-таки объяснить наши разногласия со Сватко. — Давай-ка ты поосторожней, — посоветовал он. В коридоре меня уже ждали: переводчица глухонемых и жена Гулина. Переводчица рассказала, что, по объяснению Тани, Любарская накануне куда-то уехала, попросив Таню недельку присмотреть за квартирой. Уехала на зеленой машине, той, что заезжала за ней раньше. Таня беспокоится, потому что Любарская была расстроена, а Таня ее любит. — Таня не может что-то скрывать? — спросила я. Переводчица даже руками замахала. — Что вы, что вы, Таня очень правдивая, честная. Дитя, большое дитя, — добавила она. Жена Гулина вошла в кабинет бочком, встала у моего стола, смотрела вопросительно. Увы, ничего не было для нее утешительного. — Разбираемся, — неопределенно сказала я, она кивнула в ответ и ушла, вновь оставив после себя жалость. О болезни ее мужа я опять умолчала. Оставшись в кабинете одна, откинулась на стуле, сунула руки в карманы платья. Комочек бумаги зашуршал под пальцами. Вынула, расправила бумажку, вгляделась в напечатанные мною строки: "Саша… больно…” Два слова, ставшие для меня равнозначными. А у той, что только что здесь была — свое имя и своя боль… Мне не поможет никто. Уже не поможет. Смогу ли я помочь другой? Может быть, это шло и вразрез с устоявшимися уже, ставшими стереотипами представлениями о следователе — этаком всезнающем бодрячке-моралисте, но я о своей работе думала совсем иначе. И ценила ее как раз за то, что могла реально, без громких слов помочь изобличить зло и тем утолить чью-то печаль. Ну, пусть не утопить, однако же… А пресловутая романтика следствия — какая уж романтика, если грязь, если кровь и опять же боль. Кощунственно искать романтику в людских страданиях. Вот Саша любил свою работу, потому что помогал страдающим… Человеческая боль… Я видела ее слишком часто. Она не проходила мимо меня, накапливаясь, как снежный ком, делая порой нестерпимой жажду добра, счастья. Я смотрела на смятый листок, поглаживала, размышляя. И — это уже профессиональное, мне стало казаться, что я видела где-то эти буквы. Вот кругляшок "о” на шрифте засорен, словно сеточкой подернут. Где еще я могла видеть такое? Где? И вспомнила! Открыла заявление Любарской. Вот она, такая же паутинка, прикрывающая овалбуквы! Так заявление Любарской отпечатано на машинке юриста "Радуги"! Интересная картина. Конечно, для вывода нужна экспертиза, придется назначить, но для предположения — совпадение видно сразу. Итак, обрадовалась я, мой поиск получает новое направление. На телефонный звонок я бодро откликнулась, думая, что звонит Волна: — Да! Ответил незнакомый мужской голос: грубый, нарочито спокойный, с заметным, мною хорошо различимым блатным акцентом: — Не шурши, ищейка! Ты найдешь, тебя найдем, пойдешь на перо… В ухо впивались назойливые гудки отбоя, а я все держала трубку. Вот так. Третья неприятность с начала дня — много даже для меня. Удивительное дело: удачи посещают меня скромно и чаще в, одиночку. Неприятности — те приходят толпой, словно сговорившись. Впрочем, эти сегодняшние неприятности действительно могли сговориться. А посему следует их обдумать и проанализировать — не будет ли пользы для дела? И я отправилась на "Радугу”.ГЛАВА 7
На станции технического обслуживания автомобилей капитану Волне пришлось пробыть дольше, чем он собирался. У входа на станцию его поджидал Иванцов, и капитан получил полную информацию о прошедшей ночи — все было тихо и спокойно, Хомин как убежал, так появился только утром на пересменок — хмурый и обиженный. — Начальство "Радуги” давно уже, чуть свет, — сказал Иванцов, — на территории. Охранник подмигнул Волне умным, старчески светлым глазом: — Не иначе, как готовятся к бою. — И мы готовимся, отец, а как же. Не просто к бою, к наступлению, — ответил Волна. Иванцову хотелось выговориться, он удержал Волну за рукав: — Учти, капитан, не одному мне порядки на станции надоели. Справедливость, гады, украли — вот что страшно. Души людские покупать стали, тьфу! И слаб человек бывает, продаются ведь, души-то. Кто из-за жадности, кто из боязни, кто как. Так я думаю, капитан, в этом вся беда и заключается. Любые машины, любые детали, самые что ни на есть дорогие и дефицитные — все сделать, повторить можно. А жизнь человеческая — нет, ее не повторишь. Продал душу — потерял себя, может, и не найдешь уже. Волна, соглашаясь, кивал головой, но Иванцов заметил, как нетерпеливо поглядывает оперативник на проходную, понял, отпустил рукав. — Мы с тобой, отец, еще побеседуем, — пообещал Антон, — дай срок, только вот разберемся здесь. — Удачи тебе, сынок, — пожелал старик, — до послезавтра. Ты помни, кого из мужиков тебе назвал — на них опирайся. Директор "Радуги” встретил известие о ревизии спокойно. Поморщился лишь, когда Волна сообщил, что опечатает склады. — Только пара часов нужна, чтобы обеспечить цеха деталями на время, — попросил Шершевич. Волна согласился: — Строго по документам. — Конечно, — Виктор Викторович смотрел укоризненно, — у нас иначе и не бывает. В бухгалтерии уже сидел Радомский, рассматривал табуляграммы учета. — Учет называется, — ворчал он, — табуляграммы отстают от жизни чуть ли не на месяц! Оперативность… Радомскому помогали ревизоры из КРУ — объем работы предстоял немалый. Радомский коротко рассказал Волне о своих планах и наметках. — А ваше дело сейчас, я уже говорил, батенька, приглядывать за станцией. Упустите, все пойдет насмарку — и ревизия, и прочие труды. Ревизор как в воду глядел. Раздался вдруг телефонный звонок, и взволнованный женский голос зачастил: — Милиция не у вас в бухгалтерии? Отправьте ихнего начальника к первому складу! Тут у нас драка идет. И Волна побежал к первому складу. Женщина чуть переборщила, драки возле первого склада не было, но шел крупный разговор, не утихший при появлении капитана. На молодого, тоненького, с длинными руками, смущенного донельзя парня нахраписто наступал молодой же, но плечистый мужчина в синем сатиновом халате. — Я руки об тебя марать не стану, сейчас мужиков кликну, они тебе накладут, — шипел он, — больше всех тебе надо, что ли? Ответь, больше всех? Парень помалкивал, отодвигался в сторону от напиравшего живота, обтянутого синим сатином, и откровенно обрадовался, увидев оперуполномоченного. — Теперь вот поговорим, — сказал он плечистому. Тот подобрал живот, оглянувшись на капитана, вытер ладонью потный лоб, зло сплюнул под ноги и направился к высоким двустворчатым дверям склада. Наблюдавшие ссору рабочие вмиг заспешили. Не успел Волна оглянуться, как остался один на один с парнем, который обрел, наконец, дар речи. — Антон Петрович, что же это делается? Обнаглели совсем, субчики. — Да что случилось? — Мы вчера с вами решили: я за этим складом закреплен. Сегодня с утра оживление в складах. Заметное весьма, — парень многозначительно помолчал, поджав губы, — как и ожидали. Похоже, цеха наши запастись решили деталями на всю оставшуюся жизнь. И завскладом ничего не жалеет — сыплет как из рога изобилия. Я на прошлой неделе комплект поршневых колец не мог выпросить — ждет клиент третий месяц, все сроки вышли, стыд один. А сегодня — видали — в комиссионный магазин поршневые кольца отпускают! Нашли неликвиды! Я комплект просил, а они, вишь, машину прислали. А я не дал вывезти. Возмущению парня не было границ. Волна понимал его. Поршневые кольца для двигателя — есть о чем говорить. Острый дефицит, так какие же тут неликвиды! Интересно, что за спешная эвакуация? Волна приоткрыл массивные двери, вошел в большое помещение склада. Несколько автокаров, загруженных до отказа, стояли у стола завскладом — того самого крепыша в синем халате. Сейчас он сосредоточенно читал накладную, делая вид, что приход оперуполномоченного ОБХСС его не касается. — Давай двигай, — сказал он водителю автокара, протягивая накладную, но тут же, как из-под земли, вырос перед автокаром длиннорукий парень: — Опять? — парень говорил уверенно и зло. — Предупреждал ведь я! Так что прошу накладную! Завскладом, отвернувшись, забарабанил пальцами по столу. Водитель автокара, пожав плечами, передал парню документ, и тот склонился над тележкой автокара. "Порядок”, — удовлетворенно подумал Волна. Этот парнишка спуску не даст. И обратился к завскладом. Лазуткин была его фамилия, капитан знал: — Почему препятствуете работе контролера? Лазуткин ответил устало: — Не знаешь, кому подчиняться! Пусть проверяет, его дело. — Когда отпуск деталей закончите? Склады опечатывать будем. Лазуткин кивнул на строй тележек, протянул неохотно: — Вот стоят. Отпущу и валяйте, опечатывайте. Волна наблюдал, как проворно шерстит тележки его добровольный помощник, всплескивает, возмущаясь, длинными руками. Итак, со склада пытались убрать дефицит. Тут и гадать не надо — Волна понимал, что это неспроста. И, значит, комиссионный магазин тоже придется проверять. Но Гулин к магазину отношения не имел. Совсем никакого, это Волна знал точно. Там командовал сам директор — его была епархия. А Виктор Викторович — фигура серьезная, голыми руками не возьмешь. Капитан знал Шершевича не первый день, приглядывался. Директор жил широко, но без особого шика. Или без рекламы? Машина, гараж, дача — мало ли у кого есть сейчас такие вещи. Как говорится, не удивишь. И все же Волна понимал, что знает о Шершевиче далеко не все, что хотелось бы. Да и положено по службе, вздохнув, вынужден был он признать. Антон обошел другие склады, удовлетворенный, вернулся в контору: в складах работа организована правильно. Отпуск материалов заканчивался, к обеду склады будут опечатаны, и начнется инвентаризация. Телефон Тайгиной не отвечал. Капитан позвонил в ГАИ, угрюмо выслушал сообщение дежурного: среди указанных оперуполномоченным лиц не было владельцев зеленых "Жигулей”. Аптекарша была популярной в городе женщиной, профессия и должность обеспечивали дефицитность Ренаты Леонидовны в самых разных, но в основном, конечно, в деловых кругах. Многие ее знакомые были автовладельцами, но, подумать только, зеленых "Жигулей” не было ни у кого, а сама Любарская имела кокетливо-женского красного цвета машину, которая, в отличие от хозяйки, спокойно стояла в кооперативном гараже под охраной сторожа — старого знакомца капитана, еще вчера проинструктированного им! Машина-то была на месте, а хозяйка исчезла. При воспоминании о Любарской у Волны защемило сердце: розыск надо активизировать. Зеленых "Жигулей” в городе много, какие из них увезли Любарскую и зачем? Оперуполномоченный снова попытался дозвониться до Тайгиной — бесполезно. Пошел в диспетчерскую, проверил книгу очередников — ни Любарская, ни Сватко никогда не числились в очереди на ремонт своих машин. Судя по словам Виктора Викторовича, они все же услугами "Радуги” пользовались. И очередь существовала не для них. Капитан попросил хмурого и сосредоточенного Радомс-кого отложить в сторону заказ-наряды Сватко и Любарской, если они все же встретятся. Проверил, есть ли заключение комиссии о необходимости замены кузова у машины Сватко. Заключения не оказалось. Как же без заключения, которое обязательно утверждал директор, пошла Сватко к главному инженеру? Антон направился к Шершевичу, но директор на его вопросы лишь пожал плечами: — Не могу объяснить, Антон Петрович. Но, помнится, Сватко обещала сама кузов достать, может, в этом причина, что нет заключения? — Стоимость работ по замене все равно комиссия должна определить, — возразил Антон. — Так-то оно так, — задумчиво протянул Шершевич, — однако в таком хозяйстве, как наше, всякие накладки возможны. Впрочем, сами в этом убедитесь, — и криво усмехнулся. Мелодично звякнул селектор, директор нажал клавишу: — Слушаю. Он слушал, и лицо суровело, сдвинулись к переносице брови, сошлись в короткий пушистый валик. — Сейчас буду, — сказал он в трубку и глянул на оперуполномоченного: — Вот вам, как пример, сюрприз. Авария. Проломлена ограда на контейнерной. Ну и, естественно, пострадал автомобиль. Не желаете глянуть? Ну что ты будешь с ними делать?! В голосе директора слышалась досада, но глаза смотрели весело, даже удовлетворенно — словно рад был директор, что подтвердили его доводы нерадивые работнички. Конечно, пришлось Волне побывать на контейнерной площадке. Шершевич молча выслушал сбивчивые объяснения шофера, крупного, лет сорока мужчины, в узких дорогих джинсах, сползавших под упругий живот. Пролет бетонной ограды был провален наружу — ячеистая плита лежала аккуратно, как висячий мост через средневековый ров. А задний борт голубого новенького "МАЗа” запал вперед, в кузов. — Зайдешь через час, — бросил Шершевич шоферу, — и чтобы к этому времени заделать проем. Досками закрыть пока. Шофер суетливо кивал, и эта суетливость никак не вязалась с мощным, уверенным телом, с упругими мускулами под синей футболкой. Эксцесс на контейнерной капитану совсем не нравился. Эта аккуратно уложенная на пустырь плита наводила его на мысли совсем не такие, как подсказывал директор. Прямо сказать, противоположные мысли. "Что ж, на то и щука в речке, чтоб карась не дремал”, — подумал Волна. Встречались в его работе ситуации и не такие. И он знал, что те, с кем он боролся, против кого выступал, они не так просты, как даже в книжках читалось, в кино виделось. Нет, его, капитана, противник сложнее — изворотливый, умный, с продуманной системой действий. И его недооценивать нельзя. Это тоже преступление — недооценить такого врага, который может обратить в свою пользу, а главный от него вред даже не материальный, нет — тут правильно подметил вахтер Иванцов. Моральные издержки, развращение душ — вот в чем основной ущерб. Плита, словно дорога в прошлое, заставила капитана принять еще одно твердое решение. Виктора Викторовича он не посвятил в свои планы.ГЛАВА 8
Капитан Волна, как мне сказали, был на территории, поэтому я принялась за дело, не дожидаясь его. Еще по дороге на "Радугу” решила, что вначале возьму образец шрифта юрисконсультовой "Оптимы” и только после этого допрошу его самого. Если юрисконсульт причастен к заявлению Любарской, он поймет, что значит отбор образцов. Паршин вышел из-за стола мне навстречу, поздоровался подчеркнуто учтиво. Серый чехол горбился, укрывая машинку — все было, как говорится, путем. Пригласила понятых, разъяснила, что собираюсь делать и с удовлетворением заметила беспокойство юрисконсульта. Он словно поеживался под великоватым костюмом, подергивал узкими плечами, отчего рукава пиджака удлинялись, закрывая костяшки пальцев. Приготовив бумагу, подошла к столику, сдернула дерматиновый грязноватый чехол. "Оптима”. Да, "Оптима”. Но вроде бы царапнуло меня что-то по сердцу. "Просто не разглядывала ее вчера”, — успокоила себя, чувствуя, однако, неладное. Заправила бумагу за валик, тронула клавиши — и побежали по белому полю буквы, — увы, мне стало окончательно ясно — не те. Совсем не те, что были вчера. Машинка была другая! Оглянулась, Паршин не успел отвести взгляд, смотрел настороженно и боязливо. "Ну, погоди”, — зло подумала я, но сомнений своих не выдала, довела начатое до конца. Расписались в протоколе понятые, ушли. Мы с Паршиным остались в кабинете вдвоем. Молчание затягивалось, и нервы у Паршина сдали: — Я вижу, вы чем-то недовольны, Наталья Борисовна? Не могу ли я помочь? — Можете, — сказаная спокойно. — Где ваша машинка? — Не понял, — ответил юрисконсульт на мой вопрос, но я не стала повторяться, ждала. — Я не очень часто печатаю, — заторопился вдруг он. — Мне неясно, о чем речь? Это моя машинка. "Оптима”. — Что ж, приступим к официальному допросу. Надеюсь, как юрист, вы знаете, что за дачу заведомо ложных показаний может наступить уголовная ответственность, — предупредила его я. Паршин затравленно озирался и напропалую врал. Казалось, он не очень-то и скрывает это — настолько неуклюжей и грубой была ложь. И лишь когда я вроде бы безразлично попросила папку с последними претензионными письмами и запросами, он замолчал. Подавая мне папку, неуверенно заметил: — Может, без моего ведома кто машинку заменил? На ремонт? А? Я засмеялась. — Найдем машинку, — ехидно пообещала я ему, — не извольте беспокоиться, найдем. Он мелко-мелко закивал, словно затряслась в припадке голова. В аккуратности юрисконсульту отказать было нельзя. Письма ровненько наколоты в скоросшивателе и — вот они, те вуальки на буквах, насторожившие меня. Вот они — в каждом письме, даже во вторых экземплярах! Удовлетворенно захлопываю папку — этого достаточно для экспертизы. А замена машинки тоже говорит о чем-то. Настроение у юрисконсульта подавленное, и он уже не так категоричен, как в начале допроса: — Возможно, просили и печатал — не помню. Любарскую знаю, но не помню, обращалась ли она ко мне. Возможно, и обращалась… Надо бы у нее спросить, — споткнулся было на последней фразе, но закончил. Ах, люди, люди! Я так хорошо представляла себе бурю, что в душе юрисконсульта. Вначале он казался себе умным и хитрым — эк, здорово обманывает следователя, то бишь меня. Но я-то — профессионал. Следователь. Работаю с людьми. Самыми разными. И научилась понимать кое-что. На ложь у меня особое чутье — просто аллергия. А если серьезно — ложь Паршина, я вижу, породил страх — тот, что мечется в глазах, подергивает плечи, выжимает крупный пот на лбу, неизвестно где переходящем в розовую лысину, старательно прикрытую зачесанными сбоку прядками. Этот вороватый страх даже запах имеет — он пахнет скверно, я чувствую. А Паршин страдает вовсю. Упал было духом, когда я зацепила его письма, но вновь воспрянул, едва догадался произнести: "Надо бы у нее спросить”. ’’Стоп”, — останавливаю я себя. Конечно, надо бы спросить, но ведь не спросишь. Нету Любарской. Что об этом знает юрисконсульт? Ишь, приободрился. Вроде реванш взял за машинку. Ладно, Вениамин Романович, придет время — спросим. Не беспокойтесь, юрисконсульт Паршин, придет время для спроса. Уже, считай, пришло. Но, говорил мудрец, кто хочет обвинять, не вправе торопиться. Посему с обвинениями повременим. Закончив работу с Паршиным, я зашла к ревизору. Радомский встретил меня приветливо, разулыбапся. До чего же приятный старик! Здано Янович показал мне свои записи, многозначительно подмигнул: — Гляньте, сударыня, сюда вот. Каллиграфическим почерком ревизора сделаны были уже довольно обширные записи. Я прочитала строчку, что указал мне Радомский. В графе "приход” значилось: "блок-фары ВАЗ-2105 — 2 тысячи штук”. В графе "расход” — цифра 200. Я вопросительно посмотрела на ревизора, тот засмеялся: — Запас сделан на 10 лет вперед, а ведь в других местах эти самые блок-фары — острый дефицит. — Запас карман не тянет, — попыталась я пошутить, но старик шутки не принял: — Тянет, да еще как. Такие накопления — благодатная почва для махинаций. Вам еще предстоит выяснить, зачем и почему этот запас. — Конечно, конечно, — я поспешила загладить неудачную шутку, рассердившую ревизора. Вскоре пришел Антон, мы обменялись новостями. Договорились, что созвонимся, и я уехала. В лаборатории судебных экспертиз пришлось долго упрашивать, чтобы экспертизу текстов сделали срочно, к завтрашнему дню. — Всем надо срочно, срочно, — ворчал эксперт. — Где мы время-то возьмем? Не с бухты-барахты дают заключение, здесь научно-исследовательское учреждение. Понимаете, научно-исследовательское. Я покорно кивала, соглашаясь. Конечно, мы, следователи, — эгоисты. Думаем лишь о себе и своих сроках. Да, конечно, нам наплевать, что нас много, а их, экспертов, — раз-два и обчелся. И что они тоже люди. Я готова принять обвинение во всех смертных грехах, только, пожалуйста, проведите экспертизу. Срочную. К завтрашнему дню. Чтобы Паршин и К0, а в наличии последней я не сомневалась, поняли: мы вооружены лучше их и шутить вовсе не намерены. Личный контакт все же возымел действие: эксперт согласился исследовать тексты срочно, вне всякой очереди. — Опять сегодня вечер придется сидеть. Меня скоро из дому попросят, ей-Богу, — пожаловался он. — А я — вот действительно эгоистка — обрадовалась. Будет с чем продолжить разговор с Паршиным. И завтра же! В прокуратуре меня тоже ждало хорошее сообщение: позвонил врач Гулина и разрешил мне встречу с ним — завтра к вечеру. На этом удачи иссякли. Закончились с сообщением капитана Волны, что к мужу, который уже почти полгода был на строительстве нефтепровода, Любарская не приезжала. Для розыска потерпевшей оставалась одна главная зацепка — зеленые "Жигули”. А они-то и не высвечивались. Несмотря на старания капитана и его товарищей. Противно защемило в груди: где, где женщина? Я успокаивала себя тем, что Рената Леонидовна взяла отпуск — значит, исчезновение входило в ее планы. Однако же… Хотелось бы знать об этих планах подробнее. Хмурый день сменился серыми унылыми сумерками: такая погода сама по себе настраивала на пессимистический лад. Настроение мое было неважнецким, когда я вышла из здания прокуратуры. И вот — неожиданность. У подъезда стояли… зеленые "Жигули”! Я замерла на месте, глядя на машину, в моей усталой голове забилось: чья машина? Почему здесь? Может, нашлась Любарская? Но я не могла с ней разминуться в пустом коридоре. Так я стояла, пока не хлопнула входная дверь моего учреждения и, легко сбежав по высоким ступенькам, к машине направился… Захожий! Не раздумывая, я ринулась к зеленым "Жигулям”. — Валентин Игоревич, — окликнула Захожего. Он резко обернулся, остановился. Не сумев удержаться, я налетела на него, и он придержал меня руками. Во взгляде Захожего было изумление. — Не подвезете? — попросила, не придумав лучшего предлога задержать, не упустить зеленую машину. — Прошу, — вежливо, но сухо сказал Захожий, обошел машину, распахнул переднюю дверцу, — прошу, Наталья Борисовна, — и широким жестом указал на сиденье. Пришлось подавить возникшее чувство неловкости, извиниться за внезапное вторжение. — Устала очень, добираться до дому долго, — мое объяснение было, конечно, правдой. Только не поэтому ворвалась я в машину Захожего. Мне вдруг стало смешно и стыдно: зеленые "Жигули” — их тысячи в городе, и что, в каждые я буду так необдуманно прыгать?! А это машина моего товарища по работе. Да, он допустил ошибку, но подозревать его в чем-то другом не было оснований. Однако назвался груздем — полезай в кузов. В конце концов, это ему запрещено вмешиваться в расследование. Мне же никто не может запретить беседовать с кем считаю нужным. Следователь — самостоятельная процессуальная фигура. — Подкинули вы мне дельце, — осторожно начала после недолгого, но напряженного молчания. — Это прокурор вам удружил, — возразил Захожий. — С вашей подачи, — не согласилась я. — Вот теперь и помогайте. — Чем могу — ради Бога, — мой собеседник сказал это без неудовольствия, с готовностью, что мне понравилось и укрепило мое решение. "Жигули” медленно двигались в неплотном уже ряду машин. Нас часто обгоняли автомобили, и я провожала их взглядом, причем всякий раз глаза обращались к зеленому капоту "Жигулей”, не давая погаснуть возникшей еще у крыльца прокуратуры тревоге. — Валентин Игоревич, — попросила я, — расскажите мне о деле. В нем странностей много, — нарушила я молчание. — Какие странности? — Захожий пожал плечами. — Все было нормально. — На "Радуге” вы бывали во время следствия? — К чему? — спокойно удивился Захожий. — Я вызывал нужных мне свидетелей. А по окончании дела направил представление в Объединение. — Но люди… — Подчеркиваю, — перебил меня Захожий, — всех нужных, — он сделал ударение на последнем слове, — людей я допросил. — А причины? — настаивала я. — Причина взяточничества в чем? Почему Гулин взял взятку за то, что станция обязана была сделать? Заменить мотор, кузов — это же их служебная обязанность, для этого, собственно, и существует станция! Захожий посмотрел на меня недоверчиво: — Вы что, Наталья Борисовна, действительно так наивны? Или прикидываетесь? Если последнее, то зачем? Мне известно: вы были на "Радуге”, и не раз. Значит, обстановку знаете. А я как автолюбитель все испытал на собственной, вот, — он хлопнул себя по шее ребром ладони. — Хорошо еще, мне Лебедев помог, не то бы помучился. — Кто-кто? — изумилась я. — Лебедев, а что? — Да так, — уклонилась от прямого ответа и не удержалась от уточнения: — А Лебедев какое отношение имеет к "Радуге”? — Ну как, он курирует транспорт. По линии исполкома. Направил меня к Паршину, юрисконсульту. Тот мигом все организовал. — Скажите, а Лебедев расследованием не интересовался? Тем, первым? Захожий пожал плечами: — Не припомню такого. Во всяком случае, официально, кажется, нет. — У него тоже машина? — "Жигули”, — кивнул Захожий. — Какого цвета? — не утерпела я. Дались же мне эти зеленые "Жигули”! — Не припомню, — он задумался. Наконец решительно тряхнул головой: — Нет, не помню. Ну ладно. Это мы установим в два счета. Приступим все же к зеленой машине, товарищ Захожий, не зря же я так бессовестно влезла в нее! Хитрить не имело смысла, и я спросила прямо. — Вы не знаете, где Любарская? Захожий в удивлении даже чуть притормозил, и я угадала ответ: — Откуда? И почему я должен это знать? А что с нею? В голосе Захожего слышались укоризна и обида — мне стало не по себе, я поспешила ответить: — Не явилась Любарская на допрос. Я подумала, возможно, вы знаете, где она может быть, все же расследовали дело. Она таких фокусов не выкидывала? — Нет, не случалось. Раз так получилось, пойду до конца, чтобы больше не возвращаться к неприятному разговору. — И еще вопрос, — видела, как побелели костяшки пальцев, сжимавших руль. Понимала, как неприятны вопросы Захожему, но что я могла поделать? Интересы расследования — полного и объективного, как сказано в законе, — превыше всего. И я продолжала: — Как получилось, что Любарская пришла к вам добровольно 3 мая? Когда истекал срок задержания Гулина? Захожий ответил не сразу, сосредоточенно думал, затем сказал: — Она пришла с Паршиным. Заявление принесла готовое. Паршин, опять Паршин! Вспомнилась тщедушная фигурка юрисконсульта. Что, внешность обманчива? Завтра получу заключение, да еще вот этот факт. Может, вспомнит юрист, кто печатал заявление Любарской? И кто диктовал заявление Сватко? "…Прошу в соответствии с требованиями закона освободить меня…” Эту фразу из заявления я помнила наизусть. Если составлены они Паршиным, то понятно, откуда в них одинаковый язык "сушеной воблы” — витиеватый штамп бродил по всем бумагам юриста, я читала составленные им документы. Мои размышления прервал Захожий: — Неужто я у вас на подозрении? — горько спросил он. Я видела покрасневшее, как тогда утром, лицо, набрякшие веки, морщины на лбу — переживает человек. — Вопросы, — ответила я, — куда от них денешься? Остаток пути мы проехали молча, и лишь когда зеленые "Жигули” встали у моего подъезда, не удержалась, спросила еще: — А что за человек Шершевич? Ваше мнение? — Самое лучшее, — сказал Захожий и тут же поправился: — Впрочем, близко с ним не знаком. Только по делу вот в связи с ремонтом этой, — он хлопнул руками по рулю, — старушенции. Случай со взяткой на "Радуге" он переживал, винил себя, что не уследил, но Гулина не порочил. На этом мы расстались, и я поднялась к себе с чувством какой-то неловкости. Но чувства чувствами, а факт остается фактом: у Захожего зеленые "Жигули”, но где Любарская, он не знал. Говорил, что не знает, поправила себя.ГЛАВА 9
Шла по городу ночь. Укутывала, скрывала спящий город. Безуспешно сопротивлялись тьме редкие фонари. Шла по городу ночь. Плотно прикрыла, занавесила темным своим пологом видавший виды автомобиль капитана Волны, скрыла от посторонних ненужных глаз. Антон боролся со сном. Голова тяжелела, клонилась к рулю на большие уютные руки. Сильное тело устало от неподвижности, ноги противно мозжило, словно после большой пробежки. Время приближалось к двенадцати, и ожидание было напрасным. Грызло беспокойство за помощников — как они там? Появилась виноватинка — не зря ли взбудоражился сам и поднял людей. Впрочем, люди вызвались сами. Но он продолжал верить — операция не сорвется Слишком ретиво и скоро менялась ситуация на "Радуге”, что-нибудь да это значило. Медленно-медленно тянутся минуты — не то что днем, когда они исчезают одна за другой, словно песок из редкого сита, — не удержать. Антон тяжело заворочался на тесном сиденье, пытаясь устроиться поудобнее, и тут — не подвело капитана чутье — увидел в ночи неяркий отблеск света — близко от земли пара желтых светляков ощупывала дорогу. Слышался уже и шум мотора. Ненавязчивый, ровный. ’’Хороший мотор”, — машинально отметил капитан и протянул руку к ключу зажигания. Операция начиналась. Следя за точками подфарников незнакомой машины, Антон представлял картину событий у недалекого забора "Радуги”. Чуть изменился тембр мотора — это шофер притормозил у опрокинутой плиты ограды. Вот преодолена эта преграда. Плита возвышалась над землей, и когда задние колеса глухо шмякнулись на грунт, явственно послышался металлический звук — словно встряхнули сумку с инструментами. Осторожно и медленно двигалась машина к дороге, вот наконец вскарабкалась по небольшому косогорчику, перевалилась на асфальт — сначала одним, затем другим колесом. И снова послышался звон — машина была тяжело нагружена. Подфарники очерчивали неяркие полукружья дороги и, не включая фар, водитель стал набирать скорость. Антон подождал немного, глянул на часы — пора. Ровно через 10 минут после него, как условлено, тронутся в погоню помощники. А главную задачу нужно решить ему, капитану Волне. Кем, что и, основное, куда вывозилось ночью со станции? Напрасно подсмеивались над машиной капитана. Мотор работал как часы — мощный, проверенный. Грузовик уже исчез из виду, лишь в открытое окно доносился слабеющий шум, и по нему капитан рассчитал нужную дистанцию. Чтобы не потерять машину и не быть замеченным. Скорость была приличной. Осталась позади окраина, гонка продолжалась по загородному шоссе. Куда? — недоумевал капитан. Решил чуть сократить расстояние — здесь, за городом, мало ли кто следует попутно. А вскоре начнутся развилки — Волна знал эту дорогу. Шум мотора стал слышнее, но машина лишь угадывалась вдалеке. По самым скромным подсчетам, пройдено полсотни километров, никак не меньше. Неосвещенное шоссе прорезало вплотную подступавший лес, потом оторвалось от него, оставив где-то внизу верхушки деревьев. Пошел косогор. Прибавив скорость, Волна забеспокоился о тех, кто подстраховывал его, — не слишком ли оторвался. Отвлекся, оглянулся, а когда вновь глянул вперед, заметил темный контур грузовика. "ЗИЛ”, — удовлетворенно отметил он, довольный, что верно угадал это раньше, по звуку мотора. Потом в ровном ритме движения словно нарушилось что-то. "Встречный", — догадался Антон, принял правее, не снижая скорости. Огни встречной машины спокойно приближались. Внезапно, как удар по глазам, яркий сноп света — широкий, ослепляющий. Необычно мощный дальний свет, по-хулигански, с прицелом направленный на "Жигули”, плотной белой завесой закрыл для Антона все вокруг. Он невольно откинулся на сиденье и, полуослеп-ший, вдруг увидел в устрашающей близости перед собой огромные колеса и голубой с вмятиной кузов. Самосвал! У самой обочины стоял самосвал! Многолетний опыт подсказал решение. Маневр влево опасен для встречных! Автородео! Тренированное тело само приняло нужную позу. Руль вправо, мощные руки рванули баранку, послушная юркая любимица Антона, словно понимая, чего от нее ждет хозяин, почти не коснулась правыми колесами зыбкой щебенки, вывела на левый, обошла со свистом темную тушу "ЗИЛа”. Уже на прямой, словно испугавшись того, что могло случиться, завиляла было, не в силах прийти в себя, но быстро успокоилась, ведомая знакомыми руками. Все! Антон вытер со лба мгновенно проступивший пот, пошевелил крутыми плечами, освобождая их от неприятно облепившей рубашки. За первой мыслью: "Обошлось”, пришла другая: "Машина без сигнальных огней — недалеко до беды”. И когда шагнул на асфальт, увидел коренастую фигуру, спрыгнувшую с подножки голубого знакомого "ЗИЛа”. Фигура тоже была знакомой. Только днем, у проломленного забора, в руках коренастого не было монтировки. "Ну это уж зря!” Вспомнилось вдруг бытующее мнение, что "клиенты” ОБХСС с кистенями не ходят. "Ан ходят! Вот она, монтировочка!” Антон рассмеялся своим мыслям. Встреча на дороге не испугала, нет. С коренастым он справится. Но вот-вот подъедут ребята, и надо предупредить их об опасности на дороге — это главное, а не тот, с монтировкой. Коренастая фигура по мере приближения капитана двигалась навстречу все менее решительно, затем толстяк резко повернул назад, и уже у подножки Антон успел схватить его за плечо. Шофер с силой швырнул монтировку в кусты, обернулся. Знакомое, сейчас искаженное страхом лицо — разрушитель забора! А там, в кабине, напряженно приглядывался к событиям на дороге другой знакомец. Паршин. Прямо с подножки самосвала Волна включил сигнальные огни, выдернул ключи зажигания. Значит, аварию на дороге хотели устроить те, за кем он следовал! Неужели умышленно? Или здесь что-то другое? Махнул рукой Паршину, тот понял правильно, медленно вышел из кабины, обошел вокруг капот, бросил тревожный взгляд на дорогу, за ним оглянулся и коренастый. Тогда капитан понял: ждут. Кого-то ждут следом. И это беспокоит больше, чем задержание. Не задавая вопросов, Антон вспрыгнул на колесо, заглянул в кузов и присвистнул: ящики, ящики, упаковки и вон в тех, высоких, явно лобовые стекла — он видел их на складе. — Как это понимать? — обратился он к Паршину. Тот молча пожал плечами. — А? — капитан глянул на шофера. — Я ни при чем, начальник, — водитель вскинул широкие ладони с оттопыренными мизинцами, — мне велели — я сделал. Мое дело — крутить баранку, отвечают они, — махнул он головой в сторону Паршина и добавил: —Так договорились, начальник. — А монтировка? — поинтересовался Антон. — Так не узнал вас вначале, — ответил шофер. Паршин молчал, тревожно поглядывал на темную полосу дороги, откуда уже слышен был шум машины. И не мог скрыть облегчения, увидев приближавшуюся "Волгу”. Раздался визг тормозов, разом распахнулись дверцы. Спешили к капитану его помощники.ГЛАВА 10
Сон был зовуще тревожным, незавершенным. Я проснулась с бьющимся сердцем — давно и безуспешно призывала Сашу прийти ко мне хоть во сне. Сегодня, наконец, я увидела его. Близко, совсем рядом со мной он бежал куда-то вместе с моим юным дедом, о котором я знаю лишь по рассказам. Дед не пришел с войны, погиб в последние ее дни. Почему он приснился мне вместе с Сашей? Они бежали, ровесники, в непонятную даль, куда-то стремились, увлекая за собой меня. И были похожи, как братья, хотя там, во сне, я твердо знала, что это мои дед и муж. Куда мы бежали? Глаза открывать не хотелось, так бы и мчалась я вместе с навсегда ушедшими, из которых один дал мне жизнь, а другой — любовь. Бесценные дары, ни с чем не сравнимые, и вечный я должник на земле. Стряхнула оцепенение, встала. Наконец-то и твоя очередь пришла, утренняя гимнастика. Взбодрилась холодным душем. Все. Готова к новому дню. А из сердца не уходил странный неизвестный простор, где легко бежали мы — я, дед и Саша. Прерывистый, требовательный дверной звонок заставил меня вздрогнуть. И по лицу вошедшего Антона я сразу поняла: что-то случилось. Предчувствие не обмануло. Едва поздоровавшись, Антон сказал: — Погибла Сватко. Едем. — Как? — я присела на стульчик в прихожей. — Автодорожное происшествие, — коротко ответил капитан и нетерпеливо добавил: — Едем, едем быстрей. — Дай доложить начальству, минутку. Мой телефонный звонок застал прокурора на месте. Он, как и я, любил работать по утрам. Выслушав, Буйнов без особого энтузиазма согласился с моим решением выехать на место автодорожного происшествия, где погибла Сватко. — Ты уверена, что тебе там быть необходимо? Времени потеряешь много, — сказал он. Я глянула в сторону Антона, который нетерпеливо топтался в прихожей. Напрасно он не стал бы меня беспокоить. — Ничего, — ответила я, — в нашем деле иногда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. — Ну, действуй, — согласился прокурор. — Что, Буйнов возражал против поездки? — спросил Антон уже в машине. — Ты же знаешь, автодорожные дела подследственны милиции, не нам. — Я почему за тобой приехал? — сказал капитан. — Давай посмотрим сами на месте, обычное ли это происшествие на дороге, не стоит ли за ним чего похуже. Обстоятельства-то не ахти, насколько мне известно. Сам по себе факт интересен: Сватко погибла, Любарской нет. А это обличители Гулина. По существу, единственные. Действительно, как странно. Одна исчезла, другая — погибла… — Ты мне о происшествии расскажи, — спохватилась я. — Мало что сам знаю. Пришел на работу, читаю сообщение — в 6.30 погибла Сватко в автодорожном происшествии. — Наезд? Столкновение? — В том-то и дело, — задумчиво проговорил капитан, — ни столкновения, ни наезда. На загородном шоссе, 97-й километр, "Волга” Сватко вспыхнула на ходу, как факел. И сгорела Галина Михайловна… Там же, на месте скончалась… Наши выехали уже, бригадой. А я — к тебе. Правильно? — Конечно, — ответила я. Машина Сватко вспыхнула на ходу. Почему? Конечно, "Волга” старая, вот и кузов замены требовал, с него, собственно, все и началось. Но в моей практике не встречалось такого, чтобы пожар в машине возник вот так, на ходу и без особых причин. Тут придется голову поломать, наверное. А может, случай? Тоже исключить нельзя. Его Величество Случай частенько преподносит сюрпризы, особенно в нашей работе. Правильное решение — посмотреть все на месте. Догадки строить рано. — А Любарская? — я повернулась к Антону. — Сам думаю о ней. Видишь, мы уже мыслим синхронно, — усмехнулся он. — Все ее связи проверены. Легальные связи, — уточнил капитан. — У мужа нет, дома нет. Проверены знакомые с машинами. Никто ее не видел в зеленых "Жигулях”. И у знакомых ее такой машины нет. Значит, или тщательно скрываемая связь, или… — он помолчал, — ошибается Таня. Добросовестно заблуждается… Будем уточнять. Да, будем уточнять. Страшное известие о Сватко отодвинуло мысли о текущей работе, но с упоминанием Тани я вновь вернулась к нашим ежедневным заботам. — Чем день-то закончился? — полюбопытствовала я, и капитан рассмеялся: — Как это закончился? День только начался. — Вчерашний день, — досадливо перебила я капитана. Мне было не до шуток. — Вчерашний… — протянул он, — вот чем закончился вчерашний день и начался сегодняшний. И Волна рассказал мне о ночной гонке, о задержанной машине с дефицитными автодеталями. — Дожидается тебя Паршин для серьезного разговора, — закончил капитан, — и шофер тот самый, что забор проломил "нечаянно”. На всякого мудреца довольно простоты, — заключил Антон в своей обычной манере. Вот уж действительно. События сплетались причудливо и пока непонятно. Само нагромождение их было тревожным, словно разворошено осиное гнездо, и осиные укусы заставляли забывать, отводили от главного моего дела — взяточника Гулина, лежавшего в тюремной больнице. Что, я буду теперь заниматься кражей дефицита, автодорожным происшествием, ревизией "Радуги”? А Гулин? Сегодня к вечеру я увижусь с ним. Что скажу? Пока есть о чем его спросить, — успокаивала себя, — спрошу. Сказать свое слово успею. А вот с Паршиным самая пора поговорить. В том, что эксперт подтвердит мое предположение, я не сомневалась. Да и ночные события ему придется объяснять. Капитан Волна вел машину уверенно, словно играючи. Проносились мимо километровые столбики, мелькали стволы деревьев на обочине, навстречу нам сплошным потоком двигались машины — люди ехали на работу. Отдохнувшие, спокойные, каждый со своими заботами, радостями и печалями, они спешили в город к своим делам, к своим надеждам. Мы же спешили к несчастью. Непоправимому, страшному, не принимаемому сердцем. Антон остановил машину, не доезжая до установленного знака "дорожные работы”, — им работники ГАИ "огородили” место трагедии. Навстречу, размахивая руками, бросился молоденький лейтенант и, узнав капитана, смущенно проговорил: — Я думал, любопытные. Следователь милиции, эксперт-криминалист уже заканчивали осмотр места происшествия. Печальное зрелище являла собой потерпевшая аварию "Волга”. Лежала на боку, еще слегка дымясь и подрагивая, словно большое агонизирующее живое существо. Сгоревшая краска отсвечивала бурым, как выступившая кровь. А на опушке, у тонкоствольных берез, стоял судебно-медицинский эксперт Голышев, ожидая очереди своей печальной работы. Я подошла к нему. Удивительно голубые глаза эксперта, как всегда, были грустны, и на мой вопросительный взгляд он лишь молча развел руками. В тени под березкой, укрытое черным, лежало то, что было совсем недавно Галиной Михайловной Сватко. Снижая ход, проезжали мимо машины, негромко переговаривались люди в милицейской форме и в штатском, осматривая, замеряя, фотографируя. Но все звуки словно отталкивались от черного бугорка, окружая его молчанием и тишиной. Меня всегда поражала эта тишина возле мертвых. Особая, величественная, завершенная. Окружающие звуки лишь подчеркивали ее Вечный покой — сказано верно и мудро. К нам подошел следователь, снял фуражку, вытерев потный лоб. — Ну что? — спросил Антон. — Газ, — ответил следователь, приглушая голос, — газовый баллон в багажнике. Вентиль баллона приоткрыт. При тряске утечка газа привела к взрыву. Ах, какая неосторожность, — поморщился он, — какая неосторожность! Мы с Антоном переглянулись. Утечка газа из баллона в багажнике?! Куда же везла газовый баллон Галина Михайловна рано утром? Откуда ехала и куда везла баллон? Что здесь? Тот самый случай или…? Но кто и зачем? Я уже знала, что отвечать на эти вопросы придется мне. Нам, поправила себя. Все эти люди, что работают сейчас здесь, эти и другие, будут помогать мне, и мы найдем ответы на все вопросы. Найдем! Взгляд Антона был тревожным и напряженным. — Поговорю с криминалистом, — сказал он и направился к обгоревшей "Волге”, где орудовал эксперт. Я осталась с медиком и следователем, который подозвал понятых для осмотра трупа Сватко. Голышев осторожно откинул черный покров, и я сделала над собой усилие, чтобы не отвести глаза. Не знаю, как жизнь, но смерть не была милосердна к этой женщине, огонь до неузнаваемости изменил миловидное лицо и стройное тело. Из учебников я твердо помнила, что поза, в которой лежала Сватко, — "поза боксера”, характерна для погибших от пламени, но мне в ту минуту показалось, что женщина прижала руки к груди, молчаливо умоляя меня о чем-то, что уже не могла сказать. Подул ветерок, молоденькая березка над телом горестно всплеснула ветвями и уронила на лицо погибшей листочки — как слезы… По окончании осмотра я прочла протокол, убедилась, что зафиксированы все детали, переговорила со следователем. План его действий меня вполне устраивал. Подошедший Антон договорился со следователем о встрече для обмена информацией. Весь обратный путь мы молчали, и лишь когда машина остановилась у подъезда здания экспертной лаборатории, куда я попросила подвезти меня, чтобы получить заключение, Волна сказал: — Сватко убрали. Я молчала, и капитан повторил: — Убили Сватко. Нелегко было подтвердить, что я думала о том же, не хотелось и давать единственное направление этому расследованию, поэтому я ограничилась неопределенным: — Проверять надо, Антон. Все проверять. Ты понимаешь цену своей заявки? Капитан Волна молча кивнул, лицо было хмурым и сосредоточенным, широкие брови сошлись к переносице. — Понимаю цену, — ответил он. — Если ошибаюсь, ничего не случится. Но если я прав в своем предположении — это уже активное наступление на нас. Сватко больше ничего не скажет, не подтвердит, не опровергнет. А вот Любарская… Все, НатальяБорисовна, сегодня у меня вопрос номер один — аптекарша Рената. Я еду к Тане и потом позвоню. Закончишь с Паршиным — жди меня. В лабораторию я вошла совершенно подавленная. Антон высказал мои подозрения. Оформил словами мои мысли, усилил волнение. Дело о взяточнике Гулине принимало неожиданный и страшный поворот. Эксперт встретил меня весело и доброжелательно, ни следа от вчерашнего недовольства. — Пришлось посидеть, но вот, — он протянул мне уже оформленное заключение. — Ваша догадка верна. Текст заявления Любарской и тексты претензий юриста Паршина отпечатаны на одной машинке. Заключение категорическое. Могу добавить, что отпечатано с одинаковой степенью навыков. Я поблагодарила эксперта, но он заметил мою озабоченность, осторожно спросил: — Что-нибудь еще? — Нет-нет, — поспешила я, — просто перевариваю факты. — Понятно, — успокоился он и, добрая душа, предложил, — а то заходите еще. Будут вопросы — прошу. Отказать вам невозможно. Воздействуете личным обаянием. Я почувствовала на себе его заинтересованный взгляд и, смутившись, простилась. А уходя, поймала себя на мысли, что мне приятны его слова о личном обаянии, прозвучавшие как комплимент, и даже взгляд его, не сочувственный, как я привыкла после смерти Саши, а просто веселый мужской взгляд, не возмутил. Заставила себя не думать об этом, что было совсем не трудно. В коридоре прокуратуры меня встретила Инна Павловна: — Тебя, подруга, Волна обыскался. Я поминутно к твоему кабинету бегаю. Звони ревизору, он там. Едва я вошла в кабинет, как позвонил Антон: — Наташа, сейчас заедут за тобой ребята. Я решил Тане машины предъявить на станции. Все марки здесь есть и все цвета. Одно слово — радуга. Пусть посмотрит и покажет, на какой увезли Любарскую. Так поточней будет, верно? Нельзя было с ним не согласиться. Придумано хорошо: предъявить Тане машины разных цветов и марок, пусть укажет похожую на ту, что мы разыскиваем. — Когда заедут? — уточнила я. — Уже выехали за переводчицей и Таней. Я прикинула, что допросить Паршина не успею. Комкать допрос не хотелось. С юрисконсультом разговаривать буду основательно. Зашла к прокурору, доложила обстановку. Василий Семенович выслушал все внимательно и молча, побарабанил пальцами по столу, широкой ладонью ухватил подбородок — налицо все признаки раздумья. — Ну что сказать? — наконец промолвил он. — Жаль женщину… эту потерпевшую, Сватко. Я тебе советую, пусть поработает милиция над этим делом, но и ты подключись, дай направление розыску. Видишь, как все оказалось непросто, — задумчиво добавил он, — как все непросто… Заглянула в кабинет Инна Павловна, с явным недовольством позвала меня: — Разыскивают опять, замучили. Таня испуганно жалась в углу, на заднем сиденье, рядом с переводчицей, через которую я объяснила, куда и зачем мы едем. Глухонемая вопросительно смотрела на переводчицу, та успокаивала ее, и я, повинуясь порыву, погладила Танины беспокойные руки. Таня порывисто вскинула голову, в глазах — целая гамма чувств: от тревоги до признательности. — От хозяйки так ничего и нет, — стала рассказывать мне переводчица, — ни слуху ни духу. Таня послушно ждет, как та велела, но волнуется, когда ее вызывают, думает, что плохое случилось с хозяйкой. Вот и сейчас… Что было сказать Тане? Она понимала, что мы безуспешно ищем Любарскую. И не вредила ли нам ее беззаветная преданность хозяйке? Не направляла ли Таня нас по ложному следу? У ворот "Радуги” опять дежурил мой старый знакомец Иванцов. На этот раз он встретил меня приветливо, рассказал, что капитан Волна звонил на проходную и ждет нас. Антон встретил нас у конторы, и Таня радостно, как хорошо знакомому, улыбнулась ему, закивала головой, как бы говоря, что да, она постарается помочь ему, она очень постарается… Оставив Таню с переводчицей возле входа, капитан отозвал меня в сторонку. — Глянь-ка, — шепнул он и направился за угол здания. Я поспешила за ним и ахнула, увидев приготовленные Антоном машины, а он горделиво, как собственных детей, оглядывал их. Капитан постарался. Каких только машин не было здесь! Выстроенные в ровную линию, стояло не меньше десятка "Жигулей” самых разных оттенков зеленого цвета: изумрудные, малахитовые, темно- и светло-зеленые, с чуть намеченным и сочным зеленым отливом и еще каких-то, уж совсем незнакомых мне оттенков, напоминающих зеленый. Да, Антон постарался. — Ну! — я развела руками. — Слов нет! — Начнем? — спросил довольный капитан, и я в ответ кивнула, расстегивая портфель с бланками. В том, что среди этого обилия Таня отыщет машину, похожую на ту, в которой уехала Любарская, я не сомневалась. К машинам Таня подошла осторожно, словно опасаясь, осмотрела внимательно, оглянулась на стоявшую чуть сзади переводчицу, я перехватила этот взгляд и заметила в нем растерянность. Может быть, глухонемая не поняла, чего мы хотим от нее? — Надо еще раз ей все объяснить, — сказал Антон, тоже заметивший неуверенность Тани. Через переводчицу я вновь стала рассказывать Тане, что пусть она посмотрит на эти зеленые машины и скажет, есть ли похожая… Переводчица быстро жестикулировала руками, Таня внимательно смотрела на нее, потом отрицательно замотала головой, волнуясь, даже руки тряслись, стала отвечать переводчице, а мы все поняли и без перевода. Обескураженный Антон стоял молча, а я заполнила бланк протокола опознания — порядок есть порядок. Ушли понятые, а мы все стояли у разнооттеночного зеленого ряда. Глянув на часы, я сказала Антону: — Отправляй нас, парень, да ищи новые пути. — Придется, — ответил капитан, — придется придумать что-нибудь новенькое. А я так надеялся… Останусь здесь пока, с Радоме ким посижу. Да, а на чем же отправить вас, — спохватился он. — Попроси Шершевича, отправит, — посоветовала я. Не хотелось, чтобы женщины добирались до дома городским транспортом, уж больно далеко от центра была эта "Радуга”. — Нет его с утра, — ответил Антон, — да сейчас придумаем что-нибудь, минутку, — и убежал в контору. Вернулся он через несколько минут и сообщил, что бухгалтер с кассиром скоро едут в госбанк и подвезут Таню с переводчицей. — А тебя сейчас от проходной отправлю, — сказал капитан и заторопился к выходу. Я простилась с переводчицей и расстроенной Таней. И ушла с тяжелым сердцем. Жалко было глухонемую Таню, жалко Галину Михайловну Сватко, превращенную в безмолвный холмик у березки… И себя стало жалко. Пока ехала на попутной машине и затем поднималась по гулкой железной лестнице прокуратуры на второй этаж, вспомнились собственные горести и вот еще теперешние неудачи. Подступил к горлу горький ком. Еще не хватало мне расплакаться. Прелесть какая картина: следователь прокуратуры Тайгина ревет в коридоре! Мне нужно было отвлечься, хоть на минутку, чтобы собраться, справиться с расшалившимися нервами. Нет, что ни говори, а страшные утренние события выбили меня из колеи. На люди мне надо, на люди. Не оставаться одной. Идя к себе в кабинет, заглянула к Инне Павловне, та была одна, махнула рукой — заходи, мол. И, увидев мое лицо, поняла, что мне плохо, не стала расспрашивать. — Знаешь, что моя-то опять учудила? — бодро спросила, молодец Инна, и стала рассказывать о своей дочери, которая была, на мой взгляд, умницей и красавицей, но Инна — мать, построив для себя модель идеальной пай-девочки, безуспешно пыталась приблизить ее к этой модели. Она терпела поражение за поражением, однако вновь и вновь возобновляла попытки. Хотя и сама не раз признавала со смехом, что дочка доставляет ей гораздо меньше хлопот, чем сама она когда-то своей маме. Слушая про Иннины заботы, я успокаивалась, приходила в норму. Жизнь текла, несмотря ни на что. Прекрасная жизнь, где влюблялись девятиклассницы и убегали на свидание в маминой блузке… Однако накрытый черным холмик под белой березкой, как заноза, не оставлял мою память.ГЛАВА 11
Капитан Волна, обескураженный неудачей, проводил расстроенную Таню и переводчицу до проходной, поручил их Иванцову и оставил дожидаться машину. Иванцов подсел на скамейку к переводчице, затеял с ней разговор, а капитан поспешил в контору к Радомс-кому. Старый ревизор сидел один в освободившемся кабинете Паршина. От взгляда Антона не ускользнуло, что светлые глаза Радомского окружила синеватая тень и виски словно ввалились, сузив лицо, от чего еще более выдался вперед крупный костистый нос. — Устали вы, Здано Янович? — участливо спросил Антон. Ревизор поднял на лоб очки: — Дело привычное, батенька, но годы вот, годы знать о себе дают. Седьмой десяток — не шутка. И еще — мотор мой, — длинный палец с утолщенными суставами постучал по груди, — сбои дает мотор. Но это к делу не относится, — строго закончил он. — Что у нас получается на сегодняшний день? Если кратко. — Если кратко, то заключения еще нет. Но предварительные выкладки — вот они, — Радомский указал на аккуратно, бисерным почерком исписанные листы, — "де-факто” станция технического обслуживания разительно отличается от "де-юре". Приписки, искажения отчетности потрясающие и носят, я бы сказал, преступный характер. Радомский порылся в записях, протянул капитану лист: — Мы с вами уже говорили о плане реализации услуг населению. Так вот, здесь — сплошное вранье! Гляньте на эти цифры. Они дутые! Ревизор встал, заходил по тесному кабинетику, сложив за спиной руки. На память сыпал цифрами, датами, номерами документов, показателями планов. — Вот откуда жалобы людей на очереди, на некачественный ремонт, кражи, отсутствие необходимых деталей, — возмущенно говорил он, — вместо того чтобы возиться с машиной незадачливого клиента, они массово брали в ремонт машины предприятий, показывали их в плане как ремонт индивидуальных машин, да при этом стоимость наценяли так, что сказать страшно. И все это шло в план, премии получали за это-то безобразие. Вот, пожалуйста, — Радомский склонился над столом, — ремонт пожарной машины обошелся щедрым пожарникам лишь ненамного дешевле, чем стоит новый автомобиль. А вот, — ревизор указал на другую запись, — фирма "Интурист” заплатила за ремонт больше, чем стоит новый "Москвич”. Не жалко из чужого кармана платить, не жалко, — возмущался ревизор, — а ведь эти приписки-то все растащены, бессовестно украдены. Вот тому подтверждение, — ревизор быстро, как фокусник, выдернул из кипы потрепанных документов один, положил перед капитаном: — Этот заказ-наряд открыт был неким Лазуткиным в течение семи месяцев. Вы говорили "тяни-толкай"? — это как раз он и есть. Чего только не поставлено на старый аварийный кузов предприимчивого хапуги! И еще есть на тот же кузов два заказа-наряда. Уверяю вас, мы найдем следы этого ремонта в комиссионном магазине — они его продали, вот что. Сделали и продали через свой же магазин! — Кто отчеты и документы подписывал? — решился наконец капитан прервать возмущенный монолог ревизора. Радомский, поморщившись, осторожно уселся за стол, потер грудь под старомодным двубортным пиджаком, сказал устало и с горечью: — Руководители подписывали. Часть директор, часть — главный инженер. — Гулин тоже? — уточнил оперуполномоченный. Ревизор кивнул: — Есть и Гулина подписи, есть. Много вам еще предстоит разбираться. Покровителей, например, искать. Вышестоящих. Тут ведь не просто бесконтрольность, тут прямое попустительство налицо. Скверно это выглядит, ох как скверно. Резко постучав, заглянула в кабинет кассирша, что собиралась в госбанк, сердито спросила: — Где ваши женщины? Мы едем. И Антон пошел к проходной. Не понравилась ему нелюбезность женщины, не обидели бы Таню. Лучше уж проводить их самому. — Сейчас вернусь, — пообещал ревизору. Радомский молча кивнул и вновь запустил под пиджак руку, растирая грудь. Капитан быстро шагал к проходной, обдумывая услышанное от Радомского. Предположения подтверждались. На станции технического обслуживания творились черные дела. По той информации, что он имел на сегодня, можно было судить лишь об общих чертах махинаций. Но скоро все встанет на свои места. И с Гулиным нужна ясность. Почему он подписывал липовые отчеты? А потом записывал в свою книжку заказы-наряды, по которым, теперь это уже установлено, допускались злоупотребления? Два варианта: либо Гулин прямой участник махинаций и собирал на подельников компрматериалы, либо Гулин не знал о липе и, что-то заподозрив, пытался проверить… Волна усмехнулся: ну и додумался. Два варианта. Конечно, два варианта, это ясно с самого начала. Главное — какой из них верен. И этого главного капитан не знал. Таня с переводчицей сидели рядом на деревянной скамейке возле круглой клумбы с цветами и поднялись навстречу, увидев Антона. Присядистый старый "жигуленок” с желтой надписью "Ремонтная служба” вдоль кузова уже урчал мотором, ожидая пассажиров. Антон открыл заднюю дверцу, первой, неловко согнувшись, в тесный салон влезла переводчица, рядом с ней, с краю, уселась Таня. Нагнувшись к машине, капитан стал прощаться с женщинами и вдруг услышал сдавленный вскрик! Таня резко схватила руку капитана, которой он придерживал дверь, с неожиданной силой рванула, так что Антон, и без того неудобно стоявший, едва не упал. А Таня, не выпуская руки капитана, вскрикивала тревожно и показывала свободной рукой куда-то вперед, на проходную, где минуту назад все было спокойно и тихо. Антон невольно глянул на Таню, а она с искаженным лицом так же резко отбросила руку капитана, повернулась к переводчице и быстро-быстро "заговорила”: замелькали дрожащие руки, мучительно вытягивались губы и тоже тревожным стало лицо переводчицы. — Что случилось? — быстро спросил Антон и поднял глаза к проходной. Медленно притормаживала у калитки перламутровокоричневая "Лада”, плавно остановилась, и вот уже из нее вышел и хлопнул дверцей директор "Радуги”. Приехал Шершевич. Больше ничего не случилось. Так что так встревожило Таню? Когда капитан вновь склонился к салону, переводчица растерянно сказала: — Антон Петрович, Таня говорит, что это, — она указала на машину директора, — та самая зеленая машина, что увезла хозяйку. Но машина ведь не зеленого цвета! Ничего не понимаю! — она повернулась к Тане, вновь "заговорила” с нею, и капитан видел, как переводчица сердится, уточняет, переспрашивает, пожимает плечами. А Таня, коротко вскрикнув, закрыла лицо руками, затряслись ее плечи — глухонемая горько плакала. — Давайте выйдем, — попросил Антон, лихорадочно придумывая, как поступить. Ведь надо провести опознание как положено, по закону. Пригласить понятых, составить протокол… Таня опередила намерения капитана. Легко выпрыгнув из машины, она быстро, почти бегом направилась к проходной. Антон закричал ей вслед, забыв, что она не услышит, и бросился за ней, но догнать не успел. Таня была уже у коричневой красавицы "Лады", уронила руки на капот и торжествующе оглянулась. Растерянный Шершевич вернулся от проходной, молча наблюдая за происходящим. — Спросите, это зеленая машина? — попросил Антон подошедшую переводчицу, уже обо всем догадавшись. — Да, это зеленые "Жигули”, на которых уехала Любарская. Машина приезжала к ней не один раз, — перевела та резкие жесты Тани, и глухонемая энергично кивала, следя за губами переводчицы. Не найдя под рукой ничего лучшего, Антон показал на коричневую сумку переводчицы: — Какой это цвет? — Зеленый, — озадаченно перевела женщина Танин быстрый, без раздумий, ответ. Вот оно что. Бедная Таня путала цвета. Коричневую машину считала зеленой! Добросовестно заблуждалась — так это называется в следственной практике. Капитан Волна посмотрел на Шершевича и встретился с его непонимающими глазами. Короткие бровки директора тоже выражали недоумение. Антон перевел взгляд на машину. Н-да. Фары-то ничего себе, под стать машине… Мощнейшие фары… Такие ослепить могут запросто. "Но это не доказательство”, — одернул себя Антон.ГЛАВА 12
Паршин, когда его ввели в кабинет, показался мне еще меньше, чем накануне. Мешковатый костюм совсем обвис, лицо серое, помятое, под толстыми стеклами очков в большой оправе казались еще больше набрякшие водянистые валики под глазами. Видок у Паршина был не разбойничий, нет. Опять дрогнуло мое сердце, забыв неприязнь. Вообще-то не принято следователям говорить о жалости, старательно изгоняется это слово из нашего лексикона. Неизвестно, с чьей легкой руки считается, что не место жалости там, где преступление. А я избавиться от этого чувства не могу. Много лет работала, казалось, уж и привычка должна действовать, но нет. То и дело посещает меня жалость. Мне кажется, что она и помогает, не дает успокоиться, побуждает к действию, к поиску, к постоянным сомнениям и терзаниям. Страшно раздражают супермены, играющие людскими судьбами бесстрастно, а значит, безжалостно. Да, многое нам дано, но многое и спросится. Не могу равнодушно отнестись, например, к аресту. Знаю, что иногда надо, даже необходимо лишить человека свободы, и делаю это. Но живет сострадание к судьбе, к жизни, которой человек распоряжается порой так неразумно, так расточительно, словно в запасе у него несколько этих жизней. А оказывается — одна. За всю свою практику мне не случалось видеть, чтобы человеку был безразличен арест. Самый матерый преступник, когда его лишают свободы, начинает, если не открыто, то где-то там, внутри себя, оплакивать утрату свободы. Разные это слезы: отчаяния, злобы, раскаяния — в зависимости от его возможностей и морали, но я чувствую их. Моя работа дает мне необычную возможность проследить судьбу человека с трагического финала, иногда, увы, — от последней черты, от смерти. Я раскручиваю события, словно на катушку обратной перемотки, и вижу, как нагромождаются детали, события, влияния, как воздействует на человека все, что называется жизнью. Так страшно и больно становится, что схватила бы за руки того, кто зовется сегодня или жертвой, или преступником, крикнула бы громко, во весь голос: вот здесь — стой, не надо, не делай этого, остановись! Поздно. Мой крик уже опоздал. Дело сделано. Вот и существует жалость — незаконнорожденное дитя моей суровой профессии. И постоянно заставляет думать: где, когда и кто должен был выполнить то, что я опоздала сделать? Что должна сделать я, чтобы после меня, после моей работы и жизни у других не возникло такое же чувство к затронутой мною судьбе. Итак, Паршин. Присел на краешек стула, опустил руки между колен, так что длинные рукава пиджака закрыли пальцы. На меня не смотрит, уставился вниз. Не поднимая глаз, отвечает на первые формальные вопросы. А теперь по существу. — Начнем с конца, — говорю я, и он покорно кивает, но молчит. Понимаю, ждет наводящих вопросов. Пожалуйста. Что-что, а вопросы у меня есть. — Расскажите о ночных событиях, — предлагаю, — что, кто и зачем, классические вопросы для юриста. Паршин поднял голову. Смотрел затравленно и обреченно, так что опять шевельнулась моя жалость. Вот он, последний край. Пришел час ответа. И совсем немаловажно, как его встретит тот, кто оступился. Жизнь-то, конечно, одна, но дает человеку множество возможностей прожить ее и так, и эдак, наверное, и в этом тоже заключается великое ее милосердие. Как воспользуется Паршин этим милосердием? Поставит точку на прошлом и попытается начать жизнь сначала? Или она уже состоялась, его неразумная жизнь, и другого ей не дано? Юрисконсульт, кажется, уловил мои раздумья, щуплые плечи поежились под пиджаком. — Виноват я, — выдавил он, наконец, — виноват больше всех и отвечу. — Ну, зачем так глобально. Давайте конкретнее: что вывозили ночью? — Автодетали, конечно, — ответил он, — вы же знаете. На складе Лазуткина скопился неучтенный дефицит. Они договорились с Гусенковым, это водитель, тот, что задержан вместе со мной, до инвентаризации убрать детали. Ночью Лазуткин с Гусенковым загрузили машину, а я сопровождал ее, но… — Подробнее, подробнее, — попросила я. — Слишком уж скупы вы на слова, Паршин. Неучтенный дефицит откуда? — Это долгая песня. Ее вам Радомский споет как по нотам, я его давно знаю, он сможет, — усмехнулся Паршин. — И все-таки? — Ну, на бой списывали много. Акты увидите сами. Лобовые стекла, например, ежедневно по одной-две штуки. А на самом деле, если бой был — взыскивали все до копейки с виновных. На госмашины много лишнего выписывали, тоже увидите сами. И другие пути есть. Много чего, — опять усмехнулся он. — Куда везли детали? Кому? — Этого я не знаю, — опять поежились плечи под широким пиджаком. — Лазуткин договаривался, кто-то встретить нас должен был по дороге… Не знаю, не знаю кто, — заторопился Паршин, видя, что я гляжу недоверчиво. — Но почему вы сопровождали машину? Не сам Лазуткин, а именно вы? Как из опечатанного и под сигнализацией склада взяли детали? — Как взяли, Лазуткин расскажет, это его дело. А я сопровождал потому, что в доле с ним, двое нас, понимаете, двое! Лазуткин ворует, а я вывожу, — неожиданно пошутил он и прикрыл рукой кривую улыбку. Двое, так двое. Пойдем дальше. И я задаю вопрос, более всего меня интересующий. Это даже не вопрос — констатация. Потому, что заключение эксперта лежит у меня на столе. Я не прикрыла его ничем и видела, что Паршин давно его заметил. — Вы печатали заявление Любарской о даче Гулину взятки? — Я печатал, — прошелестело в ответ. — Она попросила, я напечатал. — Подробнее, подробнее, — опять напоминаю, — давайте все, как было. — Ну, пришла она, рассказала, попросила помочь, я и напечатал заявление. Паршин подробности явно раскрывать не хочет. А мне они нужны, именно подробности. Из них складывается истинная картина, как мозаичное панно, которое из маленьких частичек события, разрозненных кусочков, осколков происшедшего я собираю и складываю. — А другой потерпевшей, Сватко, вы не помогали? — Сватко? — насторожился Паршин, и я вижу, как мучительно он обдумывает ответ. Не решился, идет на разведку: — Почему вы считаете, что я Сватко помогал? Зачем мне тянуть время? Я уже поняла: юрист сдает только те позиции, которые невозможно удержать. Раскрыла уголовное дело. Вслух читаю заявление Сватко. Не понял. Зачитываю заявление Любарской. Не все, только окончание. Там, где шаблонная фраза, общая для двух документов. Юрисконсульт шарит по карманам, не найдя платка, вытирает вспотевший лоб ладонью, да так и оставляет ее у лба, прикрыв, как козырьком, глаза: — Что-то такое припоминаю, — мямлит он. — Не надо, Паршин, — прошу я, — вы же юрист, понимаете. Правду уже не скроешь. И эти женщины… Он не дал мне договорить. Бросил руки на колени, жестко сжал бледные губы. Видимо, это должно было выражать решительность. — Я расскажу все. Да, я помог. Они пришли ко мне вместе, Сватко и Любарская. У Ренаты Леонидовны почерк плохой — медик! Ей я напечатал заявление. А Сватко писала сама. Я диктовал, конечно. Потом Сватко унесла заявление в милицию, и все завертелось. Паршин опять замолчал. Ну что ж, поведем допрос активно и наступательно, не давая возможность продумывать версии. — Кто направил Сватко к Гулину? Ведь заменой кузова занимался директор? — Я направил, директор не хотел вмешиваться, чтобы не было разговоров. Они ведь, — Паршин запнулся, подыскивая слово, и закончил: — дружат. Ага. Значит, дружат. — Не вы ли принесли заявление Любарской в прокуратуру? Чуть помедлив, Паршин кивнул. — Я принес. Да. Вспомнил. Оно у меня осталось, заявление. Я и принес Захожему, когда встал вопрос об аресте Гулина. — Один принес? — Вместе с Любарской, — последовал ответ. Ну нет слов. Юрисконсульт станции технического обслуживания автомобилей собирает доказательства для ареста главного инженера своего предприятия! Славно, славно. А Захожий-то наш хорош! Нашел помощничка. Ах, как правильно возвращено дело на новое расследование, ох, как справедливо возмущался наш прокурор! Паршин угадал мое возмущение и испугался. Стал осторожничать, тянул с ответами, беспокойно ерзал под пиджаком, источая резкий запах пота. И я поняла: все, с Паршиным на сегодня довольно. И еще: он лжет, принимая на себя организаторские функции — не тот человек, не тот. Обвинение Гулина особенно не пошатнулось, но кое-какие клинышки в его фундамент Паршин вбил. Ничего, все начинается с малости, в том числе и установление истины. И лишь на последний мой вопрос в глазах Паршина засветилось искреннее недоумение: "Честное слово, не знаю, где моя машинка, кто ее подменил!". — Допрос окончен. Свободны, — сказала я Паршину, нажав под столом кнопку вызова конвоя. И, видя, как встрепенулся юрист, разочаровала его, — от меня свободны на сегодня. А вообще придется задержаться. Ничего не поделаешь — задержаны с поличным. Оживившийся было Паршин сник, а тут приоткрыл дверь конвойный, и, шаркая ногами, тщедушная фигурка побрела к двери. Широковатые штанины полоскались вокруг тощих ног. Поджимало время. Предстоял допрос шофера, да еще меня ждал Гулин. Сменивший Паршина шофер выглядел смущенным, втягивал живот, на котором постоянно расстегивалась пуговица рубашки. Шофер нервно и долго застегивал ее, но, едва опускал руку, пуговица вновь выскакивала из широкой петли. Фаланги пальцев шофера украшали синие буквы. "Вова” — прочла я без труда блатную визитную карточку и заглянула в протокол задержания: — Владимир Гусенков? — Точно, гражданка следователь, — с готовностью ответил Гусенков и привстал от усердия, оторвав от стула широкий зад. — Как же вы, Гусенков, решились на кражу? — Я?! — изумился он совершенно искренне. — На кражу? Ну нет, так не пойдет. Ща-а, на кражу! Ща-а! Ну нет, в натуре, какая кража? — возмущался он. Я прислушивалась к словам Гусенкова: что-то знакомое было в его интонациях. Эта приблатненность, вкрадчивость, слова врастяжку: в нату-уре и словно змеиный шип: ща-а… — А вы ведь беседовали со мной по телефону, Гусенков, — перебила я возмущенную тираду шофера и по тому, как метнулись его глаза, догадалась, что попала в точку: это его голос угрожал мне недавно по телефону, я хорошо помнила шипенье: "не ищи-и…” Ну вот, слава Богу, одна из тех неприятностей, что так дружно меня огорчили, передо мной. Так же дружно, как пришли, ушли бы и остальные. — Не воспользовалась я вашим советом не искать никого, да вот, выходит, и правильно сделала, — весело сказала я. — Ну вы что, в натуре, гражданка следователь, — загудел в ответ Гусенков. Я многозначительно глянула на телефонный аппарат, и Гусенков заторопился: — Да не обижайтесь вы, велели мне позвонить, сам разве бы я стал? Ща-а, зачем мне? — Кто велел? — Паршин. Во гнида, в натуре! Сам с вершок, а дерьма мешок. Ох, простите, — спохватился он. — Ладно, — миролюбиво сказала я, — забудем об этом. Давайте ближе к делу. — Ща-а, — Гусенков сполз на кончик стула, зато нависло над моим столом его туловище и странно вытянувшаяся мощная шея с приподнятой головой, уменьшенной детской редковатой челкой на лбу. Гусенков был — весь готовность служить. И в это время раздался звонок. Голос Антона, я не поняла, чего в нем больше — досады или смущения, поведал мне о событиях на "Радуге”. Да, было от чего и досадовать, и смущаться! Горько, но пришлось мне признать, что плохо мы работали с Таней, плохо. Такой или подобный вариант мы должны были предвидеть. Передоверились, поспешили, и вот результат: какой сюрприз преподнесла нам наша необычная свидетельница, сама того не желая. Ладно, самобичеванием займемся потом, а пока торопил Антон, и я сказала: — Оформляй опознание машины, как положено. Шофера допрошу и приеду. Когда я вновь посмотрела на Гусенкова, он смущенно втянул голову. "Прислушивался”, — подумала я. Шофер действительно уловил тревожные нотки разговора, может, кое-что и услышал, а может, догадался или нафантазировал, но, словно продолжая уже начатый рассказ о деле, к которому мы, по существу, еще не приступали, промолвил: — Вот я и говорю: не там ищете. Паршин, Лазуткин, да и я тоже — мелкота, шестерки. Вы мотор ищите, тогда все на свои места встанет. А то кра-ажа! Ща-а, кража… Гусенков говорил, и я не перебивала его вопросами, понимала, что он был прав в основном: мы не могли нащупать основную пружину действия, оттого оно и разворачивалось странно, непонятными скачками: взятка — приписки — кража — смерть потерпевшей Сватко… Невольно обратились мои глаза к месту, где сидел Гусенков, и так ясно увиделась нежно-сиреневая блуза и гордая осанка — совсем недавно там же сидела Галина Михайловна — живая, нарядная и надменная. Я вздохнула, и Гусенков отнес это на свой счет, заторопился, но мне был уже неинтересен его допрос. Шофер, конечно же, все, что знает, расскажет. Но не сегодня. А пока его многозначительные намеки мне надоели, мысленно я была уже на "Радуге” и задавала вопросы Шершевичу. Отправив шофера, который был озадачен моим явным пренебрежением к его показаниям, я стала собирать портфель. — Войдите, — ответила я на осторожный стук и увидела, что в дверь бочком прошел невысокий худощавый мужчина без определенного возраста — ему равно можно было дать и тридцать, и пятьдесят. Сухая кожа гладко обтягивала скулы, но у глаз сбежались глубокие морщинки, а зачесанные назад волосы были не то белокурыми, не то седыми. — Браво, — сказал он, подходя к столу, — добрый день. — Что? — изумилась я, — при чем здесь "браво”? И кто вы такой? — Браво — это я, — с удовольствием объяснил посетитель. — Фамилия у меня такая. Глаза его смеялись, и мне стало ясно, что розыгрыш ему нравится и он его проводит не впервые. Пришлось начать разговор с веселым посетителем.ГЛАВА 13
Гулин ждал нового следователя и допроса. Жизнь в других измерениях Иван Сергеевич воспринимал странно. Она как бы и перестала быть жизнью, казалась сном — то нелепым, который сейчас кончится, то мучительно страшным и нескончаемым, который неизбежно перейдет в смерть, в прекращение существования. Нет, Гулин не был бойцом и знал это. Так получалось, что вся жизнь его, которую он до последних событий считал вполне состоявшейся, частенько содержала неприятности и огорчения, но они вкрапливались в общем-то благополучную канву событий, потом как-то утрясались, уходили и забывались. Иван Сергеевич не любил и поминать о них. Отца Гулин не знал, в детстве жили вдвоем с матерью, и, видимо, от нее перенял легкую сентиментальность, верил, что вокруг него только хорошее, а плохое существует где-то там, по другую сторону, и если к нему приходится прикасаться иногда, то это неприятно и надо пережить неизбежно, как зубную боль. То, что все в доме давал нелегкий труд — сначала матери, а потом и его самого ранняя привычка к работе сделали его чуточку аскетичным и равнодушным к разным жизненным благам. Искреннее удивление вызывали люди, хапающие что попало или, как на "Радуге”, со слезами на глазах разглядывающие царапины на своих блестящих лимузинах. Гулин относился к таким людям со сложным чувством брезгливой жалости и думал даже, что основным их недостатком является лицемерие. Верить в стяжательство и в то, что вещь может стать для человека целью жизни, он не мог. Не умел. Вещи должны служить людям, а не наоборот. Так он считал всегда. Так он привык с детства. И жена, тихая, молчаливая и ласковая, взгляды его разделяла. По этой причине жили они безбедно, и главной причиной их горя была материна болезнь, с которой он смириться не мог. Болезнь матери сделала его нетерпеливым и вспыльчивым. Постоянная тревога за больную заставила бросить интересную и спокойную работу, перейти на эту распроклятую "Радугу”, с которой и началась жизнь-небытие. Вначале, сразу после ареста, ошеломленный Гулин не мог связать воедино все события, происшедшие с ним. И объяснить не мог. И не переставал удивляться. Зачем? Почему принесла ему деньги та красивая женщина? Зачем он принял ее, уступив просьбе Паршина, который очень уж настаивал и объяснял даже что-то, а что именно, Гулин, к стыду своему, вспомнить не мог. Память рвалась на куски, как старая кинолента, и все время упускала что-то важное, основное. Гулин мучительно ловил ускользающее звено, от непрерывных тяжких дум голова раскалывалась и ныло сердце, боль отдавала в плечо и спину, была порой нестерпимой, он стонал, и на него настороженно глядели люди, существовавшие рядом в этом сне-жизни. Боль в сердце Гулин считал неизбежной принадлежностью его теперешнего состояния, не жаловался никому, пока окончательно не свалился после суда, когда вдруг, слушая и наблюдая, с поразительной и давно не посещавшей его ясностью понял: его судьба — лишь часть какой-то истории, еще не вскрытой, прячущейся за глянцевыми коричневыми обложками его — его! — уголовного дела. Он был пешкой в чьей-то игре, кто-то распорядился его жизнью, безжалостно и необъяснимо. До суда он ждал, что вот-вот все прояснится. Конечно, его накажут, должны наказать — он вмешался в сферу, ему не принадлежавшую. Замена кузова "Волги” совсем не просто решается, а у той красавицы Сватко не было даже акта оценочной комиссии. И как он мог согласиться! Вот, конечно, его и должны наказать. Но ведь не так! Он пытался рассказать о своей настоящей вине Захожему, помощнику прокурора, который вел следствие. Но тот отмахнулся от его откровений, поморщился, поправив свой аккуратный пробор. — Вы же слышали, что рассказала Сватко? Вы получили взятку. И все. Он слышал, как Сватко уличала его. Видел, как кривилось красивое ее лицо, поджимались четко очерченные помадой губы. Только вот глаза она прятала. Всегда прятала. Он ловил и не мог поймать ее взгляд, ускользающий и неопределенный. И все же он держался. Загонял в себя боль — физическую, душевную. И ждал, ждал. А вот когда понял и увидел, что поняли другие, силам пришел конец. Так бывает, наверное, в жизни. Он не мог ошибиться, он видел, что в его виновность не верят. Не верят! Ничто не прошло мимо внимания судей, да и прокурор частенько покачивал головой, слушая, как он жил, как работал, как говорили о нем люди. Тот же Шершевич Виктор Викторович. Гулин вспоминал хорошие слова Шершевича и полнился стыдом: подвел человека. И еще думал, что та же сила, сломавшая его, может сломать и Шершевича, с его доверчивостью и некоторым, надо признать, ротозейством. Прислушайся директор к нему раньше, может, и не развернулись бы события так трагично. Но Шершевич в свое время только махнул рукой, мол, ладно, потом разберемся во всех этих липовых накладных, в залежах дефицита, в отпуске запчастей… Прислушайся Шершевич вовремя, может, и не взяла бы верх та злая сила. В причастности Паршина к нечистым делам на станции Гулин теперь не сомневался. И кто-то был еще, был. Только вот кто? Все следовало взвесить, все заново продумать. Но не было сил. Недаром он всегда знал про себя: не боец он, нет, не боец. И когда наступила разрядка, когда с радостью увидел: верят, верят ему, недаром и дело направили на новое расследование, он слег. Так некстати, так не вовремя слег он. Второе дыхание к нему не пришло, и он сошел с дистанции, как смертельно уставший спортсмен. В больничной палате обстановка напоминала привычную, с которой часто встречался, навещая больную мать. Сковавшая все тело боль понемногу отпускала, а тут еще доктор, молодой, из начинающих, подолгу просиживал у его постели. Они беседовали мирно, на равных, так что Ивану Сергеевичу начинало казаться, что сейчас откроется дверь, придет навестить его Лида, жена. И кончится страшное время. Но доктор уходил, Гулин оставался наедине со своими мыслями и снова начинал мучительно думать: почему? Почему такое могло случиться? К чему он прикоснулся, что так больно ударило его, смяло? Что это была за сила, и можно ли ей противостоять? Когда доктор сказал ему, что с ним будет работать следователь, женщина, Иван Сергеевич подолгу думал о ней, представляя, как она выглядит, как к нему отнесется. Будут ли они союзниками? Не отмахнется ли и она, как Захожий, от его слов и подозрений? Лишенный возможности получать информацию, он по крупицам собирал все — и сочувственный взгляд пожилого бритоголового прокурора, брошенный на него, когда прокурор уже сел на свое место, закончив речь. Не обвинительную, а в его защиту речь. Прокурор сказал, что у него есть сомнения, да, именно так он и сказал — сомнения. И посмотрел на Гулина. Вот этот взгляд и помнил Иван Сергеевич, а потому надеялся: женщина-следователь, посланная этим прокурором, будет ему союзником. Он сочинял целые речи, подбирал, казалось ему, самые убедительные слова, которые скажет ей, Тайгиной Наталье Борисовне, о которой доктор только сказал: красивая. Конечно же, справедливость — сама по себе красота. На этот раз ему, Гулину, повезет. Его следователь будет справедливым. Так он думал, ждал встречи и страшился ее, потому что не было сил. И когда доктор сообщил, наконец, что опять звонила Тайгина и он разрешил ей вечером прийти, Гулин разволновался окончательно. А доктор, нахмурясь, погрозил пальцем: — Вы чего это? А ну, хвост пистолетом! А то отложу ваше свидание, — и добавил тихо, но решительно: — Давайте-ка в бой, гражданин Гулин. Жизнь-то, она ведь по-всякому поворачивает. И добро побеждает не только в сказках. Гулин ждал вечера. Вечер наступил. Но Тайгина не пришла.ГЛАВА 14
Антона одолевали сомнения. Оформив опознание машины Шершевича, он отпустил Таню, допросил Виктора Викторовича. И вот теперь мучился, терзаемый противоположными версиями. Глухонемая Таня ошибалась. Но когда? Не могла ли ошибаться именно теперь, опознав машину директора "Радуги”? Слишком уж убедительно Виктор Викторович отрицал, что заезжал за Любарской. Надо признать, причины он приводил веские, но и Таня стояла на своем! И если уж честно, Антон ясно понимал: доводы Шершевича перевесят Танины слезы. Единожды солгавший, кто тебе поверит… Если даже солгал неумышленно. Ошибки порождают сомнения, которые, если их невозможно устранить, толкуются в пользу обвиняемого. В данном случае, в пользу Шершевича. Презумпция невиновности, справедливый закон. Антон вспомнил бровки-шалашик, так и не расправившиеся на лице Шершевича. А что если подозрения напрасны? В какой-то миг допроса капитан едва удержался, чтобы не выпалить в лицо Шершевичу страшное известие о гибели Галины Михайловны Сватко, о котором Тайгина просила пока умолчать. Хотелось глянуть, как среагирует на это Виктор Викторович, который, судя по всему, об утренних событиях осведомлен не был. Или делал вид? Вовремя вспомнив строгий наказ Тайгиной, Антон промолчал, а сейчас, после допроса, усомнился в правильности избранной ими позиции: гибель Сватко не могла быть тайной долгое время, Шершевич вскоре узнает об этом, но лица его Антон может не увидеть. И не почувствует того внутреннего отношения Шершевича к смерти Галины Михайловны, которое могло бы пролить свет на один из самых неясных вопросов: кто есть Виктор Викторович Шершевич? Что он за человек? Утренние события отодвинули намеченный капитаном допрос заведующего складом Лазуткина, который был предупрежден о предстоящем разговоре и маялся на территории станции, поскольку склад его был по-прежнему опечатан и пломбы были целы — Антон проверил это еще ночью, когда они возвратили самосвал Гусенкова. Синий халат Лазуткина то и дело попадал в поле зрения капитана. "И тошно, да миновать не можно”, — усмехался Волна, понимая состояние Лазуткина. Капитан взял в руки список ценностей, обнаруженных ночью в самосвале. Как-то объяснит ситуацию Лазуткин? Антон устало вздохнул, представив разговор с заведующим. Неужели все пойдет по давно знакомой капитану схеме? Нелепые объяснения, битье в грудь: я честный, я ошибся, требую доказательств. А когда они, доказательства, будут представлены — опять битье в грудь: простите, не буду, я ошибся… Предчувствия не обманули, капитан понял это по первым же словам Лазуткина, представшего в роли собственного обвинителя. Кабинет юрисконсульта Паршина, где обосновался оперуполномоченный, был залит солнцем, вновь сменившим вчерашнюю хмарь, и Лазуткин даже не пытался стереть пот, крупными каплями усеявший багровое лицо. — Это еще зимой началось. Получаю контейнеры с запчастями. По документам так, ничего особенного. Вскрываем контейнеры. Я и юрист наш. Вообще-то в комиссии нас трое должно быть, но мы нарушали. Дадим уж после приемки кому-нибудь акт подписать из профкома или еще откуда. Мне доверяли, — вздохнул он вполне искренне. — Так вот, вскрыли мы с Паршиным контейнер — батюшки светы! Там сплошной дефицит. Второй вскрываем — та же картина. Ну и, — Лазуткин засопел, потупился, — юрист говорит, мол, дураком надо быть, чтобы упустить такой случай. Тысячи в руки сами плывут. Знаете, как умные-то люди говорят? — он выжидательно уставился на капитана, затем изрек охотно, с назиданием, явно наслаждаясь причудливой игрой простых слов, сложенных кем-то в философию негодяев: — Денег нету, потому что дурак. А дурак потому, что денег нету. — Берусь разубедить вас, — спокойно сказал оперуполномоченный, подавляя раздражение. — Эта философия не нова и примитивна, как дождевой червь. К сожалению, так же живуча. Но об этом позднее. Сейчас давайте ближе к делу. Уголовному, — уточнил он. — Ну да, ну да, — заторопился Лазуткин, согласно закивал головой, и капельки пота покатились по лицу, оставляя мгновенно высыхающие гладкие дорожки. — В общем, акт приемки составили мы по товарно-транспортным документам. Кстати, — Лазуткин приподнял указательный палец, — я проверял: счет нам был выставлен по этим документам, и мы успокоились. Решили, что ошиблись отправители. Началась у нас новая страда: переводить дефицит в деньги. Здесь у нас разные пути были… — Комиссионный магазин? — спросил капитан. — И комиссионный тоже, — уныло ответил завскладом. — А как же с заказами-нарядами? — Было, — голос Лазуткина потускнел. — Ну подумайте сами, куда мне было деваться? Я вот и говорю, только началась эта самая страда, деньги завелись у меня, Паршин подзуживает: не бойся, я законы знаю,никто не подкопается. Поверите, — Лазуткин вскинул на Антона глаза, ударил себя по широкой груди пухлым кулаком, — я вначале совестился, боялся, а потом вроде как привык даже. И вдруг на тебе. Встречает раз вечерком после работы меня мужик. Черный такой, с усами, назвался Арчилом. Контейнеры, говорит, получал? Как рассчитываться собираешься? Я было стал запираться, смотрю, Паршин из-за угла выходит. Брось, говорит, Леня, придется Арчилу делать долю, это он нам контейнеры организовал. В общем, куда деваться? Обложили… — Сказал так и вдруг задумался. Антон видел, как нахмурился лоб Лазуткина, забегали в растерянности глаза. — Обложили, :— повторил он медленно, задумчиво, и капитану почудился какой-то новый смысл в повторенном Лазуткиным слове. Как будто это удачно найденное слово объяснило многое самому Лазуткину, которого обложили воры, как зверя на охоте. Капитан ждал продолжения истории, а Лазуткин словно потерял интерес к допросу, стал говорить вяло, отвечал на вопросы односложно. — На ваше имя открывали заказ-наряд? — Да. — Что ремонтировали? — Ничего. От машины только номер был. Все собрали здесь. И оформили через комиссионный. Арчил угнал машину. — Были еще такие случаи? — Были… — Расскажите о вчерашнем, — попросил Антон и вновь взялся за список автодеталей, обнаруженных в самосвале Гусенкова. — Что тут рассказывать? Сами знаете, раз принялись нас копать, надо спасаться. Вот и решили избавиться от дефицита, насколько возможно. Днем по фиктивным накладным выдали детали якобы в комиссионку, помните, Леха-контролер еще возмущался? — усмехнулся Лазуткин, — а ночью Вова Гусенков все это добрище вывез. Да вот неудачно… — Куда везли добрище-то? — перебил оперуполномоченный. Лазуткин отвел взгляд, пожал полными плечами, потянул с ответом. — До первого моста и везли. И концы, как говорится, в воду, — усмехнулся он. — В воду?! — ахнул Антон, — вот это все собирались в воду?! — он встряхнул аккуратно исписанный лист акта. — В воду ланжероны? Коленвалы — в воду? Передние стекла? Наконец, вот это, — прочел он строчку в середине листа: — "Автомобильная стереомагнитола "Шарп” с электронными часами и пультом дистанционного управления”? Это все в воду? — продолжал возмущаться оперуполномоченный, не глядя на опустившего голову Лазуткина, и вдруг остановился, словно запнувшись. Что это? В описи вещей, находившихся в гусенковском "ЗИЛе”, значилось: "машинка пиш. б/у марки "Оптима”! Не ожидая особых сюрпризов, он утром мельком пробежал глазами акт, составленный ночью его помощниками. А теперь вот, пожалуйста. Новость. Интересно, а зачем это машинку — в воду? И Паршин признался кругом, и этот тоже — капитан покосился на примолкнувшего Лазуткина — кается. Не говоря уж о птичьей личности — Гусенкове. Как говорится, все в шоколаде. Но ни при одном деле эти шоколадные правонарушители не упоминают Гулина. Ни одной детали, с ним связанной, тоже не называют. Машинка — первый прокол. Машинка "Оптима”. На ней юрист печатал заявление Любарской. А потом она таинственно исчезла из его кабинета. И, как уверяет юрист, без его ведома! Эта “Оптима” странным образом обнаружилась в кузове вместе с автодеталями, от которых пытались избавиться. ’’Стоп, стоп, не увлекайся, — остановил себя оперуполномоченный и убрал с телефона руку, уже набиравшую номер Тайгиной. — Не дергай следователя, проверь сперва сам. Что ты, в самом деле, обрадовался, как первогодок”. Удивленный Лазуткин молча смотрел на капитана и на его вопрос ответил озадаченно: — Н-не знаю. Какая машинка? Не было у меня машинки. Перед тем, как закончить допрос, Волна задал последний, немаловажный вопрос: — Кто должен был встретить Гусенкова? Кого они ждали? Глаза Лазуткина снова метнулись: — Я. Меня они ждали. — И что, решение сбросить все, как вы говорите, "добрище” в воду приняли вы? — Я, — ответил Лазуткин, поднял глаза, и Антон прочел в них неуверенность и страх. "Врёт”, — понял капитан. Не того размаха человек, не той решимости. Закончив допрос, Волна помчался к опечатанному боксу, где стояла машина Гусенкова. Заглянул по пути в контору, позвал заворчавшего было Радомского, пригласил пожилую старшую машинистку из машбюро, удивленно пожавшую плечами, крикнул охранника Иванцова. Машинка "Оптима” прижалась к самому колесу самосвала, словно стесняясь показаться на люди. Антон выволок ее поближе к свету, и машинистка, только глянув, удивленно сказала: — Это юриста "Оптима”. Как она здесь оказалась? — Вы посмотрите, посмотрите внимательней, — попросил Антон. — Я, молодой человек, все машинки на станции знаю как свои пять пальцев, — обиделась женщина. — Эта машинка в нашем бюро стояла, потом ее Паршин забрал. Можете глянуть, шрифт нуждается в чистке. Паршин меня просил вызвать мастера недели две назад. — И не был мастер? — спросил оперуполномоченный. Женщина повела плечами: — Ну видите же, не чищен шрифт. Не был еще мастер. Ждем со дня на день. А как здесь она оказалась-то? — Потом, потом, — заторопился капитан, закрывая бокс. Иванцов наблюдал за происходившим молча и, лишь когда женщина ушла, тихо сказал Антону: — Петрович, заметил я, пословицы ты любишь, поговорки разные, верно? — Верно, отец, — пришла очередь удивиться Антону. — А такую ты слышал присказку: "Лестницу сверху метут”. Не слышал? Ну так подумай над ней. — И громко закричал в сторону проходной: — Иду, иду, потерпи минуту. От проходной раздавались трели звонка. Оставшись вдвоем, Волна и Радомский помолчали немного. Потом Антон сказал: — Здано Янович, а ведь эта ниточка к Гулину ведет, чую я, к Гулину. Наконец-то. — Пожалуй, вы правы, мой друг, — ответил старик. — Среди буйства нарушений, которыми нас осыпали, это первая зацепка. Без сомнения, машинку прятали. Кто? Может, Паршин? — Нет, — стал рассуждать Антон. — Паршин признался, что печатал заявление. А о машинке не рассказал — какой в этом смысл? Объяснить это можно одним: не знал о замене машинки. А тот, кто заменял, не знал о его признании. Это зацепка, это к Гулину прямой поворот, — радовался Антон. — Да малая уж больно удача-то, — попытался расхолодить капитана старый ревизор. — Лучше в малом, да удача, чем в огромном, да провал, — весело ответил Антон, обняв Радомского за плечи. Здано Янович еще постоял немного у бокса, поулыбался и покачал головой, глядя, какими огромными шагами меряет территорию капитан Волна, оперуполномоченный ОБХСС, милый его старому многоопытному сердцу человек.ГЛАВА 15
— Браво! — сказала я, выходя из-за стола. — Браво! На лице моего собеседника вновь появилась та лукавая улыбка, которая удивила меня вначале. Только теперь в лукавинке я заметила удивление. Я обошла стол. — Спасибо, Анатолий Ефимович, — подала ему руку, и он, привстав, вежливо ответил на пожатие. Не могла я удержаться, чтобы не высказать ему признательности. И вызвала удивление. Действительно, в его, честного человека, понятии — что он такого особенного сделал? Пришел и поделился своими наблюдениями и подозрениями. Предложил: разберемся вместе. Как всякий честный… Но я-то знала, что не каждый способен на это. Когда-то, в какое-то печальное время мы больше стали говорить о правах, забывая, что не менее важно говорить об обязанностях. Не в этом ли, не в забвении ли своих обязанностей — и простых, и высоких — наша большая ошибка и беда, породившая равнодушие? А я не люблю равнодушных. Они тоже плодят зло. И зло не разбирает причины. Рожденное злым умыслом или простым равнодушием, одинаково быстро оно расползается, чернит, калечит, убивает… Но ему не победить, пока есть такие люди, как этот — со странной и смешной фамилией Браво. Мой добровольный свидетель дал нам одно недостающее звено в цепи последних событий, которое мы с Антоном безуспешно пытались найти: он знал, где была Любарская. И не только знал. Он провел печальную параллель между этими событиями, и их связка в изложении Анатолия Ефимовича выглядела неожиданно, загадочно и тревожно. — Итак, спасибо, я принимаю предложение разбираться вместе. Глянув на часы — время бежит стремительно, и рабочий день опять на исходе, — я помчалась к прокурору. Выслушав меня, Буйнов принялся поглаживать бритую голову: — Спеши, Наташа, — сказал он после недолгого раздумья, — надо ехать на место. Ах, как все это сложно, как все непросто! Будь осторожнее, — посоветовал он и тут же добавил: — Но и решительней. Бери машину, поезжай к капитану Волне. Свидетеля этого, Браво, возьмите с собой. — Он живет там рядом, конечно, возьмем. — Без обыска вам не обойтись. Заготовь постановление, я подпишу, — продолжал Буйнов, — и в темпе, в темпе, Наташа. Учти, если подозрения твоего свидетеля не напрасны, жизнь Любарской в опасности, ты это понимаешь? Мы не имеем права допустить… — он не договорил. Я молча кивнула. — Действуй, — отправил меня прокурор и крикнул вдогонку: — Да меня не томи, сообщи сразу, как что-то прояснится. Постановление о производстве обыска я приготовила за пару минут, и вскоре прямо у проходной меня встретил встревоженный Антон. В двух словах я рассказала капитану о подозрениях Браво, и Антон всплеснул руками: — Наташа, Наташа! Дело накаляется-то как! Пока мы шли к конторе, он рассказал мне о машинке, и пришла моя очередь удивляться. Вспомнились слова Паршина, которым я поверила тогда, — неужели напрасно поверила, и юрист лгал, что не знает о судьбе своей "Оптимы”? Тут же, я даже приостановилась от пришедшей догадки, мгновенно промелькнула в голове картина: вот я прячу в карман смятый листок с дорогим мне именем "Саша, Саша”, встаю из-за машинки, потому что входит в кабинет Паршина… Входит и приглашает осмотреть территорию… Что еще он сказал мне?.. A-а… "Если вам нужно отпечатать, пожалуйста”… Что-то в этом духе. — Антон, — окликнула я капитана, обогнавшего меня, — Антон, а ведь машинку спрятал не Паршин. Но мы уже у конторы, и оперуполномоченный лишь нетерпеливо махнул мне рукой: — Потом, Наташа, все это потом. Чудеса да и только. В приемной Шершевича опять поет про паромщика Алла Пугачева. — У себя? — спросил капитан испуганно привставшую секретаршу и, не дожидаясь ответа, рванул тяжелую дверь, ведущую в кабинет, и оставил ее открытой — для меня. Когда я осторожно прикрыла дверь, Антон уже стоял перед директором "Радуги”. Стоял и молча смотрел. Под этим взглядом вновь возмущенно взметнулись вверх бровки директора, пальцы нервно и зло забарабанили по столу. Антон продолжал молчать, а я достала из папки постановление на обыск, протянула бланк Шершевичу и как можно спокойнее сказала: — Вынужденная мера, Виктор Викторович. Впрочем, вы можете облегчить нашу задачу… Договорить я не успела, меня перебил Волна: — Где Любарская? — спросил он тихо, но слова падали в наступившей вдруг тишине, как камни: — Где Любарская? Что с ней? Говорите. Много тяжкого мне довелось видеть. И не привыкнуть к этому никогда. Сейчас я с удивлением и невольным страхом наблюдала за чудовищной метаморфозой Шершевича. Он медленно опустился в кресло. Лицо откуда-то с затылка стала заливать ударяющая в желтизну бледность. Побелели щеки, подбородок словно подернулся сеткой вдруг проступившей щетины. Крупный породистый нос, бледнея, становился тоньше, заострялся, казалось, что с красками исчезает с лица жизнь, вот-вот обнажится скелет и глянет на меня пустыми глазницами. С трудом оторвала я взгляд от воскового лица, повернула голову к Антону и увидела, что он тоже, как завороженный, смотрит на Шершевича, подавшись к нему корпусом. Долго так не могло продолжаться. — Вам плохо? — обратилась я к Шершевичу, и синеватые тонкие губы ответили мне, с трудом разлепившись: — С чего вы взяли? Ах ты, Боже мой, Виктор Викторович, что же вы за человек? — Тогда продолжим работу, — твердо сказала я. Антон подхватил: — Да, да, продолжим. Вам понятно, Виктор Викторович? Мы должны обыскать вашу дачу. Вы поедете с нами. Готовы? Шершевич пожал плечами, с неподвижным, по-прежнему пугающе бледным лицом встал, щелкнул замком сейфа, сунул в карман ключ и, когда повернулся к нам вновь, глаза его были спокойными, а голос жестким. — Готов, — сказал он, — я-то готов, а вы? Учтите, за беззаконие спросится строго. — Не надо, — попросила я. Только что увиденное потрясло меня, я чувствовала почти физическую усталость, поэтому именно попросила: — Не надо. Шершевич, видимо, понял, продолжать не стал. Мы молча прошли мимо удивленной секретарши. Музыка уже не играла. Антон усадил Шершевича в свои "Жигули", рядом с ним сел на заднее сиденье молчаливый, невысоконький Слава Егоров, оперуполномоченный уголовного розыска — и когда это Антон успел его вызвать? Мы с Анатолием Ефимовичем Браво остались в прокурорской машине. Браво, проводив глазами сутуловатую фигуру Шершевича, только покачал головой и расспрашивать меня ни о чем не стал. Пока мы ехали, я то и дело поглядывала на часы. Срывались мои планы относительно разговора с Гулиным, которого я так ждала. Успокаивала себя лишь тем, что сегодняшняя экспедиция может как-то прояснить его судьбу и, кроме вопросов, у меня будут для Гулина новости. Только бы нашлась Любарская, только бы не произошло нового несчастья! Сменялись пригородные частые поселки, вот миновали мы место утренней аварии, о которой напомнил круг обгоревшей и взрытой земли на обочине. Машину Сватко уже успели убрать. Я невольно вздохнула, вспомнив несчастную женщину, беспокойно заворочался сидевший рядом со мной Браво и шепнул тихонько, словно кто-то чужой мог нас услышать: — Скоро уж. Действительно, вскоре показался поселок. По обе стороны шоссе разбегались проезды к дачам, машина Антона свернула в один из них, мы поехали следом. — Вот оно, мое родовое поместье, — Браво указал на домик с мансардой, увитой зеленью, — а наискосок — Шершевича дача. Я и сама поняла это. Машина Антона уже остановилась у съезда к воротам. За высоким забором в глубине участка виднелась мансарда дачи, не очень высокой и не очень большой, судя по виднеющемуся восьмиугольнику окна. Слава Егоров, легко выпрыгнув из машины, направился к соседним домам — за понятыми, догадалась я. Шершевич и Антон поджидали меня и встретили молчанием. Слава через несколько минут появился с двумя мужчинами, которые почтительно поздоровались с нами. В глазах обоих так и светилось любопытство, и Шершевич, тоже увидевший это, отвернулся. — Откройте вход, — обратился Антон к директору. Тот направился к калитке, просунул руку в небольшое отверстие, нажал невидимую нам кнопку. Мы подождали, но калитка не открывалась. Антон вопросительно глянул на Шершевича, который недоуменно пожал плечами, вновь сунул руку в окошечко, посигналил настойчивей. Никто не открывал. Минут десять, не меньше, топтались мы у калитки, и Слава что-то шепнул Антону, на что капитан, поморщившись, ответил: — Подожди, Слава, это успеем. — Так что же будем делать? — спросил он Шершевича. — Ломать? Губы Шершевича брезгливо искривились. — Вы должны были знать, направляясь сюда, что моя жена больна. Не спешите. Если через пару минут не откроет, используем запасной вариант. — У вас есть запасной вариант? — удивленно спросила я. — И мы стоим перед закрытой дверью? Шершевич ответил мне, даже не повернувшись в мою сторону: — Моя жена больна. Я не хочу ее пугать. Так я поступаю всегда. Сперва звоню, потом вхожу. Меня удовлетворило это объяснение. Очень даже понятно, когда нельзя пугать больную. Очень понятно. Только почему-то Анатолий Ефимович Браво беспокойно переступил с ноги на ногу, и это словно передалось понятым — затоптались и они. Меж тем Шершевич вновь подошел к калитке. На этот раз рука его была в проеме подольше и засунул он ее поглубже, видимо, где-то там была система кодирования запора. Действительно, в железных воротах медленно и бесшумно отъехала в сторону полоса металла, которую я и не признала за дверь — так, деталь железных створок. — Прошу, — сказал Виктор Викторович, и мы прошли на территорию, хорошо ухоженную, с цветами вдоль посыпанной крупным желтым песком дорожки. Дверь в дом была открыта настежь, мы вошли в небольшой холл. Я огляделась. Смотревшаяся небольшой дача была на самом деле просторной. На первом этаже из холла двустворчатая, тоже настежь открытая дверь вела в большую гостиную, с пушистым светлым ковром на полу, с заставленными книгами и посудой стеллажами вдоль стен. Круглый овальный стол посреди комнаты и стулья с высокими резными спинками, камин в углу и несколько мягких кресел с красивой простежкой. Тяжелые шторы опущены, и в комнате царил полумрак. Впрочем, на улице тоже смеркалось. Шершевич жестом пригласил нас в гостиную, только Слава остался стоять у двери. Никого не было и здесь, только откуда-то слышалось собачье повизгиванье, и Шершевич беспокойно оглянулся, обратившись к Антону: — Позволите поискать жену? Антон кивнул, и Шершевич направился к закрытой двери, ведущей из холла в другую комнату. За ним бесшумно скользнул Слава, а мы остались в холле. Из приоткрытой двери в гостиную ворвался пес, черный, как уголь, лохматый спаниельчик. Дружелюбно помахивая обрубком хвоста, ткнулся к одному, другому и вновь скрылся в соседней комнате, откуда уже показался Шершевич, который с отрешенным, болезненно искривленным лицом вел за талию худую женщину средних лет. За ними шел смущенный Слава. Виктор Викторович усадил жену в кресло и сказал с нескрываемой злобой: — Вот теперь ищите. Я была смущена до крайности. Не так, конечно, я представляла себе посещение дачи Шершевича. Взглянула на Браво и, к удивлению, в его глазах, обращенных на Шершевича, сочувствия не увидела. Странно смотрел на своего соседа мой добровольный помощник. — Виктор Викторович, — начала я как можно дружелюбнее, — у нас есть данные, что Любарская находится у вас. Или находилась, — запнулась я. — Известно также, что ночь перед катастрофой здесь провела Галина Михайловна Сватко… — Какой катастрофой? — перебил меня Шершевич. — Кто дал вам право шантажировать меня? Ни о какой катастрофе мне неизвестно! Я требую прекратить это издевательство! Вы видите, здесь больной человек! Как вам не стыдно! Любарской здесь нет, можете убедиться сами… Он еще продолжал возмущаться, как вдруг я вздрогнула от неожиданного и такого нелепого в этой ситуации хохота. Жена Шершевича, откинув голову на спинку кресла, громко и неудержимо смеялась! — Зина, — бросился к ней Шершевич, — прекрати, Зина! — он повернулся к нам: — Уезжайте, прошу вас. Ах, как все это было мне неприятно. Я вновь глянула на Браво и опять не увидела сочувствия или даже смущения в его взгляде. Он тихонько покачал головой, и я не могла понять, что означало это. Видя мою нерешительность, вмешался Антон: — Служба, Виктор Викторович, извините. Прошу вас пройти со мной, — это понятым. Мы остались в комнате втроем: я, несчастная Зина, сжавшаяся в глубоком кресле, и Слава. Оперуполномоченный уголовного розыска остался с нами. Да, еще в комнате осталась собака. Мохнатый длинноносый песик словно чувствовал неприятность, которую мы доставляли его хозяевам, укоризненно поглядывал на меня черными умными глазами, положив голову на широкие лапы, так что длинные красивые уши легли на пол. Зина Шершевич сидела в кресле, прикрыв глаза, и я не решалась беспокоить ее вопросами, понимая, что она действительно больной человек. Но я видела, что краешком прикрытого темным веком глаза Зина наблюдает за мной. Шершевич где-то там показывал свои владения, но я была уже почти убеждена, что Любарской здесь нет. Не могла же, в самом деле, взрослая современная женщина прятаться от нас где-нибудь под кроватью, как в старинном бульварном романе. Странно все это. Впервые я гоняюсь за потерпевшей, ищу ее Бог знает где. Да и как не искать, если случилось то, что случилось. Тот черный холмик под молодой березкой разве забудешь? В комнате было тихо, никто не нарушал молчания. Я любовалась песиком, который, видимо, успокоившись, вдруг встал, переменил место. Теперь его продолговатый с черным сочным кончиком нос почти упирался в стеллаж с книгами, смешной коротенький хвостик подергивался. Время от времени пес шумно втягивал в себя воздух и дружелюбно чихал, обрубок хвоста ходил ходуном. Слава тоже наблюдал за собакой и, я заметила, к чему-то приглядывался на стеллаже. Возвратившийся вскоре в комнату Антон был мрачен, зато Шершевич заметно повеселел. Любарской с ними не было. Шершевич обратился ко мне: — Ну вот, вы теперь знаете мою "страшную” тайну, — он криво усмехнулся, показал на неподвижно сидевшую жену, — Зина очень больна. Может жить только на даче. Конечно, домашний уход дороже, приезжают врачи, нанимаю сидеть с ней разных женщин, тех, кто согласится. Разных женщин, — повторил он. — Не это ли ввело в заблуждение соседей? Думаю, да, именно это. И, не правда ли, меня можно пожалеть? — он смотрел на меня, но взгляд не вязался с просьбой о жалости — был колючим, злобным. Светлые глаза словно заволакивались, подергивались злой влагой, лицо оставалось бледным. — У вас ко мне будут еще вопросы? — спросил он. — Да, — подтвердила я, — вопросы будут. В том числе о Сватко. — Разрешите тогда увести жену, — попросил он. Я молча кивнула. Шершевич, как раньше, придерживая за талию и что-то шепча, повел жену в другую комнату. Собака потрусила было за ними, но не успела выйти. Дверь захлопнулась, и пес, постояв, вернулся на прежнее место у стеллажа. — Осмотрели все, даже гараж и территорию. Нет аптекарши. Вы не могли ошибиться? — спросил Антон у Браво. Тот покачал головой: — Нет, я не ошибся. Серая "Волга” стояла здесь ночью. А Любарская жила как минимум два дня. Я видел сам. Ренату Леонидовну знаю. Они и раньше бывали здесь, эти женщины. Не пойму, зачем он отрицает? Хотя бы про Любарскую сказал, — искреннее недоумение было в голосе свидетеля. Пора было заканчивать работу. Отодвинув высокий стул, я присела к столу, чтобы заполнить протокол обыска и попросила Антона: — Скажи ему сам. Неужели он так и не понял, что случилось? Антон лишь пожал плечами. Когда Шершевич вернулся, капитан начал разговор: — Виктор Викторович, сегодня утром погибла Сватко… Шершевич просто осел на диван у камина, схватился за голову: — Где? Как? — прошептал он. ’’Неужели можно так играть? — подумала я, глядя на него. — Нет, он не прикидывается”. Опять заныло у меня сердце, заныло от одной только мысли, что я причинила боль человеку, неужели это напрасная боль? Неужели опять я бьюсь, как муха в паутине, не в силах вырваться из какого-то заколдованного круга, порочного круга, за которым находится истина, так необходимая мне. И Антону, и Гулину, и многим еще людям… Я вышла из-за стола, подошла к Славе, который продолжал стоять у стеллажа возле собаки. Слава, казалось, не обращал на нас никакого внимания, не проронил ни слова. Он все это время находился у полок, где были книги, фужеры, какие-то безделушки. И тут внезапно мне показалось, что у меня закружилась голова. Я протянула руку, ища опоры, и в тот же миг, отброшенная сильным толчком, упала на диван рядом с Шершевичем. Отскочила в испуге собака, а стеллаж медленно-медленно отходил от стены, образуя щель, у которой уже стоял Слава, прижавшись к стене и вставив в проем ногу. Мягко, как огромная кошка, к движущемуся стеллажу прыгнул капитан Волна, они встали рядом — тоненький Слава и мощный Антон, который, я видела, выдвинул вперед плечо, прикрывая товарища. Я оцепенела на миг, а тут еще вдруг от двери раздался громкий, истерично-издевательский хохот, заставивший меня вздрогнуть и оглянуться. Дверь, в которую Шершевич только что увел жену, была настежь открыта, и Зинаида стояла в проеме. Одной рукой она зажимала себе рот, от чего смех казался странно прерывистым и жутким. Другой рукой женщина показывала вперед, на шкаф. Шершевич, вскочив, бросился к жене, а я снова глянула на стеллаж и увидела, что из-за него показалась донельзя смущенная невысокого роста полноватая миловидная женщина. Антон посторонился, пропуская ее, и изумленно воскликнул: — Любарская! Рената Леонидовна, как же так? Что вы там делаете? — Вот вам и весь фокус, — заметил Браво, сохранивший полное спокойствие во время этих необычных событий. Любарская между тем обратилась прямо к капитану, словно не замечая никого вокруг: — Что вы сказали? Погибла Сватко? Галина Михайловна? Это правда? Так вот что выманило Любарскую из тайного укрытия! Известие о гибели Сватко! — Да, — ответил Антон, — она погибла. — Когда? Где? Ведь мы расстались сегодня утром! — Что я говорил! — опять торжествующе заметил Браво. — Выясняются обстоятельства, — уклонился от объяснений оперуполномоченный, — а вот вы скажите, как здесь оказались? — Ах, — махнула рукой Любарская, — надоело мне все это. Смертельно надоело. Но как же Галя? Как же так? — и заплакала. — Рената Леонидовна помогает мне ухаживать за Зиной, — послышался за моей спиной ровный голос бесшумно подошедшего Шершевича, — но рекламу из этого мы делать не хотим. Жена моя больна, вы видели сами. И не всегда хороша официальная медицина. Порой дружеское слово, участие для Зины лучше, чем укол. Да Рената и на уколы мастер, не правда ли? Каждое слово Шершевич чеканил, каждое выделял, так что я поняла: да он Ренату учит, позицию ей подсказывает прямо у нас на глазах! Поняла это и Любарская, повернула к Шершевичу лицо, взявшееся от волнения красными пятнами: — Оставьте, Виктор, — устало сказала она, — оставьте, пожалуйста. Вы слышали, Галя погибла. А вы?! Да и игра эта перешла все границы приличия… и благоразумия. Ни к чему хорошему это не приведет. Уже… Склонив к плечу голову, она промокнула слезы воротничком длинного красного халата и обратилась теперь уже ко мне: — Вы, наверное, следователь Тайгина? — Да, это я. — Простите меня. Я собиралась к вам, честное слово. Но вот Виктор Викторович… он сказал, зачем тебе нервничать, не ходи на допрос, пусть все само утрясется, а ты пока полечи Зину, ей хуже стало… Ей действительно хуже… Он меня и увез… Да и Галя просила… Ну скажите же, наконец, что с ней случилось? — Автокатастрофа, — коротко ответила я. — С Галей? Не верю! Она за рулем 20 лет! Виктор? — она повернулась к Шершевичу, но тот лишь молча пожал плечами и отвернулся. — Нет, вы ответьте мне, Виктор, — настаивала Любарская, — вы утром ее проводили. Отвечайте мне, Виктор, как могло такое случиться? Ответа Любарская не получила. Я составляла между тем самый странный за всю свою следственную практику протокол: на даче Шершевича обнаружилась потерпевшая Любарская. Тайник ребята осмотрели. Это был небольшой закуток, где стояло лишь кресло да полочка над ним с термосом, в котором еще не остыл кофе. Расстроенная и пристыженная Любарская рассказала, что спряталась в закуток по договоренности с Шершеви-чем, когда тот подал от калитки условный знак: три коротких звонка и один длинный. То-то и мариновал нас у ворот Шершевич. Никто не должен был нам открыть, просто он выжидал, пока укроется Рената. — Но зачем? — не выдержала и спросила я, хотя вначале твердо решила все вопросы оставить к допросу, тщательному и продуманному. Шершевич завозился было в своем углу на диване, но Рената Леонидовна не обратила на него внимания, опустила глаза и промолвила: — Но ведь я не совсем точна была на следствии… И в суде тоже… Дело в том, что Гулину я деньги не давала… Сердце мое так и подскочило в груди. Гулин! Наконец-то вышла я напрямую на эту самую сложную и нужную линию — Гулин! "Ну же, — мысленно торопила я замолчавшую Любарскую, — ну же, говори, говори”, — но не произносила этого вслух, боясь спугнуть признание. — Не подумайте, — встрепенулась Рената, — что все неправда. Нет, я деньги давала за двигатель, только Паршину дала, юристу. Он мне сказал — для инженера, для Гулина нужно. Много ли я понимаю? Нужно, я и дала. — Но Гулин-то, Гулин? — не выдержал Антон. — Вы ведь на него указали прямо: деньги дала Гулину — вот и все. Рената Леонидовна вновь потупилась — этакая невинная заблудшая овечка: — Виктор Викторович, а потом и Галя просили, чтобы Паршина не впутывать. Зачем, мол, человеку неприятности, раз деньги не для него. Я и подумала: действительно, зачем? Вот и сказала, что деньги дала прямо Гулину. Подумала, ну какая разница? На суде, правда, когда Гулина увидела, жалко его стало, просто ужас. Но Виктор уверил меня, что если я назову юриста, посадят и того рядом с Гулиным. Вот в какую историю я попала, — вздохнула она, — а тут еще новый вызов, и Зина заболела, да и Галя тоже… — А Галя? Что Галя? — переспросила я. Губы мои пересохли от волнения. Недаром искали мы Любарскую! Недаром. Чует мое сердце, будет с Паршиным новый разговор. Ах, Рената Леонидовна! Или вправду так наивна, или не в меру хитра? Так что же хотела она сказать о Гале? Хотела и осеклась, глянув в угол дивана. Осеклась и молчала под тяжелым, исподлобья взглядом Шершевича. А, помолчав, робко, словно школьница, спросила: — Ведь лучше, что я рассказала правду? Пусть отвечает и Паршин. Вы сами, Виктор, говорили… — Дура, — прервал ее Шершевич, — молчи, лярва, не забывайся. Молчи. При этих словах меня снова охватило странное чувство, словно я присутствую на незнакомом спектакле и совсем неожиданные роли играют окружающие: Славик, резким рывком отбросивший меня от полки, необычно грустный Антон Волна, забывший свои поговорки, эта женщина, появившаяся из стены и поведавшая о лжи с таким наивным видом, словно за этой ложью не крылась судьба человека, и, наконец, Шершевич — сегодня вторично поражал меня. Будто в гоголевской "Майской ночи” проступило в нем черное нутро лжесвидетеля и… еще что-то, непознанное. Откуда у респектабельного и законопослушного директора блатной жаргон? Любарская растерянно вертела головой, оглядывая нас и боясь, видимо, посмотреть на Шершевича. И замолчала. Послушалась злого совета, замолчала. Антон, между тем, вынул из папки аккуратную стопку листков, и по почерку я узнала — это акт ревизии, написанный Радомским. Видимо, напечатать акт не успели, и капитан прихватил с собою рукописный текст. Волна подтвердил мою догадку: — Это акт ревизии станции технического обслуживания автомобилей "Радуга”, — сказал он, — здесь перечислены серьезные махинации. Ваши, Виктор Викторович. А потому вам придется поехать с нами. Шершевич резко встал. — Но моя жена, она не может остаться одна, — сделал попытку Шершевич, — я приду к вам завтра, даю слово. Капитан уже взялся за телефон: — За вашей женой присмотрят в больнице. Сейчас я решу этот вопрос. Думаю, ей там будет не хуже. Во всяком случае, ее будут лечить специалисты, а не аптекари, — ответ Антона прозвучал резковато, но я его понимала. Антон и Слава остались с Шершевичем ожидать врачей, а я пригласила Любарскую, и мы отправились в город. Наступил уже поздний вечер, время за такими событиями пролетело совсем незаметно. Навстречу нам неслись вереницей разноцветные машины, а нас никто не обгонял — всем хотелось за город. Люди любят землю, украшают, прибирают ее, чистят радужные перышки синей птице — природе. Ах, такую бы чистоту да человеческим взаимоотношениям. В машине мы молчали. Но когда стали подъезжать к месту гибели Сватко, я вдруг подумала: поговорю-ка с Ренатой Леонидовной в неофициальной обстановке. Допрос есть допрос, у него свои накладки. Но можно ведь побеседовать по душам. Еще издали увидев черный островок обгоревшей травы, я тронула водителя за плечо: — Остановите, пожалуйста. — И предложила Любарской: — Давайте выйдем. Рената Леонидовна все поняла, едва увидела следы недавней аварии. — Здесь? — шепотом спросила она меня. Серые глаза были тревожными, лицо исказила гримаса страдания. Я молча кивнула, подошла к молодой березке, что недавно плакала над изуродованным телом женщины. Медленно-медленно опустилась Любарская на землю, стала гладить обгоревшую траву. — Галя, Галечка, — услышала я ее горький шепот, — Галя, как же ты? Ты такая живая… Нет, — вдруг зарыдала она в голос, — не хочу, нет, нет… Я бросилась к ней, подняла с земли, начиная сомневаться в правильности своего поступка. Может, не стоило делать остановку? Здесь, где недавно умер человек. Так страшно умер. И слезы Ренаты меня тронули. Подступил к горлу проклятый ком, захотелось вдруг тоже заплакать, чтобы кто-то утешил, был рядом, поглаживая плечо, как Ренате. Слова проступали в сердце, кричал неслышимый голос моей души, выплескивая мою боль: "Нет, я не хочу, ты такой живой, нет…” Так стояли мы в сумерках под юной березкой, объединенные горем, и первой опомнилась Рената. — Спасибо, — сказала она, — спасибо, что я здесь. Теперь я все поняла. Я исправлю ошибку — свою и Галины. Не нужно больше страданий, пусть все встанет на свои места. Скажите, как это случилось? Слушая меня, Любарская лишь покачивала головой — то изумленно, то возмущенно — я понимала. Мой рассказ она подытожила так: — Галина гибель непонятна. Почему в машине оказался этот проклятый газ? Зачем? Ах, Рената Леонидовна, хотела бы я знать, почему и зачем. А Любарская продолжала: — Мы сделаем так: я отдам вам Галин дневник. Вчера она принесла мне его и просила хранить. И сказала: "Здесь моя жизнь. Пусть полежит у тебя, пока все не наладится”. Любарская снова заплакала, но уже потихоньку, словно стесняясь. Мы еще помолчали. Я обдумывала слова Ренаты и гадала: что кроется за ними, какие тайны содержит дневник и почему Сватко доверила его подруге? День окончательно оставил нас. Как жаль, что до следующего еще целая ночь.ГЛАВА 16
Много раз в волнении я вставала, подходила к окну. На улице поднимался ветер, и в круге слабого уличного фонаря беспокойно метались тени деревьев. Как живые, жались друг к другу, сплетались, расходились. Словно человеческие судьбы, в которых я разбиралась. Чудилось: где-то там, в призрачном клубке, и моя собственная судьба. Эта ночь надолго запомнится мне. Я прожила тогда жизнь другой женщины. Знание финала делало мои чувства более острыми, необратимыми, окрашивая совсем в другие тона. Собственно, это был не дневник. Записи в большом красном блокноте-ежедневнике, расчерченном четкими типографскими приказами: что сделать, куда позвонить. Галина Михайловна Сватко начала вести записи с тех пор, как осталась одна. Вначале повзрослели рано рожденные дети, затем ее оставил муж. Это подвело черту под одним этапом жизни, в котором женщине и некогда было писать: семья требовала заботы и получала ее сполна. Ни одной даты в записях. Только события обозначали существование, только воспоминания и чувства, доверенные красному блокноту. Я читала странный дневник с чувством неловкости, вспоминая, как не желала впустить меня Сватко в свою личную жизнь. Но мне необходимо было перешагнуть и через это, мало ли я ломала себя, потому что ждали решения своей судьбы другие люди, живые. Гулин, например, и та тихая женщина, его жена. Да еще, не удержавшись, по своей давней привычке, я заглянула в конец, прочла последние Страницы и тихо ахнула: вот она, разгадка. Я читала исповедь одиночества, историю душевного взлета и морального падения. Сватко была рядом со мной всю эту ночь, такую короткую и бессонную. Мы вместе пережили предательство, страдали. Потом любовь. Осенняя, последняя, радостная и горькая. Забыта прошлая боль, разумная природа изгнала муки и наполнила жизнь новым смыслом — ее снова любили. Я уже знала, чем это кончится. Я знала, а она нет. Потому шла без оглядки за любимым, не замечая вокруг ничего, глядя на все его глазами. Не заметила, когда помощь переродилась в подлость. Не спохватилась, шла следом, не свернула с проторенной негодяем дорожки. И только последние страницы полны новой горечи и муки. Вот эти слова, уже прочтенные мною: ’’Так быть не должно. Все отдам ему, даже свою жизнь. Но только свою. Чужой жизнью располагать я не вправе. А получилось, что я уничтожила человека. Виктор, победитель, зачем тебе эта победа? Зачем такая победа над человеком, пусть и причинившим тебе зло? Может, ты и не победитель вовсе, а тоже жертва? Тебя опутали, обманули? Хочу верить, что это так. Завтра я открою тебе глаза. Кроме меня этого никто не. сделает. И потом, Рената. В какое положение мы поставили Ренату?! Ты сказал мне: "Сделай доброе дело”. Но добрые дела не делаются таким грязным способом. Разве доброе дело я сотворила? Я лжесвидетель. Но это я — ты располагал моей совестью, как и жизнью. Только моей, а сколько замешано здесь? Нет, завтра мы с тобой все решим по чести, по совести, чего бы это ни стоило. А если ты не решишься, правду скажу я. Тот человек невиновен. Мы должны ответить за то, что с ним сделали”. Запись на этом кончалась, даты под ней не стояло. Когда написала это Сватко? О разговоре со мной — ни слова. Не сочла существенным или не успела записать? Какие события произошли после этого? Почему она отдала дневник подруге? Новые вопросы. Измученная и потрясенная, я закрыла толстый блокнот. В нем оставалось много чистых страниц, которые никогда не заполнятся. Пора было и мне отдохнуть, силы нужны для нового дня, обещавшего быть снова трудным. Но сон не шел, я вновь зажгла лампу, взяла в руки блокнот, полистала, в который раз прочла последние листы. Значит, Галина Михайловна сама назвала себя лжесвидетелем. А свидетельствовала она против Гулина, другого дела попросту нет. И, следовательно, о Гулине она сказала неправду. Но как же заявления, деньги, понятые — неужто все это провокация?! Я ворочалась на своем диванчике, одолевали мысли. Само слово — провокация — было мне отвратительно. Но за этим словом стояли события и люди. Что будет, что будет! Как мог Захожий не почувствовать, не заподозрить?! Доказательства вины Гулина ему были принесены, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой. Сама эта легкость дела, услужливость заинтересованных людей должна была насторожить, но… Урок легковерия, оплаченный такой дорогой ценой. Мне захотелось чаю, я встала, переложила блокнот на стол, и он раскрылся на последней, чистой странице. Картонная белая корочка вложена была в красную обертку, и мне показалось, что она отстает, чуть приподнимается над картоном. Я сунула пальцы в красный карманчик. Точно! Пальцы нащупали жесткий сгиб. И вот я уже разворачиваю сложенный вчетверо листок, мелко исписанный знакомым уже почерком. Он был адресован мне! Волнуясь, прочла я обращенные ко мне слова, таившие разгадку дела. И все стало на свои места, получило объяснение. Все, кроме смерти самой Галины Михайловны. Письмо делало эту смерть еще более трагичной, более загадочной. Но я твердо знала: мы добьемся правды и здесь. Все равно добьемся. Письмо мертвой женщины не даст мне покоя, пока не будет поставлена последняя точка над всем этим постыдным делом. Странно, но факт: время, только что летевшее с молниеносной быстротой, стало тянуться медленно, едва я начала торопить его. Скорее бы наступило утро, когда можно приступить, наконец, к действию. Я позвонила Антону, мысленно готовя извинение, но телефон не ответил. Буйнову звонить в такое время просто неприлично. Я промаялась так до рассвета и вышла на гулкую пустую улицу как раз к первому свежеумытому веселому троллейбусу. Сегодня мне предстоял особенно сложный день. Ответственный, полный серьезных и трудных решений. В тиши моего кабинета думалось легко, словно и не было бессонной ночи, а может быть, силы давало мне сознание значимости моей сегодняшней работы. Я принялась печатать документы. Первое. Постановление о назначении почерковедческой экспертизы. Нужно подтвердить, что письмо и дневник написаны рукой Сватко, хотя сама я в этом не сомневалась. Вспомнила о симпатичном эксперте, улыбнулась — еще один хороший человек встретился на моем пути. Конечно, я сумею уговорить его провести экспертизу быстро, дело стоит того. Интересно, понадобится ли очная ставка Паршина с Любарской или ему достаточно будет сказать о показаниях женщины? Паршин — юрист, сумеет оценить обстановку. Думаю, и очной ставки не потребуется, расскажет Паршин сам, куда употребил деньги Любарской и как состряпал оговор. Вот оно, это слово. Подлое, страшное, словно пришедшее из времен инквизиции. Круглое, как колесо, вобравшее столько пороков и добродетелей. Да, и добродетелей тоже, потому что именно они порождают у мерзких душ низменные страсти. Великая сила жизни — честность всегда угрожает подлости, которая сама не сдает свои позиции. Живуча и агрессивна подлость, умеет затаиться, прикрыться и словом и делом, и нападает коварно и тихо, из-за угла. Оговор. Победа подлости, ее торжество. Но и раздавленная колесом оговора честность остается сама собой, собирает, копит силы для решительной схватки. И побеждает, обязательно побеждает, потому что у нее много союзников. Сегодня ей помогли мой друг капитан Волна, старший охранник Иванцов, глухонемая Таня, человек со смешной фамилией Браво… Завтра — помогут другие. И так будет всегда. Я это знаю твердо. Постановление об освобождении Гулина из-под стражи напечатала быстро. Сегодня он будет свободен. Это первое, что я сделаю, когда начнется рабочий день. Хорошо бы сообщить жене, ведь Гулин болен, пусть его встретит жена. Нашла номер телефона, позвонила. — Лидия Ивановна, прошу вас приехать ко мне. Да, прямо с утра. И не удержалась, добавила, хотя права такого, строго говоря, не имела, потому что прокурор еще ничего не знал и постановление мое не утвердил: — Хорошие для вас вести. В ответ послышался всхлип, резанувший по сердцу. А что мне сегодня предстоит! Освободить человека от тяжкого груза ложных обвинений — это тоже мой профессиональный долг, моя обязанность следователя, о которой, увы, часто все забывают, не пишут об этом, не говорят. Я готовилась к докладу Буйнову, подбирала все факты — не упустить бы чего, когда дверь без стука открылась и — вот он — явилсяпередо мной сам Антон Волна — свежий, улыбающийся и довольный. — Привет, — весело сказал он, прихлопнул широкой ладонью лежащие на столе бумаги, — все скрипишь пером, Наталья? А мы, милиция, у тебя, как золотая рыбка: дайте то, подайте это, сделайте наоборот. — Антоша! — обрадовалась я. — Ты подумай только, что я сыскала! — Да, Господи-Боже, какие у тебя могут быть дела за ночь, а вот у нас, послушай. Антону не терпелось выложить свои новости, но мои данные, я считала, были важнее всего, и я съехидничала: — Ну-ну, давай. Посмотрим, кто из нас лучше поработал. — Я коротко, — сказал Антон. — Итак, налицо оговор. Опять это противное слово. Да, сегодня ему суждено прозвучать не раз. Капитан между тем продолжал: — Шершевич признался, а куда он денется! Здано Янович разложил их по полочкам, весь их подпольный бизнес, ты знаешь. Я молча кивнула. — Так вот, Гулин, придя к ним на службу, заподозрил неладное, попытался проверить. И, святая душа, со своими подозрениями к Шершевичу пришел. Как же, руководитель — презумпция, так сказать, невиновности! А эта невиновность по уши застряла в дерьме — ох, прости, — извинился Антон. — Шершевич запаниковал и к Паршину, он у них в доле и главный консультант. Этот иезуит и придумал комбинацию со взяткой. И женщин не пощадили, втянули в преступление, — грустно усмехнулся капитан, — мужчины называются, тьфу! Все в ход пустили, даже любовь… Антон замолчал, и я также молча протянула ему письмо Сватко. ’’Молчать я больше не вправе”, — начал читать Антон, и лицо его все больше грустнело, хмурилось. — Н-да, — промолвил он, возвращая мне листок, — как все это печально. И что будем делать? Новая предстоит работа. Да какая!.. Мы еще помолчали, потом Антон вновь оживился: — А ведь мы разными путями, но к одному выводу пришли, Наташа. Одна цель достигнута. С Гулиным — полная ясность. Они, Шершевич то есть с Паршиным, теперь только руководство делят и поделить не могут. Капитан рассмеялся. — Знаешь, противно как. Шершевич говорит: юрист опутал. А Паршин слюной брызжет: директор, мол, всему виной, даже машинку тайно от меня спрятал, вывезти хотел — это теперь у него главный довод. Как пауки в банке грызутся. — А ведь вначале Паршин все на себя брал, — напомнила я. — Да что он брал-то? Кражу только и брал. Не думал, что Шершевича достанем, еще, поди, надеялся: у того везде рука, выручит из беды. А как прижало, так каждый на другого валит. Во психология! За разговорами мы не услышали шагов в коридоре. — Вот они где, голубчики, — ворчливо сказал прокурор, входя в мой кабинет, — я тебя как просил, Наталья Борисовна? Информируй меня, не томи. А ты? — Василий Семенович, — стала оправдываться я, — поздно было сперва, а потом слишком рано… — То поздно, то рано… — перебил меня Буйнов, — что у вас? — Оговор! — враз произнесли мы с Антоном это мерзкое слово, и рука Буйнова потянулась к бритой голове, стала поглаживать, разминать затылок… Всем нелегко… Всем, кто знает цену справедливости. Выслушав нас, Буйнов сказал: — Гулина сегодня же освободить. С приписками и хищением на "Радуге” справиться будет несложно. На первый план выходит гибель Сватко. Он помолчал, опять погладил затылок и продолжил: — Это ее письмо… дневник… что было в бедной голове женщины? И не казнила ли она себя сама, пережив такое потрясение: крах всех иллюзий относительно Шершевича, страх нового одиночества, угрызения нечистой совести?.. Буйнов поглядел на нас, ожидая, может быть, возражений. Но мы молчали. — Потому и передала дневник Любарской, письмо вложила… Или все же?.. Если верить письму, а почему мы не должны ему верить, раз факт оговора подтвердился? — так, если верить письму, решительный разговор состоялся, и Сватко поддержки у Шершевича не получила. Шершевич же опасался разоблачения… С Гулиным-то вон как круто расправились! Да еще нашими руками, — горечь была в словах прокурора, — короче, — он встал, — заканчивайте эпизод с Гулиным и с новым планом расследования — ко мне. И вышел. — Эпизод с Гулиным, — повторила я. — Слышал, Антон? Дело Гулина уже только эпизод, значит, мне же работать по нему и дальше. А как? — Обмозгуем, — серьезно ответил Антон, — не журись, обмозгуем. Вон какие дела раскрутили, справимся и с этим. Оставив мне протоколы допросов и очной ставки Шершевича и Паршина, он ушел "подбирать хвосты”, как выразился сам. Встретиться мы договорились вечером. Все документы были готовы, в коридоре ждала меня Гулина, с которой я собиралась переговорить до отъезда, но вдруг противный и не желавший покидать мой кабинет уродец-телефон внутренней связи потребовал меня к прокурору. А там ждал меня новый сюрприз. Василий Семенович, разгоряченный и злой, показал мне на стул, приглашая садиться, а сам продолжал разговор с мужчиной, по-хозяйски удобно сидевшим за приставным столом. При моем появлении мужчина оглянулся, и я узнала его: Лебедев, тот, исполкомовский куратор "Радуги”, что обещал мне неприятности. Быстро же прискакал, значит, уже о чем-то осведомлен. — Повторяю в присутствии следователя, которому вы в нарушение закона уже угрожали, — говорил Буйнов сердито, — что никаких сведений по делу Шершевича, — "Шершевича”, отметила я про себя, — мы вам давать не вправе. Закон — это раз. А вам, — прокурор сделал ударение на этом слове, — следует подумать еще и об этике. — Я полагал своей обязанностью, — заговорил Лебедев, — знать, что происходит в подконтрольном мне учреждении. Я за него отвечаю, там всегда был полный порядок, это предприятие у нас в числе передовых и Виктор Викторович на хорошем счету… — Наталья Борисовна, что на "Радуге” с планом? Коротко информируйте товарища. В двух словах, — попросил прокурор. — Ревизия показала, что станция технического обслуживания автомобилей "Радуга” не выполняла своего назначения. План реализации услуг населению не выполнялся, размер приписок уточняется. Приписки, искажения отчетности, служебные подлоги и хищения — вот букет преступлений на этом предприятии. И венчает этот букет организованная провокация, оговор невинного человека. Вот все, что можно пока обнародовать, — ответила я. — Но позвольте, — голос Лебедева дрогнул, — какое это имеет отношение ко мне? Я не позволю… Я пожала плечами, а Буйнов сказал: — Вы просили информацию от следователя, вот вы ее получили. А какое все это имеет отношение к вам, пока неизвестно. Так, Наталья Борисовна? — Да, — подтвердила я. — Вы свободны, — отпустил меня прокурор. Гулина тревожно поднялась мне навстречу, но меня окликнула Инна Павловна. — Минутку, — попросила она. Зашла в кабинет, прикрыла дверь. — Ты знаешь, что Захожий подал рапорт на увольнение? Что, все так серьезно, да? Опять новость. Увольняется Захожий. Что ж, может, это правильное решение. Хотя ответственности за незаконный арест ему не избежать, здесь увольнением не поможешь. Инна, умница, задерживать меня не стала, пару минут поохав, убежала к себе, и я пригласила, наконец, Гулину. Никогда не забыть мне и этого — огромных, в пол-лица, глаз женщины, услышавшей правду о муже. — Я знала, — лишь выдохнула она и бессильно опустилась на стул, — когда? Когда он..? Потом была встреча с хмурым молодым доктором, обладателем сурового запретительного баса. Я предъявила ему постановление об освобождении Гулина, и морщинки на переносице доктора разбежались в стороны, исчезли совсем, он глянул на меня весело, доброжелательно, смешно сказал: "Это совсем другой табак" и убежал куда-то, оставив меня в своем кабинете. Вернулся он с Гулиным, и опять меня приковали человеческие глаза — тревожные, беспомощные, — ах, какие глаза имеют люди! Я поднялась навстречу Гулину: — Иван Сергеевич, объявляю вам постановление об освобождении из-под стражи и прекращении в отношении вас дела в связи с отсутствием события преступления. Я старалась говорить твердо, но голос мой от волнения дрогнул, не мог не дрогнуть. — От имени прокуратуры приношу вам извинения за незаконный арест и разъясняю вам право на возмещение ущерба, причиненного этим арестом. Виновные лица понесут ответственность. Гулин растерянно оглянулся на доктора, словно ища подтверждения моим словам, и доктор крикнул ему: — А я что говорил?! Иван Сергеевич молча кивнул, руки его тряслись, когда он ставил свою подпись на документе, который его полностью реабилитировал, и я отвела глаза. По просьбе доктора, да я и без его просьбы поступила бы так же, я дождалась, пока закончатся формальности, и потом, по дороге к дому Гулина, наблюдала украдкой, как Лидия Ивановна держит за руку мужа, словно боясь его снова потерять. Так, держась за руки, они и простились со мной. В прокуратуре меня ждал Буйнов, я доложила об освобождении Гулина, и прокурор сказал: — Подготовьте справку о причинах незаконного ареста. Захожий подал рапорт на увольнение, но это его не спасет. Будем принимать меры, самые серьезные. И не позже завтрашнего дня — план расследования. Вы назначаетесь старшей следственно-оперативной группы. Иного я и не ожидала. Конечно, мне придется доводить это расследование до конца. К вечеру приехал Антон с молодым следователем милиции, которого я уже видела на месте гибели Сватко. Лейтенант Шубин успел получить важные документы: газовый баллон, взорвавшийся в багажнике машины Сватко, за два дня до несчастья Галина Михайловна получила в мастерской по заправке баллонов газом. Сама она его туда и сдавала, Шубин отыскал корешок квитанции. Я внимательно прочла показания соседки, которая просила Галину Михайловну об этой услуге. Потом Шубин положил передо мной заключение экспертизы: старый вентиль баллона имел дефект и не выдержал длительной тряски в багажнике. Значит, развернувшиеся события помешали Сватко выполнить просьбу соседки, и она возила с собой этот старый баллон, пока не произошла трагедия! Несчастный случай. Нелепость ценою в жизнь. И Шершевичу, утверждавшему, что он даже не знал о баллоне, можно верить. Я молча глянула на Антона, тот развел руками: — Сама понимаешь, я должен был проверить все. Самые худшие варианты. Конечно, Шершевич негодяй, но я рад, что к этой смерти он непричастен. Молодец, Антон. Имеет смелость признать ошибки. В нашем деле это особенно важно. На третий день после этих событий мне передали письмо Сватко, с опозданием пришедшее по почте. Уже будучи мертвой, Галина Михайловна расставила все наконец по своим местам. В дневнике я нашла тогда неполный вариант этого письма. Аккуратным ровным почерком Сватко сообщала, что готова к любой каре за ложное обвинение Гулина и вовлечение в лжесвидетельство своей ничего не подозревавшей подруги. К любой каре… Мне кажется, я поняла и еще одну загадку, мучившую меня, почему Галина Михайловна передала дневник Любарской. Видимо, готовясь нести ответ, Сватко надеялась сохранить свои переживания в тайне от чужих людей. Хотела, чтобы дневник подождал, пока можно будет сделать в нем запись о счастье… В тот же день я собрала оба письма, дневник Сватко и образцы почерка, что нашлись в отделе кадров, и сама повезла в экспертизу, отклонив предложение Антона забросить бумаги по пути. Я не решалась признаться даже себе, что после всего происшедшего мне хотелось увидеть того занятого эксперта и вновь поймать его взгляд, не жалеющий, просто доброжелательный. Не решалась признаться и сердито сказала Антону, который все же подвез меня к зданию экспертизы на своем "жигуленке”: — Время не терпит, попрошу побыстрее сделать. Антон укатил, а я прошла по узкому темноватому коридору, где разгуливал гнусный запах жженой резины — изучают что-то. В знакомой лаборатории за столом сидел мальчик лет пяти. Круглоголовый, с аккуратной русой челкой на лбу. Прикусив от старания нижнюю губку, он рисовал что-то, похожее на самолет, из которого густо сыпались грибы-парашютисты. На мое приветствие мальчик серьезно ответил: — Здравствуйте. — Вы эксперт? — шутливо спросила я, подходя к столу. — Нет, — ответил он строго. — Эксперт мой папа. А я рисую. В садике карантин, а бабуля болеет. У нее сердце. Вы к папе пришли? — К вам я пришла, к обоим, — опять пошутила я, но при этом в глазах ребенка вспыхнул огонек интереса, он спрыгнул со стула, с грохотом поволок его из-за стола ко мне. — Сашка, не дури там, — послышался голос из-за приоткрытой двери, и тут же, вытирая руки полой халата, к нам вышел эксперт. Увидев меня, смущенно извинился, кивнул на сына и пояснил: — Не с кем оставить. Бабушка приболела, в садике карантин… А мамы у нас еще нет, — добавил он негромко. Я опустила глаза, чувствуя, что эта последняя фраза приглашает меня в их жизнь, где была, видимо, своя история и трагедия. Сердце опять дрогнуло, и я поняла, что и тут мне предстоит вмешаться. Продолжалась жизнь. Продолжалось не только следствие. Своим чередом шла милосердная жизнь.Тайна двойного убийства
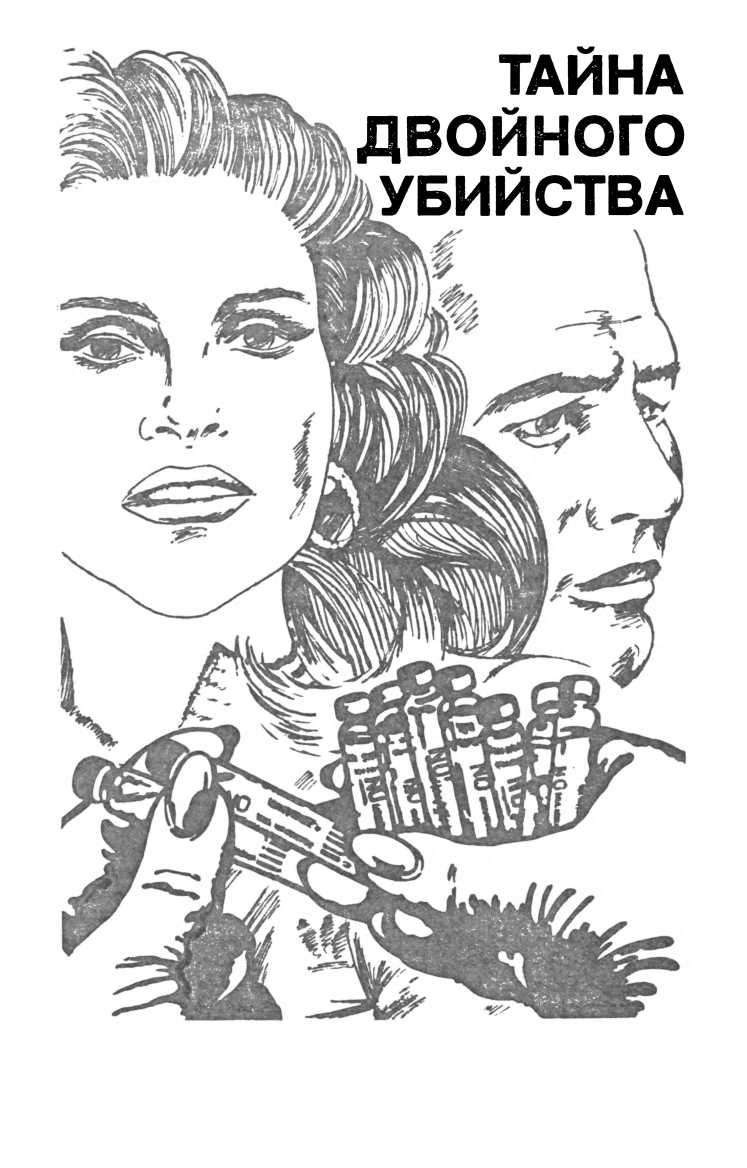
ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Глава 1
— Все здесь? — Поддыхов поверх затемненных в тонкой оправе очков внимательно оглядел собравшихся. — Роман Григорьевич, явились все, кого вы приглашали, строго по списку. Злоказов звонил, что задержится немного, хотя я его строго… — торопливо поднявшись, начала докладывать средних лет женщина с открытым блокнотом в руках, но под тяжелым взглядом Поддыхова умолкла, не закончив фразы. — Не суетитесь, Ирина Николаевна, не суетитесь. Меньше слов, — брюзгливо сказал он. Женщина, смутившись, кивнула, села, а Поддыхов продолжил: — Злоказова я научу уважать дисциплину. Смотрите, какой начальник: задержится. Пусть задерживается там, где ему позволяют. Здесь же извольте являться вовремя. — И добавил после небольшой паузы: — Это для всех. Пятеро мужчин закивали в ответ. Внимательно смотрели на Поддыхова и кивали: конечно, конечно, они понимают. Дисциплина должна соблюдаться свято. — Хорошо. Злоказов ответит отдельно. Начинаю производственное совещание, — продолжал между тем Поддыхов, и под его прицельным взглядом мигом зачах нервный смешок щупловатого жидковолосого блондина, даже скорее не блондина, а ударяющего в серый цвет мужчины в летах и в сером же костюме. Он сделал вид, что закашлялся, поерзал на стуле и затих. — Хорошо смеется тот, кто смеется на свободе, — ни к кому не обращаясь, сердито сказал Поддыхов, и участники совещания вновь закивали, на лицах появилось: согласие — с шефом, осуждение — к вызвавшему гнев и встревоженность — начало совещания ничего доброго не предвещало. В тесной комнатке быстро стало душно, июльская невиданная давно жара без труда победила и кондиционер, и плотные белые шторы. — Вы, Ирина Николаевна, идите к себе, сегодня протокола не будет, — проводив взглядом явно недовольную выдворением женщину, грузный Поддыхов легко нагнулся, скрывшись на миг так, что только спина в легкой, влажной от пота рубашке взгорбилась над кромкой стола. И шеи сидевших вытянулись в желании рассмотреть хоть на миг раньше то, что происходило за массивным столом начальника. Когда Поддыхов выпрямился, лицо его было багровым, на лбу и кончике носа выступили мелкие капельки пота. Брезгливо, двумя пальцами, он поднял над столом замшевый женский сапожок темно-коричневого цвета. Подержал несколько секунд, внимательно оглядывая присутствующих, затем разжал пальцы, и сапожок плюхнулся на стол подошвой. Голенище лениво пошло вбок и прилегло на глянец стола. Как по команде, все взоры обратились к Серому, который съежился под пиджаком, стараясь уменьшить свои и без того малые размеры. — Что это?! — грозно спросил Поддыхов. Серый молчал, зато вскочил жгучий молодой брюнет, рывком выбросил руку в сторону Серого: — Э, Вало, слушай, мы так не договаривались. Ты доброе дело погубишь, вижу я. Несерьезный ты человек, Вало, тебя… — Погоди, Давид, — прервал горячую речь Поддыхов, — не кипятись. А ты встань, Владимир Иванович, да объяснись… Серый неохотно поднялся, втянул голову в плечи, развел длинными худыми руками: — Роман Григорьевич, честное слово, мне ничего не известно. Так же, как вам… — Мне-то известно, — оборвал Поддыхов, — и ты знаешь все, не юли. Объясняйся, говорю тебе! Как на духу чтобы! Голова Серого подалась вперед, к столу, где стоял замшевый сапог. — Без меня это сотворили, слово даю! — опять начал Серый, однако загудели другие участники совещания, он испуганно оглянулся, но позиции не сдал: — Я разберусь, честное слово. Дайте время, выясню и доложу. А сейчас не готов, ничего не могу сказать. — Ну хватит! — Поддыхов ударил ребром ладони по столу. — Пора знать, что мы — предприятие нового типа. Нового! От меня ничего не скроешь. Из всего закона о кооперативе ты, Гусенков, усвоил только первую часть статьи тринадцатой — где о правах. Все другие, видно, пропустил. А там еще есть. Вот, например, — и Поддыхов процитировал на память: "Никто не вправе использовать кооперативную деятельность для получения незаконных доходов и в других корыстных целях”, — это как специально для тебя, Гусенков! — Роман Григорьевич, да объясни сам, в чем дело? — раздался голос элегантного мужчины лет сорока пяти в летней рубашке с множеством многоцветных полос и деталей. — Это у тебя я спрошу, Жека. Ты юрист наш, что называется, прокурор и суд. Все знать должен, но у меня спрашиваешь. Дожили. Едва народились, а уж убивать пора нашу контору при таких порядках. Юрист Жека Слонимский возмущенно встал: — Позвольте… И опять Поддыхов трахнул по столу ладонью, самым ребром: — Нет, не позволю! Никому не позволю нарушать закон. Вопреки всему, включая здравый смысл. Гусенков пустил их, — он кивнул на сапог, — в продажу! Вот в таком виде, как есть. Даже маркировку завода не стер, подлец! — Ну-у, — Слонимский повернулся к Серому всем корпусом, словно готовясь к драке. А полный, совершенно лысый пожилой мужчина — четвертый участник совещания, побагровев, схватился руками за голову и воскликнул: — Да он!.. Он… Нет, вы подумайте, он… что может быть!.. Роман Григорьевич, откуда у вас сапог? Ну неужели?!.. Поддыхов молчал. Пятый мужчина — молодой, широкоплечий, тоже молчал и… усмехался. Гусенков Владимир Иванович, начальник цеха бижутерии кооператива "Красота”, молча озирался и не стирал пот, крупными каплями катившийся по лицу от кромки седовато-серых волос. Злоказов так и не пришел на совещание. И уже из приемной Поддыхов вернул Гусенкова: — Задержитесь-ка, Владимир Иванович. Тот пожал узкими плечами и бочком прошел в кабинет.Глава 2
День выдался жаркий не только погодой. Ирина Николаевна с усмешкой наблюдала, как шеф дает разгон своим подчиненным. Одного за другим вызывал он людей, и те выскакивали из кабинета, как пробки, вытирая вспотевшие лбы и отдуваясь. Коротко, но энергично беседовал Поддыхов со своими коллегами, и Ирина Николаевна злорадствовала потихоньку, вслух же выражала сочувствие. Без этого сочувствия не жди информации. А так, сочувствуя и жалея, она получала там слово, там фразу, сравнивала, сопоставляла услышанное с увиденным и к концу рабочего дня уже имела полное представление о случившемся в кооперативе. Узнать все было для нее делом чести, ее местью за бесцеремонное удаление из кабинета, да еще на глазах у этих мужланов, исключением из которых был только Слонимский. К юристу у нее особое отношение. Была у них маленькая тайна, и это он рекомендовал ее в кооператив секретарем-машинисткой и делопроизводителем. Слонимский присоветовал ей сменить старую службу и подзаработать деньжат, которых всю жизнь не хватало даже на скромное существование. Так случилось, что жизнь проходила, шел ей пятый десяток, а желания и надежды продолжали оставаться неосуществленными. Евгений пробил брешь в стене безнадежности, которая уже вставала перед нею, и вот она здесь. Деньги, действительно, появились. Но у других, это скоро выяснилось, их было значительно больше. И главное, что стало смущать душу, — в маленьком коллективе ей вдруг захотелось значимости. В той, прежней организации имя ее терялось в тысяче других, и она не считала это обидным. Здесь людей было мало, она всех знала, никто не миновал кабинета шефа и, следовательно, ее. Знаки внимания постепенно стали привычными, обязательными, а малейшее игнорирование — нестерпимо обидным. Сегодня, например, она не была уверена, что лучше: солидный премиальный куш в конце месяца или участие в совещании, которое Поддыхов хотел сделать для нее тайным. Смешно! Тайна от секретаря со стажем работы в четверть века! Да есть тысячи способов раскрыть эти тайны, что она и делала весьма успешно. Вот и сегодня. Как говорится, тайное становится явным. И понадобился всего лишь день. Когда вечером Поддыхов бросил, уходя: "Вы свободны”, Ирина Николаевна лишь обиженно поджала губы. Все поддыховские проблемы уже лежали на ее ладони. Не торопясь, она убрала бумаги, аккуратно опечатала сейф — этого требовал шеф, словно там хранились вселенские секреты. Вышла на улицу. Солнечное пекло уже сменилось липкой духотой. Направилась к ближней троллейбусной остановке, решив не заходить в магазины, где находила ежедневное и привычное развлечение. Дома ее ждали одни лишь стены, магазины же кишели людьми, горели страстями. Солидная, со вкусом одетая Ирина Николаевна частенько давала консультации растерянным провинциалам, придирчиво разглядывала товары, выводя из себя усталых продавщиц. Одним словом, жила полнокровной жизнью. Даже театр не доставлял ей такого удовольствия. Там она была пассивным зрителем, в магазинах же — действующим лицом, причем весьма активным, хотя и не всегда положительным. Но сегодня необычная жара, да и впечатлений достаточно. Единственное, что мучило сейчас, — новости. Они переполняли ее и теряли всякий смысл от невозможности реализации. Уязвленное самолюбие излечилось гордостью за свою сообразительность, но что за радость в одиночку? Недаром говорится: разделенная радость — двойная, а Ирине Николаевне такие редко получаемые чувства хотелось множить бесконечно. Стоя на троллейбусной остановке, женщина раздумывала, кто мог бы стать ее собеседником на сегодняшний вечер. И гасло благодушие, потому что не находилось таковых. Вот оно, одиночество. Ирина Николаевна расстроилась, пропустила пришедший переполненный троллейбус. И не сразу сообразила, что это именно ее зовут из остановившихся неподалеку стареньких "Жигулей”. — Ирина Николаевна, — кричал, приоткрыв дверцу, молодой симпатичный гигант. — Антоша! — она шустро засеменила к машине, не упустив возможности с торжеством глянуть вокруг. Пусть даже незнакомые, но люди должны видеть: ее позвал мужчина и она покидает толпу, чтобы уехать с ним в автомобиле. Оглянуться-то оглянулась, но знакомых никого не увидела. К сожалению. — Садитесь, соседка, подброшу, — сказал водитель "Жигулей”, — я домой заскочить собрался. Смотрю — вы, да еще грустная такая. Жарко, поди, замотались? — Ах, Антоша, целый день как в аду. И этот транспорт. Поверите, троллейбус пропустила, не могла себя заставить войти в такую "потогонную систему”. А ваши на даче? — Там, — кивнул водитель. — Как я завидую им, Антоша! В такую жару на природе. У вас ведь и речка близко, лес? — Все имеется в наличии. И лес, и река. — Да-а, — протянула Ирина Николаевна завистливо, — а я вот всю жизнь только радуюсь чужому счастью… — Вы суровы к себе, — сказал мужчина, — счастье никого не обходит. Симпатичная, молодая, свободная женщина. И теперь еще при деньгах, — он засмеялся, и Ирина Николаевна охотно его поддержала. Что ни говори, а приятно слышать такое из уст молодого красавца с плечищами, как говорят, косая сажень. — Что вы такое говорите, Антоша, — притворно вздохнула она, отсмеявшись, — у меня все в прошлом. Хотя, конечно, не жалуюсь и сейчас на внимание. — Как новая служба? — поинтересовался сосед. — Идет. Служба идет, спасибо… У нас довольно интересно работать. Собеседник уловил в голосе Ирины Николаевны невольно прорвавшуюся таинственность, осторожно переспросил: — Все путем? Или есть сложности? — Ну что вы, Антоша! — спохватилась женщина. Такой исповедник ей был ни к чему, — все хорошо. Хорошо. Но новое дело-то, непривычное, поэтому и волнует все. — Если что — прошу ко мне, — сказал Антон, — не стесняйтесь, соседка. Дело-то, конечно, новое. Хорошее дело, что и говорить. Именно поэтому осторожничаем. Погубить хорошее дело несложно, сохранить труднее. Вообще-то, должен вам сказать, люди у вас подобрались разные. Как думаете? — Не знаю, — уклончиво ответила Ирина Николаевна, — люди везде разные, даже у вас, как выясняется. Вопросы Антона и его неприкрытая заинтересованность насторожили опытную секретаршу, добавили новый штрих к раскрытым дневным секретам и заставили замкнуться — долгий опыт не сбросишь со счетов. Она знала твердо, что владение служебными секретами может дорого обойтись, если обращаться с ними неосторожно. Тайна, что огонь: тихонько греет, но может обжечь и даже спалить, если его разжечь как следует. Обжигаться Ирина Николаевна не собиралась, хватит с нее ожогов, вся душа в шрамах. Слава Богу, дорога была недальней, вскоре подъехали к дому и простились у лифта. Антон побежал на свой четвертый этаж, перешагивая через ступеньку длиннющими ногами, Ирина Николаевна вошла в лифт, чтобы подняться на пятый, в маленькую однокомнатную квартирку, предмет неустанных забот и единственной надежной радости. Открыла дверь, растворила настежь окно, и сквозняк пронзил застоявшийся воздух, в комнате стало свежо. Приняла душ, надела новый спортивный костюм. Ирина Николаевна не признавала халаты и любила носить спортивные костюмы, благо позволяла фигура. Этот шел ей необычайно — светло-зеленый, финской фирмы "черная лошадь”, совсем новенький. В отместку одиночеству она не позволяла себе распускаться, дома была всегда подтянута, ухожена и не раз имела случай убедиться, насколько это важно. Сегодняшний вечер тому подтверждение. Дневные сюрпризы не закончились, и она почти не удивилась, когда вдруг раздался звонок, и дверной глазок предъявил ей Жеку. Слонимский был слегка пьян и заметно растерян. — Ты одна, Ирочка? — едва войдя, спросил Жека. Это обращение заставило дрогнуть сердце, начинавшее уже забывать волнующие, но странные отношения с Же-кой, которые возникли случайно и так же случайно продолжались. Зачем пришел Жека? Что нужно ему сегодня? Юрист не обременял себя дипломатией, поставил на кухонный столик бутылку дорогого армянского коньяка, полез в шкафчик за рюмками и досадливо ругнулся, не найдя их на привычном месте. — Редко заходишь, Евгений, — укорила его Ирина Николаевна, вынося рюмки из комнаты. Когда бутылка опустела наполовину, Жека повалился на пол возле ее кресла и стал целовать руки вялыми губами. Намерения Жеки были ясны как день, и она покорилась. Нельзя сказать, чтобы ласки Жеки были ей неприятны, но руки юриста были такими же вялыми, как и губы, узкую грудь покрывали редкие волоски, и страсть его своим однообразием напоминала усталого путника, бредущего по пыльной степной дороге. Потом усталый Жека откинул голову на диванный валик, и она порядком поразилась пугающей странности его лица. Вздернулся уголок рта, расширился и ярко блестел один глаз, второй же полуприкрылся и словно стал ниже, опустившись до самой горбинки носа. — Жека, Жека, — испуганно прошептала женщина, — ты что? — Одни неприятности, Ира, — ответил он очень тихо, — только ты можешь мне помочь. Слышать это было удивительно — чем помочь юристу? В чем он нуждается? Не в любви же, она понимала. Всерьез отношения со Слонимским принимать было нельзя, она убедилась в этом давно. До сих пор он ей помогал, спасибо, а она расплачивалась, служа редким пристанищем непонятной Жекиной тоски. Но помощи он еще не просил. Не было такого. И дальнейший разговор не просто удивил, обескуражил женщину. — Ты знаешь, что произошло сегодня? — Ну… в общих чертах, — осторожно ответила она. — Скажи мне, объясни, что случилось, — Жека уже подсаживался к столу и наливал коньяк — ей и себе. — Ты же был у Поддыхова, а я — нет. Ты должен знать больше. — То, что я знаю — я знаю. Меня интересует, что знаешь ты? — Жека начал раздражаться, и женщина насторожилась еще больше. — Зачем? — Но, Ира, я твой друг. Ты не можешь меня оставить в неведении. Знаешь, как Поддыхов говорил со мной? Я ведь не мальчик, а он меня так выстегал, что стыд. Хочу понять почему? Неужели его так уж взволновала продажа одной только партии? Все ведь легко уладить, я знаю пути. Потом. Кто принес ему этот злосчастный сапог? Кто? Ты видела? Видела? — Слонимский лихорадочно спрашивал, не ожидая ответа. — Непонятную возню я заметил недавно, пытался разобраться — нет, не могу. Не могу, не могу! Холеные руки юриста обхватили голову, он закачался в кресле, и это было неприятное зрелище: словно бескостный тряпичный манекен, не имея опоры, валился из стороны в сторону. И вдруг все переменилось. Слонимский быстро встал, блестящий расширенный глаз приблизился к самому лицу Ирины Николаевны, и ее оглушил совсем незнакомый визг: — И кто тебя ждал с работы?! Кто?! Отвечай же мне, зачем тебя он ждал и что ты ему успела сказать? Отвечай мне, иначе… Отвечай же, гадина! Истеричный визг долго стоял в ушах и оборвался внезапно…СЛЕДСТВИЕ
Глава 3
Из протокола осмотра места происшествия: "С места происшествия изъяты: бутылка пустая 0,"5 л с этикеткой коньяк "Наири”, на дне остатки коричневатой жидкости с запахом спиртного, три широких коньячных рюмки голубого стекла, шприц одноразового пользования с насаженной иглой и надорванная упаковка шприца, три ампулы фабричного изготовления, наполненные неизвестным лекарством, название которого смыто, белые домашние туфли со следами загрязнения на носке правой туфли, спортивный костюм светло-зеленого цвета. Все вещественные доказательства упакованы в отдельные целлофановые пакеты и опечатаны печатью прокуратуры. Труп Росиной Ирины Николаевны направлен в морг для производства судебно-медицинской экспертизы. Заявлений и замечаний со стороны участников осмотра не поступило. Протокол прочитан, записано верно”. Из постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы: ’’Постановил: назначить судебно-медицинскую экспертизу исследования трупа Росиной Ирины Николаевны. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы: 1. Какова причина смерти Росиной Ирины Николаевны? 2. Имеются ли на трупе Росиной телесные повреждения, и если имеются, какова их тяжесть, локализация, механизм причинения и являются ли они прижизненными? 3. Имеются ли следы применения Росиной наркотических либо лекарственных веществ, если имеются, то количество и способ их применения”. Постановление о назначении криминалистической экспертизы волокнистых материалов… Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы, трасологической экспертизы… Документы… документы… Все правильно, ни к чему не придерешься. Но меня не оставляло чувство досады, пока читала-перечитывала переданные мне бумаги. Всего-то три дня провела я в командировке, и именно в эти дни угораздило случиться убийству. Утром, едва я появилась на работе, прокурор вызвал меня в свой кабинет и к моему приходу уже расхаживал, пересекая его по диагонали, что означало крайнюю степень озабоченности. — Вот что, Наталья, — сказал он, поглаживая мизинцем кустистую бровь, — все-то привычки своего прокурора я узнала за долгие пять лет совместной работы, так что объясняющие положение слова были не нужны, и я невольно улыбнулась. — Погоди улыбаться-то, — рассердился вдруг Буйнов, — наплачемся еще. Ты о вчерашнем знаешь уже? Что-что, а уж эту-то новость я успела узнать. Успела поахать и удивиться, но не думала, что мне предстоит сия работа. Все же следователей у нас предостаточно, а я только-только закончила труднейшее дело — убийство, раскрытое с огромным трудом и стоившее мне немало нервов. Обвинительное заключение по нему еще не написано, а сроки критические. Все это, конечно, знал мой прокурор, тем не менее… Буйнов, словно прочел мои мысли, поморщился: — Знаю, знаю, Наталья Борисовна, все знаю. Но пойми, это суровая необходимость. Смотри сама. Прокурор, загибая пальцы, стал перечислять мне дела, в которых увязли мои товарищи, и так получалось, что по этому загадочному убийству мне все карты в руки — я самая свободная на сегодняшний день. Правда, Буйнов не преминул сделать мне комплимент, точнее, не мне, а моему опыту, но и этому комплименту я знала цену: Буйнов меня, как говорится, просто подначивал. Наверное, этот ход казался ему ужасно тонким и хитрым, но я, да и все мои коллеги, прекрасно понимали, что к чему. — Да ладно, — ответила я на монолог прокурора, — решение принято, чего уж тут говорить. Жалко только, что при осмотре места убийства я не была. — Ну, милая моя, — нахмурился Буйнов, — вот и допустила ты первую ошибку. Заключения судебно-медицинского эксперта еще нет, а на теле умершей Росиной, подчеркиваю: умершей, — он назидательно поднял указательный палец, — вот, при внешнем осмотре следов насильственной смерти нет. Посмотрим, что скажет эксперт, а пока что только следы внутривенного вливания какой-то гадости. И неизвестно еще, какой именно. И дело-то возбуждено по факту смерти. Учти, получаешь ты уравнение со многими неизвестными, а если совсем точно — со всеми неизвестными. Экспертизы я сам назначил, я и осмотр проводил на месте, так получилось. Короче, бери вот, знакомься сроч-ненько. Он подвинул ко мне тонкую бежевую папку, в которую были вложены несколько листиков бумаги. Кивнув, я забрала дело и выслушала последние советы прокурора, которые сводились к тому, что я и без подсказок знала: обвинительное заключение по законченному убийству мне придется писать вечерочком, вот эти дела следует делать незамедлительно. Итак, документы. Буйнов постарался: ни убавить, ни прибавить. Только вот в квартиру Росиной придется мне все же съездить. А самое первое, что нужно сделать, это связаться с Ермаковым Толей, оперуполномоченным уголовного розыска, с которым мы, как видно было из буйновского постановления, и составляли следственно-оперативную группу. Капитана Ермакова я знаю давно, работала с ним по сложным делам. Немаловажно, что он дружен с Антоном Волной и пользуется его уважением. Заслужить расположение Антона ох как непросто, и это была куда какая надежная визитка, если бы даже я лично не сотрудничала с Толей. Что мне нравилось в худеньком смуглом Ермакове — это неутомимость его, заинтересованность и скромность. Последнее качество, как мы привыкли говорить, украшало Толю, безусловно украшало, но не оно ли было виной тому, что имя капитана не гремело, хотя другие розыскники при худших результатах умудрялись стать местными знаменитостями. Толя же свои успехи всегда кому-нибудь да уступал. По-моему, Антон уважал Толю и за это качество — капитан больше любил работу, чем славу, что по нынешним непростым временам редкое бесценное качество, которое я и собиралась эксплуатировать. Но одно дело — желать и совсем другое — получить. Розыски Анатолия Петровича успехом не увенчались, да и, конечно, не могли быть успешными, я понимала. Ермаков сейчас где-то бегал по разным адресам. Нераскрытое убийство — это же ЧП! Подумала так и одернула себя: с чего это я взяла, что убийство? Правильно упрекнул меня Буйнов. Признаков насильственной смерти на трупе Росиной при наружном осмотре не обнаружено, акта экспертизы еще нет. Так что вообще возможна ложная тревога. Однако ж на место выезжал прокурор, возбудил уголовное дело, создал группу, экспертизы назначил… Хоть и упрекнул он меня, но ему в чутье не откажешь. Буйнов не из тех прокуроров, что ищут причины для гладких показателей любой ценой. Нет, что-то почуял мой начальник в этой скоропостижной и пока таинственной смерти, что-то показалось слишком подозрительным. Правда, со мной он не поделился своими сомнениями, тем не менее, тем не менее… Поняв безнадежность затеи по розыску Ермакова, набрала телефон Антона Волны и, к своему удивлению, застала его на месте. — Наташа! — услышала я голос Антона, который явно обрадовался моему звонку. — Ты, наверное, Ермакова ищешь? — Вот что значит ОБХСС! Ты, как всегда, зришь в корень. Ищу Толю, конечно, ищу, но безуспешно… — Не суетись, — перебил меня Антон, — Толя тебя сам найдет сегодня. Я утром с ним виделся, он просил передать. Ты учти, пожалуйста, я тоже с тобой повидаться хочу. Когда ты будешь свободна? — Вечером заскочу, — начала я, но Волна опять перебил меня. — Ты не поняла, вечером — это само собой. Мне по твоему новому делу надо с тобой побалакать. Ты на адрес Росиной внимание обратила? — Нет, — смущенно призналась я, — а в чем дело? — Тоже мне пинкертонша! — укорил Антон. — Слона-то и не приметила. Росина со мной в одном доме живет. Жила, — поправился он, — даже в одном подъезде, этажом выше. — И что? — заинтересовалась я, досадуя на невнимательность свою и Антонов справедливый выговор. — А вот что, поговорить надо. Когда? — Как только, так сразу, товарищ капитан, — сказала я, маскируя досаду, — сижу на месте и намерена собирать концы, завязывать узел. Или, может, развязывать: поглядим. Так что заходи в любое время. На этом мы и порешили. Положив трубку, я вновь раскрыла папку. Точно ведь, адрес Росиной тот же, что у Антона. Вот тебе и раз! Того и гляди, Антоша свидетелем каким-нибудь пойдет! А что? Такого свидетеля иметь было бы неплохо. Антон Волна, мой давний друг, верный и чрезвычайно мною ценимый. После трагической гибели моего мужа с ним единственным я продолжала поддерживать отношения. Все другие наши приятели, к стыду моему, вызывали у меня раздражение благополучием и счастьем. Умом-то я понимала, что неправа. Но справиться с собою не могла и постепенно отдалилась от друзей, оставив в сердце лишь Антона с Людмилой, которых продолжала любить, чувствовала себя с ними свободно и легко. Может быть, потому, что меня они не жалели, нет. Жалость мне уже обрыдла, постоянно бередя незаживающую душевную рану. Мое горе было моим, и чем дальше шло время, тем меньше хотелось мне делиться им с кем бы то ни было. Как там сказано в записной книжке у девушки с редкостным именем Василина, убийцу которой мы с таким трудом обнаружили, и нужно было писать обвинительное заключение сегодняшним же вечером. Собственно, и ниточка-то потянулась от стихов в старой зелененькой книжечке:Радостью я поделиться готова,
Сердце свое распахну для друзей,
Но только беда постучится, и снова
С ней я останусь наедине…
И снова под куполом жизни без лонжи
По тонким, по тонким по проводам
Тревога моя пусть меня лишь тревожит,
Беду свою я никому не отдам…
ПОВЕСТЬ О ВАСИЛИНЕ
Щелк, щелк — это ключ. Клац — железная вертушка отодвинула тяжелый засов. Открыта дверца моего сейфа. Я выпускаю на свет его обитателей. Мне нужно с ними работать. За короткие часы прожить их жизнь, совершить их ошибки, страдать и умереть, понять, объяснить и обвинить… Когда я замыкаю дело — клац, клац — мне чудится, что опять остаются они наедине — убийца и его жертва. Остаются, чтобы вести нескончаемый диалог о добре и зле, о справедливости, о вечном "почему?”, остающемся без ответа с начала рода человеческого… Они ведут свой диалог, и к ним сейчас подключаюсь я. Беру листок. Один. Самый последний в деле. В нем отчаянный крик: "Пощадите! Я не хочу умирать. Я молод, силен, я много умею и больше никогда не нарушу закона, я хочу жить — хоть в неволе, хоть как, но жить, жить, жить”. Это дословно. Так и написал он. Нет нужды отводить глаза от прыгающих строчек, нет необходимости затыкать уши. Все равно мне видится автор этих слов, и я слышу его крик, содрогаясь от смешения, казалось бы, совсем несовместимых чувств: жалости и злобы. К кому жалость, на кого злость? Что есть милосердие и кому принадлежит оно? Открою первый лист толстенного тома, и глянут на меня девичьи обыкновенные глаза. Нежный овал лица, пряменький носик, неумело подвитые кудряшки. Девушка с красивым именем Василина. Ах, Василина-Василина, поздняя мамина дочка, в недобрый час пришла к тебе первая любовь. И как смог он тебя, строгую, и при строгих-то родителях, заставить полюбить себя без оглядки, до самого до конца? Кто повинен в этом? Кто сплел этот чудовищный венок? Может, сама ты, Василина, придумала жизнь свою, от огня любви зажгла маленький фитилек новой жизни и погибла, потому что не хотела погасить его. Не хотела верить, что любимый не приемлет эту искорку жизни. И, счастливая, что удалось убедить его в ценности жизни, ехала с ним в лес, к цветам и деревьям, где надеялась обрести счастье и успокоение. Василина-Василина… Доверчивая, чистая душа! В кузове машины, звякая тоскливо, подпрыгивала на лесных ухабах лопата, которую твой любимый взял с собой специально, чтобы зарыть тебя, убитую, страшно так успокоенную. Я видела твое мертвое удивленно-страдальческое лицо. Шумливый красавец-эксперт Шамиль Гварсия, необычно притихший, осторожно прикрыл его черным пологом, словно стыдясь за людской род и не желая, чтобы ты видела страшную несправедливость: жизнь продолжается, хотя тебя уже нет. Две жизни загублено — расчетливо, холодно, двое… Один так и не увидел свет. Вспоминаю стихи Василины, давшие ключ к разгадке ее гибели. Такие пронзительные, такие… Было тебе весело. А будет весело разве, Если ребенок твой кровавым месивом Плюхнется в тазик? Не успев раскрыться, завянут Похожие на твои незабудки-глаза. Никто не погладит русую головенку. Тонкий росточек сломала гроза, убили ребенка… О чем думала Василина, когда писала эти вещие слова? Меньше всего, наверное, о том, что стихи помогут найти убийцу. А они помогли. И стихи, и лопата, доски автомашины и даже березка у места гибели Василины — все объединились, чтобы призвать его к ответу. Зачем же кричать "пощадите?” Разве не убил он себя тогда в лесу, вместе с юной женщиной и ее нерожденным ребенком, отцом которого был? Убил в себе человека, потерял право называться им. Но кем же его назвать, чтобы не обидеть живое? Кем? Кому отдать милосердие, которое стучится во все двери и требует применения? Кому нужнее оно — милосердие — убийцам или жертвам? Кому нужней? В первую очередь? Может быть, матерям? Какой из них? Той, что родила единственного сына, или той, что назвала свою дочку редкостно и красиво — Василина, ах, Василина, доверчивая душа! Я сидела над раскрытым делом, опустив голову. Не ко времени обуяли меня вселенские проблемы, надо встряхнуться, отбросить все, сосредоточиться на деле, знакомом чуть ли не наизусть. Беру бумагу, копирку, начинаю печатать. Все документы печатаю сама, наловчилась. Экономия времени, и вообще мне приятна эта работа, хотя машинка у меня старенькая и сильно отбивает пальцы, особенно после больших документов, как это, например, обвинительное заключение. Фабула дела предельно проста и времени много не занимает. Студентка случайно познакомилась с водителем автобазы и стала встречаться с ним. Дружеские отношения переросли в интимные, и девчонка вдруг поняла, что беременна. Близких подруг у нее не водилось, с родителями парня не знакомила, и обернулась скрытность девичья против нее. В планы парня скорая женитьба не входила, попытался уговорить подружку избавиться от ребенка, а та вдруг заупрямилась. И он нашел выход: увез девушку в лес, убил ее и зарыл. Никому не доверялась девчушка, но писала стихи, и записная книжка, найденная матерью, раскрыла секрет исчезновения несчастной Василины. В наивных и нежных стихах рассказала она о своей любви, о любимом, о тревогах и радости последнего примирения. Стихи вывели нас на парня, и он не выдержал, указал, где лежит Василина. Все остальное — лишь дело техники. Доказательств достаточно, поработали мы добросовестно, и за это дело я спокойна. Правда, обвинительное заключение получается довольно объемным, но не хочется упустить даже мелочи, пусть будет как будет, тем более что никто меня пока не беспокоил, а это случается совсем нечасто. Поистине, нет худа без добра. За окном погромыхивало, затем сыпанул крупный косой дождь, и капли его стекали по оконному стеклу, словно слезы по Василининой жизни. Дождь успел наплакаться и перестал, а я все сидела за машинкой. И тогда раздался, наконец, долгожданный звонок.РОЗЫСК
Глава 4
— Конечно, я все понимаю, — Поддыхов встал — большой, непомерно грузный рядом с тоненьким стройным Ермаковым, — начальнику первая чарка, первая и палка… Ермаков не ожидал такого резюме, разговор вроде бы и не намекал о палке, как, впрочем, и о чарке. Собственно, к кому первому, как не к Поддыхову, должен был он обратиться? Сообщение поступило от него, от председателя кооператива. Естественно, с ним и первый разговор. Поддыхов не скрывал и даже не пытался скрыть свою озабоченность событиями. — Первый день беспокойства не вызвал, мало ли что — заболела, например, женщина. Хотя в таких случаях полагается звонить. Здесь у меня порядок намечается железный. Поддыхов вздохнул, вспомнив порядки в своем бывшем НИИ, откуда пришел в кооператив. Те порядки были противны ему до тошноты просто физической. Противны бессмысленностью расточения времени, которого каждому отпущено так мало, до обидного мало. Здесь, став хозяином, Поддыхов ввел строгую дисциплину и не прилагал особых усилий к тому, чтобы она исполнялась. Достаточно глянуть серьезно, с легкой угрозцей — система действовала сама. Не желаешь — пошел вон, иди туда, где платят не за труд, а за присутствие, но платят грошики, на которые продремлешь всю жизнь, не сумеешь проснуться. Сам Роман Григорьевич, продремав таким образом лучшие свои годы, ужаснулся вдруг бессмысленности своего существования, которое с полным правом уже мог бы считать законченным нищенски, унизительно. А тут рисковое предприятие, и Поддыхов вступил на свежеоструганную палубу нового корабля, по-моряцки широко расставляя ноги, чтобы не быть смытым за борт во время неминуемой качки в неизведанном экономическом океане. — Так вот, — продолжал он, не глядя на собеседника, — не очень обеспокоился в первый день. Хотя непорядок — бумаги закрыты у нее в сейфе, опечатаны. Наутро опять ее нет. Тут я Слонимского призвал. У того глаза вразлет — ничего не знаю, говорит, но вижу: врет. Врет, сволочь, вот что обидно. Отправил его домой к ней — вернулся ни с чем. Ну, говорю, ломать дверь к чертовой матери. Баба она не старая, но молодость минула, да и в молодости бывают несчастья. Мало ли. Жека о милиции завякал, нельзя, мол, без них. Тут я, каюсь, виноват, — крупные руки Поддыхова скрестились на груди, и эта бочкообразная грудь нависла над сидящим капитаном, так что пришлось чуточку отпрянуть. — И опять, хоть виноват, объясняю. У вас волокиты больно много, а нам скорость нужна, быстрота. Жека Слонимский и еще с ним двое Иринину дверь открыли быстро, а что там было — вы знаете лучше, тут я не свидетель. Ермаков молча кивнул. Конечно, что там, в квартире Росиной было, он знает лучше. Впрочем… — Да я не об этом спрашиваю, — поморщился капитан, — это все известно. Вы мне скажите, не было ли у вас чего необычного? У Росиной главная жизнь была в кооперативе. Здесь я, предупреждаю честно, и рыть буду. Зачем мне с вами темнить, Роман Григорьевич, сыграем в открытую? Поддыхов отошел к окну, словно не слыша слова капитана. Рыть здесь, в его кооперативе, можно. Особенно сейчас. Ну ройте, ройте — его разобрала злость, окрасила в багровый цвет мощный борцовский затылок, выдавший своим цветом недовольство хозяина. — Дотошный я, Роман Григорьевич, — тихие слова Ермакова ударили в расцветший затылок, и Поддыхов повернул к капитану лицо. — Да ладно, — сказал он устало и примирительно, — ройте здесь, ройте там. Не было у нас ничего такого. А с секретаршей — тем более. Ройте, ройте, ребята. Пока погляжу. Помните только: я первый затревожился и первый сообщил. Как, по-вашему, преступник сделать это может? В его интересах такое? Ермаков пожал плечами, вот тогда-то Поддыхов сказал: — Конечно, я понимаю. Начальнику первая чарка, первая и палка.Слонимский
Если бы капитан не знал Слонимского, может быть, и не бросилась бы так в глаза его растерянность. Да что там растерянность — плохо скрываемый ужас метался в светлых глазах юриста, когда он наконец поднял голову и глянул на капитана. Маленький светлый кабинет Поддыхова, предоставленный хозяином для беседы с людьми давал возможность Ермакову близко, совсем рядом видеть искаженное страхом лицо собеседника. Руки Слонимского тоже заметно дрожали, зажатые между олен Ермаков невольно отвел глаза — зрелище было не из приятных. Да и вообще этот разговор с юристом был одним из самых скверных. Капитан надеялся, что Слонимский, юрист по образованию и бывший работник прокуратуры, сумеет оценить ситуацию, но страх словно парализовал способности Евгения Васильевича и сделал допрос до отвращения наивным и лживым. — Нет-нет, — трагическим шепотом сказал Слонимский, — я не видел Ирину в тот вечер, а отпечатки — что ж, я ведь бывал у нее раньше. И коньяк носил, как же к женщине — без коньяка. Выпивали мы, вот и на рюмках… Но не в тот вечер, нет-нет-нет! — Что же вы так, — укоризненно заметил Ермаков, — не понимаете, что женщина не могла держать на кухонном столе бутылку, рюмки несколько дней? Это же элементарно — помыла бы, обязательно в тот же вечер. Судя по ее квартире, она порядок любила. И вдруг рюмки, бутылка на столе. Она что, по-вашему, отпечатками пальцев ваших любовалась? — попытался он пошутить, но юрист даже эту неуклюжую шутку схватил, как спасательный круг: — Женщина она и есть женщина. Кто поймет ее? Может быть, и любовалась, может, хотела подольше сохранить память о встрече. Стоят наши фужеры — будто я рядом, будто мы вместе. Женщина есть женщина. И потом, Ирина меня любила, я уверен в этом. И объяснять ее действия сейчас, когда она мертва… Боже, Боже мой, Ира мертва, — застонал он и закачался на стуле из стороны в сторону — тоже зрелище не из приятных, — нет, я не взялся бы объяснить ее действия. Ну что ты будешь делать?! Розыскник Ермаков повидал на своем служебном веку разных людей, и не переставал удивляться их разности. Особенно такой, как сейчас, когда видел знакомого человека совсем в другой ипостаси. Вальяжный, уверенный в себе, логичный в суждениях и, казалось, трезвый в поступках, юрист Слонимский совсем потерял голову от пустячных вопросов. Ну зачем отрицать вечернюю встречу? Зачем, скажите на милость, если Жека не причастен к смерти Росиной? Неужели юристу неясно, что он лишь настораживает розыск нелепыми объяснениями? Да ладно настораживает — время тянет, драгоценное время. Итак, зачем? Слонимский между тем встал, слегка пошатнувшись, подошел к двери — всего-то пять шагов, не больше. Постоял, прислушиваясь, покачал головой, направился к окну, выглянул. Словно кто-то мог быть за окном кабинета — это на третьем-то этаже! Капитан с удивлением наблюдал за странными действиями юриста, а тот склонил лицо прямо к уху розыскника. Трагический шепот сменился многозначительным: — Тайна Ириной смерти здесь! — его опять чуть бросило в сторону, он будто отпрянул и ткнул указательным пальцем в поддыховский стол: — Тут, тут! Узнайте о том, что произошло в "Красоте”. Узнайте, узнайте… Все станет на свои места… Слонимский уже не обращался к собеседнику, говорил как с собой: тихо, с придыханием, задумчиво и печально: — Я пытался, не удалось. Никому не удалось… Зачем? Кому мешала Ира? Почему? Получите ответы на эти вопросы. Я вам открою свои подозрения: совещание… Странное совещание… Накануне… Собственно, ничего странного на первый взгляд. Но только на первый. Ермаков подавил желание задать вопрос. Почти бессвязная речь юриста, он чувствовал, имела какой-то смысл, какое-то второе значение. Может быть, сам он пытался понять, проанализировать случившееся и действительно не имел отношения к страшным событиям? Ну, пусть порассуждает, послушаем, поразмыслим. Вопросы не уйдут. — Кто стоял за ним? Гусенков — пешка. Скареда и трус. Змей? Тупорылый боевик… Кто? А-а-а! — Слонимский вдруг застонал, прижал ладони ко рту, плюхнулся в кресло и крикнул: — Не был, не был я у Иры, не был! Истерический этот крик изменил планы капитана, и он выложил свой козырь: — Вас видели там. В этот вечер видели, в последний, трагический. — Кто? Кто видел? — перебил розыскника Слонимский, и Ермаков засмеялся: — Ну, Евгений Васильевич! Мы же юристы! Неужели вам повторять банальную истину: вопросы задаю я? — Простите, простите, — Слонимский снова перешел на трагический шепот, и его поднятое лицо испугало капитана: стало вдруг асимметричным, странно неподвижным и бледным. — Вам плохо? — едва не опрокинув тяжелый подды-ховский стул, Ермаков выскочил из-за стола, больно задев бедром острый угол, чертыхнулся, и опущенные на плечи допрашиваемого руки ощутили крупную дрожь, сотрясавшую тело Слонимского. — Нет-нет, — с трудом разлепились Жекины губы, — это пройдет. Воды мне, воды, — и медленно начал заваливаться на бок…Снова Поддыхов
Разговаривать с ним стало легче. Председатель, капитан это чувствовал, убрал колючки, отвечал ровнее и подробнее, хотя начал с того же, чем кончил предыдущую беседу. — Ну, точно. Похоже, мне первая палка, и пока единственная. Он кивнул на дверь, недавно закрывшуюся за носилками с бумажно-белым Слонимским. — Вы ему серьезное что-то предъявили? С чего он скопытился? Ермаков лишь развел руками: — Да мы и поговорить толком не успели. Так, крохи кой-какие. Придется, Роман Григорьевич, вам все же со мной пооткровенничать. Ну что сказал Поддыхов? Кооператив "Красота” еще и года своего рождения не справил. Действовал при обувной фабрике вполне законно и официально. Задачи ставил перед собой простые, но обоюдно выгодные: фабричный брак кооператоры пускали на фурнитуру и отделку: ремешки, бантики, полоски брала не только фабрика, завязывались контакты на стороне, расширялись деловые знакомства. Поддыхов ничего этого не скрывал, да и чего было таить, все шло путем. Ермаков слушал председателя, не перебивая, хотя все это вроде бы не имело отношения к таинственной смерти. Но утренний разговор с Антоном Волной, старшим уполномоченным ОБХСС, да и привычка не чураться мелочей, которые потом — кто знает? — могут стать главными, делали капитана терпеливым слушателем. Время шло, а капитан сделал для себя лишь несколько отметок, требующих, на его взгляд, внимания. Почему Поддыхов, охотно и подробно рассказывая о кооператорских делах, старательно обходил все трудности своего предприятия? Что, так гладко шли дела в "Красоте”? Так-таки никаких проблем? Хотя бы за последние дни? А что так взволновало Слонимского? До сердечного приступа. Антон говорил, что и Росина замкнулась, едва он спросил о делах. Необычно замкнулась, иначе Антон, неплохой психолог, не обратил бы на это внимания. Поразительная общность позиции у председателя и секретаря-машинистки, сейчас уже мертвой. Юрист эту позицию, видимо, не разделял, но "замкнулся” на свой лад. Первый день розыска. Самый трудный день. Никогда не знаешь, какие сюрпризы он тебе преподнесет и как повернется потом. Сколько уж раз Анатолий Петрович убеждался в важности этого дня, сколько было у него оснований ругательски ругать себя, поскольку первый день и его ошибки, он знал, исправить почти невозможно. Если они допущены. Если они уже допущены. Уже? Жара становилась невыносимой. Ермаков пересел к кондиционеру, теперь они были совсем рядом — Поддыхов и капитан. Рядом, но не вместе. Ермаков чувствовал жар большого тела председателя, слышал легкий свист бронхов и подумал, что Поддыхов, наверное, не очень здоров и волнуется, а как заканчивается волнение — показал только что увезенный "Скорой” Слонимский. И время, время. Надо бы позвонить Наталье Борисовне, но что ей сказать? Нечего сообщить следователю, ничего он еще не узнал, розыскник Ермаков. Энтузиазм Поддыхова постепенно ослабевал, длительнее становились паузы, наконец он и совсем замолчал, вопросительно глянув на Ермакова. Пришла пора капитану показать, что не зря слушал он эту полуисповедь. Тем более что действительно он слушал не напрасно. Совершенно очевидным стало, что председатель не желает распространяться о последних днях работы Ирины Николаевны. "Как обычно, как обычно”. Хорошо, а все же? Пусть даже как обычно. Поддыхов не спешил с ответом. Снял давно уже ослабленный галстук, расстегнул рубашку, кончиками волосатых пальцев отлепил ее от вспотевшей груди. Демонстративно уставил глаза в потолок и медленно уронил: — Если детально, говорите? Попробуем детально. Значит, так. Утром — совещание. — Почему же протокола нет? — спросил капитан, вспоминая аккуратные белые папки со скоросшивателями, где Ирина Николаевна добросовестно хранила бумаги. "Протоколы совещаний” — он помнил эту папку, но протокола за вторник, последний день работы Росиной, в ней не было. — Нет протокола? — удивился Поддыхов, опять подумал, хлопнул себя ладонью по потному лбу. — Так ведь и не должно быть протокола, Росиной не было на совещании. — На всех других была, на последнем — нет?! Почему это? У вас ведь, сами говорите, дисциплина и порядок во всем. — Обычные были вопросы, производство. Не очень важное совещание, а у нее какая-то срочная работа была, она и попросила освободить. — Не секрет, какие вопросы? И какие у нее-то дела? — Секретов у нас нет, — неожиданно вспылил Поддыхов, но вспышка эта почему-то не удивила капитана. Словно подготовил его председатель к такой реакции. Чем? Да вот тем, наверное, что старательно уводил от проблем. Нет проблем, чего же ты психуешь, председатель? — Прекрасно, — спокойно погасил Ермаков вспышку Поддыхова. — Значит, нет причины нервничать. Так какая повестка дня? И кто присутствовал? Поддыхов понимал, что гнев — не лучший выход. И еще понял: раз уж розыскник привязался к этому злосчастному совещанию, до повестки докопается. Все же сколько их было? Он посчитал мысленно — шесть! Шесть человек. Если он промолчит, проговорится кто-нибудь из тех пяти. Может, уже доложил Слонимский? Доложил и струсил чуть не до смерти. Э, да была не была! В конце концов, он принял меры… — Были на совещании Слонимский, Гусенков — наш начальник цеха бижутерии, снабженец Каная, помощник его Кобриков и Митятин. А вопрос был один: гусенковские шустрилы пустили в продажу бракованную обувь, что получили для переработки. Партия небольшая, правда, но разговор был серьезный. Первый такой у нас случай. Первый, непонятный и неприятный ужасно. Вся неприятность случая изобразилась на лице председателя, который после признания ослабил контроль за собой. И Ермаков еще раз поразился: ах, люди, люди. Вот и сейчас. Рассказал председатель, назвал людей, но ведь все равно не договаривает что-то, это просто чувствовал розыскник, и душа не принимала такую полуправду, которая оборачивалась зачастую элементарной ложью, потому что недостающие детали, наслаиваясь, искажали ее до полной неузнаваемости. Ах, люди, люди. Там, в печальном заведении Шамиля Гварсии, лежало тело несчастной женщины, и прах ее требовал успокоения — последнего своего права требовала Ирина Николаевна Росина. А здесь, в этой подавляющей человеческие желания жаре, двое взрослых людей сражались, и за какие такие ценности шло сражение, если главная ценность — жизнь два дня назад потерпела поражение и потеряла одну свою составную часть — Ирину Николаевну Росину, по утверждению философов, представлявшую собой маленькую вселенную и явление неповторимое. Ирина Николаевна была проигравшей стороной в чьей-то беспощадной войне, а скорее всего, была жертвой этой войны, и вместо того, чтобы объединиться против жизнеуносящих битв, двое взрослых умных людей сражались между собой словами-мячиками. Ермаков видел страдания председателя, с которого градом струился пот, и рубашка стала хоть выжимай. Противно видеть конвульсии совести. Капитан отвел глаза от собеседника, но тот успел уловить и понять брезгливую гримасу, смутился, побагровел еще более, однако было что-то для него сильнее, чем стыд, и Поддыхов медленно уронил: — Ну что за жизнь, право… Что за жизнь… Капитан пожал плечами: — На философские темы побеседуем потом, Роман Григорьевич, на досуге. На мне сейчас нераскрытое убийство висит. Митятин — кто такой? Вы не сказали. — Разве? — удивился Поддыхов. — Совместитель наш. На должности инженера. — Основная его служба? — Здесь же, на фабрике. — Точнее-то можно? — Начальник отдела технического контроля. — Так это он вам брак поставляет для бантиков? Поддыхов обиделся: — Почему для бантиков? Мы серьезные вещи делаем. И брак не он поставляет, фабрика. Работнички те еще. Да и не только в них дело. С таким оборудованием, как на нашей фабрике, будь хоть семи пядей во лбу, а брака не избежишь. А вы — поставляет, бантики… Спасибо кто бы сказал, что не гниет брак, как прежде, а хоть какую, да пользу дает. И это начало ведь только, начало. Подождите, что будет. Подкопим деньжат, оборудование купим и фабрику эту… — он резко оборвал речь, — да вам это неинтересно. У вас — убийство. — Убийство у вас, Роман Григорьевич, вашу сотрудницу убили. Слова-мячики летали по комнате, а время не терпело этой игры, бежало быстро и неумолимо. Потом, передавая следователю всего-то страничку протокола, Ермаков поймает удивленный взгляд: на что потрачено больше двух часов? Одна страничка… Капитан понял, что больше Поддыхов ничего ему не даст. Поддыхов сдавал только те позиции, которые, он видел, удерживать не имело смысла. Ермаков быстро заполнил протокол: только главное. — Кто из ваших сейчас на месте? — спросил он. — Все, как обычно, — ответил Поддыхов и поднялся, выражая готовность позвать. — Давайте по телефону, Роман Григорьевич. Зовите вот хоть этого, — розыскник заглянул в записную книжку, — Гусенкова. С него сыр-бор разгорелся? — С него, — кивнул Поддыхов и потянулся к телефонной трубке.Гусенков
Хорошо, если знаешь, с чего начинать. Когда пепельно-серый Гусенков уселся и, поерзав на стуле, затих, капитан быстро спросил: — Кто распорядился продать бракованную обувь? Кто привез ее вам, кто продавал? Спросил и сам удивился: почему сознание связало эти факты — убийство и… Мелькнула мысль: может, позвонить Антону Волне, пусть разбирается ОБХСС с незаконной продажей? Но эту мысль отодвинула та же внутренняя уверенность — здесь есть какая-то связь, надо распутывать весь клубок. Самому. Если будет все же осечка — что ж. Отрицательный результат — тоже результат. Зато версию он отработает полностью и сам. По установленным на сегодня данным, других связей, кроме служебных, за исключением разве Слонимского, погибшая не имела. Да и Слонимский… Чего там было больше — личного или служебного? Как сказать. Гусенков, видимо, готов был к ответу. События последних трех дней давали возможность подумать. И все же на вопрос он ответил вопросом: — Будете записывать? — А как же? — удивился капитан. — Тогда договоримся так: пишите протокол, я подпишу. С моих слов, конечно, с моих слов, — заторопился он, видя недоумение Ермакова, — подпишу вам протокол, а потом… — и замолчал, повертел головой на тонкой шее, махнул рукой и добавил: — Видно будет потом. Прав был капитан, Гусенков все продумал. Рассказывал без запинки, все детали сходились, все стыковалось прекрасно. И выходило, что привез в цех бижутерии партию женских сапожек из коричневой замши неизвестный, который представился новым экспедитором. Сказал, что Поддыхов распорядился лишь расписаться в накладной и дать ему трех женщин побойчее, чтобы помогли в деле. Не подозревая о криминале, Гусенков выполнил распоряжение председателя. И вся вина его в том, что не перепроверил, доверился незнакомцу. И вот неприятности. О том, что его надули, узнал на совещании у Поддыхова. Деньги за реализацию не видел и вообще не знает, продали сапоги или нет. Только со слов председателя, который устроил ему цунами и обвинил в махинациях. — Правильно вообще-то меня Роман Григорьевич вычистил, — громко подытожил свой рассказ Гусенков, — надо быть бдительнее, нас опорочить легко. Доброе имя восстановить труднее, — и требовательно добавил, указывая на белые линованные бланки протоколов, лежащие на столе, — пишите, пишите. Все это было по меньшей мере странно, и Ермаков, чувствуя неладное, быстро заполнил и протянул Гусенкову протокол. Не читая, тот подписался, достал из кармана записную книжку, вырвал листочек, нахмурив лоб, написал что-то, загораживая листок ладошкой, и подал вместе с протоколом. Прочесть текст записки было делом одной секунды, и капитан не удержался от возгласа: — Слонимский?! Подняв на Гусенкова глаза, он увидел, что тот укоризненно качает головой, и тонкий длинный палец Гусенкова был так прижат к тонким губам, что они совсем смялись и превратились в одну сплошную серую полоску.Митятин
Следующим был Митятин. Вытер крупную совершенно лысую голову несвежим мятым платком, небрежно сунул его в карман мешковатого пиджака. Хукнул, как перед прыжком в холодную воду, сцепил в замок пухлые руки, бросив их на столик перед собой, и повернул отечное лицо к Ермакову, ожидая вопросов. Набрякшие красноватые валики под глазами выдавали стойкое нездоровье Митяти-на. За окном слегка потемнело, где-то далеко погромыхивало — явно готовилась гроза, шла сюда, прогоняя солнце и духоту легким ласковым ветерком, который уже начал пошевеливать бумаги на поддыховском столе. Ермаков прижал бумаги папкой, со вздохом глянул, в окно, подумав, что дождь хоть и нужен, но совсем ему некстати. Предстоящая работа дождиком не облегчалась. А впрочем, может быть, дождь загонит под знакомый кров нужных ему людей, и тем как раз поможет. Итак, Митятин. После первого же вопроса на свет снова появился огромный платок и прикрыл вместе с лысиной часть лица. Неожиданно высокий для крупного тела голос Митяти-на был растерянным: — На совещании в то злополучное утро Гусенков утверждал, что ничего не знает о продаже бракованной партии. Почему? Направили партию строго по документам, которые можно поднять. Я накладные подписывал, как и акты на брак. За них отвечаю. Правильные они. Платок сполз и прикрыл губы, приглушил звенящие нотки: — А больше я ничего не знаю. Поддыхов разбирался сам. — Документы вы подписали, а кто вывез обувь в цех бижутерии? — Говорю вам, не знаю. Кладовщика надо спросить, он отпускал. — Вы не интересовались сами-то? Помявшись Митятин выдавил: — Д-да… Интересовался. Но Злоказова знать надо. Ничего он мне ясного не сказал. — И все же? — настаивал капитан. — Он ответил, что снабженцы вывезли. — Точнее, точнее. — Не знаю я. Снабженцы, сказал, и все. А кто — не уточнял. Поговорите с ним сами, узнаете, что это за тип. С ним не разговоришься. Платок вспорхнул на лысину и затрепетал, словно водруженное знамя. В наступившей паузе Ермаков ощутил вдруг свое бессилие перед создавшейся ситуацией. Что он, в самом деле, вцепился в злосчастные эти сапоги?! Пусть разбирается Волна, есть тут криминал или, может, даже и нету. Все, больше тратить время попусту он не будет. Мало ли что показалось вначале! Такая тонкая ниточка тянулась от всех допросов к погибшей, что того и гляди порвется. Может, прав Поддыхов, уверяя, что Росина на совещании не присутствовала случайно. А скорей всего, хотел председатель в узком кругу разобраться с накладной, протокол был ни к чему, вот и выдворил чересчур ретивую секретаршу. Ермаков ухватился за эту догадку, и нетерпеливый жест выдал его намерение. Странно, но едва Митятин уловил утрату интереса к своей особе, он забеспокоился. Перестал терзать злополучный платок и первым прервал паузу: — Я чувствую, не верите мне. А напрасно. Росину я ведь почти не знал, но все же скажу свое впечатление: не так она проста, как кажется. Я видел, как она из кабинета вышла, когда Поддыхов ее этак культурненько попросил. Вздернулась вся — и выскочила. И наверняка потом всю историю лучше самого председателя разузнала. Люди-то все через нее шли, не скроешься. Потом, каждый ей угодить желает, расположение секретарши всегда полезно. Так что не сомневайтесь, эту акцию с сапогами она разведала… Митятин вздохнул кротко, словно ребенок: — Не то что я. До сих пор не могу понять, зачем это надо было делать, и главное, кому? — Но ведь прибыль могла дать такая продажа, незаконные деньги, — возразил капитан. — Э-э, — Митятин отмахнулся зажатым в руке платком, совершенно мокрым от пота, — какая там прибыль, всего-то двести пар! Разве стоит мараться из-за этого, когда прибыль законная к нам начинала идти. Понимаете, законная! Нет уж, не стоила шкурка выделки, не в этой обуви дело. — Так в чем же, по-вашему? — переспросил Ермаков. — Кабы знал я! Но нет, не знаю. — А кто же может знать? — не удержался Ермаков от вопроса, на который, он думал, последует опять отрицательный ответ. И удивился, услышав ответ конкретный и убежденный: "Поддыхов”. Первые крупные капли дождя ворвались в открытое окно, попали на незащищенную шевелюрой голову Митяти-на, он вздрогнул и оглянулся. — Дождь… — сказал он, как бы извиняясь, — духота-то к дождю была. А дождь тут же превратился в ливень, рикошетом отскакивая от подоконника прямо на стол. В кабинет заглянул Поддыхов и бросился прикрывать створки рамы. Ермаков отпустил Митятина, выслушал председателя, сообщившего, что снабженцев он не нашел: — Бегают где-то, — Поддыхов развел руками, — снабженца, как волка, ноги кормят. Начавшийся дождь изменил намерения капитана. Он попросил проводить его на склад бракованной продукции, благо тот находится с конторой под одной крышей. Поддыхов в знак согласия кивнул без особой охоты.Злоказов
Склад бракованной продукции располагался в подвале, в самом далеком крыле здания фабрики, давшей приют кооперативу "Красота”. Пока добирались, капитан Ермаков выяснил, что с согласия администрации в кооперативе работают многие сотрудники фабрики. Юридически — в свое свободное время, а фактически — кто как сумеет. Препятствий в работе партнеры — фабрика и кооператив — друг к другу не чинили и связаны были по-деловому крепко. "Ну, уж эту-то связь пусть другие выясняют, не я”, — подумал Ермаков и улыбнулся, представив, что распутывать этот узелок непременно будет Волна, и они опять будут почаще встречаться хоть так, по работе, коль редко выпадал случай повидаться просто по-дружески. Как-то так получилось, что хлопотная работа друзей постоянно разделяла их, скудное свободное время не совпадало, они скучали друг без друга и радовались, когда работали вместе, тесно общаясь. В подвал вели каменные ступени, на которых позорно гулко цокали подбитые подковкой ермаковские туфли. Капитан старался ступать полегче, но проклятое цоканье уже, он видел, вызвало улыбку на лице Поддыхова. — Для экономии подковки? — не утерпел тот и, видя смущение капитана, грустно сказал: — Дефицит нынче обувь-то. Острый дефицит. Немудрено. Походили бы по фабрике, глянули, на каких машинах работают. Тьфу! Ломаного гроша не стоит вся здешняя начинка. Гонят брак, заведомый брак. То, что Митятин пропустит, покупатели вернут, если не поленятся. А ведь многие плюнут просто, не шлют, знают по горькому опыту: с этой паршивой овцы не возьмешь и шерсти клок. Поддыхов спускался по крутой лестнице, пыхтя и отдуваясь, и ворчал: — Вот и не представляете вы, что бы я мог с этой фабрикой сделать, разрешили бы только. Разрешили и потерпели один-другой годик, не давили бы, не жали. На паях бы с рабочими — конфетка была бы, не обувь. Но мы и опериться еще не успели, а вороны тут как тут, — и, чертыхнувшись, прервал воркотню. Особого внимания на брюзжание председателя Ермаков не обратил, тем более что ступени кончились, и Поддыхов с натугой открыл обитую железом массивную дверь. — Как в швейцарском банке, — засмеялся капитан. — Злоказов, — ответил председатель многозначительно. В полутемном помещении склада стоял запах клея, прелой кожи и ацетона — такой терпкий, что Ермаков невольно поморщился. Они прошли в отгороженный досками закуток, в котором и нашли Злоказова: высокого, сутулого и худого. Хищный с горбинкой нос на узком бледном лице делал кладовщика похожим на огромную тощую птицу, сходство завершали круглые глаза с расширенным зрачком — странно неподвижные и внимательные. Злоказов молча поднялся навстречу вошедшим, и Ермаков с удивлением уловил в голосе властного Поддыхова какие-то новые нотки: то ли заискивал председатель, то ли просто был так расположен к Злоказову: — Вот, Петро, привел тебе гостя. Из милиции он. Белесые густые брови кладовщика вползли на лоб, уголки тонких губ опустились. Весь он был — молчаливое удивление. — Интересуемся, кто у тебя ту партию сапог получил, — продолжал Поддыхов, — давай документы. Не промолвив ни слова, кладовщик достал из стола и положил перед Ермаковым несколько накладных. И по разговору, и по тому, как четко выполнил просьбу кладовщик, капитан понял: они уже проверяли. Председатель с кладовщиком все уже проверяли, потому и документы под рукой, хоть с лица Злоказова не сходила гримаса недоумения. Неумелая игра разозлила капитана, но он поспешил прогнать вспыхнувшую злость. Ладно, он еще свое слово скажет. Пусть пока. Да и неизвестно, какие соображения двигали этими двумя, не умеющими и притворяться как следует. И тем не менее надо показать, что для детских игр сейчас не время, да и не место тоже. — Вы их смотрели? — Ермаков обратился к Поддыхову, кивнув на документы. Председатель неопределенно пожал плечами, но Ермаков умел держать паузу, и Поддыхов сказал в конце концов: — Видел. Что с того? Кобриков Сережка получил. — Кобриков? — повернулся капитан к Злоказову. Тот кивнул, подтверждая: — Он самый. Сергей. Расписался и вывез, как обычно. Ермаков просмотрел документы. Замшевые женские сапожки ценой сорок семь рублей за пару были забракованы ОТК. Согласно акту, где подробно описаны производственные дефекты. И стоимость их после этого стала восемьдесят копеек за ту же пару. — Здорово живешь! — не удержался капитан от удивленного возгласа, — с сорока семи рублей до восьмидесяти копеек! Это как понимать? Очевидное невероятное? Злоказов вышел из-за стола, распахнул дверь своей конторки и протянул длинную руку в сторону мрачного склада: — Прошу. Посмотрите сами на наши дела-делишки. Он щелкнул выключателем, вспыхнувшие под потолком лампы дневного света ярко осветили полки, отсеки, контейнеры-клетки, от которых и исходил тот гнусный клеево-ацетоновый запах. Удручающее впечатление производили хранимые Злоказовым вещи. Смятые голенища сапог, заплесневелые войлочные тапки, тупорылые ботинки с вызывающе поднятыми носами и проваленными внутрь боковинками… Мертвые вещи… Умершие, не успев пожить… Кладбище вещей… И Злоказов горько сказал, словно слышал мысли капитана: — Настоящее кладбище. Это все — на уничтожение. Еще один расход. Так что я рад, когда и по копейке за них дают. Хоть копейку вернуть бы за этакое безобразие! — он повысил голос, обращаясь к Поддыхову: — Роман Григо-рьевич, настанет ли конец этому? — Ты тогда без работы останешься, кладбищенский сторож! — Не обо мне речь. Смотри, милиция, что здесь хранится! Понятно теперь, что восемьдесят копеек — тоже деньги, да и не малые, если их на наш план помножить? Удрученный Ермаков молчал. Работал он в уголовном розыске и занимался раскрытием убийств. Но здесь ведь тоже было убийство! Ненаказанное зло — убийство людского труда. На что растрачивалась жизнь производителей этого хлама? На что?! Наверняка нужно капитану Волне поработать здесь и разобраться, именно Волне предоставит он широкое поле деятельности… А пока — Росина. Какое отношение имела погибшая женщина к этой свалке? Если снабженец Кобриков официально получил здесь партию обуви, почему она таким странным образом попала к Гусенкову? Точнее, даже не к Гусенкову, а на рынок с последующим немедленным разоблачением? После разоблачения последовало совещание, с которого Росину удалили… И затем это убийство, мотивы которого совсем уже непонятны… Что это? Цепочка случайностей, таких нередких в жизни? Или все же чьи-то продуманные действия? В сознании капитана не связывалась, но и не рвалась тонкая ниточка этих событий. Факты! Нужны факты! Капитан Ермаков ловил их силками, а нужна сеть. Широкая, тонкоячеистая, способная уловить крупицы действительно нужного знания. Поиск нужно расширять! Неприветливый Злоказов вызывал симпатию нескрываемой ненавистью к своей похоронной работе, и капитан не скрыл своего отношения к кладовщику, доброжелательно подал ему руку, прощаясь, и задал один только, вопрос. — Кобри ков получал обувь один? Ту, последнюю партию? — Разве управиться одному? — ответил Злоказов. — Конечно, не один, — и раздраженно вдруг заторопился: — Какое мне дело, с кем он был, я и не видел, с кем. Тут ходят пачками разные, всех не упомнишь. Воровать у меня особенно нечего, охотников таких мало, я и не присматриваюсь, ходят да и пусть! Ермаков удивился такой негативной реакции. Поддыхов стоял за спиной капитана и помалкивал. С тем они и ушли. Возникшие вопросы требовали встречи с начальником снабжения Давидом Каная и его замом Кобриковым. Ни того, ни другого на фабрике не оказалось. Выяснив, где они могут быть, Ермаков вышел на улицу. Бурный дождь иссяк так же быстро, как и начался, солнце уже поспешно подбирало с асфальта последние блестящие лужицы, словно боясь их оставить на ночь.Второй вариант
В кабинете их было двое. — И это все? — недовольно спросил один, когда пленка магнитофона зашипела, закончившись. Щелкнув клавишей, второй пожал плечами: — Все. Хорошо, что хоть это есть. Что я еще могу? — Многое можешь, не прибедняйся. Давай-ка еще разок прокрути конец гусенковской исповеди. "… вычистил. Надо быть бдительнее, нас опорочить легко. Доброе имя восстановить труднее… Пишите, пишите!” — зазвучал в кабинете голос Гусенкова, искаженный записью. Опять зашипела пленка, прокручиваясь вхолостую. Потом послышалось шуршание бумаги, и другой голос произнес отчетливо и громко: "Слонимский!” Откровенно изумленным был возглас, и едва он прозвучал, опять раздался щелчок клавиши, взвизгнула, перематываясь, пленка, и вновь заговорил Гусенков: "…труднее… Пишите, пишите…” Пауза. Бумажный шелест… и вот: "Слонимский?!” — Стоп! Хватит. Значит, все же Слонимский? — Ответа не последовало, видимо, он и не был нужен. — Слонимский так Слонимский. Пусть на себя пеняет. Вот и покажи свои возможности, предоставляется случай. Давай свой второй вариант… Две головы склонились над белым листком, и вскоре, смятый, он сгорел в большой хрустальной пепельнице.Слонимский
Евгений Васильевич Слонимский исподтишка оглядывал место, где оказался нежданно-негаданно. Осторожность и опыт подсказывали юристу: лучше всего сейчас переждать, раз уж так случилось, и не показывать, что сознание и ясность мысли вернулись к нему полностью. Или почти полностью — критически оценить свое состояние, конечно же, он не мог. Однако осторожность не помешает, и Слонимский из-под полуприкрытых век тихонько оглядывал палату. Через единственное окно — значит, палата маленькая — он отчетливо видел неподвижные верхушки деревьев. Это второй-третий этаж. Лицом к окну — дверь не видна. Кровать вплотную к желтоватой крашеной стене, тумбочка у изголовья. Скосив глаза, рассмотрел еще одну кровать. Она была занята, но кем — увидеть не удалось. Дыбилась на кровати груда сероватого белья, прикрывавшая Жеки-ного соседа. По этой горе можно было определить лишь, что сосед был грузным и в тяжелом состоянии — свистящие хрипы перемежались со стонами, и тяжелое дыхание шевелило застиранные простыни. Возле кровати соседа стояла капельница, напоминавшая прялку, и по прозрачной трубочке медленно скатывались коричневатые капли. Слонимский понаблюдал за каплями и поежился от возникшего чувства брезгливости, страха и неотвратимости. Что-то должно случиться еще. Должно! С ним. И страшное. Всплыло в памяти удивленное лицо Ирины, оседавшей на пол так же медленно, как эти капли в прозрачной трубочке. Не было на лице страха, боли, только удивление. Почему, ну почему он не сдержался? Возьми он себя в руки, возможно, ничего бы не случилось. Воспоминания вызвали боль в сердце, заломило затылок, и Жека закрыл глаза, отгоняя неприятные картины. В конце концов, ничего не вернешь, надо выпутываться самому — вот главное. Он принялся — в который уж раз — прокручивать в уме все возможные варианты и отбрасывал их один за другим. Сосед то хрипел сильнее, то почти замирал, была какая-то странная ритмичность в этих звуках, которые вначале пугали, а потом стали убаюкивающе действовать на Евгения Васильевича. Чуть скрипнула дверь, но Слонимский не решился повернуть голову, и только чуть приоткрыл веки, сделав по возможности бессмысленным взгляд. Рослый, в халате и шапочке, с закрытым марлевой маской лицом врач, бесшумно ступая, подошел к койке соседа, коснулся трубочки капельницы, поправил простыни, подтянув их вверх, и Евгений Васильевич удивился: лицо больного оказалось прикрытым, как у покойника. "Умер?!” — подумал он, но с кровати послышался новый хрип, а врач уже подходил к Слонимскому, и тот поспешно зажмурил веки, оставив узкую щелочку, через которую видны были лишь часть коротковатого халата да белые джинсы. Горячая рука коснулась лба Слонимского, и он застонал, не поднимая век. Звякнул металл, руку юриста обожгло мгновенной острой болью. Потом Евгения Васильевича стало мягко качать, он хотел глянуть, что случилось с кроватью, но веки не поднимались, а раскачивало его все сильнее, пока не завертело с огромной силой по стенам большой черной трубы, в конце которой виднелся яркий круг света, и Слонимский устремился к нему, так ничего и не понимая.СЛЕДСТВИЕ Глава 7
Телефонный звонок поднял меня из-за машинки. Я глянула на часы — четверть восьмого — ого! — и бросилась к телефону, настойчиво трезвонившему на моем столе. Первой мыслью было — Игорь! Желание поскорее закончить дело об убийстве несчастной Василины, освободиться для новой работы как-то само собой заставило забыть о времени, об обещании, данном Игорю, да и себе тоже. Ничего, объясню. Игорь поймет. Звонил не Игорь. Необычно взволнованный голос Антона Волны стегнул, как бич, отбросив сразу все на свете: — Беда! Наташа, беда! Умер Слонимский! — Антон, это, конечно, несчастье, но… — начала было я. Капитан нетерпеливо перебил: — Слонимский умер в больнице весьма странно. На руке — следы инъекции, которую ему не назначали. Ты понимаешь? Инъекции! Телефонограмма была начальнику угрозыска, я оказался у него случайно. В больницу поехал майор Мастырин. Давай и ты туда же, Наташа, спеши. Вскрытие будет делать больничный патологоанатом, а ты Шамиля возьми, я его сейчас отыщу. Назначай экспертизу, и чтоб обязательно Шамиль. — Но, — попыталась я опять вклиниться в быстрый монолог. — Никаких "но”, Наташа, — торопливый голос стал сердитым, — Слонимский попал в больницу после допроса, Ермаков его отправил с сердечным приступом. И — смерть. Наташа! Будь осторожна, но начинай действовать, начинай! У тебя сегодня день пропал, я знаю. Как ты можешь, Наташа?! Вторая смерть, и они связаны, я уверен, что же вы с Ермаковым, честное слово! — Волна задохнулся от возмущения, и я успела задать свой вопрос: — Да ты мне толком скажи хоть, кто этот Слонимский, как в дело попал? — Юрист кооператива, мужик тертый, то и странно, что его объегорили. И друг Росиной. Интимный. Кажется, так это называется, если культурно. А вот как он в дело попал, узнавай побыстрее. Да я ведь тебе говорил, — опять рассердился Антон, — ты что, забыла? Машина, отпечатки, последний вечер Росиной. И вот теперь опять они вместе — теперь уж в морге. Наташа, мы тратим время. Нужно, чтобы вскрывал труп Слонимского Гварсия, это очень важно. Ермаков не звонил? — Нет… — Ну, вы даете, ребята! — Антон бросил трубку. Нервозное поведение капитана, обычно спокойного и выдержанного, удивило и насторожило меня. Антон был кругом прав. Первый день расследования прошел у меня совсем бездарно. И Ермаков мне не звонил, и я настойчивости не проявила. Ну что ж, будем исправляться. Я позвонила в больницу, попросила позвать Мастырина и опять удивилась: голос майора был благодушным и спокойным: — Чего вы всполошились, Наталья Борисовна! Слонимский в морге, сейчас начнется вскрытие. Скажут причину смерти — тогда и волноваться будем. А может, и не будем. — Прошу не начинать вскрытие без меня. Буду назначать экспертизу — вскрывать труп будет Гварсия. И больничный патологоанатом, конечно. По моему постановлению. Официальный тон не погасил благодушия моего собеседника: — Что вы козни видите всюду, Наталья Борисовна! Мне поручили, я и решение приму, а вы отдыхайте спокойно. Пришлось чуточку повысить тон: — Слонимский имел прикосновение к убийству, которое расследую я. Судьба его небезразлична следствию. Давайте не будем препираться. Указание следователя вы обязаны выполнить. — Я вам ничем не обязан и даже не подчинен. Вы занимаетесь своим делом, а я — своим. К начальству моему можете с претензиями, прошу. До встречи. И положил трубку. Ну правильно, он мне не подчинен. Был бы подчинен, совсем другое дело. Но вот вопрос: чего упирается? Куда спешит? Не все ли ему равно, кто будет вскрывать труп? Если ему не все равно, мне и подавно. Выдала несколько звонков, Шамиля Гварсию отыскала дома. Недовольства, если оно и было, он не показал, коротко ответив: — Буду! Только ты постановление мне давай. Уже еду. Без тебя вскрывать не дам. Кое-что скажу при встрече. Напечатать постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы было делом буквально трех минут, потом мне повезло с такси. Секционное отделение я знала хорошо — знать бы похуже! В маленькой прихожей встретил меня сердитый Шамиль, и на его громкое приветствие ответила не только я. Приоткрылась дверь, и из секционного зала выскользнула худенькая женщина — больничный патологоанатом. — Разобрались? — спросила она, едва кивнув мне. — А чего разбираться, дорогая! Вот следователь, у нее документы и, как говорится, приступим с Богом! — ответил Шамиль. Мы прошли в тесный кабинетик, где впритык стояли два письменных стола, один из них занимала старая пишущая машинка, за другим сидел майор Мастырин и постукивал пальцами по облезлой полировке. Я достала постановление, положила на стол перед майором, но он и не глянул на документ. Поднял ладони вверх, резко поднялся. — Тогда я умываю руки. Привет! — И вышел. Мы помолчали минутку, потом Гварсия пожал плечами: — Чего это он, а, Наташа? — Откуда мне знать? — только и ответила я, удивленная не меньше Шамиля. Женщина-патологоанатом стала звонить лечащему врачу Слонимского, по больничным правилам нужно было пригласить и его на печальный акт. — Выйдем, Наташа, — тихонько предложил Шамиль, и мы пошли во двор. День уже кончался, собирались сумерки. Небо словно нагноилось, розовая опухоль на его краю венчалась желтым, эта желтизна, в которую превратилось солнце, была подвижной и дышащей, как готовый прорваться нарыв. Я зябко повела плечами, отвела глаза от неприятного зрелища. Здесь, где принимают последние страдания ушедшие из жизни тела, другой картины, наверное, и ожидать было нельзя. Скорбное место, скорбные думы, скорбные и видения… Шамиля небо не занимало, он придержал меня за руку и тихо сказал: — Наташа, Росину убил морбитал. — Мор… что? — Морбитал. Применяется для усыпления животных. В ветлечебнице. Знаешь, там безнадежно больные, страдающие… в общем, безболезненное вечное успокоение животных. Гуманное, так сказать. — И что? — внутри меня прошлась холодная волна, захватив сердце. Похоже, дело предстоит почище Василининого убийства. — А то. Когда ты мне сказала о неназначенной инъекции этому больному, что умер, — Шамиль кивнул в сторону секционной, — я подумал, не этот ли яд искать надо? Хорошо, что меня позвала, молодец, Наташа! Я ошеломленно молчала. Это я-то молодец! Антон Волна — вот кто молодец, а не я. Мне, по всему выходило, полагалось всыпать по первое число, да еще и крепенько всыпать. Мне и Ермакову, моему помощнику, на которого я понадеялась. Если и здесь убийство — надо же! Нам это не простится, нет, но не в этом и дело. Пока мы разворачивались, противник дал нам такой страшный бой, а мы и не заметили. Незримый фронт — красиво звучит, но выглядит как! Линия этого фронта прошла здесь, в секционной, где лежит труп юриста Слонимского, чьей-то очередной жертвы, которую мы могли и не допустить. Во всяком случае, обязаны были не допустить… Мои печальные мысли Шамиль легко угадал, опять тронул за руку: — Погоди тревожиться, Наташа, дорогая. Чем хуже, тем лучше, знаешь такую народную мудрость? Да, дорогая? — Не к нашему случаю мудрость, Шамиль. С таким "хуже” вряд ли что лучше будет. Жизнь ведь не вернешь. Широко шагая, торопливо подходил к секционной лечащий врач Слонимского. Высокий, широкоплечий, в безукоризненно белом халате, на который завистливо покосился Шамиль. К работе Гварсии такой цвет подходил плохо, Шамиль носил халат зеленого цвета. Пришел на вскрытие главный врач, сухонький и седой. Поговорил с Шамилем, отправил машину за лаборантами — эксперту понадобится помощь. Потом приехали Ермаков и Волна. Мы долго и напряженно ждали, изредка по очереди взглядывая на часы, мирное тиканье которых казалось неприлично громким в поистине мертвой ночной тишине секционной. Наконец, Шамиль вышел из лаборатории. — Морбитал, — сказал он устало.СЛЕДСТВИЕ И РОЗЫСК
Глава 8
Ночь уже перевалила за свою середину, и тон Шамиля Гварсии был решительным: — Ребята, отбой до восьми — нуль в нуль, как говорится. Наташа, дорогая, — добавил он, видя, что я хочу возразить, — утро мудрее вечера. Правильно я сказал это по-русски? Видимо, от усталости и волнений у Шамиля прорезался его милый кавказский акцент, и он, яростно жестикулируя, стал убеждать нас: — Э, ребята! Вам отдохнуть надо! Обдумать, конечно, тоже, одно другому не мешает, знаю. И что я скажу: морбитал поможет вам в деле, вот попомните мои слова! Во-первых, слишком специфический препарат. Мало кто им владеет, учетный. Вот, — он протянул руку с белой, сморщенной частым мытьем ладонью и показал тонкие пальцы, — по пальчикам можно перечесть обладателей. Значит, есть, где искать. Помолчал, подумал и добавил: — Пожалуй, могу подсказать. Дальше. Наркотик. Чуете, дорогие, сочетание какое? Морбитал плюс наркотик. Как ни печально, след ведет в медицину. Мы молча слушали. Дело говорил Шамиль, ничего не скажешь. Да и лежало все это прямо на поверхности. Но легко сказать — след ведет в медицину. Не хватало нам еще в медицине убийств! И самой страшной для меня была наступившая ясность: мы столкнулись с жестоким, хорошо продуманным преступлением. И крылся за ним совсем непростой человек. Этот не прослезился бы от Василининых бесхитростных стихов. Какая цель достигалась двумя смертями? Что стояло за этим? Кто? Я глянула на покрасневшие от напряжения глаза капитана Волны, на совсем осунувшееся и в темноте кажущееся совсем детским лицо Толи Ермакова. — Прав Шамиль, — сказала ребятам, — давайте до утра. Отбой, как говорит Шамиль, до восьми нуль в нуль. "Жигули” Антона рванули с места, первым вышел Шамиль, потом мы завезли домой Ермакова, и он, выходя, передал мне папку с протоколами — плод дневных его трудов, о которых успел рассказать, пока проводил свою печальную работу эксперт. Наш микрорайон находился подальше, и за те полчаса, что добирались до моего дома, мы с Антоном не перемолвились ни словом. Молчали, думая каждый о своем. А скорее всего, об одном и том же. Только наверняка Антон не вспоминал о маленьком Сашуле и его отце, которые напрасно ждали меня в этот вечер. Как же могла я хотя бы не позвонить? Вспомнила об этом, покосилась на темень, что рассекали фары, вздохнула. Антон понял это по-своему, успокоил: — Не журись, Натаха, разберемся. И когда я уже выходила из машины, друг мой тихо сказал: — Махни-ка мне из окна. Так, на всякий пожарный случай, — добавил он, улыбнувшись, — чтобы мне уснуть спокойно. Я благополучно добралась до своей квартирки, прошла на кухню, зажгла свет и распахнула окно. Тотчас Антон почти бесшумно тронул машину с места — это он умел.Капитан Антон Волна
Пустынные темные улицы молча пропускали Антона. Город словно вымер. Был тот час, когда унимаются самые неугомонные и всем верховодит сон. Спокойный, тревожный, радостный — у каждого свой, сон приходит к людям, унося в другие миры и делая бессмысленной мелочную дневную суету. Дает радость, приносит успокоение, будит спавшую днем совесть, приводит давно ушедших близких, осуществляет мечты, бросает в пучину ужаса — странное, необъясненное состояние — человеческий сон. Он подкрадывался и к Антону, норовя ослабить сжимавшие баранку руки, склоняя красивую крупную голову, так что падали на лоб густые темно-русые пряди волос, и Антон встряхивал головой, водворяя их на место. Убаюкивало чистое свободное полотно дороги, без единой машины, без пешеходов. Скорость была приличной, Антон спешил. Мощные фары выхватывали из темноты куски серого асфальта, бросали под колеса и устремлялись за следующими. Улицы знакомы как свои пять пальцев. Вот сейчас, в конце этой, будет некрутой поворот, суженный дорожными работами, которые ведутся с самой весны. Чего там ремонтируется, не понять, только регулярно передвигается сеточное ограждение глубокого рва, приближаясь уже почти к самому повороту. На сетке — Антон помнит — оградительный знак. Вот он, красный фонарик, уже виднеется, и нужно проехать сосем рядом, чтобы не задеть стоявший напротив большой экскаватор, опустивший тяжелую челюсть до самой земли. "Бросают технику без присмотра”, — успел подумать Антон, резко взял вправо, прижимаясь к сигналу на сетке. Машина внезапно перестала слушаться, ринулась куда-то вниз, скрежет металла оглушил Антона, руль подступил к самому горлу, прижав грудь. Капитан, повинуясь скорее привычке, сумел еще напрячь все свои мощные мышцы, принимая удар, и, теряя сознание, увидел, как раскачивается красный сигнал на оградительной сетке, прикрывшей машину…Гусенков Владимир Иванович
Гусенкова разбудил звонок. Он глянул на часы, удивился — кто мог посетить его в такое раннее время? Стрелки показывали десять минут шестого. Звонок был вначале коротким, и Гусенков подождал, не вставая с постели. Может, ошиблись? Или шалит молодежь? Поморщился, подумав, что теперь уж ему не уснуть. Но звонок повторился настойчивей, стало ясно, что звонят именно к нему в квартиру. Проснулась жена, сонно спросила, что там такое. Не ответив, Гусенков стал поспешно одеваться, и у него затряслись руки, потому что столь ранний визит не мог предвещать ничего хорошего. "Телеграмма, наверное”, — подумал он, а телеграммы в такое время разносят лишь одного сорта — о несчастье. Родственников у Гусенкова было предостаточно, и, направляясь к двери, Владимир Иванович соображал: у кого же и что случилось? Он хотел было уже открыть дверь, но спохватился: в городе шли разговоры о кражах, о нападениях в квартирах, следовало быть осторожнее. Наклонился к глазку, но ничего не увидел и спросил: — Кто там? — Гусенков Владимир Иванович здесь проживает? — услышал приглушенный мужской голос. — Здесь, а что надо? — и опять наклонился к дверному глазку. На этот раз он увидел человека в форме милицейского офицера. Видимо, тот специально встал так, чтобы Гусенков не усомнился в ответе: — Милиция! Руки затряслись еще больше. Да пропади пропадом такая жизнь! Нет покоя ни днем, ни ночью. Вот, пожалуйста. История продолжается. Но ведь допросили его, все честь по чести. Может, напрасно он сказал о Слонимском тому худенькому? Напрасно, не напрасно — что теперь гадать. Гусенков, постучав запорами, впустил незнакомца и смущенно извинился за свой вид: старые спортивные брюки и голубая майка не добавляли прелести тощей фигуре. Да еще босые ноги с плоскими ступнями. — Быстренько одевайтесь, ждет машина. Вы нужны в милиции. Так сказать, кое-что посмотреть, кое-что рассказать, — сказал офицер. — Но меня допросили вчера, — попытался возразить Гусенков, — и я все рассказал, что знал. Как на духу, все. — Нет-нет, это решение начальства, там ждут. Давайте скоренько, — поторопил незнакомец. Разговор они вели в тесном коридорчике. Из спальни высунула голову жена: — Что там, Володя? — Это ко мне, ко мне, — ответил Гусенков и пригласил офицера: — Пройдите вот хоть на кухню, посидите, пока я соберусь. Офицер покачал головой: — Не беспокойтесь, я здесь постою. Только вы поживее. Гусенков кивнул, заспешил в комнату — спальню свою, гостиную, столовую, ибо она была всего одна. Жена сидела на постели, успев накинуть халат. — Что случилось, Володя? — переспросила тревожно. — В милицию просят, — ответил он, торопливо переодеваясь, — ты же знаешь, какие у нас дела. Росину-то убили, говорят. Вот, ищут теперь… — Но ты-то при чем? Ты что ли убил? Тоже мне, убивец! — фыркнула жена, глядя, как муж упаковывает тощий зад в серые брюки. — Да ладно тебе, — огрызнулся Гусенков, — нашла время для шуток. На себя посмотри… Из-за этой маленькой перебранки жена не вышла проводить Владимира Ивановича, сказав лишь ему вслед как можно ехиднее: — А может, ты в сыщики теперь записался? Внизу, чуть подальше подъезда, действительно ожидала машина — синие "Жигули” девятой модели. "Как у нашего юриста”, — подумал Гусенков. Однако номера были совсем другие. За рулем сидел второй милицейский офицер и даже головы не повернул, пока они усаживались на заднем сиденье. Дверца тихо прикрылась, и они поехали. Гусенков находился за спиной широкоплечего водителя, дорогу видел плохо, вплотную к нему прижимался сосед, и Владимира Ивановича впервые царапнуло беспокойство: документы не видел, фамилии не спросил, куда везут, не знает. Заворожила милицейская форма, а надо бы поосторожнее. В какую такую милицию его везут? Вот и машина тоже… гражданская. И молчат оба эти… офицера. Он покосился на погоны соседа и робко спросил: — Простите, товарищ майор, куда мы едем? — Сиди, приятель, — ответил майор совсем не так вежливо, как в квартире, — сиди, не рыпайся. Едем куда надо. Приедем — увидишь. Откровенная развязность сквозила в словах и никак не вязалась с корректностью при встрече. Гусенков всполошился: — Позвольте, позвольте… Я добровольно согласился, так рано… А вы как со мной говорите! — и как мог строго закончил: — Разрешите ваши документы. Он отшатнулся, едва не ударившись головой о стекло, потому что майор неожиданно резко выбросил к самому лицу Гусенкова сжатый кулак: — Видал документ? — и засмеялся. — Остановите машину! — тонко закричал Владимир Иванович. — Я на вас буду жаловаться! Безобразие! — он схватил за плечо водителя, но тот, не оборачиваясь, дернул плечом, сбрасывая руку, и тотчас железные клещи пальцев соседа сомкнулись на слабых руках Гусенкова. — Ти-и-хо! — прошипел майор, легко удерживая Гусенкова одной рукой. Другая рука майора пошарила где-то сбоку и вынырнула с мелодичным звяканьем. Несколько ловких движений, и Владимир Иванович с изумлением и ужасом увидел, что его запястья прочно охватили кольца наручников. '— Ти-и-хо! — повторил майор, и под этот злобный шип Гусенков вжался в сиденье. Происходившее не укладывалось в сознании, стали казаться нереальными, призрачными и фигуры двух офицеров, и эта голубая машина, мчавшаяся неизвестно куда в наступающем сером рассвете. Только сердце колотилось у горла, мешая дышать, и Гусенков широко открывал рот, пытаясь ухватить редкий воздух. Тяжело придавив его, сосед потянулся к ручке, приоткрыл стекло, в машину ворвался утренний свежий ветер, подняв дыбом редкие серые волосы на голове Гусенкова. Глянув, майор засмеялся: — Волосы дыбом, зубы торчком… не дрейфь, приятель, будешь покладистым, все обойдется. А нет — пеняй на себя. Мы люди серьезные. Еще какое-то время ехали молча, Гусенков, косясь в окно, видел, что миновали город, и машина двигалась уже по загородному шоссе, довольно пустынному. Встретились за все это время две-три машины и разминулись на большой скорости. Потом водитель резко затормозил, сказал: "Выйдем”, и они вышли с майором, чуть отошли от машины, стали говорить о чем-то и, видно, договорились быстро. Молча сели в машину, и она свернула в ближай-ший проселок, немного проскакала по разбитой дороге и остановилась. — Давай здесь, — сказал водитель и вышел. Гусенков похолодел. Что? Что собираются сделать с ним эти люди? Что им нужно? Господи, он согласен на все, на все, без всяких уговоров, лишь бы вернуться домой, лишь бы кончился этот ужас и перестали сжимать руки страшные браслеты! На все согласен! Но что им нужно? Деньги? Он вспомнил рассказы о похищениях, что ж, все было похоже. Но разве такие им нужны деньги, что он имел? Ради таких денег не станут серьезные люди огород городить. Так что им нужно?! Господи! Как долго молчит майор! Скорей бы! Скорей! Хуже всего — неизвестность. А майор, видимо, знал, что делал. Молчал, поглядывал на Гусенкова, усмехался. Держал паузу. Ждал, пока страх совсем не доконает беднягу. Решил, наконец, что пора. — Что ты сказал Ермакову? — Но ведь есть протокол… — начал Гусенков, и тут же согнулся от удара в живот. Удар был умелый, боли вначале не было, только удушье, а нестерпимая боль появилась потом, когда удалось вздохнуть. Из враз покрасневших глаз покатились слезы, и, едва пришли дыхание и боль, Гусенков закричал — отчаянно, страшно. Широкая лапа плюхнулась на тонкие губы, и Владимир Иванович совсем замер от ужаса: крик превратился в мычание. — Сказал же — тихо, — совсем миролюбиво произнес майор, — экий ты нетерпеливый, приятель. Сам виноват. Теперь слушай меня и молчи. Я кончу — ты заговоришь. Без выкрутасов и как перед Господом Богом. Понял? Гусенков кивнул, судорожно сглатывая поднимавшуюся горькую слюну. — Ты расскажешь, что наплел Ермакову без протокола. Понял? По протоколу я знаю, не утруждайся. Потом расскажешь, кто тебе привез те сапоги. Расскажешь — и тут же забудешь. Выслушаешь меня, хорошенько запомнишь. А утром — в прокуратуру, бегом. К Тайгиной, там следовательша есть такая. Наталья Борисовна. Вот ей и повторишь, что я велю. Понял? Договорились? — Слов не было, и Г усенков только молча кивнул. В машине, на обратном пути, когда вернулась способность соображать, Владимир Иванович робко спросил майора: — Но Слонимский? Он же не подтвердит… Майор серьезно ответил: — Не подтвердит. И не опровергнет.СЛЕДСТВИЕ Глава 9
Мне было больно. Боль вспыхнула и не отпускала с той самой минуты, когда плачущая Людмила сообщила, что Антон в больнице. Водитель "Скорой”, проезжая под утро по той злосчастной дороге, заметил машину Антона в глубокой яме. Сейчас я смотрела на Антона, и боль, возникая над сердцем, отдавала в левое плечо и руку. На Люду, сжавшуюся в комок у больничной кровати, я просто глянуть не могла, так мне было тяжко и стыдно, словно я повинна в том, что здоровяк Антон лежит здесь, беспомощный и страдающий. Перелом нескольких ребер, сотрясение мозга — вот чем закончилось для капитана дорожное происшествие. — Еще легко отделался, — внушительно сказал мне врач, — могло быть похуже. Счастье, что машина не вспыхнула, там все — всмятку. Его рулем прижало, но он как-то сумел податься вправо. Ребра треснули с левой стороны. Но если бы грудина… — и многозначительно поджал губы. Ладно уж каркать! Грудина. Не надо забывать, что это капитан Волна. Бывали у него переделки похлеще. Ничего, выкарабкивался. Я думала так, успокаивая себя, и с тревогой поглядывала на покрытое ссадинами лицо, которое было безмятежным и совсем не страдальческим во сне. Антон спал, а мы с Людмилой сидели возле него, ловя каждое движение. — Напичкали его всякой дрянью, — со злостью сказала Людмила, — просто-не знаю, что и думать. Просто терпения нет. Слушай! Давай разбудим! Сразу станет ясно — серьезно с ним или так. Что для него ребра — срастутся, это пустяк. Но вдруг что хуже? Я сразу по нему узнаю. Я запротестовала было, но слабо. Мне тоже хотелось, чтобы Антон поскорее пришел в себя. Поговорить хотелось, спросить. Как оказался он в той строительной яме? Там ведь ограждение! И вообще. Этот спящий гигант с разрисованным йодом лицом внушал мне тревогу, скорей бы открыл он глаза, и тогда, я знаю, отпустит меня боль и рука перестанет неметь. Я покосилась на окно, где уже совсем рассвело. Скоро явится на работу прокурор, и ему тут же доложат о ночных событиях. Смерть Слонимского. Морбитал. Несчастный случай с капитаном. Случай ли? Я вздохнула. Как буду отчитываться? Попадет мне, всыплет мне Буйнов по первое число. Ну и поделом. Тихо скрипнула дверь, Толя Ермаков бочком протиснулся в палату. — Как он? — спросил шепотом. Мы враз пожали плечами. Кто, кроме него самого, знал точно, как он? А он пока спал. Еще несколько минут прошло в тягостном молчании, и Людмила, наконец, решительно встала: — Нет, не могу больше. Подошла к изголовью, встала на колени, легко провела ладонями по крупному лицу, коснулась спутанных волос, губами прильнула к уху. — Антоша, Антоша, — шептала чуть слышно, — родной мой, Антосик, проснись… Я устала бояться, очнись же, Антон, прошу, хоть открой глаза, успокой меня, милый, родной мой… Я слышала ласковый шепот, и подкатывался к горлу тугой ком, перехватывая дыхание. "Антосик, родной" — вот как, оказывается, умела называть мужа Людмила, всегда ироничная и резковатая. Вот кем был для нее капитан… Настойчиво щекотали ухо ласковые губы, и Антон беспокойно шевельнулся, с трудом разлепил веки, и я со страхом увидела, что один глаз его совершенно залит кровью, так что не видно было зрачка. Второй, светлый, глядел непонимающе, потом стал осмысленным и смущенным. Капитан попытался сесть, охнул, и мы бросились к нему, но Людмила уже прижала к постели плечи мужа, шепнув: — Лежи, лежи, тебе нельзя. — Чего это мне нельзя? — послышался почти совсем обычный голос Антона. — Чего ты паникуешь, Людмила? Я в порядке, не боись, все путем. Здоровый Антонов глаз скользнул по палате, заметил меня и Толю. — И вы здесь, — удивился Антон. — Чего всполошились-то? Впрочем, кстати, ребята, кстати. Антон бодрился, но мы видели, что было ему ТЯЖКО. Еще бы — перелом ребер не такая простая штука. А он пошутил: — Начнем совещание? Да? Как договорились. Шамиля нет? Ну да, еще ко мне рано. Живой я. Непригодный для вскрытия. — Ну и шуточки у тебя, — рассердился Ермаков. — Ладно, хворых не ругают, — произнес Антон и прикрыл глаза. Мы ждали, не задавая вопросов. Он все скажет сам. Главное — капитан Волна, я видела, в порядке. Будет в порядке. Это главное сейчас. Боль меня не отпустила, но и это было неважно. Мой друг, мой верный товарищ, хоть мрачно, но шутит и говорит, что мы паникуем зря. Я верю ему. Тотчас за успокоением пришла новая тревога: что с ним случилось? Мы молча ждали. Капитан, наконец, заговорил. — Первое, ребята: утечка информации. Вас ведут, понятно? Есть ведущие, а вы — ведомые. Ищите. Второе: сетка ограждения на дороге сдвинута. Над ямой висела. Меня надо было убрать хоть на время. Это к первому. Что-то я знаю. Разберусь — скажу. Пока не вполне уяснил. Помни, Наташа, наш уговор. Помнишь? — Конечно, Антоша, — сказала я, — да я и к делу-то не приступала… — Успокоила… — усмехнулся Волна и продолжил, по-морщиваясь и коротко вдыхая воздух, — в том и беда, что не приступала. Два трупа… с половиной, если меня считать. Я сочла за лучшее промолчать. — Толя, — капитан обратился теперь к Ермакову, — наркотик такой, что у Росиной, был по делу Шапиро. Его осудили, проверь, где наркотик. Кто уничтожал, когда. Досконально проверь. Дальше… Росина чистая левша. Не наркоманка и левша, ясно? Ничего мне было не ясно. При чем здесь левша? Решила переспросить. — Левша, так что? Волна укоризненно качнул головой, жест ему дался не без труда. — Как это? Вливание наркотика Росиной сделано в левую руку! Значит, при всех условиях не сама… И не Слонимский, хоть был он с нею. Он знал, что левша… Кто-то был там еще. И не знал близко Росину. Понятно? Теперь понятно. Конечно, теперь вот понятно. Могла и сама додуматься. Слонимский… Последний вечер… Близость… Коньяк… Наркотик… Слонимского нет. А все ведет к нему. Чем же мешал Антон? Что он знал, не ведая сам? — Вас уводят на Жеку, — продолжал между тем тихий голос Волны, — но это все кич — ждите сюрпризов с этой стороны. Что-то должно быть еще. К причине, им нужно, чтобы Жека имел причину убить Росину. И я им не нужен. Морбитал. Морбитал не забудьте. Ветлечебница и кооператив… Широко распахнулась дверь, и вошел тот, знакомый мне по ночному вскрытию, доктор. Возмущенно оглядел нас, но сказал подчеркнуто спокойно: — Прошу всех выйти. Всех. Вы не ведаете, что творите. Всех прошу выйти. Немедленно. Мы и сами видели, что нужно уйти. Лоб Антона покрылся каплями пота, дыхание было коротким и резким. И он не возразил врачу. Молча лежал, пока мы, включая Людмилу, гуськом потянулись из палаты. У самой двери я, шедшая последней, оглянулась. Широкоплечий доктор склонился над Антоном. Весь в белом, даже брюки и щегольские кроссовки. К Буйнову я взяла с собою Ермакова. Нас не спасла папка с протоколами. Прокурор бушевал, словно оправдывая свою фамилию. Понурившись, мы молча приняли все, что он нам отпустил, и лишь один разочек я огрызнулась: — Между прочим, я не в куклы играла. Дело закончила. Тоже убийство. А у вас, между прочим, целый день транспорта не было, уехать было не на чем. Лучше бы промолчала. Новый поток упреков обрушился на меня, и я узнала, что не имею инициативы, энергии и еще многого чего. Разнос закончился неожиданно. Прокурор сказал устало и горько: — Между прочим, как ты говоришь, машина на техосмотре. Вчера и сегодня. Борись вот с преступностью. У них, говорят, компьютеры есть, а у нас три следственных чемодана десятилетней давности. Машин и то не хватает. Горе, а не борьба. Пешая Тайгина против мафии. Шутка, — пояснил он, усмехнувшись. Потом внимательно выслушал нас, посмотрел наш наспех составленный план, одобрил его, хоть и опять усмехнулся: — Во-во, планы мы навострились писать. Чего-чего, а планы есть. Убийцы нет, а план есть. Я завелась было, но капитан Ермаков успокаивающе подмигнул мне: не трать, мол, попусту заряды. Ладно, посмотрим. Мы уже собрались уходить, когда Буйнов задумчиво сказал: — Похоже, у нас это первая ласточка. Умело организованные убийства. Что кроется за ними? Вашу группу придется усилить. Против такой постановки вопроса мы не возражали. Усилить всегда неплохо. Обсуждая это решение, вышли в коридор, и вдруг мозг мой, как молния, пронизала мысль: утечка! Антон говорил об утечке информации! Не объясняя ничего Ермакову, я бросилась в кабинет прокурора. — Василий Семенович, не надо нас усилять! Хоть пару дней не надо! — Ты что, Тайгина? — удивился прокурор. — Как не надо? Довольно путано и совсем уж бездоказательно я объяснилась с Буйновым. Видела, что не убедила его. Но он мне поверил. — Ладно, — проворчал он, — под твою личную ответственность. Но работайте днем и ночью, — сказал строго, как только мог. В коридоре Ермаков уже беседовал с каким-то тощим перепуганным типом.Нервный тик подергивал худое лицо незнакомца, а у капитана даже спина выражала недоумение. Я подошла, Ермаков обернулся. — Вот, пожалуйста, — он бесцеременно указал пальцем на собеседника, — Гусенков. Говорит, пришел сдаваться. — Что значит сдаваться? — удивилась я, — пройдемте в мой кабинет. — Вы, случайно, не следователь Тайгина? — спросил мужчина. — Совсем не случайно я Тайгина. — Тогда мне к вам, — заторопился он, — только к вам и строго конфиденциально. Разговор, так сказать, тет-а-тет. — Секрет от Ермакова? — опять удивилась я. — Он же допрашивал вас, какие секреты могут быть? — Могут, могут, — дернулось лицо Гусенкова, и он приблизился ко мне, оттесняя капитана. Я встретила неопределенный, взгляд Ермакова и, не зная, как выйти из щекотливого положения, предложила: — Анатолий Петрович, встретимся через полчасика. Вам этого хватит? — спросила у Гусенкова. Тот закивал, сбрасывая на лоб седоватые редкие прядки волос, склеенные в тонкие жгутики. — Тогда я в суд, — сказал Ермаков. В кабинете Гусенков уселся на краешек стула, опустил руки между колен, согнулся так, что подбородок почти коснулся стола. Маленькие блекло-серые глаза настороженно следили за мной. — Так в чем секрет? Гусенков оглянулся на дверь: — Тогда, у Ермакова, я говорил неправду. — Почему же? — Ну… он так энергичен… я испугался, знаете… в первый раз… давление он на меня оказывал… — Давление? — перебила я свидетеля. — Ермаков оказывал давление? — Ну… как это назвать… я подумал, давление… — В чем выражалось оно, давление-то? — переспросила я. За последнее время частенько приходилось нам сталкиваться с этим словом. Показал уголовный кодекс — давление. Предъявил заключение экспертизы, привел доказательства — опять же давление. Термин такой появился — психологическое давление. Всегда называлось в прессе — поединок, теперь — давление. Ладно, посмотрим, как он без давления. Что скажет? — Надеюсь, я не оказываю давление? И вы скажете правду? Но я, это по закону положено, вынуждена предупредить вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Это не давление — закон. Распишитесь, пожалуйста. Гусенков поставил на бланке мелкую длинную подпись и опять опустил подбородок на стол, покачивая где-то внизу руками. — Послушайте, — меня смущала и раздражала поза свидетеля, — не могли бы вы сесть как положено, прямо? Неудобно как-то… И давайте приступим к рассказу. — Извините, извините, — Гусенков выпрямился, поджал тонкие губы и глянул недружелюбно, — конечно, приступим. — Вот. Так-то лучше, — заметила я и задала вопрос. — Почему вы пришли сегодня ко мне? — Мне рекомендовали… — Кто? — быстро спросила я и тут же вспомнила слова Антона. ’’Ждите сюрпризов”, — сказал он. Не первый ли это сюрприз? Кто рекомендовал меня Гусенкову, если только вчера мне поручили это’дело и я еще ничего почти по нему не сделала? Опять утечка информации? Гусенков понял, что прокололся, метнулись глаза, узкое лицо отвернулось в сторону, открыв странный серпообразный профиль. — Ну, я не помню, сказали… — начал он неуверенно, а закончил твердо: — Люди сказали, не помню кто. Иди, говорят, к Тайгиной, то есть к вам. Ну что, настаивать? Сказал — не помню. Давление оказывать? Чем надавить-то? Нечем. "Не помню" — лучшее из уверток. Вот не помню и все. Ладно. Потом, может, вспомнит. — Итак? — В общем, неправду я Ермакову сказал. Сапожки мне привез Слонимский. Он. Сказал, продам — прибыль на двоих. Я соблазнился. Ермакову сказал, что незнакомый экспедитор привез. Обманул… — Гусенков вполне искренне вздохнул и потом спохватился: — Да-а, я ведь записочку ему подал, намекнул, что Слонимский причастен. Правда, сказал, что только звонил он… А на самом деле — он привез. Не велел, конечно, распространяться. Я и молчал. Поддыхову даже не сказал. И вот — Ермакову. — А теперь почему решились? — Подумал-подумал — все равно узнаете. Не я — сам Слонимский выдаст. Вляпался в дерьмо, — ох, извините, — он прикрыл ладошкой рот, — выбираюсь вот, раз вляпался. Гусенков опять оглянулся на дверь, замолчал. Интересно, он что, не знает о смерти Слонимского? Я принялась расспрашивать его о кооперативе, о работе, о семье, наконец. Отвечал односложно, без интереса. Что ж, Гусенкову можно бы и поверить… Тревожила осведомленность о моем участии в расследовании, да еще это утверждение: давил на него Ермаков. Ерунда какая. И еще: сбывалось предсказание Антона. К делу притягивался потуже покойник Слонимский, но Гусенков говорил о нем, как о живом. Допрос подходил к концу, когда позвонил Ермаков. — Наташа, я поднял дело Шапиро. Значит, так. Шапиро осужден на шесть лет. Среди прочих краж — наркотики из 47-й аптеки. По списку похищенного проходит и тот, что у Росиной. Морбитала нет, не крал. В суд наркотики как вещдок не доставлялись, акта об уничтожении их нет. Судья разводит руками — просмотрел, выдал звонок в милицию, там выясняют. Так я еду к тебе? — закончил он. Гусенков внимательно прочел протокол, расписался. Интересная у него подпись — словно мелкие птичьи следочки. Я принялась обдумывать ситуацию, решила, что с Гусенковым стоит познакомиться ближе, допросить женщин, которых он выделил для торговли сапожками, и вообще. Вот придет Толя, решим, как поступить. В дверь мою постучали, и вошла странная пара. Молодой парень в светлом костюме, с усиками под крупным с горбинкой носом предупредительно впустил в кабинет и, не спрашивая разрешения, усадил на стул заплаканную старушку, одетую в черное и с черным же платочком в руке. — Тайгина? — строго спросил он. — Тогда мы к вам. — Это что же делается? Человек умер, но никто не отвечает не только за его смерть, но и за его имущество? — О чем вы? — спросила я. — Представьтесь, пожалуйста. — Я племянник Слонимского, — с достоинством ответил парень, — а это тетушка. Мы единственные наследники. Нам хоронить умершего, расходы нести. Мы хотели бы, чтобы наши интересы тоже были под защитой закона. — Кто нарушил ваши интересы? — Откуда нам знать? В гараже нет машины Евгения Васильевича. "Жигули” девятой модели. Цвет синий. Сегодня я увидел машину в городе и с другими номерами. Это фокус некрасивый, прошу разобраться. Действительно, фокус некрасивый. Почему машина Слонимского гуляет по городу с другими номерами, хотя хозяин лежит в покойницкой? Разбираться надо, тут прав усатый посетитель, который между тем продолжал: — У меня доверенность есть на машину, дядя Жека мне доверял. — Вы не могли обознаться? — Да что вы, — обиделся парень, — я сам на нее молдинги ставил, вмятина опять же на багажнике — он плохо закрывался. Не-ет, не ошибся. — А кто за рулем был, в салоне — заметили? Парень помялся, глянул на старушку, сидевшую безучастно, подняв плечи, растерянно покачал головой, и я поняла этот жест как отрицательный: нет, мол, не заметил, не знаю, но услышала вдруг: — В том-то и дело, заметил. Потому и пришел к вам. А то бы в милицию заявление подал: угон. За рулем в форме сидел. Милицейский майор. А рядом — Кобриков Сережа, с Жекой вместе работал. — Кобриков? — переспросила я в растерянности. — С майором? — Ну да, — кивнул мой собеседник. Сережку я знаю, а майора того — нет. Точнее если, то видел и раньше, фамилии только не знаю. Вот новости так новости. Кому из милицейских майоров взбрело в голову разъезжать на машине умершего при странных обстоятельствах Слонимского?! Да еще с фиктивными номерами? Да с сослуживцем покойного? Я добросовестно записала показания парня, которые подтвердила старушка — в части, что они единственные наследники и машина Евгения Васильевича должна перейти к ней, а через нее, разумеется, к племяннику. Пообещав навести порядок, если можно так выразиться, я простилась с посетителями и хотела было сходить к прокурору — обстоятельства вырисовывались интересные, — как возвратился Ермаков. Озабоченный, взъерошенный, похожий на сердитого воробья. Он успел побывать и в суде, и в милиции. Выяснил, что по делу Шапиро похищенные наркотики уничтожены, о чем составлен акт. — Слушай, тут же сплошные нарушения, — возмущался капитан. Акт не подписан следователем, в суд не направлен. — Кто подписал? — спросила я. — Зеленин, Мастырин и Сокин. — Мастырин? — переспросила я. — Майор Мастырин? — Да, а что? — Так, ничего, — уклонилась от прямого ответа. Слишком фантастичной показалась мелькнувшая вдруг мысль, которая соединила одной линией вчерашнюю ночь, секционную городской больницы, где я застала майора Мастырина, потом палату с лежащим в ней капитаном Волной — кто-то же знал, что поедет он ночью мимо той злосчастной ямы, кто-то ведь передвинул ограждение — и наконец, милицейского майора в машине Слонимского! Фантастичная мысль. Но она уже засела в моей голове и не собиралась ее покидать. И все же я боялась высказать свои подозрения Ермакову. Обдумаю сама, проверю. — Кобриков. Мне нужен Кобри ков. Ты его так и не видел? — Неуловимый Ян, этот Кобриков, — проворчал капитан. — Я постоянно, второй уж день, посещаю места, где он только что был. Такое впечатление, что он избегает меня. Из всей этой кооператорской братии не допрошены только он да Каная. Снабженец и его заместитель. — Кстати, — спохватился розыскник, — а что тут Гусенков наплел? Я рассказала. — Ну-у, — разочарованно протянул капитан, — это все ерунда. Просто понял, что с мертвого спроса нет. Заменил действующих лиц. Зачем искать незнакомцев, привезших обувь для продажи, когда есть покойник Слонимский? — Он сказал, что Слонимский все равно выдаст… — Что, не знал о смерти? — По-моему, нет. Такое у меня впечатление. — Вот погоди, узнает, запоет по-другому, — мрачно пообещал капитан, — он сейчас явно кому-то подыгрывает. В общем, Наташа, давай делиться: за тобой допросы, я все же оперативник. Тем и займусь. Отработаю связи. Пару ребят мне уже дали. — Не Мастырина, случаем? — Нет, а что? — насторожился капитан. — Чего ты его второй раз уж вспомнила? — Ничего, Толя. Но узнай, пожалуйста, где машина Слонимского и какой майор милиции на ней раскатывает? С Кобриковым, между прочим, с неуловимым твоим, — съехидничала я и рассказала о недавних посетителях. — Н-да-а, — протянул Ермаков, — осложнение. За своими следить — такого не приходилось. Помалкиваем пока, а, Наташа? — добавил просительно, — как-то все это не очень красиво. — Красиво, нет ли — но у нас два убийства, капитан. Нам с тобой отвечать за дальнейшие события, сам знаешь. Оно, конечно, красота спасет мир, но за эту красоту побороться придется, прежде чем она в действие вступит… Ласково заверещал внутренний телефон. Единственная моя награда за предыдущее сложное дело — замена злоголосого урода, пугавшего меня своими истошными воплями. Телефон теперь звонил ласково, но слова прокурора были суровыми: на вечер назначалась оперативка, и мне предстояло доложить о расследовании. Двойное убийство — не шутка. Расследование смерти Слонимского автоматически перешло ко мне, значит, у меня двойное убийство — небывалая в нашей прокуратуре страшная вещь. Все правильно. Оперативка. Восемь-десять начальников и мы с Толей. Начальники станут строго указывать нам на допущенные недостатки, мы с капитаном потупим головы, признавая их. Пообещаем. Но у нас так мало возможностей! Следовательно-оперативная наша машина напоминает мне старый маховик, который раскручивается медленно, со скрипом, зато, раскрутившись, давит все и вся, не разбирая тонкостей, не признавая нюансов. Этот маховик и нас тянет за собой, не дает свободы творческому, разумному и, главное, современному поиску. Чем снабжены мы, чем вооружены против тех, с кем призваны бороться? Не говорю уж обо мне, но капитан, например? Он, я знаю, оружие получает под расписку и пуще всего боится его применять — легче самому подставиться. Вспомнился опять Антон — покрытое ссадинами лицо, затекший кровью глаз и горестная фигурка Людмилы, замершая у изголовья. Антон и Толя — сыны, мужья, отцы и друзья — кто отвечает за вас, за вашу жизнь и здоровье? Чем оплачивается ваш постоянный риск? Зарплатой? Не-ет, здесь дело не в деньгах. Деньги — главное для той, чужой стороны, для другого берега, с которого приходят к нам незваные враги. Что бы ни говорили о стимулах, я знаю, что это так, я уверена в этом и это мне помогает. Они знают смысл жизни — Антон, капитан Ермаков и такие ребята, как они. Не говорят высоких слов, помалкивают и не думают о высоких материях, а знают, что главное — справедливость, милосердие и любовь. Наверное, из этого и состоит красота, способная спасти мир. — Толя, постой, — вернула от двери Ермакова и набрала прямой телефон начальника угрозыска. — Тайгина говорит. Вы вечером у нас будете? Прекрасно. Обговорим все при встрече. А пока примите мое категорическое требование: Ермакову нужна машина. Не знаю, не знаю, где взять. Займите, купите, свою, наконец, отдайте… Я не шучу, нет, не шучу, вы знаете меня. Сегодняшний объем работы Ермакова не позволяет ему перебиваться, поймите! Я не прошу, я требую. И вся техническая помощь. Вы понимаете меня? Вся техническая… Ермаков с удивлением слушал, потом в карих глазах его запрыгал смех, а когда я сердито шлепнула трубку на рычаг, капитан уже открыто хохотал, забрасывая назад голову и прикрывая лицо руками. — Хватит, Толя, — я еще не остыла, — много ты успеешь на перекладных. И хватит, наконец, вашему автопарку начальственные зады развозить. Сейчас тебе лимузин подгонят. — Ну, Наташа! — развел руками капитан. — Недаром я люблю с тобой работать. Машину выбила, надо же! — И технику другую, — гордо добавила я, — пользуйся от щедрот моих! Маленькая победа, правда, такая смешная, нас ободрила, и в ожидании машины мы еще раз прошлись по составленному плану. Все было вроде бы к месту, все было очень нужно. Добавили еще кое-что, и Ермаков опять помрачнел. Когда молодой сержантик принес и передал Толе ключи от машины, капитан решительно тряхнул смоляным гладким чубом, подбросил вверх связку и ловко поймал. — Ну, я поехал. — С Богом, — сказала я серьезно, — до связи, Анатолий Петрович. Захватническую акцию с машиной я повторила в кабинете прокурора, несколько смутив его необычной агрессией. Как бы то ни было, вскоре я уже входила в кабинетик Поддыхова, и при моем появлении поспешно встал не только он, но и молодой бородатый красавец — Каная? — подумала я, глядя на его типично кавказские черты. И не ошиблась. — Быстро вы добрались, — мне показалось, смущенно сказал Поддыхов и, проследив за моим взглядом, представил бородача: — Каная Давид Шалвович. — Я догадалась. Вы мне тоже нужны, подождите чуть-чуть в приемной, — обратилась уже к самому снабженцу. — Да, хорошо, — ответил он и поспешно удалился. Поддыхов совсем не показался мне самоуверенным и малоконтактным, как это говорил Ермаков. Напротив, он был сильно озабочен, не пытался даже скрыть свою растерянность, переходящую, как мне подумалось, в испуг. — Вот, обсуждали вопросы похорон, — сказал он мне, кивнув в сторону двери, за которой скрылся Каная. — Надо же — двое! Это же черт-те что! Как, по-вашему, Наталья Борисовна, на что это похоже? Я пожала плечами. Не похоже, а есть. Два убийства, два трупа. И расследование идет, розыск. Разговор с Поддыховым состоялся у меня обстоятельный. Предупредив свидетеля, я включила диктофон, и Поддыхов косился на него, как на гремучую змею. То, с чего он начал рассказ, было мне уже известно, но я не перебивала и терпеливо слушала, внимательно наблюдая за ним. Если — а в этом уверен капитан Ермаков — свидетель скрывает что-то от нас, он себя выдаст при записи. Интонации, выражения лица, жесты — все меня интересовало. Заученно повторив знакомые следствию факты, Поддыхов замолчал, глядя на меня вопросительно. Что ж, начнем допрос. — Скажите, Роман Григорьевич, кто вам те сапожки принес? Брак, что пошел в продажу? Председатель посмотрел на меня внимательно и, чуть порозовев, ответил: — Слонимский… — Как Слонимский?! А документы? Акт или еще что? — Ничего не было. Принес одну пару и все. Я хорошо помнила, что Слонимский отрицал даже свою осведомленность об этой операции! И вот опять потревожили покойника! Куда ни кинь — везде несчастный юрист! Ну ладно бы только Гусенков, но Поддыхов! Нашел выход! Не верю. Совсем не верю, что так было. Однако председателю зачем-то это было нужно. Крыть мне нечем, я не скрываю своего отношения к ответу и продолжаю допрос. — Сколько денег на счету кооператива? Поддыхов помялся, назвал. Сумма была внушительной. — Знали об этом Росина и Слонимский? — Конечно. Через Росину шли документы, а Жека — юрист. — А планы? Планы ваши относительно денег? — Планы были грандиозные, — погрустнел Поддыхов, — мы ведь мечтали об аренде. Ну, снять в аренду этот заводик, оборудование купить и дать обувь. Настоящую, не хуже "Саламандры”. Скоро, очень скоро такое будет не редкость. Он помолчал, подперев пухлым кулаком щеку, и добавил еще более печально: — Теперь конец. Всему конец, не дали даже начать… — и резко прервал речь, а глаза, в которые я, не отрываясь, смотрела, стали колюче-злыми, затем растерянно метнулись. Ну вот, уважаемый Роман Григорьевич. Капитан-то, выходит, был прав. Не договариваете что-то вы, товарищ председатель, умалчиваете и позволяете сеять вокруг ваших денег и планов смерть да несчастья. Кто это не дал осуществить ваши мечты? Мы-то ведь к кооперативу ни претензий, ни отношения какого-либо не имели. Пока не имели. Просто проверяли одну из самых первых версий: убийства — и первое, и второе — как-то связаны с работой погибших. Но вот с какой стороны была связь? Почему погибли эти двое — юрист и секретарша. Погибли от одних рук, во всяком случае, способ убийства был один. И — никаких следов. Если бы не звучало это кощунственно, можно было сказать, организация прекрасная. Организация убийств без следов. Ну, как мне быть? Спросить в открытую, прямо, что называется, в лоб? А что, и спрошу. Не ответит, все будет знать, что вопрос возник. Я и не постесняюсь предупредить, что все равно ответы найду. Итак, в атаку. — Роман Григорьевич, — начала тихо, стараясь, чтобы в голосе моем звучала уверенность, — не лучше ли вам пооткровеннее быть: двое убитых — не много ли? А если будет следующий? Кто? Давид Каная, вы или еще кто? Не дорогая ли цена за то знание, что вы прячете? Давайте вместе подумаем, что лучше для вас, да и для нас тоже: ждать дальнейших событий или предупредить их? Поддыхов упрямо молчал, но голову опустил совсем по-другому, я просто чувствовала по каким-то крошечным деталям, по каким-то черточкам его изменившегося лица, что неуверенность в нем разрастается, подтачивает прежнюю позицию невмешательства: я, мол, ничего не знаю и занимайтесь своими делами сами. Долго еще я говорила, увещевала, давно выключив диктофон, и когда, уверенная в душе, что опыт мой удался, готовилась выслушать признание в чем-то, Поддыхов вдруг опрокинул старание, отбросив меня сразу на прежние позиции. — Я все сказал вам, нечего мне добавить. — Ладно. Разберемся, — мне не удалось скрыть злость, и это неожиданно помогло. Действительно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Роман Григорьевич перегнулся через свой стол, приблизил ко мне лицо и поманил пальцем, да так непосредственно и по-детски, что я растерялась, а он, скривив губы, молча манил и манил меня, указывая другой рукой в сторону небольшой тумбочки, приткнувшейся между стеной и столом. На тумбочке стояли два телефона — и все. Куда он манит меня, что показывает? Почему молчит и так неприятно — не понять как — кривится его лицо? Мне пришлось встать, я заглянула за тумбочку, куда указывал Поддыхов. Приклеенный прозрачным скотчем, там виднелся небольшой черный квадратик, приглядевшись, я узнала: миниатюрный диктофон, совсем кроха. Откуда? Зачем? Подняла глаза на председателя. Поддыхов сидел, опять безучастно подперев ладонью щеку. И я поняла: допрос окончен. Ведется страшная игра. Я в нее включена. Холодная лапа сжала мое сердце: если подключилась против нас такая техника, о которой я, простите, в своем учреждении только слухами пользовалась, дело еще более серьезное. И мой противник не просто прячет концы, не о защите разговор идет, нет, не о защите. До сих пор нападают на нас, крепко нападают, а мы, инфантильные, только и можем, что задавать наивные вопросы и получать такие же наивные ответы, обусловленные действиями противника. Прелестно, как говорится, прелестно! И неужели капитан милиции Ермаков настолько беспомощен, что позволяет им это? А кому это им? Им — тем, кого мы ищем. Ермаков зацепил верную ниточку, но допустил массу ошибок. Этот диктофончик наверняка здесь был и вчера. Значит, противнику известно все, что и нам. Вот дела так дела! Как же мне поступить? Капитана провели, оперативника, специально обученного разным штучкам. А что делать мне, с моим академическим образованием юриста, способного вести лишь устный диалог в пределах безнадежно устаревшего уголовно-процессуального кодекса? А мне предложен сейчас более высокий уровень борьбы, о котором мы и не подумали. Ну что же, противника не выбирают. Ясно, что трогать диктофон нельзя. Напротив, нужно подыграть. Я лихорадочно припоминала подробности разговора с Поддыховым. Нет, вроде бы я ничего такого не говорила. А Поддыхов и подавно. Глянула на председателя, сидевшего все так же неподвижно и обреченно, сказала как можно строже: — Придется вам, уважаемый, проехать со мною. — Придется так придется, — ответил он, и мы обменялись жестами, понятными нам обоим: диктофон остается на месте. Но мне нужно было обеспечить ему надежную охрану на то время, пока я свяжусь с Ермаковым, если, конечно, найду его. Ах, Антон, как не вовремя тебя подкосили, как не вовремя! Кому же можно довериться? Мы вышли на улицу, в липкую жару, и Роман Григорьевич задал тот же вопрос, что мучил меня. — Как же оставить это? — он кивнул на окна своего кабинета. — Есть у вас верные люди? Поддыхов поднял плечо, склонил к нему голову, задумался. — Нет, я не могу поручиться. До этих событий думал — все верные. Вижу — ошибся. Но кто — не могу понять. Наталья Борисовна, сейчас я доверяю только себе. Давайте я и останусь. Потом поговорим. Согласны? Что оставалось делать? Мы вернулись в приемную, я попыталась по телефону разыскать капитана Ермакова и, конечно, не нашла. — Берите мою машину и действуйте, — шепнул мне Поддыхов, а я посижу у себя. Не волнуйтесь, у меня — во, — и показал огромные кулачищи. — Спасибо, — я положила руку на поддыховский кулак величиною с приличную гирьку. Что за человек этот Поддыхов? Только что показал мне готовность помочь, но ведь умалчивал о чем-то, ясно как день, что умалчивал, и тем самым не только мешал — тормозил розыск. Что ж, возможно, есть у него тому и причины, и объяснение. Прикосновение к руке председателя сразу сблизило нас, сделало сообщниками. Странным образом я ощутила очень точно, что Роман Григорьевич на моей стороне и поможет. Обязательно. Однако что-то должно произойти еще, чтобы он раскрылся. Да, действительно, человек — это тайна, ларец за семью печатями и порою не только для окружающих, но и для самого себя. Мне нужно найти ключик к этому ларцу, и я постараюсь. — Ждите меня, Роман Григорьевич, я вас прошу, — тихо сказала я Поддыхову, — и помогите. Себе и мне помогите. Поддыхов серьезно кивнул мне в ответ, протянул связку ключей, и я растерялась. Вот еще один минус моего университетского образования — машину водить я не умела. Поддыхов понял, вздохнул: — Каная, — сказал он, — возьмите за руль Давида. Кажется, он-то как раз из верных ребят. Да и у меня оказался не просто. Отца его знаю, вместе мы за Давидом присматриваем. Он, Давид-то, малолеткой наркотик попробовал, потом судили его. Видя, что я вопросительно приподняла брови, председатель заторопился: — Что с этим покончено — ручаюсь. А у меня он показал себя с самой лучшей стороны. Вот и в этой ситуации… — и оборвал речь, не договорив. Мне же сразу вспомнились шприцы, наркотик и эти две смерти — не сбросишь со счетов, что убийства совершены путем инъекции! Но что оставалось делать? Кстати, и поговорим. Давид Каная был молчалив и сосредоточен. Черная курчавая борода с полоской ранней седины от подбородка выглядела на молодом лице словно приклеенная нарочно. Удивительные на смуглом лице ярко-синие глаза избегали моего взгляда. Повернув ключ зажигания, Давид коротко спросил: — Куда? Я уже решила, кому первому доложу об открытии. — В городскую больницу, — и, едва тронулась машина, осторожно завела разговор: — Что вы думаете об этой истории, Давид? Снабженец скосил на меня синий глаз: — Я мало знаю. Только то, что Роман Григорьевич, а он вам рассказывал уже. — А где Кобриков? Его не могут найти. — Я не видел его со вчерашнего дня. На работе не был, понимаете, звоню домой — тоже нету, понимаете. Я скажу только, что за последнюю неделю он работу совсем забросил, никуда это не годится. Хорошо, я есть, понимаете. Делаю, что нужно. Если заболел — позвони, скажи. Нет, молчит он. Вчера совсем мало видел его. Приехал, схватил бумаги, опять уехал. Куда, спрашиваю, спешишь? Отмахнулся, укатил опять, понимаете. Сегодня уже половины дня нет, и Кобрикова нет… — У него машина? — перебила я Давида. — На чем уехал? — У него в ремонте "Москвич”, его приятель привозил. Синяя такая машина. Девятка новая совсем. — Синяя "девятка”? Чья? Номер заметил? — Не знаю чья. Номер не заметил. А что? — удивился Каная моей реакции. — Да так, ничего, — уклонилась я от объяснений, — а что за приятель? — Думаю так — приятель. Не видел, кто. Думаю — друг, кто еще будет возить? Я в окно лишь капот увидел, случайно глянул. Вон как оно! Голубая "девятка” покойника Слонимского вторично выплывала сегодня. Наверняка это она. Итак, "девятка”. Наследник юриста видел в машине Кобрикова, а за рулем был — майор. Теперь вот Давид Каная тоже видел голубую девятку, которая увезла Кобрикова… Нет, мне надо к Антону, к Антону! Обещанные им сюрпризы начали сыпаться один за другим. Но капитан Волна не ясновидец, он знал, что будут новости, он вычислил их! Я обдумывала, как мне прорваться в палату Антона сквозь больничные заслоны, но делать этого не пришлось. Знакомый уже доктор возмущенно развел руками: капитан Антон Петрович Волна исчез из больницы. Никто не знал, как это произошло. Стало тревожно, и я решила: мне надо быть на месте, в моем кабинете. Там разыщут меня — Ермаков или Антон. Оттуда свяжусь я с нужными людьми. Правильность решения подтвердилась, едва я подошла к двери кабинета. Там звонил — заливался телефон. Я успела вовремя. Игорь. Меня охватил стыд, когда я услышала его голос. Надо же! Я не позвонила вчера, что не смогу их увидеть, а они меня ждали, я знаю. Единственные на свете, они ждали меня! Серьезный неулыбчивый мальчик с вопрошающим взглядом и мужчина, чьи большие руки так легко ложатся на мои уставшие от одиночества плечи. Милые мои, дорогие… — Игорь, — начала я. Он по тону почувствовал извинение, перебил: — Наташа, я все знаю. Вчера вечером мне звонила Людмила. Сашке я объяснил, как мог. — Спасибо, Игорь. Передай сыну, что скоро приду. Очень скоро, как смогу. Я сказала так — сыну, потому что сейчас, в минутной передышке, остро почувствовала вдруг: условности надо отбросить. Я давно уже, с того самого времени, как маленькая ладошка доверчиво легла в мою руку, ничего не желала так, как желала обнять, прижать к себе худенькое тельце этого ребенка, укачать, закрыть собой, утолить огромные печали крохотного сердечка. С маленьким человечком нас роднили большие утраты, я знала, каково ему, — и страстно хотела помочь. Для этого нужно назвать его сыном. Я сказала неопределенно, что Игорь понял, выдохнул в трубку: — Наташа, Наташенька… Но не время было для объяснений и, не погасив в голосе радостные нотки, Игорь сказал: — Экспертизы подходят, Наташа. Помнишь, на носке правой туфли Росиной загрязнение? Там органический краситель верхней обуви черного цвета. Может, конечно, и не относится к делу. Но туфли домашние, новые, белые… Возможно, запнулся убийца и остались следы. Нам бы сейчас подозреваемого и обувь его — железное дело. Представляешь, если краситель одинаков… — Игорь, Игорь, — остановила я эксперта, — мне бы тоже хотелось подозреваемого, но нет его, понимаешь, нет… Проверим пока обувь Слонимского, не его ли след. И будем дальше искать. — Хорошо, присылайте, — ответил Игорь. — Так мы ждем. Последняя фраза, конечно, относилась не только к обуви юриста. Во всяком случае, я поняла ее так, как хотелось мне. — Я позвоню, — сказала, и мы простились. Попыталась продолжить по телефону розыск Ермакова, но опять неудачно. Решив посоветоваться, направилась к прокурору, но от двери вернул меня звонок. — Ты повесилась на телефоне, что ли? — раздался раздраженный голос Ермакова, и я, обрадовавшись, пропустила мимо ушей раздражение, которого обычно не терплю. Выслушав меня, капитан обрадованно пообещал: — Не волнуйся, здесь я все устрою. Через эту деталь мы ведь можем на них выйти! — А Поддыхова раскрутить попробуй, задел есть. Я его тебе пошлю, когда освобожу от охраны. Ермаков хохотнул, и я представила себе, как он радуется сейчас, предвидя конкретную работу. Не утомительный бой с тенью, а настоящую работу, оперативную и серьезную. Ермаков между тем заторопился, скороговоркой сказал: — Сейчас к тебе женщины подъедут. Те, что обувью торговали. Допроси. До связи, — и положил трубку. Об Антоне я спросить не успела. Быстренько доложила о событиях прокурору, который враз помрачнел и положил руку на телефон: — Это и называется организованная преступность. Мафия, как модно сейчас говорить. Говорю тебе, давай подключать людей. — Подождите до вечера, — испугалась я, — хотя бы до оперативки. Сами понимаете, там милиция мелькает. Майор какой-то. Чего же нам раззванивать, пока не разберемся. — Ну, только до вечера, — нехотя согласился Буйнов, — учти, завтра суббота. Вскоре пришли две молодые бойкие женщины, которых, как выяснилось, Гусенков снарядил в свое время для коммерции. В один голос заявили, что торговали сапожками по указанию начальника цеха, не видя в том ничего предосудительного, и были немало удивлены, когда, продав несколько пар, были задержаны с поличным — так заявил им человек в штатском, назвавшийся работником ОБХСС. В присутствии двух понятых он составил акт, забрал все сапоги, а женщин отпустил, пообещав их вызвать. Вызова не последовало. Документы незнакомец им не предъявлял, акта не оставил, сказал, что передаст начальству. Околдованные самим словом — ОБХСС, женщины и приметы этого человека запомнили плохо. Утверждали, что одет прилично, интеллигентный с виду, чернявый. Вот и все. Записав показания, я задумалась над ними. Опять работник милиции, теперь ОБХСС! Изъял сапоги, а потом Поддыхов собрал совещание… Внимание! Никаких материалов, мы это знали точно, в милиции по кооперативу не было. Антон проверил все. Никаких претензий — сам сказал мне. Не значило ли это шантаж? Шантаж?! Я обрадовалась догадке, она объясняла многое. Но почему в таком случае молчит Поддыхов? Боится? Чего? Или кого? Предстояло выяснить все эти вопросы.РОЗЫСК
Глава 10
Синяя "девятка” стояла, сиротливо приткнувшись к бордюру. Лейтенант-гаишник, щелкнув кнопками планшета, достал карточку, сверил номера. — Машина Слонимского Евгения Васильевича — номера сходятся. — Он наклонился, осторожно потрогал белую планку, обошел машину, внимательно оглядел задний номер, — но их недавно переставляли, — сказал он Ермакову, — вон свеженькие царапины. Машину нашел он, этот юный лейтенант, по первому же заданию о розыске. Удача переполняла его гордостью, и он по-хозяйски похлопал "девятку” по крыше: — Получите голубушку. Как она у меня на участке оказалась — сказать не могу. Я заступил на дежурство утром, проезжал здесь, не было ее. А потом, когда сообщение получил, стал участок прочесывать. Гляжу — стоит, — он опять хлопнул по крыше ладошкой, но тут опомнился Ермаков: — Тихо, тихо, лейтенант! Что ты свои отпечатки ставишь. Тебя нам не хватало дактилоскопировать… Тут, наверное, без твоих пальцев уйма следов. Лейтенант смутился, сделал шаг от машины. — Какие указания? — спросил официальным тоном. — Вызывай по своей рации опергруппу с экспертом. Пальчики поищем, может, еще что. Лейтенант деловито кивнул, поднес к губам черный кружок. Ермаков молча смотрел на машину. Свидетельницей каких событий была она? Пожалуй, стоит подождать опергруппу, заглянуть хотя бы в салон, узнать, есть ли отпечатки пальцев — должны быть, должны, раз пользовались ею посторонние. Вишь, и номера переставляли. Потом почему-то бросили здесь, на улице, недалеко от оживленного шоссе. Незапертую, с ключами в замке зажигания. Расчет на новый угон? На новое ответвление от основного нашего дела — убийства? Группа оказалась действительно оперативной и прибыла быстро. Сосредоточенный эксперт, приглядевшись, сказал Ермакову: — Руль тщательно вытерт. Но будем искать в других местах, всю машину не протрешь. Это долгая история — искать пальцевые следы в автомобиле. Не было такого времени у Ермакова, и он с сожалением оставил группу у машины, наказав тщательно все осмотреть. — Да что я, не понимаю? — обиделся эксперт. Следующий визит был более результативным. Главный врач городской ветеринарной лечебницы походил скорее на преуспевающую актрису, чем на врачевательницу братьев наших меньших. Высокая, стройная, белокурая, с ухоженным лицом и умело наложенной косметикой, которая хорошо скрывала, что женщине за сорок. Она прекрасно владела лицом, и только руки выдавали волнение — мелко подрагивая, они перебирали на столе какие-то бумаги, не имеющие отношения к разговору. Римма Игоревна Пеструхина отвечала на вопросы со спокойным достоинством. Нет, невозможно утаивание учетного препарата. Краж не было, он хранится в сейфе, а ключи она никому не доверяет. Знаете, время такое. Вводит препарат несчастным животным, в основном, средний персонал. Знаете, ветеринарных врачей мало, а эта операция хоть и неприятна, но предельно проста. Нет, только по заявлению владельцев животных. Ну, разве иногда, когда страдания невозможно видеть и летальный исход неизбежен. Но тогда составляется акт. Конечно, все можно проверить. Отчеты составляются регулярно. Сейчас она принесет документы. Пеструхина отсутствовала слишком долго для того, чтобы взять папку с документами в соседней комнате. Капитан Ермаков сидел в кабинете один, поеживаясь от непривычных звуков. Откуда-то доносились лай, совсем человеческие болезненные вскрики, и все перекрывал тоскливый собачий вой, полный тревоги и безысходности. Здесь был свой мир, тоже полный страданий, и боль бессловесных существ усугублялась их полной зависимостью и безответностью. Поистине железные нервы должна иметь эта дама, чтобы проводить здесь весь день. Римма Игоревна вернулась рассерженной, с папкой в руках и в сопровождении полной низенькой старушки, которая растерянно семенила за ней. — Вот, полюбуйтесь, — сказала Пеструхина грубовато, — хранят документы где попало и результат: часть актов вырвана. Что называется "с мясом”. Как это могло произойти? Под взглядом начальницы старушка стала еще ниже ростом. — Но, Римма Игоревна, я стол запираю. Кто бы мог подумать? Да кому они нужны, эти акты? Сроду ими никто не интересуется. Ну вот, часть актов пропала! Небольшая утрата, если бы не убийства с помощью именно морбитала, списываемого, как выяснилось, по актам. Пеструхина принялась читать нотацию старушке, капитан же раздумывал. Его план проверить, действительно ли по назначению использовался препарат, срывался. Нет актов, нет данных… Надо искать другой выход. Старушка слабо, но защищалась от нападок начальницы. Ермаков слушал вполуха и собирался уже было прервать разнос, как услышал слова: — В конце концов, Римма Игоревна, если товарищу очень надо, я могу восстановить учет по книге. — К-какой книге? — в голосе врача звучала теперь растерянность. — Да я записываю акты в книгу. Так, для порядка. Это не предусмотрено учетом, но я для памяти. Память-то у меня дырявая уж, годы… Я записываю в книгу, а потом, к отчету, мне и акты подбирать не нужно — все у меня в книжечке и записано. Ай да бабуля, ай да молодчина! По бабусиной амбарной книге и с помощью самой бабуси, расшифровывающей свои записи, капитан выяснил в два счета, что начиная с февраля месяца этого года расход морбитала удвоился. Странным образом уменьшилось число владельцев, желавших безболезненно лишить жизни своих собак и кошек, зато возрос гуманизм по отношению к бродячим и бесхозным животным — этих умерщвляли направо-налево, не жалея строго учетного и дефицитного препарата. Пеструхина обескураженно молчала, зато ставшая Ермакову удивительно симпатичной старушка хитренько поблескивала глазками за стеклами уродливых очков и, делая убийственные разоблачения, невинно обращалась к начальнице, игнорируя капитана, который лишь посмеивался в душе. Итак, уважаемая Римма Игоревна, приступ вашего милосердия, начавшийся в феврале, придется объяснить. Однако же импозантная дама не собиралась сдаваться легко. Пожимала плечами, возмущалась подозрением. Нет, голыми руками не возьмешь такую, нечего и думать. Но результат вот он, налицо: морбитал мог уплыть на сторону. "Дело техники, — думал капитан, не огорчаясь упорству женщины, — Тайгина ее раскрутит, а я добуду для этого фактики. А главное — связи, связи — вот что поможет”. Решив, что дальнейший разговор бесполезен, Ермаков задал последний вопрос: — Теперь о кооперативе. Он ведь при вашей лечебнице? "Дружок”, кажется, так называется? Расскажите о нем. Красивые подведенные глаза метнулись, легкий румянец лег на щеки, дрогнули успокоившиеся было руки — Пеструхиной не понравился вопрос, и она этого не могла скрыть. — Зачем мне о них говорить? Своих непорядков, видите сами, полно. С ними разговаривайте сами, они рядом, в другом крыле здания. — Но кооператив при лечебнице, вы в какой-то мере заинтересованы в деятельности "Дружка”. Название одно что стоит — "Дружок" — и без внимания? Пеструхина шутки не приняла, построжала. — Чего мне с ними дружить? Отношения у нас чисто деловые. Нам, конечно, полегче стало, и спасибо им за это. А рассказать о них мне нечего. — Вы, случайно, с ними лекарствами не делитесь? Или морбиталом, например? — спросил Ермаков и, видя, как закипала врачиха, добавил примирительно: — В исключительных случаях. — Вы что? — задохнулась Пеструхина. — Вы давайте отчет своим словам, не оскорбляйте меня. Я и пожаловаться могу на вас, чего вы чушь несете, зачем наговариваете?.. Она возмущалась, а Ермаков встал, собираясь уходить. — Ладно-ладно, Римма Игоревна, — сказал он миролюбиво, — у нас еще будет время поговорить. Я ваш совет принимаю. Иду к кооператорам. Действительно, чего я к вам привязался? Делом одной минуты было перейти из подъезда в подъезд. Сюда тоже доносились мученические взвизги, в коридоре сидели посетители с больными. Правда, в том, соседнем подъезде, как показалось Ермакову, и те и другие были попроще, не такие породистые. Табличек на дверях не было, и, постучав, капитан вошел в первый же кабинет. У высокого белого стола молодой парень ласкал скулившего пса; склонившись над раковиной, мыл руки здоровяк в белом халате, белых джинсах и белых же кроссовках — весь белый, только рыжие длинные волосы виднелись из-под шапочки. Взгляд рыжего скользнул мимо Ермакова на пол, пошарил вокруг. Капитан понял: ищет животину, с которой пожаловал клиент, и рассмеялся: — Я сам на прием. Ветеринар не удивился, дружески простился сначала с собакой, — от ласкового жеста она присела, ощерившись, — затем с хозяином. — Слушаю, — сказал он деловито, оставшись наедине с капитаном, и, когда Ермаков представился, заметил: — Нас проверками не удивишь. Испытали, слава Богу. Из разговора с ветеринаром выяснилось, что сегодня он ведет прием один, председатель кооператива "Дружок” Чулков Олег появился утром и уехал по каким-то делам. — Меня волнуют мои пациенты — и больше ничего. Заработок у меня приличный, втрое выше, чем был по соседству, парень кивнул на стену, за которой была ветлечебница, так что выкладываюсь, чтобы отработать. Сразу отгородившись стеной незнания, самой прочной из неприступных крепостей в розыске, ветеринар уклонялся от любых ответов, не желал говорить о кооперативе ничего — ни хорошего, ни плохого. — Приходится вам умерщвлять животных? — в упор спросил Ермаков, и ветеринар поднял руки. — Приходилось. Это неприятно. Ужасно неприятно. Но приходилось… — А способ? — Морбитал. Я работаю только с ним. Иначе — не могу. Слишком люблю животных, даже больных и старых. — Где же кооператив получает морбитал? Ветеринар пожал плечами: — Это не мой вопрос. Мне дают ампулу, я работаю. — Кто дает-то? — Как кто? — удивился парень. — Председатель наш, Олег, кто ж еще? Понимаете, — он понизил голос, — в ветлечебнице не всегда, ну, как бы вам сказать, — он помялся, — …выполняют свои обязательства должным образом… А у нас — гарантия, что животное уйдет из жизни без страданий. Ненужных. Но это ведь довольно редко бывает. И в наши функции по существу-то не входит. "Дружок” лечит и берет животных на временное содержание — до месяца. Заболел хозяин, командировка, отпуск — обстоятельства разные. Вот мы и помогаем. Я считаю, это главное. Милосердие к животным делает человека че-ло-веком. Нет, все же он был симпатичным, этот звериный доктор, молодой Айболит, и он нравился капитану, несмотря на уклончивость ответов. В конце концов, он мог и действительно не интересоваться разными там деловыми вопросами. Но вот ответил же, что морбитал применяет. Пест-рухина говорит, не давала, а где же они брали этот самый яд? Где? На этот вопрос ответит председатель, только бы его разыскать поскорее. И последний вопрос. Даже три сразу. — Вас председатель не предупреждал помалкивать о морбитале? И где эти самые вольеры? Да и сам председатель? — Ч-черт, — парень хлопнул себя по лбу ладонью, — точно же, предупреждал! — он подумал и махнул рукой: — Да ладно. Какие секреты? Вольеры в поселке Зеленом, а председатель где — не знаю. Он не докладывает. Иногда и день, и два не приходит. Я отработаю — сменщик придет, нам председатель-то и не нужен. Он организатор, а мы лекари. Разделение кооперативного труда. Значит, поселок Зеленый. Зеленый, Зеленый… Это километров тридцать, а то и побольше. Побывать там обязательно нужно. Ермаков глянул на часы — ого! Время бежит, и если ехать в Зеленый, то только вечером. Сейчас не успеть. Капитан прикинул оставшиеся на сегодня дела, ужаснулся — не успевает! Да еще эта оперативка, будь она неладна! Что он доложит начальству? Розыскник договорился с парнем: он или сменщик сообщат председателю, что у милиции в нем нужда, и пусть, как появится, сразу позвонит. Дал телефон Тайгиной и уехал справляться с другими не менее важными делами. Прежде всего надо было проверить, как там обстояло у Поддыхова.Злоказов
Сразу за проходной Ермакова окликнули: — Слышь, капитан… Держа руки в карманах синего сатинового халата, к нему подходил кладовщик Злоказов. При дневном свете он казался еще более худым и мрачным. — Дело до тебя есть, капитан, — хмуро сказал он, — надо побалакать нам. — Я готов, — ответил Ермаков, — на пять минут к председателю заскочу — и к вашим услугам. — Не-ет, — протянул недовольно Злоказов, — давай сперва со мной побеседуй. Может, потом с председателем легче говорить будет. Пошли ко мне, в мои апартаменты. Там хоть вонько, но спокойно. Опять позорно цокали по каменным ступенькам экономные подковки на форменных туфлях Ермакова, как ни старался он ступать поосторожнее. В царстве Злоказова воздух казался густым от застоявшихся запахов мертвых вещей. Кладовщик понимающе усмехнулся, заметив брезгливую гримасу на лице розыскника. — А я уж привык, — сказал он, — да я тебя привел не это амбре нюхать. У меня серьезный разговор. Ко мне сегодня утром змей этот прискакал… — Какой Змей? — Ну а кто же? Змей и есть. Гад ползучий, Кобриков Сережка. Ты, говорит, зачем меня заложил? Я отвечаю, мол, я тебя не заложил, а вот обложу сейчас по-русски, в пять этажей сразу. А он мне, я сам могу так, не удивишь. Могу, мол, даже с нашлепкой, навек припечатаю. Угрожать мне, вишь, начал… — Так с чем приходил он? — нетерпеливо перебил кладовщика Ермаков. Угрозы — это, конечно, интересно, но суть-то в чем? А Злоказов, похоже, до сих пор кипел от той перебранки. — Говорю же, угрожал. Велел сказать, что обувь для юриста получал. Я, говорит, ему все передал, а теперь он покойник, так что же, мне отвечать? Я ему: раз передал, так и не суетись, установят. А я зачем врать буду? Кому ты передал те сапоги — не видел я и врать не буду. Отдай их хоть самому черту — какое мне дело? Короче, не согласился. Он меня обругал — я в долгу не остался — и бегом по лестнице. Закрыл я свое царство, поднялся наверх, а он уж от конторы — и тоже бегом. Гляжу, за оградой синяя девятка. Сел он — и ходу. Но вот скажи, капитан, зачем ему нужно вранье? Ермаков молча пожал плечами, чувствуя, что разговор еще не окончен. Кладовщик, выдержав многозначительную паузу, продолжил: — Тогда я тебе отвечу: Кобриков Сережка не такой человек, чтобы за полтинник рисковать. Что бы он с тех сапог имел — пустяк, тьфу. У него одно кольцо на пальце больше стоит. Здесь, я думаю, комбинация была задумана похлеще, да сорвалось что-то. Я все эти дни думал — размышлял над нашей тайной. Нет, не сходится то, что вам преподносят, а вы заглатываете, как голодный ерш наживку. Давай рассуждать, капитан. Вот первое, — кладовщик загнул на ладони длинный узловатый палец, — я уже сказал, что прибыль с тех сапог плевая. Второе, — другой палец прилег на ладошке, — в тот же день сапоги — у Под-дыхова. Ты думаешь, Змей простой парень?! Да у него, коли захотел бы, тысяча и один способ сбыта. Думаю: разоблачение это входит в план. Третье: Поддыхов тоже мужик не промах. Был бы слаб, за кооператив не взялся бы. Сильные сюда идут, в кооперативы-то. Сила, правда, разная: злая есть, но и добрая тоже. Я Поддыхову верю. И не зря он волну поднял шестибалльную, ему накачка была. Да серьезная. Пустяков бы не испугался он. Ну, подумаешь, нарушение — наказал бы рублем, да и только. А зачем он созвал всех, предал огласке это нарушение? Не в его это интересах, да и не в его привычках, знаю. Вот и кумекаю я: это он защищался. От кого, спросишь? Этого не знаю, для того и тебя позвал, чтобы поделиться с тобой да подумать. Как считаешь-то? Злоказов вопросительно смотрел на Ермакова, ожидая ответа. Но что мог ответить розыскник? Подозрения кладовщика укладывались в рамках собственной версии Ермакова, добавляя в нее роль Коб-рикова — "Змея”, как выразился он. Ах, если бы Поддыхов! "Вот если бы Поддыхов!” — подумал Ермаков и не удержался, вслух произнес последнюю фразу. — Поддыхов, — оживился кладовщик, — он сперва, видно, думал, что с ним в игрушки играют. А тут смерти две… Злоказов помрачнел, добавил сурово: — Я сегодня утром Романа обругал. Ты, говорю, куда смотришь?! У тебя под носом людей выбивают, а ты темнишь. Чего боишься? Я тебя раскусил и другие раскусят. Из-за драных сапог что ли людей убивают? Гляди, говорю, Роман, доиграешься! — Что ответил он? — спросил Ермаков. — Сказал: "Загнали меня, Петя, в самый угол”. Я, конечно, еще поговорил с ним. Согласился он, что сам не справится. Видать, сейчас выбирает позицию. Тебя, капитан, я зазвал, чтобы ты всю картину знал… Да-а, — спохватился он после недолгого молчания, — вот еще что учти: Змея на машине ваш привозил, милицейский. Сам я не видел, правда, мне вахтер наш сказал. Чего это, говорит, наш Змееныш с милицией раскатывает? Так что осторожнее будь, враг среди своих — тройной враг, ничего страшнее оборотней нет. А что Змей Сережка здесь запутан — помяни мое слово, всплывет скоро. Вот все я тебе сказал, жми к Поддыхову. Да не стесняйся, скажи ему про нашу беседу. Я хоть и шестерка, — он засмеялся, — но козырная. А козырей у тебя на руках маловато, по всему видать, — он опять хрипло хохотнул. — Маловато козырей, — вздохнул капитан, — но мы ведь только начали тасовать эту колоду. Еще посмотрим, как карта ляжет. Такие козыри, как вы, Петр Данилович, к нам сами идут — в том и сила наша. — Верно говоришь, — согласился кладовщик, — я честный человек, мне чужой копейки не надо. Потому я с тобой. Сердечно простившись, Ермаков побежал вверх по каменным ступенькам. Подковки звенели, и капитан с досадой подумал, что надо бы их все же оторвать. Представил недовольство жены, обреченной им на вечную унизительную экономию, вздохнул. "Черт с ними”, — подумал: "Доношу как-нибудь”.Поддыхов
В приемной председателя сидела молодая девица с испуганным лицом — свято место пусто не бывает, но, видно по всему, девица чувствовала себя неуютно на месте, где совсем недавно сидела Ирина Николаевна Росина, ныне покойная. Еще по дороге Ермаков обдумал, как провести разговор с Поддыховым, — это было тоже немаловажно. Маленькое черное ушко за тумбочкой не должно слышать разговора, но находиться в безопасности. Едва открыв дверь, капитан приложил в губам палец, и Поддыхов понимающе кивнул, невольно покосившись в сторону диктофона-невидимки. "Спуститесь к Злоказову и ждите меня. Его же направьте в приемную, пусть ждет вас там”, — быстро набросал он на листке бумаги, лежавшей на столе. Поддыхов кивнул, направляясь к двери. Капитан, осторожно ступая, приблизился к тумбочке, заглянул: точно, диктофон. Чей? Для чего? И, конечно, дело задумано нешуточное, раз пущена в ход такая техника. Подавив желание хоть бы пальцем тронуть диктофончик, капитан отошел. Потерпим. Кто-то же придет за ним? И, может, факты, которые накопились за эти два быстрых дня, заиграют по-новому. Все детали операции были уже продуманы, обговорены с нужными людьми. Ермаков был спокоен — там ребята что надо, отбирали лучших. Вскоре послышался в приемной голос Злоказова, и Ермаков вышел. Сердитый кладовщик разговаривал с секретаршей и на Ермакова даже не глянул. Это был уже совсем другой разговор! Поддыхов начал первым: — Безусловно, я должен извиниться. Но у меня не было выхода, — усмешка искривила полное лицо, — я не знал, да и сейчас не знаю, с кем имею дело, думал справиться в одиночку. Знаете, гласность — это прекрасно. Я теперь знаю, что почти треть преступлений не раскрыта вами. Это знают и преступники. Для них гласность в этом вопросе — бальзам. Потому что меня эти цифры пугают, а преступника — обнадеживают. Так ведь? Доля истины была в словах председателя, и Ермаков согласно кивнул. Конечно, прав Поддыхов. Оглашение данных о раскрываемости могло иметь и такие последствия. — В каждом деле есть доля риска, — продолжал между тем Поддыхов, — даже и в моем. Но я надеюсь на успех при любом начинании. Так же и здесь. Вы всенародно сообщили, что каждый третий преступник пойман не будет. И вот теперь всякий из них думает быть этим третьим. Из этих же цифр вытекает, что каждая третья жертва остается при своих интересах. Так вот, не хотел бы я быть этим третьим. Ваши возможности я, мягко говоря, не идеализирую, — он опять усмехнулся, и эта усмешка полоснула по сердцу капитана. — Возможности! Это правильно. Вы знаете, Поддыхов, что только десять из ста наших ребят дослуживаются до пенсии. Сгорают, уходят, стреляют в них, убивают и по тюрьмам сидят, бедолаги, оклеветанные подлецами. Возможности! Будь их у нас побольше… — вскипел обиженный Ермаков, но оборвал себя и сказал устало: — Не время, Роман Григорьевич, для дискуссий, да и правы в чем-то вы. Обидно только за наших… и давайте не будем пока. Потом. Дискуссии потом. Я понял, вы не верили нам. Но обстоятельства изменились? — Да, — кивнул, не возражая, Поддыхов, — изменились. Но по порядку. Повторяю: вначале я думал справиться сам. Потом, уже после смерти Росиной, решил, что нас оставят в покое. Это же какое надо нахальство иметь! Я ошибся. Не справился сам, и в покое меня не оставили. Эти смерти меня подкосили просто — я испугался! — он заметил осуждение в глазах Ермакова и рассердился. — Не спешите меня клеймить, не надо! Пресса полна сообщений о подвигах пока не ваших, что же удивляться, что люди к вам не идут за защитой? — Но вы же сами… — Ермаков опять попытался вступиться за честь мундира, но доводы — какие он мог привести веские доводы?! Снова лозунги и призывы? К счастью, Поддыхов перебил его, не дослушав: — Да ладно вам, — сказал он устало, — все мы сейчас знаем сами. Так вот. Сапоги мне принес Кобриков. Сказал: "Задержали работники ОБХСС, составили акт". Напрямую сказал: "Можно откупиться”. Сумму сперва не назвал — я раскипятился сразу. Он мне: "Как знаете, мол". А сам ухмыляется так препакостно. Вот тогда я то совещание созвал. Разберусь, думаю, накажу кого следует, и пусть ОБХСС официально решает все наши грехи — хоть казнит, хоть милует. Я тогда так рассудил, что коль увяз коготок — всей птичке пропасть. Дам первый куш вымогателям, сам дорожку им проторю, они уж меня не выпустят. Ну вот, совещание ясности не принесло. И у меня впервые мысль мелькнула: не провокация ли это? Не устроена ли эта комедия с продажей, чтобы кооператив мой взять на крючок, а потом и доить, как корову? Разберусь, думаю. Пока разбирался — Росина… Кобриков не показывается, про откуп — молчок. Но я же понимаю, что здесь связь должна быть, а в чем связь — до сих пор не знаю. Юрист — ну, тот мог быть связан с ними, но секретарша? — он задумался, замолчал, и капитан осторожно спросил: — Вы говорили, что не оставили вас в покое? Как так? — А так. Юрист еще жив был. Раздается звонок. Голос мужской, молодой такой, бархатный, как говорят. Не торопясь так, уверенно… Вроде решено уже все. "Деньги приготовили?”, — говорит. Я: "Какие деньги? За что?” — "За нарушение устава, — говорит, — и смерть секретарши”. И шутит еще: "Человек, — говорит, — сейчас в цене, пришлось ставку вам увеличить”. И называет зту ставку. О передаче, мол, договоримся отдельно. Я онемел просто, язык отнялся, молчу, а он смеется: "Из милиции, — говорит, — я звоню, но вы мне сюда не звоните. И другим не звоните сюда, лучше не надо, себя пожалейте”. Так-то вот, — Поддыхов глянул на капитана и вытер рукавом выступивший на лбу пот, — а вы мне рассказываете жалостные истории, сколько ваших ребят до пенсии дослуживается. — Дальше, что было дальше? — нетерпеливо спросил капитан. — Дальше было больше. Сегодня утром тот же звонарь объявился. Теперь, говорит, ставка выше. И опять с юмором: "Надо бы больше, но вхожу в долю расходов на похороны коллеги”. Это Слонимского похороны. Коллегой его назвал. Предупредил опять, чтобы я не вмешивал милицию. Все, говорит, твои разговорчики я знаю наизусть. Тут мои чувства простым страхом не назовешь. Не нашел я им определения. Подожди, говорю, надо деньги собрать. "Поспеши, — мне ответом было, — как бы тебе третьей ставкой не быть. Или, например, дочке твоей, она как раз созрела и прехорошенькая”. Меня в дрожь бросило всего. Дочке у меня, правда, всего восемнадцать и бесстрашная такая, никакой узды нет! Положил я трубку, призадумался. Кабинет стал обыскивать — не трепался ли тот о прослушке. Вот диктофончик за тумбочкой нашел. Вижу — серьезные ребята, подготовленные и не останавливаются ни перед чем — два покойника, Господи! Да лучше бы я им проклятые деньжищи отдал! — голос председателя дрогнул, багровое лицо вновь покрылось потом, и капли стекали к подбородку, словно плакало все лицо крупными мутными слезами. — Ну почему? — устало сказал Ермаков. — Почему вы только сейчас?.. Два дня, две смерти. А вы молчите о таком?! Что можем мы одни, что?.. Капитан Ермаков представил, что могли бы они уже сделать, знай обо всем раньше. Телефон — знали бы, откуда звонили… Разработали бы операцию не на ощупь, как сейчас, а наверняка. Молчание длилось недолго. Надо исправлять положение. — Вот как мы поступим теперь… Поддыхов согласно кивал, слушая розыскника. Расстались они дружелюбно. Рабочий день кончался, когда в приемную Поддыхова ввалились несколько парней, и секретарша испуганно вскочила, пытаясь загородить им путь в кабинет председателя. Бесцеремонно отодвинув женщину, парни, галдя, вошли в кабинет. — По поводу работы мы, — услышала секретарша голос из-за неплотно прикрытой двери. Он? прислушалась. Разговор был спокойным, Поддыхов загудел в ответ на вопросы молодых людей. Успокоившись, женщина возвратилась на свое место. Минут пятнадцать, не больше, были парни у Поддыхова, затем снова с шумом вышли в приемную и, громко переговариваясь, ушли. Из тех фраз, что сумела уловить секретарша, она поняла, что условия работы в кооперативе ребятам не подошли. Прикрывая дверь, шедший последним парень задержался и весело подмигнул секретарше: — Найдем себе дело, кооператив не один. — И исчез за дверью. — Расшумелись, как воробьи в вениках, — недовольно сказал Поддыхов, выйдя из кабинета. Секретарша пожала плечами и занялась своим делом. Она разбирала бумаги и некогда ей было обдумывать поступки незнакомых людей. Рабочий день вскоре закончился, и председатель не задержался. — Вы тоже свободны, — сказал он удивленной столь ранним уходом секретарше, и она благодарно кивнула в ответ. ”Ну вот, — подумала, — а пугали, что работа без нормы, сидят кооператоры до ночи. Пожалуйста, уходят, как с обычного предприятия”. Ушло начальство — сам Бог велел и секретарше сматывать удочки. Дома дел всегда предостаточно.СЛЕДСТВИЕ И РОЗЫСК Глава 11
Встревоженная Людмила позвонила мне, когда я уже совсем сломала голову в догадках, где же находится Антен. Понимала, что не должно бы случиться плохого, не такой человек Антон, но беспокойство не оставляло меня и грызло, грызло все то время, пока я вела допросы, говорила с людьми — делала свою работу. Людмила рассеяла часть моей тревоги — Антон позвонил ей, наказал не нервничать самой и меня успокоить. Но какое там успокоить. Где он, чем занимается сейчас, больной, с тяжелой травмой, способной уложить в постель любого, но, видимо, только не капитана Волну. И я знала, чувствовала, что, хотя капитан официально не придан нашей маленькой группе, именно нашим делом он занят, это двойное кооперативное убийство заставило его удрать из больницы. И было немного обидно — мог бы позвонить мне, рассказать, направить. Помощь Антона, ох, как бы пригодилась: в тугой узел закручивались собранные нами факты, и предстоящее совещание пугало меня тем, что придется выкладывать их, до конца не осмыслив. Что означали они, следовало проверить, сопоставить, проанализировать. То, что сообщил мне Ермаков, совпадало с моими подозрениями — но вот поди ж ты, не захотел Поддыхов мне все рассказать! Моя профессиональная гордость была уязвлена, правда, самую чуточку — начало положено мной. Да и стыдно в общем деле делить успехи — это я усвоила давно, но… Ермаков был удачливее, надо было признать. А успех-то был совсем крошечным — направление только, не результат еще. Подтверждение тому, что мы на правильном пути. Ермаков запаздывал. Совещание на носу, злилась я, где его носит? Все в этом расследовании было как-то не так. Мне не удавалось взять в свои руки, управлять делом. Розыскники отвели мне пассивную роль исполнителя, и она мне не нравилась. Конечно, это только начало, основное слово сейчас за ними, свои действия они со мной просто не успевали согласовывать, да и не нужно мне особенно вникать в их профессиональные тайны. Я знала, что оперативные каналы работают в полную силу — Ермаков в этом был дока, можно довериться. Но вот совещание… К его началу капитан не появился, и я поплелась одна в кабинет прокурора, предчувствуя неприятности, которые не заставили себя ждать. Неожиданную активность проявил вдруг начальник милиции, чего я никак не ожидала. Подполковник был у нас человек новый, ему бы послушать, но, едва я закончила свой, надо признать, не очень вразумительный отчет, он взвился: — Результаты адекватны действию. Дисциплины нет, направленности. Где вот сейчас Ермаков? Почему не явился? Не считает нужным доложить, посоветоваться со старшими? Я разберусь еще с ним, да и вообще с дисциплиной. Ушел, пришел — неизвестно когда. На месте вечно нет, я сегодня поймать его не могу. А вы, Наталья Борисовна, старший по группе, руководитель, можно сказать. Как же вы руководите? Буйнов, насупившись, молчал и не спешил мне на выручку. Потихоньку ухмылялся начальник уголовного розыска — он уже успел натерпеться от разносов начальника и помалкивал тоже. Пришлось мне самой вступать в драку, защищая товарища: — Что вы такое говорите? — возмутилась я, едва дождавшись конца грозной тирады. — Как может Ермаков сидеть в кабинете, если он имеет вполне определенные оперативные задачи?! Мне в группе не нужен розыскник, сидящий в кабинете. И давайте обсудим, что делать с этими убийствами, а не с капитаном Ермаковым. Есть у вас конкретные предложения? Если есть, прошу вас. А нотации оставьте на потом, когда время для этого будет… — Наталья Борисовна, — перебил меня прокурор, — ты против нотации протестуешь путем нотаций. Несолидно. Ответь-ка лучше, я что-то не уловил, что за майор у вас мельтешит? Вы никого не подключили? — он глянул на начальника угрозыска, тот отрицательно качнул головой: — Нет, договорились ведь до вечера подождать. — Послушайте, а кого вы на вскрытие Слонимского направили? — спросила я. — На месте только Мастырин оказался, время-то было позднее. Его и отправил. А что? — насторожился начальник угрозыска. Я лихорадочно соображала: назвать Мастырина или нет? Сказать, что именно его видели в машине Слонимского? Нет, решила наконец, не назову, пока не решим этот вопрос с Ермаковым. Тем более что, докладывая, я не назвала его. Майор — и все, пусть пока так и будет. К совету Антона и его предостережению об утечке информации надо было отнестись серьезно. Решила — и стало вдруг стыдно: от кого скрываю? И все же этот подполковник своими сентенциями как вызвал у меня неприязнь, так она и не проходила, заставляя скрытничать даже здесь, с руководством. Я знала, наслышана была, что новый начальник милиции далек от профессионализма, а некомпетентность, да еще такая воинствующая, могла навредить, даже сама того не желая. Нет худшего врага в любом деле, не только в нашем. И так больно видеть эту некомпетентность, поселившуюся в кабинетах, где могло побеждать только высокое мастерство, а не высокие слова! И я проалилчала. Не хватало еще, чтобы ретивый подполковник начал принимать немедленные меры. Пусть уж лучше бранится. Как сказал бы Антон, брань на вороту не виснет. Пустая брань, конечно. Буйнов хорошо изучил меня, усек мою скрытность и смотрел неодобрительно, однако изобличать тоже не стал: видимо, и его посещали те же сомнения. Совещание тянулось тягуче-медленно, ничего конкретного мне предложить не мог никто, и все это понимали. Отдавалась дань традиции — как же, руководство должно быть в курсе! — и бездарно терялось время. Совсем уж к концу, когда паузы стали длиннее и многозначительнее, пришел Ермаков, под грозным взглядом начальника извинился за опоздание и незаметно подмигнул мне: все в порядке. Я поняла и обрадовалась этому простому знаку. Точно, розыскник не терял даром времени, не зря я его защищала. Все головы повернулись к Ермакову: мы приготовились слушать. — За диктофоном пришел Гусенков, — сказал он, и я вздрогнула: "Гусенков!” — Наблюдение ведется. Кому-то он должен передать эту штуку. Передаст — станет ясно, откуда нитбчка вьется. Вот теперь я прошу нас усилить. Люди, люди нужны мне… И техника, — добавил капитан, — а план у меня на сегодняшний вечер такой… В намеченном капитаном плане мне места не отводилось — я могла быть только помехой в головокружительных кульбитах розыска — такое уж свойство у прокурорского следователя — женщины. Моя партия сольная, и вступлю я в этот оркестр позднее, когда операция завершится и надо будет закреплять доказательства. Но как хорошо все же, что работаю я с Ермаковым! — Назовем операцию "Кобра”, — важно сказал подполковник. Тут он был на высоте, название операции — важная вещь! Ермаков глянул на меня весело, опять подмигнул, и я засмеялась, поняв: для меня есть отдельные новости. Как и я, розыскник не обмолвился словом о Ма-стырине, в его рассказе действовал неизвестный в форме майора милиции. Операция "Кобра” должна была выявить майора. Так спланировал Ермаков. Совещание закончилось на более оптимистичной ноте, чем началось. Ермаков забежал в мой кабинет на минутку — его ждал начальник. — Где Антон? — нетерпеливо спросила я. Про Антона мы тоже, не сговариваясь, промолчали на совещании. — При деле Антон, — засмеялся капитан, — ты за него не волнуйся. — А как же… ребра? — Срастутся! — весело сказал мне Ермаков уже от двери. — Я тебе позвоню. Можно ночью-то? Раньше не получится. — Звони в любое время, — крикнула я в спину Толе и осталась одна. Что ж, будем ждать. И пока мне дана передышка этими рыцарями от розыска, займусь-ка я устройством своих личных дел. Тем более что официально мой рабочий день закончился почти три часа назад и время шло к девяти. Если очень постараться, успею застать не спящим Сашулю. Я взялась за телефон. Вскоре, радостно взвизгнув, повис на моей шее маленький Сашка, и крепкие ручонки так сладко-больно вцепились в меня, что разволновалась не только я. Пряча налившиеся слезами глаза, вышла из комнаты Сашулина бабушка, не примирившаяся с трагической гибелью дочери. Даже Игорь смутился от столь откровенной радости сына. Потом мы пили чай в тесной чистенькой кухоньке, и я старалась не замечать укоризненных взглядов, которые бабушка бросала на разрумянившегося мальчишку: ему давно бы уж пора в постель. Так уютно было мне, такая тихая радость разливалась по сердцу, что не хотелось и думать о том, что мне тоже пора бы встать и отправиться восвояси, в мои холодные пустые стены, не держащие человеческого тепла после того, что случилось со мной. Сашина зевота послужила сигналом, и едва розовый ротик вновь раскрылся в предвкушении сна, бабушка проявила решительность, и Сашуля ушел спать, взяв с меня твердое обещание завтра снова прийти к нему. Засобиралась и я. Не слушая моих возражений, Игорь проводил меня до дверей моей квартиры, и я, доставая ключи, в смущении решала, что удобнее: проститься здесь или пригласить Игоря. Мой провожатый сам разрешил мои сомнения. Ласково тронул за руку: — Я пошел, — сказал он, — спокойной ночи, Наташа. До встречи. И стал спускаться вниз, не вызывая лифта. Я ткнула ключом в замочную скважину, и такого легкого толчка хватило, чтобы дверь внезапно открылась. Нет, это совсем другое, чем на работе, — видеть разгромленной собственную квартиру! Стоя одна на пороге, я испытывала неподдельный ужас. Ватными стали ноги, и крик вырвался непроизвольно: — Игорь! — Что, Наташа, что?! Я здесь! — он возвращался, прыгая через несколько ступенек сразу и, оказавшись у двери, вмиг прикрыл меня собой. Без сил я уткнулась лбом в эту широкую сильную спину, закрыла на миг глаза, и все происходящее показалось мне сном, видением, которое развеется, едва я подниму веки. Игорь вглядывался в дверной проем. — Кража, — лаконично произнес он, и тут же в нем заговорил специалист: — Входить нельзя. Откуда можно позвонить? От соседей? Нужна опергруппа. Привычные слова подействовали лучше всякого утешения. — Подожди тревожить соседей. Давай осторожно, чтоб не наследить. Ступая след в след, мы прошли к телефону. Страшное зрелище открылось нам. Чья-то глумливая рука вывернула все мои немудреные вещички, выбросила на пол, смешала. Пока Игорь, осторожно обернув платком трубку, вызывал милицию, я пригляделась. Не было у меня драгоценностей, не заработала. Единственное мое богатство — книги, но это только для меня ценность — купленные случайно, разрозненные, не Бог весть как оформленные. Безобразной кучей сброшенные, они сиротливо лежали среди прочего хлама. Нет худа без добра. Малое количество моего имущества помогло мне быстро определиться: по-моему, все вещи целы. Вон, на дне открытого шкафа лежит моя дубленка, сверху прикрыл ее плащ. Если не взяли это, то что же? Меня охватило нетерпение, совсем недостойное профессионала. Быстро просмотрела я сброшенные с вешалок вещи — целы! Не было кражи? А что означает этот погром?! Поделилась своими сомнениями с Игорем, тот призадумался, ухватил в горсть подбородок — признак растерянности, это я успела уже заметить. — Н-да… — протянул он, — а документов каких-нибудь ты дома не держала? — Какие документы?! — возмутилась я. Что я могла держать дома? Дело? Зачем? — и тут же прикусила язык. Совсем недавно брала домой именно уголовное дело и работала с ним почти целую ночь — поджимали сроки и пришлось посидеть. Впрочем, это ведь совсем другое. К приезду оперативной группы я уже была твердо уверена, что ко мне в квартиру проникли не воры. Два варианта мне представлялись, и даже скептически настроенный Игорь не смог их отвергнуть. Первый: меня хотят запугать и унизить. И второй, еще более неприятный: собираются меня шантажировать. Как и чем — трудно сказать, но собираются… Крупная черная овчарка опергруппы вывела кинолога к подъезду и виновато села. — Машина, — развел руками кинолог, — была машина прямо у подъезда. Молоденький серьезный следователь подробно описывал вселенский хаос в моей квартире, и я краснела от подробностей, которые он сам себе наговаривал, записывая в протокол. Вот уж действительно. Увековечены теперь милицейским протоколом мои самые интимные вещи. Если я не ошиблась и целью погрома было мое унижение — цель достигнута. Сочувствие сочувствием, но я видела, как ухмыляются оба оперативника, прислонившись к косяку входной двери. У следователя — мальчишки от усердия горели уши, и я не выдержала, вмешалась: — Послушайте, нельзя ли короче? Зачем такие подробности. — Н-но я должен…. — завозражал было следователь. Пришлось настоять: — Давайте поищем пальчики или другие следы, а тряпки описывать не будем. Вещи не пропали, и разве не видно, что погром устроен нарочно? — Так я поэтому и хотел… — Ладно-ладно. Пусть поработает криминалист. Следователь нехотя согласился, и эксперт занялся своей работой, скрупулезно, шаг за шагом, осматривая квартиру. Старался. Внимательно и придирчиво следил за ним Игорь, изредка подавая советы. Пальцевых отпечатков нашли уйму, но чьи они, имеют ли отношение к этому событию? Основной результат — след обуви. Его нашли у самого входа — нечеткий рисунок. Так, контуры только, но проглядывала в этих контурах какая-то белесая пыль — не то цемент, не то известь. Эксперт тщательно собрал эту пыль, упаковал. Закончился осмотр квартиры, расписались и ушли по домам расстроенные понятые — мои соседи, уехали ребята из опергруппы. Мы остались с Игером среди этого хаоса, и едва наступила давящая тревожная тишина, приступ ужаса повторился вновь. Он сопровождался на этот раз сознанием, что еще немного — и я окажусь совсем одна, совсем, по существу, беззащитная перед той силой, которой противоборствую. Что, кроме слова, имела я? Смешно, словно против такой беспощадной силы… Вспомнилось, как привез меня недавно ночью Антон и не уехал, пока не помахала ему из окна. Что, он и это предвидел?! Но в ту же ночь не уберег себя… Игорь понял мое состояние. — Я побуду с тобой, — сказал он, — только позвоню домой, объясню. Ну вот, он не уйдет. Я не буду одна. Есть у меня друг, который может защитить, взять на себя часть моих забот и страхов. Игорь. И еще одно событие пришлось мне переживать в эту ночь. В самый разгар уборки раздался вдруг звонок, и я бросилась к телефону — обещал ведь позвонить Ермаков! Голос был незнакомый, веселый и молодой. — Прибралась уже? — спросил мой абонент. — Кто говорит? — Неважно, — прозвучало в ответ, — слушай меня. В твоей квартире был вор. И нашел у тебя кое-что. На размышление — день. От тебя требуется умеренность — и только. Еще сообщить о "Кобре”. Понятно? Позвоню сам. Не послушаешь — пеняй на себя. Вора поймают сразу, он признает кражу. Вернет купюры, наркотик и еще кое-что с твоими пальчиками. Не отмоешься, поняла? Поняла, конечно. Еще бы не понять. Значит, все же шантаж. Недурственно. Назойливо пищали гудки отбоя, а я все прижимала трубку к горящему уху. Из комнаты выглянул встревоженный Игорь: — Что? — Шантаж, — сказала я, машинально бросила трубку на рычаг и тут же схватила обратно. Какой просчет! Как могла я не удержать линию связи! Все эти события выбили меня из колеи. Я схватилась руками за пылающие щеки, закачала головой в бесплодном отчаянии. — Да ладно, не переживай, — принялся успокаивать меня Игорь, — это только начало, проявится скоро твой абонент, вот увидишь. Слабое утешение, что проявится. Однако надо готовиться к такому. Первая оплошность допущена, как предотвратить остальные? — Наглость какая! — возмущался Игорь. Я слушала слова возмущения и сочувствия, и только сейчас в полной мере осознавала, к чему прикоснулась. Новое качество преступности впервые встало передо мной в полный рост. Активная, жестокая, изворотливая, не останавливающаяся ни перед чем, хорошо осведомленная и оснащенная и, самое страшное, уверенная в безнаказанности — вот какая преступность заявила о себе. Что противопоставим мы ей? Наша, например, прокуратура? Душеспасительные беседы? Плевать они хотели на увещевания, в них по старинке верим только мы, следователи. Наш аппарат не готов к противоборству, чего уж тут скрывать. Вся надежда на помощников моих, Ермакова Толю и иже с ним. Подумала так и усмехнулась, вспомнив, как днем сама же выбивала машину капитану, а вечером защищала его от начальства, желавшего видеть оперативных уполномоченных сидящими в кабинетах и при этом раскрывающих в мгновение ока двойные убийства. Нет, кончилось время словесных поединков. Силу ломит только сила, и от призывов пора переходить к действиям, причем качественно новым. — Что же делается?! — словно прочел мои мысли Игорь. — Мы к такому совсем не готовы, Наташа. Я думаю, тебе надо подумать о смене работы. Такая нервотрепка… — Крысы бегут с тонущего корабля, — ответила я горько, понимая справедливость слов Игоря. Женщина-следователь абсолютно незащищенная фигура в столь страшной игре. Мне это сегодня ясно дали понять. Сдаются даже иные мужчины — становятся предателями или уходят, бросают опасную службу. Не все, одернула себя, слава Богу, не все. Такие, как Антон, как Толя, — те остаются до конца, до победы, если суждено им увидеть победу. Но справедлива ли эксплуатация честности и энтузиазма? Кому нужна бессмысленная жестокая гонка? Соревнование сил, которые в какое-то непонятное время стали неравными? Парадокс, но факт: мы оказались слабее зла и оно явственно брало верх. Допустить это просто невозможно, но слишком многое против нас, слишком. Оттого так дорога цена нашему благодушию и шапкозакидательству. — Нет, Игорь, крысой я не стану — сказала шутя, но он понял, — ничего, переможемся. Как там мои ребята? Где Антон? Что с Ермаковым? Мысли о моих товарищах оттеснили собственные невзгоды. Больше мне никто не звонил. Ни чужие, ни свои. Что-то покажет утро? О том, что незнакомый абонент знал условное название операции, обозначенное на совещании, я сообразила только утром.РОЗЫСК
Глава 12 Антон Волна
— Ну что вы такое делаете, Антон Петрович! — укоризненно сказала пышная чернявая молодайка с веселыми глазами, когда капитан Волна в очередной раз проковылял к окну. — У нас же первый этаж, увидють люди такую, извините, разбитую морду, што подумають? За меня плохо подумають, бо-либо за Григория. Ляжте вы спокойно, придет он и все сполнит, што я, мужа своего не знаю? Сполнит. — Да уж силы никакой нет ждать, извини, Галина, — капитан Волна, подавив стон, опять устроился на продавленном диванчике. Мысли опережали время, нетерпение превращалось просто в физическую муку. Который час мается он в этой маленькой квартирке, ожидая самого Гришу или хотя бы весточку он него. Гриша Нипорт был его давним другом. Розыскник, что называется, от Бога, он совсем юным, сразу после средней школы милиции, пришел к ним в отдел. С приходом Гриши, казалось бы, такой незначительной фигуры в сложном мире розыска, изменилось что-то в отделе, веселее стало, азартнее, чище. Голубоглазый с девичьей ямочкой на правой щеке, высоконький и худощавый, Гриша Нипорт вскоре стал всеобщим любимцем, самым отчаянным и удачливым розыскником. Несколько совместных операций сдружили их с Антоном, таких, казалось бы, разных. Но Гришино везенье продолжалось недолго. Скрутила парня любовь к Галке, им же самим пойманной на мелкой спекуляции. Скрыть Галкины провинности Грише не позволила совесть, а совестливые, известно, страдают первыми. Только успел жениться на Галине да отрешить ее от малоприбыльных шалостей, как нагрянула на милицию очередная очистительная волна и смела в первую очередь таких вот совестливых да бесхитростных. Рыбы покрупнее ушли в глубину, затаились, а мелкую рыбешку безжалостно выбросили на берег, не считаясь ни с чем. Словно, если в милиции — манекен ты, мишень для пристрелки с двух сторон, а не человек. Капитан Волна пытался вступиться за друга — бесполезно. Пришили на собрании политическую близорукость — с собранием не поспоришь. Видел Антон, как клеймили позором таких нарушителей, вроде Гриши, и как лицемерен был праведный гнев, кипевший в гладких словах, похожих на лозунги. Все кругло, гладко — не придерешься. Гриша снял лейтенантские погоны, освободил общежитие, где Галка все равно обитала без прописки. Устроился дворником. Должность дворника поважнее оказалась, чем розыскника, тут же дали Грише эту вот квартирку и зажил он с Галиной вполне благополучно, имея еще слесарный приработок. Ждали Нипор-ты прибавление в семействе и все было бы путем, но Гришина бескомпромиссная душа от розыска оторваться не смогла. Помогал друзьям постоянно, ухитрялся быть в курсе самых горячих событий — то ли дворницкая специфика такова, то ли талант Гришин не мог остаться зарытым и постоянно всплывал, сколько бы его ни топили. Так к кому, как не к Грише идти Антону? Только к нему, Григорию Нипорту, дворнику. Еще там, на больничной койке, вдали от суеты и расспросов, Антон тщательно продумал все. С первого дня, с первой встречи с Росиной. Мысленно, шаг за шагом, прошел по своим следам и по многим другим тоже. Главное, что мучило, — кто? Кто из своих замешан в темном деле? Больше чем двойной убийца интересовал капитана этот человек. Нет сомнения: его, капитана Волну, хотели устранить через автоаварию. Почему? Что он такое знал? Чего боялись те люди? Сначала ничего не получалось, не было какого-то звена, и это недостающее звено принес Ермаков. Шантаж! В этот день начался шантаж кооператива. Неужели Росина знала? И когда села к нему в машину… кто-то видел это и принял страшные меры. Росина — соучастница? Но зачем тогда так круто? Что-то было здесь еще, что-то было… Слонимский вскоре приехал к ней. Почему так рванула его "девятка”? Смысл? Ведь знал он машину и юриста знал. Такой скоростной отрыв в криминальной ситуации сразу обращает на себя внимание — не мог этого не знать юрист. Стоп! А почему это он, Волна, исходит из того, что в машине был ее владелец?! Вот тогда и пришла догадка: в приметной синей машине сидел не Слонимский! Там был другой человек, и он не хотел, чтобы капитан его видел. Вот причина — и как раньше он не догадался об этом?! Не в этом ли таилась и разгадка аварии: у того, в машине, не было уверенности, что капитан не заметил водителя, следовательно, капитан должен быть устранен. Но что же тогда получается? Серьезные последствия имеют серьезную и причину. Водитель причастен к смерти женщины? Другой такой же важной причины Антон, сколько ни пытался, придумать не мог. И еще стало ясно капитану, тот, в машине, прекрасно знал его. И Антон тоже знал водителя, поэтому так спешно тот ретировался. Ермаков сказал: мелькают погоны. Неужто свои, милицейские? Отсюда и утечка информации. Такая раскладка вынудила капитана, во-первых, сбежать из больницы, и во-вторых, отступить от обычных правил розыска. Какие могут быть правила, если он должен, по существу, подозревать любого в погонах? Гриша — вот кто мог помочь. И Антон Волна ждет теперь Гришу Нипорта, без колебаний согласившегося стать связным и помощником. Гриша, Гриша, розыскник от Бога. Где ты сейчас, почему нет от тебя известий?Гриша Нипорт
Жизнь снова приобрела свой привычный, почти изначальный смысл. Григорий Нипорт, имеющий в определенных кругах кличку "Соловей”, шел по старым связям. Недолгий, но содержательный разговор с капитаном Волной лишь подтвердил то, о чем Гриша догадывался по многим признакам. Догадывался, но не хотел поверить и помалкивал, тем более что мнением его никто не интересовался. Незадолго до встречи с Антоном, поздно вечером, когда Гриша сидел на скамейке в своем дворницком имении, негласно и бескорыстно охраняя покой его обитателей, Гришу крепко обидели. Местные блатяги, зная Гришу, остерегались вторгаться на его территорию и совсем не потому, что Нипорт дружил с участковым. Просто он пару раз по-дворницки — вот преимущества дворника перед опером! — крепко накостылял по шее пакостникам из блатных и предупредил, чтоб не баловали здесь. Беспроволочный телеграф сработал исправно, и Гришины владения местные оставили в покое, так что он знал: если у него наследили — дело рук чужаков, залетных. Так вот, сидел Гриша на скамье и скучал, слышит: шум. У ресторана. А Нипорт уже приметил: тихий экзотический ресторанчик, невесть как попавший к ним на окраину, вдруг стал шумливым и многолюдным. Большой беды вроде бы нет — процветание, но вот такое совсем ни к чему. Бросился Гриша на шум, видит — девчонку двое держат под руку, а третий наотмашь по лицу хлещет. Да так спокойно, методично разделывает ей физиономию, что жутко смотреть. В темноте девчонкина кровь кажется черной, залила лицо, а она не кричит, скулит, как собачонка, взвизгивает. И на помощь не зовет. Трое, хоть и в спортивном, Грише Нипорту — семечки, уложил на асфальт. Пока работал — девчонка деру дала, так и не узнал, кто такая. Парни же сообразили, что дворник с образованием. Двое смылись, а третьего Нипорт сам придержал. Тут его и обидели. А если точнее, тогда узнал, а обидели раньше. Парень, признав Гришу, раскололся втихую: девчонка задолжала, и шеф велел проучить. Так Грише стало известно, что рестораном завладела "семья”. Попытался через парня передать на "сход-няк” ультиматум, но парень перетрусил и отказался так решительно, что Гриша понял: дело серьезное. Стал присматриваться сам, но что он мог сделать? Данные копились, Нипорт злился, что никто не хочет всего этого видеть, хотя наряды и розыскники шныряли вокруг, как вороны возле помойки. Без подлого прикорма, видно, не обходилось. Гриша к прежним своим коллегам не ходил принципиально, и сами они к нему не обращались. Так что обида была вроде с двух сторон: клан по-крупному его не стеснялся, а свои — по старой привычке, он продолжал так думать о милиции — тоже в расчет его не брали. Сегодняшний визит капитана Волны пролил бальзам на Гришину душу и побудил к активным, давно продуманным действиям. Нипорт шел по старым связям, чтобы попасть на сходняк. Уйдя в дворники, Гриша отрастил усы — это розыскник не должен иметь особых примет, а дворнику можно. Усы ввели в заблуждение первого же старого Гришиного знакомца. Впрочем,может, и не усы были виной, а время и разлука. История Нипорта была широко известна в этих кругах, и знакомец сразу поверил, что Гришей движет не любовь к правопорядку, а совсем иные чувства. — Для тебя, Соловей, сделаю, — знакомец дружески бросил руки на Гришины плечи, — для другого бы ни за что, а для тебя сделаю. Он глянул на свои массивные дорогие часы: — Время — деньги, — изрек, — меньше часа осталось. — Только помни, я не фраер, мне приглядеться надо. Втихую глянуть. Не продашь? Искреннее возмущение вызвал этот вопрос. Гришин собеседник сказал гордо: — Ни разу в жизни не ссучился! Нипорт вспомнил прежние контакты и засмеялся. Но выбора не было. И они пошли. Дворник Григорий Нипорт имел достаточно времени, чтобы читать прессу. "Огонек" и "Крокодил” были, можно сказать, настольными журналами, и именно из них дворник почерпывал сведения о современной мафии и крупных рэкетирах. Описания их были так образны и красочны, что Гриша плевался, представляя, сколько слабых и сильных умов планировали стать героями подобных очерков. Так мужественно и красиво выскакивали из заграничной марки машин "шестерки" и "боевики", замирали за колоннами злачных мест, и вот появляется ОН — лидер, мафиози, заправила! Вальяжный, всесильный, богатый. Свято соблюдая тайну имени, трепетно брал у него интервью очередной журналист, а мафиози-лидер снисходительно делился своими мыслями о государственных проблемах. Вот это жизнь, вот это кипень! Конечно, случалось, что лежали на асфальте опрокинутые розыскниками новых отделов рэкетиры, но лежали-то как! Среди толстых пачек купюр, возле новеньких "тачек”. И журналы предупредительно разъясняли: им помогут и в местах отдаленных, не оставят заботой. А главное — "закон Омерты”. Он действует безотказно, обет молчания обиженных мафией. Закон Омерты верховенствовал над всеми другими и делал бессмысленными потуги розыскников постоянных, временных, новых и старых служб. Потому что на смену уложенным на асфальт вставали новые и новые боевики, порождаемые этим страшным законом. Да и как не встать, если с плохо скрываемой завистью рекламировались их дневные доходы, равные тем, за которые дворник Гриша, имеющий среднее специальное образование, ломался год. Гришина закаленная душа давно маялась от всех этих мыслишек, но, успокаивал он себя, приходят же подобные мысли и другим, облеченным властью! Что-то должно измениться. Время шло, но ничего не менялось. Ожидая увидеть расхожую картину сходки, Нипорт глубоко заблуждался. Не было парадного подъезда, не суетились боевики в спортивной форме. Просто за столик Гриши подсел низкорослый красивый парень и, поглаживая массивный золотой перстень, занимавший целую фалангу мизинца, коротко спросил: — Сколько? Гриша и сообразил не сразу. — Чего? — переспросил он, и парень засмеялся: — Бабок, говорю, сколько? Во что себя ценишь, Соловей? — Тебе не купить меня, рыжих не хватит, — рассердился Гриша, поняв, что знакомец-таки его заложил, не дал присмотреться. — Да ладно, — миролюбиво сказал парень, — будет ломаться. Называй цену. Гриша встал, сказал с тихой злобой: — Передай кому надо: "Соловей поет недолго. Успевай слушать. Не успеешь — жалеть будешь, но поздно”. Понял, шестерка, по-здно! И вышел. Дальше все было делом техники, а ею Нипорт владел безукоризненно. Он смеялся в душе и даже злился: ну конспираторы, ну дилетанты! Наглый хвост несут, как осенняя лисица! Смеяться смеялся, но понимал с тревогой — не опасаются. Ни его, ни других. Почему? Видно, крепкой была крыша. И тихо ахнул у знакомого дома: капитан Волна был кругом прав! Нипорт наблюдал за подъездом, пока из него не вышли какие-то рабочие с носилками, полными мусора, видно, где-то шел ремонт. Вслед за ними выскочил парень, направился к автобусной остановке, где стоял Гриша, и тот сел в подошедший автобус, решив, что на сегодня довольно и Антон Петрович Волна уже изнывает от неизвестности.Гусенков
И так было плохо, и так нехорошо. Жизнь Владимира Ивановича, в общем-то законопослушного гражданина, приобрела зловещий смысл. Он не видел никакого выхода из создавшегося положения. Одна маленькая ложь породила другую и теперь, разрастаясь, как опухоль, опутывала все его существование. Ну ладно, он струсил — а кто бы не струсил, хотел бы он видеть? И, как велено было, сходил в прокуратуру. Выполнить это было для него проще, чем новое задание. Как, ну скажите, можно попасть в поддыховский кабинет? Он еще не отошел от первого страха, и, пожалуйста, новый! Приказ был безапелляционным, тон говорившего не допускал возражений. Значит, опять следовало подчиниться, изыскивать способ забрать из кабинета председателя установленый там диктофон. Легко сказать: изыщите возможность! Работать Гусенков уже не мог, сидел, бессмысленно глядя перед собой, так что вошедшая бухгалтерша участливо спросила: — Не приболели, Владимир Иванович? Или случилось что? Гусенков отмахнулся, не до бесед ему было. Обдумывал. Ближе к вечеру, захватив с собой папку для бумаг, на негнущихся от страха ногах пошел к Поддыхову. Новая секретарша встала ему навстречу — не успела еще привыкнуть к почестям, вежливая. — У Романа Григорьевича посетители, подождите, немного. Гусенков прислушался: в кабинете шел громкий разговор. Секретарша занималась своими делами. И Гусенкова осенило: вот как он сделает! Незаметно положив на невысокий шкаф свою папку, он постоял несколько секунд, затем громко сказал секретарше: — Я позднее зайду. Не поднимая головы, она согласно кивнула. Он вышел. И начались новые муки. Никогда не знал Гусенков, что может так образно мыслить. Ясно, как в цветном кино, видел он, как человек, называвшийся Гусенковым, крадучись входил в приемную, якобы, за папкой, нечаянно забытой здесь, потом тихо открывал дверь в кабинет, на цыпочках крался к столу председателя, склонялся к маленькой тумбочке. Дальше картины варьировались. То представлялось, что он благополучно забирает аппарат и уходит. Короткая эта и отрадная картина немедленно перечеркивалась другой: из всех углов кабинета выходили суровые люди с черными пистолетами. Так ясно представлял это Гусенков, что запястья ломило от наручников, и он начинал растирать оставшиеся недавние следы на руках. Господи! Да за что же такие ему муки, за что? Как бы то ни было, время шло, рабочий день закончился, Позвонив в кабинет и приемную, Гусенков довольно просто выяснил, что все ушли. Теперь надо стать артистом. Запасной ключ от дверей есть у вахтера. Скрыв страх маской озабоченности, Гусенков побежал в проходную. — Папку с бумагами забыл, а они так рано ушли, — торопливо объяснил вахтеру, — давай ключи, я мигом, заберу только. Вахтер поворчал для порядка, а идти с Гусенковым — на это и был расчет — поленился. Да и пост оставлять нельзя. — Нарушаю я, — укоризненно сказал он Гусенкову, а тот приплясывал на месте от волнения. — Должник твой буду, с аванса бутылку поставлю, так и знай — ответил Гусенков сразу подобревшему вахтеру и получил заветную связку. Складывалось все на редкость удачно, делом нескольких минут было пробраться в поддыховский кабинет. Трясущимися руками Гусенков отодрал черный брусок с рифленым кружком посередине, сунул в карман пиджака. Простота операции была, конечно, кажущейся. Когда наконец Владимир Иванович вышел на улицу, ноги его опять были негнущимися и сердце мелко колотилось под самым горлом. На скамейке возле проходной сидел рядом с вахтером Злоказов и — вот же как оправдывается человеком фамилия — подозрительно глянул на Гусенкова. — Откуда костыляешь, Володя? Что это у тебя с ногами? А морда-то, глянь, черней земли! — Сердце пошаливает, — Гусенкову и напрягаться не нужно было, чтобы изобразить страдание. — Так жми домой, чего ошиваешься здесь допоздна, — не то посоветовал, не то спросил Злоказов, провожая начальника цеха взглядом. Под этим взглядом словно по угольям прошел Гусенков проходную и, едва оказался за забором, новая печаль одолела: кому и как передать диктофон. По телефону сказали, заберем. Когда и кто? Страшно нести домой эту вещицу, страшно носить при себе. Придут домой? Как в прошлый раз? Гусенков вздрогнул и поежился: не хотелось ночного визита. Подумалось вдруг: а если?.. Но даже додумывать побоялся. Кому жаловаться, куда идти, если сама милиция… Нет, так рисковать нельзя. Если даже его мучителей разоблачат в конце концов и они его выдадут, что ему грозит? Тюрьма? Да лучше тюрьма, чем могила! Тот утренний лес и теплый запах сырой земли были свежи в памяти и делали угрозы реальными. Нет уж, лучше тюрьма, там все же есть охрана, а здесь он совсем одинок и беззащитен. Обуреваемый грустными мыслями, Владимир Иванович брел по знакомой дороге, направляясь к троллейбусной остановке. Летний вечер, окраина, безлюдье. Только у перехода, ожидая зеленый свет, стояли несколько прохожих, и Гусенков остановился тоже. Загорелся желтый сигнал, прохожие заторопились, а дисциплинированный Гусенков помедлил, дождался зеленого и шагнул на проезжую часть. Ничего он не видел, сознание уловило только визг тормозов, затем он почувствовал сильный небольшой толчок и поехал по асфальту боком, пачкая серый свой костюм и в кровь сдирая ладоци. Сверху наваливалось что-то грузное, живое и стонущее. Когда остановилось движение непослушного тела, Гусенков увидел, что прямо на нем лежит молодой парень в голубой рубашке с разодранным коротким рукавом, под которым сплошной кровоточащей ссадиной алело плечо. Гусенков попытался вскочить, но мешал парень, и Владимир Иванович, словно червяк, стал выползать из-под тяжелого тела. Парень зашевелился тоже, но, как показалось Гусенкову, с ним расставаться не спешил. Вокруг собирался народ, и парень хрипло крикнул в толпу: — Зовите милицию, задавили! Гусенков опять попытался подняться и теперь уже окончательно понял, холодея не от того, что уже случилось, а от того, что будет: парень незаметно держал его, не давая встать. Что такое? Кто это? Что сделали с ним? Что собираются делать? Вопросы проносились в голове Гусенкова, и ему казалось, что давным-давно он лежит на пыльном асфальте под любопытными взглядами любителей острых ощущений. Лежит давно и будет лежать всегда, потому что ни-че-го не зависело от его воли. Совсем ни-че-го. "Диктофон”, — пронзила вдруг новая мысль, он судорожно дернул руку к карману, снова почувствовал сопротивление и понял: не сможет ни достать, ни выбросить злосчастную машинку. Если бы и достал, как избавиться от нее на виду у людей? Владимира Ивановича охватила апатия, голова закружилась от запаха свежей крови — он не понял, своей или чужой. Гусенков потерял сознание и уже не слышал, как приехали машины "Скорой” и милиции, как бережно уложили его на носилки, а рядом с носилками сел тот незнакомый парень, и левая рука у парня непослушно висела с нелепо изогнутой кистью, с которой крупными яркими рубинами капала кровь. Гусенков очнулся только в больнице. В двухместной палате, где он оказался все с тем же парнем, Владимир Иванович молча выслушал рассказ о том, как парень буквально вытолкнул его из-под колес машины, которая скрылась и не установлена. Выслушал также молча дельный совет, подкрепленный намеком на связку ключей, на экскурсию в поддыховский кабинет и на содержимое кармана, изъятое в больнице при осмотре одежды раненого. Гусенков был трусом, но глупым не был. Он попросил у парня бумагу — случайно оказалась, сказал тот, подавая стопку белых листков — и написал все, что знал. От начала и до конца, едва не ставшего кончиной.РОЗЫСК Глава 13
Филиал кооператива "Дружок"
Время делу не помеха. Уже смеркалось, когда к массивным железным воротам, венчавшим высокую ограду, подъехал "жигуленок”, по-женски кокетливо разукрашенный мыслимыми и немыслимыми атрибутами. Двойные фары, молдинги, затемненные дымчатые стекла и ладонь на заднем стекле с предостерегающе поднятым пальцем, который при движении покачивался. Из машины вышла средних лет спортивного вида дама, следом выпрыгнула девчонка лет восемнадцати с маленьким пудельком на руках. Аккуратно постриженный серебристый пудель с любопытством, как ребенок, поводил головкой, оглядываясь кругом. За рулем остался сидеть мужчина в синем спортивном костюме фирмы "Адидас". Женщина нажала кнопку звонка, подождала немного, затем прижала кнопку решительно и надолго. Девушка с собачкой стояла рядом, мужчина поглядывал на ворота из открытого окна машины, и лишь когда послышался за оградой шум, свидетельствующий, что звонки достигли цели, мужчина вышел, хлопнув дверцей машины, встал рядом с дамами — на голову выше, ладный, с крутыми плечами. Приоткрылась калитка, троица прошла за ограду. Усадьба была, как видно, из старых. В глубине стоял дом, стеклянной новой галерейкой соединенный с узким длинным новым же помещением — там располагались вольеры. Открывший калитку человек одет был в комбинезон, возраст имел довольно солидный. — Мне нужен Олег Петрович, — заявила дама решительно, — только он сам. — Он подойдет сейчас, — ответил старик, — у вас пудель? Хотите оставить? Надолго? Вопросы остались без ответа, дама лишь дернула плечом. Старик замолчал тоже, отошел к вольерам, открыл одну из дверей, и тотчас к сетке бросилась огромная овчарка. — Тихо, Рексик, — тихо, — ласково сказал старик и погладил сетку. Пес завилял хвостом, сел, поглядывая на старика. Наблюдая за этой картиной, посетители и не заметили, откуда вдруг появился молодой здоровяк в синем "Адидасе”, как две капли воды похожем на костюм водителя "Жигулей”. Хозяин глянул дружелюбно и даже весело. — Приветствую всех, — сказал он, подошел к девушке, указательным пальцем погладил аккуратную головку пуделя, — это ко мне постоялец, правильно я понимаю? — Да-да, — поспешила ответить дама, — нам дали ваш адрес. Понимаете, у нас путевка за границу — я, муж и дочка — все мы уезжаем. А Робин Гуд, бедняжка, визу не получил, — она засмеялась, улыбнулся и хозяин. — Нет проблем, — ответил он, — пройдемте в дом, оформим, так сказать, поступление. — Я хочу посмотреть собак, — заявила девица, передавая пуделька матери, — пусть мне покажут, как они тут содержатся. — Семеныч, — окликнул хозяин старика, — покажи девушке наше хозяйство. Кроме вивария. Туда вам нельзя, — объяснил он девушке, — там больные животные, зрелище не из приятных. — Все равно хочу посмотреть и там, — настаивала девица. — Туда нельзя, — хозяин был непреклонен и отвернулся к даме, показывая, что эта часть разговора окончена, — пойдемте. Мужчина остался во дворе. Девушка и старик, разговаривая, стали открывать клетки с животными. Видно было по всему, что собаки, самые разные, старика хорошо знали и не боялись, помахивали хвостами, приветствуя его, и он ласково разговаривал с ними. Животных было немного, не больше десятка, часть клеток пустовала. — Это все помещение? — спросила девушка. — А где же… виварий? — Виварий в подвале и туда нельзя, хозяин не велел. — Не имеет значения, — капризно сказала девица и уверенно, словно бывала здесь уже не раз, направилась по галерейке к небольшой обитой белой жестью дверке. — Нельзя, нельзя, — заторопился старик. Девушка уже толкала дверцу, но безуспешно. Дверь была заперта, и старик облегченно сказал: — Вот видите… — Вижу, — в голосе девушки зазвучали требовательные нотки, — пока не откроете и не покажете мне, что там, я Робин Гуда вам не оставлю. Может, там вы собак мучаете. — Да что вы такое говорите, барышня, — возмутился старик, — как можно мучить скотину. Больные там, безнадежные собаки, не выбрасывать же их! Можно сказать, и так держим из милости. — Почему же их не усыпить? — Да где лекарства-то набрать столько? Их со всей округи несут, увечных разных. Где вылечим, где не сможем — собаки тоже смертны, барышня. И не надо тревожить их. Девушка в последний раз плечом толкнула дверь, и старик поразился настойчивости и силе девчонки. Однако же дверь не шелохнулась, девица вышла во двор, к водителю, который между тем с любопытством оглядывал все вокруг, и старик сказал ей вслед с явным неудовольствием: — Шли бы вы в дом. Хозяин не любит, чтобы по усадьбе ходили. Бесцеремонные посетители оставили без внимания замечание старика. Переговоры в доме тоже затягивались. Дама, не спуская пуделя с рук, долго рассказывала, как трудно достать семейную путевку за рубеж, потом подробно описала свою любовь к серебристому Робин Гуду и ответные собачьи чувства, мимоходом посмеялась над забавными эпизодами из жизни любимой собачки, затем перешла к детальному изложению привычек и меню своего любимца. Она словно не замечала, что учтивость на лице Олега Петровича Чулкова, председателя кооператива "Дружок*, сменилась вначале нетерпением, а затем откровенной злобой. Нервно вздрагивала заброшенная на колено нога председателя, пальцы рук барабанили по кожаным подлокотникам дорогого кресла. Дама все говорила и говорила, наконец Олег Петрович не выдержал. — Вы собачку оставите сегодня?.. — Что вы, что вы, — перебила его посетительница, — как можно! Сегодня мы приехали узнать об условиях, посмотреть, прицениться, так сказать. Вы же понимаете, что для меня значит Робин… И она заговорила опять. Тогда хозяин встал: — Извините, — сказал он вежливо и твердо, — у меня дела. Надумаете — привозите собачку. Приму. А сейчас — извините. Он проводил обескураженную даму до двери, хотел вернуться в дом, но не увидел сопровождавших даму там, где их оставил — у входа. Олег Петрович вышел вслед за женщиной, огляделся. Старик стоял у открытых вольеров и, когда глянул на него хозяин, махнул рукой, показывая за угол дома, где виднелся край кирпичного новенького гаража. Быстрым шагом Чулков направился туда и увидел, что назойливые посетители стоят у гаражных ворот, рассматривая запоры. — Извините, — решительно и зло сказал хозяин, — кажется, вы злоупотребляете гостеприимством. Мне пора по делам, давайте прощаться. Девушка засмеялась, мужчина же молча пожал плечами. Незваные гости, вдруг ставшие Олегу Петровичу неприятными, удалились. Серебристый пудель Робин Гуд, как показалось Чулкову, из-за плеча хозяйки смотрел на него насмешливо.Капитан Ермаков
Летний жаркий день закончился, и приятная прохлада стояла на опушке хилого лесочка, где Ермаков ожидал товарищей. Потрепанный "жигуленок”, выхлопотанный Тайгиной в безраздельное пользование розыскника, надежно укрывался от посторонних глаз. Капитан нетерпеливо поглядывал на часы. Поистине, ждать да догонять — самые отвратительные занятия. Не глубокой же ночью входить в дом к Чулкову, если даже надо задать ему очень важные вопросы. Этих вопросов накопилось несколько, но Ермаков напрасно гонялся по городу за председателем кооператива "Дружок”. Не пересеклись их пути до самого позднего вечера, как, впрочем, и с другим нужным розыскнику человеком — Кобриковым Сережей, которого остроязыкий Злоказов назвал короче — "змей”. Где был тот Змей — тоже неизвестно. И что "Змей”, что "Дружок” — оба были позарез нужны капитану. Спросить бы у Олега Петровича Чулкова, каким это странным образом три пальчика с левой его руки оказались на машине Слонимского? Комфортабельно так разъезжали отпечаточки — сразу три — и у левой кромки крыши… Словно это он, председатель "Дружка”, сидел за рулем и небрежно так, лихачески, держал правую руку на руле, а левой придерживался за кромку, чтобы продувало ветерком. Во всяком случае, именно так объяснили эксперты механизм образования отпечатков. И на старуху бывает проруха — так, что ли, сказать Чулкову. Отпечатки пальцев его сохранились в картотеке после того, как он сам, Олег Чулков, выступал потерпевшим и кипел от злобы на воров, почистивших его врачебно-ветеринарный кабинет. Тогда он еще и не думал о кооперативе, а ворам что — их поймали быстро. Искали, говорят, наркотики у Чулкова. Тогда, чтобы исключить хозяина, взяли у него отпечатки, он охотно принял эту процедуру, зол был на воришек. Правильно злился Олег Чулков и поступил правильно. Сегодня, когда эксперт сказал Ермакову о безусловном совпадении отпечатков, капитан даже руками прихлопнул — молодецки так, ухарски, чем немало удивил криминалиста, знавшего, что Ермаков чрезвычайно сдержан и скуп на слова и жесты. О привычках капитана эксперт знал, но не ведал он о многих других вещах — о морбитале, например, о квалифицированных инъекциях, о белых халатах… Каждому в розыске полагалось знать свое. Только капитан Ермаков, главный розыскник в темном двойном убийстве, собирал по крохам все знания и просеивал их через мелкое сито опыта и интуиции. Отделял зерна от плевел. Вот и накопились вопросы. Пальчики — пальчиками. А морбитал? А дружеские встречи с майором Мастыриным, которые на сегодня скрыть уже нельзя? И тот акт на списание, что подписал Мастырин, когда повязали Шапиро и изъяли наркотики из 47-й аптеки, от которой несчастный наркоман далеко отойти не успел — горела, душа, требовала дозы. Про акт — это, конечно, вопрос особый, им Тайгина займется. А вот про наркотик плюс морбитал, положившие конец безобиднейшему существу — секретарше Росиной, можно уже спросить. Вполне можно. Ну, и еще кое-что. А Кобриков-Змей. Тому ответить нужно не на один и не два вопроса. Только гусенковская исповедь чего стоила! Ответить-то надо, но чтобы ответ получить — хорошо бы спросить. А чтобы спросить — разыскать — вот первоочередная задача. Ожидание становилось мучительным. Но, как кончается все, закончилось и это бездарное времяпровождение. Сверкнули на проселке фары, веселый женский голос негромко окликнул: — Толя! Ермаков вышел к машине, возле которой уже стояли в полном составе, включая собаку, настырные гости Чулкова. — Ну как? — нетерпеливо спросил капитан. Начался доклад. Любопытство владельцев собаки не было праздным, и Ермаков услышал, что Чулков на месте и куда-то спешит. Что в так называемом виварии животных скорее всего нет. Что замки на дверях гаража похожи больше на запоры в Швейцарском банке и, наконец, Чулков в доме не один, а с неизвестным мужчиной, поскольку не со стариком же сторожем он распивал дорогой коньяк, о чем свидетельствовали не убранные с мраморной ступеньки камина бутылка и пара фужеров. Здесь же, на капоте машины, лейтенант Серебряков нарисовал план усадьбы и отметил, где наиболее безопасно можно в нее проникнуть. Надевая привезенную Ермаковым пятнистую куртку поверх своего щегольского "Адидаса”, Серебряков пошутил: — Проведем полную рекогносцировку на местности. — Проведем! — весело ответил Ермаков. — Теперь по коням! — На самое интересное никогда не возьмут, — вздохнула девушка, глядя вслед удаляющейся машине Ермакова, — училась, училась… Одних приемов сколько… — Возьмут еще, какие твои годы, — ответила старшая, прижимая собаку, — даже мой Робин в операциях участвует, а ты у нас — лейтенант! Давай-ка, лейтенант, садись за руль. У меня от болтовни с Чулковым даже голова кружится… План Ермакова был прост. Дневные розыски, он был уверен, дошли до Чулкова. И нет ничего особенного в том, что розыскник приехал поговорить с ним. Ничего особенного. На звонок долго никто не откликался, потом знакомый по рассказам товарищей сторож приоткрыл калитку ровно на ширину массивной цепочки. — Вам кого? — спросил нелюбезно. — Олега Петровича Чулкова мне повидать, — сказал розыскник, но сторож ответил все так же неприветливо. — Время позднее, доктор не принимает. Приезжайте завтра. Пришлось Ермакову достать удостоверение. — Уголовный розыск, — только успел сказать он, и калитка захлопнулась. — Сейчас хозяина позову, говорите с ним, — послышалось из-за ограды. Обескураженный капитан остался за воротами и несколько минут топтался на месте в ожидании дальнейших событий. Потом послышались шаги, властный окрик: "Сидеть!", и калитка распахнулась. Капитан вошел. Олег Чулков, личность Ермакову известная, стоял, широко расставив ноги и покачиваясь с пятки на носок — поза довольно вызывающая. На шаг впереди, сторожко поставив уши, сидела черная овчарка, неотрывно глядя на гостя. Капитан пошел было по дорожке к Чулкову, но овчарка беззвучно ощерилась, собрав морщины на огромном носу. Собачья поза доброго не сулила, хозяин молчал. Долго так продолжаться не могло. И Ермаков взорвался. Точнее, это только он знал, что взорвался, что обычная выдержка изменяет ему, розыскнику со стажем, на плечах которого висели два нераскрытых убийства, два покойника еще не были захоронены и словно ждали отмщения прежде, чем примет их навсегда мать земля, а он, капитан, носится как угорелый, чтобы приблизить отмщение, ищет, не может найти, и сейчас вот стоит перед издевательски молчащим вальяжным типом, запнувшись о живую его и грозную оборону… Капитан знал, что завелся. Чулков этого не знал. Левая рука капитана чуть шевельнулась в кармане куртки, Чулков проследил взглядом и увидел, что тонкая ткань обтянула ствол. — Я с левой стреляю, Чулков, побереги собаку, — сквозь зубы промолвил розыскник, и тогда Олег Петрович понял: не шутит. — Да что вы, — деланно удивился Чулков и крикнул овчарке: "На место!” Послушная псина нехотя отошла к вольерам и легла возле раскрытой клетки, вывалив из пасти длинный, как алая лента, язык. — Проходите в дом, гостем будете, — продолжал Чулков, — у меня коньячок отличный. Деланно-дружелюбный тон, фамильярность, хотя знакомы они еще не были, не давали улечься раздражению капитана. — Давайте не будем, — сказал он Чулкову, но тот постарался не заметить недовольства гостя, легко взбежал по ступенькам, предусмотрительно распахнув дверь. В просторной уютной гостиной Ермаков допустил первую промашку: не выдержал, глянул на каминную полку. Там было пусто. Чулков заметил взгляд розыскника, что-то мелькнуло в его глазах, он усмехнулся, усмешка перешла в улыбку: — Как говорят в романах: виски, джин, коньяк? Или все же водка лучше? — Давайте не будем, Чулков. У меня к вам пара вопросов. Передавали, поди, что я вас разыскиваю? Ермаков я, капитан Ермаков. — Что вы, капитан, кабы я знал! — ответил Чулков, но розыскника не проведешь на такой фальшивке. Ермаков, однако, не стал возражать. Какая теперь разница — знал, не знал. Важно, что встретились. — Так вот, пара вопросов у меня, и не будем тянуть время. — Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем, — изрек Чулков назидательно, и капитан засмеялся: — По вашей даче не скажешь, что у вас много времени и мало денег. — Во-во! В этом-то все дело! Потому и поймать меня сегодня не могли. Я и сам себя порой изловить не могу — дела грызут, как собака. Опять раздражающе игриво летели слова, а истинный смысл их витал в воздухе, словно изыскивая возможность испариться совсем или примкнуть, наконец, к той или другой стороне. К какой вот только? — Слонимского вы знали? — Покойничка? Кто же его не знал? Известный был человек, царство ему небесное, если таковое имеется. — А машину его? — Девятку-то синюю? Как же, знал и ее. Вы понимаете, Жека любитель был… Такой… — Чулков щелкнул пальцами под горлом, подмигнул игриво, — иногда заскакивал ко мне с дамочками. Ну, я ведь холостякую, мне это трын-трава — я моральные его качества имею в виду. Другой раз так назюзькается, что и его, и даму приходилось самому отвозить. — Как отвозить? — не смог скрыть разочарования Ермаков и увидел искорку удовлетворения в глазах Олега Петровича. — Да так и отвозил, — ответил он спокойно, — у меня в городе квартира, вы же, наверное, знаете. Отвезу их и дома ночую. А Жека с дамой кувыркаются у себя. Кувыркался, если быть точным. Итак, товарищ капитан, один вопрос отпал. Самый козырной, как думалось. Отпечатки пальцев на машине могли возникнуть, когда Олег Чулков совершал акт милосердия и перевозил гуляку-юриста с дачи домой. Свидетелей Чулков найдет, если уже не нашел. Да может так оно и было? Почему это вы, капитан, козырей объявили до начала игры? Получайте теперь обувку. По первому вопросу обул вас кооператор, надо честно признать. Поскольку не скрыл разочарования розыскник, повеселел Чулков. Развязнее стал, увереннее. — Так как насчет спиртного? — спросил снова и, не дожидаясь ответа, достал коньяк: — Вы как знаете, а я приму. Это не допрос ведь, беседа? Так? Время не рабочее, место тоже. Так я выпью… — не спросил, а констатировал и залпом опрокинул приличную дозу, не обращая внимания на то, что Ермаков протестующе встал. — Ладно, больше не буду, — сказал Чулков, — валяйте дальше, какие еще вопросы. — Да какие там вопросы, — вынужденно заскромничал розыскник, — ерунда, не вопросы, — говорил и противно было слышать самому. Начал-то славно — пушкой пригрозил, а теперь вот извивается… "Кругом шестнадцать”, — так бы сказал Антон Волна, если бы увидел все эти кульбиты. Не так прост оказался Чулков, совсем не так прост И как холодной водой окатило капитана — а вдруг это ложный след! Подвела интуиция. Тоненькие ручейки причастности были случайными и не стекались в реку преступления. Весь этот день розыскник получал данные, в той или иной мере выходящие на Чулкова. Но вот, пожалуйста, Чулков легко и непринужденно объясняет то, что капитан про себя уже громко именовал уликами Ложный след — столько трудов, столько задействовано людей, а след оказывается ложным! — О морбитале хочу спросить и конец разговору, — сказал капитан без подъема. — Во бабы! — возмутился Чулков. — Ну трепло! Свяжись только с ними! Ну, телка, ну погоди, Пеструха! Понимаете, очень нужно было. Нам этот препарат получить негде, а тут случилось два подряд несчастья у приятелей — они у меня все собачники, сами понимаете. Одну овчарку придавило машиной. Перелом позвоночника, паралич. Страдала бедняжка ужасно, а хозяин с ума сходит. Пришлось попросить у Пеструхиной морбитал. Вторую историю рассказывать противно, но коли хотите, то расскажу. Ермаков молча кивнул. Надо выслушать, если даже противно. — Приятель жениться собрался, — продолжил Чулков, теперь уже посмеиваясь, — а у него такая была сучонка злобная! Невесту покусала. И смех, и грех. Невеста поставила ультиматум: или я, или сучка. Представляете?! — Олег Петрович хохотнул, потом с притворной печалью вздохнул: — Победила невеста. Собачка была обречена, а хозяйская любовь к ней выразилась в желании отправить ее на тот свет непременно безболезненно. Только так. Вот, собственно, все секреты. А Пеструхина, телка, обещала молчать! Олег Петрович снова принялся возмущаться, Ермакову уже показалось, что качели, только что стремительно бросившие его вниз, вновь поднимаются — поднимаются, набирая скорость и высоту. Ложь!. Хорошо разыгранная сцена, где актер фальшивит! Всякой фальшивке есть причина. Тот рыжий доктор Айболит, как он искренне хлопнул себя по губам. — A-а, ч-черт! — так, кажется, сказал он в досаде. — Просил же Чулков! Сейчас Айболит незримо толкнул качели, и капитан Ермаков медленно, но верно стал набирать высоту. И еще не знал Ермаков о том, что в это самое время акции розыска и, следовательно, капитана Ермакова внезапно резко поднялись. Лейтенант Серебряков, сноровисто и бесшумно перепрыгнувший через забор в облюбованном ранее месте, изнывал от желания немедленных и опасных действий. Не отрывая взгляда от ярко освещенного окна дачи, где двигались, то появляясь, то исчезая, главные фигуранты операции, лейтенант попытался оттолкнуть рукой подкатившийся под бок булыжник, но тот не поддавался, а удивленный Серебряков, повернув голову, увидел, что не камень мешает ему, а неслышно подошедший старик — сторож осторожно трогает его носком сапога. Толчок смягчался бронежилетом, который лейтенант надел больше для форса, чем для безопасности. Лейтенант Серебряков в бронежилете был совсем не тот, что без. От изумления лейтенант потерял дар речи, а старик, нагнувшись, сердито прошептал: — Чего разлегся-то, шпион. Тоже мне, сыщик! Давай поднимайся, дело покажу. Там смертоубийство готовится, я этому не помощник. Пойдем, может, парень еще дышит. Что оставалось делать Серебрякову? Он принял решение оставить пост и пойти за стариком. Сообщение об убийстве, готовящемся или уже происшедшем, — он так до конца и не понял — заставило лейтенанта забыть все строгие инструкции. Старик, осторожно ступая, вывел Серебрякова к вольерам, с задней их стороны; они вошли в узкий коридорчик, приведший к началу стеклянной галерейки, что вела к дому. Остановились у обитой белой жестью двери, "виварий”, — догадался Серебряков, вспомнив недавний рассказ девушки. Старик подтвердил его догадку. — Человек там, — шепотом сказал он, кивнув на дверь, — зовут Сергей, бывал здесь часто. Сегодня скандал был у них. Не пьяный скандал, это обычное дело. Серьезно ругались. Выпили они, потом гляжу: хозяин Сережку волоком тащит сюда, в подвал. Называется он у них виварий, а на самом деле — подвал. Ключ у меня всегда — я там шкуры снимал с собачек, — лейтенант невольно вздрогнуп, отшатнулся от старика и жестяной двери, а старик криво усмехнулся: — Живодер, ну и что. Профессия такая. Да что ты слюни распустил?! — рассердился вдруг он, — человек, говорю, там. Живой, нет ли? Звуков не подает уж который час — тишина мертвошная. Боюсь я, — вздохнул он, — выручай, парень. Я тебя признал, вечером с бабами ты приезжал. Потому гляжу — на заборе. Понял я, решился. Может, жизнь человечью спасем, а нет, так душу свою не погублю, убийце служить не стану. Ладно собаки, а теперь люди пошли, слыхано ли дело. — Давай ключи, дед, не философствуй, — нетерпеливо потребовал Серебряков, едва дождавшись конца дедовой речи. — Так я ж сказал, что всегда был у меня ключ, а сегодня, как Сергея туда спустил, забрал хозяин всю связку. Разве я тебе не сказал? — удивился сторож. — Тьфу! — в сердцах сплюнул лейтенант. Положение осложнялось еще более. Как же быть? Действовать следовало не медля. — Выведи, дед, за калитку тихонько, я позвоню, Ермакова потребую. — Который в доме? — деловито переспросил дед. — Тот Ермаков? — Давай, давай побыстрее, — торопил лейтенант. Собаки в вольерах, чуя незнакомого, беспокоились, старик ласково успокаивал их. — Что тем за шум? — крикнул из окна Чулков, почуявший неладное. — Да ежик что ли бегает у вольеров, волнует собак. Их нынче, ежиков, полно расплодилось, — громко ответил сторож, и Чулков, успокоенный, отошел от окна. — Не выходи, — шепнул запыхавшийся сторож у самой калитки, когда обогнавший его Серебряков схватился за массивную щеколду, — у него там сигнализация. — Крепость целая! — ругнулся лейтенант, а сторож открыл неприметную бойницу в калитке, сунул туда руку и тотчас же зазвенел, пронзая летнюю темень, заливистый громкий звонок. — Иду-иду, — закричал сторож, затопал ногами по асфальту и через пару минут загремел цепочкой: — Кого надо? Сейчас спрошу, — сказал, не ожидая вопроса, и побежал к дому, шепнув лейтенанту: — Стой пока здесь. Вскоре к калитке подбежал встревоженный капитан. — Что случилось? — спросил чуть слышно. — Сторож сказал, что в подвале, где вольеры, лежит убитый. Зовут Сергей. Чулков его сам туда уволок и ключи забрал. Я был у двери — не подступишься. Что делать будем, капитан? — Пошли, там решим. Ход операции изменяю, — было ему ответом. Чулков ждал их на крыльце, недовольно спросил: — Что, подкрепление подошло? — Подошло, — подтвердил Ермаков серьезно, — вы правы, Чулков. Подкрепление есть и еще кое-что. Сейчас поговорим. Пойдемте в дом, Олег Петрович. Как поется: "И разожгите в комнате камин". Едва вошли, капитан чуть заметно кивнул Серебрякову, тот встал, прикрывая широкое окно. Ермаков остался у двери, и, оглянувшись, Чулков сразу оценил обстановку: — Вы что, ребята? — спросил он. — Чего хотите? Давайте миром… — Ключи, — капитан протянул руку, — ключи от подвала. — Какие ключи? — визгливо закричал Чулков. — Ничего я вам не дам! Милиция! Шантажисты вы! Ответите за все! Сидеть вам по десятке, слово даю! — Чулков кричал, перемежая угрозы нецензурщиной, но ничего не предпринимая. Тянул время, просто тянул время. — Будет, — рявкнул Ермаков, перекрывая чулковские вопли, — давайте ключи от подвала, где убит человек! — У-уб-и-ит?! — Чулков картинно плюхнулся в кресло, поднял вверх руки и внезапно стал совсем спокойным: — Так вы мне еще и мертвеца подбросили? Ну ребята! Ну ухари! Ну класс! Он просто светился от восхищения, прищелкивал пальцами, подмигивал — сам восторг сидел в кресле в образе председателя кооператива "Дружок” Олега Петровича Чулкова. — Ключи, — требовательно повторил капитан, и Чулков посерьезнел. — Ладно, достали. Плачу сто и разошлись с миром. Идет? — Ключи… — закипая, сквозь сжатые зубы сказал Ермаков. — Ты не понял, капитан. Каждому из вас по сто тысяч даю откупного. Ладушки? Он смотрел весело и уверенно, а как же, такие деньжищи! Кто устоит? И поспешил уточнить условия: — Но до утра вы — ни-ни. Утром будет все в порядке. Сейчас я бабки выдам… Чулков направился было к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж, но Ермаков опередил его, загородил дорогу: — Давай ключи, не то возьму сам, — и Чулков, глянув, поверил: этот возьмет. Сузились и потемнели глаза Ермакова, раздулись ноздри тонкого носа, на лбу собрались морщины, а вытянутая вперед рука дрожала от напряжения, от готовности начать схватку. Лейтенант Серебряков неподвижно стоял у окна, внимательно наблюдая за происходящим. Их было трое в комнате, и счет был не в пользу Чулкова. Окинув быстрым взглядом свою нарядную гостиную, Чулков оценил обстановку и вернулся к первоначальной позиции: — Ой, ребята, будете отвечать. А я-то не верил, что главный рэкет — в милиции… Ой, ребята, бросьте эту затею, я не по зубам вам, клянусь! Уйдете сейчас — порядок, промолчу. Не уйдете — пеняйте на себя. Ой, ребята, жалко мне вас, — Чулков причитал искренне, словно обманутая на базаре торговка, и, как хороший артист, сопровождал слова горестными жестами: то всплеснет руками, то схватится за голову, то, согнувшись, хлопнет себя по коленям… артист! Кривляясь, он стоял спиной к лестнице. — Последний раз говорю: давай ключи, — с нескрываемой уже угрозой сказал Ермаков, — кончай спектакль! — На-а тебе ключи, — взвизгнул Чулков, и за спиной мгновенно откинул закругленный край лестничных перил. Грянул выстрел, другой, капитан прыгнул к перилам, но его опередил Серебряков, и вот уже Олег Петрович Чулков, распластанный на ярком ковре, истерично кричит: — Помоги-ите! Вбежал в комнату испуганный сторож, всплеснул руками, потеряв дар речи. Всего-то несколько минут длилась баталия, а Ермаков, защелкнув на руках Чулкова наручники и положив пистолет председателя на край круглого стола, почувствовал вдруг страшную усталость, прикрыл на минуту глаза, пытаясь прогнать эту проклятую слабость и сотрясавшую тело крупную дрожь. Очнулся от хруста, с которым лейтенант Серебряков вскрыл индивидуальный пакет. — Перевязать надо… и жгут, — сказал он Ермакову, и капитан, проследив за взглядом товарища, увидел, что левую кисть уже избороздили бурые дорожки, подтекающие сверху, от предплечья. Боли не было, только по этим тягучим каплям Ермаков понял: он ранен. Взял у лейтенанта бинт, устало сказал: — Зови наших, понятых пригласи. Будем искать ключи и покойничка. Ключи нашлись в заднем кармане щегольских брюк Чулкова, а еще через несколько минут в так называемом виварии, а попросту в добротно отделанном кирпичном подвале обнаружился человек. Сергей Кобриков был связан изуверски, "звездочкой”, находился без сознания. Но был жив и немедленно отправлен в больницу. Ночь сдавала свои полномочия. Наступало новое утро. Рана Ермакова, как определил он сам, была пустячной, пуля прошлась по плечу касательно. Такой раной розыскника из строя не выбить, и Ермаков, не поморщившись, записал подробное заявление председателя кооператива "Дружок” Чулкова, в котором он сообщал, как к нему ночью ворвались работники милиции, угрожая оружием, потребовали двести тысяч, но денег у него таких не было, и он не намерен был потакать рэкетирам, поэтому защищался, стреляя из случайно найденного им пистолета. К его, Чулкова, удивлению, в виварии, оборудованном для безнадежно больных собак, оказался Кобриков Сергей, которого он ранее знал, но не очень. Видимо, это был элемент шантажа. Так капитан и записал: "элемент шантажа”. Олег Петрович выглядел скверно, был бледным и с синевой под глазами. Ну как же иначе мог выглядеть человек, переживший ужасную ночь.СЛЕДСТВИЕ
Глава 14
Такого совещания, как это, я за всю свою следственную практику не помнила. Необычным было все — состав участников, место проведения и поставленные вопросы. В тесной дворницкой квартире Гриши Нипорта собрались все участники ночной операции "Кобра” плюс эксперты — криминалист и судебно-медицинский, плюс общественность, которую представляли Гриша Нипорт и его жена, веселая украиночка Галка. Собственно, это не было совещанием. Собрание единомышленников. ’’Тайная масонская ложа” — важно определил Гриша, вынося из кухни очередную тарелку украинского борща, еще с вечера млевшего в огромной кастрюле. Все засмеялись, но не очень весело, соответственно обстановке. Присутствие каждого было оправданным: даже судебно-медицинский эксперт Шамиль Гварсия недаром ел свой борщ, ему доверили свои раны Антон и капитан Ермаков. Справившись с медицинскими проблемами, Шамиль с притворной грустью сказал, что если бы все человеческие организмы были подобны только что исследованным, ему давно нечем было бы кормить своих детей. — Ох, и влетит вам, заговорщики, если узнает начальство, где вы совещаетесь, — заметил Гриша. — Брось, Гриша, паниковать. Во-первых, рабочий день еще не наступил, глянь на часы,во-вторых, вы пришли проведать больного товарища, — ответил Антон серьезно, а какие тут разговоры вели — нам одним известно. За каждого из вас я головой ручаюсь, тогда как, слышал, вечернее совещание в узком начальственном кругу стало известно преступной группе. Да и сам ты квартирку вычислил — ничего себе, не шершавую. Я протестующе подняла было руку, но капитан отмахнулся — во всяком случае, код операции раскрыт, а это говорило о многом. Конечно, возможно применение техники… Пошли же они на это в поддыховском кабинете… Прокурорский кабинет проверим, это пара пустяков. Но прошла ночь, технику могли убрать. В вашу прокуратуру, Наташа, проникнуть проще, чем в кооперативный туалет, извини за сравнение. На ночь там по-прежнему бабуля остается? Я кивнула. Антон был кругом прав. Он продолжил: — Да и другая техника есть, ребята, мы о ней только слышали, а ее используют вовсю. Ну ладно, — оборвал себя капитан, — хватит нытья. Значит, что мы имеем. Давайте думать вместе. Толя, как Чулков? — Молчит, — досадливо ответил розыскник и поправился: — То есть уперся в версию о том, что мы с лейтенантом его шантажировали и подбросили Кобрикова. При этих словах лейтенант Серебряков возмущенно заерзал на стуле, и Антон засмеялся: — Привыкай, парень, и к такому. Не раз защищать придется и жизнь, и честь. В таком жанре работаешь. — В каком это жанре? — спросил лейтенант заинтересованно, и тут вскочил Шамиль Гварсия, картинно выбросил вперед руку: — В жанре бушующих страстей, дорогой! Мы все работаем в этом жанре! — В жанре бушующих страстей… — задумчиво повторил капитан Антон Волна, — пожалуй, ты прав, Шамиль. Именно такой жанр нам достался для работы. Так давайте по законам этого жанра и стройте свои догадки. Страсти бушуют вокруг золотого тельца. Что нужно Чулкову? Деньги, деньги и еще раз деньги! Чулков ищет объект удовлетворения своей страсти. Сам кооператор, видит, что можно поживиться среди своих. Но он знает, что дельцы от кооперативов себя обезопасили — все или почти все. Остаются трудяги. Поддыхов, например, с его мечтой об аренде обувной фабрики. Но мы уже знаем и часть связей Чулкова — у него нет боевиков, значит, есть надежная и неизвестная нам крыша… — Пока неизвестная, — перебил Волну Нипорт, — наметки-то есть. Зря что ли я по ресторанам шастал! — Остынь, Гриша, — спокойно сказал Антон, — от наметок до дела, ой, как далеко. Толя, сторож у нас надежный? — Да ты что?! — даже обиделся Ермаков. — Мировой мужик. Не он бы, съели собачки Кобрикова Сережу до косточки. Я думаю, такая судьба ожидала Змея. — Кстати, как он? — Без сознания, — ответил Шамиль, — но выкарабкается ваш Змей, гарантирую. Наркотик, который ему введен, известен, меры приняты. Хотя через пять — шесть часов мог быть мертвее мертвого. — Шамиль, когда он может очнуться? — Трудно сказать. Я еще туда заеду, к Змею вашему. Посоветуемся с докторами. Но предупреждаю, после такой дозы возможна амнезия — утрата памяти. Так что это обстоятельство не сбрасывайте со счетов. — Еще не лучше! — недовольно бросил Ермаков. И вновь заговорил капитан Волна: — Ребята, вот какая картина мне представляется. Схематично. Чулков для шантажа имеет крышу в милиции. Поэтому так уверен. Кобриков проворачивает операцию с незаконной продажей бракованных сапог. Чтобы сработал закон Омерты и Поддыхов молча выдал деньги, не обращаясь за помощью, нужна им эта операция. Деньги, мол, для милиции. Кто-то видел меня с Росиной. Послали к ней Слонимского на разведку — и что-то сорвалось Росину убили. Не думаю, чтобы убийцей был Слонимский, действовали другие. Я, видимо, знаю их — говорил вам об этом, — потому от меня рванули на машине юриста, потому и убрать хотели. Кто это? Кто? Мастырин? Майор Ма-стырин — хладнокровный убийца? Но почему он спокойно после убийства Слонимского разъезжает на его машине? Ему бы близко не подходить к ней, на пушечный выстрел! А он разъезжает! В полной своей майорской форме и с Ко-бриковым! Не вяжется ребята, ох как не вяжется!.. Мастырин не так глуп. Но, как нарочно, высвечивается. — Антон, а ты не переоцениваешь Мастырина? — подал голос Ермаков. — Вспомни наркотик. Это же факт — Мастырин подписал акт на уничтожение наркотика, а кто и когда его уничтожил — неизвестно. А потом он всплывает при убийстве Росиной и сейчас вот — у Коб-рикова. Еще у Чулкова обыска не было, может, там чудеса в решете… — Во-во, — оживился Антон, — ты как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Не было обыска у Чулкова. Может, у него этих наркотиков навалом, а сколько Шапиро их из аптеки взял? С гулькин нос. А с Мастыриным мы не говорили, он, возможно, объяснит все. — Не угодишь тебе, — обиделся розыскник, — то ты против Мастырина, то его защищаешь. — Да не я его! Обстоятельства. Ладно, Толя, — примирительно сказал капитан, — давай дальше. Почему убрали Слонимского? Думаю, причина та же — он не был участником шантажа, но знал кого-то из шантажистов. Знал! И доверия к юристу не было! Опять Мастырин, Господи, твоя воля! Вроде бы случайно, Наташа выясняла это, но все же его направили на вскрытие! И опять — на следующий день он разъезжает… какой-то замкнутый круг! Антон замолчал и все мы примолкли, задумавшись. Одно звено мы не могли нащупать, одно важное звено, которое связало бы события в прочную цепь, объясняя весьма странное обстоятельство: в преступлении участвовал милицейский майор. — Антон, — нарушила я молчание, — а что, если позвать сюда Мастырина? — Ты что, Наташа! — вскинулся Ермаков. — Подумай, что ты предлагаешь! Мастырин — старший по званию. Видишь, Антон сомневается. Да этот Мастырин всех нас к ногтю! Делу не поможем, а напортим только. Ведь если он с рэкетирами связан, то немедленно встанет в позу. И чем мы ответим? Какие у нас доказательства? — Э-э, дорогой, волков бояться — в лес не ходить, — подал голос Шамиль Гварсия, — если честный человек — поймет, если дрянь человек, что ж, сражайтесь… — А ведь прав Шамиль, — сказал Антон весело, — если честный — поймет, а если запачкан хвост — будем считать, что перчатка брошена. Не забывайте еще, что Гусенков на него не среагировал, это а-а-громнейший плюс. Или минус? — Антон засмеялся: — Надо же, радуюсь, что не опознали Мастырина! Опознал бы его Гусенков и дело с концом. А я рад, что не он вывозил этого гуся. Честное слово рад. Слушайте, а может, работает кто под нас?! — Кто работает под нас? — возразил Ермаков. — Ты же слышал: они знали кодовое название операции! И этот погром у Наташи… Впервые вмешался Игорь: — Можно гадать сколько угодно, ребята. Примите совет: зовите сюда Мастырина. Состав совещания, конечно, должен быть меньше. Мы с Шамилем уходим. Наташа, нужно еще раз побывать у Росиной — очень мало материала для экспертиз. И все вы забыли Гришу. Мы как по команде повернули головы к Грише Нипорту, скромно сидевшему возле кухонной двери. Гриша встал: — Я сегодня, братцы, того майора вам представлю, или я не буду Гриша Нипорт! — сказал он торжественно. — Но сначала, верное дело, расходитесь все, а Антон с Ермаковым, да еще Наталья Борисовна поговорите с Масты-риным. Что он, съест вас, что ли? А я на кухне посижу, послушаю тоже. Все согласились с предложением Гриши. Все, в том числе и я. Но когда капитан Ермаков уже направился к двери, намереваясь ехать к Мастырину, меня словно подбросило что-то. — Стоп, капитан! — сказала я. — Мы не имеем на это права. — Товарищи мои удивленно уставились на меня, но я сделала вид, что не замечаю этого, — действовать мы будем законно. Я открыла свой саквояжик, достала повестку, заполнила ее и подала Ермакову: — Майора Мастырина я допрошу в прокуратуре. Вызов на девять тридцать. Идет? Молчание было мне ответом. Сама предложила, сама и разрушила план. В общем, мы все остались недовольны ДРУГ другом. Прокурор только всплеснул руками, услышав о событиях в моей квартире, больше всего поразило его сообщение о том, что преступники осведомлены о ночной операции. — Этого еще не хватало, — сказал Буйнов печально, — доработались. Нужно принимать срочные меры. — Вы же принимаете. Временные. Потом, рабочие дружины тоже. — Эх, милая моя. Меня уже за эти меры обули не раз и не два. Некомпетентность, она, брат, воюет хорошо, жаль, что не с тем, с кем надо. Понять бы давно пора, что в нашем деле нужны "профи”, как презрительно мы называли специалистов. Все остальное — милостыня бедным. Возьми рабочие эти дружины. Психологически не подготовленные, не знакомые с тонкостями права и при этом агрессивно настроенные… Они кончат плохо, если будут действительно массовыми: сращение с преступностью или грубое попрание законности. Третьего не дано. В массе, конечно. Исключения будут. Но — исключения. Я слушала молча, соглашаясь полностью. Мы в своем кругу не раз говорили об этом, но кто нас слушал? — мы сами. И только. "Профи”. У "профи” Ермакова, как раскроет двойное убийство, автомобиль отберут. Останется "профи” при собственных интересах. Ладно, одернула себя, не время теоретизировать. — Так я допрашиваю Мастырина. Буйнов согласно кивнул.Майор Мастырин
Я знала, что мало приятного доставит мне этот допрос. Конечно, знала и была готова. Мастырин удивленно поздоровался с капитаном Волной, который пристроился в кресле и извинился перед майором: вставать ему было трудно. Не менее удивленно майор встретил сообщение о том, что при допросе присутствует Ермаков. — Вы что, ребята, тройной тягой? Что я такое натворил? Тон майора был вполне искренним, хотелось верить, что он и вправду ничего такого не натворил. — Несколько вопросов, Валерий Иванович, — сказала я, закончив официальную часть, — вы помните вскрытие трупа Слонимского? Нашу встречу в секционной и разговор? — Конечно. И что? — Расскажите, как вы туда попали и куда направились потом? Мастырин пожал плечами: — Я был в дежурной опергруппе. Направил в морг начальник уголовного розыска, вернулся я в отдел. — Встречались по дороге с кем-нибудь, говорили? — Нет, — подумав немного, ответил Мастырин, — не видел никого. Прямиком в отдел. Да, дежурный может подтвердить, — оживился он, — я приехал и сразу доложился. Сказал, на месте буду. Та ночь прошла спокойно, — он немного смутился, — капитан Волна только подкачал. Но это уже под утро. А так — тишина, что редко бывает, сами знаете. И ни с кем не разговаривал я. Спал, извините. — А с дежурным, с дежурным-то, — встрепенулся вдруг Антон, — говорил? — Ну-у, — протянул майор, — как обычно, знаешь ведь. Парой слов перекинулся и к себе поднялся. — Валерий, — настаивал Антон, — что это за пара слов была, вспомни. Он спросил? Или сам ты сказал? О чем? — Слушайте, братцы, — рассердился Мастырин, — вам не кажется, что вы ерундой занимаетесь? Какая разница — он спросил, я ли сказал? — Есть разница, майор, — сказала я и чуть приоткрыла карты — пусть поймет, что все очень серьезно, — в этом двойном убийстве, судя по всему, замешан работник милиции. Так что разница есть, товарищ майор. Кровь отхлынула от лица майора Мастырина. — Вы… меня?.. Подозреваете меня?.. Да я… — Успокойтесь, от вас мы только помощи ждем, — чуть схитрил Антон и правильно сделал. Майор посерьезнел, нахмурил брови. — С этого бы и начинали, сыщики. Так человека до инфаркта довести можно. — Извините, — пришлось сказать и мне. Конечно, в чем-то он был прав. Но при одном, очень важном условии: если он не причастен к убийству. На совещании в квартире Гриши Нипорта мы совсем так не думали. И как правильно я поступила, не решившись на разговор с Ма-стыриным там, у Гриши. Вишь, как он реагирует. — Пошли дальше, дальше, — нетерпеливо сказал капитан Волна. — Слушайте, а ведь я не помню точно — дежурный спросил или я ему сам доложил, — ответил Мастырин, не разводя нахмуренные брови, — помню точно, что сказал, мол, там весь наш бомонд собрался. Это я вас так поименовал, прошу прощения. Помню, он уточнил, кто. Я ответил. Что в этом такого? Ничего секретного нет. — Кто дежурил? — быстро спросил Ермаков. — Как кто? Валиев Генка… старлей. Валиева я видела. Молодой франтоватый парень. Больше ничего я о нем не знала. Глянула на Ермакова, на Антона, но лица их были непроницаемы. Я продолжила допрос. — Вы знаете Кобрикова? Сергея Кобрикова? — Сережку? Да кто ж его не знает? Ясно. Значит, знакомы. Сейчас я задам самый главный вопрос. И спрашиваю, затаив дыхание от охватившего вдруг волнения. Скажет правду Мастырин? Солжет? — Вчера утром вы ездили на машине Слонимского? С Кобриковым? Майор заметил мое волнение и ответил удивленно, с явной тревогой: — Да, а что тут противозаконного? Кобриков, я знаю, работал вместе с Жекой Слонимским. Вот утром Сережка приходит в отдел — я удивился, но он объяснил: ты, мол, после ночного дежурства, свободен, помоги с Жекиными похоронными делами. Ну отчего не помочь-то? Говорю вам, знаю того и другого… Стоп, — Мастырин запнулся вдруг, замолчал, потом спросил: — А откуда же узнал Сергей, что я дежурил? Откуда? Вечером я его не встречал. Значит, сказал кто-то, так выходит?.. Э-э, да я в шестерки попал, ребята, в шестерки! Ах ты!.. Спрошу я с тебя, Змей проклятый… Как подставил! — Подожди спрашивать, пока очнется, — не выдержал Ермаков, — мы его самого сегодня ночью едва выцарапали… Без сознания он, в больнице… — Круто, — сказал Мастырин сердито, — ах как круто замешано! Ну ладно. Короче, Сережка мне говорит, мол, моя машина в ремонте, водительские права дома, а надо поездить, документы на мертвого оформить — свидетельство там, гроб, могила и все такое. Я отвечаю, что тоже безлошадный, а он — Слонимского машина за углом. Меня, мол, возьмут на прикол, а ты в майорской форме, никто не остановит. Ну, верно рассудил. Короче, пару часов мы с ним по городу вертелись. В кооператив съездили, в загс. Потом доехали до моего дома, я пошел на боковую, а он укатил. Сказал, поставлю сейчас машину. Все, — он развел руками. И еще один вопрос остался. Я достала акт о списании наркотиков по делу Шапиро. Молча положила на стол. Спрашивать не пришлось. Вновь отхлынула кровь от успокоившегося было лица майора. Он обвел взглядом нас троих, внимательно так посмотрел, опустил голову и тихо сказал: — За это отвечу. — Как это случилось? — Да просто. Собака моя приболела. Есть у них такая болезнь — инфекционный энтероколит. Привез в ветлечебницу, я там главврача знаю, Пеструхину. Господи, у них оперировали псину какую-то, она орала просто как человек. Римма мне пожаловалась: нет, говорит, обезболивающих, режем по живому. Я говорю: Римма, мы эти наркотики ломаем и выбрасываем, людям-то они не годятся, если у воров изъяты. Она попросила, а тут как раз Шапиро взяли. Каюсь, сам напросился и акт составил, потом ампулы ей принес. Так, задаром, в благодарность за свою собаку. Она ее, кстати, вылечила, старалась. Точно не помню, сколько было ампул — да вот, смотрите по акту — все и отнес. Отвечу теперь, понимаю. Замолчал майор Мастырин, молчали и мы. Так и бывает: одно нарушение влечет другое. И майор Мастырин имеет теперь хоть косвенную, но причастность к преступлению. Мы все проверим еще, однако очень даже могло быть так, как рассказал майор. Нет мелочей в нашей службе, каждый промах используется против нас, да что там мы, не об этом и речь. Наши промахи против людей используются, против тех, кого мы должны защитить. Молчание на этот раз было долгим и тягостным, потом мы уточнили кое-какие детали и отпустили совершенно убитого Мастырина. Едва за ним закрылась дверь, Антон твердо сказал: — Я ему верю. Мы с Ермаковым не возражали, и капитан Волна добавил: — Но подставили его капитально. Изуверски просто. Ясно как день, что наркотик от Пеструхиной попал к Чулкову, потом развитие событий вы знаете. Одно не очень ясно. Им сам наш майор прикрылся или работали под Мастырина в майорской форме? А? Что мы могли ответить? Оба варианта умещались в наших версиях. Оба, и надо было выбирать. — Звоните, братцы, в больницу, как там наш Змей-Горыныч? Не очнулся ли? О-ох, — застонал Антон, меняя позу в кресле, — все же болят мои ребрышки, ничего не скажешь. Я позвонила в больницу, и мне сказали, что состояние больного опасений не внушает, но в сознание он не приходил. Вот так. Не приходил. И мы не имели ценнейших данных, которые он мог нам дать. Конечно, мог и не дать. Мне предстоял допрос Чулкова, повторный осмотр квартиры Росиной. Дел предостаточно. Ребята оставили мой кабинет. — До связи, — сказал каждый из них.Чулков
Олег Петрович Чулков вошел с видом оскорбленной невинности. Ночные события не придали ему благоразумия, и он весь кипел, рассказывая мне, как ворвались к нему эти страшные рэкетиры, как унижали, шантажировали его, как мужественно он защищался, но, увы, они оказались сильнее. Самое неприятное, что они подбросили в его виварий полуживого человека и подкупили сторожа. Теперь он, честный человек, сидит здесь с разным жульем и понимает, что темные силы, мешающие перестройке, тормозящие развитие кооперативного движения, существуют не только в прессе, они подвизались даже в милиции. Чулков выпускал запал, я внимательно, не перебивая, слушала. И лишь когда паузы в горячем монологе стали длиннее, а взгляд Чулкова все чаще становился вопросительным, задала первый вопрос. — Откуда у вас морбитал? — От Пеструхиной, я признаю. Но что в этом особенного? — он опять завелся, и я выслушала, как трудно кооперативам, как не могут они получить элементарных фондов на медикаменты, как вынуждены добывать их различными способами. Иссяк фонтан Чулковского красноречия, в котором, надо признать, были капли истины, и я сказала: — Но морбитал — яд. И с помощью морбитала убита некая Росина, а также… И не успела договорить. Чулков вскочил так стремительно, что опрокинул свой стул. — Росина?! Вы говорите — Росина?! — закричал он. — Этого не может быть, не может! — Почему не может? Откуда вам известно? — надо было успеть спросить об этом, пока я видела, Чулков был шокирован моим вопросом. Сама я изумилась реакции Чулкова на свой вопрос. Почему он так закричал? — Росина была наркоманка, мне говорил Слонимский, он для нее доставал наркотики. С Кобриковым приезжал ко мне как-то за этим. Я отказался… Задолго до этой смерти, — спохватился вдруг он, поставил перевернутый стул и сел, сжав голову руками. С этой минуты резко изменилось поведение Чулкова. Он отвечал вяло, часто просто невпопад, глаза отрешенно блуждали. И только когда я, повинуясь старой следовательской привычке, стала взывать к его совести, он усмехнулся спокойно и цинично: — Совесть? Что это? Дайте мне посмотреть на нее, покажите. Есть она, например, у вас? У прокурора? Принесите сюда, я подержу в руках, примерю, попробую на вкус. А так — не знаю, о чем вы. Совесть какая-то, совсем уж непонятно… Он еще разглагольствовал в этом же духе, так что мне стало противно, захотелось закончить бесплодный допрос. Я задала последний вопрос, заранее зная ответ. И услышала, что к смерти Слонимского, тоже убитого морбита-лом, Чулков отношения не имеет. И вообще в городе уйма мест, где этот препарат используют. "Ищите там”, — дал мне совет Чулков. Расставшись с Чулковым, опять позвонила в больницу, и к телефону подошел Шамиль. — Ты там еще? — удивилась я, и Шамиль обиделся: — Наташа, я что, только в царство теней провожаю? Я доктор, между прочим, и неплохой, знай это на всякий случай. И пациента твоего здесь караулю. Лейтенант Серебряков и я. Он пришел в себя, Кобриков. Но сознание спутанное. Допрашивать нельзя, — предвосхитил Шамиль мой вопрос, — я тебе позвоню, когда надо будет. Ну что ж, подождем. И вдруг, в разговоре, у меня мелькнула мысль рассказать судебно-медицинскому эксперту о реакции Чулкова на сообщение о том, что Росину убил морбитал. — Слушай, Шамиль, а что ты на это скажешь? — и я поведала ему о Чулкове. Шамиль замолчал надолго, я слышала только, как он вздыхает и что-то непонятное шепчет прямо в трубку. Потом голос его стал четким: — Э-э, Наташа, это многое может значить. И первое — Чулков к убийству Росиной непричастен. — У меня упало сердце. Неужели и эта версия ложная? Кто же причастен? Получалось так складно, когда мы обсуждали. Один яд — один убийца. Двойной убийца! Шамиль между тем продолжал: — Говоришь, он искренне изумился? — Я кивнула, забыв, что Шамиль меня не видит, но он угадал: — Не мог ли быть морбитал на стенках шприца? Я писал в заключении, что отравление сочетанное — большая доза наркотика плюс морбитал. Помнишь, ездил к шефу? Мы там долго проверяли на морбитал, пока не уверились абсолютно. Так что, Наташа, это тебе новая загадка… Прекрасно! Старые не разгаданы и появляются новые. Я расстроилась окончательно. Наша перспективная, казалось бы, версия, дала капитальную трещину. Возможно, мы ищем не там. С этими грустными мыслями я отправилась на квартиру Росиной, оглядев с невольной неприязнью целую группу экспертов, ожидавших меня в машине. Осмотр был мучительно долгим, тем более что в царстве техники, привезенной экспертами, я разбиралась плохо и, записывая протокол, часто переспрашивала, раздражаясь, незнакомые термины. В прихожей на стенах, на двери, на кухне и в комнате нашли еще массу пальцевых отпечатков; на коврике у двери обнаружили белесоватый порошок; ковер в комнате эксперт осмотрел с лупой в руках, пинцетом торжественно поднял серо-черный волос и упаковал его в прозрачный пакет: "Мы по нему многое узнаем", — пообещал он мне. "В жанре бушующих страстей”, — вспомнила я, глядя на волосок, и усмехнулась. Сказывалась бессонная ночь, волнения, и к концу осмотра я так устала, что не чаяла добраться до своего кабинета. И конечно, больше, чем усталость мучила меня неизвестность: как там дела у Ермакова, выполнит ли обещание Гриша Нипорт, поклявшийся доставить нам таинственного майора?РОЗЫСК
Глава 15
”У тех совещание, у этих совещание”, — тихонько ворчал Гриша Нипорт, наблюдая, как, соблюдая все правила предосторожности — не то что вчерашний урка, — входил в подъезд молодой парень, одетый в куртку-варенку и такие же брюки. Гриша узнал парня, присвистнул. "Конспиратор, тоже мне, — буркнул он, когда знакомая фигура скрылась в дверном проеме и дверь гулко хлопнула, не придержанная со стороны тамбура. — До майора тебе далеко, парень, ясное дело, майор не ты. Только чего тебе там нужно? Интересно щука пляшет, превосходно рак поет”, — Гриша приговаривал, чтобы не скучать и время чтобы шло побыстрее. Он опередил парня и уже успел побывать в квартире, которая, интересовала их обоих, а в том, что парень направлялся туда, Нипорт не сомневался, только разум отказывался верить, хотя куда денешься — вон он, посол, и ван она, милицейская квартира. Одна в этом доме. Еще утром Нипорт, одевшись попроще, прискакал сюда, поднялся по лестнице, ведомый четким следом строительной пыли, которая указала точный путь к нужной двери. Там шел ремонт. Двое рабочих — пожилой, молчаливый, хмурый здоровяк и молодой стройный парень с сильными руками, одетый в комбинезон и ковбойку с закатанными рукавами. "Ломать — не строить”, — глубокомысленно изрек Гриша, войдя в незапертую дверь и глядя, как рабочие осторожно ломали перегородку, намереваясь увеличить холл. Ему не ответили, но это его совсем не смутило. — Чего хмурые, ребята, неужто похмелки нет? — Да пошел ты, тихушник, — сквозь зубы ответил молодой на приветливые Гришины слова. — Нет, вы посмотрите на него! — возмутился Гриша. — Он ментовку гладит и он коны не наводит. Смотри, дядя, сядешь на вилы, я тебе наклепаю. Нипорт, наверное, переборщил с жаргоном, но парень заинтересованно поднял лицо: — От хозяина? — Ну… — Чего надо? — Да так. Ямщика, может… — Ишь, чего захотел. Баши дам и адью! Парень вытащил из заднего кармана брюк несколько смятых купюр, не глядя подал их Грише, и тот едва сдержал радость — есть пальцевые отпечатки, обязательно есть, простенько и со вкусом, как говорится. Пряча купюры, прикинул: однако! приличное вспомоществование. А вот будь он действительно "от хозяина” — из колонии, как бы его в отделе кадров встретили? Помогли бы? Скорей всего промурыжили. "Тьфу, — чертыхнулся Гриша, — опять жаргон”. После подачки долго стоять не полагалось, надо было уйти. Пренебрегая правилами, Гриша стоял, не уходил. Но пожилой молчал, а парень принялся насвистывать, всем своим видом показывая, что аудиенция окончена. Грише же хотелось поговорить. Не просто хотелось, а нужно было, необходимо. Но все старания успехом не увенчались, и молодой под занавес, но стесняясь в выражениях, пообещал накостылять, если Гриша засветится еще раз. Нипорта приняли здесь за обычного бомжа, и это было очень хорошо. Потоптавшись, Гриша уронил на пол платок, но этого показалось ему мало, он уронил куртку, после чего простился с щедрыми, но негостеприимными рабочими и ушел. Деньги, платок и куртку, осторожно свернув, Нипорт отнес, как договорились, капитану Волне, а там было его, Волны, дело. Нипорт заскочил домой и слегка подновился: надел другие брюки и рубашку с короткими рукавами, с нашивочками, чтобы ясно было — парень при деньгах. В таком благоустроенном виде Гриша снова появился удома, где каждая трещинка стала знакомой. Солнышко уже пригревало вовсю, и погреться вылез разный домашний люд: старички и старушки, малые дети с молодыми мамами и молодыми же бабушками — не разберешься, мама то или бабушка. Грише больше всего нужны были старушки, он присел на лавочку, завел осторожный разговор о трудностях ремонта, о том, что долго тянут рабочие, нет материалов и вот он хотел бы договориться с этими работягами, из двадцать четвертой квартиры, которые так славно работают. Старушки переглянулись, засмеялись, и Гриша узнал, что хоть он и при усах, но не при таких чинах, как хозяин двадцать четвертой, и потому такого, как там, ремонта ему не дождаться, равно как и всем старушкам и прочим жильцам дома. — Да хосподя-я! — сказала одна из Гришиных собеседниц. — Где же они пойдут к тебе на ремонт? Это ж молодой-то, видели? — это же племянник хозяина, родной племянник. Помогает дяде. Хосподя-я. А ты хочешь, чтобы он к тебя пошел, еще чего! Он художник ведь, не рабочий. Вот как! Теперь Нипорт знал, кто такие эти аккуратисты. Племянник! Надо же! И без того в ожидании неприятностей холодок частенько пробегал по Гришиной спине, а здесь нате вам — племянник. Значит, к племяннику бегал вчера шестерка из ресторана? Нипорт не мог удер-жаться, позвонил капитану Волне и услышал, как Антон тоже ахнул в трубку: "Будь осторожен, Григорий, ох, смотри в оба. Даже не знаю, чем все обернется? Глаз не спускай с квартиры”. Было проще, пока все вокруг этого дома была Нипорту незнакомы. Мелькали лица, Гришина тренированная память — Другой техники у него никогда не было — отмечала их, и непонятное, жившее внутри Гриши чувство отбрасывало непричастных: нет, нет, нет… А потом появился этот, конспиратор. Едва за ним бухнула дверь, Гриша бегом бросился к телефонной будке. — Анатолий Петрович, миленький, — умолял он капитана, — сделай так, чтобы зафиксировать выход. Ну сделай что-нибудь, видеопленка, пусть даже фото — только зафиксировать! Капитан Волна все понял. — Будет помощь, Гриша, не волнуйся. Делай свое, сколько можешь. — Есть! — ответил Нипорт так, словно погоны блестели на его плечах и не его вымела из милиции та самая очистительная волна, от которой все ждут сейчас решительного поворота к лучшему. — Есть! — повторил он и побежал в свое укромненькое местечко, откуда он видел все, а его не видел никто. Капитан Волна, положив телефонную трубку, задумался: малейшая оплошность по делу грозила бедой, готовой разразиться над головами лично его и всей группы. Если бы сам он мог участвовать в операции! Проклятые ребра! Приковали его к дому и каждое движение отдается болью во всем теле. Нет, он товарищам своим не помощник и может только обдумать все, до мельчайших деталей, чтобы не было провала. Значит, племянник… хорош родственничек! надо докладывать прокурору и лучше всего, если сделает это Тай-гина. Капитан позвонил в прокуратуру. Телефон не ответил. Значит, Наташа еще не вернулась из квартиры Росиной, откуда звонила часа полтора назад. Ермакова разыскивать бесполезно — он шел по следу параллельно с Нипор-том, Только по другим каналам. Но их данные сойдутся — капитан хорошо знал Гришу и верил ему. Операцию по задержанию, если все сойдется, следует провести вечером, а до того — максимально собрать улики. Максимально! Выдал еще несколько звонков — молчание. Да сегодня же суббота — вспомнил. Вот до чего-дело дошло — забыли про выходные. Как же быть с курткой Гриши, на которую тот старательно собрал строительную пыль? Нужно было хотя бы удостовериться, что эта пыль аналогична той, что нашли в квартире Наташи, и теперь, как она сообщила, и в квартире Росиной тоже. И пальцевые отпечатки — пожертвованные Грише купюры лежали на столе Антона, осторожно упакованные в целлофан. Если все это в точку — будет удача! Чувствовал капитан — будет! Гусенков наверняка опознает своих ночных похитителей, и Кобриков после всего случившегося будет не на стороне своих бывших друзей. Так далеко не заходит закон Омерты, поймет Кобриков, что играл со смертью и едва было не проиграл. Но выходные дни! Капитан Волна позвонил Игорю. Эксперт, выслушав, коротко сказал: — Сделаем. Сейчас подниму рябят, придут в лабораторию. И сам я, конечно. За образцами заеду сам. И не выдержал, спросил еще: — А где Наташа? Вздохнув, Антон ответил: — У Росиной, верно. Жду от нее сигнала. Часа не прошло, приехал Игорь — веселый, оживленный. — Поднял ребят, они у нас молодцы. Забирая куртку Нипорта и сверток с деньгами, серьезно сказал: — Антон, это не экспертизы, предупреждаю. Это оперативная помощь. То, что мы скажем сегодня, — для суда не доказательства, сам знаешь. — Знаю, — вздохнул Антон, — все я знаю, Игорь. Но нам нужны исходные данные — правильны ли наши подозрения, не находимся ли мы на ложном пути? Помогите, братцы. И отпечатки, и эта пыль злосчастная — да мы потом все с понятыми возьмем, честь по чести. А пока… Эксперт понимающе кивнул: — Сделаем. Труда особого нет. Пальцы я сам посмотрю. У Росиной есть дополнительное что? Там-то экспертизы назначены, там проще, дадим заключение. Так есть что? — Есть, есть, — засмеялся Антон, — следователь Тай-гина, как выйдет на связь, сама тебе их подвезет, я попрошу. Опять потянулись минуты мучительной неизвестности. Что у Нипорта? У Ермакова? У Тайги ной, наконец? Что? И на раздавшийся звонок Антон бросился, забыв про свои хвори, напомнившие тут же о себе резкой болью. Сжав зубы, капитан хрипло сказал в трубку: — Да… Голос Игоря был непривычно озабоченным: — Слушай, Антон… Самые свежие новости. Вещество в наслоениях на куртке Нипорта имеет общую родовую принадлежность с изъятым в квартире Наташи. Родовые признаки: цвет и состав. Содержат мел, песок и одинаковый органический краситель. Если проще — следы побелки стен. — Игорь, — заволновался капитан, — значит, у Наташи учинило разбой лицо, которое мы подозреваем. Стоп, — прервал он, — не может эта самая побелка быть одинаковой? Во многих квартирах? Стандартной, так сказать? — А пропорции? Эксперты сверили пропорции. Это уже индивидуально. Назначили бы вы экспертизу! — Дай срок, все будет. Нам пока исходные нужны, понимаешь, оперативные данные для розыска… — От Наташи нет ничего? — Пока нет. А пальцы-то как, пальцы? — спохватился Антон. — Проверяем. Их тут такая масса, что скорого результата не жду. До связи. — До связи, — ответил капитан и снова погрузился в самое отвратительнейшее занятие — ожидание.Следствие
По пустому коридору прокуратуры нетерпеливо расхаживал капитан Ермаков и, увидев меня, бросился навстречу. — Наташа, быстрее! Я все приготовил, мы едем в больницу! — Что случилось, объясни в двух словах. Я только с осмотра… — Знаю, знаю. Немного тебя не застал там, вот примчался в прокуратуру. Едем! Во-первых, я подготовил все для опознания — Гусенкову. Во-вторых, а скорее всего именно это во-первых, стал давать показания Кобриков. И такое говорит! Такое! Быстрее, Наташа! Необычное возбуждение розыскника передалось и мне. Забыв про усталость, только что мучившую меня, а также про то, что этот субботний день знаменовался для меня не только напряженной работой, но и абсолютным постом — с утра, после Гришиного борща, у меня маковой росинки не было во рту — я схватила необходимые бланки и мы помчались в больницу. — Анатолий Петрович, а не кажется тебе, что при этой больнице можно открывать филиал милиции? — съехидничала я по дороге, — слишком часто мы ее посещаем. — Это вы правильно заметили, Наталья Борисовна, — обиженно ответил мне капитан, — мы посещаем. То есть милиция и прокуратура. А филиал при больнице все же лучше, чем при морге. Не верите — можете спросить у Гусенкова и Кобрикова тоже, где им удобнее находиться — в больнице или в морге. Не забудьте при этом справиться о здоровье младшего лейтенанта — молоденький такой, только к нам приехал, симлатичненький — да сами увидите, он с Гусенковым в одной палате. Лечится и охраняет одновременно. Неплохо бы вспомнить вам также, почему Кобриков в больнице, а не в собачьей кормушке… Мне уже было стыдно за свое неуместное ехидство и я извинилась способом, известным только женщинам: тронула за рукав рассерженного капитана и сказала жалостным голосом: — Толечка, я есть хочу. Очень. — Есть она хочет… — заворчал Толя совсем другим тоном, — возьми там вон, в бумажке, бутерброды. Я открыла дверку передней панельки, достала и мигом уплела бутерброд. Капитан Ермаков посмотрел на меня и перестал сердиться. Мы еще успели поговорить о предстоящих делах. Хотели разделить усилия, но нам обоим, как выяснилось хотелось присутствовать и на опознании, и на допросе Кобрикова. Судьба в виде строгого голоса капитана Волны, которому при всем нашем нетерпении мы догадались позвонить в первую очередь, распорядилась иначе. Вздохнув, капитан Ермаков помчался в милицию, чтобы объединить усилия экспертов и передать им то, что собрали криминалисты в квартире убитой. Я осталась в больнице. По всему выходило, что мне первой предстояло узнать тайну двойного убийства. После телефонного разговора с Антоном не было колеба-ний, с чего начинать работу. Первым делом было опознание. Гусенков, тщательно избегая моего взгляда, подробно описал приметы своих ночных визитеров и на предъявленных фотографиях твердо опознал одного из них. "Он был за рулем”, — сказал Гусенков. Среди множества подготовленных Ермаковым фотографий фото майора не оказалось. Гусенков пожимал худыми плечами, торчащими, как вешалка, под больничной пижамой, и обращался больше к понятым, нежели ко мне: — Майора нет, а водитель — вот он, — и тыкал тонким бледным пальцем в изображение, смотреть на которое мне было просто физически противно. Холеный и красивый, предатель вызывал у меня отвращение. Закончив процедуру опознания, я поевонила, как договорились, Антону и тот яростно выдохнул в трубку: "Па-анятно! Попал в точку Гриша…” В палате Кобрикова сидел Серебряков. Я никогда раньше не видела Кобрикова. Думаю, что после сегодняшней встречи через недельку-другую я его не узнаю, так изукрашен был этот человек. Лицо являло собой сплошной кровоподтек, я невольно отвела глаза, здороваясь с ним. Вообще, в этом деле, как в никаком другом ранее, было слишком много жестокости, слишком много жертв, крови, изуверской изощренности. Вот и сейчас передо мной лежал человек, бывший на волоске от гибели. Кто были его мучители, на какой алтарь предполагалось возложить его жизнь? Говорить ему было тяжко. Но он говорил. — Мы вместе в школе учились. Встретились здесь. Я — никто, он при хорошем деле. Начали случайно. На вокзале друга встречали, видим: парни гоношатся у киосков с разной кооперативной чепухой. Мы подошли, они врассыпную… Мы, конечно, за ними. Поймали двух, совсем пацаны, деньги при них — большие тысячи. Привели к киоскам, а хозяева в отказ — первый раз видим. Пока разбирались, парни деру дали, а деньги у нас на руках. Даровые, крупные. Деньги есть — друзья появились. Не мои — Генкины. Пили вместе… В ресторане… Там познакомились с Олегом, а больше всего Генка шестерил перед Колей Скоком, сами знаете почему… Деньги скоро кончились, мы еще несколько раз повторили тот фокус. Коля в форме приходил, в майорской, так спокойней было. Потом чуть не замели нас, пришлось бросить. А деньги нужны. Генка меня к Давиду устроил, рекомендовал. Тот послушался, взял. Генка с Колей к тому времени сказали: "Всех "сытых” разобрали”, — это они кооперативы так называли, где дурные деньги шли. "Надо, — говорят, — за "работяг” браться”, — это за тех, что при производстве. "Этих, — говорят, — надо брать с умом”. Продумали. План составили Генка и Скок. Кобриков замолчал, и мы с Серебряковым молчали. Тихо-тихо стало, только чуть шипела пленка магнитофона, бесстрастно записывая все — и слова, и стоны, и тяжелые паузы. Но время не ждет, пришлось поторопить страдальца: — Продолжайте, — попросила я. Голова Кобрикова дернулась, означая согласный кивок. — Я виноват, конечно. Сапоги эти взял у Злоказова, привез Гусенкову, сказал продать. Юриста просил позвонить Гусенкову, обманул обоих. Потом Генка с Колей их забрали, акт составили. Я с этим к Поддыхову пришел. Ну, сразу не пошло — заартачился председатель. Совещание собрал, то-се, выяснять начал… Потом эта секретарша стакнулась с обэхээсником, я увидел случайно, да сказал на беду Генке. Тот запаниковал — выдаст, сорвет все. Отправили Слонимского, он в любовниках ее ходил. Только и просили узнать, не стучит ли она ментам. Что там разыгралось — не знаю. Через день только слышу — убили. Ну и началось. Бросить Коля Скок не дал, говорит, давайте дальше. К Слонимскому в больницу я привез Олега, Генка дежурил тогда. Зачем он ездил — я тоже не знал, молчал он. Днем, как увозили Жеку, он мне ключи отдал, машина его осталась у проходной. Моя тачка в ремонте была, я решил на этой поездить, пока юрист болен. На ней и возил Олега, потом ему и машину оставил. Ночью Генка звонит мне домой, говорит: "Все похоронные дела юриста оформить попроси Мастырина, он после дежурства, свободный. На машине покойника… Забери ее у Олега пораньше”. Я испугался: "Какого, — говорю, — еще покойника?!” — "Да Слонимского”, — отвечает. До утра я глаз не сомкнул. Страшно стало: куда, думаю, попал, в какую историю! Утром еще страшнее — не выполню, будет то же, что с теми двумя. Сделал, как велели. Вечером встретились у Олега. Они все решают. Нельзя, говорят, отступаться. Главное, что Поддыхов молчит и клюнул вроде. Генка звонил ему, скуксился, говорит, председатель. Я возражать стал, Генка кипятится: "Столько, — говорит, — трудов и зря, нет, не будет такого”. Коля с ним заодно, смеется: "Бросьте трусить. На нас никаких выходов нет, нигде не наследили. Сейчас с этим строго — без железных доказательств не тронут, а мы совсем чистые. Гуся, — говорит, — сегодня совсем ощиплем и полный порядок”. Чего они хотели — не знаю, но я опять испугался. Диктофон-то у председателя я ставил, а забирал Гусенков. Ну, думаю, еще одному хана. Опять стал уговаривать, они пригрозили, я замолчал. Скок Коля собрался уезжать: "Проводи, — говорит, — меня”. Во дворе он меня и срезал: "3а тобой Олег. Мы совсем чистые, а он засветился с наркотиком. Точно знаю, что ищут по наркотикам”. Короче, велел мне Олега убрать. Так и сказал — убрать. Дал нунчаки — верное, говорит, дело, только угоститесь хорошенько, там, говорит, коньяку полно. Пригрозил тоже… Да я и так понимал… Но все же говорю, мол, не сумею я, давай сам. "Нет, — отвечает, — тогда в случае чего мне вышка, а ты вывернешься”. На том и закончили разговор. А когда выпили мы с Олегом, мне и ударило в голову: он, Коля-то, вышки трусит, а я чего? Ну отвечу за то, что сделал. Пусть они сами грызутся, а я, думаю, сбегу пока — страна большая. У Скока здесь только сила, а я в другой город сбегу. Олег ко мне с планами пристает, подливает — не выдержал я. Рассказал Олегу… Я думал, пока они выясняют отношения, я смоюсь. Вышло иначе. Что было! Вспомнить страшно! Гримаса боли исказила изуродованное лицо, мне опять пришлось переждать длительную паузу. Но, собственно, я уже знала, что было дальше. Обозленный предательством, Олег Чулков выместил зло на соучастнике. Зная планы Скока, он тоже не хотел лишних свидетелей, каковыми стали прежние друзья. Доверчивый Кобриков попал в страшный собачий подвал, идеально приспособленный для сведения подобного рода счетов. Ломаного гроша можно было не дать за жизнь Змея, опоздай капитан Ермаков хоть на один вечер… И это была бы не последняя жертва. Начавшаяся среди шантажистов грызня грозила новой и новой кровью… Когда я вышла наконец на залитое ослепительным солнцем больничное крыльцо, мне пришлось крепко зажмурить глаза, и я стояла так, прогоняя страшные картины, усилием воли избавляясь от почти физического ощущения нечистоты, с которой соприкоснулась. Вспомнилось: в жанре бушующих страстей… Страсти действительно бушевали, и какие же были они разные! Наверное, только у нас, в нашей по существу противоестественной работе встречались столь разные бушующие страсти. Почему Кобриков отказался от убийства? Почему? Почему не оценил его откровений Олег Чулков? Почему столь настойчиво желание Коли Скока довести до конца задуманное, перешагнув через жизни и судьбы многих людей? Почему идут к нам со своими сомнениями совсем неожиданные люди, а другие, казалось бы, обязанные помочь или нуждающиеся в помощи, не идут? Почему? Вечное почему… Я знаю причину вечности этого вопроса. Мне кажется, я знаю. Это Добро и Зло, его непрекращающаяся борьба. Словно на дьявольских вселенских весах перевешивается Добро и Зло. Перевешивается всегда, с сотворения мира. А Фемида не снимает повязки. Единственная женщина, которая судит мир с закрытымиглазами. Мифическая бесстрастная дама, держащая в руке весы, на чаши которых мы, люди, бросаем свои бушующие страсти. Что перевесит сегодня? Я хочу верить — Добро… Нет, я просто уверена в этом!Еще одно совещание
В пустом и гулком коридоре прокуратуры было прохладно и странно таинственно. Буйнов встретил меня в приемной, поднимаясь из-за стола собственной секретарши, где пристроился возле телефонов. Куда-то звонил прокурор, но не из своего кабинета — и это меня удивило. — Там народ уже, — сказал мне мой прокурор, — задержись на минутку, Наташа. — Что такое, Василий Семенович? — забеспокоилась я. — Все вроде бы идет путем. К завершению движемся. — То-то и оно, — сказал прокурор, — к завершению. Я сейчас подполковнику Скокову звонил. Думаю, что надо его пригласить. Сама понимаешь, как складываются дела. План операции будем менять, и подполковник в этом поможет, — он замолчал на секунду и добавил, — хочет того или нет. Я признала разумность доводов прокурора, хотя, признаться, помнила отповедь начальника милиции, и мне, чего уж греха таить, ох, как хотелось щелкнуть его по носу совсем неожиданно. Но дело сделано. Прокурор его вызвал. Значит, будем говорить при нем. В кабинете прокурора, к своему удивлению, я увидела капитана Волну, и Гриша Нипорт был здесь же, скромно притулившись за креслом, где неподвижно сидел Антон. Толя Ермаков за приставным столиком деловито перебирал какие-то бумаги, а на стульях возле стены сидели три эксперта — два милицейских криминалиста и, к радости моей, Игорь. Мрачный начальник уголовного розыска неподвижно смотрел в окно, рядом с ним сидел майор с темными живыми глазами, внимательно и цепко оглядевшими меня, едва я вошла. Это был начальник нового отдела по борьбе с организованной преступностью, я была с ним еще не знакома, хотя уже наслышана. Состав участников совещания говорил сам за себя. — Может, начнем? — Буйнов оглядел присутствующих. — Скоков подъедет сейчас, обещал. — А удобно без него? — засомневался начальник УГРО, и Буйнов глянул сердито, словно нотки сомнения не проскользнули только что в его собственном вопросе. — Удобно, удобно, — сказал он сердито, — название операции он успеет сказать. Ермаков засмеялся и быстро умолк, оставшись в одиночестве. — Начнем, — теперь уже утвердительно сказал прокурор, — прошу вас, Наталья Борисовна. Как руководителя следственно-оперативной группы. Я доложила об опознании, о том, что поведал мне Кобриков. С напряженным вниманием слушали меня мои товарищи, и только Ермаков, быстро глянув, что-то перечеркнул в своей схеме, лежавшей на столике. Перечеркнул и тут же провел новую стрелку, удовлетворенно тряхнув своей смоляной шевелюрой. Следующим докладывал он. Олег Чулков, понимая, что из-под обломков рухнувшего предприятия лучше выбираться первым, стал давать показания. Они требовали проверки и уточнения, но мы нашли в них многие неизвестные звенья преступной цепочки. Во-первых, юриста к Росиной привезли он и Коля, не думая о трагической развязке. Коля был в форме майора милиции, в которой любил щеголять вечерами, ища приключений. Коля сидел за рулем, поскольку Слонимский был к тому времени уже нетрезвым и сами они еще снабдили его коньяком, направляя к даме. И при неожиданном появлении капитана Волны вынуждены были спешно ретироваться. Вернулись не скоро, а у подъезда метался Слонимский. "Я убил ее, убил, — шептал им юрист побелевшими губами, — выручайте, я убил ее!” Поднялись наверх. Женщина лежала неподвижно, но была жива. Олег Чулков, желая поправить положение, внутривенно ввел ей наркотик. Использовал шприц, что оказался под рукой в его саквояже. Дал приличную’дозу и оставил там шприц и наркотики. Предполагалось, что женщину они запугают этим, когда она очнется. — Многого не учли, конечно, — сказал Ермаков, — потому и Слонимского пришлось убрать. Чулков говорит, что это сделал Коля, ну а Коля еще свое слово не сказал. Да скажет еще, куда денется! Спросим… Рассказ Ермакова перебил телефонный звонок. Мы молча смотрели, как бледнеет лицо прокурора Буйнова, и каждый думал с замиранием сердца: что? что еще случилось? — Я жду вас, — сказал Буйнов в трубку. Следующие его слова были обращены к нам. — Это Поддыхов. Ему опять был звонок, теперь уже домой. Деньги требуют завтра. Угрожают изнасиловать Дочь. — Ну хватит, — Антон Волна хлопнул ладонями по коленям, застонал и смешалась в этом стоне боль и ярость, — довольно ждать! Есть все данные для захвата… — Может, взять с поличным? — перебил капитана быстроглазый майор, отвечающий за борьбу с преступностью организованной. — Пометим деньги, зафиксируем на видео… Одновременно закачали головами Ермаков и Волна, выражая несогласие, и Антон продолжил: — Красиво, конечно, но не в этом дело. Каждый час дорог, что они затевают еще, мы не знаем. И рискуем людьми. Права мы не имеем на такой риск. А взять их сейчас очень просто… — Оружие есть у обоих, — напомнил капитан Ермаков. — А у тебя есть голова на плечах, — необычно резко сказал Антон, — и к ней тоже оружие! — Тихо, тихо, — урезонил капитанов прокурор и согласился с Волной. — Прав Волна, нельзя их держать на свободе. Прав, что каждый час дорог. Подали, наконец, голос эксперты, тихонько перешептывавшиеся во время этой перепалки. Встал Игорь, спокойно сказал: — Данные экспертных исследований говорят об участии подозреваемых лиц в преступлениях. Это, — смутился он, — я свое мнение высказываю, но это мнение специалиста. В квартире Росиной Чулков был. На костюме убитой и на ковре в ее квартире обнаружена шерсть крупной собаки. Наверняка найдете собаку именно у Чулкова. Пальцевые отпечатки Скокова Николая имеются в коридоре квартиры Росиной и в квартире следователя Тайгиной, где был учинен погром… И по-человечески, если хотите знать, трудно понять, зачем вам дополнительные операции. Зачем? — Ваше мнение, Наталья Борисовна? — обратился ко мне прокурор. Ответить я не успела. Вошел и кивком поздоровался подполковник Скоков. Я видела, как опустил глаза прокурор, наш деликатный Василий Семенович, предчувствуя неприятный разговор. — Что за спешка? — сказал между тем подполковник. — В субботний день и совещание. Как он сказал в прошлый раз? "Вы, Наталья Борисовна, руководитель и отвечаете…” Так он сказал. Я руководитель и по этому праву первой начинаю атаку: — У нас такие клиенты. Работают без выходных. И скажите, Скоков Николай — ваш родственник? — Племянник, — удивленно ответил подполковник и по-строжал, оглядев молчавших людей. — Ав чем, собственно, дело? Какие к нему претензии? — О претензиях чуть позже, — опередила я Буйнова, который сделал попытку вмешаться, — откуда у него милицейская форма? — Ну, — чуть смутился Скоков, — нельзя сказать, что у него форма. Он художник-оформитель, помогает мне делать в квартире ремонт, попросил старую одежду, под рукой ничего другого не оказалось… Др. в чем дело? — поднял он голос и тут, наконец, прорвало Буйнова: — Вы отдали свой мундир, свой офицерский мундир для ремонтных работ? Для вас это старые никому не нужные тряпки? А оружие вы не отдали своему племяннику — организатору шантажа и убийства? Код операции вы ему выдали тоже для ремонта квартиры?! Хотя за последнее, если честно сказать, вам спасибо: эта деталь вывела нас на племянника, точнее помогла, мы бы и без нее вычислили майора. — Какого майора? — последние слова прокурора, видимо, дали какую-то надежду начальнику милиции. — Я подполковник! И форму… — Я видел ее, форму, — тихо сказал Гриша Нипорт, — звездочки там переколоты, операция очень простая… — А это еще кто? — подполковник всем корпусом повернулся в сторону Гриши, и тот поспешил укрыться за Антона. — А это один честный человек, — ответил на вопрос капитан Волна, — с него такие, как вы, погоны сняли, но он свой милицейский мундир не продал и не запачкал. — Я ничего не понимаю, — обратился подполковник к Буйнову, — попрошу объясниться. — Всему свое время, — Буйнов уже успокоился и, видимо, принял решение. — Где сейчас ваш племянник? — Так в квартире же, Василий Семенович! — воскликнул Нипорт и умолк под взглядом прокурора. — В квартире, вы слышали, — усмехнулся подполковник, — спокойно делает ремонт. А с наветами я разберусь, — теперь уже угроза была в его голосе и он встал. Поднялся и Буйнов, за ним остальные. — Эксперты свободны, — сказал прокурор. — Оперативный состав остается уточнять детали захвата. Вас, — он обратился к подполковнику, — прошу присутствовать.Розыск
Через полтора часа — за точность ручаюсь, потому что, кажется, смотрела на часы не отрываясь, — Гриша Нипорт гордо внес в мой кабинет милицейскую форму майора. Он нес ее на плечиках, высоко приподняв, а в другой руке у него были черные туфли. Гриша огляделся, разыскивая подходящий гвоздь, чтобы пристроить форму, и сказал: "Главное-то вы упустили, не видели. Жаль! Красиво сработали ребята, ах как красиво!” По простоте душевной Гриша сыпал соль на мои раны, не замечая огонька зависти и обиды, горевшего в моих глазах. Нипорт был первой ласточкой, и я поспешила его расспросить о задержании. — Красиво и просто, — заважничал Гриша, — пустили подполковника с Ермаковым, и через пять минут окружающие увидели, как рука об руку дружно идут и садятся в машину капитан Ермаков в штатском и Коля Скоков, несколько бледноватый на вид. За ними — дядюшка Скоков, напротив, багрового цвета, за ними я вынес осторожно, на плечиках сей мундир и туфли. О них, кажется, эксперты страдают. — Вот и все, что было, — запел он, радостный. Я смотрела на милое Гришино лицо, излучавшее счастье, и думала, что нельзя, никак нельзя, чтобы Гриша Нипорт был дворником. Прибыльная по нынешним временам — когда бы Гриша квартиру в милиции получил?! — эта должность пусть бы была для других. Тогда и я, и Толя Ермаков, и Антон знали бы, что розыск в надежных талантливых руках, а все другие люди, не зная, чувствовали бы это, потому что Гриша Нипорт по прозвищу Соловей — надежный и честный парень. — На второе задержание меня не взяли — все же там должностное, — Гриша многозначительно поднял палец, — лицо! Велели ждать тут. Ждем тут? — синие озорные глаза глядели на меня азартно, а в глубине их я видела искорку боли — Нипорт был в стороне, а друзья на переднем крае. Ах, Гриша, Гриша! И как это я не помнила про тебя! И как это помнил Антон? После этого дела, клянусь тебе, Гриша, справедливость для тебя восторжествует. Я не сказала так — подумала. И знала, что сделаю. В чем-чем, а в настырности мне не откажешь. И характер у меня бойцовский. Гриша Нипорт нервно зевал, меряя длинными худыми ногами мой кабинет, и время вместе с ним кружилось по служебному кабинету. Словно не желая приходить ни к какому концу. Время, бегущее беспощадно, если просить его замедлить свой ход, и останавливающееся вовсе, если умоляешь поторопиться. Валиев Геннадий — дежурный помощник начальника. Я его видела многократно — красавчика, с прекрасными манерами, двуликого Януса, предателя, человека с двойным дном. Он пытался — и не раз — расточать мне многоцветные комплименты. Надо быть справедливой, и мне стыдно сейчас, что выслушивала я их снисходительно. Слушала! Предателя и подлеца, чьи холодные глаза принимала за стальные, а в гнусной лжи пыталась — чего греха таить? — видеть правду. Чужой среди своих — сейчас мне стало понятным это. Он сегодня дежурил. Целый арсенал в его распоряжении, целый арсенал оружия, предназначенный для защиты людей… или направленный против них… Когда ожидание стало совсем уже немыслимым, я твердо решила: меняю профессию. Меняю! Я не могу быть рядом с ними, с моими друзьями. Я вынуждена сидеть здесь, в кабинете, и никак не могу влиять на ход событий — это просто невозможно для меня! И в конце-то концов, не только следователем могу быть — я женщина. Есть сферы, требующие не меньшей справедливости, которой служу я сейчас. Есть. Кроме того, имеется еще одна причина, и даже не одна, а две… Когда, наконец, раздался телефонный звонок и я победила Нипорта в соревновании за взятие трубки, капитан Анатолий Петрович Ермаков сообщил мне, что операция по задержанию полностью закончена. — Благополучно, — добавил он и спросил, не желаю ли я допросить Валиева лично, хотя они уже записали его показания и версия наша верна. — Нет, — ответила я Ермакову, — не желаю допрашивать, раз это уже сделано вами. Чуточку возбужденный голос Толи Ермакова рассказывал мне о событиях, происшедших без моего участия, и я кивала ему в ответ, словно Толя мог меня видеть. Все верно! Нам еще предстояла уйма работы, но стержень найден: Валиев и милый племянник подполковника Скокова, художник-оформитель по прозвищу Коля Скок, руководили целой бандой. Чулков и Кобриков только самые близкие им люди, а сколько их было еще? Совсем непростая задача — узнать. Я кивала, соглашаясь с капитаном: Антон был прав, кругом прав. Все началось с шантажа, но сработал подлый закон Омерты, Поддыхов струсил и не пришел к нам. Несчастная Росина, проявив профессионально-секретарский интерес к событиям, стала объектом внимания, а общение с капитаном Волной сделало ее источником возможной опасности. Слонимский не справился с поручением, исправлять дело пришлось Чулкову, и случайно введенный ветеринаром морбитал убил женщину. Я поморщилась невольно, представив последние часы секретарши. К рэкету присоединилась смерть. Страх толкал на убийство. Чулков в своем белом халате без труда проник в больницу. Укол морбитала — и Слонимского нет. Дополнительные операции — и следы убийства секретарши должны привести только к юристу Жеке, а с него, мертвого, какой спрос? "Наташа, вот где первая была осечка — Чулков не знал, что Росина погибла от морбитала! Он бы поостерегся!" — говорил капитан Ермаков, а я кивала, прижимая к горящему уху телефонную трубку. — Да, Чулков не знал, иначе не дал бы нам в руки такой козырь — редкий способ двойного убийства. Скок получал от дяди информацию по-родственному, как пикантную новость, и пользовался ею, заметая следы. Это он и Валиев направляли нас в сторону, запугав Гусенкова. Они же пытались убрать его, но страшному плану помешал Серебряков, шедший за Гусенковым от самого поддыховского кабинета. Бросился, прикрыл собой и лечит теперь свою сломанную руку. "Надо навестить его”, — подумала я, а Ермаков продолжал свой доклад: — Антошу нашего они же едва не порешили. Валиев от Мастырина узнал, что мы встревожены смертью юриста, передал Скоку, и тот взволновался — в роковой для Росиной вечер, помнишь, Скок удирал от Волны в приметной Жекиной машине. И майорскую форму, в которой Скок щеголял, Антон не мог приметить. Валиев знал Антошин маршрут, передвинул ограждение ямы, да опять вышла осечка! И последняя хитрость — Мастырина подставили, авось клюнем. "И клюнули было”, — подумала я, но Толе ничего не сказала. — Ты подожди меня, Наташа, — заключил Ермаков, — надо начинать работу. — Конечно, подожду, — ответила я. — Надо начинать. То, что мы уже сделали, было только началом работы.Приговор

Дело совсем несложное. Ты, дорогая, управишься с ним за два-три дня. Валерия Николаевна покачала под столом короткими ножками. Незаметно, как ей казалось. Однако и слова, и это движение стали почти ритуальными и были известны мне, да и всем моим коллегам. Действовали же они прямо противоположно предназначению. По должности своей — Валерия Николаевна была председателем судебной коллегии по уголовным делам областного суда — наша начальница прочитывала обвинительное заключение по каждому поступившему делу и приходила к скоропалительным выводам. Не только меня возмущала манера давать напутствия судьям перед рассмотрением дела. Во-первых, обвинительное заключение ни о чем не должно говорить судье, кроме того, что человеку предъявлено обвинение. Суду же предстоит разобраться в правильности этого обвинения. А тут, пожалуйста, вручается дело и снабжается сразу руководящими указаниями: и несложное оно, и управишься быстро. Словно привезли тебе телегу березовых дров и требуется только их поколоть помельче. Я пыталась однажды протестовать против такого напутствия, но, к моему удивлению, возмущавшиеся в кабинетах судьи на собрании промолчали и не поддержали меня. Зато теперь Валерия Николаевна с особым удовольствием комментировала каждое поручаемое мне дело и не забывала ласково величать меня "дорогая”. Ну ладно, дорогая так дорогая. Валерия Николаевна между тем продолжала. — Сумин признался. Из хулиганских побуждений одного парня убил, другого ранил. Мера наказания, сама понимаешь… Она многозначительно поджала тонкие губы, нахмурила невысокий гладкий лоб, так что пышные темные волосы приблизились к тщательно выведенным бровям. Понимаю, понимаю. О серьезном наказании думается Валерии Николаевне. Возможно, о самом серьезном. Шутка ли — хулиганские побуждения и столь тяжкие последствия. Конечно, понимаю. Но и этот вопрос будет решать только суд, не сейчас и не здесь, в кабинете начальницы. — Хорошо, Валерия Николаевна, — сказала я, не вступая в бесполезные дебаты, — забираю дело? — Конечно, конечно, — она придвинула мне увесистый том, — здесь обвинительное. Другие тома в канцелярии, тебе принесут. Я возвратилась в свой кабинет с этим толстенным томом в новенькой коричневой обложке, жесткие края которой, я знала, опять оставят на моих пальцах тонкие болезненные и долго незаживающие порезы — такое свойство у картона, идущего на обложки уголовных дел. В кабинете нас трое. Алевтина Георгиевна — высокая, спортивная, уверенная в себе, категоричная в суждениях. И Лидия Дмитриевна — ее противоположность. Мягкая, женственная, низенькая и полноватая, вечно сомневающаяся и оттого очень справедливая. Совокупный судебный стаж обеих больше моих прожитых лет. Каждую по-своему, я люблю их. Знаю, и они меня любят. Странным образом сближают нас полученные в прошлом тяжкие удары судьбы. Наш кабинетик с дверью, обитой снаружи железом (раньше в нем помещалась спецчасть), именуется коллегами "хомутаркой” — так в нем тесно, а поначалу, когда нам его предоставили, было неприютно. Но Лидия Дмитриевна развела на широком подоконнике чудесные разноцветные фиалки, Алевтина Георгиевна украсила стены импозантными календарями. Кабинетик преобразился, но меткое название его прижилось, только стало не оскорбительным, а уютным. В нашей "хомутарке” был тщательно укрываемый от грозного завхоза электрический чайник, и усталые судьи забегали попросить чашку крепкого чаю или даже, когда удавалось достать, растворимого кофе. Последнее, как вы понимаете, было не частым. К чаю запасливая Алевтина выдавала судьям таблетку цитрамона. Так сказать, на десерт. — Ну что, дорогая? — спросила насмешливо Алевтина. — Вижу, получила новое дело и старое ЦУ? Я молча кивнула. — Ну, давай, — она почувствовала мое настроение, испорченное этим самым ЦУ — ценным указанием, и замолчала. — Заседателей подбери, — подала совет Лидия Дмитриевна, — да побыстрее, а то вызовут кого попало. Народные заседатели — это тоже наш больной вопрос. Подготовленные, неравнодушные, справедливые народные заседатели при рассмотрении дела — большая удача. Но если рядом с тобой в судейском кресле весь процесс дремлет равнодушный или, еще хуже, крутится здой человек — тут уж добра не жди. О помощи и говорить не приходится. Хороших заседателей мы, судьи, узнаем уже по тому, как являются они на наши занятия в секции. Проводим занятия и видим, кто пришел к нам серьезно решать людские судьбы и знает меру своей ответственности, а кто явился любопытства ради или чтобы отойти от обычных забот. Желает получить, так сказать, оплачиваемую разгрузку. Я срываюсь с места, бегу вниз, на первый этаж, где наша канцелярия. И вовремя. Галка — большая (есть и Галка — маленькая), мой почти постоянный секретарь, мать-одиночка с грубым голосом и необыкновенно доброй душой, уже листает списки народных заседателей. Ворчливо — я-то знаю, что это напускное, — говорит мне: — Наталья Борисовна, давайте вызывать мужиков. А то опять не суд, а женсовет получится. Галка имеет в виду наш совместный предыдущий процесс, где действительно собрался исключительно женский коллектив: судьи, адвокат и даже прокурор. И наш подсудимый, хоть и не высказал вслух недовольства, беспокойно ерзал весь процесс, готовый надерзить. Я еще помню напряженность той ситуации и соглашаюсь с Галкой. Судить предстоит мужчину и, что бы ни говорили, на знание мужской психологии женщинам полагаться не следует. Самоуверенность в нашем деле более чем излишня. Вместе мы вновь и вновь просматриваем список. Нужно соблюсти очередность вызова и хочется, чтобы в процессе участвовали хорошие люди. Ну вот, выбор сделан. Хулигана Сумина, который обвиняется в убийстве одного парня и ранении другого, будут судить слесарь-сборщик Тютюнник Иван Тодорович и врач Руссу Василий Михайлович. Первого я знаю, он был со мной в процессе около года назад. Коренастый, с крупными сильными руками, немногословный и серьезный даже в мелочах. Доктор Руссу мне незнаком. Прикидываю, когда успею закончить кассационные дела и изучить дело Сумина, называю Галке дату распорядительного заседания. Времени, конечно, в обрез. Для проведения распорядительного заседания законом отпущено 14 суток. Для дела Сумина, в котором всего четыре тома, этого достаточно. Хуже бывает с многотомными делами. Тогда у судьи положение просто-таки пиковое — как успеть рассчитаться со старыми делами: с протоколом предыдущего дела, с кассационными, надзорными жалобами и тщательно, как это требуется, изучить новое. Предстоящее дело по объему небольшое, и Галка ворчит больше для порядка, что я совсем ее загнала и не даю передыху. — Ладно, ладно, "дорогая”, — я хлопаю легонько по Галкиному плечу, и она смеется — тоже знает, что к чему. С каждым новым делом приходит ко мне нетерпение. Что предстоит нам? С чем встретимся на этот раз, какой мир откроется в тесном судебном зале, какие закипят страсти, какие трагедии? Маленькая вселенная, именуемая человеком, загадочная и непознанная до конца звезда — гомо сапиенс — человек разумный, что привело тебя в противное разуму место? Почему собрат по разуму охраняет от тебя соплеменников, чем угрожаешь ты им? Виновен ли ты? В чем причина вины твоей? Как найти грань, отделяющую в тебе зло от добра? Найти и определить меру своей ответственности. Оставляю всю свою срочную работу и читаю обвинительное заключение по делу Сумина Юрия Васильевича, двадцати трех лет от роду, ранее не судимого. Улегшееся было утреннее раздражение поднималось по мере чтения обвинительного заключения. Расследование вел и закончил Иванов, я его хорошо знаю по работе и не люблю его дела. Лысоватый, рыхлый, более чем зрелых лет старший следователь прокуратуры был из тех людей, для которых важнее всего форма. Иванов скрупулезно соблюдал формальности при оформлении доказательств и при этом любил, чтобы дела его были, что называется, без сучка, без задоринки — гладкие, прямолинейные. На эту гладкость попадались молодые, неопытные судьи, особенно из тех, что не имели за плечами собственной следственной практики. Моя же прежняя работа в качестве следователя научила меня бояться усредненности и полировки. Никогда — ни раньше в прокуратуре, ни теперь в суде — не встречалось мне случаев, чтобы разные люди давали абсолютно одинаковые показания. Каждый видел события в соответствии со своим возрастом, интеллектом, вниманием и множеством других, только ему присущих особенностей. У следователя Иванова свидетели по делу говорили одним языком и видели все одними глазами — его, Иванова. Подводные рифы отлакированного следователем дела страшны для истины. И я твердо знала, что круглые формальные фразы, характерные для ивановского лексикона, мне придется расшифровывать в судебном заседании так же тщательно, как он их зашифровывал. Итак, во дворе дома Сумина после совместной выпивки возникла ссора, перешедшая в драку, во время которой хозяин схватил нож и нанес своим гостям ранения, от которых один скончался, второго же, истекавшего кровью, сумели спасти в больнице. Были и очевидцы драки. Сосед Сумина, глядевший из-за забора, две девушки, гостьи Сумина, и, конечно, оставшийся в живых потерпевший. Как и ожидала, никаких нюансов событий в обвинительном нет. Гладко и кругло. Драка, хулиганские побуждения. Я вздохнула. Рассмотрение дел об убийстве в драке, как правило, трудно. Кто кого и как ударил, за что, почему? Кто зачинщик, кто активный, кто разнимал, если были такие. Последнее по подобным делам всегда для меня крайне важно. Феномен людского невмешательства в экстремальные ситуации я склонна объяснять и нашими ошибками, следственными и судебными. Не секрет, что под одну гребенку стригут зачастую и драчунов, и тех, кто ввязался в драку, чтобы унять ее. Так проще, но так несправедливо. Ну ладно, здесь, как говорится, баш на баш. С обвиняемой стороны всего один и с потерпевшей — один. Живой один — поправила себя, закрывая дело. Жесткий картон обложки от моего неловкого жеста щелкнул по настольному стеклу, на звук подняли головы мои коллеги. Я вздохнула и ответила на молчаливый вопрос: — Убийство в драке. — Напурхаешься с дракой, — сказала опытная Алевтина, подтверждая мои предчувствия, — кто расследовал дело? — Иванов. — Ну-у, — протянула она, — тем более не завидую. — Кого убили? — тихо спросила Лидия Дмитриевна. Этот вопрос задан не любопытства ради. Жила и кровоточила в женщине незаживающая рана. Скоро три года как судьба, нагородив порогов на таежной реке, бросила на них лодку ее единственного сына, чернобрового красавца Женечки, студента-журналиста, в летние каникулы мотавшегося с археологами. Осталась Женечкина жизнь на Гунских порогах и принадлежит прошлому, как наскальные надписи, которые он не успел прочесть. А мать остро переживает всякую утрату чужой жизни. Особенно молодой. Особенно мальчишечьей… — Парни дрались, — ответила я уклончиво, — некогда сейчас листать дело, а в обвинительном ничего о потерпевших нет. Это было правдой. Коллега понимающе кивнула: — Иванов есть Иванов. Его уже не переделаешь. На завтрашнюю коллегию у меня три кассационных дела. Это мало. Но еще ведь не закончена работа над протоколом недавнего судебного заседания. Дело было многоэпизодным, объемным, и, хотя я очень надеюсь на Галку, все же тщательно проверяю, не упущено ли чего. Как говорили древние — доверяя, проверяй. Подпись-то на протоколе судебного заседания не только секретаря — первым протокол подписывает судья. Решаю, что записи придется взять домой, посидеть ночку-другую. Иначе не управлюсь. И принимаюсь за кассационные дела, которые будем рассматривать завтра. Начинаю с приговора, потом изучаю протокол судебного заседания. Привычно и быстро проверяю соблюдение сроков, нахожу расписку и убеждаюсь, что обвинительное заключение вручено в установленный срок, соблюдено право на защиту, правильно назначен режим отбывания наказания. Фабула дела проста — квартирная кража, вещи изъяты у покупателя, которому вор сбыл их по дешевке. Вот люди! — возмущаюсь про себя. Случись у самого кража — разнесчастным будет считать себя человеком. Чужое же добро скупил за бесценок. По одной цене можно было понять: неправедное добро, не нажитое трудом. Ну да наказан скупщик неплохо. Денежки его вор спустил, а вещи-то хозяину вернули. Поди теперь взыщи с вора убытки. Характеристика у воришки только из колонии, где раньше отбывал наказание и тоже за кражу. Значит, выходит по всему, что суд, лишив его свободы, поступил с ним сурово, но справедливо. Дело замечаний не вызвало, я заполнила вводную и описательную части кассационного определения. Резолютивная часть появится завтра в совещательной комнате. Дружеские наши отношения нисколько не мешают Алевтине Георгиевне, нашему неизменному председательствующему кассационного состава, требовать от нас полностью исполнять кассационное определение в совещательной комнате. Сколько же нам приходится писать! Иногда рука болит в плече от напряжения и устают пальцы. Но это ничто по сравнению с горьким чувством напрасной растраты драгоценного времени, так необходимого правосудию. Растраты до обидного расточительные, недопустимые! Совсем недавно, в том трудоемком процессе мы, судьи, все трое, рассевшись в перерыве по разным углам зала, до головной боли считали на бумажках шестизначные похищенные суммы. Мы не имели права на ошибку, на просчет. У подсудимых в руках были тетради, и за каждый рубль они страстно сражались — избави Бог приписать им лишнее, то, что не доказано в суде. А вечером в овощном магазинчике, совершенно одуревшая от цифр, с черной завистью я наблюдала за пальцем, украшенным перстнем и темной окаемочкой под алым ногтем, тыкающим в клавиши маленькой счетной машинки. Продавщица небрежно назвала мне стоимость моих овощных приобретений. В нашем же областном суде всего два счетных мастодонта, метко прозванных припадочными. И те в перманентном ремонте. А маленькие поющие магнитофончики, с которыми разгуливают по улицам компании юнцов! Мне бы такой в судебное заседание, да машинистку, чтобы с ленты отпечатать протокол. Тогда не сидеть бы мне ночью над бумагами, а отдохнуть хорошо и сесть в процесс свежей, здоровой, не угнетенной усталостью и хронической нехваткой времени. Людям я хочу отдавать свои силы. Людям, а не мертвым бумагам. Ах, судебная реформа, судебная реформа! Мы обсуждали ее проект и расстроились. Для предотвращения судебных ошибок предложены такие сложные заслоны, а простого, элементарного, но крайне необходимого — нет. Вновь расходится в ней форма и содержание. Что хорошего, если в зале судебного заседания, пока отдыхают подсудимые, не трое, а семь судей будут считать на бумажках причиненный преступниками ущерб? Дешевое правосудие дорого обходится государству — эта фраза стала звучать чаще, но остается пока фразой. Все достижения техники обходят стороной производство справедливости, где преобладает спрос с судей, а собственные их человеческие проблемы остаются даже не на втором — на десятом плане. Проблемы сохранения сил и здоровья, проблемы высокого интеллекта и глубоких знаний. Проблемы, проблемы…. а в сутках всего двадцать четыре часа, а судьи устают и болеют, и у каждого есть семья, и эти проклятые, навязшие в зубах очереди, очереди, очереди… Из раздумий вывел меня телефонный звонок и, пожалуйста, как иллюстрация к моим размышлениям, раздался в трубке подозрительно приглушенный голос моего дорогого сыночка. — Мамуля, ты представляешь, какая удача! Папа заболел и забрал меня из садика пораньше. Так что с работы — ты сразу домой. И не надо тебе крюк за мной делать! Вот уж, действительно, "удача”. — Что там с нашим папой? — спрашиваю у Сашки, — и почему ты шепчешь? — Понимаешь, он не велел звонить тебе. Говорит, к концу дня сообщим. Он уснул, а я тебе звоню из кухни, потому что это же хорошо, что тебе крюк не надо делать. Хорошо ведь, да? — допытывался сын. Ах ты, добрая моя душа! Это, оказывается, он переживает за меня. Точно, я как-то сказала мужу, что к детсадику за Сашкой делаю с работы большой крюк, вот он запомнил… — Сашуля, мне за тобой десять крюков сделать нетрудно, — успокаиваю сына, — я за тобой на орбиту полечу! Слышу счастливый смех сына и переспрашиваю: — А с папой что случилось? — У него пемпература. — Проснется папа, пусть мне позвонит, — прошу и прощаюсь с сыном, зная, что скоро он позвонит мне опять. Ну вот, пожалуйста. "Пемпература”, как говорит сын. По городу гуляет гнуснейший грипп и, видимо, заглянул в мою семью. Зачем же Игорь забрал Сашку из садика? Конечно, из добрых побуждений, но ведь заразит ребенка, а Саша так трудно болеет! И я так страшусь его болячек, что просто теряю разум. Наверное, меня можно понять. В моей маленькой квартире, мне кажется, витает и постоянно пугает меня дух наших безвременно ушедших дорогих людей. Скорей бы сменить квартиру. И комната отдельная была бы у сына, и, может, избавилась бы я, наконец, от воспоминаний о том, большом Александре, с которым счастлива была здесь. Кстати, если быть откровенной, не последнюю роль в моем переходе из прокуратуры в областной суд сыграло обещание квартиры. Больше года минуло, и я все жду. Теперь уже, говорят, со дня на день сдадут новый дом в центре города. Большой, красивый, светло-серый, изящным полукругом опоясывающий центральную площадь. Я ежедневно хожу мимо и любуюсь им, но чувства мои чисто платонические. Судья там квартиру не получит, нет. Но "за выездом” освободятся совсем неплохие квартиры. Одна-то из них и предназначена мне. Хлопот, конечно, будет море. В "престижные” дома в центре переезжают, как правило, люди, не удручающие себя ремонтом оставляемых квартир. Но это для нас пустяк. Справимся, получить бы. И сделать комнату Сашуле, на будущий год сыну в школу, а мы до сих пор все трое — в одной комнате. Звонок сына оторвал меня от дела, отвлек. Пришлось вспомнить, что холодильник пустоват для моего хворого семейства. Крохотное семейство, а вот поди же ты! Назавтра нужны продукты, чтобы приготовить мужчинам полный обед. Значит, надо подкупить кое-что. Что? Где? Когда? — это не телевизионная программа. Это ближайшие задачи, которые предстоит мне решить дополнительно, выполняя долг уже не служебный, а семейный. Я не промолвила ни слова, но, едва положила трубку, подняла голову Алевтина: — Я в обед бегу в молочный… — Я в хлебный зайду из поликлиники, — буркнула Лидия Дмитриевна, которая ходила в перерыве на уколы и панически их боялась. Ну вот, молочный и хлебный вопрос решен. Остается мясной, овощной и лекарственный… Открываю другое дело, читаю кассационную жалобу осужденного. Просит о снижении наказания. Проверяю материалы по отработанной схеме: сроки, право на защиту, предание суду, режим содержания… Фабула, характеристики. Надо подумать, подумать. Человек не судимый раньше, работал неплохо. Ох уж эти мне семейные драмы! Доводы осужденного кажутся мне достаточно вескими: он беспокоится за детей, оставшихся с бабкой. Жена добровольно ушла лечиться от пьянства, которое и было причиной трагедии. Нет, конечно же, я не оправдываю мужа, распустившего кулаки, но пьющая жена, мать… И лечиться пошла добровольно, значит, поняла кое-что. А дети, они за все отвечают, страдают за все больше всех… Да, здесь надо подумать. Чувствую, будь я за судейским столом по этому делу, не подала бы голос свой за тюрьму… Рассказать бы коллегам… Краем глаза вижу, что они уткнулись в свои дела, читают. Не буду отрывать. Решим завтра, в совещательной. Мое мнение определилось. Я буду предлагать изменить приговор в части наказания. Так будет правильно. Третье дело и достать не успела — обед. Один час неслужебного времени, отпущенного трудовым распорядком, так сказать, на отдых и принятие пищи. С последним определимся потом, а сейчас — отдых. Алевтина не требует моих указаний. — Возьму что есть, — коротко бросает она и уходит — прямая, подтянутая, с гордо вскинутой головой и походкой от бедра, ей уже за пятьдесят, но спортивная молодость сказывается до сих пор. Мы выходим вместе с Лидией Дмитриевной. Я прошу ее: — Батон белого, полбулки черного и, пожалуйста, если будут, для Сашки — рогалики или плюшки какие-нибудь. Он любит. Может, пряники, — говорю, стыдясь себя самой, потому что знаю — за пряниками отдельная очередь, они в другом отделе. Лидия Дмитриевна морщится от моих заискивающих ноток и спрашивает: "А сушки?” — "И сушки тоже”, — обрадованно отвечаю я и устремляюсь бегом к автобусу: мне повезло и две остановки я прокачусь, как барыня, вместо того чтобы бежать вся в мыле. И время сэкономлю. С опозданиями у нас строго. А попробуй управиться на рынке за 20–30 минут! Теперь же у меня в запасе лишний десяток этих минут, и я очень довольна. Удача с автобусом продолжается и на рынке: свинина, свежая деревенская курица, покрытая нежным желтоватым жирком, два кило картошки — заодно уж кило соленых огурчиков болящему — мигом перекочевали эти богатства в мою бездонную сумку. Поколебавшись секунду, беру еще "греческие” орехи (Сашкино название) и два зеленых огурчика для сына. Огурчики пахнут просто опьяняюще, самые ранние, привозные, но и "кусаются” они тоже здорово… Ладно, скоро зарплата, разбогатеем опять. А сегодня мой сынуля будет удивляться: "Мамочка, огурчики, какие вку-у-сные”. Славно так растянет: "вку-у-сные”… С Алевтиной мы возвратились одновременно, и нас уже ожидал заваренный чай, нарезанный хлеб. Она купила сметану, и мы отобедали вкусно и быстро, глядя не на еду, а в уголовные дела. Еще раз мне позвонили Сашка и смущенный Игорь, который сообщил, что лекарственные вопросы провернул, самостоятельно. Едва успела изучить третье дело — закончился наш рабочий день. Лидия Дмитриевна не спешила в свою пустую квартиру, оставалась еще поработать. Меня же ждал хворый муж и нетерпеливый сын. Глянув, как я укладываю две сумки, поднялась Алевтина Георгиевна: — Дай-ка я тебя, мать, подброшу. Хребет переломишь такими сумищами, — сказала она покровительственно-ворчливо. У Алевтины был старенький "Москвич” самого первого выпуска, тот, горбатый и прочный, что сейчас вызывает улыбку. Как лихо Алевтина водила его, сидя за рулем независимо и гордо, словно это был по меньшей мере серебристый лимузин. ’’Москвич” безжалостно дребезжал, стрелял вонючим дымом и от него шарахались нарядные легкомысленные "жигулята”. Как бы то ни было, это был транспорт, и совершенно неожиданно я мигом и без напряга оказалась возле дома. — Не знаю, как вас и благодарить, — начала я, пытаясь закрыть дверь драндулета. — Ладно, — прервала меня Алевтина, протянула длинную руку, захлопнула дверцу и укатила. Дома все завертелось по-новой. Сашка непрерывно болтал и ходил за мной, как привязанный, для верности трогая меня рукой. Игорь сидел виноватый и красный, чихал в большое вафельное полотенце, натужно кашлял. Конечно, к гриппу у него привяжется, если уже не привязался, бронхит. Саша лез и к нему, строгости не помогали, и я махнула рукой: все равно в одной комнате его не убережешь. Как пить дать, заболеет. Назавтра оба моих мужика оставались дома и пришлось приготовить им кормежку с полной выкладкой. Я крутилась на тесном пятачке кухни, помешивая борщ и домывая посуду, из комнаты попискивал Сашка, ожидая от меня вечерней порции ласки и обязательную сказку, папка с протоколом судебного заседания прикрывала на подоконнике стопку газет и свежий "Огонек”. А я устала. Сильно, капитально устала сегодня. Так некстати заболел Игорь! Впрочем, когда это болезнь была кстати? Первой жертвой моей усталости стал, конечно, сын. — Сашуля, — начала я заискивающе, — сынок, ты сегодня меня амнистируй, а? Сашка молча сопел, не сдавался. — Папа тебе сказку расскажет, а я завтра — две. Понимаешь, работу принесла и газеты еще не смотрела. Ну, ведь сам понимаешь, смешно и подумать, что судья газет не читает. Надо же мне все события знать, а то будет у тебя мама отсталая и несознательная… — Ты и так несознательная, — сурово ответил мне сын, — я тебя весь день ждал, как раньше будто. А папа гнусавый, чихает и не надо мне его голос. Сашка, сын. Он ждал меня, "как будто раньше”. Я понимаю, что это значит. Сашка ждал маму целых пять лет, и я не вправе обмануть его ожидания. Я — его мать. Он мне дороже собственной жизни, он возродил во мне радость и бесконечно множил ее. Огонек интереса, вспыхнувшего в его глазах при первом нашем совсем случайном знакомстве, зажег мои гаснувшие материнские чувства, и они разгораются все жарче, обжигая душу. Я опустилась на колени перед постелью сына, опустила голову на его слабенькую грудь, а он запустил ручонки в мои волосы и шепнул, щекоча губками ухо: — Мулечка, на дворе висит мочало… Сашка меня понял! Мой сын уже сочувствует мне, жалеет и помогает, как может! Это была наша игра, присказка-малютка, заключавшая обычно вечер. Я подхватила: — Это сказочки начало. — Зацветает огурец… — шептал ласково сын. — Вот и сказочке конец! — закончила я, поцеловала Сашку и ушла продолжать свой день, хотя за окном плотная весенняя ночь давно развесила темные свои покровы, украшенные редкими пятнышками желтых фонарей. Газеты. Мельком. Самое нужное. "Огонек”. Пролистываю. Может, вот это прочту в постели. Хотя нет, Игорь болен. Протокол. Страница. Страница. Мои записи. Страница. Еще. Еще. Еще. Дважды заходил Игорь, пил теплый чай, глядел блестящими от жара глазами и не выдержал, наконец: — Ложись, Наташа. Завтра будет полегче. Мне уже лучше, и к вечеру тут у тебя будет полный ажур, позанимаешься. А сейчас ложись, день-то был трудный. Ложись, а то отберу бумаги, — грозит он. — Да обычный был день, Игорь, то есть обычно трудный. Выдюжим. Но я слушаюсь мужа, шучу: — Подчиняюсь насилию. Плетусь в комнату и бухаюсь на диван в ноги Игоря. Чтобы спокойно выспаться, мы ложимся "валетом”: наше раскладное спальное место отечественного производства не очень-то приспособлено для нормального отдыха двух усталых людей. Да еще если один из них болен весенним отвратительным гриппом. И был день первый. И был день второй — они бежали, как сумасшедшие. И вот уже мы, состав суда, готовимся к выходу из совещательной комнаты. Едва откроется дверь, Галка скажет торжественно и строго: — Прошу встать, суд идет! Люди встанут, мы пройдем за судейский стол. Все известно, все знакомо, но всякий раз перед выходом в зал я волнуюсь, словно впервые начинаю процесс. Что ожидает нас? Как пойдет дело? Что откроется перед нами? Справимся ли, будем ли справедливы? Сейчас я увижу его, Сумина. Убийцу. Еще изучая дело, пыталась представить себе подсудимого. Вставал перед глазами образ свирепого, длиннорукого, здоровенного громилы. Сутулого, мрачного, со взглядом исподлобья. Плечи широкие, кулаки огромные. Образ складывался издействий, известных по делу. Совсем непросто одному человеку расправиться с двумя молодыми и здоровыми парнями. Да еще как расправиться! Отсюда и ощущение силы и огромности подсудимого. Заседатели мои, я вижу, волнуются тоже. Дело серьезное. Убийство. Иван Тодорович Тютюнник в который раз поправляет сползающий набок галстук, не очень привычный короткой сильной шее слесаря-сборщика. Доктор Руссу держится подчеркнуто спокойно, но это и выдает его. Василий Михайлович врач-хирург. Привычный к экстремальным ситуациям у себя в больнице, он хорошо владеет собой и сидит неподвижно, ожидая команды. А как сидит-то?! — на самом краешке стула, и заброшенная на колено нога ритмично и нетерпеливо подрагивает, подрагивает… Улавливаю наступившую в зале тишину. Понимаю, Галка приготовила зал. Можно. — С Богом! — говорю без улыбки и открываю дверь в зал. — Прошу встать, суд идет! — слышу Галкин голос, унимая сердцебиение. Оно должно пройти, пока я занимаю свое место и медленно оглядываю зал. — Прошу садиться, — голос мой спокоен и ровен, волнения никто не заметил и сердце успокоилось. Эмоции долой! Начинается работа. Совершается акт правосудия. Непостижимо трудный, неописуемо ответственный. Открываю судебное заседание и объявляю, что подлежит разбирательству уголовное дело по обвинению Сумина Юрия Васильевича. Галка докладывает о явке в суд. Все на месте. Прокурор Кудимов Федор Иванович, средних лет, высокий, чуть полноватый, с красивым холеным лицом. Сидит вальяжно, расслабленно. Он человек с опытом, видно, дело не считает трудным, и его ухоженная голова лишь слегка, не выражая особого любопытства, поворачивается в сторону тех, кого перечисляет Галка. Адвокат Волкова уже разложила перед собой чистые листы бумаги, блокнот, целую стопку кодексов. Мне видно: в стопке даже Кодекс законов о труде. Галина Петровна назначена защитником Сумина коллегией адвокатов, ни Сумин, ни его родственники, если они есть, договор с адвокатом не заключали. Что ж, Волкова может хорошо сражаться за своего подзащитного, знаю по прошлым процессам. Но может и продремать весь процесс, вскидываясь изредка с ничего не значащими вопросами. Будь Волкова покрасивее — нос бы потоньше, почетче губы, фигура бы с минусом веса килограммов на двадцать — быть бы ей трагической актрисой. Артистическое дарование у нее не отнимешь, прекрасно умеет изображать гнев, боль, страдание. Я не раз поражалась, видя, как после бурного проявления таких чувств в заседании, она спокойно жует в перерыве бутерброд. Лицо безмятежно, спокойно, челюсти двигаются ритмично, размеренно — ни следа волнения. Потерпевший Реутов явился, сидит в первом ряду слева, мать погибшего Шишкова в том же ряду, в центре, и, к моему удивлению, оказывается не скорбной старушкой, как я представляла, а молодой — иначе не скажешь, рослой женщиной, одетой продуманно и со вкусом. Темный костюм, блузка в тон, чуть светлее, и траур представлен черным шелковым платком, изящно повязанным вокруг стройной шеи. Кто есть кто из свидетелей — уяснить не успеваю, прошу их удалиться из зала суда. Выходят гуськом, оглядываясь на загородку, где подсудимый. Будут ждать вызова в коридоре, на разномастных стульях. Комнаты для свидетелей у нас нет и возникают нередко комические ситуации, когда приходит пора их вызывать. Залы (их у нас два) не радиофицированы, и Галка кричит своим громовым голосом, допустим: "Иванов!" Ждем. Никто не входит. — Иванов! — опять взывает Галка. Молчание. Суд ждет. — Позовите Иванова, вот вы, — Галка просит обычно мужчину, сидящего поближе к двери. Не всегда понятно, к кому обращена просьба. Двое-трое мужчин у двери переглядываются. Если знакомы, толкают друг друга локтями. Мы ждем. Наконец, кто-то один или сама Галка выбегает. — …ов…ов…ов! — доносится из коридора. Все взгляды устремлены к входной двери. Наконец, появляется смущенный свидетель, за ним — тихо ворчащая Галка или торжествующий ее посланник, который нередко пытается тут же объяснить, где разыскал Иванова (Петрова, Сидорова — свидетеля). Казалось бы, досадный пустяк. Но пустяк ли? Сбит ритм процесса, утрачен необходимый настрой, внимание соскальзывает с главной темы. Понять бы это предстоящей судебной реформе. Что нет мелочей. Ушли свидетели. Начинается первое знакомство с Суминым. Пока мои осторожные взгляды не сумели выявить его. Виднелась из-за высокого барьерчика, окружавшего скамью подсудимых, только макушка с темным ежиком волос. Что он так согнулся, этот громила, этот убийца?! — Подсудимый Сумин! — обращаюсь к нему для выяснения личности. Сумин встает, и я, не глядя, чувствую, как заворочались мои коллеги-судьи. Доктор и слесарь-сборщик, крепкие, здоровенные мужички. Н-да. Вот тебе и представление о личности по действиям этой самой личности. ’’Громила” Сумин рост имеет, мягко выражаясь, ниже среднего. Тощ, узкоплеч, с глазами в половину худого лица и глаза эти все темные-темные, без белков — сплошь чернота. Но потом он вскидывает голову повыше, и я вижу, что впечатление глубокой черноты создают длиннющие ресницы, бросающие на лицо тень. А глаза на тонком лице живут отдельной напряженной жизнью, прячась за частоколом ресничек. Н-да. Процесс продолжается, все идет путем. Отводов нет, ходатайств нет. Переходим к судебному следствию. Оглашаю обвинительное заключение — самое нелюбимое мое действие. Я не считаю его правильным и рада, что у меня есть единомышленники. Судья, зачитывающий обвинение, в глазах подсудимого, да и публики тоже, выглядит обвинителем. Колеблется уверенность в беспристрастности судей. Кажется, что судья, уверенно и спокойно зачитывающий обвинение, уже с ним согласен, более того, высказывает и свое мнение. Тот, чья судьба будет решаться, не только слушает слова судьи, он ловит малейшие его движения, интонацию, следит за мимикой, поведением и делает свои выводы — совсем немаловажные для правосудия. Справедливость приговора тесно связана с объективностью суда, и судью не следует ставить в положение, где эта объективность в явном проигрыше. Так же отрицательно отношусь я и к закону о том, что первым подсудимого, да и, как правило, свидетелей тоже допрашивает суд. Помалкивает государственный обвинитель, пока суд бьется над допросом. И — снова сомнения в объективности. К чему они, эти ненужные накладки? Чтобы сделать процесс действительно состязательным и демократичным, давно пора расширить обязанности обвинения и защиты. Пусть государственный обвинитель оглашает свое обвинение и допрашивает первым. Затем — слово за защитой. Тогда объективный суд, выяснив все необходимые вопросы, будет делать выводы. Только выводы. Повысится роль обвинителя, тогда и ответственность его возрастет. Придется активно работать и защите. И авторитет суда, как беспристрастного вершителя дела, призванного именно рассудить, возрастет неизмеримо. Как могу, я уже давно следую своему принципу, хотя и имею от этого неприятности. Пожаловались на меня прокуроры. А почему? Да при таком методе выявляется порою их неподготовленность к делу. Иной раз ведь как? Садится прокурор в процесс, не изучая как следует материалы: в ходе процесса, дескать, сориентируюсь. Пока судья читает обвинение да допрашивает подсудимого. А он, прокурор, потом пару нейтральных вопросиков подбросит, так сказать, для сотрясения воздуха. Тогда вызвала меня Валерия Николаевна: — Ты, дорогая, говорят, процесс ведешь не наступательно… — не то спросила, не то укорила. — А куда и на кого я наступать должна? — вопросом же ответила я. — Суд не театр военных действий. — А как же воспитательное воздействие судебного процесса? — моя начальница заговорила строчками закона. — Статья 243 УПК. Знаю, — я не сдалась, — воспитательное воздействие, как я считаю, достигается объективностью суда и справедливостью приговора. Закон это имеет в виду, а не суету и нотации. По нотациям у нас тоже возникали трения. Яростно выступаю я против такого явления. Если судья морализирует в процессе, он невольно высказывает свое отношение к событиям. А высказаться должен только в приговоре, обсудив все полным составом в совещательной комнате. Недаром существует тайна совещательной комнаты. А уж какая тут тайна, если судья выговаривает всем и по каждому поводу загодя. В общем, я следую своему принципу. Приступаем к допросу Сумина. Предлагаю ему дать показания по поводу обвинения и обстоятельств дела. Сумин встает. Вялый, апатичный. Ресницы снова лежат на щеках, прикрывая глаза. Руки держит за спиной — уже привык. — Я живу один в доме умершей матери, — начинает он тихо. Галка выразительно приподнимает голову, смотрит на меня. — Погромче, пожалуйста, — прошу я, понимая трудности моего секретаря. — Один живу, — повышает голос Сумин, — и вот 10 марта утром пришли ко мне эти… потерпевшие. Принесли водку, стали распивать. Я тоже немного выпил, — он запнулся, искоса глянул на меня, — глоток-другой, не больше. Девушки были в гостях, они за стол не пошли и мне неудобно было. Ушел я к ним в комнату, а ребята остались на кухне одни. Пили. Потом стали девчат звать… Ну, мы и поссорились. Я просил их уйти по-хорошему, они не уходили, смеялись… Я Зою, Лягушенко, увел к соседу, к Перевалову Ивану, там мы ждали, что эти… потерпевшие… уйдут. А Марина в доме осталась, я волновался и вернулся. Зоя у Переваловых сидела, а я домой… Когда пришел, Марина одна была, плакала, а этих… не было, ушли. Пошел я за Зоей. Только с крыльца пару метров в ограду — они уже тут. Пьяные сильно. Этот вот, — Сумин кивнул в сторону первой скамьи, где сидел Реутов, — этот бегом на крыльцо, а тот… Шишков, у калитки. Зоя рядом почему-то, он ее за руку держит, ржет. Увидел меня, ну, говорит, держись, защитник. Крикнул я: "Пусти девчонку”, — и к дому повернул, а Пашка этот, — снова кивок в сторону Реутова, который неотрывно смотрит на подсудимого, уперев локти в колени, — Пашка там уже… Оглянулся, Шишков за спиной, Зойка ревет… В зале тихо. Все ждут кульминации. Подсудимый почувствовал это, умолк, низко опустил голову и снова мне виден только выставленный в сторону судейского стола черный ежик волос — словно колючей проволокой защищает Сумин свою бедовую голову. Молчание затянулось, пришлось вмешаться: — Продолжайте, Сумин, мы слушаем. Колючую щетку сменили ресницы-бабочки, сидящие на худых щеках. Сумин судорожно сглатывает. — Тогда я схватил нож и из хулиганских побуждений ударил вначале потерпевшего Шишкова, потом у калитки догнал Реутова Павла, тоже ударил и убежал, — скороговоркой выпаливает Сумин. Я вижу, как прокурор картинно бросил на стол карандаш, который вертел в руках во время рассказа Сумина. Этот жест означал: все ясно! Адвокат Волкова укоризненно закачала головой, глядя на своего подзащитного. Ей финал явно не нравился. Реутов даже не шелохнулся, продолжая смотреть на Сумина, а мать убитого Шишкова промокнула сухие глаза черным кружевным платочком. По залу, где сидели человек 15–20 неизвестных, прошло легкое движение, как рябь от ветерка по воде. Сумин же замолчал. Похоже, он считал свой рассказ законченным. Меня поразила краткость и заученность показаний. Никаких подробностей, никаких деталей. Сумин словно прочел вслух последний свой протокол допроса. Все признал, даже хулиганский мотив убийства. Ай да Иванов. Не зря старался. Что ж, признание признанием, а у меня масса неясностей. Масса. — У вас все, подсудимый? — спросила я. — Все. — Почему же так скупо? Хотелось бы подробнее. — Я сказал все. Остальное неважно. Убил, значит, надо отвечать. Кровь за кровь. В голосе Сумина явный надрыв, истеричность. Это плохо. Мешает. Ну ладно, пусть успокоится, будем выяснять все постепенно. Сидящий от меня слева слесарь Тютюнник громким шепотом просит: — Можно вопрос? — Пожалуйста, задавайте. Иван Тодорович всем корпусом поворачивается к подсудимому: — Я не понял, зачем ты их ножом-то? — А чем мне их? — последовал злой ответ. — Что попало под руку, тем и… Вижу, как адвокат Волкова быстро-быстро записывает этот ответ. — Так Шишков же тебя не ударил? — продолжает народный заседатель. — Он?! — воскликнул Сумин и резко отвернулся. По возгласу чувствую, что Тютюнник наступил, что называется, на больное место. Делаю отметки для себя. Вопросов уйма. Но не надо спешить. И нужно опасаться, чтобы вопрос не казался подсказкой. Ведь как бывает? В самом вопросе и содержится желаемый ответ. Нам это ни к чему. Тютюнник, видимо, понял, что начал с конца. Больше вопросов суд не имеет. Вернее, имеет, но не задает пока. Вопросы остались у меня в записях: 1. Знак. с потерп.? 2. Причина ссоры? 3. Нож? Откуда? 4. Почему все же ударил ножом? Последний жирно подчеркиваю после отчаянного вскрика Сумина, когда заседатель спросил, не ударил ли его Шишков. В деле об этом нет и намека. Включаю свою методу. — Прошу вас, прокурор, задавайте вопросы подсудимому. Кудимов недовольно морщится, потирает переносицу указательным пальцем. К капитальному допросу он явно не готов. А ведь знал, что я прокурорам не даю спуску, заставлю работать как положено. — Э-э-э… скажите, подсудимый, — тянет он, на ходу придумывая первый вопрос, — скажите, — и оживляется: — Вы ранее знали потерпевших? Приглашали к себе? Молодец, Федор Иванович. Выясняй сам то, что упустили твои следователи. Вот если бы вам, прокурорам, пришлось не расследовать, а только наблюдать за законностью и полнотой следствия, все эти обстоятельства вы бы следователя заставили проверить. И мало ли чего… как повернется дело, если картина предстанет полная… Ах, правовая реформа, где ты? — Не знал я потерпевших, — слышу ответ Сумина, — и к себе не звал. Брови прокурора взлетают. Одно дело прочитать в протоколе, что Сумин распивал спиртное с малознакомыми людьми и после выпивки, во время ссоры, из хулиганских побуждений… Совсем другое дело — услышать в суде, что, оказывается, незнакомые парни без приглашения пришли в дом к Сумину, где выпивали принесенную с собой водку… Неувязка. Зачем пришли незнакомцы? Почему? К Сумину пришли? Или кому другому? Прокурор словно прочел мои мысли. — Как же незнакомые попали к вам в дом? Просто вот так взяли и зашли? — Ну почему так просто? У меня же не проходной двор, — с достоинством отвечает Сумин, — они Аркана искали. — Какого Аркана? — забеспокоился прокурор. Следователь Иванов никакого Аркана в происшедшем не узрел. Я вижу, как потерпевший Реутов меняет позу. Локти поднял теперь на спинку скамьи, свесил крупные белые кисти, и указательные пальцы — чуть вверх. И чуть-чуть он пошевеливает ими. Вправо-влево, вправо-влево… Совсем почти незаметно. Но я уловила. По-моему, Сумин тоже. — Так, знакомый один, Аркадий… — неохотно отвечает он. Федор Иванович потерпевшего Реутова не видит. Может, поэтому он потерял интерес к новому лицу — неизвестному Аркадию, который, получается, был общим знакомым и убийцы, и убитого, и Реутова Павла, который остался жив-здоров, сидит на первой скамье, совсем от меня близко… Появляется новая пометка в моих записях, а прокурор продолжает допрос. — Почему возникла ссора между вами и потерпевшими? Я жду ответа подсудимого и краешком глаза наблюдаю за Реутовым. Может, мне показалось?.. Нет! Белые пальцы опять слегка шевелятся. Вправо-влево, вправо-влево… Любопытно. Он что, дирижирует?! — Так, по пьянке ссора, — отвечает Сумин, и прокурор на подробностях не настаивает. А напрасно. Причина ссоры следствием не установлена, а в ней может крыться и разгадка последующего поведения участников драмы. Напрасно, Федор Иванович, вы отступили от азбучных требований закона: прокурор выясняет как уличающие, так и оправдывающие подсудимого обстоятельства. А вас устроило только первое — уличающие в пьяной ссоре. Вот погодите, адвокат вам всыплет по первое число. Волкова сегодня мне нравится: внимательна, оживлена, в глазах интерес и черкает, черкает в своем блокноте. Но, похоже, странное поведение Реутова заметила я одна. Во всяком случае, никто на него не глядит. — Еще вопросы? — обращаюсь к прокурору, видя, что он примолк и выжидает, не оставлю ли я его в покое, передав право допроса защите. — Да-да, — как бы спохватывается он, — скажите, Сумин, ну разве вам было не жаль лишать жизни молодого, здорового парня, полного сил, планов и надежд? Откуда такая кровожадность? А потом вы наносите ранение убегающему Реутову… — Но он не убегал! — перебил прокурора Сумин, глаза его открыто обратились к передней скамейке, и все мы глянули туда. Локти Реутова оставались на спинке, кисти спокойно свисали. Что? Разрешил говорить? Или все же мне сегодня грезится невероятное? — Как не убегал? — удивился Кудимов. — По вашим словам, Реутов вначале стоял у крыльца, а ранение вы ему нанесли у калитки. Да вот же ваши слова, — прокурор отложил несколько листков, нашел нужный и прочел вслух: "Потом у калитки догнал Реутова Павла, тоже ударил и убежал". Да и сам характер ранения говорит о многом. Рана-то сзади, извините, в ягодицу. Так? — Так, — кивнул подсудимый и повторил упрямо, — но он не убегал. Федор Иванович развел руками: — Ну-у… Непонятно… Давайте подробнее, подробнее. — Говорю вам, не убегал он, — в голосе Сумина слышится раздражение, он опять опустил голову, выставив вперед черный ежик волос, — там ломик был, на ночь я им калитку подпирал. Он к ломику двинул. Я за ним бежал к калитке. Нагнулся он к ломику, я его и… — Это уже после того, как раненый Шишков упал? — После, — согласно кивает подсудимый. — Так-так, — прокурор, вижу, доволен ответом, — ясненько… Пока длится этот диалог, нахожу заключение судебно-медицинского эксперта, подвигаю дело поближе к доктору Руссу. Скосив глаза, доктор внимательно читает, затем кивает мне едва заметно. Заключение подтверждает слова подсудимого. Ранение Реутова нанесено в момент, когда потерпевший находился в полусогнутом положении, спиной к нападавшему. Значит, все в обвинении верно, но о ломике тоже ни слова. Не придал Иванов значения? Мелочью посчитал? Впрочем, что было делать этому потерпевшему, как не бежать за ломиком, если на глазах его падает раненный хулиганом друг? Но, черт возьми, как досадно, что такие подробности узнаешь в судебном заседании! Ясно ведь требует закон: следствие полное и объективное. Какая объективность при отсутствии полноты картины? Прокурор, разохотившись, продолжает допрос, а время бежит, бежит. Уже не раз нетерпеливо поглядывала на меня адвокат Волкова, и я старалась не замечать, как моя секретарша демонстративно встряхивает пальцами: устала рука. Обеденное время началось и давно кончилось. Объявляю перерыв. Алевтина Георгиевна встречает меня словами: — Ты, мать, куда так гонишь? Глянь, без перерыва отмахала сколько! Тут такие события назревают, а мы дождаться тебя не можем! — Сашка?! — испуганно вскрикиваю я. Сын только-только пошел в детсад после недавней болезни. Откатали с отцом две недели в тяжелейшем гриппе, измучили меня окончательно, поэтому все события меня пугают прежде всего возможностью новой Сашкиной хвори. Сама я отчихалась на ходу — прилечь не давали работа да забота. — Нет-нет, — успокоила меня улыбающаяся Лидия Дмитриевна, — приятные события. — Да что такое, говорите, — взмолилась я, — у меня перерыв на один час, есть хочу, аж скулы сводит, а вы меня томите! — Лошадь, не надо, лошадь, послушайте, — Алевтина картинно выбросила руку в мою сторону, но декламацию прервала добрая Лидия Дмитриевна. — Квартиру, Наташа, дают тебе. Поздравляем, дождалась. Квартира! Я так и села. Долгожданная, вожделенная, прекрасная квартира! Комната сына, наш кабинет, спальня, где я спокойно переоденусь, посижу перед большим трюмо на низком мягком пуфе, вгляжусь в свое лицо, отраженное светлым чистым зеркалом. Совсем как в кино, где усталые (неизвестно от чего!) героини разглаживают несуществующие морщинки и оглядывают, обласкивают себя заинтересованным взором. Ух ты, квартира! Большая, милая, уже мною любимая квартира! Кончатся захватнические войны с Игорем за кухонный стол, где мы работали поздними вечерами. И Татьяна Ивановна, несчастная Сашкина бабушка, будет спокойно заниматься с внуком в отдельной его комнате. Татьяна Ивановна — моя особая боль. Она все понимает умом, но сердце ее постоянно болит, когда она видит меня на месте своей так трагически погибшей дочери. Не раз замечала я, как наливаются предательской влагой ее совсем молодые глаза, когда Сашок кричит мне: "Мамуля!”. Сашина мать погибла, когда малышу и года не исполнилось. Нелепая, страшная смерть под колесами "ЗИЛа”. Почти пять лет Татьяна Ивановна с Игорем растили Сашку, а потом появилась я. Работала следователем, зашла по службе в лабораторию к Игорю, увидела рисующего Сашуню и пошутила, что оба они мне нужны — эксперт и его сын. Сашка шутки тогда не принял, поверил единожды и, надеюсь, навсегда. И вот мы вместе, и мое исстрадавшееся, тоже трагически потерявшее любовь сердце прильнуло к ребенку так сильно, что никакими силами не отнять. Мой старый друг Антон Волна говорит теперь, что я самая сумасшедшая из всех матерей. Наверное, он говорит правду. Любовь к сыну помогает мне жалеть Татьяну Ивановну, которая не может быть с нами и не может быть без нас. Квартира! В Сашкиной комнате бабушка даже ночевать сможет и мне помощь будет, особенно когда мальчик болеет и я разрываюсь на части между ребенком, больницей, очередями, работой. Квартира! Открыто и сильно прижмет меня Игорь к широкой груди большими, всегда чем-то обожженными руками, и я не буду сдерживать счастливого вздоха, потому что я люблю и его, моего мужа, и мне хочется гладить крупные его плечи и целовать ладони и мне хочется, чтобы мы были в такие минуты совсем-совсем одни. Квартира! — Даты никак ошалела от счастья, мать! — вывел меня из оцепенения голос Алевтины. — Зайди к Валерии, она тебя просветит насчет квартиры. Ей звонили из исполкома. Забыв про голод, бегу к своей начальнице. — Поздравляю, дорогая, — торжественно говорит мне Валерия Николаевна и ради такого случая выходит из-за стола, семенит ко мне короткими ножками и, приподнявшись на цыпочки, целует в щеку: — Наконец-то пробили тебе квартиру! Скольких трудов мне это стоило! — Спасибо, — искренне благодарю я. Валерия Николаевна правда пробивала мне квартиру. Знаю, от нее многое зависело. Она ходила со мной в исполком, подписывала разные бумаги, ходатайства, просьбы, характеристики. Выбивала, одно слово. Как судья, я имею множество прав там, за судейским столом. Отрываясь от судейского стула, я превращаюсь в мелкого бесправного чиновника, зависящего от милости всех: исполкома, который может дать мне квартиру, а может и не дать; ЖЭКа, который чинит мне кран на кухне в жестко установленные рабочие часы слесаря, легко помещающиеся внутри моего служебного времени; детского сада, куда мне с большим крюком приходится водить сына, хотя рядом с домом, за углом, прекрасный сад машиностроительного завода, где места для Сашули нет; обкома профсоюза, который не имеет путевки для отдыха моей семьи, и мы ездим к морю дикарями… То есть, конечно, я могу все получить. От земли я не отрываюсь и четко осознаю: да, могу, если забуду главное: судьи независимы и подчиняются только закону. Мой статус судьи не ограждает меня от унизительных просьб и я сама, как могу, избегаю их, сохраняя свою независимость, чтобы подчиняться только закону. — Как дело идет? — продолжает Валерия Николаевна. — Тебе завтра с утра надо за ордером, так что разрешаю процесс отложить до обеда. Ну, а посмотреть квартиру можешь уже сегодня вечером. Вот тебе телефон. Петр Яковлевич Семенцов, — и понижает голос: — Заведующий отделом обкома, учти. — Спасибо, — я беру листок от календаря и соображаю, как мне успеть все это провернуть. Первое: звонок Игорю. Второе: звонок Семенцову. Третье: на утро у меня вызваны свидетели. Я уйду за ордером, люди будут ждать. — Валерия Николаевна, можно за ордером после обеда? Свидетели придут, неловко. — Ты, дорогая, словно ребенок, — почему-то обижается моя начальница, — все придут утром, получат ордера, а тебя, как барыню, будут ждать. Вот уж действительно, барыня. Кто-то будет меня ждать, пока я допрашиваю свидетелей по делу убийцы Сумина! — Да ведь люди тоже с работы… — пытаюсь возразить. — Вот видишь, тоже… И ты с работы. Я тебе навстречу иду, разрешаю процесс отложить на полдня, а ты еще привередничаешь, дорогая. Ну, что ж, придется извиняться. За разговорами половина перерыва проскочила, я еще раз благодарю Валерию Николаевну и несусь в свой кабинет. На столе у меня уже стоит стакан успевшего остыть чаю и бутерброд с сыром лежит на старом пожелтевшем бланке приговора. Благодарно киваю коллегам, откусываю бутерброд и трясущейся от нетерпения рукой кручу диск телефона. — Игорь! Бесцеремонно прерываю бурные восторги мужа, запиваю кусок хлеба чаем и снова за телефон. У меня осталось всего семь минут, но я говорю СПОКОЙНО, с достоинством. — Петр Яковлевич, добрый день. Тайгина беспокоит, Наталья Борисовна. Семенцов обладает хорошо поставленным начальственным басом и, даже не спрашивая, удобно ли мне, уведомляет, что я могу осмотреть квартиру от 20 до 21 часа. Серьезный товарищ. Допиваю чай, бегу к двери, но меня возвращает звонок. Приятель, Антон Волна, с которым я дружу много пет, уже извещен, поздравляет и строго говорит: — Квартиру смотрим вместе. Если все путем, суббота-воскресенье ремонт, а потом новоселье. — Ладно, ладно, Антоша, — смеюсь я, — бегу в судебное. Ждем вас с Люсей в половине восьмого. — Прошу встать, суд идет! Я выхожу из совещательной комнаты, за мной Тютюнник и Руссу. — Прошу садиться. Продолжается допрос подсудимого Сумина, — говорю я, с трудом гася в голосе радостные нотки, не приличествующие ситуации. — Вопросов к подсудимому пока не имею, — привстал со стула прокурор. Ну что же вы, Федор Иванович? Леность обуяла или действительно все ясно? В своих записях я ни одной галочки не поставила, мои вопросы ответа не нашли. Важные вопросы. Даже архи-важные, я бы сказала. Ну ладно, это только начало. "Торопись медленно” — это, по-моему, древние мудрецы сказали специально для судей. — Пожалуйста, защита, — обращаюсь я к Волковой, которая уже, что называется, бьет копытами: быстро перелистывает блокнот, надела свои бифокальные очки — предмет моей тайной зависти. Я уже успела испортить себе зрение постоянным чтением уголовных дел, где протоколы частенько сродни клинописи. И началась маята с очками. Говорить об этом не хочется и мне противно представить со стороны, как я надеваю буро-коричневые колеса, чтобы читать, а потом снимаю их, чтобы видеть зал. Забуду снять — зал заполняется безликими зыбкими тенями, от которых кружится голова. Волкова мне сегодня положительно нравится. Участвует в деле по назначению. За свой труд будет получать из колонии грошовые переводы. Но кроме денег есть еще профессионализм, адвокатская гордость, деловой азарт. Она еще не приступила к допросу, а я чувствую в ней этот азарт, готовность к драке. Это хорошо! Очень! — Сумин, давайте все же вернемся к началу, — говорит адвокат, — мне непонятно, кто такой Аркадий и почему потерпевшие искали его именно у вас? Я кошусь на Реутова и снова вижу приподнятые пальцы. — Ну-у… это один мой знакомый, — нехотя тянет Сумин. — Где вы с ним познакомились? Когда? И вы не ответили, почему его искали в вашем доме. — Не помню, где познакомился. Какое это имеет значение?! — опять раздражается подсудимый. — Сумин, — строго говорит адвокат, — я, ваш защитник, считаю этот вопрос важным. Подумайте над этим и отвечайте. Почему Аркана искали у вас? Кто он? Волкова умеет быть настойчивой. И стратег неплохой. Я знаю, не случайно она назвала сейчас неизвестного кличкой. Аркан. Значит, наверняка придала значение этому обстоятельству. Потерпевшие, набрав водки, искали парня, имеющего кличку. Аркадий — Аркан. Может, это ребячье прозвище? Или все же то, что называется по-блатному кликухой? А Сумин явно не хочет отвечать. Но не выдерживает молчания. — Может, думали, что он у меня… — Он часто бывал у вас? — Волкова подходит с другой стороны к неизвестному Аркану. — Ну, бывал… — Часто? — Ну, часто… — Так кто же он? — Ну кто… человек… — Где работал? — не отстает Волкова. — Не знаю. — А жил где? — У меня… — слышится ответ, и адвокат удовлетворенно повторяет: — Значит, Аркан жил у вас. Выходит, поэтому его искали в вашем доме потерпевшие? Сумин молча кивает и отворачивается от зала. Если точнее, от белых приподнятых пальцев Реутова. — К Аркану мы еще вернемся, — обещает адвокат и задает новый вопрос: — Шишков и Реутов ждали его? — Да. — Зачем? — Спросите у них, — зло отвечает Сумин и опускает голову. С передней скамейки слышится горький вздох. Шишкова уже не спросишь. И мать вздыхает, вынимая платок. — Почему вы поссорились с Шишковым и Реутовым? Из-за чего? — продолжает адвокат допрос подсудимого. — Из-за девчонок поссорились. Они к девчонкам хотели подкатиться, а я не давал… Зойку кадрили. — Как это? Я внимательно слушаю, но продолжаю незаметно наблюдать за Реутовым. И окончательно убеждаюсь, что он влияет на ответы Сумина. Был явно недоволен, что Сумин сказал о месте жительства Аркана. Теперь также явно не желает, чтобы подсудимый распространялся о причине ссоры. Пальцы шевелятся, шевелятся… Сам сидит неподвижно, а пальцы… Ну и кино! Главное, что Сумин реагирует, считается со знаками потерпевшего, удивительное дело. А причину ссоры надо выяснять. Этот вопрос у меня записан вторым. Ответом на первый я не удовлетворилась и второй вопрос тоже остается открытым. Сумин отвечает односложно: — Да так. Перевернув авторучку, Волкова постукивает ею по столу: — Сумин, Сумин, не забывайте: я ваш адвокат. То, что я спрашиваю, — важно. Или вы не хотите выяснить истину? В чем проблема? — Проблема у каждого своя, — тихо-тихо говорит Сумин, и черные ресницы-бабочки начинают часто порхать, — у кого жемчуг мелкий, у кого слезы крупные — у всех разное… В зале кто-то хихикает. Сумин, да и все мы смотрим туда, в зал. Народу немного. Несколько человек в возрасте на разных рядах со стороны выхода — видимо, случайные люди, просто любопытные. За спиной матери погибшего полноватый лысеющий брюнет в более чем зрелом возрасте. Муж Шишковой, наверное. Отчим убитого, как помнится по делу. Рядом с ним — две женщины. Тоже холеные, разодетые. А хихиканье донеслось из последнего ряда, где на скамейке плотно, как зубы, сидят молодые люди. Парни, девчонки в петушиных ярких курточках, взлохмаченные, всклокоченные и Бог знает какие. Судя по веселым глазам, за Сумина они не болеют, трагедии в происходящем не видят. Смотрят спектакль, где кто-то из актеров им знаком. Под моим строгим взглядом их улыбки гаснут, лицемерно серьезнеют лица. Интересно, а у Сумина что, нет в зале болельщиков? Похоже на то. Правда, может, вон та бабуля в вязаном платочке, которая с самого утра в зале и сидит у окна, далеко от выхода, следовательно, уходить быстро не намерена. Да, наверное, родственница какая-нибудь. Тетка, скорей всего. Неужели и девушка его не пришла, Сумина-то? И тут же вспоминаю: Марина Морозова, подружка Сумина, сидит в коридоре и ждет допроса, она же свидетель по делу! Вспоминаю и успокаиваюсь: Марина расскажет про Сумина подробнее. Ведь дружили. И она про Аркана знать должна. И события во дворе частично видела. Расскажет. Только надо ее обязательно сегодня допросить. Чтобы этот… дирижер… не повлиял. Глянула на часы. Господи Боже, время-то не стоит на месте, бежит, как сумасшедшее. Пока капризничает подсудимый, истекает рабочий день, первый в процессе, который Валерия Николаевна назвала несложным. Оно, конечно, в протоколе судебного заседания весь сегодняшний день займет совсем немного страниц, и Галка-секретарь не запишет, как подсудимый молчит, смотрит исподлобья, уклоняется от ответа на, казалось бы, совсем невинные вопросы и как строго пошевеливает пальчиками потерпевший; как насупилась, сердясь, адвокат Волкова… Ничего этого в протоколе не будет, но судьи все должны видеть и учесть, все положить на чашу весов правосудия. Однако же как мне допросить Марину сегодня? Ведь еще у меня потерпевшие… Сколько времени займет их допрос? Сашулю из садика заберет Игорь, до дому мне, если удачно, минут сорок пять, к половине восьмого приедет Антон с Людмилой, и я, наконец-то, увижу свою новую квартиру. Решаю: домой не успеть. Позвоню, чтобы ребята подъехали к суду и отсюда — к Семенцову. А до тех пор буду работать. Как минимум, можно посидеть часов до восьми. Только сделать небольшой перерыв, позвонить домой, договориться с начальником конвоя, уговорить прокурора, адвоката, а потом извиниться перед всеми… Судьи независимы. Подчиняются только закону. Обстоятельствам не подчиняются. — Товарищ адвокат, еще есть вопросы? — поторапливаю Волкову, которая, вижу, раздражена поведением своего подзащитного. — Сумин, где вы взяли нож для нанесения ударов? — сердито спрашивает Галина Петровна, не поднимая глаз. Она что, Волкова, в мои записи смотрит? Это же мой третий вопрос! Впрочем, чему удивляться? Судья и адвокат, мы — юристы и сумели увидеть слабые места обвинения. Сумин почувствовал перемену в настроении защитника, ответил виновато и подробно: — Нож этот всегда у крыльца лежал. Старый он, ржавый. Им с подметок счищали грязь. Откуда он появился — не знаю, это еще при матери было, когда она жива была. Мать чистоту любила и нас приучила. Обувь всегда у порога чистили, когда на улице грязь. Сперва ножом, потом о тряпку вытираем. Вот этот-то нож я и схватил. Но что мне делать-то было?! — воскликнул вдруг он. Впервые из-за спины показались его руки, охватили голову, как-то странно, от самого локтя прикрыли, и весь он закачался за барьером, глухо застонал, заскрипел зубами. Тихо-тихо стало. Только эти звуки — сигнал человеческого горя. Дрогнуло жалостью сердце. Этот Сумин Юрий и сам собственная жертва. А ведь тоже дитя человеческое. ’’Прочь эмоции", — командую себе. А нужно ли гнать их? В конце концов, разум без эмоций — вариант робота. Лишь эмоции не воссоздаются в модели и вместе с разумом делают человека тем, что он есть. Судьи — не исключение. Сумин между тем справился с собой и круто вдруг изменился. Исчезла влага из огромных глаз, они сухо и воспаленно блеснули. Словно и не было отчаянного вскрика, ровным и злобным голосом он отчеканил: — Отказываюсь давать показания. Больше ничего не скажу, решайте, как хотите. Волкова обескураженно развела руками, а прокурор, улыбнувшись, откинулся на стуле: вот он, характер убийцы. И суд ему нипочем! Доктор Руссу, заседатель, склонившись ко мне, прошептал: — Не трогайте сейчас его, Наталья Борисовна. Он на грани нервного срыва. Я кивнула. Это я и сама видела. Истерический надрыв — первый спутник неверия в справедливость. Я училась бороться с ним, читала книги по психологии и экспериментировала: ничего другого мне не оставалось делать. Мой, хотя небольшой, но опыт подсказывал сейчас: нужно оставить Сумина в покое. Не раздражать, не расспрашивать. Пусть успокоится. В любой момент мы можем вернуться к допросу. Делаю перерыв на 15 минут, утрясаю оргвопросы. Все, конечно, недовольны, но, хоть и нехотя, соглашаются. Начинается допрос потерпевшего Реутова. Он встает лениво, словно по частям, неторопливо выпрямляется, закладывает руки в карманы и тут же вынимает их. Прошу подойти к трибуне, подходит тоже медленно, не торопясь. В глазах отчего-то вызов. Почему? Рассказ начинает нехотя, рубит короткие фразы. — Утром Алик пришел. Ко мне. Позвал к другу. Того не оказалось. Выпили у этого вот, — кивок в сторону скамьи подсудимых, — пошумели малость не из-за чего. Он сам в пузырь полез, первый. Потом и вообще смылся. Чего ждать? Ушли. Алик кейс забыл, вернулись. Там девка в ограде. Алик кадриться стал, та, дура, в крик. Выскочил Юрка, глаза аж белые. А чего мы сделали? Он за нож. Алика саданул, потом меня. Вот и весь сказ. Реутов умолк. Высокий, длиннорукий, пожалуй, слишком худощавый, но в широких плечах чувствовались уверенность и сила. Светлые прямые волосы спадают на воротник модной трехцветной курточки. Отслужил в армии, работает в телеателье мастером. Что свело их с Шишковым? Что заставило искать таинственного пока Аркадия. — Аркана? Задаю все эти вопросы и получаю односложные ответы, не приносящие ясности. — С Аликом Шишковым вместе служили, Аркадия не знал, пошел за компанию с Аликом, зачем тот искал Аркадия — не интересовался… Привстал со стула прокурор: — Вопросов к потерпевшему Реутову не имею. Адвокат Волкова, не в пример Кудимову, долго билась, пытаясь вытянуть подробности и, наконец, сдалась: Реутов ссылался на погибшего Шишкова, отведя себе роль случайно попавшего в переделку человека. И только на вопрос, почему он все же бросился к ломику, хитро блеснул глазами на прокурора, хотя спрашивала адвокат: — Так это после того, как Алик упал. Вот, Федор Иванович, как вы вопрос свой подсудимому обозначили: потерпевший нашел в нем ответ и готовое объяснение. Не мудрствуя лукаво. Пришел черед матери Шишкова. Она вышла к трибуне, со скорбным достоинством и подробно, не дожидаясь вопросов, принялась рассказывать о погибшем сыне. Мы узнали, что Алик рос послушным и здоровым, увлекался спортом, учился легко и хорошо. Любил музыку, имел много друзей и последнее ему не просто вредило, а сыграло роковую роль: попалась другая компания и Алика вовлекли в плохие дела, судили. Но и там, в тюрьме, он вел себя хорошо, его отпустили досрочно, и он обещал, что все будет нормально, устраивался уже на работу, когда случилась эта ужасная трагедия. Собственно, все это было известно из дела, ничего нового Шишкова не добавила. Прокурор вопросов не имел и к Шишковой, а Волкова не упустила момент: — Скажите, а почему ваш сын не работал почти четыре месяца после освобождения из мест лишения свободы? Шишкова не удостоила адвоката взглядом. — Здесь судят не моего сына, а его убийцу! — она обращалась к суду и в голосе звучали слезы и гнев. — Убийцу, которого растерзать мало за то, что он сделал! Брат у него уголовник и этот тоже садист! Муж Шишковой заворочался на скамейке, женщины рядом с ним возмущенно и как-то очень одинаково подняли брови, глядя на адвоката. Галина Петровна невозмутимо настаивала: — И все же? Шишкова обратилась ко мне: — Разве это важно? Какое кому дело, работал ли мой сын? Он прошел адовы круги, он устал, изнервничался, а мы, — она оглянулась на мужа и тот кивнул, — слава Богу, мы обеспеченные люди! Можем прокормить сына, пока он не нашел себя. Ну вот, потерпевшая ответила на вопрос адвоката, мое вмешательство не потребовалось и я видела, как мимолетно улыбнулась Волкова, записывая ответ. — И еще вопрос, — сказала адвокат, — этого Аркадия, которого искал ваш сын, вы знали? Женщина дернула плечом: — Нет. Этот допрос тоже закончился быстро, хотя я понимала: об убитом мы знаем не все, что хотелось бы. Но мы лишь начали процесс. Многое впереди. Вызываем Морозову Марину. Пока выполняются формальности, успеваю хорошо рассмотреть подружку Сумина. Подружка располагает. В меру подкрашена, крупные черные кудри аккуратно обрамляют маленькое лицо с миндалевидными восточными глазами. Просторное, по моде, серое в елочку пальто не очень скрывает детскость спрятанной в нем фигуры. Миниатюрная, какая-то вся опрятная и оттого привлекательная еще более. Долгим неподвижным взглядом не глянула — вцепилась в Сумина. И он поднял голову, смотрит… А если это любовь? Достанется же ей горького до слез. Уже досталось. — Расскажите все, что вам известно по делу, — и добавляю с предательской ноткой, — только правду и поподробнее. Марина серьезно кивает. Она не напугана необычной обстановкой, держится спокойно, с достоинством. Свидетельская трибуна — посреди зала, и я радуюсь, что молоденькая свидетельница не видна публике. И потерпевший Реутов не виден. Только суд, прокурор и защита. А если глянуть чуть влево — Сумин. Уже первые фразы показали, что следователь Иванов с Мариной не справился, нет. Ее показания на следствии — две странички и только о событиях того страшного дня. Даже не дня, а какого-то часа. Сейчас Марина Морозова желает рассказать все досконально. — С Юрой мы вместе учились все 10 лет. Дружили тоже долго, с седьмого класса. То есть до седьмого мы тоже дружили, но по-другому, — она чуть смущается, быстро взглядывает на Сумина и продолжает, — он хорошо учился, Юра. Мне помогал по алгебре, химии, физике, геометрии, — старательно перечисляет Марина, и я вижу, как морщится прокурор. Ну конечно, идет время, а ему не интересно, по каким предметам помогал подружке убийца Сумин. — …до десятого класса все было отлично. А потом на него и посыпалось! Словно ящик Пандоры открылся у них в доме. (Ну, Марина! Этим ящиком Пандоры она меня покорила окончательно.) — В одну зиму, такую ответственную для Юры — все же десятый класс, у него брата арестовали и мать не выдержала… ушла из жизни. Новость для меня первая: арест брата, новость вторая — мать. Как это — ушла из жизни? Делаю отметку для себя, не перебивая Марину, которая продолжает: — Юра все же выстоял. Выдержал и учебу не бросил. Получил аттестат, на работу устроился. Все один, дом хорошо содержал, вел себя нормально, хоть у кого спросите. Тетка, правда, ему помогала, — Марина обернулась, поискала глазами, кивнула на женщину у окна — точно ведь угадала я, тетка! — только больная она и, по-моему, он ей еще больше помогал. Женщина у окна закивала мелко-мелко, словно затряслась голова, уголки губ опустились, болезненно искривив лицо. Молодежь на последней скамейке слушала внимательно, без кривляний. Крайний у двери белобрысый парень в самодельных "варенках” на длиннющих тонких ногах вытянул шею, смешно выставил подбородок, две девчонки буравят взглядом Маринину спину, а рыженький,патлатый, что сидит между ними, неотрывно глядит на Сумина, который опять почти скрыт перегородкой, сгорбился, упер кулаки в колени; подняв плечи. Маринин голос звучит спокойно, словно падают в странно притихший зал. — Как это всегда бывает, наши одноклассники разбрелись кто куда и связь потеряли. С Юрой осталась только я. Еще Валера Воронько, он сейчас на работе, завтра придет, — Марина повышает голос, повторяя явно для Сумина, — завтра придет Валера. Ну вот. Юра служил хорошо, его тетке — она одна у него из родных, командир Юрин письмо присылал, я его принесла с собой. Марина открыла небольшую серую сумку, достала конверт, глянула вопросительно: — Можно передать вам? — а сама уже направлялась к столу, на ходу вынимая из желтоватого конверта листок. Я положила бумагу на край стола. После допроса ознакомимся с нею, решим вопрос о приобщении к делу. Свидетельница вернулась к трибуне и продолжала рассказ: — После армии, когда Юра вернулся, началось непонятное. Для меня непонятное, — уточнила она. — В доме у Юры стали появляться неизвестные люди. Мужчины, иногда даже женщины. Мне они не нравились. Я ссорилась с Юрой, разговаривала очень серьезно, он этого не станет отрицать. Долго он не говорил мне, кто такие эти люди, которых я заставала у него. А я ведь не всех заставала, наверное, правда, Юра? — она повернулась к Сумину, ожидая ответа, и мне пришлось огорчить ее: — Вопросы подсудимому прошу не задавать. Рассказывайте. Марина кивнула, отвела со лба разметавшиеся черные колечки волос, огладила ладонями разрумянившееся смуглое лицо. Помолчала несколько секунд, собираясь, видимо, с мыслями. Нет, эта девочка мне нравилась. — Люди появлялись и исчезали, иногда жили неделю, месяц… Прямо перевалочная база какая-то. Я настаивала, и Юра признался наконец, что это посланцы брата. Оттуда, из лагеря… — Из исправительно-трудовой колонии, — машинально поправила я. Марина махнула маленькой ладошкой: — Из колонии, из лагеря — все равно, я в этом разницы не вижу, не разбираюсь. Юра уверил, да и сама я видела, что ничего плохого он не делал. Ну, действительно, кто-то должен и этим людям помочь. Придут — ни вещей, ни дома, ни работы… Вот общество охраны животных создано. Бродячих собак, кошек прибирают, а эти… люди! Плохие, пусть, но люди все же! В какой одежде они приходили, видели бы вы! Я — видите сами — маленькая, размер у меня всего 44, а однажды девочка к Юре пришла — меньше меня, не поверите?! Гадкий утенок, не девушка! Я ей вещи свои кое-какие принесла, одела, в парикмахерскую сводила, подкрасила, приласкала. Как плакала она, когда себя такую увидела… новую такую… От Юры я ее к себе забрала, недели две она у нас жила и даже не ругалась мама, жалела Веруню. Потом мама с подругой своей созвонилась, отправили мы Веруню в город Тольятти, на заводе она работает сейчас, замуж скоро выходит. Вот вам история, вот вам жизнь и вот судите Юру — прав он или не прав, что тех людей прогонять не мог… Рассказ про девушку Веруню произвел впечатление не только на меня. Ни разу не прервалось в зале молчание и сделалось напряженным, ощутимым, сочувственным. Марина раскрывала не только новую сторону жизни убийцы Сумина. Она ясно обозначила серьезную проблему, и сочувственная тишина в зале означала одно — проблема есть, она принята. Ай да Марина, ай да кроха! Марина же поняла тишину по-своему, торопливо подняла на трибуну сумочку, вытащила другой конверт, храбро прошагала к судейскому столу: — Вот, — в протянутой маленькой руке конверт дрожал, — вот письмо Веры, убедитесь сами. Она положила конверт на самый краешек стола, вернулась к трибуне и молча ждала, как мы поступим. Я положила конверт поверх первого письма: огласим позже, и сказала: — Так как же… Юра? Прокурор глянул на меня укоризненно: обвиняемого в убийстве Сумина я назвала так по-домашнему. Было от чего мне опустить глаза. Я нарушила официоз, принятую в суде форму обращения. Это получилось под влиянием маленькой Марины, рассказавшей о Сумине Юре, который помогал нуждающимся в помощи. Он еще не был убийцей в ее рассказе, он был Юрой, к которому шли те, кому негде было больше приклонить голову. Шли и не ошибались. Вот и вырвалось у меня фамильярное и короткое "Юра”. Да ладно! В чем меня упрекать прокурору? Где это записано, что судья не может назвать по имени парня, сидящего под охраной таких же, как он, молоденьких конвоиров? Нигде это не записано и нечего, уважаемый Федор Иванович, жечь меня взглядом. В конце концов Сумин только обвиняется, не признан еще убийцей Сумин… Юра. От внимания Марины не ускользнул наш молчаливый диалог и скепсис прокурора, она поспешила поправиться: — Ну, я не хочу сказать, что все так гладко было и так мы успешно помогали, она поискала подходящее слово, нашла: —…Несчастненьким. По-разному было. Вот Аркадий… с ним началось. Адвокат Волкова, до того сидевшая задумчиво подперев щеку ладонью, насторожилась, выпрямилась, взяла ручку наизготовку. — …Аркадий не из категории нуждающихся. Уверенный в себе. Я бы сказала, нагловатый тип. Обосновался у Юры прочно. Месяца два прожил, да, Юра? — опять она повернулась к Сумину, и тот кивнул, а Марина продолжала: — Уезжал, правда, часто, но потом возвращался. Люди к нему стали приходить… совсем другие… вот как эти, — свидетельница повернулась к Реутову, смерила его взглядом, и он переменил позу, передернул плечами, спустил руки со спинки скамьи, зажал их коленями. — Эти не первые, были такие еще… наглые. Пили. Честное слово, мне уже и заходить к Юре не хотелось! И не ходила бы, но… В тот день все хорошо было. Выходной. Мы накануне договорились погулять пойти, в кино или еще куда-нибудь. В кафе, может. С Зоей Лягушенко, моей подругой, зашли за Юрой. Он веселый такой был, стал нас чаем угощать, поздравлять — 8 Марта мы не виделись, работал он в тот день, дежурил. Вот и наверстывал. Торт был у него приготовлен, у Юры. Все хорошо было. Посидели мы, только убрали со стола, приходят эти… Спросили Аркадия, да не просто спросили, а так, словно Юра им должен был: "Аркадий дома?” или "Где Аркан?" — что-то в этом роде. И кличкой собачьей называют человека. Юра ответил — откуда он знал, где его квартирант? Они без всякого разрешения расселись на кухне, водку достали. Мы с Зоей в комнату ушли, Юра, конечно, в растерянности. Подождите, говорит, девочки. Как уйти из дома? Не оставлять же… этих… одних… Он еще сказал, мол, последнее вынесут. Стали мы ждать. Зоя и я в комнате, а Юра то с нами, то туда убежит, в кухню. Через какое-то время слышим шум, скандал, и Юра вбегает — красный, злой. За ним вот этот — Реутов Павел, как я на следствии узнала. И грубо, как, я даже повторить здесь этого не могу, зовет: "Идите, нальем”. Мы, конечно, возмутились. А Юра так на него и пошел, выталкивает из комнаты, но Павел сильнее, видите сами их комплекцию: Юрину и этого… Смеется, отпихивает Юру, как мячик… Марина помолчала, вздохнула: — Унизительно… Перед девушками… Унизительно…. Потом оба в кухню ушли, опять шум был там, и Юра снова вбежал к нам. Говорит: "Ты, Марина, меня подожди, а Зоя, пойдем отсюда, они на тебя зарятся!" Пошли они через прихожую, и Юра еще мне крикнул: "Я быстро”. Когда я одна осталась, то испугалась, признаюсь честно. И они заходят. Оба. Пьяные, красные, возбужденные… Противно. Марина сморщила носик. — Напрасно не скажу, ничего плохого они мне не сделали. Кривлялись только. "Мадам Сумина, просим к нашему скромному столу". "Мадам Сумина”, — это они меня так назвали. "Мадам Сумина!". Еще что-то говорили такое… Двусмысленное. Я сейчас и не вспомню точно. Отвернулась я, отошла к окну и только сказала им: или оставьте меня, или перед другом ответите. Я Юру имела в виду, но, наверное, они другое подумали. Вот этот, Павел, сказал: "Ладно, пошли, а то правда Аркан запсихует”. И они ушли. А мне так больно стало. Что же это такое, думаю? Не за себя, за Юру больно. Обложили какие-то подонки, а он беспомощен перед ними, совсем беспомощен. Ну… заплакала от обиды, и Юра заходит, кинулся ко мне: "Что? что?” — кричит. Представляете его состояние? Мне бы успокоить его, а я ругать принялась… — и Марина заплакала. Мне хорошо было видно, как она, пытаясь удержать слезы, расширила глаза, подняла их, неморгающие, и принялась разглядывать потолок. Но слезинки не удержались, посыпались одна за другой и покатились по щекам, не задерживаясь на гладком девичьем личике. Я отвела глаза. И тут же увидела, что прокурор уже снял с руки часы, положил перед собой и выразительно поглядывает на них. Ну да, конечно, стрелка перебежала цифру 7 и двигалась дальше, совершенно безучастная к происходящему. Скоро подъедет Антон с моим семейством и все будут нетерпеливо ждать меня. Но как можно прервать рассказ Марины? Да никак нельзя. Первые живые слова о трагедии мы слышали от Марины. Недаром притих зал и не выходят даже те посторонние, что сидят поближе к двери. — Продолжайте, пожалуйста, Морозова, — прошу я. — Собственно, я почти все рассказала. Юра пошел за Зоей, она у соседей была. И буквально через пару минут — какой-то шум в ограде, крик, треск… Когда я вышла, все уже произошло… Я видела это как в тумане. Лежал тот парень… который умер… Шишков… кровь красная-красная… Словно чернила… Лицо запрокинуто… У калитки этот… Павел, кажется, на коленях стоял… Крови не видела я у него. Калитка открыта настежь, Юры нет. Я закричала и бегом по улице, не помню куда и зачем, просто от страха ничего не соображала. Догнала меня Зоя, мы остановились… Трясемся обе, не знаем что делать. Я спрашиваю, где Юра, что там случилось? Она мне: это Юра их, они на него набросились и он их… и убежал куда-то. Что делать? Вернулись мы к дому Переваловых. Дядя Иван у калитки стоит, бледный. Ах, говорит, что Юрка наделал, что натворил! Дядя Иван "Скорую” вызвал, милицию. Мы все у его дома стояли. Парней увезли, а к нам офицер подошел, милицейский. Объяснение взял, дом опечатали Юрин… кошмар, ах, кошмар какой, вспомнить страшно! — Вот и все, что я знаю, — сказала Марина, голос ее дрогнул. В третий раз появилась на свидетельской трибуне ее аккуратная сумочка. Свидетельница вынула белый платочек, стерла с лица следы слез и вопросительно посмотрела на меня. Кудимов надевал часы, адвокат когда-то успела сложить в одну стопку свои бумаги и блокноты. Из коридора доносилось звяканье ведер, перекликались в опустевшем здании громкоголосые уборщицы. Пора, пора расходиться, объявлять перерыв. Но я чувствовала какую-то незавершенность рассказа свидетельницы. Что-то было еще. Марина могла рассказать еще что-то, может быть, важное. Неужели они больше не увиделись? Она и Юра? И я спросила: — Вы больше не видели Сумина? Ответ Марины подтвердил мое предположение. — Видела, как же. Вместе с Зоей. Когда мы к дому подошли, он нас из скверика окликнул. Мамы дома не было, он зашел. Мы с Зоей ему рану промыли. У него, знаете, такая рана была на темени, волосы слиплись от крови. Мы рану промыли перекисью, потом йодом смазали. Я хотела, чтобы Юра в травмпункт пошел, а он только усмехался: там, говорит, куда я сейчас пойду, мне это не понадобится. В милицию он собирался пойти сразу от нас. — Но вы расспрашивали его о случившемся? — Какие расспросы?! — укорила меня Марина. — Вы что, не представляете, в каком он был состоянии?! На него же глядеть страшно было! Это он нас расспрашивал: что с парнями, где они, живы ли. Мы его успокоили: живы, живы, увезли их. Я попыталась Юру расспросить, он отмахнулся: "Что мне оставалось делать? — сказал. — Ведь совсем на голову сели, да вот видишь”, — показал на рану, закрыл лицо руками. Нельзя было его спрашивать тогда, нельзя. Да и побыл у нас мало, рвался: скорей надо в милицию, а то подумают, что сбежал. Это и мы сообразили, что надо быстрее в милицию. Проводить он себя не дал. И все. Больше не виделись… сейчас вот только… — Какая рана была у Сумина? От чего? — Ударил его кто-то из них, из парней этих. Не знаю, кто. Кожа рассечена была, кровь… Вот как! Значит, все же ударили. В обвинении все эти подробности вместились в одну фразу: "Во время ссоры, перешедшей в драку”. Теперь надо все выяснять до мелочей — из этих мелочей и жизнь-то складывается, не только драки… Да уж, правы были мои коллеги: напурхаюсь я с этим делом! — А Лягушенко Зоя? Она видела это? — Она говорит, что едва ее выпустил Шишков, тут же за ограду бросилась. Да сама она лучше расскажет, — устало сказала Марина. Действительно, Лягушенко расскажет сама. Но мною двигало уже нетерпение. — Сумин, вас ударили? Что за рану вы получили? — подняла подсудимого. Он забыл о своем отказе от показаний, не встал — вскочил со скамьи: — Ударил меня Шишков, да! И не кулаком — чем-то железным. Металл был у него, металл, понимаете? И вот он шрам, смотрите сами! Наклонив голову, Сумин раздвинул пальцами колючий свой ежик. Я не увидела ничего, а Василий Михайлович Руссу, сказав: "Позвольте”, вышел из-за судейского стола, и я не успела вымолвить и слова, как он оказался у загородки, вызвав беспокойное движение конвоиров. Длинные, тонкие пальцы доктора быстро пробежали по голове Сумина, и заседатель повернул ко мне лицо: — Здесь шрам линейной формы с давностью причинения месяца два, не более. — Василий Михайлович, прошу вас занять свое место, — укоризненно сказала я, — наличие шрама и давность его установит судебно-медицинский эксперт, не надо нарушать… — Простите, — невозмутимо ответил Руссу, — не сдержался. Профессия такая. Я врач, — это последнее разъяснение он бросил в зал, где началось легкое движение. Молодые люди на последней скамье перешептывались. Мать убитого напряженно вглядывалась в Сумина, мужчина за ее спиной презрительно поджал губы и покачивал головой — недоверчиво, неодобрительно. Потерпевший Реутов вновь изменил позу, теперь его белые кисти схватили и напряженно сжимали локти. Мне же стало ясно: нужно назначать экспертизу. Судебно-медицинскую. Но это завтра. Время более чем кончилось. Восемь. Объявляю перерыв до 12 часов следующего дня. Приземистый "жигуленок” Антона Волны, мне кажется, забит до отказа. За рулем великан — Антон, рядом с ним мой далеко не малогабаритный муж, на заднем сиденье — Людмила и Катюшка с Сашей, которые прыгают и верещат, как обезьяны. — Слушайте, — смеюсь я, пристраиваясь с Сашкой, — вот парадокс: чем меньше машина, тем больше в нее входит людей! Чем объяснить? — В большие машины просто-напросто не пускают много народу, — солидно объясняет Антон, — а вот моего "малыша” вы заездили. Игорь, я вижу, сердит. Во всяком случае, говорит укоризненно. — Могла бы уж ты хоть сегодня… Ждем тебя, ждем. Что тут ответить? Ну не могла я, никак не могла! Включается понятливый друг мой Антон: — Да ладно! Было бы кого ждать. И мы отправляемся. Моя будущая квартира близко, и минут за двадцать до окончания отведенного мне времени мы уже остановились у желтого крупного дома. Вначале оглядываем дом: большие окна с квадратами массивных рам, чисто покрашенные стены, аккуратные двери подъездов. Сашуля дергает меня за плащ: — Мамуля, гляди, качели! Глазенки сына восторженно сияют. Да и есть от чего! Детская площадка во дворе — шик. Качели, качалки, какие-то изогнутые лесенки. Почти под окнами — отмечаю с радостью, значит, малыш сможет гулять один, а я только поглядывать буду из окошечка. Красотища! — Терем-теремок, — шутливо запел Антон, — кто в тереме живет? — Я, мышка-норушка, — подхватываю тоненьким голоском. — Я, комар-пискун, — басом продолжает Игорь, и мы хохочем, радостные. Товарищ Семенцов открыл нам массивные двери, за которыми были еще одни — тяжелые, прикрывающие тамбур. Антон не удержался, щелкнул пальцами по двери, подмигнул мне: "Н-да-а!” Квартира была уже пустой и выглядела как заброшенная одинокая старуха. Окна, лишенные штор, смотрели строго и печально, крашеные стены хранили следы убранной мебели, словно наклейка пластыря на запыленном израненном теле. Там вон, догадываюсь по чистому квадрату, был шкаф, в том углу — тумбочки, эту стену украшал большой ковер, и лепной бордюр под потолком еще цепко держит ненужные теперь мелкие гвоздики. Печальное зрелище — оставленный дом, еще не получивший нового хозяина. Мне становится грустно за это покинутое жилище, жалость тронула сердце своим острым коготком и тогда я поняла, что уже люблю эти грязные стены, словно живое существо. Она скоро преобразится, моя квартира! Это будет наш дом, член нашей семьи — лелеемый и желанный! Мы будем стремиться к нему, ждать с ним встречи, скучать по нему в отъездах, ухаживать за ним, ублажать и любить, любить… свой дом и друг друга. Печальные окна повеселеют, увидев нашу любовь, и в чисто отмытых стенах поселится счастье! Моя примолкнувшая компания переживала, видимо, подобные же чувства. Все притихли, даже Сашуня. Антон запустил пятерню в свой густющий русый чуб, Людмила заложила руки в карманы. Игорь молча оглядывал стены, и навсегда потемневшие от вечных экспериментов пальцы моего мужа пошевеливались, предвкушая работу. Им, этим пальцам, не страшен никакой труд. Они все могут и умеют. Я знаю, Игорь конфетку сделает из этой грязнули! Семенцов иначе расценил наше молчание. Кашлянув, сказал: "Деньги за косметический ремонт внесены”. — Да что вы, — смутилась я, — мы все сделаем сами. Квартира нам нравится, так, Игорь? — Конечно, — кивнул Игорь, — а ремонт я никому не доверю. — Ну, смотрите, — сказал Семенцов и ушел на кухню. А я уже прикидывала. Большая комната — это будет гостиная. И кабинет одновременно. Комната чуть меньше — спальня. Нет, спальней будет маленькая комната, а эта — Сашке. Ух, и раздолье будет моему сыночку на этих шестнадцати квадратных метрах, эх, и развернется же мой малыш! Спать будет на настоящей кроватке, а не в кресле-кровати, от которой мне всегда было не по себе, когда я укладывала сына. Эти бортики с трех сторон… Не хочу называть то, что мне это напоминало… Придется купить ковер — все игры Сашуля устраивает на полу. Хорошо бы детскую стенку… Котати, о мебели. Это Сколько же нужно мне купить, чтобы заставить хотя бы необходимым такие хоромы! На что купить и, главное, где? Сбережений у нас нет, поэтому деньги займем, а вот где купить? Идти с протянутой рукой?.. Судьи независимы и подчиняются… из раздумий вывел меня Игорь, словно прочитавший мои мысли. — Что ты, Наташа, — ласково тронул он мой затылок, растрепал отросшие жесткие волосы — Господи, опять нужно идти в парикмахерскую и сидеть не менее часа, чтобы за пять минут тебя оболванили без всяких претензий на моду и пожелания, — что ты, милая моя? Теперь заживем! Я все сам сделаю, увидишь, что будет. Вот они, руки мои. Протянутые мне ладони были большими, натруженными, надежными. Господи! Продли мгновение это! Пусть постою я в новом своем доме и навстречу мне пусть тянутся готовые оградить от всех невзгод ладони! Пусть сын мой, дорогой мальчик, будет рядом, и Антоша Волна, и Люд милка с милой Катюшкой… Мой мир, мое пристанище, помощь моя, поддержка, да что там — жизнь! Так хорошо мне было и почти спокойно в это мгновение… Только откуда-то из-за плеча потянулось вдруг и встало передо мной легкое облако и ясно-ясно проглянул черный ежик волос, очень знакомый ежик, выставленный вперед, словно в защиту… Что же наделал ты со своей жизнью, темноглазый парень? Что наделал ты? И как совместить эту мою тихую радость с тем завтрашним днем, когда начнется суд и диковинные бабочки-ресницы замечутся на измученном лице, ища справедливости и сострадания. Почему не может быть мир спокойным и счастливым? Без убитых и убийц, без черных траурных платков матерей, без слез любящих и любимых?! Где ладони, способные всех защитить? Всех, не только меня. — Наташа, да что ты? — Антон обнял меня за плечи, встряхнул легонько, подтолкнул вперед. Кухня была небольшой, квадратной. Петр Яковлевич, держа в руках тряпку, старательно отмывал электроплиту "Лысьва”. Рядом стоял тазик с чистой водой. Одна сторона плиты была уже чистой, блестела желтоватой эмалью, на другой красовались желтые застарелые потеки, и хозяин смачивал их, пытаясь оттереть. — Петр Яковлевич, — сказала я, смущенная этой картиной, — мы же ремонт будем делать. Бросьте это занятие, я сама все промою потом. — Квартиру сдам в порядке, — коротко ответил мне Семенцов, и спорить с ним мне было неловко. Мы простились и укатили домой, в свою крошечную квартирку, которая показалась нам еще меньше после увиденного. Долго не спали, обсуждали свои хозяйственные дела. Утром получение ордера не заняло много времени, я передала Игорю драгоценный листок и отправила в ЖЭУ за ключом. Мы становились, наконец, полновластными хозяевами квартиры и нам не терпелось приступить к многотрудным, но приятным хлопотам. Когда я возвратилась в свой кабинет, коллеги мои с нетерпением очень заинтересованных людей набросились с расспросами, и мне, конечно, пришлось нарисовать план квартиры и вкратце рассказать о ее состоянии. — Проверьте плиту и сантехнику, — тут же посоветовала мудрая Алевтина Георгиевна, — надо было при хозяине еще, при Семенцове. Если сразу все заявки будут, до вселения, — исполнят, а потом напроситесь досыта, по себе знаю. Решив, что Алевтина подала мне дельный совет, я перезвонила Игорю, попросила зайти в квартиру, проверить все это и в случае нужды сделать заявку. И приступила к службе. Первым делом — звонок эксперту. Тот шрам на голове Сумина требовал исследования. Первый день процесса, не принесший, кажется, никакой ясности, поставил новые вопросы. Драка дракой, но в двух словах о ней говорить нельзя. То, что сделал в этой драке Сумин, установлено. А что сделали Сумину — нет. И потом: если даже Марина Морозова приукрашивала своего дружка, все равно в ее рассказе было много такого, что заставляло задуматься: обычная ли это драка, возникшая, как записано Ивановым, после совместной выпивки и ссоры? Обычная ли? Вспомнились ребята на задней скамейке: как притихли и слушали напряженно, заинтересованно, словно решали для себя те же вопросы, что возникли у меня. Договориться с судебно-медицинским экспертом труда мне не составило. Шамиль Гварсия знаком мне по прежней моей работе в прокуратуре. Жгучий брюнет, смешливый, он, казалось, так не подходил своей печальной профессии. Но когда мы работали с ним по делам об убийствах, он становился мрачным, сердитым и дотошливым. Меня подкупали в нем не только его блестящие знания. Раз и навсегда зауважала я Шамиля, когда увидела однажды, как болью исказилось красивое смуглое лицо, как бережно и осторожно, словно боясь причинить новые страдания, он черным пологом прикрыл от чужих взглядов мертвое тело молоденькой девчонки, истерзанной негодяем в ночном лесу. "Уважение к живым начинается с уважения к мертвым”, — сказал мне тогда Шамиль Гварсия, и я помню его слова. — Э, Наташа, я так редко стал тебя видеть, что примчусь по первому зову. Говори, когда? — весело сказал. Шамиль. — Все шрамы в мире я готов исследовать! Договорились, что Шамиль подойдет к началу процесса, чтобы войти в курс дела, послушать свидетелей. Сегодня первый допрос — Лягушенко. Важная свидетельница. — Прошу встать, суд идет! — Прошу садиться, — говорю и окидываю взглядом зал судебного заседания. Все в порядке. Сумин сидит в обычной позе, опустив голову, сжавшись в комок. Прокурор, адвокат, потерпевшие. Старушка на прежнем месте, у окна, рядом с ней Морозова Марина. Возле двери несколько вчерашних любопытных — значит, заинтересовались делом. Последняя скамья поредела, но не пустует. Длинноногий в самодельных варенках тут, уже вытягивает шею. Рядом с ним появился новый парень в запахнутом сером пальто, взгляд исподлобья. Есть и вчерашние, но не все. Никто против участия в процессе судебно-медицинского эксперта не возражает. Шамиль пристраивается сбоку секретарского столика, поскольку другого места в тесном зале нет. Галка, секретарь, тихонько ворчит, отодвигая бумаги, однако я знаю, что ей приятно такое соседство: Шамиля любят все. Зоя Лягушенко, не в пример уверенной в себе подруге, входит робко, бочком, озирается испуганно и первым делом говорит: — Здравствуй, Юра, — и лишь потом вежливо склоняет голову в нашу сторону, — здравствуйте. Зоя повыше подруги, покрупнее, но тоже худенькая, стройная. Одета поскромнее, однако с достоинством и вкусом. Особенно этот длинный шарф густо-бирюзового, я знаю, самого модного цвета. Один конец шарфа заброшен за плечо и прижат ремешком сумки, второй конец свисает на грудь красивым весенним потоком. Лягушенко не так подробна в своем рассказе. Ну, да ведь и знает она Сумина меньше — познакомились после его возвращения из армии. К тому времени они подружились с Мариной, работая вместе на часовом заводе. Голос Зои дрожит, срывается, она очень волнуется, и я опускаю глаза: мне всегда неловко видеть слишком взволнованного человека. Словно я тоже повинна в его переживаниях. Чем ближе движется рассказ к трагическим событиям, тем чаще запинается Зоя, хватает ртом воздух, и я замечаю, как беспокойно переменил позу в кресле доктор Руссу. Его тоже тревожит состояние свидетельницы. Решаюсь помочь ей вопросами. — Вы поняли причину ссоры между Суминым и потерпевшими? Той, первой ссоры в кухне? Бледное лицо берется красными пятнами: — Да, конечно. Причина была во мне. Они хотели, — девушка потупляет голову, — хотели… Вы понимаете… Я-то понимаю уже, но Зоя должна это сказать всем, поэтому жду, пока она подыщет нужную формулировку. Однако свидетельница умолкает, и тут раздается из зала возмущенный голос Марины: — Да они изнасиловать ее хотели, вот что нужно им было! Негодяи, они и ее мордовать задумали! И еще не смолкли последние слова Марины, как Реутов вдруг резко привстал, выбросил в сторону зала руку с двумя растопыренными пальцами и прошипел: — Не шелести, дура! Среагировать я не успела. Послышался какой-то странный шуршащий звук, и я увидела, что лицо Зои Лягушенко, ставшее снова бумажно-белым, запрокидывается назад, и она медленно оседает, хватаясь за трибуну слабыми недержащими пальцами! — Перерыв! — это крикнула я уже на бегу, но меня опередил сидевший с краю доктор Руссу, который подхватил обмякшее тело девушки и спокойно сказал мне: "Мой саквояж!” Шамиль Гварсия уже держал Зою за плечи. Я бросилась в совещательную комнату, а понятливая Галина быстренько освобождала от посетителей зал. Конвой увел побледневшего Сумина. В саквояже доктора нашлось все необходимое, действовал он на зависть быстро и решительно, тихонько переговариваясь при этом с Шамилем. Вскоре доктор успокаивающе кивнул мне и сказал: "Не надо "Скорую”, все в порядке”. Галка — секретарша строго ответила ему: "Уже вызвала, такой порядок”. — Ну ладно, — народный заседатель улыбнулся, — я здесь ведь в другом качестве! К приезду врачей "Скорой помощи” Зое действительно полегчало, она пыталась встать со скамьи, куда ее уложили, но этому воспротивился Руссу. Из-под полуприкрытых век девушки катились слезинки, стекая к вискам, и доктор осторожно промокал их бинтом, не успокаивая и не мешая ей плакать. Потом Зоя тихо сказала: — Пусть бы лучше меня… пусть бы лучше… чем вышло так… Мне пришлось вмешаться: — Помолчи, Зоя, ты не должна говорить ничего. Придешь в норму, расскажешь суду и не волнуйся, пожалуйста! Сердитая женщина — врач из "Скорой” выговорила мне за вызов: — Здесь у вас два таких корифея, а вы нас вызываете! И на мой вопрос ответила уверенно: — Реакция на травмирующую ситуацию. Никакой патологии нет. Полчаса отдохнет девица, можете продолжать работу. И села писать справку. Я успокаивала Зою Лягушенко, а сама была взволнована, пожалуй, не меньше ее. Испугалась. Расстроилась. Вот оно, несложное дело. Бывают ли они вообще, несложные? Оставив в зале Руссу и Шамиля, поднялась в кабинет. Коллеги уже были наслышаны об инциденте в судебном зале, Лидия Дмитриевна, глянув сочувственно, сказала: — Зайди к Валерии, бесится. Алевтина молча забрала мою кружку. Знаю, заварит мне чаю. Валерия Николаевна смотрит на меня укоризненно, и под этим взглядом я действительно чувствую себя виноватой в том, что свидетельница потеряла сознание, вспомнив страшные события. — Как же так, дорогая? — спрашивает меня начальница. Точнее, не спрашивает, а упрекает. — Да я-то при чем? — не выдерживая, взрываюсь. — Этот случай только доказывает, насколько серьезны были переживания девушки — и тогда, и теперь. Понимаете? Не простая это была пьяная ссора! Если девчонку хотели изнасиловать пьяные парни, а Сумин вступился — это же совсем другая ссора, другая драка. Картина совсем другая! Как он должен был поступить? Не ссориться с ними? Так? Я считаю, и ссориться должен, и драться, зубами вгрызаться… — Тихо, тихо, дорогая, — прерывает мой возмущенный монолог Валерия Николаевна, — ты еще молода, а я на уголовных делах собаку съела. Подумаешь, хотели. Не изнасиловали же! Может, и обошлось бы. Они еще только хотели, а их убивать?! И потом, дорогая, ты с прокуратурой хочешь меня окончательно рассорить! Они и так на тебя в постоянной претензии. Ты еще молодая… — Этот недостаток скоро проходит, — непочтительно перебила я начальницу, — правда, я молодая еще, но хотелось бы быть моложе. И не бояться драки, если нужно защитить другого. Кстати, этого и закон требует, только мы его совсем забыли. Вы забыли. — Ну, знаешь! — брови Валерии Николаевны вползли на лоб, собрав некрасивые морщины. — Знаю, Валерия Николаевна, — говорю я уже спокойно, — мы еще выясняем причину первой ссоры, самой первой. К мотиву убийства почти не приступали. И говорить, должен ли был Сумин действовать так, как действовал, рано. Могу вам обещать, что разберемся. Со всей серьезностью. Видимо, возразить ей нечего, и она отпустила меня. Но я уже знала: Валерия Николаевна будет строго и придирчиво наблюдать за процессом. Эта ее фраза о возможной ссоре с прокурорами. Значит, как говорится, кошку бьют — невестке понять дают. И мне дали понять: за пределы обвинения выходить нежелательно. Что бы там ни было в судебном заседании, обвинение должно быть незыблемым, чтобы, не дай Бог, не конфликтовать с прокуратурой. Ну уж нет! Со мной этот номер не пройдет! Будет так, как требует закон. Судьи независимы. Милые мои коллеги все понимают. Житейский и судейский опыт подсказывает им единственную нужную мне сейчас поддержку. На моем столе стоит чай, и меня не о чем на расспрашивают. Что случилось-то? А ничего и не случилось. Обычная рядовая накачка. Если ты права, найди силу преодолеть все. Слабым не место здесь, где решаются судьбы. Ты сильная и справишься, вот что сказало мне молчание коллеги. Они верили в меня. — Прошу встать, суд идет! В притихшем зале все на местах. Реутов молча принимает мое замечание. Справка о том, что Лягушенко по состоянию здоровья может участвовать в процессе, лежит у меня на столе, но я осведомляюсь: — Лягушенко, вы можете давать показания? Девушка кажется мне более спокойной, чем в начале допроса, голос тверже: — Да, я могу давать показания. Я готова. — Прошу рассказать все известное вам по делу. Продолжайте ваши показания. Отошли в сторону обыденные мои заботы, тревоги. Квартира, начальнический разгон. Сейчас передо мной одноэтажный старенький домик в две комнаты и двор, огороженный штакетником, и две девушки, и три парня, и неумолимо надвигающаяся смерть одного из них… Только это, только это. Ничего более. Ничего… Это меня зовут Зоей. Я пришла в гости к подруге, и мы навестили Юру, которого любит Маринка. Пили чай, ели торт. Потом явились двое. Наглые. Мне страшно, когда Юра, словно мячик, отскакивает от упругих кулаков. Нереальной кажется беда, грозящая мне, ее отводит мальчик с черным ежиком волос, большеглазый и слабый. Снова страшно, когда я убегаю к соседям. Значит, беда была рядом, раз понадобилось унизительное бегство? Я сижу под защитой взрослого большого человека Перевалова дяди Ивана и вижу, как нервничает Юра: там, в доме, Маринка осталась наедине с незнакомой пьянью. Волнуется Юра и я волнуюсь и посылаю его: иди, иди, ведь там Маринка… говорит вернувшийся с улицы дядя Иван Перевалов, что парни ушли, он только что видел их в спину… Я бегу туда, где Марина и Юра, но едва открываю калитку, как меня кто-то хватает за руки и пьяно хохочущая морда кривляется передо мной, мне больно руку и страшно, потому что я одна и некому защитить меня. Как освобождение доносится до меня знакомый голос, проникает в сознание, оттесняя страх, требовательный крик: "Отпусти девчонку”, и мне становится легко и ноги сами выносят прочь, за ограду, за обиду… Уже от дома дяди Ивана, под его защитой, я вижу, как мечутся во дворе, который я оставила только что, какие-то тени… Зачем? Почему замахнулся на Юру тот, высокий парень, что держал меня? Я вижу, как другой парень идет по ограде, растопырив в стороны руки, согнувшись, словно ловит убегающую курицу, потом резко выпрямляется и, развернувшись, бежит к калитке, а за ним Юра, которого я потеряла из виду на несколько мгновений… Вот оба они скрылись за изгородью, мне не видно их, они будто присели, и Юра — бегом от дома, не оглядываясь… Что-то кричит дядя Иван Перевалов, почти бегом направляется к своим воротам и я за ним… Во дворе Юриного дома — непостижимая картина: разбросав руки, лежит мой обидчик, а второй у калитки, словно молясь, склонился на коленях… кровь… страх, и вновь я бегу, догоняю Марину и мы обе стоим, охваченные ужасом, не в силах осмыслить, разумом принять происшедшее. Юры нет. Дядя Иван Перевалов громко причитает, всплескивая руками. Так ясно вижу я все это и переживаю, что ноги под столом становятся ватными и, вызывая дрожь, поднимаются по спине мурашки… — Разрешите вопрос? — голос прокурора возвращает меня к действительности. Я молча киваю, еще не отрешившись от испытанного острого чувства сопереживания. — Скажите, Лягушенко, а насколько реальны были ваши страхи относительно изнасилования? — спокойно спрашивает Кудимов. — И когда вас выпустил Шишков, Сумин разве не мог убежать? Ведь опасности для вас уже не было? Здравствуйте, Федор Иванович! Неужели рассказ свидетельницы не дал на эти вопросы ответа? И потом, что это я слышу от старого юриста? Мог убежать, не мог убежать Сумин, какое это имеет значение? На задней скамье, которую я уже окрестила молодежной, вопрос прокурора вызвал движение. Незнакомец в сером пальто пожимал плечами, слушая, как шепчет что-то ему долговязый парень в вареных джинсах. Девчонки толкали друг друга локтями, и все это означало недоумение. Потерпевший Реутов повернулся в сторону прокурора и смотрел, не мигая, с интересом. Только муж Шишковой одобрительно кивал головой, выражая явное согласие с вопросом: что, не мог разве убежать, не хвататься за нож Сумин? Свидетельница ответила удивленно: — Я все рассказала, как было. Думаю, напрасно Юра не стал бы меня уводить. А насколько реальны были наши страхи, показали дальнейшие события. И внезапно вспыхнув, резко сказала: — А почему бы и не вступиться парню за девушку? Совсем уж у нас это правило перевелось, возмутительно даже! Стыдно, право; за вас, мужчины! — Не надо обобщать, не надо, — обычно мягкий Федор Иванович явно обиделся за упрек мужчинам, но поделом же врезала Зоя сильной половине человечества, нечего и обижаться. Свидетельница Лягушенко, оказывается, могла быть и жесткой: — Насколько я знаю Юру, у него не было выхода, он не мог убежать и позвольте спросить, где такой закон, чтобы убегать, если на тебя нападают? — Вы оправдываете убийство? — опять рассердился прокурор, и мне пришлось вмешаться: — Товарищ прокурор, прошу задавать вопросы по существу. Не требуйте от свидетелей глобальных оценок. — Не имею вопросов, — насупился Кудимов, а я повернулась к адвокату. — Скажите, — мягко начала Волкова, явно сглаживая резкость своего процессуального противника, — вы лично видели, как наносились удары — Суминым или Сумину? — Нет, не могу утверждать. Быстро все промелькнуло, в секунды просто. Вот как замахнулся Шишков — видела. Шел на Сумина этот, — Лягушенко, не глянув, кивнула в сторону Реутова, — говорю, словно курицу загонял, — она помолчала и добавила задумчиво: — Ростом Юра меньше этих парней, поэтому я его из-за забора видела плохо. Волкова спрашивала еще о ране на голове Сумина, о его поведении, об отношениях с Мариной. Ничего нового Лягушенко не сообщила. Повторила то, что мы уже знали. Закончив показания, Зоя села рядом с Морозовой Мариной. Стан суминских друзей пополнялся. Так почему-то подумалось мне. И вот на трибуне тот, кого свидетельницы называли дядя Иван Перевалов. Я жду его показаний с некоторым даже волнением. Еще бы — почти очевидец и взрослый человек. Все же Зоя и Марина — девчонки. И заинтересованные, конечно, лица — дружили. К их показаниям относиться нужно осторожно. Послушаем, что скажет Перевалов. Иван Сергеевич Перевалов, высокий худощавый пятидесятилетний мужчина, начал показания энергично. Рассказал о Сумине, которого знал с детства. — Со старшим-то мать намучилась, что и говорить. Тот ее и в могилу свел, она ведь руки на себя наложила, когда его арестовали. Не смогла пережить, бедолага. Хотя я это осуждаю, — решительно сказал он, — о мертвых плохо нельзя говорить, да я и не хочу, однако должна была мать и об этом подумать, об Юрке тоже. Оставила мальца. Он тогда совсем мальчишкой был, я его дразнил "глаза на тонких ножках”. Не в лицо, конечно, — чуть смутился свидетель, — однако ж Юрка с жизнью управился, все шло честь по чести, да у горя руки длинные, ноги быстрые, догнало, схватило… И опять через брата. Я так скажу: надо бы найти того Аркашку, да спросить, что за парни к нему шастали. Ходили-ходили, вот и доходили. С этого, — свидетель, не оборачиваясь, пальцем показал за плечо, на Реутова, — с этого тоже спросите, чего ему надо было от парня? Я Юрке верю, а не этим мурлам… — Свидетель, прошу вас… — остановила я Перевалова, который, по-моему, уже перешел на личности. — Ладно, не буду, — понял меня он, — приступаю к фактам. Значит, так. Юрка ко мне с этой Зоей пришел. Пусть, говорит, она посидит у вас. Ну, пусть посидит. Провел я Зою в комнату, сам с Юркой вышел. Спрашиваю его, конечно, что, мол, случилось-то? Он отвечает: заездили, говорит, меня, дядя Иван, не знаю, как отбиваться. Аркаш-ка — парень у него в то время жил — исчез куда-то, неделю нет, а парни к нему ходят. Сегодня с водкой явились, пьют, расселись, как дома. А потом потребовали, мол, девочек нам давай. Я, говорит, объяснился с ними: Марина, мол, невеста моя, а Зоя — подружка Маринкина. Ладно, отвечают, невесту не тронем, а эту давай сюда. Юрка, конечно, в бутылку полез, что ему оставалось? Девчонку отдать ухарям? Это уж последнее дело, я вам скажу. Те парни на него напирают, кулаки распустили: сам уходи с невестой, а эту оставь, справимся сами. За грудки, говорит, потаскались даже, но Юрка девушку-то сумел отстоять, не дал паразитам. Те пьяные, конечно, а пьяный что дурак — сам к беде себя толкает. Могли бы девку изнахратить, ну что тогда, скажите мне? Значит, так. Гово-рим мы с Юркой, а он все на дом косится, вижу, нервничает. Сам же я ему и сказал: иди, Юрка, к Марине, а я во дворе постою, вроде как тебя подстрахую. — Подстраховал вот… — горько усмехнулся он и продолжил. — Убежал Юрка бегом домой, а я за калитку следом за ним. Вижу в спину двух парней, ну, думаю, слава Богу, ушли. Хоть я их не видел раньше, но так и подумал, что это те. Улица-то у нас окраинная, тихая, приходящий народ заметен сразу. Не подумалось мне о худом, вернулся в ограду, там Зоя стоит, я ей и сообщил эту новость: ушли, мол. Она к Юркиному дому, а я так и остался в ограде. Отвлекся, видно, малость, не заметил, как парни вернулись. Услышал крик Юркин, дикий прямо такой крик, что-то вроде: "Не трогай или пусти девчонку!” Точно не помню слова, но смысл этот. И Зойка ко мне забегает — рядом ведь. Значит, так. Опять я на нее оглянулся, и когда к ограде Юркиной голову повернул, вижу, что Юрка от калитки к дому бежит, а парень, что убитым потом оказался, по голове его — шварк. Пригнулся Юрка, и я не видел удара, только парень упал прямо у крыльца, а второй — бегом к калитке, склонился, Юрка вроде за ним, и опять я удара не видел, только Юрка выскочил и по улице помчался. Я — за ограду, закричал ему: "Юрка, Юрка”, а он знай себе чешет. Ну, думаю, допекли, сволочи. Зло такое меня взяло, мужицкое зло, обида за парня. Ну, думаю, погодите, гады. Схватил от забора штакетину и к Юрке в ограду — разгоню, думаю, сейчас эту кодлу! Я ведь не думал, что Юрка сам им выдал… Всем сестрам по серьгам… Не думал… да еще так… Энергичный монолог прервался, Перевалов помолчал, оглянулся на Сумина, лицо исказила гримаса боли, жалости и сострадания. — Юрка, — сказал он тихо, — чего ты меня не подождал, Юрка! Эх!.. Сумин не поднял головы, не ответил, только выскользнули из-за спины его руки, по-тюремному бледные кисти сжали виски. — Товарищ Перевалов, — начала я, и свидетель встрепенулся, лицо снова стало злым и энергичным. — Значит, так. Я в ограду вошел с жердиной. Скажу правду, не побоюсь: угостил бы их, честное слово, угостил. Да вижу, один, вот этот, на карачках стоит у калитки, второй руки разбросил у крыльца. Я вижу, дело серьезное. Палку к себе во двор забросил, чтобы картину не путала, да к тому, кто лежит. У него кровь на губах пузырится, но жив, вижу, надо "Скорую” звать. У нас телефонов нет, помчался к магазину, где автомат. Вызвал врачей, милицию тоже. Приехали быстро. Парней увезли. Милиция протокол составила, все честь по чести. Дом опечатали, мне ключи отдали под расписку. Но вот что я вам скажу, товарищи судьи, под самый конец. Вы вот, мужики, — он явно исключил меня из категории судей, обращаясь к народным заседателям, их измерив серьезным и грустным взглядом, — подумайте, пораскиньте мозгами. Сами-то как бы поступили? Куда ж годится, коль тебя в твоем же дворе хлещут?! Ни за что хлещут пьяные каты?! Я не знаю, как насчет ваших юридических законов, не приходилось, слава Богу, с ними общаться, но сдается мне, должен быть законник, чтобы защищать себя и других тоже. Вот я. Запросто мог рядом с Юркой сейчас сидеть. Я ведь с дубиной бежал к ним не разговор говорить. Бьют Юрку — видел. И что, если б я его обидчика огрел — тоже за решетку угодил? Выходит, Юрка именя спас от тюрьмы, когда сам защитился? Ну как, мужики, быть-то нам? Не пьем, не хулиганим, а напали — не тронь? Нет, не по правилам это, не согласен я с этим, вот так не согласен, сыты мы смирением, во как, — Перевалов ребром ладони резко провел по жилистой шее и распалялся все больше, — такие войдут ко мне, жену потребуют, я что должен: нате, возьмите, вот дом вам, вот жена, вот на закуску ее подружка… — Перевалов, Перевалов, — опять укорила я. Но по тому, как замерли в судейских креслах, как не шелохнувшись сидели народные заседатели, поняла, что согласны они с Иваном Переваловым. И притихший зал согласен. Реутов опустил голову. Видно, согласен. Муж Шишковой поджал губы, а сама она словно окаменела, неподвижно смотрит вперед, в никуда невидяще смотрит… Согласна?! — Что еще можете дополнить к своим показаниям? — спросила я Перевалова. — Да, — спохватился он, — главное-то я упустил! Растерялся что ли, — он улыбнулся смущенно, полез в карман куртки, достал что-то завернутое в белый носовой платок. Развернул платок на широкой ладони: — Вот, — торжественно сказал наш свидетель, — думаю, что сгодится. На белом платке лежал металлический предмет овальной формы. Один край отделан волнистыми покатыми зубцами, на другом — выемка для захвата. Кастет! Я их повидала немало, работая следователем. Старый знакомец, дружок хулиганов, то, что названо в законе предметом, специально приспособленным для нанесения телесных повреждений. Кастет! Удивленно привстал прокурор, светилось торжество в глазах адвоката Волковой, и, еще не задавая вопроса, по взгляду, брошенному Реутовым на кастет, я поняла: этот предмет знаком потерпевшему. — Откуда у вас это? — спросила я, и Перевалов ответил: — Когда разъехались все, я еще раз в ограду Юркину пришел. Ну просто так, одному хотелось побыть, обдумать все, осмотреться, представить картину. Стал вспоминать, кто где стоял, как Юрка по двору метался, где парень упал. Тот косарь ржавый милиция увезла сразу, а я хожу по двору, думаю, вот на беду ни одной палки нет даже, нечего было Юрке схватить, секач и попался. Там, где парень лежал, кровь натекла. Страшно это — людская кровь на земле, я и решил присыпать. Набрал песочку у забора, присыпаю, склонился. Глядь — неподалеку в мусоре что-то. Вытянул — вот он, кастет. И кровь на нем. Кровь, точно. Не знаю уж чья, но кровь, глядите сами. Свидетель положил на наш стол развернутый платок, на котором лежал кастет. Бурые пятнышки на волнистом гребне проглядывали и сейчас, словно ржавчина. — Разрешите вопрос? — прокурор, словно школьник, тянул к нам руку и, не дождавшись моего ответа, почти выкрикнул: — Следователю говорили об этом? Показывали кастет? Перевалов усмехнулся: — А как же! Говорил. Не показывал, правда. Что нет, то нет. Следователь ваш от меня, как от мухи, отмахнулся. В протоколе, говорит, кастета нету, значит, и в природе нету. Я ему возразить пытался, а он: мол, не выгораживайте, сосед, убийцу. Так и не глянул на эту штуковину, не захотел мне поверить. А у него ведь экспертизы всякие есть, проверил бы: кровь там, отпечатки разные — как это в кино-то показывают. Не-ет, у него все было просто: вот убитый, вот убийца. Все. Точка. А я никого выгораживать не собираюсь, не думайте, — Перевалов повысил голос, — не такой я человек. Но надо разобраться, что к чему. Сделал — получи, само собой. Но только за то, что сделал, не более, понял? Адвокат Волкова, прищурив глаза, грустно смотрела на Перевалова. Я знала, о чем думала адвокат Волкова. Сейчас она развернет защиту, откроет новый фронт. Сейчас. А надо бы раньше. Если бы адвокат допущен был к делу раньше, во время следствия и имел право не только заявлять бумажные ходатайства, легко и бесконтрольно отклоняемые следователями! Такие новости, что мы получили сегодня, были бы исключены. Но это если бы да кабы. Пока что следователь Иванов, не утруждая себя, легко и просто отмел все, что, по его разумению, не годилось версии об убийстве из хулиганских побуждений. Вот так, запросто отмел, словно не стояла за этим чужая жизнь. Волкова вопросов к Перевалову не имела, зато, опередив меня, задала Реутову исключительной важности вопрос: — Потерпевший Реутов, вам знаком этот предмет? Я замерла в ожидании, и Волкова тоже заметно волновалась. Многое зависело от того, что скажет сейчас Реутов. А он медлил. Поднялся, как и прежде, рывками, словно по частям, и молчал, не отвечая. Ни да, ни нет. И в это самое время в зале вдруг встал парень в сером пальто. Встал и сказал уверенно и веско: — Говори! Реутов оглянулся, дернулся, а мне пришлось наводить порядок: — Гражданин, вы мешаете суду работать. Кто вы такой, назовитесь. — Воронько, — ответил парень так же спокойно, — я прошу суд допросить меня в качестве свидетеля. Я расскажу про Аркадия и про Реутова тоже. — Но вы же находились в зале! Свидетелям не положено быть в зале. И потом, допрос еще не закончен, допрашивается свидетель Перевалов и… — Хорошо, — сказал он, не дослушав, — я подожду в коридоре. — И уже от двери снова сказал: "Говори, Пашка!" Все взгляды обратились на Реутова и он, наконец, выдавил: — Да. — Что "да”? — уточнила я. — Знакомый кастет. Он принадлежал Алику. Шишкову. — Чушь, чушь собачья! Это неправда! — выкрикнула мать Шишкова. — Как не стыдно валить все на мертвого! Конечно, он не защитится, не может сказать, — она зарыдала, схватилась за грудь, дама за ее спиной открыла сумочку, достала пузырек. Остро запахло лекарством… Пришлось объявить перерыв. Нет, все это не проходит даром. Такой поворот дела. Я пришла в кабинет измочаленная совершенно. В двух словах рассказала коллегам о случившемся, о показаниях Перевалова, о кастете. — Знаешь, — посоветовала Алевтина Георгиевна, — назначай сейчас сразу все экспертизы и передохни. Да, Игорю позвони, — спохватилась она, — что-то он беспокоился с квартирой. Ах, еще квартира. Я уже начисто забыла об этих заботах за событиями в судебном зале. Игорь был озабочен и немногословен: — Наташа, там у нас плита почти совсем не работает. Удивляюсь, как они жили! Я зашел в ЖЭК, оставил заявление, пусть заменяют. — Хорошо-хорошо, — рассеянно согласилась я. Игорь уловил мое состояние, сочувственно спросил: — Трудно? — Очень! — призналась я мужу и вздохнула, — по существу, расследую дело и такое открывается, такое… Я чувствовала просто физическую усталость. Даже ноги мозжило, словно трудный какой-то путь пришлось мне пройти. Бег с препятствиями, усмехнулась я. Конечно, эти препятствия одолимы, но, Боже мой, сколько же требуют сил. Сколько сил и нервов! Самое обидное, что созданы они искусственно, недобросовестными руками. Ну, Иванов! Как бы ни решилось дело, не миновать тебе частного определения, следователь Иванов. Представить страшно: будь Перевалов потрусливей, считай он свою хату с краю, не сохрани, не принеси этот злосчастный кастет! Когда же, наконец, решится вопрос со следствием? Передали бы в одни руки, да под прокурорский надзор. Не такой, как сейчас, настоящий. Чтоб не мундир защищал, а истину, истину, только ее, необходимую всем! Ведь судьбы решаем, человеческие судьбы. Жизнью чужой распоряжаемся, нельзя же быть равнодушными. Вспомнились напутственные слова Валерии Николаевны при передаче дела Сумина. Прямо она не сказала, нет, для этого у нее достало и опыта и ума. Но то многозначительное молчание, последовавшее за словами о несложности дела, об исключительной тяжести последствий, о хулиганском мотиве… То молчание обещало Сумину смерть! Ни больше, ни меньше. Смерть. Исключительную меру наказания подготавливала моя начальница убийце Сумину Юрию Васильевичу. Исключительную… Странное у меня к ней отношение, к этой исключительной. Вот не работай я следователем, да не насмотрись на иные дела рук человеческих, да не наслушайся плача горького и не помни людского страдания… Но и тот не могу забыть случай, когда от страшного, нечеловеческого воя замерло вначале все в нашем суровом здании, а потом, выбежав в коридор, я увидела и бросилась поднимать старуху, бившуюся головой о каменные лестничные ступени. Мы завели ее в нашу "хомутарку”, отпоили водой и валерьянкой, и она, едва придя в себя, трясущимися руками доставала и показывала нам старые фотографии, плохие любительские снимки, где оставался жить вихрастый мальчишка с веселыми глазами. Показывала мать эти снимки и убеждала нас, говорила взахлеб, не в силах замолчать, каким он был маленьким, ее сын, каким он был ласковым и хорошим, маленький ее сын… Недавнего его прошлого не касаясь, она говорила и говорила, словно вымаливая у нас прощения сыну, которого уже поглотила без остатка исключительная эта самая мера… Проводив старуху, я зашла к судье, вынесшему тот приговор. Он сидел над чистым белым листом, и лицо было тоже белым, как бумага на его столе… Нет, неоднозначное у меня отношение к исключительной мере наказания — так у нас именуется смертная казнь. А Сумин? "Глаза на тонких ножках”. Дёло-то вон как оборачивается. Надо бы, конечно, зайти к Валерии, доложиться. Но так не хочется. Подожду. Назначу экспертизы, будут какие-то объективные доказательства, не просто слова… Решено: зайду, когда получу заключения. Не с пустыми все же руками. Конечно, начальница любит давать советы, но мне они сейчас не нужны. Да-а, еще ведь Воронько! Интересно, что расскажет он о таинственном Аркадии, какое отношение к событиям имеет этот неизвестный Аркадий — Аркан? После перерыва меня ожидала новость совсем другая. Прокурор Кудимов заявил ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование. Это меня удивило. Судебное следствие идет полным ходом, зачем же его прерывать? Доводы прокурора таковы: необходимо провести экспертизы, расширить круг свидетелей. Так он и сказал: расширить круг свидетелей, словно не знал, что все свидетели по этому делу установлены. Не знаю уж, как он собрался их "расширять". Вот они, свидетели, все у нас под рукой. Погодите, товарищ прокурор, мы и про Аркана узнаем. А экспертизы — что ж, это суд может назначить. И назначим. Раньше об этом надо было думать, прокурорские коллеги, раньше, знаю я ваши маневры с дополнительным расследованием. Адвокат Волкова категорически возражала против предложения прокурора. Реутов мрачно сказал: "Как хотите”. А Сумин отчаянно вскрикнул: "Опять к Иванову?! Не надо!" Мы ушли в совещательную комнату и ходатайство прокурора отклонили единогласно. Мои народные заседатели, впервые попавшие в столь необычную ситуацию, вели себя на удивление дружно. Тютюнник сжимал крепкие кулаки, доктор Руссу играл желваками. — Наталья Борисовна, как же так? — сказал доктор. — Мне кажется, по делу диагноз поставлен неверно. — У этого дела резьба сорвана, — заключил слесарь авторитетно, — сам я, доведись до меня, тоже не дал бы спуску. — Погодите, погодите, товарищи, — принялась я их урезонивать. — Мне кажется, с выводами вы спешите. Работы еще впереди — дай Боже. Не забывайте, что человек погиб. Не просто драка — убийство было. Погрустнели народные заседатели при упоминании о погибшем. Доктор Руссу полистал дело, нашел акты судебно-медицинской экспертизы, прочел и крякнул. — Н-да. Вот это и называется — бедному жениться и ночь коротка. Черт же его дернул так ударить. Повредил сердечную сумку… Не мог как-то иначе… — Ну, знаете, — возмутился Тютюнник, — он что, выбирал, куда ударить?! В таком переплете он, по-моему, и не видел, куда бьет. Ткнул да и все. На горе — в сердце попал. Но на горе не только Шишкову и себе тоже, надо помнить. Жалко мне парнишку, — признался он, — как хотите, а жалко. — А того, Шишкова? Жалко? — поинтересовалась я. Тютюнник кивнул: — И того жалко. Жизнь за что положил молодую? Ну за что? — Ладно, товарищи, — подытожила я наши дебаты, — давайте дальше работать. Успеть бы сегодня допросить Воронько. Или сперва экспертизы назначить? Я захлопнула дело — чирк — острая бежевая корка прошлась по моему указательному пальцу, аккуратно разрезав кожу поперек. Ровной полоской проступила кровь, и доктор Руссу перехватил мою руку, протянутую к губам. Жгучая черточка йода украсила палец. Обидно, как же я буду сегодня хозяйничать? Прокурор Кудимов, разумеется, нашим решением был недоволен, определение суда выслушал молча. Адвокат же одобрительно кивала, и едва я умолкла, закончив чтение, Галина Петровна встала. — Прошу суд выслушать мое ходатайство. Похоже, Волкова решила за меня вопрос: назначать прежде экспертизы или допросить Воронько. Ходатайство адвоката суд обязан выслушать и принять по нему решение. Это с лихвой покроет оставшееся рабочее время, еще и не хватит его. Значит, Воронько остается на завтра. Галина Петровна успела четко изложить свою просьбу и, надо сказать, точка зрения ее совпадала с моими намерениями. Адвокат просила о назначении двух экспертиз: судебно-медицинской для исследования шрама на голове Сумина: механизм и давность причинения, и возможность нанесения этой раны кастетом, представленным суду свидетелем Переваловым. Вторую экспертизу предстояло провести биологическую — есть ли на кастете кровь, и если есть, то чья? С ходатайством адвоката согласились все, мы опять вернулись в совещательную комнату и назначили экспертизы. По своему прежнему следовательскому опыту я знала, что у Сумина утром в санчасти изолятора нужно взять образцы крови, поэтому заготовила необходимые документы. Огласив определение о назначении экспертиз, я объявила перерыв до следующего дня. Жаль, конечно, что не допрошен сегодня Воронько. Но нельзя же растянуть рабочий день до бесконечности. Тем более что я не собиралась отдыхать, а лишь меняла фронт работы. Перекушу сейчас в кабинете, наверняка еще не ушла Лидия Дмитриевна и у нее найдется что-нибудь мне на зубок. Тем временем подъедет Игорь, если уже не подъехал. Время-то, ого, уже скоро семь! И мы поедем мыть-отмывать новую свою квартиру. Вчера на семейном совете мы решили не откладывать переезд и сделать только самое необходимое. Впереди лето и отпуск, тогда уж и развернемся с ремонтом. А пока — чистота. Игорь мой сидел уже в нашей "хомутарке”, беседовал с Лидией Дмитриевной, чайник кипел на свободе — наш завхоз соблюдал правила трудового распорядка и в такое время был дома. При моем появлении Игорь, ворча, достал из сумки красное махровое полотенце, извлек из него маленькую кастрюльку, поставил передо мной. Я поняла: с Сашкой осталась бабушка, Татьяна Ивановна. Она же приготовила и послала мне этот ужин. — Вообще-то, мать, кончай с сухомяткой, — строго сказал Игорь, — не обедаешь, ладно. Так еще и ужинать перестала. Никуда не годится это. — Так, так ее, Игорь, — засмеялась Лидия Дмитриевна. А я промолчала, лишь глянула на Игоря благодарно. Ах, если бы меня ругали вот только так — любя и жалея! Знаете, каким вкусным бывает неостывшее картофельное пюре с легким запахом чеснока, с редкими поджаренными ломтиками лука! А теплая сочная котлета домашнего, не общепитовского производства! Я уплетала все это большой алюминиевой ложкой и совсем не обращала внимания на улыбки, расцветившие лица мужа и моей дорогой старшей подруги. Дно кастрюльки обнажилось быстро и беспощадно. Я вздохнула, отложив ложку. И спохватилась: — Игорь, а как же тряпки, тазы, стиральный порошок и прочее? Чем мыть-то будем? — Ну, Наташа, — укорил меня муж, — ты что, забыла? В твоей квартире Людмила уже часа два как полощется. И все приготовлено. Антон пока на работе, но тоже подъедет. Давай, поторапливайся. Засобиралась вдруг Лидия Дмитриевна: — Ребята, и я с вами. Некуда мне спешить, давайте я помогу. Отвлекусь хоть, — добавила она, видя наше смущение. Последний аргумент все перевесил. Я лишь с сомнением поглядела на рабочий костюм коллеги, но она беззаботно махнула рукой: — Да брось ты, Наталья. Блузку я на левую сторону выверну. Да и вообще, что за проблема — тряпки. К радости вашей хочу приобщиться — не бескорыстно я к вам набиваюсь. Так, милая моя Лидия Дмитриевна. Все это так. Приобщиться к радости — большое дело. Гораздо важнее нарядов и тряпок. Идите ко мне, люди. Приобщайтесь к радости моей, я готова делить ее с вами. Делили вы, половинили мое горе, пришла пора — берите радость мою, разделяйте ее со мной, добрые души! В пустой гулкой квартире громко распевала Людмила, в одиночестве промывая огромные окна, и в наступающей ночи стекла зеркально сияли. Торжественно и чуть таинственно. Вскоре приехал Антон. Работа приняла совсем уж радостный, ничуть не обременительный характер. Настроение мое омрачила лишь плита. Привезенный Игорем чайник никак не желал на ней согреваться. Мужчины проверили — работали в слабом режиме лишь две конфорки. Игорь поднял крышку плиты, удивленно пожал плечами: ржавчина, грязные потеки. — Странно, — сказал Антон, — просите, ребята, новую печь. Эта уже не работница. На том и сошлись. Поручили Игорю прямо с утра заняться плитой. Совсем поздно увез Антон довольную трудовым вечером Лидию Дмитриевну, добросил до дома и нас, забрав дежурившую возле Сашуни бабушку. Закончился трудный день. Тихо-тихо в нашей маленькой кухоньке, лишь шуршат газеты, на которые так и норовит свалиться моя усталая голова… Жизнь идет полосами. Белая, черная. Все так говорят и я в это верю. Пока предавалась я блаженному сну, неприятности крепко схватились за руки, чтобы прямо с утра окружить меня злорадным хороводом. Я листала дело Сумина, боясь чего-нибудь упустить, когда меня вызвали на ковер. Да не куда-нибудь, к Первому. Наш председатель суда Хлебников был больше гражданщик, в уголовные дела вмешивался редко, почти полностью передоверив их Валерии Николаевне. И вдруг — вызов. Моя начальница уже сидела в кабинете председателя. Я примостилась напротив нее. — Что там у вас с делом, Наталья Борисовна? — недовольно спросил Хлебников, по своему обычаю прихорашиваясь. Он был мужчиной в критическом возрасте, перевалило за пятьдесят, и старался компенсировать недостаток молодости избытком нарядности. Модный узкий галстук безупречно повторял изгибы дородного тела председателя, открытые распахнутым пиджаком. — Нормально с делом, — прикинулась я непонимающей, — а что случилось? Хлебников перевел вопросительный взгляд с меня на свою заместительницу, и ей пришлось отвечать. — Нет, вы еще спрашиваете? — возмущенно сказала она. — Почему вы вчера не направили дело на дополнительное расследование, как просил прокурор? Почему опять на вас жалобы? — Это не я, Валерия Николаевна. Не я — суд отказал в просьбе прокурора. А я только третья часть суда. Может, стоит спросить всех? Конечно, это был провокационный вопрос. Снимать стружку с судьи — дело привычное. А вот состав суда — прошу прощения, тронуть опасно. Валерия Николаевна, как и я, это прекрасно знала. И поэтому немедленно апеллировала к начальству: — Ну что это? Полная анархия. Дело принимает серьезный оборот. Там, скорее всего, необходимая оборона, прокурор просит — верните, пусть расхлебывают сами, зачем нам лишние конфликты с прокуратурой? Если действительно оборона, сами и прекратят! Пока она говорила, поднималась во мне злость. Что же такое суд? Производство обвинительных приговоров? Или все же производство справедливости? Как мне смотреть в лицо Зои Лягушенко, Перевалова, Реутова, Сумина, наконец?! Валерия Николаевна кипела, обращаясь к Хлебникову, но в его взгляде, обращенном ко мне, я видела не осуждение — интерес. Под этим заинтересованным взглядом утихало раздражение, пропала охота спорить. Я видела: Хлебников мой союзник, возмущения моей начальницы он не разделяет. И действительно, едва она замолчала, председатель сказал примирительно: — А по-моему, так вы преувеличиваете, Валерия Николаевна. Пусть рассматривают дело спокойно, ведь все идет путем. И чего вы так прокуроров боитесь? А? — Я?! — красные пятна с лица Валерии Николаевны спустились на шею. — Я?! Боюсь?!. — Вы, — спокойно подтвердил Хлебников. — Я это не впервые замечаю. А судьи-то независимы. Подчиняются только закону… С этим я была отпущена, а Валерия Николаевна оставалась в кабинете еще какое-то время. До начала судебного заседания было два часа, конечно, если успеют медики уложиться в мои жесткие рамки и утречком взять образцы крови у Сумина для экспертизы. И Шамиль осмотрит подсудимого. Палец мой, порезанный жестким картоном и капитально разъеденный стиральным порошком во время вчерашней уборки, дергало словно током. Никаких аптечек, тем более медпунктов, нам не полагалось, бежать в поликлинику с таким пустяком я считала неприличным и держала палец над делом как пистолет, пока сердобольная Алевтина Георгиевна не разыскала пластырь, да не залепила мне рану, открывшуюся, словно обескровленный рот. За этим занятием застиг нас телефонный звонок и — вот она вторая неприятность. Соблюден теперь закон парных случаев! Голос Игоря был непривычно растерянным. — Тут какая-то ерунда получается, Наташа. Меня уверяют, что в нашу квартиру два месяца назад поставлена новая плита. Я говорю, не может быть, но мне не верят. Может, ты переговоришь? Все же ответственный квартиросъемщик… — Это срочно, Игорь? — раздражаюсь я. — И без меня никак не обойтись? Мне скоро в процесс, я занята по горло, а тут еще какой-то детектив с плитой! — Как знаешь, — скучнеет голос мужа, не терпящего моего раздражения, — но нас чуть ли не в подлоге обвиняют, учти. И положил трубку. Прелестно! Меня обвиняют в подлоге! Недоставало только этого. Но все-таки интересно, что за история с плитой? В чем там дело? Подумав, решаю все же не выяснять этот вопрос. Иногда, знаю по опыту, полезно такие житейские неурядицы просто пускать на самотек. Пусть будет как будет. Постаралась отбросить домашние заботы, принялась вновь за дело. Раскрыла схему, приложенную к протоколу осмотра места происшествия. Свежи в памяти показания свидетелей, и я начинаю представлять: вот крыльцо дома. Ступеньки, возле которых на деревянной завалинке лежит тот злосчастный косарь — так, кажется, назвал нож Перевалов. Вышел на крылечко Сумин. Калитка от крыльца, как видно по схеме, около десяти метров. Значит, десять метров. Видит Сумин, что Шишков поймал и держит Лягушенко. Кричит, бежит к ним. Шишков отпустил Зою и угрожает теперь Сумину, тот поворачивает к дому, но у крыльца — Реутов. Ловушка? Капкан? Догоняет Шишков, наносит удар по голове. Кровь. Боль. Злость. Страх? Реальная опасность? Надо защищаться? Что? Что делать-то? Их двое. Пьяны и агрессивны. Да, надо защищаться, надо, надо! Убеждена, что надо. Но как? Чем? Издевательски расставив руки, Реутов идет на Сумина. Еще один реальный противник. Сумин оглядывается, ищет защиту. Его кулаки слабы для этих двух, яснее ясного. Да еще кастет. Удар не сбросишь со счетов. Взгляд натыкается на нож. Мгновение — нож в руках. Почему Шишкова не остановил вид ножа? Если говорить, почему не убежал Сумин, резонно спросить, почему не убежал Шишков, завидя нож. Удар нанесен в грудь, значит, они сошлись. Один удар, всего один и, надо же, в сердце! Но то, что ранение одно, тоже кое о чем говорит. Значит, можно верить Сумину, что он желал только пресечь нападение. Когда эта цель была достигнута и раненый Шишков упал, действия Сумина против него прекратились. Конечно, это важно. Дальше. Сумин бежит к выходу. Но его опережает Реутов, наклонился к ломику. Удар ножом! Сумин выбегает на улицу, мчится, не отзываясь на окрики Перевалова. Наконец-то убегает. На свободе такой ценой! ”На свободе”, — усмехаюсь я. Вот так свободу добыл себе Сумин в сражении на собственном дворе! — Да что же ему делать-то было? — с досадой произношу я вслух. Мои коллеги с готовностью подняли головы от своих бумаг. Я знаю, дело бумина уже получило огласку в суде и судьи ждут результата: решусь я до конца быть принципиальной, а попросту, хватит ли у меня смелости? Или все же спущу дело на тормозах? Столы моих коллег сдвинуты вплотную, поэтому я кладу дело как раз на середину, чтобы им было видно схему. — Вот, — я тычу пальцем в желтый листок, — вот что мы установили на сегодня. Коллеги внимательно слушают, а я безжалостно терзаю себя, выплескивая сомнения свои, все плюсы и минусы. — Тихо, тихо, — наконец, успокаивает меня Алевтина Георгиевна, — экая ты горячая. Давай-ка по порядку. Со схемой ясно. А вот мотив? Мотив ты упустила? Сумину предъявлен хулиганский мотив убийства. — Какое хулиганство?! — я возмутилась. — Хулиганство отпадает начисто. — А чего ты горячишься? — в голосе Алевтины укоризна. — Чего горячишься-то? И в процессе тоже так? Тоже мне, судья… Пришлось мне проглотить упрек. Но Лидия Дмитриевна меня пожалела: — Наташа, похоже, конечно, на необходимую оборону. Но будь осторожна: на моей памяти таких приговоров не выносилось. Подумай, может, не стоит ломаться? Верни дело на доследование, как прокурор просит. Прекратят — и волки будут сыты, и овцы целы. — Чему ты учишь молодежь? — сурово возразила Алевтина, выпрямившись в кресле, всем видом своим показывая несогласие. — Давай лучше обдумаем, чем помочь ей. Доставай-ка Сборник, ищи постановление о необходимой обороне. — Гляньте, — не удержалась я, раскрывая Сборник на нужной странице, — чистенький текст, незачитанный. Девственный текст, так сказать. — А я что говорю? — откликнулась Лидия Дмитриевна. — Перестали этот закон применять. Вот и насело хулиганье нам на шею. Безнаказанность ведет к нахальству, давно известно… Но ведь Наташу жалко. Это не шутка, парень-то убит. — Да кому-то и начинать надо, — опять возразила Алевтина, стойко держась сегодня в оппозиции, — кому же начинать, как не им, молодым? Ничего, шишки пройдут, а уважение к себе останется. Слушай, Наташа, я словно специально для тебя выписку сделала: "В мышлении юриста главное — логика, а в поступках — справедливость и гуманизм”. Это академик Кудрявцев сказал как специ-ально для твоего случая. Справедливость и гуманизм у тебя в наличии есть, — засмеялась она, — давай проверим логику. Алевтина Георгиевна читает медленно, с выражением, с многозначительными паузами. Я беру для верности чистый листок, пишу: ’’Выписка из постановления Верховного Суда "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств”. ”…п. 1. Право на необходимую оборону является одной из важных гарантий реализации конституционных прав и обязанностей граждан по защите от общественно опасных посягательств интересов государства и общества, общественного порядка, жизни, здоровья, чести и достоинства советских людей. п. 2. Под общественно опасным посягательством, защита от которого допустима, следует понимать деяние, предусмотренное Особенной частью уголовного закона, независимо от того, привлечено ли лицо, его совершившее, к уголовной ответственности… п. 3. В соответствии с Законом граждане имеют право на применение активных мер при защите от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, независимо от наличия у них возможности спастись бегством или использовать иные способы избежать нападения”. Я сделала выписку просто из привычки записывать для себя все главное, Алевтина же удивилась: — Ты что, на память не полагаешься? И прокомментировала, обращаясь больше к Лидии Дмитриевне: — Вот видишь, что говорится: конституционное право и обязанность — раз, защита не только жизни, но чести и достоинства, да и не только себя, и других граждан — два, и от преступных деяний — три. — Есть это все в твоем деле? — обратилась она уже ко мне. Я кивнула: — Вроде бы все это есть. Коллега моя возразила сердито: — "Вроде бы” — это не разговор для судьи. — Но еще судебное следствие идет! Рано говорить. — Когда будет в самый раз, тогда и сомнения твои уйдут. А пока в свою бумажку еще вот это запиши. И продиктовала: ’’Суды должны учитывать не только соответствие или несоответствие средств защиты и нападения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его силы и возможности по отражению посягательства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и защищавшегося (количество посягавших и оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и т. д.). При совершении посягательства группой лиц обороняющийся вправе применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы”. Прилежно дополнив свою запись, я принялась обдумывать ее, примеривая к делу. Характер опасности был реальным. Вот еще что экспертизы покажут? Количество нападавших и оборонявшихся — тут все ясно. Возраст одинаков, а вот силы явно неравны. Оружие. Смущает, конечно, нож. Но ведь нож-то какой?! Это не хулиганская финка, а ржавый тесак для очистки обуви, валявшийся во дворе. "Что попало под руку”, — так говорил Сумин. У нападающего — кастет, у обороняющегося — нож, пусть даже такой. Можно считать оружие равным? И рассердилась сама: а почему оно должно быть равным? Зачем я скатываюсь в трусливое обывательское болото? В совокупности все обстоятельства надо учесть, в совокупности. А может, все же лучше было бы отправить на доследование все это дело? Но это лучше для кого? Уж только не для правосудия. И не для справедливости, следовательно. Заглянула в кабинет секретарь Галина. — Все на месте, — сердито сказала она, — чего вы ждете? Опять справедливый упрек. Чего я жду? Просрочила почти десять минут, а это недопустимо. Быстренько спускаюсь на первый этаж, через узкие закутки — коридоры пробираюсь в совещательную комнату. Мне навстречу встают, здороваясь, народные заседатели. — Здрасьте! — скороговоркой отвечаю я. — Пошли? — Прошу садиться! — это я говорю уже в зале. — Продолжается судебное заседание. Эксперт Гварсия готов к даче заключения? — Да! — подбрасывает Шамиля его кавказский темперамент. — Готов! В руках эксперта уже отпечатанный на машинке листок с заключением. Мы внимательно слушаем. Итак, эксперт подтвердил, что давность и механизм причинения шрама линейной формы на голове Сумина соответствует обстоятельствам, указанным подсудимым. Почему-то с особым значением и удовольствием Шамиль прочел: "…и причинен металлическим предметом с четко очерченными гранями, каким может быть выступающий гребешок представленного эксперту кастета”. Вопросов к Шамилю не поступило, и он сел рядом с Галиной, предварительно победно оглядев зал. Биологическая экспертиза, которая определит, есть ли кровь на кастете, еще не готова. Подождем до завтра. А сейчас допрос. — Прошу пригласить свидетеля Воронько. Галка не успела принять меры к претворению в жизнь распоряжения суда. Длинноногий парень в варенках, который дисциплинированно сидел на задней не поредевшей скамье, сорвался с места и громко крикнул в коридор: "Валера!” Воронько вошел в зал с видом старого знакомца, уверенно подошел к свидетельской трибуне. — Воронько Валерий Александрович, — назвался он, не дожидаясь вопроса, — работаю участковым инспектором милиции. Новость какая! Инспектор милиции просит его допросить. ”Интере-есно”, — прошептал Руссу, наклонившись ко мне. Еще бы. Конечно. Понимающе кивнув, Воронько выслушал разъяснение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, энергично расписался и начал свой рассказ. — Что случилось в тот день во дворе Сумина, сказать не могу. Сам не видел, а свидетелей вы без меня слышали. Но я работаю в милиции и… — он чуточку помолчал, подыскивая слова, — и… знаю возможности следователя прокуратуры Иванова… Убийства подследственны прокуратуре, наши ребята по этому делу не работали, оно же явное, раскрывать не надо. Сумин пришел сам, признался. Но я же со школы его знаю! Не мог я в стороне стоять, не мог! Вот и начал… расследовать. Во-первых, меня реакция Сумина смутила. Понимаете, он такой… ну, недрачливый, что ли… А тут… Пить он тоже не пьет, поговорил я с девчатами, с Переваловым дядей Иваном — нет, не был Юрка пьяный, не вино причиной. Значит, думаю, допекли. Ну, что эти парни вытворяли, вы уже знаете, повторяться не буду. Я хочу о них рассказать, почему и как они у Сумина оказались и что собой представляют. — Вот, — опять на наш стол легла бумага — которая уж! — это справка из милиции, — пояснил Воронько, возвращаясь к свидетельской трибуне, — справка о розыске Аркадия Луковкина по кличке Аркан. Он и есть Аркан, оправдывает кличку свою полностью. Разыскивается за мошенничество, совершенное с помощью Шишкова, Реутова и еще парочки таких же. — При этих словах потерпевший Реутов поднял голову, глянул на свидетеля, злобно, одними губами, прошипел что-то, чего мы не расслышали, но Воронько уловил, потому что тоже повернулся к нему и сказал, качнув ладонью: — Будь Спок, парень, будь спок. Найдем и Аркана. А тебя-то потерпевший опознал, что ж ты помалкиваешь, скромник? Он под следствием уже, товарищи судьи, а скрывает, овечкой прикидывается, обижен, видите ли! — Так вот, — продолжал Воронько, — вместе с Арканом "кинули” они мужика капитально. Деньги под машину ваяли, да плюс краплеными картишками остальное до копейки вытряхнули. Со всей суммой, это около пятнадцати тысяч, Аркан не только от того мужчины скрылся, но и от дружков. Рыскали они по всему городу, искали Аркана, вернее, свою часть добычи, вот и устроили засаду у Юрки, злобствовали. Недаром и с кастетом пришли, недаром. Уверен я — пролиться бы другой крови, если бы не этот случай. Конечно, они злость не только к Аркану питали, на весь свет злы были — уплыла добыча, обидно. Вот такова прелюдия событий. Воронько говорил, а я вспоминала белые пальцы Реутова, предостерегающе приподнятые, словно запрещавшие Сумину говорить. А ведь мне не показалось, нет! Он действительно запрещал Сумину касаться таинственного тогда Аркана. Теперь вот стало ясно почему. Предупреждал: "Не навреди нам, не смей упоминать об Аркане”. Угроза была в его жестах, явная угроза, и ясно, что Сумин поначалу струсил: знал, с кем дело имеет. Что ж, и это тоже важно. Личность потерпевших по таким вот делам на многое свет проливает. Кстати, и на вопрос прокурора о реальности посягательств тоже. И на вопрос адвоката, почему не работал Шишков. Тихо-тихо в зале. Даже "молодежная" скамья замерла, внимательно слушает. — Мы Аркана все равно найдем, — продолжал между тем Воронько, — мне вон ребята мои помогают, с моего участка, — он обернулся назад, и длинноногий важно кивнул ему: "Помогаем!", — это они по следам ваших потерпевших прошли, многое узнали полезного. Главным образом, чего не надо делать, — сказал Воронько серьезно, а на задней скамейке тихонько хихикнули и замолкли снова. Так вот что за "представители” сидели там с самого начала процесса! А я-то никак не могла понять. Оказалось — учатся люди, что надо и чего не надо делать! Неплохо, неплохо, участковый инспектор Воронько. Свидетель между тем обратил наше внимание на, каюсь, незамеченную ранее деталь: в том дипломате, забытом Реутовым и Шишковым в доме Сумина, были две колоды карт. Руссу, полистав дело, нашел протокол: точно, есть в описи такие, но внимания на это никто и не обратил. Казалось бы, зачем? Но нет мелочей в нашей работе, нет совсем никаких мелочей. Закончил свои показания Воронько совсем уж необычно. Вынув из кармана, раскрыл записную книжку и обратился к суду: — Прошу вас, разрешите прочесть. И пусть Сумин запишет или запомнит поточнее. Вот: "Пусть знают все подонки. Слишком много развелось их под охраной закона. Пусть знают, среди жертв может оказаться и такой, как я. Мы освободимся, наконец, от нападающих по ночам", — торжественно прочел он и пояснил: — "Белые одежды". Дудинцев Лауреат сейчас. Я считаю, как специально для этого случая. Юра, это тебе для последнего слова. Товарищи судьи, когда же узнают подонки, что жертвы могут восстать? Это же и от вас зависит, товарищи судьи, а? Обращенный к нам вопрос заставил вдруг густо покраснеть доктора Руссу и, глянув на него, тяжело засопел второй народный заседатель. Я видела, слесарь Тютюнник и доктор Руссу, сидевшие за судейским столом, были солидарны с Дудинцевым. И с Воронько. Что-то будет в совещательной комнате, что-то будет, когда нам придется решать главное! Показания Воронько вызвали новый прилив активности у прокурора. Федор Иванович немедленно встал, горячо и почти искренне заявил новое ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование. Адвокат Волкова также горячо протестовала, подсудимый Сумин был солидарен с адвокатом, Реутов кратко буркнул: "К чему?”, а мать Шишкова устало сказала: "На усмотрение суда”. Опять нам пришлось уйти в совещательную комнату. И в ходатайстве прокурору мы опять отказали. "Что доследовать-то?” — с досадой сказал Руссу, и Тютюнник одобрительно крякнул. Действительно, что доследовать? Справку о розыске Аркана — Луковкина мы приобщили к делу. А прокурор своим ходатайством только помешал нам дополнительно допросить Реутова. Но мы это сделаем. Я огласила определение и на столе перед собой увидела записку: "Валерия Николаевна просит сделать перерыв и зайти к ней. Галина”. На мой вопросительный взгляд Галка только округлила глаза. Недобрые предчувствия охватили меня. Зря понадеялась я на закон парных случаев, получив две неприятности. Существует еще закон тройственности. Видимо, он вступал в действие, этот закон. — Объявляю перерыв на двадцать минут, — сказала я уныло и поплелась на второй этаж. Валерия Николаевна, увидев меня, поджала тонкие губы: — Ну, что я говорила? Опять с тобой неприятности, дорогая. Я молчала. По праву старшего начальница всегда говорила мне "ты”, но почему-то лишь сейчас это больно резануло слух. Что я опять натворила? И разве можно так дергать судью, занятого в совсем не простом процессе? Мне бы поддержку, помощь, совет… Да что там, совет. Не мешали бы, не дергали, не язвили. Да-а, судьи независимы и подчиняются только закону… Право на независимость реализовать не так просто, как кажется. Нет уж, я это право использую, пусть только попробует, затронет дело! Я скажу… Напрасно я накачивалась злостью. Начальница не коснулась судебного процесса. И приготовленный мною лозунг оказался без надобности. Валерия Николаевна, сделав многозначительную паузу, задала мне вопрос: — Что за скандал устроил твой муж в жилищной конторе? — Игорь?! — изумилась я. Игорь и скандал — понятия несовместимые. Мой муж панически боялся и изощренно избегал всяких конфликтных ситуаций, за что я его нередко поругивала. — Какой скандал? Я ничего не знаю. — Ну как же! — с явным удовольствием ответила Валерия Николаевна. — Он требует в квартиру новую плиту. Звонил сам Петр Яковлевич, просит вас быть поскромнее. — Разрешите, выясню вначале, потом продолжим разговор, — я решительно встала. Мои коллеги ничего не знали, и даже Игорь не звонил, о каком же скандале вела речь начальница? Первый звонок мужу: — Игорь, в чем дело с плитой? Какой и где ты учинил скандал? Муж озадачен не меньше моего: — Я же тебе позвонил. Они говорят, что у нас должна стоять новая плита. Мол, разбирайтесь сами. Ордер выдан, квартира, выходит, нами принята. Да мы уж там моем и все такое. Ясности нет. Второй звонок начальнику жилищной конторы. Едва сдерживаемое раздражение слышу в незнакомом мужском голосе: — Послушайте, я же сказал: разбирайтесь сами. Семе-нцов не такой человек, с которого я могу спросить. Поэтому сами. Повторяю вам: в вашу квартиру поставлена новая плита. Вот передо мной акт. Марки "Галя”. Старая "Лысьва” списана тоже по акту. ’’Лысьва”? "Галя”? — соображаю я. Именно "Лысьву” отмывал Семенцов, когда мы пришли в первый раз. Отмывал! Неужели?! Применяя ненавистный, но помогающий метод, иду в разведку: — Следуя вашему совету, хочу понять суть дела. Ответственный квартиросъемщик — я, Тайгина, член областного суда, а проще — судья. Мною принята квартира с неисправной плитой "Лысьва”. Назовите дату акта списания и номера электроплит — новой и списанной. Я думаю, мы их найдем. Последнюю фразу произношу многозначительно, словно обещаю глобальное расследование. Действует. Мой абонент скучнеет: — Товарищ Тайгина, да ладно. Поставим другую. — Нет, а где та, "Таля"? — не сдаю я завоеванных позиций. Голос в трубке становится совсем грустным: — Видите ли, товарищ Семенцов сказал, что жена к ней привыкла, к той плите. Вот они ее на новую квартиру поставили. Да ладно, привезем вам другую, недельку-другую потерпите, привезем. — Прошу вас, нет. Поставьте в известность бывшего квартиросъемщика, что им совершена кража, — мое терпение лопнуло и меня натурально прорвало! В конце концов, могу и я взорваться! По такому поводу как не взорвешься! Не прощаясь, бросаю трубку и возвращаюсь к начальнице. Валерия Николаевна неплохой физиономист и, видимо, прочла на моем лице обуревавшие меня чувства, во всяком случае, она настороженно молчит, ожидая продолжения событий. Ожидаете? Получите. Я говорю жестко: — Передайте Петру Яковлевичу, что мой муж не скандалил. Скандалить буду я. Так и передайте. Электроплита в моей квартире, точнее, история этой плиты, стоит того, чтобы сообщить о ней секретарю обкома. Я сделаю именно так. А совет о скромности скверно пахнет, скверно! — Ты что, ссориться с ним надумала? — пугается Валерия Николаевна. — Ты что, не понимаешь, чем это обернется?! Выборы на носу, а ты свару затеяла, да с кем?! Господи! — страдальчески морщится она. — За какие грехи ты мне послана? Ну что за жизнь, ну что за невезуха? Меня ждут в зале заседания. Там сжался в комочек молодой парень с огромными неверящими глазами и ждет решения своей судьбы. Ждут дядя Иван Перевалов, участковый инспектор Воронько, Марина и Зоя, долговязый парень в модных джинсах, растрепанные девчонки, пришедшие узнать, есть ли справедливость и можно ли защищаться от подонков, нападающих по ночам? Они ждут. А я валандаюсь с какой-то идиотской плитой и препираюсь: "буду скандалить”, "буду жаловаться"! Тьфу. Я же… И вдруг остро пронзает мысль: необходимая оборона! Точно. Сумин не могне принять бой! Он находился в необходимой обороне. Необходимой для Марины и Зои, для него самого — его жизни и достоинства. Все это он спас страшной ценой, но цену запросил не он сам. Необходимая оборона! Почему сейчас именно здесь пришло ко мне убеждение, которое я только примеривала к действиям Сумина и сомневалась, не решаясь признать. Сейчас же неожиданным образом поняла тогдашнее состояние парня, его унижение, его злость и желание обороняться. Да вот что, просто я нахожусь сейчас в том же состоянии. Необходимой обороны. Нужно защищаться от хамства и неуважения, от прямой угрозы моей работе, наконец, потому что пока я так размышляю, Валерия Николаевна продолжает выговаривать: — Подумай сама, ведь все равно кадры судей будет готовить обком. А какая о тебе слава там пойдет? Кто бы ни избирал нас, а кандидатуры все равно через наш обком пропустят. Так что, дорогая, не подводи меня и коллектив тоже. Тебе же в первую очередь это боком выйдет, учти. И так уже… жалобы кругом… Спокойствие пришло внезапно. Исчезла ярость, отпустили сжимавшие горло спазмы. Не в мелочовке дело, вот что я поняла, слушая начальницу. Нет, не в ней, не в плите и квартире дело. Бог с ними! Дело в том, что кадры судей, как я только что слышала, будет отбирать Семенцов, способный на подлость. На мелкую гадость способный, а как он выглядит по большому счету? Нельзя допустить, чтобы он подходил к людям со своими мерками, надо обороняться! У каждого свой фронт. Посмотрим, что скажут люди. Мое молчание успокоило было Валерию Николаевну, она просеменила ко мне, положила на плечо маленькую горячую ладонь: — Ну, договорились? И всплеснула ручками, услышав в ответ: — Договорились. Я нахожусь в состоянии необходимой обороны. Надеюсь, что смогу защитить судейский корпус от вполне реального нападения. Судьи независимы и подчиняются только закону. — Бредишь ты, что ли? — поразилась начальница. — Ну иди, работай. Она, видимо, совсем потеряла надежду меня уговорить. Я вернулась в совещательную комнату, где ждали меня народные заседатели, ставшие близкими за эти трудные дни. Приветливо им кивнула: все в порядке, все в норме, все путем. — Прошу встать, суд идет! — голос Галины позвал нас в зал судебного заседания. День закончился без особых новостей и тревог. Допросили оставшихся свидетелей. Одни рассказали о Сумине, другие — о Шишкове и Реутове. Огласили документы — подбирали хвосты, так у нас это называется. У Реутова я ни о чем не спрашивала, хотя вопросы были. Подождем до завтра, когда будет готова биологическая экспертиза. Спокойствие мое перешло в апатию, мучительно хотелось спать. Сказалось напряжение и моральное, и физическое, каждая клеточка во мне вопила об отдыхе, о передышке. Едва дождавшись окончания рабочего дня, я уехала домой с твердым намерением устроить себе одновечерние каникулы и не заниматься ничем, кроме, разумеется, сына. Игорь понял мое состояние, пошептался о чем-то с Сашкой и уехал домывать квартиру один. А мой милый сын окружил меня такой ярко выраженной заботой, что я не выдержала и в конце концов расплакалась, повергнув его в горестное изумление. Слезы так редко посещают меня, что я уже забыла их горечь и сладость и сама с удивлением чувствовала, как по прозрачным мокрым дорожкам утекает тягостное чувство, жившее во мне все последние дни. Сейчас, со слезами, я поняла: это избавляюсь я окончательно от несвободы, от глубоко спрятанного и скрываемого даже от самой себя страха не быть как все. Покидала меня зависимость от обстоятельств. Я освобождала душу от шелухи рабства, готовила ее для добра, сострадания и справедливости. Текли мои слезы, уходила неуверенность, наступало сладостное успокоение, сознание правоты и важности моей работы и жизни. Я готова была дать бой и доказать, что есть высшая справедливость, что судьи независимы и подчиняются только закону. Мы ждали гарантий своего права. Но никто и никогда, ни один самый правильный закон не даст судье независимость, если он не имеет мужества взять ее, эту независимость. Взять и соединить с ответственностью и справедливостью. Мне казалось, только сегодня я стала настоящим судьей. Накануне этого приговора… Судебный процесс завершался. — Прошу садиться, — я оглядела зал, в котором пустых мест не было. Люди стояли даже возле двери в коридор. Это хорошо. Я люблю, когда в зале люди. Чувствую себя увереннее, когда вижу глаза, глядящие внимательно и требовательно. Оглашается заключение биологической экспертизы. Молодая симпатичная женщина, наш новый эксперт, встала, одернула и без того безукоризненно сидящий строгий синий пиджак, взяла в руки листок с заключением. Я уже знала его содержание. Наблюдаю за реакцией. Прокурор вертит в руках карандаш. Знает, конечно, результат биологического исследования, поэтому ничего нового не ждет. Адвокат Волкова вытянула шею, внимательно слушает. Потерпевший Реутов опустил голову, кажется безразличным. Зато напряженно вглядывается в эксперта Сумин. Еще бы! Подтвердит ли экспертиза показания свидетелей? Объективное доказательство, беспристрастное. Ровный голос эксперта звучит значительно, весомо падают в переполненный зал слова. Сложные медицинские термины, формулы крови, методика исследования… Вот и главное: вывод. Итак, на гребешке кастета кровь человека. Происхождение ее от убитого Шишкова и от Реутова исключается. Зато она может принадлежать подсудимому Юрию Сумину! Сумин не выдерживает все же, вскакивает и вскрикивает отчаянно: — Вот видите! А меня слушать не хотели, слушать даже! — Сумин, Сумин, — пришлось мне урезонивать подсудимого, — во-первых, не нарушайте порядок, во-вторых, мы слушали вас внимательно. И выслушаем еще. Сумин покорно кивает, садится в своей загородке, но голову уже не опускает, часто-часто взмахивает длиннющими ресницами, вытягивает шею, чтобы лучше видеть все из-за высокой деревянной планки. Вопросов к эксперту не поступило, женщина просит освободить ее от дальнейшего участия в процессе и, получив разрешение, уходит. Вот теперь послушаем Сумина. Глаза его внимательно следят за мною. Он ждет, готовый вскочить по первому же знаку. Хочет говорить, рассказать что-то очень для него важное. Потому-то так тревожны и умоляющи огромные глаза и трепещут диковинные ресницы, словно боясь закрыться и пропустить ответственный миг откровенности. — Пожалуйста, Сумин, что вы хотели сообщить суду? Голос парня дрожит и срывается. — Сообщить… Я хочу… что я пережил… Что передумал, как казнил себя — вот что я хочу сообщить. Почему меня назвали убийцей? Мне больно, страшно, что от моей руки погиб человек… Но что я должен был делать? Кто мне ответит? Следователя спросил, Иванова. Тот пригвоздил: убийца, говорит, ты. А разве я хотел убивать? Словам моим не верили, ни единому слову, кроме того, что я убил. Разобраться почему, разве это не важно? Иванов мне сказал: отвечай за пролитую кровь. Согласен, судите меня, но и рассудите тоже, по справедливости рассудите, прошу вас, умоляю просто. Это не только для меня важно, для всех! Для них вон, хотя бы… Сумин показал рукой в зал, где сидели притихшие люди. И я подумала: правда твоя, Сумин. Разобраться важно для всех. От того, какое решение мы примем, будет зависеть позиция многих. И тех, что сидят в зале. И тех, кто узнает о приговоре потом. И судебная практика, наконец. Тоже немаловажно. Как там: "Пусть знают подонки…” Да, пусть знают: мы будем защищаться. Жизнь, честь и достоинство — главные ценности, равнозначные, будем защищать. Будем! Однако уже защищаться тоже надо умеючи. — Подсудимый Сумин, — говорю как можно строже, — почему вы в начале судебного следствия отказались давать показания? Сумин глянул на меня удивленно, опять опустил голову. Долго молчал, так что беспокойно заерзала адвокат Волкова. Наконец, послышалось: — Разве я отказался? Я думал, никому не надо, зачем душу зря выворачивать? Она у меня и так вся изболела. Иванов сказал: ответишь… Не пугай, говорит, меня и суд тоже. Будешь, говорит, показания менять, хуже будет, получишь на полную катушку. Кому хочется? И потом… Он глянул на Реутова и произнес, не отрывая от него взгляда. — Павел просил тоже. — Павел? — удивилась я. — Реутов? Где же вы виделись? — Он, — кивнул головой Сумин. — Мы встретились, когда меня на допрос привозили, а его задержали… за мошенничество это… ну, Валера рассказал уже. Реутов сказал тогда мне: молчи про Аркадия, не выдавай. И еще он же учил: говори, что пили вместе, поссорились. Будет убийство в драке и хулиганства не дадут, меньше получишь. Иванов тоже мне сказал: хулиганство тебе даю для порядка. Надо же и суду работу дать. Пусть проявят, говорит, принципиальность. Я слушала и возмущалась. Вот до чего дошло. Следователь, по существу, глумился над правосудием! "Работу дать”! Надо же! Пышная крона распустилась на порочных корнях, о которых я знала с давних пор. Следствие заведомо завещает объем обвинения в расчете на то, что суд почистит его, кое-что отбросит и будет доволен: а как же, справедливость! Ну, а если не почистит? Если не захочет возможной ссоры с прокурором? Или еще хуже: слабый будет состав суда, не разберется. Судьи тоже ведь разные бывают, тут и тайны никакой нет. Недаром в народе и сейчас говорят: бойся не суда, бойся судьи. Если честно, то я не раз убеждалась, насколько верна эта мудрость. Ну, следователь Иванов, не миновать тебе частного определения! Но это потом. Сейчас продолжим допрос. — Так что же случилось во дворе, Сумин? Волнуясь и спеша, выговаривался Сумин. Ну точно. Так оно и было. Каждое слово подсудимого подтверждалось здесь, в этом зале. Когда умолк подсудимый и я подняла Реутова, захотел задать свой вопрос Иван Тодорович Тютюнник: — Так было? — сурово спросил он потерпевшего, и тот кивнул, сглотнув слюну. Кадык на худой шее нервно дернулся, выдавая волнение. — Ну, а что бы ты сделал на месте Сумина? Сам как поступил бы? Реутов молчал, отвернувшись, прижав подбородок к плечу. Настырный Тютюнник не отставал: — Что молчишь-то? — повысил он голос, и я под столом незаметно толкнула его ногой: корректней, мол, голос не повышай. Иван Тодорович мой тайный знак немедленно обнародовал. — Не надо, Наталья Борисовна, меня унимать! Пусть ответит, я хочу знать. Имею право. Я тоже здесь судья. Лицо мое немедленно залилось краской. Приятно ли получить такое замечание? Но поделом, поделом. В конце концов, твердый мужской вопрос поставлен правильно, мне и самой интересно знать, как он, Реутов, поступил бы? И что ответит? По существу, сейчас он должен оценить недавние события. Кто был прав, кто виноват в происшедшей трагедии? Понял ли он? — Так что? — Тютюнник требовательно смотрел на Реутова, всем видом своим показывая, что намерен получить ответ и не отступится. Лицо потерпевшего медленно повернулось к нам, глаза были опущены и голос непривычно тих. — Как? Да так же, как он, — сказал Реутов. Явная грусть звучала в его голосе. Словно сожалел сейчас потерпевший, что не был на месте Сумина. Довольный Тютюнник выпрямился в кресле, убрав со стола руки, а я поспешила уточнить: — Как это? Поясните. — Да как парень этот, Сумин. Хлестал бы таких гостей, чем попало, — послышалось в ответ. И тут же тихо заплакала мать Шишкова, закрыла руками лицо и некрасиво, взахлеб заплакала, забыв про свой кружевной платок и про суд, наверное, тоже забыв. Склонившись к уху, ей что-то сердито зашептал муж, а она одной рукой сорвала с шеи нарядный свой платок, отмахнулась им и прижала к лицу. Нарядный атрибут показной скорби превратился в черное траурное пятно, в знак настоящего материнского горя. Доктор Руссу сердито засопел и прошептал мне: — Не процесс, а фонтан слез какой-то. Сердце надорвешь тут с вами. Да уж, доктор. В нашем деле сердце надорвать несложно, если оно имеется, конечно. Но если нет такого сердца, способного надорваться от горя, нечего делать за судейским столом, совсем нечего делать. С другим сердцем надо и дело другое искать, другую работу… Оставшаяся часть судебного следствия прошла относительно спокойно. По очереди задавали вопросы прокурор, адвокат. Выясняли детали у Сумина, несколько раз вставал, односложно и хмуро отвечая, потерпевший Реутов. И, наконец, прозвучало: "Дополнений нет". Судебное следствие объявляю законченным. Прокурор попросил перерыв для подготовки к прениям, пришлось прерваться, хотя это в планы мои не входило. Но я поняла: Кудимов не хочет брать на себя ответственность, побежит согласовывать мнение. То, что обвинение намерено изменить позицию, мне было ясно уже из тех вопросов, которые задавал прокурор. Но я и не ожидала, что Кудимов струсит. Одно время даже мелькала мысль, что он решится. Но нет. Я хорошо знала кухню следствия и прокурорского надзора. Далековато там до полной объективности, ох как далеко! И слишком бы мне повезло, коли бы прокурор решился все же правильно подвести итог судебному следствию. А я такая невезучая. Все дается мне с трудом, все с боем. Этот приговор мне еще отрыгнется, я знаю. Этот, по делу Сумина, приговор, фразы которого и целые куски уже складывались в голове, пока я сегодня выслушивала всех, сама говорила, задавала вопросы. И даже сейчас, когда поднималась на свой второй этаж по широкой лестнице, машинально хватаясь за старинные дубовые перила. Слова приговора роились, блуждали, просились на белую линованную бумагу, сверху которой обозначено строгим типографским шрифтом: "Приговор”. Вот так. Именем республики. Нельзя суду быть несправедливым. Я невольно поморщилась, представив грядущий разговор с моей строгой начальницей. Как к зубному врачу, я откладывала свой визит к ней, зная, что чем дольше тяну, тем больше мне достанется. И все же оттягивала неприятность, оставляла ее на потом. Поставлю перед фактом — решила. А пока незачем трепать нервы. Я знала, что разубедить ее не смогу, так же как она не сможет меня убедить. И совершенно права Алевтина Георгиевна: кому-то надо начинать делать из суда — Суд. Вспоминаю суровую отповедь Тютюнника и становится стыдно: чего это я взволновалась, подумаешь, Жанна д’Арк! Я не одна, со мной мои судьи — Тютюнник и доктор Руссу. Я знаю их настрой и не стану мешать им выразить в приговоре свою гражданскую позицию. В кабинет свой, в свою "хомутарку”, зашла все же с кислой миной, и мои коллеги сочувственно переглянулись. — Говорила я, что напурхаешься с дракой, — назидательно произнесла Алевтина. — Да будет вам, — тотчас вмешалась добрая Лидия Дмитриевна, — что случилось-то? Нет еще приговора и говорить не о чем. — Ну, получила ответы на свои закавыки? — не отставала Алевтина. Я молча кивнула. — Полная ясность? — продолжался допрос. — Когда она была-то, полная ясность? Существует ли вообще? — неопределенно ответила я. Не было сил и желания делать снова полную выкладку. Да и что говорить, сейчас мне больше нужен был покой, чтобы полностью оформились мысли, которым предстоит прозвучать в приговоре. Не нужны мне помехи, даже дружеские. Совсем не нужны. — Есть новости? — сменяю я тему разговора. Тотчас кивнула Лидия Дмитриевна. — Позвони Игорю, он справлялся. Игорь сообщил, что на сегодняшний вечер намечается аврал. "Заключительный”, — добавил он весело. О злосчастной плите — ни слова. И я не спросила. Зачем? Раз не сказал, значит, все на прежних рубежах. И весь остаток дня я листала-перелистывала дело, боясь упустить хоть самый малюсенький вопросик, оставшийся без ответа. Не имею я права провалить дело, на которое замахнулась, не имею никакого права, потому что это будет не просто мой провал. Сама идея засохнет опять на много лет, засохнет в нашем суде, как пить дать. Кроме обычной, сделала еще одну схему. Построчно, системно заполнила ее. Вот закон: "Не является преступлением действие, хотя и попадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью кодекса, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства”. Статья тринадцатая Уголовного кодекса, почти вышедшая из применения судом. "Может, от того, что тринадцатая?” — усмехаюсь про себя. Но смех-то смехом, а за статьей этой — люди. И названный убийцей Сумин, и убитый Шишков, и его мать, так горько плакавшая у нас на глазах совсем недавно, и Марина, и Зоя Лягушенко, и тот, длинноногий, так запомнившийся мне своим неподдельным интересом к процессу… "Ну, ладно, не отвлекайся”, — одергиваю себя. Итак, было действие, подпадающее под признаки убийства и покушения на оное? Было. Доказано. Идем дальше: можно считать это действие преступлением? Главное — мотив. Выяснили мы мотив действий Сумина? Точно установили? Ответ у меня однозначный: да. Аккуратно, столбиком, тщательно нумеруя, записываю доказательства. То, что установлено бесспорно. Ого, список получился солидный. Достаточный, чтобы сказать уверенно: Сумин действовал с целью защиты. Хулиганские побуждения отпадают начисто, нельзя говорить и о мести на почве ссоры, как и о драке — я имею в виду обоюдную пьяную драку, которую натянул Сумину следователь Иванов. Явное нападение совершено на Лягушенко, потом еще более реальное на самого Сумина. Значит, то, что называется общественно опасным посягательством, тоже было. И посягающим причинен вред. Н-да. Ничего себе вред. Вот здесь-то и трудность. Жизнь человека… Но у Сумина не было выбора — на карте тоже стояла жизнь, и потом не надо забывать, он же не думал о столь трагическом исходе! И это как раз тот случай, когда от буквы закона нельзя отступать ни на йоту. Нападение. Защита. Доказательства. Что против? Вот: показания Сумина на предварительном следствии. Но они разительно отличаются от тех, что он давал в суде. Эти, последние, подтверждаются другими доказательствами до единого слова. Показания Реутова — то же самое. Значит, ничего против. Необходимая оборона. Необходимая оборона. Остается решить: не превысил ли Сумин пределы этой самой необходимости? Опять скрупулезно расписываю, разделив листок на две половины: Сумин и потерпевшие. Баланс явно не в пользу потерпевших. Двое здоровенных пьяных парней, один вооружен кастетом и применяет его, бьет в голову… Ко мне вдруг возвращается чувство присутствия, испытанное мною во время рассказа Зои Лягушенко, и я вздрагиваю от остро пронзившей сердце безысходной опасности. Словно опять я стою там, во дворе… — Наташа, Наташа! — голос Лидии Дмитриевны возвращает меня к действительности. — Заканчивай рукопись, скоро Игорь придет. Вы ведь снова мыть собрались? Поешь хоть, пожалуйста. Я так встряхнула головой, что коллеги мои засмеялись и я рассмеялась тоже. — А по-моему, ты потрухиваешь просто, — поддраздни-вает меня Алевтина Георгиевна, — элементарно дрейфишь, дорогая. Возмутиться я не успела, за меня горой стала добрая Лидия Дмитриевна. — Ничего она не трусит, — возражает моя коллега, — не трусость это — взвешенность. Если хотите, самое ценное качество в судье. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Если хотите, я это в Наташе больше всего ценю! — Ну-ну, — примирительно сказала Алевтина, убирая в сейф дела, — пошутить нельзя. Я это к тому, что у Наташи уже все к приговору готово, вижу это и чувствую. Взвесить — хорошо, но перестраховка ни к чему. Вошедший Игорь прервал разговор, поесть я не успела, зато уже через полчаса любовалась блестящими окнами и чисто отмытыми стенами моей новой квартиры. Работы оставалась здесь совсем немного, хоть завтра можно переезжать. Муж мой с друзьями вчера, пока я предавалась слезам и унынию, поработали на славу. — Нервных просим удалиться! — с этими словами выскакивает из ванной комнаты Антоша Волна. В руках у него тряпка, мокрые пряди волос облепили крупную голову. Я притворно пугаюсь, шлепаю Антона ладонью по вспотевшему лбу, смеюсь. — Ну, ребята, вы даете! — восхищаюсь, заглядывая в сверкающую чистотой ванную комнату. — Господи, какую чистоту навели! Ну и квартира получилась! — Не красна изба углами, красна пирогами, — Антоша не мог не выдать свои любимые поговорки. — Будут, будут тебе пироги, — обещаю я. — Есть пироги! Не будут, а есть, — подала голос Людмила, орудующая на кухне, — с собой принесла целую кучу. С мясом, с капустой! Господи, как хорошо! И пироги есть! Мы собрались в нашей будущей гостиной. Антон с Игорем уселись на подоконнике, мы с Людмилой пристроились на единственном табурете. Обсудили свои проблемы-. В субботу и воскресенье, по всему выходило, надо переезжать. — Ребята, да ведь мне на приговор уходить, — робко вмешалась я в обсуждение. Не хотелось рушить их планы, но что делать — если начать переезд в субботу, то я выпадаю. Возможно, и воскресенье тоже. Хотя вероятнее всего, достаточно одного дня для приговора. Вижу, как Игорь обиженно поджал губы, а Людмила растерянно уставилась на меня. — Ну дело же, — ребята, сами знаете. Процесс идет, да еще какой, — оправдываюсь я виновато. Игорь молчит, но лучше бы сказал что-нибудь. Молчанку я не люблю больше всего, она не приемлет никаких аргументов. — А как же выходные, Наташа? Почему в выходные ты должна работать? — недоумевала Людмила. — Понимаешь, завтра пятница. И прения сторон. Выступит прокурор, адвокат, затем последнее слово подсудимого и под этим впечатлением мы должны уйти в совещательную комнату. Закон такой. После подсудимого — сразу на приговор, — объясняю я Люде. — Ну о тайне совещательной комнаты вам рассказывать нечего, знаете сами. Будем сидеть в совещательной, пока не будет готов приговор. — Тайна… — бурчит тихонько Людмила. Согласна: с этой тайной парадокс получается. По большим ведь делам, где приговоры огромные, суд в таком заточении недели, месяц сидеть должен. Питание и, наоборот, болезнь, неожиданности разные — люди ведь, трое людей в комнате с утра и до позднего вечера — это называется тайной. Но тайна совсем не в этом заключается, на мой взгляд. Мешать суду никто не вправе, влиять на него, вмешиваться нельзя, мнения судей, процесс рождения приговора, если можно сказать так, тоже важно не разглашать. Это вот тайна. А так? Мои заседатели сегодня уже сговорились: Тютюнник принесет кипятильник, сало, домашние огурчики. За доктором Руссу деликатесы — кофе, чай, колбаса. Конечно, и я что-нибудь захвачу. — Есть у нас дома что подходящее, а, Игорь? — заискиваю я, — с собой в совещательную. — Муж хмуро кивает: — Курица. — Вот, — радостно подхватила я, — курица разделит со мной тайну совещательной комнаты. Бросим курицу, Игорь, на алтарь правосудия? Жертва тайны! — я смеюсь и мне вторят друзья. Не выдержал и муж, улыбнулся, тем не менее заметил: — Люди добрые перерыв делают перед последним словом хоть на неделю. Тут не выдерживает Антон: — Бросьте вы! — и повернулся ко мне: — Наташа, не слушай. Этот приговор у нас на работе все ребята ждут. Я удивленно вскинула брови, и Антон пояснил: — Да-да, не удивляйся. Наслышаны мы об этом деле. Парни наши из уголовного розыска на спор идут: какой приговор будет. Сама понимаешь, немаловажно это по сегодняшним временам. Когда-то начинать надо, от слов к делу надо переходить. Твой приговор, если он, конечно, справедливым будет, — и спохватившись, заторопился, — нет-нет, я в этом не сомневаюсь! Так вот он многое по своим местам расставит. Наташа, ведь суд не штамповка, суд рассудить должен, а у нас привыкли к тому, что суд не рассудит, а засудит! Ломай, Натаха, это понятие, ломай, ничего не бойся! Разговоры стихнут скоро, а приговор останется! — закончил он в своей шутливой манере. — Да мы не об этом, — сказал Игорь, — мы о перерыве. — Игорь, но не могу я так! Пойми, что значит перерыв? На несколько дней отодвинется решение дела. Для меня даже, а я ведь профессионал, это трудно. А какова неопределенность другим? Сумину, например? Да и не только ему. Что поделать? Как сказал Антон, назвался груздем — полезай в кузов. И еще: очи видели, что брали. Это во мне уже заговорила обида. Умом я понимала, что обижаться не стоит, а вот, поди ж ты, сердце не выдержало. И опять на выручку мне поспешил Антоша: — Кончай, ребята. В чем проблема-то? Рокфеллеры, тоже мне. Ваши пожитки в мой "жигуленок” влезут, за один рейс перевезу. Хозяйка под ногами не будет путаться — это же прекрасно, прекра-а-сно-о! — запел он, спрыгнул с подоконника, сдернул мрачного Игоря, и они повалились, шутливо мутузя друг друга на чистом, блестящем полу большой пустой комнаты. Завизжала, ребячась, Людмила и я засмеялась, потом мы включились в веселую потасовку, забыв, что мы взрослые, солидные люди. Смех сгладил все, сделал незначительной нашу размолвку, и вот уже Игорь водрузил меня на плечи, скачет, счастливый, по всей квартире, а я смеюсь, захлебываюсь от сладкого страха и басовито вторит мне Антон… Веселье остановил звонок. Запыхавшийся Игорь пошел открывать, а мы, приглаживаясь, недоуменно переглянулись, кто бы это мог быть? В такое позднее время, в такую новую квартиру? В узком коридорчике у двери гудел голос Игоря, и я вышла туда. Перед смущенным Игорем стоял Петр Яковлевич Семе-нцов. Увидев меня, он чуть отступил в сторону и показал на новенькую плиту у порога: — Я должен объяснить недоразумение, — сказал он сердито, — вот ваша электропечь, ее забрали при переезде по ошибке. И зря вы подняли скандал. — Но мы ничего такого… — начала было я, однако Семенцов перебил меня. — Забудем об этом, — милостиво разрешил он, — возьмите плиту. — И, не попрощавшись, вышел. Мы молча стояли, переваривая случившееся, и подошедшему Антону Игорь только и смог что скроить недоумевающую рожицу. Наконец я обрела дар речи. — Но ведь это не была ошибка! Я видела сама, как он отмывал ту, старую плиту. Значит, видел, знал! Подтвердила Люда: — И я. Да все мы видели это. Ну, чудо! Антон Волна погрустнел, поерошил свой чуб и подытожил: — Не ошибка это, братцы мои. Нечистоплотность. А какие слова умеет он говорить, какие призывы, лозунги! На деле же и перед мелочовкой не устоял. И он тебе своего поражения не простит, Наталья. Ну, да волков бояться — в лес не ходить, — закончил Антон, — справимся. Настроение мое было испорчено окончательно. Что за денечки выдались. Черное — белое, черное — белое, черное… Вот оно, новое утро. Пришло. — Прошу встать, суд идет! — слышу торжественный голос Галины и выхожу опять с проклятым сердцебиением: заключительный день процесса волнует меня не меньше, чем первый. Зал опять переполнен, появились новые люди, среди них, вижу, прокуроры из отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел. Зачем? С недовольством замечаю следователя Иванова, который довольно неуклюже прячется в дальних рядах. Зачем? Знакомая молодежь теснится на последней скамейке, едва умещаясь. Яркие курточки лежат на коленях — жарко в тесном зальчике. Прокурор Кудимов, не поднимая глаз, неторопливо поддерживает обвинение. Сухо, скупо, без обычных цветистых отступлений, без любимых им экскурсов в джунгли истоков события. Как и ожидала, обвинение меняет тактику. Кудимов вынужден признать, что в действиях Сумина нет хулиганства. Отсутствует хулиганский мотив убийства, — констатирует прокурор, и я на мгновение замираю: может?.. Но нет. Убийство во время обоюдной драки, без отягчающих обстоятельств. Менее тяжкое, но обвинение в убийстве поддерживает прокурор Кудимов, пряча взгляд. Отзвучали слова прокурора, уже горячо заговорила адвокат Волкова, а Сумин еще не отнял руки, охватившие голову. Десять лет! Столько просил прокурор для наказания и исправления Сумина. Десять лет. Щедрый прокурор Кудимов. Сумин раскачивается, согнувшись на скамье, пальцы утонули в густом ежике волос, и мне, едва брошу взгляд, видны ритмично покачивающаяся эта черная голова и руки без пальцев, словно культи. Волкова говорит хорошо. Она вообще-то речиста, а сегодня особенно. Конечно, есть о чем спорить, вот и старается. Выводы адвоката я угадываю задолго до окончания речи. Оправдать. Волкова считает, что ее подзащитный не совершил преступления. Раскрасневшись и похорошев от волнения, адвокат садится на свое место, в зале раздаются дружные хлопки, но я строго гляжу на последний ряд и там быстро успокаиваются. Правом реплики прокурор и адвокат не воспользовались. Последнее слово. Я так не люблю эту стадию процесса! Всегда мне больно видеть, как раздевается человечья душа. Как дрожит она, обнаженная и униженная, и страдания ее не унять, не прикрыть ни правдой, ни ложью, ни плачем, ни кривляньем. И вина, и беда гнут, ломают, разрывают душу, и выходит она с последним словом, словно нищая с протянутой рукой — поймите, поверьте, рассудите. Я отвожу глаза, чтобы не видеть ее содроганий, ее попыток прикрыть словом стыдную наготу. Наконец позади и эта мука. — Суд удаляется на совещание! С помощью притихших Тютюнника и Руссу забираю дело. Уходим. Оглашение приговора назначаю на завтра. В субботу, в семнадцать часов. Тайну совещательной комнаты я не раскрою. Но не считать же тайной, как мои народные заседатели деловито разгрузили портфели и стали устраивать наш уединенный быт. Не будет тайной, что после того, как мы пришли к общему выводу, опять — чирк — я пуще прежнего разрезала распроклятым острым картоном обложки очередной палец и доктор Руссу с наслаждением раскрыл свой саквояж. Видимо, скучая по своему медицинскому делу, он тщательно обработал и, не слушая возражений, перевязал мой палец. Нет тайны и в том, что вечером, около десяти, мы разошлись по домам, и меня у подъезда суда, беспокоясь, ждал Игорь. Мы, судьи, не имели права на ошибку и множества других прав тоже не имели. Например, на то, чтобы нас развезли по домам из совещательной комнаты, откуда мы уходили почти ночью. Не является тайной и то, как доктор и слесарь-сборщик на целую субботу превратились в деловитых официантов и угощали меня кофе, чаем, обедом, а доктор Руссу ворчал при этом, что он давно собирался поставить вопрос о создании охранного механизма здоровья судей. И на мою насмешку ответил серьезно, даже сурово, что это будет на пользу не только судьям, всему делу пойдет на пользу, а эти мелочи лишь кажутся мелкими, на самом же деле представляют серьезную проблему. Не тайна, что я с ним согласилась. Приговор был готов до наступления назначенного часа. Мы перечитали его, еще раз обсудили. Доктор Руссу первым взялся за ручку и подписал приговор, тщательно выводя свою фамилию. "Все верно, Наталья Борисовна, — сказал мне он, украшая подпись затейливым завитком. — Я, правда, впервые в таком деле, но сужу по-человечески”. Иван Тодорович Тютюнник долго примеривался к тонкой ручке, казавшейся еще тоньше в большой огрубелой руке. Подписал приговор и засмеялся: "Ну, поскачут теперь прокуроры! Да ведь и зам объясняться придется, насколько я понимаю, да, Наталья Борисовна?” Я поспешила успокоить Тютюнника и доктора Руссу, который тревожно поднял на меня глаза при словах товарища. И подписала приговор последней. Ближе к пяти меня опять стало одолевать волнение, скрыть его я не смогла, и доктор сочувственно полез в саквояж, где чего только не было, развернул свой походный лазарет и накапал мне, сосредоточенно считая, каких-то ужасно неаппетитных капель. Осторожный Галкин стук в дверь возвестил, что все в сборе, пора выходить. И вот я уже слышу: — Прошу встать, суд идет! Мы выходим и остаемся стоять, потому что приговор провозглашается и выслушивается стоя. Знак уважения к закону и правосудию. Я успеваю заметить в зале Лидию Дмитриевну и радуюсь: болеет за меня коллега, приехала послушать приговор в субботу, в выходной день. Надеваю бурые очки-колеса, и вот он звучит, наш приговор. В зале тихо-тихо. Словно со стороны я слышу свой голос, который вздрогнул от напряжения, когда, наконец, прозвучало: — Суд приговорил: Сумина Юрия Васильевича за отсутствием в его действиях состава преступления оправдать, из-под стражи освободить. И словно вздох пронесся по залу. Слабый шум, означавший конец напряжению. Под этот легкий, явно одобрительный гул заканчиваю чтение. — Сумин, вам понятен приговор? Порядок обжалования понятен? — задаю обязательный вопрос, а Сумин Юра смотрит на меня отрешенно и непонимающе. — Что? Что? — переспрашивает он, и я почему-то очень громко, словно глухому, повторяю ему: — Приговор, говорю, понятен? — Понятен, понятен, — торопливо кивает он, а я вижу, как он боится поверить в свободу и не решается выйти в дверь загородки, уже открытую улыбающимся конвоиром. Дальнейшее остается за моей спиной, я спешу в совещательную комнату, где нужно оформить еще целый ворох бумаг, чтобы Сумина освободили немедленно. Иван Тодорович Тютюнник послушно следует за мной, а доктор Руссу долго еще стоит, наблюдая, у двери. Наконец он возвращается к нам и говорит удовлетворенно: — Вот это я понимаю. Подписав нужные документы, мы еще долго сидим в совещательной, потом переходим в мой кабинет и вместе с ожидавшей меня Лидией Дмитриевной пьем чай из расписанного розами огромного термоса доктора Руссу. Нам нужно, но не хочется расставаться. Много пережито и перечувствовано вместе, мы больше, чем просто знакомы. Мы — единомышленники. И только когда раздается звонок и голосок моего сына рассыпается звоном, как серебряный колокольчик, в ответ на мое обещание скоро быть дома, народные заседатели нехотя поднимаются, понимая: пора. Я с грустью гляжу им вслед и знаю, что не теряю, а приобрела настоящих друзей. Умных и добрых. Эти не дадут в обиду справедливость. 1990 г. Москва.
Ночь
 Приговор она слушала равнодушно, словно все это к ней не относилось и не ей уготовано три года лишения свободы.
Судья положил перед собой белые листки, глянул поверх очков, съехавших на кончик узкого носа:
— Осужденная Углова, вам понятен приговор? Порядок обжалования понятен?
Она увидела в серых усталых глазах судьи нетерпение и выдавила:
— Понятен.
— Судебное заседание окончено, — с облегчением объявил судья, и все встали, задвигались, заспешили, бросая украдкой смущенные и любопытные взгляды за решетчатую деревянную загородку, где была другая жизнь и находилась она. Надежда Углова.
Конвоир, рослый молодой парень, молча открыл дверь загородки.
Надо идти.
Всего несколько часов шел суд, а как она устала! Голова горела и мышцы мозжило, словно после большой работы. Будто она оштукатурила стену огромного дома. Да в непогодь, да слишком густым был раствор…
Волоча ноги, как большая тряпичная кукла, двинулась к машине.
На улице шел дождь, значит, зима совсем кончилась. С этой мыслью толкнулась было привычная забота: детям нужно летнее. Толкнулась, но не задержалась. Она же лишена свободы!
Лишена свободы заботиться о своих детях, о летней одежде для них.
Ну а то еще каких же свобод она лишена?
С трудом поднялась в м. ашину, конвоир помог ей, бесцеремонно приподняв.
В углу, у самой решетки, уже сидела и, закрыв ладонями лицо, рыдала Октябрина по камерной кличке Пилка. Ее возили на суд больше месяца. И каждый день она прихорашивалась, тщательно взбивала длинные и густые волосы, в которых, несмотря на Октябринины сорок пять, не было седины. А может, ее просто не было заметно в пепельной гриве. В камере Октябрина держалась особняком, заметно презирая подруг по несчастью. И ее не любили. А Пилкой прозвали потому, что она была единственной обладательницей крошечной с белой ручечкой пилки для ногтей. Неизвестно, как ей удалось пронести и сохранить этот запрещенный предмет, но вот как-то удалось. Ей завидовали, но, поди ж ты, не донесли. Маленькая пилка, как частичка другой, свободной жизни, существовала в камере следственного изолятора — так назывался казенный дом, где они теперь жили. Октябрина долго ждала, потом ездила в суд, возвращаясь то возбужденно-радостной, то подавленной. Но не плакала, крепилась. А сейчас рыдала в углу машины. У нее сегодня тоже был приговор.
Надежда молча села напротив.
Спрашивать Октябрину, сколько ей дали, не было ни сил, ни желания. Хватит своей беды. Железная дверь с лязгом захлопнулась. Парни-конвоиры закурили дешевые сигареты, удушливый дым пошел к ним, женщинам с новым названием — осужденные.
Октябрина вскоре затихла, и по дороге они молчали, а в камере, едва переступив порог, Октябрина отчаянно вскрикнула:
— Десять!
И опять зарыдала.
Ее бросились утешать, и на Надю никто не обратил внимания. Она прошла к своему месту, села, бессильно уронив руки. Усталость не проходила, ей мучительно хотелось спать. Еще в машине стала одолевать частая зевота, скулы сводило судорогой от безудержных позывов.
Скорей бы наступила ночь, может, сегодня эта усталость поможет забыться, уснуть, спрятаться во временное небытие.
Октябрина, всхлипывая, рассказывала про суд, ее торопливо расспрашивали и в этом жадном интересе ясно слышалась не столько жалость к товарке, сколько озабоченность своей судьбой, тревога и страх, скрываемый всеми по-разному, а то и совершенно откровенный.
Беда Октябрины не тронула Надежду. Пусть. Сама виновата. В тесной камере тайны не скроешь, все они знали о том, почёму содержатся здесь. Октябрина — Пилка была начальницей на строительстве. Машину свою имела. "Волгу”, не просто так.
От мужа откупилась "Жигулями” и связалась с начальником управления-подрядчика. Он-то и подвел ее под монастырь. Приписки, фиктивные наряды, мертвые души и вот теперь тюремные нары. И любовничек этажом ниже, в другом крыле здания. Пожили, повеселились. Пусть. Ей бы, Октябрине, хоть один прожитый Надей год, хоть один, или, например, только зиму, когда Веруня стала калекой и приходилось, уходя на работу, оставлять ее в комнате барака привязанной на широком топчане, как собачонку. И оставлять ей молоко в бутылках со старыми, вздутыми сосками, а в миске еду…
Какими нескончаемыми были стены холодных квартир, которые она штукатурила! Она швыряла на эти враждебные стены плохо замешанный раствор, яростно терла их мастерком и гнала, гнала время: ну же, ну, иди быстрей, беги, беспощадное время, скорей отпусти меня к дочке-калеке, привязанной к топчану, чтобы не упала, не замерзла на холодном полу…
Октябрина, ты думаешь, этого не было? Было! Весь ужас в том, что было! Но тогда ты ездила в своей собственной "Волге", крала копейки у таких, как она, штукатуров, и не хотела знать, как нужны им эти копейки. Большая скорость была у твоей, Октябрина, "Волги”. Мимо проносились чужие печали. Рыдай теперь, камерная Пилка, оплакивай роскошную жизнь…
— А Кислису, Кислису сколько? — выспрашивала при-блатненная Ирка. Кислис — это был любовник Пилки. Тот, соблазнитель.
— Тоже десятка, — удовлетворенно отвечала женщина, — пусть нары полирует, гад.
Удивительно быстро слетела с Октябрины позолота. И вот она уже с Иркой на равных, а Ирка — блатная, воровка она, эта Ирка. И на свободе Октябрина ею бы побрезговала. Здесь же рада участию, и слова сыскала новые, из предстоящей своей жизни.
В Октябрине уже проснулась злоба, воспаленно заблестели глаза, руки нервно подергивались.
— Не буду я столько сидеть, — возбужденно говорила она, — папа дойдет до Москвы. Деньги есть. Витька, молодец, успел снять с книжки в самый последний миг. Пятьдесят лимонов не успели менты загрести!
Пилка победно оглянулась и не сразу поняла свою ошибку: не надо было говорить о деньгах. Они здесь были на равных, эти женщины, и на воле ничего не имели. Богатство Пилки погасило сочувствие, но она этого пока не заметила.
— Витька адвоката возьмет. Московского, пробивного. Вот увидите, скостят половину, а там и амнистия будет, у меня орден есть, а награжденных всех под амнистию, Витька сказал…
— Рогач твой Витька! — прервала Октябрину Ирка и хохотнула. — Рогач он, и ты на него не надейся. Он твои денежки тю-тю! Молодым под хвост пустит! А ты выйдешь старуха. Кому ты нужна будешь?
Октябрина растерянно замолчала.
— Ну что ты? — вступилась за Пилку добрая толстая Шура. — Зачем травишь бабу, ей и так тяжко!
Ирка опять захохотала, а Шура придвинулась к Октябрине:
— Ладно, подруга, чего теперь-то. У тебя хоть детей нет, а у меня, сама знаешь, душа уж почернела…
На воле у Шуры с мужем остался сын-первоклассник. Старая мать, что глядела за ним, сильно болела.
А Шура уже получила свои восемь лет, и в изолятор привезли ее из колонии, потому что на подельниц этот приговор отменили. "Сидели бы спокойно, нет, темнят бабы чего-то, а мне вот расхлебывайся”, — осуждала подельниц Шура. Но Шуриного мнения никто не спрашивал, в отношении нее приговор не тронули, и Шура шла теперь как свидетель по своему же делу. С первого дня, как ее вызвали еще на то, первое, следствие, Шура призналась, что привела двух просителей к знакомой паспортистке — уж очень им нужна была прописка. За эту вот прописку отдали они через Шуру деньги, да и Шуру не забыли, отблагодарили, хотя вовсе и не из-за денег она старалась. В общем, получила Шура за свои услуги восемь лет. В колонии ее навестил муж, дали им долгосрочное свидание двое суток. Осталась Шура беременной после этого свидания и вот снова сорвали ее с места, привезли в тесную камеру, где она еще пуще металась, потому что дом-то был совсем рядом, на автобусе только проехать. Октябрине на суд выдавали бумаги, и Шура выпрашивала клочки, мелко-мелко исписывала их, совала свернутые бумажки Октябрине, дала и Надежде, когда ее повезли на суд. "Передай кому-нибудь, может, дойдут”, — просила.
А кому передать? Шурино письмо Надя оставила в суде в туалете, заткнула за бачок, да так потом и забыла, не проверила, взял ли кто.
Иркины слова про старость упали на благодатную почву: Октябрина, видно, сама подумывала об этом, да и не раз. Думала и боялась, а тут ей прямо в лицо горькую страшную правду: выйдешь никому не нужной старухой.
— А-ах, — опять забилась в слезах Октябрина, — я не хочу жить, не хочу жить! Зачем так меня! Пустьлучше расстреляют, чем мучиться, я не хочу жить, не хочу…
Шура обняла Октябрину, уткнула широкое, обезображенное беременностью лицо в ее пышное плечо и сама мелко затряслась в плаче.
— Ну хватит! — неожиданно для себя крикнула Надежда и добавила оглянувшимся женщинам: —Душу надорвали!
Тут вспомнили и о ней, но она отмахнулась от расспросов, подняла вверх три пальца.
— Трояк, — перевела Ирка и позавидовала, — легко отделалась!
Легко. Она отделалась легко. Три года жизни, о которой она ничего не знала. Никогда не читала, не видела в кино, словно не было таких женщин, таких судеб.
Не думала, что есть такое. Не ведала, что выпадет ей эта доля. Не ведала и не хотела.
Простой жизни она желала, совсем незатейливой. Дом, дети и работа на стройке — вот что ей надо было и к чему тянулась она, сколько было сил.
Строила чужие дома, лепила свое гнездо, тыкалась, мыкалась, терпела, пока не пришел последний край…
Когда подняла топор и, закрыв глаза, опустила…
Тихо стало в камере. Замолчала уставшая от слез Октябрина. Ирка отошла от нее, задрав подбородок, уставилась на зарешеченное окно. Пригорюнилась толстая Шура. Безучастно сидели рядышком баба Валя и Зинуха — их слезы еще впереди.
Бабе Вале было под семьдесят и сидела она за самогонку. Вызывали ее редко — два или три раза на Надиной памяти. Баба Валя пугалась вызовов, крестилась, у нее начинала мелко трястись голова и провисала правая, когда-то парализованная рука. Надежда удивлялась, как это следователь не видит сам, что не могла она управляться с тем проклятым аппаратом и ставить бражку в бочках и ворочать эти неподъемные бутыли с самогонкой. Баба Валя прикрыла дочку, что работала поваром в столовой, таскала оттуда дрожжи и с муженьком варганила дефицитное зелье. Правильно, бутылочки баба Валя выдавала покупателям, дома ведь сидела, сподручно было. Но главное-то зло не в ней было, куда она денется, старуха, если велено ей отпускать самогонку. Дочкой велено, да бугаем-зятем, который работал через день где-то охранником и на работе не переламывался, нет. Выгодней была самогонка. На ладони все это лежало, ну прямо на ладошечке.
А баба Валя упрямо, заплетающимся языком твердила свое: не знала дочка и зять ничего не ведал, я виновата, судите меня. Видно, проще было поверить, и сидела в тюрьме развалина баба Валя, а дочка с зятем были на свободе. Старуха по крестьянской своей простоватой хитрости скрывала дочку и здесь, среди них, сердито шикала на Ирку, которая смеялась над нею, выплескивая жестокую правду, как Октябрине про старость.
Ирка была всех просвещенней, все она знала.
— Тебе, баба Валя, много не дадут, — говорила она, вроде утешая, — может, даже еще и живая выйдешь. А помрешь — дочка поминки на воле справит, ты же будешь навек с нами. Хоть завещание оставь, чтобы дочка на поминки нам передачку подкинула, все ж мы тебе не чужие. А денежки у дочки есть, и не конфискуют ведь, твое имущество искать будут, а много ты его нажила, а, баба Валя? Поди, узелок смертный твой уж забрали, конфисковали. Зато, не горюй, дочкины шмотки целы будут.
Баба Валя отмалчивалась, на жестокие Иркины речи не отвечала, но из старческих глаз начинали катиться мелкие белесые слезинки, застревали в глубоких морщинках, проделывали причудливый извилистый путь и высыхали, не покидая лица.
За бабу Валю обычно вступалась только Зинуха, да иногда еще беременная Шура. Октябрина глядела в сторону, ее не касались эти мелкие страсти. Она знала лучшую жизнь, бабы Валины беды ее не трогали. Не опускаться же ей до самогонщицы. Ей, которая ведала строительством театра. А еще раньше — органного зала, где звучала возвышенная, несовместимая с этой жизнью музыка.
Надежда жалела старую женщину, но утешать не могла. Она и вообще говорила мало, не только в своей новой жизни, всегда.
Родителей не выбирают, и Надежда не виновата, что родилась у глухонемой матери. А говорил ли отец — не знает, никогда его не видела. Язык жестов начала понимать раньше, чем приучилась к словам. Ладно, бабушка поняла угрозу, забрала девчонку к себе, учила говорить, испугавшись, что здоровый ребенок растет немтырем. Но ранняя привычка осталась в немногословии, которого преодолеть не смогли ни бабка, ни интернат, куда Надя попала после бабкиной смерти.
Даже Георгий не смог разговорить ее, и потом в злобе часто упрекал: "Немтырка”. Вот с Веруней она говорила. Веруня была ей собеседница. Ах, дочка, Веруня! Простишь ли ты? Нет, наверное, не будет Надежде прощения, недаром же суд назвал ее преступной матерью.
Подумать только, она — преступная мать?! Или она не любила своих детей? Или пила-гуляла, водила к себе мужиков? Преступная…
Принесли ужин, и все, даже зареванная Октябрина, съели до крошки свои порции.
И Надя съела — не ощущая голода, вкуса и насыщения.
Главное, что время шло и близилась ночь, от которой она ждала успокоения.
Разбередив души, всколыхнув горе, женщины примолкли, думая о своем, отгородились друг от друга невидимой, но ясно ощутимой стеной одиночества. Каждая была один на один со своей судьбой: все прожившие свой роковой кусок жизни, молодые и старые, повидавшие хорошее и худое, виноватые и не очень. Друг от друга они защищались. От самих себя не было им спасения.
Первой начала укладываться баба Валя.
Перед каждой надвигавшейся ночью она, по старости мало спавшая, становилась тревожной и суеверной.
Молитв она не знала — откуда? — в работе прошла жизнь, без кино и без церкви, некогда было себя вспомнить, не то что Бога. Война да разруха, вдовство да одинокое материнство, потом старость да болезни — коли и поминала Бога, то не тем словом. Теперь, на вынужденном горьком безделье, баба Валя пыталась утешиться — а чем больше, как не Господом нашим Богом, про которого, слыхала она, говорили, что он милосердный. И мать его, богородица то есть, само собой.
И все старушечье утешение сводилось к чуть слышному причитанию, которое баба Валя начинала, едва приближались сумерки и сгущалась, сгущалась в камере тоска.
"Господи. Боже наш и богородица, к милосердию твоему взываю. Молю милосердия, Господи Боже наш и богородица, дева пречистая, заступница страждущих…”
Старуха замолкала ненадолго, потом снова заводила свою придуманную молитву: "К милосердию твоему взываю, Господи Боже и богородица, заступница…”
Поначалу бабу Валю травила Ирка, потом отстала, потому что поддержки ни у кого не нашла. Видно, каждая из женщин мысленно повторяла те же слова: "К милосердию взываю…” Кто к кому обращался этими словами, кто к кому и, наверное, не только к Богу.
Но милосердия ждали все они, единственное, что нужно было в их положении — милосердие, от кого бы оно ни исходило…
Жалости и сострадания ждали самогонщица баба Валя, взяточница Зинуха, блатная Ирка, стареющая Октябрина, беременная Шура и ее ребенок, который не успел родиться, следовательно, не сделал ничего хорошего или плохого, а был уже так наказан.
Был закон, были поступки и женщины — вот они, плоть их и кровь, думы и страх. Все было, кроме милосердия, а лишь оно могло заставить глянуть пошире на все вокруг. Да так ли мы праведны, люди, построившие это чистилище и заполнившие его. Настолько ли праведны, что отторгли от себя вот этих, не пожелали видеть их, однажды оскорбивших взор, отторгли и отказали в сострадании?!
А почему они здесь? И, главное, зачем? Как стать ему человеком, Шуриному неродившемуся ребенку? Что он чувствует сейчас, к чему готовится?
”К милосердию взываю, Господи Боже и богородица, заступница”, — шептала баба Валя.
Ужин давно прошел. Значит, наступала ночь.
И пришла она.
Закрыла темным своим покрывалом зарешеченное окно, уложила на жесткие матрацы неработавших, но уставших женщин, и распласталась над каждой, прикрывая собой от негасимой лампочки под потолком и всего, что горело, пылало и жгло их души.
Надежда покорно ждала, что принесет ей ночь. Может, желанный сон и забвение? Может, милость ее будет столь велика, что придет Веруня здоровой, веселой? И маленький Димка хоть намекнет, как ему живется без мамки. Да что намекать-то, Надя лучше других знала, как именно живут детки без матери.
Уже затихли Ирка и Октябрина, тяжело во сне задышала Шура — ей и ребенку не хватало воздуха в тесной камере.
Похоже, засыпала и баба Валя. Из ее угла доносилось лишь оханье — укладывала поудобней старуха свои ноющие кости.
Время шло, и ночь сделала свое дело. Но с Надей не справилась, присела к ней в изголовье и вместо желанного сна завела нескончаемую беседу.
Допрос ли вела, жалела ли, любопытство ли одолело или чего-то не знала и хотела в беседе постичь пришедшая Ночь?
— Как это случилось? — вопрос не коснулся слуха, проник прямо в мозг и заставил содрогнуться, потому что Надя боялась, не хотела его, а он возвращался и приносил новые страдания.
И вот, пожалуйста, когда позади суд, когда надо успокоиться, забыть все, жить и ждать, пожалуйста, первая же Ночь задает этот проклятый вопрос.
— Как это случилось? — бьется в мозгу.
Надо отвечать. А что ответишь? Ее наказали, стало быть, она и виновата. Одна она, ведь наказали только ее. Зачем же теперь спрашивать, как это случилось. Да и почем она знает, как все произошло? Хотела бы понять сама.
— Вот и давай разберемся, — слышится настойчивей.
— Зачем? — возражает женщина. — Мне тяжко и без того. Был суд, и моя вина записана в приговоре. А спрашивать надо было раньше, раньше.
— Никогда не поздно спросить. Суд не решил ничего и не был справедливым, потому что не выяснил главного — почему? Пока не разберемся, не казни себя, — говорит Ночь, и Надя кивает.
— Я хочу думать так и боюсь. Я одна и некому доверить свои сомнения. Ладно, — смирилась она, наконец, — пусть мне опять будет больно, только посиди со мною, помоги мне понять мою жизнь. Не осуждай и не давай советов, они запоздали. Просто выслушай и рассуди.
— У нас впереди есть время. Много раз я приду к тебе. Рассказывай, не торопись. Вначале было все хорошо?
— спрашивает Ночь спокойно и доброжелательно.
Так не спрашивали Надю. Все спешили, все торопились. Спешка убивала интерес. А что рассказывать, коли в глазах собеседника видишь явное нетерпение, если даже он не говорит прямо: "По существу давайте, ближе к делу, к делу”. Словно жизнь ее вся была не по существу. Не было жизни, осталось только дело, уголовное дело…
— Ведь хорошо было сперва, да? — настаивает Ночь.
— Да, было и хорошо, — начинает отвечать Надежда, — без хорошего и жить невозможно.
Ты права, Ночь, стоит вспомнить хорошее, чтобы совсем не увянуть, чтобы знать: есть для чего жить.
Память словно обрадовалась разрешению отбросить страдания, стала живо подкидывать то, что дорого было и радостно.
— В школу я пошла позже других, — продолжает Надя свою исповедь Ночи, — бабка упустила. К восьмому классу в интернате постарше была своих одноклассниц, поздоровее. Вот и поступила в строительное училище. Стала штукатуром-маляром, отделочницей.
— Нравилась работа?
— Как сказать? Руки поначалу очень болели. Покидай-ка раствор на стены, да разотри мастерком. К вечеру не чувствуешь их, рук-то. А раствор как таскали! И все ведь бабы, мужики у нас на стройке все специалисты, раствор не носят. Придет к концу смены мастер-мужик, поморщится: там неровно, здесь мало, что вы, девоньки, день-то делали? А нормы крутые. Особенно трудно зимой. Переодевались на холоде. А роба такая, что поставь — стоит, не гнется и не падает даже. Какая тут любовь? Но привыкли, работали. Заработок был, это главное. Да я здоровая была, сильная, отдохну — и в кино еще успею, читать любила. Общежитие хорошее у нас, девчата подобрались стоящие, следили все за порядком. Красиво у нас было, по-домашнему. Дружно жили, хорошо.
— А муж? Работали вместе?
— Нет, Георгий в селе жил. Послали нас однажды в подшефное село. Поработали месяц, там и Георгия встретила?
— Полюбила?
— Конечно. Ладный парень. Невысоконький, правда, но видный. Сильный, крепкий такой, волосы смоляные, кудрявые, лицо веселое, глаза смеются. К матери своей привел меня, она болела сильно, обрадовалась мне, за дочку признала, приласкала, а я на ласку отзывчивая, мало видела ее. Нравилась мне его мать, жалела я ее, угодить старалась. Как она сына звала, до сих пор помню. Покличет, как ручеек зажурчит сказочный: "Георге-е, Гео-ор-ге-е”. Нам бы в деревне остаться, с матерью, может, все было б иначе. Не захотел Георгий, в город со мной подался, говорил, задаром ломаться не хочу. Оно и верно, порядка в селе у них было мало в те годы. Но город-то его и сломал.
— Как сломал? А ты где была?
— Где я была? Да рядом и была. Не справилась, не смогла. Не знала, как быть. Сама в семье не жила, откуда мне было знать? Своего ума не хватило, а подсказать некому. Где, скажи мне, таких, как я, ополовиненных, учат семейной премудрости? А надо учить, ох как надо. Пока я своим умом до всего доходила, кончилось мое счастье…
— Не спеши, не спеши, — останавливает Надежду Ночь, — мы договорились разобраться, как случилось, что ты здесь. У тебя дети. Двое. Веруня и Димка. Значит, на Георгии жизнь не сошлась клином. Да и с ним что случилось, рассказывай, не торопись.
— Хорошо, слушай. Георгий был деревенский, понимаешь? Там были для него все свои, он с людьми считался и с ним тоже. В городе по-другому стало. Я строила чужие квартиры, а жили мы по углам, снимали жилье. Пока Веруни не было, ничего, мирились. С ребенком стало трудно. Георгий в мехколонне работал, выпивали там многие, да скрывались, а у него хитрости никакой — дважды попался, перевели в слесаря. Как ремонт, так бутылка. И не спешил Георгий к семье. Пьянствовать стал по-настоящему.
— А ты молчала? Не боролась?
— Боролась, — усмехнулась Надежда, — это в книгах: борьба за любимого, за семью. Поборись поди. Я слышала, что надо к людям, к общественности то есть. Пришла в профком к ним. Пришла. Как меня там встретили, вспомнить стыдно. Еще бы, зачем им чужие горести. Нет, на словах все было правильно: "Примем меры”, — сказали. И приняли. "Разберись, Георгий, с женой, — сказали, — чего она кляузничает?" Тогда он впервые руку на меня поднял. Хоть росла я сиротой, но не били меня, никто пальцем не тронул. Страшно было мне и стыдно. Потом плакал, совесть еще была. Прощения просил, простила. Семья, думаю, ребенок. И еще верила: бросит пить, одумается. Комнату мне дали. В бараке, правда, да я ее быстро обиходила. А тут мать его умерла. Я с больной Веруней сидела, поехал он один мать хоронить. Возвратился с деньгами — дом продал. С горем притих немного, прикупили кое-что в комнату, приоделись. Просила-просила, ушел с мехколонны, устроился в мастерские жестянщиком. Выпивать вроде меньше стал, но пил все-таки. Я помалкивала, терпела, а его затягивала водка, опутывала. Мои воздушные замки разрушала быстро. А окончательно подкосило нас горе. Веруне было уже два года, и я решилась на второго ребенка, беременна я была.
— Разве это горе? — Ночь не скрыла удивления.
— Вот теперь торопишься ты, Ночь. Это была радость. Знала я, как плохо одной, и не желала этого дочке. Пусть будет у нее родной человек, — так думала и сказала об этом Георгию. Он тоже был рад. Готовился, ждал сына. Кроватку купил. Роды зимой ожидались, он рамы в барачной нашей комнате сам сменил, утеплил двери. Внимательнее стал, ласковее. Но попивал все же. И горе — вот оно, с водкой рядом ходит, в обнимку.
В декабре я Димку родила, в самые морозы. Лежу счастливая, спокойная. Что передач, поздравлений нет — меня не волнует. Георгий один дома с дочкой, думаю, залурхапся. Я к вниманию непривычная, баловать было некому. И предчувствий никаких у меня, ну ничего дурного мне в те дни не думалось, а несчастье меня пасло, как глупую овцу. И то сказать, неделя быстро прошла, поправилась я, Димка тоже здоровенький, на выписку пора, а не выписывают, и словно глаза все прячут от меня, не глядят прямо. Женщины в палате смотрят жалостно, подкармливают кто чем. Я благодарна им, а забеспокоилась.
Тут девки мои из бригады передачу послали, письмо. "Мы тебя встретим, — пишут, — ты не волнуйся”. Какое не волнуйся, меня уж колотит. И пуще всего неизвестность пугает. Чувствовать стала, скрывают от меня что-то. С Георгием, думаю, беда. К врачу прибежала. Взмолилась. Врачиха пожилая такая, усталая. Голову опустила. "Скрывай, — говорит, — не скрывай, а сказать придется. Муж твой девчонку поморозил и сам сбежал”. Я так и села. Как поморозил? Где Веруня? Жива ли? "Жива дочка твоя, — успокаивает врачиха, — в больнице она. Ты побудь у нас, пока не окрепнешь. Глядишь, и муж вернется. Со страху сбежал он, не иначе. Вернется”.
Ах, как мне было плохо, как плохо мне было! Сколько слез я пролила с той ночью, с больничной. И засобиралась на выписку. Тоска грызла — что с Веруней?
Встретили меня девчата, увезли домой, обласкали, с Димкой остались, а я в тот же час побежала в больницу к Веруне.
В роддоме меня берегли, здесь же встретили иначе. В белом халате толстуха отхлестала словами: "Бросила, — говорит, — ребенка на пьянь, всю жизнь теперь слезами умываться будешь. Оставили девчонку без ног”.
— Как без ног?! — покачнулась Ночь, затрепыхалась от ужаса, от непоправимости. — Как без ног?!
— Тебе слушать страшно, Ночь, а я пережила это. Нет, я переживаю и не могу пережить. Выпил Георгий крепко, еще захотелось. Ребенка посадил на санки, да от пивнушки к пивнушке повез. Неведома жалость морозу. Прихватил Верунины ножки. Когда добрые люди схватились да забрали санки с ребенком, уж поздно было. Увезли Веруню в больницу и ножки спасти не сумели — отняли обе ступни, калекой стала Веруня в неполные три года.
Как я не умерла там, в больнице? Как жить осталась?
От крика зашлась, повалилась. Испугалась толстуха, врачи сбежались, отходили меня.
— А-ах, — закачалась над Надей Ночь, заломила руки, застонала, ведь была она женщиной, Ночь, и были, видно, где-то рожденные ею дети. Может, и Надежду признала она за свое дитя, потому и не бросила одну среди всех, и сидит, и говорит с нею, и плачет…
— Руки на себя наложить хотела, — продолжала Надя, не щадя Ночь, — дети остановили, испугалась сиротства их. Добрела до дому, а там малыш верещит. Тяжко ему, помощи моей просит. Как во сне жила, машиной была для ребенка. Девки мои помогали, подруги. Не обошли заботой. Еду носили, утешали, с ребенком сидели, когда к Веруне я бегала. Та кроха в больнице отошла, беды своей не знает, играет в постели, смеется. А у меня душа на части разрывается, боюсь ей в глаза глянуть. Пришло время, забрала ее из больницы. Стали мы в бараке втроем бедовать. Хотя что я говорю, тогда не одни мы были. Помогали мне, жаловаться грех. Соседки сочувствовали, подкармливали нас. Картошку, капусту, сало носили. Мужики и те — дрова подколят, уголь кто-то привез — до сих пор не знаю, кто, а привезли. Добра в людях много, ничего не скажешь, да у каждого заботы свои и немалые.
Схлынул первый ужас, попривыкли к моему несчастью. Видят, живу, перебиваюсь как-то. Один на другого надеяться стали мои благодетели, так и осталась я одна постепенно. Деньги мои декретные к концу подходили, сбережений и запасов не было. Продала кое-что: ковер, приемник, вазочка была у меня одна хрустальная — отдала за тридцатку. Нету ценностей больше, не на что кормиться, на работу надо, а куда мне детей девать?!
От Георгия ни слуху ни духу. Испугался ответа, сбежал и глаз не кажет. А может, стыдно и страшно было, кто его знает.
Всякое я передумала. Иной раз, думаю, вернулся бы — простила, лишь бы помог детей поднять. Нет, не появлялся Георгий.
Трудно мне было. Но не знала я, что горе мое многосерийным окажется и только первая его серия преходила, другие будут страшнее, а жизнь все будет снимать и снимать новые серии…
На работу мне надо было выходить. То есть отпуск мне еще полагался, но кормить нас некому было. Пошла в наш профком. Помогли сразу, спасибо. Димку в ясли устроили. А с Веруней как быть? Куда только не совалась, кого не умоляла! Не было такого учреждения, куда бы не толкнулась. Сочувствуют, да, а помочь — ну никто. В детсад не берут — калека. В дом ребенка просила взять до весны хотя бы — нельзя, мать есть и не пьяница, не развратница.
’’Няньку наймите”, — так сказал мне один начальник, не помню уж кто. Это мне-то няньку нанять?! Где ее взять, во-первых, чем платить — во-вторых?! Я сама на картошке сижу, да манку себе на воде завариваю, вермишель. Няньку…
Ночь молча слушала, колыхалась, гладила Надежду, укрывала, баюкала, но заснуть не давала. Закрыла измученная Надежда глаза, затаилась, а Ночь темными своими пальцами разлепила ей веки, требует: "Говори!”
— Димке два месяца исполнилось, унесла его в ясли. Собираюсь на работу. Натопила тепло, усадила Веруню на топчан, мне к тому времени сосед топчан расширил, доски набил и барьерчик сделал — манежик вроде. Веруня, бедняжка, на нем и обитала. Раны на ножках у нее затянулись, пытается она встать на ножки, да не может — ступо-чек нет, больно култышки. Упадет на кровать, плачет, и я вместе с ней реву. Но ребенок же, привыкла понемножку, вставать не стала, все ползком по топчану.
Вот в таком виде я должна ее оставить на целый день и работать идти.
Затопила печь, говорила уж. Да, знаю, к вечеру вынесет тепло. В миску картошку положила, хлеба, прянички были. Молоко налила в одну бутылку, в другую воду, сосками Димкиными закрыла бутылки. Веруня смеется, хватает все — думает, игра такая. А я заледенела, даже слез не было. Ноги ватные, сама, как автомат. Поцеловать дочку не могла, стыдно: будто предаю ее, на погибель бросаю.
Выбежала из комнаты бегом, соседку в сенях встретила, та руками всплеснула: "Лица на тебе нет, Надя, не убивайся так, я сегодня, может, пораньше с работы сорвусь, пригляжу за Веруней”.
Как я тот первый день отработала — убей меня, не помню.
Отпустили меня пораньше и прибежала я домой. Подхожу к своей комнате — тихо. Так тихо, будто нет живого человека внутри. Открываю дверь, открыть не могу, руки трясутся. Зашла, наконец.
Господи, врагу не пожелаешь, что я там увидела. У двери, прямо на холодном полу спала моя дочка. Зареванная, грязная, мокрая. Плохо, видно, ей стало в загончике, сумела калека перевалиться через бортик, упала на пол, да там и осталась. Цела в чашке картошка и молоко не тронуто, только прянички разбросаны по топчану. Значит, вскоре после моего ухода упала Веруня и провела день на барачном полу. Беспомощная, голодная, несчастная моя девочка…
Невзвидела я свету, волчицей завыла, схватила дочку…
— К милосердию твоему взываю, Господи, — зашептала Ночь смутным голосом бабы Вали, — к милосердию…
— Думаешь, не было этого? — зло спросила Надежда, но Ночь не ответила, тихо заскользила к решетке, потянулась к окну и исчезла за мутным стеклом, захлестанным весенним дождем, как слезами.
Не хотела больше слушать? Кончились силы? Так или иначе, но оставила она женщину и не дала ей забыться ни на минутку. Не было и здесь сострадания.
Ушла ночь.
Камера просыпалась.
Это был самый тяжкий момент — пробуждение.
Сон уносил женщин в другую жизнь. Знакомую, незнакомую, цветную или черно-белую, радостную или горестную — важно, что в иную.
Где они были?
Откуда возвращались?
Почему сегодня баба Валя начала новый день со своего вечернего причитания? А Шура так усердно задирает вверх бесформенные, даже утром отечные ноги — это утренняя гимнастика. Шура свято верит: гимнастика ей поможет, и терзается, что не всегда находит в себе силы заниматься. Сейчас нашла. Что, приснились ей скорые уже роды?
Почему молчит горластая Ирка? Уставила глазищи в грязный потолок, заложила руки за голову и не орет, как обычно: "Подъем! Выходи строиться!" Притихла. Чем угостил ее сон?
Октябрина старательно чешет роскошные свои волосы, перебрасывает со стороны на сторону — массажи. Многолетняя привычка не оставляет ее и здесь. А глаза опухли, полуприкрылись водянистыми красными веками, дань вчерашним слезам скопилась в мешках под глазами, и лицо кажется совсем серым в серых же утренних сумерках. Но расчесывает женщина, ублажает, нежно ласкает свое богатство — волосы. Серебристо-пепельный палантин обнимает плечи, полощется — направо, налево, направо, налево… Не от него ли появляются светлые блики под зарешеченным окном? Не он ли согрел Октябринину душу, оживил во сне, поднял с казенного ложа и воззвал к новому дню?
Зинуха уже проделала нехитрый утренний туалет, подсела к Надежде, коснулась ласково и сочувственно.
— Что ты так стонала во сне? — спросила. — Снилось дурное? Не печалься, смирись. Чем хуже — тем лучше, запомни. Хватит тебе терзаться. Какой-никакой, а выход в твоей жизни. За три года Димка подрастет, не оставят его добрые люди. Веруню государство тоже выкормит, что бы ты сама-то делала с ними? Себя пожалей. Выйдешь-то, опять тебе ломаться!
Зина-Зинуха! Да не сыпь ты соль на открытые раны! Дай передохнуть, ведь только что пытала Надежду Ночь, пыткой пытала, разбередила душу и горит до сих пор голова, словно адский котел. Неужто новый день обернется старыми муками? К милосердию взываю, Господи!.. К милосердию…
Иди, Зинуха, на свои нары. Иди себе. Жди свою судьбу, не касайся других.
На Зинухины сочувственные слова Надежда не ответила, промолчала. Та повздыхала, погладила серое одеяло, отошла.
А Надежда знала: это не только жалость. Себя Зинуха выверяет на ней. Вот-де стоит ли мне печалиться, когда у соседки такое творится?! Оно и выходило, если подумать, что не стоит.
На воле у Зины-продавщицы оставались мать да дружок. С матерью проблем не возникало, у той была своя жизнь, по всей видимости, беспечальная. Жила она далеко от здешних мест, где-то на Севере, имела другую семью, где Зине давно не было места. Оно и к лучшему обернулось, не томила Зину хоть эта забота. На дружка она тоже махнула рукой. В лучшие-то времена приваживала бутылкой да угождением, а сейчас что? Парень — вольная птица, а девок в округе — пруд пруди, сами напросятся. Болела, конечно, душа. Не просто так Зина парня этого привечала — любила. Тосковала вначале, мучилась. Память у Зины была девичья, короткая, отбросила все плохое, подкидывала лишь доброе, а оттого было еще тяжелее. Но камерная жизнь довольно быстро спустила Зину с небес на землю, тем более, что статья у нее была серьезная — обвиняли ее в получении взяток. И Зина обмирала, слушая радио, где то и дело громили взяточников, рассказывали о суровых карах для них и вообще разъясняли, какая это мерзость — взятки. Безжалостная Ирка, камерный юрист, накаркала ей не менее восьмерки. Господи Боже мой, восемь лет! Что будет с ней за этот срок, если выживет она, если вытерпит только.
— Время такое, Зинка, — авторитетно говорила Ирка, — в неудачное для нас, воров, время ты попалась. Видишь, страна вся в перестройке. Все жулье к ответу призвали. Вот и ты попалась, мало тебе не будет. Очистимся, наконец, от скверны! — и хохотала, издеваясь над побелевшей Зинухой.
Зина, конечно, понимала, что надо ее наказать. Но не могла взять в толк, почему ставят ее в ряд с теми, о ком говорило радио. Вон, должности продавали за многие тысячи и в золоте купались. Деньги, говорят, в землю закапывали. Один деятель государство целое себе устроил, даже тюрьма своя была, издевался над людьми.
Здесь вот, на людях, и спотыкалось Зинухино сознание. Все о взяточниках слышанное и читанное было во вред людям. Что значит купить должность? Покупатель ищет выгоду в этом лично для себя, а продавец знает, что подлеца над людьми ставит. Как ни погляди, а от этого плохо людям. Закрыли Зинуху, как злостную взяточницу, а она все же в толк не могла взять, чем перед людьми провинилась так сильно, что сразу в тюрьму. Ну, выгнали бы ее с работы, да проработали в торге, там бабы зубастые, отхлещут что надо.
Ведь с чего все началось? Поставили ее старшим продавцом, радости много было. Стала она кредит оформлять. Это, конечно, не то, что за прилавком стоять. Люди к ней с уважением, уже по отчеству величают.
Уважение человека меняет. Стала Зинуха-продавщица Зинаидой Павловной, личико построжало, и носик вроде даже не такой остренький стал, а круглые птичьи глаза глядели с достоинством. И дружок перемену заметил, поласковей. Ну, жизнь наступила с перспективою. Зине за двадцать немного, за плечами десятилетка, курсы продавцов, да пять лет трудового стажа. А тут и повышение. Заметили старание, спасибо. Подумывала Зина уже и о техникуме. А что? Не хуже других.
Ну в каких книгах у судьбы записано было, чтобы загуляла соседкина дочка и повинилась матери: ребенка, мол, жду, давай срочно свадьбу. Покричала соседка, одинокая бабенка, поплакала, стала свадьбу дочке готовить, чтоб как у людей. Деньжат, само собой, у соседки нету и занять-то негде, с жениха тоже спрос небольшой — только из армии вернулся и на ноги встает. Пришла соседка к Зинухе: выручи, родная, не допусти позора на материнскую голову. Дочка одна, да с грехом замуж идет, надо по-людски все сделать. И то. Какой девчонке не хочется свадьбу свою попраздновать, платье надеть красивое и чтоб поздравляли все, радовались. Хочется каждой, знала Зина по себе.
— Чем помогу, соседка? — ответила поначалу Зина. — Нету денег и у меня. Сама знаешь мои доходы.
А соседка уж с готовым планом пришла. Ты, говорит, оформи мне кредит, Зина, на ковер дорогой. Я ковер не возьму, деньги мне дашь из кассы. А я потом через свою бухгалтерию рассчитаюсь, на два года кредит ведь.
Магазину какой убыток? Еще и прибыль пойдет, проценты мои государству будут от меня. И у тебя показатель выше. Нечасто ковры-то у вас такие дорогущие народ выкупает.
Зина руками замахала: что ты, что ты, как можно, а соседка в слезы: выручи. Подмочила слезами честную Зинину репутацию, уговорила. Принесла все справки, честь по чести, оформили ковер. С большой опаской Зина соседке деньги выдала. Благо, касса тоже на ней была и не узнал об этом, как ей казалось, никто.
Справила соседка свадьбу, пришла к Зине с благодарностью, кофту принесла. Ненадеванная кофта, говорит, мала мне, зря лежит. Возьми, говорит, за выручку. Поот-некивалась Зина, а взяла. И кофта понравилась, и негусто у нее в гардеробе было. Соблазнилась, одним словом.
Прошло время, все спокойно, и Зина о своем прегрешении забывать начала. Соседка только и напоминала, все кланялась при встрече. Постепенно и сама Зина, забыв былые страхи, стала думать: помогла, выручила бабу, и ничего в том особенного нет, что малость нарушила правила.
И вот подходит однажды к ней пожилая продавщица, дождалась, пока рядом никого, и говорит:
— Сделай, Зина, доброе дело. Брат мотоцикл покупает, а денег не набрал. Оформи ему кредит, он тебя не забудет, отблагодарит:
Заартачилась было Зинуха, да продавщица наблюдательной была. Я, говорит, знаю, что ты своей-то знакомой сделала такой кредит. Отчего мне помочь не хочешь?
Короче, опять Зина сдалась. Принес продавщицын брат справки с работы, оформили и ему кредит, выдали деньги. Мялся, мялся парень и сунул Зине в стол четвертную. Слаба оказалась продавщица, взяла и деньги. Еще пару раз пришлось ей такую операцию провернуть, и все по просьбе, да по слезной, не просто так.
А благодарность-то, Господи Боже! Разве за деньги Зинуха правила нарушать стала? Просили люди, она и помогала им. Думала, что ж тут такого? Обернулось же вон как. Записали ей в обвинении, что злоупотребляла она служебным своим положением и за взятки неоднократно совершала нарушения.
Согласна была Зина: нарушала, да. Но зла никому не хотела.
Где было людям денег взять на срочную нужду? Есть закон, чтоб ее за помощь им наказать, да нет закона, чтоб пошли эти люди куда положено, да заняли бы деньги спокойно, баз нарушений. И платили бы тот четвертной в кассу, а не Зине, он и не нужен ей.
А то как получается? Закрыли Зину, грозятся долгими тюремными годами, а она людям-то навстречу пошла. Позарез им нужда была в деньгах, и кругом от такой сделки убытки были: за кредит проценты с них шли, но и это пустяк, раз нужда поджимала…
И вот как ни раздумывала Зина, как ни раскаивалась в том, что нарушила, а в один ряд со взяточниками ставить себя не могла.
Потому и больно было издевательство Ирки, и жила в душе надежда: разберутся, поймут. И коль накажут, то на так строго. Надежда то уверенно поселялась в ней, то слабела, а вчера с приходом Октябрины и Нади пропала совсем, исчезла.
Стала примерять злостная взяточница Зинуха свою судьбу к тюремным годам. Октябринина десятка ее ужаснула, а вот Надины три года вроде как обнадежили. Как же, Надя вон чего наворочала!
Не сравнить с ее преступлением, как ни смотри, а не сравнить… И все равно страшно.
— К милосердию взываю, Господи… — опять закряхтела баба Валя, и Ирка беззлобно шикнула на нее:
— Чего это ты с утра завела!
Старуха замолкла.
В бедной событиями камерной жизни вчерашний день был особенным, из ряда вон выходящим. Раньше более или менее определенной была только судьба Шуры, но и она надеялась на перемены. Беременность, думала, все же должны учесть. Утешение сл'абое: видела она в колонии беременных и детский сад. Слабое утешение, но было.
Теперь определились еще двое: Надя и Октябрина. Минет срок для кассационного обжалования и скажут им: "Выходи с вещами”. Увезут, раскидают…
Баба Валя, Ирка и Зинуха с особой тревогой ждали теперь своей участи: что-то будет…
Скудный завтрак съели быстро. И потянулись длинные минуты томительного ничегонеделанья, такого непривычного, раздражающего, готового к любому, самому страшному взрыву. Привыкшие к постоянному беспокойству и заботам женщины, даже блатная Ирка, выискивали занятие, чтобы скоротать время, которого всегда хронически не хватало и вдруг стало так нестерпимо, никчемно много. Так никчемно много никому не нужного времени…
Необычно серьезная Ирка подсела к Надежде, тихонько спросила:
— Вспомни, когда твое дело закрыли?
— Двадцать дней ровно, — подумав немного, ответила Надя.
— А обвинительное когда принесли? — опять спросила Ирка.
— Дней пять спустя, а что?
— Быстро, — вздохнула Ирка, — чего же мне тянут? Больше недели как дело закрыли, обвиниловки нет.
— Ты ж не одна, да и дело побольше моего. У меня — один том, а вам, поди, наворочали.
Слушая Надю, Ирка кивала, соглашаясь, лишь при последних словах усмехнулась без обычного ерничества. Беспокоилась Ирка, ясное дело, и сегодня это было видно.
— Я, Ириша, полмесяца обвиниловку ждала, — вмешалась в разговор Октябрина, и голос у нее был заискивающий, смиренный.
Ирка отмахнулась, вновь обратилась к Наде:
— Жалобу писать будешь?
Надежда молча пожала плечами.
— Пиши, — убежденно сказала Ирка, — чем черт не шутит, пока Бог спит. Проси отсрочку. Вдруг дадут. Запросто. Таких случаев сколько хочешь.
Я слышала, как поутру тебя Зинуха настраивала: мол, пусть государство детей растит, а ты живи спокойно. Не слушай эту дуру малахольную.
Ирка говорила тихо, но в маленькой камере и шепот слышен. Зина не утерпела, обиженно крикнула в ответ на упрек:
— Как понимаю, так и говорю. Что она с этими детьми делать будет? Молчала бы ты, беспутная. И не обзывайся, нашлась тоже.
Удивительное дело, Ирка смолчала, не воспользовалась случаем затеять ссору, развеять скуку. Даже головы не повернула, продолжала разговор с Надей:
— Пиши жалобу. Страшно мне за твоих детей. Девчонку твою жалко. Я ведь тоже калека: у меня души нет, как у нее ног. Отняли у меня душу. Калеки мы…
Что такое случилось с Иркой?!
Грубая, циничная, безжалостная Ирка прямо с утра и ни с чего вдруг расслюнявилась, скисла.
Притихла камера.
Нет, не к добру Иркины излияния. Впервые за время долгой совместной отсидки Надя взяла Иркину руку — и поразилась тонкости девичьего запястья, безжизненной холодности хрупкой бледной руки с четко проступающими синими прожилками.
Боль ткнулась в сердце. Когда же эта рука успела стать преступной? Что стряслось с этой чужой дочкой, какие ветры повалили это — видишь руки — слабое деревце?
Не так проста блатная Ирка. Видно, пряталась в шелуху приблатненности тоже раненая душа.
— Брось, Ириша, что это с тобой сегодня? Все наладится, ты молодая совсем. Спасибо тебе на добром слове, — начала утешительную речь Надежда.
— Попкова, на выход, адвокат ждет! — раздалось в дверной амбразурке. Ирка выдернула руку, натянулась, словно струна. Загремели засовы, суетливо вскочила Октябрина. Больше никого не вызвали, Ирка поникла, отвернулась от двери.
— Сука, — без злобы, равнодушно сказала она вслед вышедшей из камеры Октябрине, и повернула бледное узкое лицо к Наде. Странно блестели глаза, металась в них боль, а голос оставался бесцветным.
— Видишь, Надя, эта сука того и гляди вывернется. Как от мамки, так до ямки, поняла?
И вдруг голос ее взвился:
— Пиши жалобу, дура, просись к детям, просись!
Это было больше похоже на Ирку, но голос тут же упал, она молча отошла, села на свое обычное место и опять уставилась в окно не мигая…
Настолько необычным было ее поведение, что затаились, сжались женщины, сидели тоже молча, не зная, как вести себя, что сказать. Не знала и Надя. Чего это ради Ирка простерла на нее свое покровительство? Правда, и раньше она отличала Надю от всех, не затрагивала, не дразнила, и все же сегодняшняя вспышка была тревожащей и заставляла думать: может, еще более тяжкие испытания готовились ей и детям? Может, многоопытная Ирка что-то знала, а она, Надя, нет? Что будет, что будет?!
Видно, недаром томилась Ирка, день выдался событийный, и вскоре вслед за Октябриной вызвали, не объясняя причины, Ирку. Она побрела к двери, не ко времени вялая и апатичная.
Стали ждать их возвращения. Беременную Шуру взволновали события, она тяжело дышала, расхаживала по камере, уперев руки в поясницу, отчего небольшой еще живот грубо и некрасиво выпятился, обтянулся застиранным, вздернутым спереди платьем.
Зинуха опять подсела к бабе Вале, и обе они, как большие вороны, следили за беготней Шуры, враз поворачивая головы.
На Надю никто не смотрел. Итак, жалоба. Ирка требует написать жалобу. Вчера Надежда была твердо убеждена: ничего не надо. Никаких жалоб. Ее право на жалобу ничьей ответной обязанности не вызывало. И незачем новые унижения, через них не обрести сострадания.
Так было вчера.
Ночь начала разрушать эту позицию, а Ирка продолжила…
Кто-то ведь способен и должен понять, почему все случилось?
Надежда прикрыла глаза, и тут же к ней вернулась ушедшая Ночь, окутала на миг прохладой, так что поползли по телу жгучие мурашки и содрогнулась Надина плоть в ожидании воспоминаний.
…Поднимая дочку с холодного пола, она думала: край. Все, пришел конец. Уж этого ей не пережить. Но Веруня, судорожно всхлипывая, с недетской силой вцепилась ей в плечи. Так, с дочкой на руках, приготовила Надя ужин, накормила кое-как Веруню, убаюкала и сама легла одетая, не сумев отодрать дочкины руки от платья.
Спала ли, нет ли — кто знает. Помнит лишь, что с ужасом ждала утра, когда снова надо будет бросать дочку одну. Так долго думала и боялась, что отупела к утру. Безвыходность ее ожесточила.
Без обычной ласки, без уговоров отцепила от себя сведенные страхом детские пальцы, посадила дочь на топчан, разложила еду и вышла, оставив за спиной отчаянный крик.
Душу свою она кидала в тот день на кирпичные стены, сердце кровоточащее растирала мастерком по красному кирпичу…
С топчана Веруня больше не падала: калеки понятливы. Но щебетать перестала. Молчала, не улыбалась, встречая мать. Огромными на худеньком личике глазами следила за Надей, серьезно смотрела, неулыбчиво, и поселилось во взгляде недетское знание, которым отгораживалась Веруня от всех и смущала. Даже соседка, забегавшая помогать Наде, не выдержала, сказала: "Не девка у тебя — прокурор. Ишь, глядит-то как”.
Под строгим Веруниным взглядом жила Надя как на эшафоте, с постоянной бедой и виной, и некуда было деваться от этого.
Ходила опять то туда, то сюда. Рассказывала, просила: помогите. Нельзя, невозможно оставлять увечного ребенка одного на целый день, сгинет девчонка, тронется умом, говорить уж не желает, а умеет ведь. Никто не прогнал, но никто и не помог.
А беда не ходит одна. Объявился вдруг Георгий. Грязный, небритый, опустившийся окончательно. Поплакала, отмыла его, побрила, в чистое одела, оставила дома. Видела, что вина его грызет, надеялась, что переломится Георгий, будет ей опорой и помощью. Ошиблась опять.
Ходил устраиваться Георгий на работу, перебирал места. И однажды домой не вернулся. Хватилась Надя — зарплаты ее в комоде нет. Осталась с детьми без копеечки. Заняла денег немного, дотянула кое-как до аванса, о муже ни слуху ни духу. В аванс свидание состоялось. Встретил ее Георгий недалеко от барака, пьяный, страшный. Стал денег просить. Отказала: жить с детьми надо, долгов полно, дрова на исходе, а февральские ветры продувают щелястый барак, как сито. Объяснила терпеливо, в глаза заглянуть пыталась, к совести взывала. А он, не дослушав, хвать из руки ее сумку — и в переулок. Там, в сумке, не только хлеб и молоко для Веруни, там аванс весь находился, все восемьдесят рублей, пятерку только истратить успела Надежда.
В отчаяньи зашла в милицию, отделение близко от дома находилось. Дежурный на жалобу развел руками: муж да жена — одна сатана. Вы, мол, все равно помиритесь, свои люди, разбирайтесь сами. Ушла ни с чем. Снова в долги влезла. А у кого занимать-то? Все в Надином бараке одинаковые богатеи, да и в бригаде тоже. За комнату платить копейки, а и то задолжала, комендант предупредил: не порти показатели.
Благо еще Димка в яслях на пятидневке был, сыт и ухожен. О себе не думала, вся забота была о Веруне.
Месяц всего один прошел, а стала Веруня как старушка, ничему не рада, улыбаться, говорить перестала. Смотрит так, что душу вынимает и рвет на мелкие частички.
Георгий глаз не кажет, но до Нади доносится: бичует мужик, пьет, на себя не похож. Толкнулась опять в милицию и ушла с чем пришла: посерьезней там дела, не стали слушать.
Сильно Надя весны ждала, оттепели.
Тяжко вечером видеть, как Верунька в темноте на своем топчане лежит, зарытая в тряпье до глаз. Зимний день короткий, темнеет быстро. Пока добежишь до дому — совсем ночь.
Пробовала Надя свет на день в комнате оставлять. Заметил комендант, оговорил: "Еще раз увижу, штраф получишь. Богатая какая, целый день свет палить”. Про Веруню и слушать не стал, глаза выкатил: "Пожар наделать хочешь?!”
Ну что ты будешь делать? И никто не видел, как заходила Надя в темную холодную комнату, откапывала дочку из-под одеял и пальтушек. Веруня тоже мать не щадила, прятаться стала, злиться. Одичал ребенок совсем.
Ждала Надя, когда день прибудет, потеплее станет. Но пришла беда —отворяй ворота. Вместо тепла в марте грянули морозы. И прибежала однажды нянька из ясель: Дима сильно заболел, забирай домой, лечи. Легко сказать. На одних руках все заботы и дети: калека да в жару пацанчик трехмесячный.
На саму Надю смотреть тогда страшно было. Высохла вся, одни глаза остались, а в глазах отчаянье. Вот у нее еще какая свобода была, этой свободы ее тоже лишили теперь. На три года. Решай, кто прав: Зинуха или блатная Ирка. Просить у суда отсрочку или плюнуть на все, отоспаться да покушать по часам? Пайка-то тюремная Надежде не страшна. И работы она не боится, оттрубит свое, за ней не станет. Зато не кхыкает рядом горящий в жару Димка, и не следят за нею непонятные и пугающие дочкины глаза.
И, наверное, не дураки этот закон придумали, чтобы ее на три года от детей оторвать, от мук мученических ее. Помощи не дождалась она, нет. Ну вот и пусть будет как будет. Время лечит, закроются ее раны, даст Бог, привыкнет без детей, будет жить в свое удовольствие. Тоже мне, нашли наказание!
Накачивалась злостью Надежда, аж зубы скрипели, сжимались кулаки: пусть, пусть.
Куда вот хотя бы сейчас она с детьми? Куда?
Начинать по новой этот адов круг? По новой?!
Нет, лучше сгинуть, исчезнуть, пропасть совсем, чем пережить снова то, что уже случилось.
Решено: никаких жалоб. Ничего, ни звука. Три года, а дальше посмотрим. Собственно, за нее и так уже решили. И пусть так будет. С кем бороться-то? Против чего? За что? Пора кончать.
Конечно, пора.
Тем более что клацнули задвижки, и камера получила обратно свою самую дерзкую обитательницу — Ирку.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять ее состояние. Побелели и раздулись крылья тонкого носа, лицо и шея взялись красными пятнами, сузились глаза и черные брови сошлись в одну широкую линию.
В таком состоянии человека лучше не трогать. Особенно если этот человек — Ирка.
Ни на кого не глядя, прошла она к своему излюбленному месту, уселась, отвернувшись, длинно и грязно выругалась, так что баба Валя испуганно прикрыла ладошкой свои вялые губы, а Надежда покачала головой.
Вот оно. Предчувствия не обманули Ирку. То-то утром она разнежилась, чуяла себе неприятность и крепко получила, видно по всему. Расспрашивать побоялись.
Повисла в камере новая тишина. Да, новая. В этой комнате тишина бывала разной. Только что, до прихода Ирки, она была ячеистой, своей для каждой из женщин, и разделяла их. Сейчас тишина стала общей, тягостной, ожидающей. Изредка сквозь зубы Ирка цедила что-то непонятное, непристойное и злое, но эти реплики странным образом не нарушали общую тишину.
Затаились все, затревожились. Шло время, и вот снова громыхнули запоры, впорхнула в камеру оживленная Октябрина:
— Все, девочки, — громко сказала она, — составили кассационную жалобу. Адвокат, скажу вам, толковый парень, прямо в корень смотрит. Такой своего добьется. И губа у него не дура, — Октябрина кокетливо повела плечами, засмеялась.
— Уймись, кобыла, — злобно крикнула Ирка, а Шура из своего угла заговорила примирительно, незаметно для Ирки делая Октябрине знаки промолчать:
— Правда, подруга, повремени немного. Голова прям раскалывается, поясницу сегодня у меня утром еще разломило, кабы не рассыпаться. Что за день сегодня, Господи, не знаю.
Октябрина поняла, примолкла, обвела всех внимательным взглядом, подсела к Надежде, зашептала:
— Надя, правда, адвокат хороший. Хочешь, я за тебя попрошу, он и тебе напишет жалобу?
И, видя, что Надежда поморщилась, заторопилась:
— Знаю, знаю, о чем ты. Не беспокойся. Мои уплатят адвокату, так что не думай. Так как, договорились? Он через день опять придет, и я скажу.
Окрыленная адвокатскими обещаниями, Октябрина готова была облагодетельствовать весь мир, не только Надежду. Не получив ответа, она принялась шепотом расспрашивать, что случилось без нее в камере. Надя так же тихо ответила, что никто ничего не знает, вызывали куда-то Ирку, которая вернулась вот в таком разъяренном виде и рявкает на всех.
Октябрине очень хотелось поделиться своими новостями, но никто не изъявлял желания слушать. Женщины понимали, что новости у Октябрины были неплохие, и никому они нужны не были, потому что как бы увеличивали их собственные беды. Такое уж эгоистичное горе было у каждой. Зла друг другу они не хотели, но и крупицы добра, перепадавшие кому-то, казались им отобранными лично у каждой из них.
Поерзала Октябрина и тоже притихла.
Тянулся, тянулся унылый серый день, но, как кончается все, подошел и он к концу. Как всегда, первой приметой наступающей ночи был ужин, потом забеспокоилась баба Валя, зашептала истово: "К милосердию твоему взываю, Господи, богородица, заступница страждущих, молю милосердия твоего…”
Старухина молитва была как сигнал к переходу в иное состояние, и женщины стали готовиться, собираться к новому мироощущению — кто с надеждой, кто со страхом, кто как.
Надежда ждала свидания с ночью, и владело ею такое чувство, словно стоит она на прозрачном блюдце одна, и у ног ее — бездна, нескончаемая пустота. Нет никакого мира, нет земли и неба, ничего нет — только она на стеклянном блюдце под пропастью и над пропастью тоже.
Сжималось сердце от неизбежности катастрофы, ожидавшей ее при любом движении, а страх вдруг прошел. Она приняла решение, и страх, рожденный неопределенностью, исчез. Надежда знает, что скажет, если снова ее будет допрашивать Ночь.
Уже когда улеглись, подала голос Ирка:
— Октябрина, дай пилку.
— Зачем тебе на ночь глядя? Далеко она у меня лежит, завтра достану, — попыталась отказать Октябрина.
— А я говорю, дай! — в Иркином голосе послышалась угроза, она села на нарах, нащупывая ногами ботинки: — Я все ногти пообкусала, давай пилку, швабра!
Октябрина знала цену Иркиным угрозам, торопливо приподняла матрац, пошарила где-то в своих тайниках. Блеснула белая ручка, Ирка не поленилась встать, забрала пилку у Октябрины, которая всем видом своим выражала недовольство, но смолчала.
— К милосердию взываю твоему, Господи Боже и богородица, заступница… — шептала баба Валя, и вскоре начала перемежевывать свою молитву громкой, с пр Истоном, зевотой. Устала от безделья, от волнений баба Валя. И все устали.
Ждали ночь.
И куда ей деваться — пришла опять. Она приходила и будет приходить всегда. К гениям и убийцам, во дворцы и тюрьмы — всюду. И всегда.
На этот раз Надя встретила ее во всеоружии. А чего распинаться? Расчувствовалась прошлый раз, выворачивала душу, плакала: пойми, пожалей, рассуди. Зачем? Кому это надо? Все решено. И если Ночь вновь потребует объяснений, она скажет раз и навсегда: нечего подавать, иди себе с Богом. Иди туда, где, как говорят, живут по-людски, где играют в красивые взрослые игры, самые разные, которые называют жизнью. Где нужна именно ты, Ночь.
Здесь требуется милосердие. Злую отповедь готовила Надежда, не зная, с кем имеет дало. Многоопытная Ночь сделала вид, будто не покидала Надежду и не интересовалась принятым в муках целого дня решением. Она просто спросила: "А почему? Почему повезла ты Веруню?”
Вот как хитро спросила Ночь. Нельзя не ответить. Вопрос конкретный, без рассуждений. И не имеет отношения к тому, что Надежда решила смириться. Обидный вопрос: "Почему повезла Веру?”. Его уже задавали, и много раз, и все с одной целью: вот сейчас она скажет, что замышляла худое, преступное. Это против Веруни-то, за которую кровь по капельке — хоть сейчас возьмите.
А повезла — что же делать было? Или — или, так стоял вопрос.
…Когда заболел Димка, хлебнула она горького до слез. Все, казалось, против нее: мороз, ветер, безденежье, болезнь сына и взрослые пугающие глаза дочери-калеки.
Пришла к Димке участковая врачиха, поглядела на Надино житье, головой покачала, вызвала "Скорую” и увезла Димку в больницу.
Конечно, ему там лучше. Опять Наде бежать на работу и сил нет Веруню оставить. А та глаз с нее не спускает. Молчит, а взглядом следит неотрывно, странно.
Думала-думала Надя и решила счастья попытать у родной матери. Так решила: привезу, в ноги брошусь, умолять буду, чтобы присмотрела немного за ребенком, сжалилась. Не чужая ведь, мать все-таки.
Пошла к соседке, та ее поддержала. Конечно, не откажет мать, поможет. Денег немного дала соседка.
Купила Надя билет в общий вагон и в пятницу вечером села с Веруней на поезд, а на следующий день к обеду уже к матери стучалась.
Напрасно надеялась. Совсем другая жизнь была у глухонемой Надиной матери. Пожалуй, посложнее, чем у самой Нади. Ясно видела она: нет, нельзя девчонку здесь оставлять, никак нельзя.
Прожила у матери два дня, истратила на кормежку последние гроши, что на обратную дорогу имела. Понедельника дождалась и с утра в исполком. Что ты! Как услышали, что не в этом городе прописана, и говорить не стали. "Устраивайте ребенка по месту жительства”, — так сказали. Значит, нигде не нужна калека, ни здесь, ни там. Хоть с пропиской, хоть без — один черт.
Вечером уехала Надя. Билет до полпути взяла, денег больше не было, и у матери ни гроша, сама помощи просит. Накормила Веруню, уложила на полку, сама головой в столик уткнулась, ночь скоротала. Тем утром и переполнилась чаша.
Чуть свет контролеры пришли, а Надя свою билетную станцию проехала еще ночью. Призналась, что надо дальше, а билета нет. Штраф потребовали, не верят, что нечем платить. Принципиальные попались контролеры, уж такие принципиальные. На первой же остановке высадили Надю с ребенком.
Ну почему? Отчего она такая невезучая?! Так обидно, так горько ей стало. И опять подумалось: зачем, кому нужна жизнь ее и муки. Умри она, Надежда, и все изменится к лучшему. Возьмут Веруню в больницу ли, в интернат ли. Протезики сделают, научат ходить. Не будет Веруня одна в темноте оставаться. Говорить опять станет. От дум этих окаменела вся Надежда, а голова работала четко, составляла план Надя, составляла и составила.
Отводилось ей в этом плане самое последнее место, и меньше всего она о своей судьбе в те минуты печалилась. Так устала, что любой покой, даже смертный, благом казался, жаждала душа покоя любой ценой.
Но слаб человек. Как медленно исполняла задуманное. Смотрела чужими глазами и видела Надежда себя со стороны. Вот сидит она на железнодорожной желтой скамейке в чужом городке. Вокзал почти пуст, и скучающие пассажиры с любопытством оглядывают незнакомую женщину с ребенком. Странно, что такой уже большой ребенок не бегает, не просится на пол, смирно сидит рядом с матерью. И, наверное, всем заметно, что не приласканы жизнью эти двое, слишком не похожи на плакат о счастливом материнстве и детстве. Веруня между тем беспокоиться стала. Простые нужды у нее, но неотложные.
Встает Надежда, заворачивает Веруню, медленно выходит на привокзальную площадь. Огромными буквами сделаны вмятины в низком туманном небе — название станции. Машинально складывает Надя буквы и тут же забывает прочитанное — зачем ей? И вообще, она ли это? Себя ли видит?
За площадью дома — кирпичные красные пятиэтажки. Сколько таких прошла Надя со своим мастерком! "Кирпичные — хорошо, — отмечает мозг, — лестничные площадки теплее, щелей, как в блочных, нет".
Накатанная, разъезженная площадь за ночь подмерзла, превратилась в каток. Ноги оскальзываются в блестящих от льда колеях, и Надя боится упасть, уронить Веруню, закутанную в тяжелое одеяло. Долго-долго бредет через площадь женщина с ребенком.
Вот, наконец, дом. Но сюда нельзя. Верхняя филенка в двери выбита, кое-как заделана фанерой. Нет, нет, прочь! Здесь холодно и грязно в подъезде.
Надя бредет дальше по улице, бракуя один дом за другим. Там неухожен — плохие, нехозяйственные люди живут, равнодушные. Дальше, дальше! Вот дом всем хорош, но гонит от него Надю стоящая у подъезда новая "Волга”. Сытый голодного не разумеет.
Движется дальше Надя, прижимая к себе ничего не подозревающую Веруню. Дочку-калеку, которая с минуты на минуту станет сиротой. Потому что иногда сиротой быть лучше: потому что милосердие избирательно и капризно; потому что кто-то изрек вселенскую глупость: жалость унижает человека. Изрек, ибо был жестоким и не желал никого жалеть. Изрек, ибо был ленивым и не хотел обременять себя жалостью.
Но жалость жила без законной прописки, и на нее-то рассчитывала Надя, разыскивая подходящий дом.
Вот нашла наконец. На лестничных маршах нет окурков, площадки чисто помыты. Тепло. Поднялась на четвертый, предпоследний этаж. Раскутала Веруню, оставила в пальтишке, расстелила одеяло в углу, усадила дочку, прикрыла спинку, ножки. Молчала Веруня, молчала Надежда. Глянула на дочку в последний раз, поклонилась поясно: "Прости меня, доченька”, — сказала это или подумала только, не знает.
Ушла, дверь за собой потихоньку прикрыла и бегом, бегом к станции, туда, на рельсы, к последнему средству спастись от беды, унять разрывавшую сердце боль, уничтожить ее вместе с собой. С постылой, никому не нужной жизнью… Непривычно легкими были руки, и бег был стремительным, и не скользили ноги, и сердце летело впереди ее — туда, туда, скорей туда, где кончатся эти муки…
Она бежала все быстрее, испытывая нестерпимое желание немедленно, сию же секунду быть смятой, раздавленной, уничтоженной. Сию же секунду, сейчас, немедленно, уверенная, что все так и произойдет, как задумано.
То есть она оставит дочку в чужом подъезде и бросится под поезд. Дочку заберут, а ее похоронят. Димка никогда ничего не узнает. Незачем обременять его заботами о сестре-калеке, незачем знать и трагедию матери. Так она решила и так будет. Первую часть плана она уже выполнила, сейчас будет поставлена последняя точка. Сейчас…
Как вкопанная, остановилась она на перроне.
Не было поезда!
Она не могла немедленно убить себя, потому что не было поезда!
Почему-то такая возможность ей в голову не приходила. Она остановилась, огляделась недоуменно. Где? Где поезд, который должен лишить ее жизни? Как же так? Она подкинула дочь и должна умереть, она уже должна быть мертвой, иначе Веруня не может сидеть одна на лестничной площадке чужого дома! Раз жива мать, ребенок не может там быть!
Назад, назад, к дочке — рванулась было Надежда и остановилась, словно пораженная. Не смертью, но не менее страшной картиной: снова лежала Веруня на холодном барачном полу, в темноте…
Нет, дело сделано. А поезд, что ж, поезд еще придет.
Надо только подождать немного, еще чуть-чуть потерпеть.
Время для нее остановилось, не существовало ничего вокруг, кроме той дали, откуда она ждала избавления.
— Женщина, женщина, вам что, плохо? — голос вывел ее из оцепенения. За рукав пальто Надю держал мужчина в форменной фуражке. С беспокойством заглядывая ей в лицо, он пытался оттереть от края платформы, надвигался на Надю, напирал мощным торсом.
— Идемте, здесь нельзя вам стоять, идемте в медпункт, — продолжал мужчина настойчиво.
Надя оглянулась, увидела направленные на нее взгляды — уже несколько человек остановились рядом, наблюдали. Это было нестерпимо. Она резко вырвала руку, бросилась в зал ожидания, села на скамью, отвернувшись от людей. Мужчина в фуражке не оставил ее, сел рядом, спросил:
— Может, в медпункт все же? Или я фельдшера сюда подошлю, а? Вы не стесняйтесь, — мягко уговаривал он Надю, и она боялась поднять глаза, чтобы не зарыдать в голос от этого неожиданного сочувствия.
Мужчина посидел еще рядом, помолчал, потом опять тронул ее за рукав:
— Я дежурный по станции. Если что — заходите. Поможем. Только не надо глядеть так страшно. Горе-то, оно у каждого бывает. Никто его не минует. Держись, бабонька.
Он ушел, но что-то от него осталось. Как будто Надя была уже не одна. И к той, единственной мысли, присоединилась другая: Веруня. Есть еще время глянуть на дочку, увидеть, как она. Не обидел ли кто? Что с ней?
Надя пыталась бороться с этой мыслью, с желанием сейчас же бежать к тому кирпичному дому, где сидит ее дочка — молча сидит, привычная к одиночеству, к холоду, к неприютному миру.
Ведь еще было время.
В конце концов, не один же поезд проходит здесь. Будут и другие после того, как она только глянет на Веруню, только убедится, что она жива и ничего плохого с ней не случилось…
Раздиралось опять Надино сердце, раздваивалась душа. Опять ничего не вышло с задуманным, а казалось, так просто: раз-раз и конец. Она еще и не решила, как поступить, а ноги уже вынесли ее на площадь, над которой утренний туман осел, название станции висело теперь в предвесенней небесной синеве. И было совершенно незнакомым и бессмысленным. Это отчего-то ужаснуло Надежду.
Чужое место выбрала для нее судьба, совсем чужое и с нелепым названием.
Волнения и бессонная ночь лишили Надежду последних сил. Тяжело поплелась она через площадь к красным домам, которые, как оказалось, стояли не рядом, а почти далеко.
Но вот он, кирпичный дом, где выбита филенка на входной двери, вот и другие, что забраковала она для своей задумки.
А вот и тот, Верунин. Возле дома скалывала лед с тротуара женщина в ватнике, прекратила работу, внимательно глянула.
Надя под этим взглядом рванула на себя дверь и едва вошла в подъезд, почувствовала: нету. Веруни уже нет там, на четвертом этаже. Стояла в подъезде неживая, мертвенная тишина, не бывает такой, если находится близко ребенок.
Второй, третий, четвертый этаж. Пусто! Пусто! Нет ребенка! Никогда — ни раньше, ни потом не было Надежде так страшно. Не отрывая взгляда от пустого угла, попятилась она, едва не упала. Спустилась, держась за перила, боясь повернуться спиной к месту, где оставила дочку.
Внизу, у конца ступенек, не могла оторвать руки, цеплялась за гладкое дерево лестничных перил. Она еще слышала, как хлопнула дверь, а потом на нее осел утренний белый туман, который был теплым и плотным.
…Очнулась от холода, резко охватившего лицо.
— Полегчало тебе, сестра? — спросила женщина, которую она уже где-то встречала. — Можешь подняться-то? Соберись с силами, давай ко мне, вон дверь открыта.
Где-то далеко качался открытый дверной проем, и Надя встала, поддерживаемая женщиной, шагнула к нему по ускользающему из-под ног клетчатому полу. Долго-долго, много лет шли они в обнимку с незнакомкой к дивану, покрытому зеленым вытертым одеялом.
Там Надя легла, и женщина молча раздела, разула ее, поставила в изголовье крытую полотенцем табуретку, где были маленькие пузырьки и большая кружка с дымящимся чаем. Мокрое полотенце прошлось по лицу, по груди, по рукам Нади и сняло оцепенение. Затряслась Надя, аж застучали зубы, стала возвращаться к ней утраченная было сила, поднялась на диване, села, но женщина молча протянула ей горячую кружку и запахло чаем, мятой, этот запах уловили шершавый язык и пересохшее горло, которое судорожно сжалось. С трудом поднесла Надя кружку к губам, глотнула. Приходила в себя медленно, оглядывала украдкой скудно обставленную комнату.
Хозяйка не заговаривала, и только когда Надя поставила на табуретку пустую кружку, женщина тихо спросила:
— Твоя девочка-то?
Надя кивнула и каким-то неведомым ранее чутьем поняла по вопросу, что с Веруней не случилось плохого, что эта женщина не желает и ей зла. От сознания этого стало вдруг легче, открылись слезы, задерживались ненадолго в темных впалых глазницах и заливали посеревшие щеки.
— Что с ней, где дочка? — сумела спросить сквозь слезы.
— Успокойся, — ответила хозяйка, — увезли твою дочку в добрые руки, ничего худого. Да как же решилась ты, сестра? Как надумала больное дитя бросить?! Расскажи-ка, облегчи душу. Вижу я, не от хорошей жизни ты появилась у нас. Меня Любой зовут, живу одна. Говори, сестра, никто нам мешать не станет.
И вот сидели они, две женщины. Надежда и Любовь. Две женщины. Без надежды Надежда и Любовь без любви. Надо же было так встретиться. Видно, Надина горькая судьбина иногда промашки давала: то дядьку от самых-то рельсов забыла убрать, а теперь вот послала ей Любу, которая слушала исповедь, ахала, плакала и сморкалась в фартук, и гладила высохшее Надино плечо и жалела, жалела и называла сестрой.
Наплакавшись, Люба осуждать Надежду не стала, но сказала сурово:
— Руки на себя наложить — дело нехитрое. Прожить сумей. И детей поднять.
Взяла слово, что сохранит себя Надя. Рассказала, что Веруню люди обнаружили быстро, тут же милиция приехала, врачи. Развернули девочку да увидели, что увечная, увезли в больницу. Поняли, что брошена девчонка не случайно.
— Брошена, — только и могла ответить Надя, — море слез пролила, чтобы дочку пристроить, никто не помог. Решался ребенок совсем. А теперь вот как получается: брошена.
— Ладно, сестра, — успокаивала Люба, — пусть девочка здесь поживет.
Согласилась Надя с советом женщины: не объявляться пока, уехать домой, выходить Димку, а там начать хлопоты с Веруней. Помочь обещала Люба, в Дом ребенка сходить, девочку устроить и навещать, писать Наде о дочке пообещала добрая женщина.
Вечером же Люба в больницу сходила, куда Веруню увезли проверить здоровье. Объяснила там правду: дворничиха, мол, я из того дома, где нашли девчушку, сердце болит за нее. Сказали Любе, что девочка в порядке, не говорит только, ну и ножки, конечно, сами знаете…
Короче, уехала утром Надя, отправила ее добрая душа Люба, билет купила и еще продуктов с собой надавала.
Можно считать, с того света приехала Надежда в свой городишко, идет к бараку, ветром ее качает. Вся как выжатый лимон. Шутка ли такое пережить, сквозь сердце свое пропустить. Но уже отогрелась чуть-чуть возле Любы, о жизни думает. Как там Димка в больнице? Всего-то недели не прошло, а кажется, целая вечность. Да еще два дня прогул у нее, объясняться с начальством надо. Тревожится Надя, но тревога такая нестрашная, знает, что не будет беды с этой-то стороны.
Так бывает, что порою судьба топит в море житейских невзгод корабль человеческих надежд. Топит так основательно, что кажется все, конец. Ан нет, смотришь, поднимаются со дна какие-то щепочки веры, тонкие прутики любви и ответственности, лепятся один к другому. Глядь, вновь по жизни плывет человек на плотике надежды, и плотик может превратиться в новый корабль, если плывет с человеком добрая надежда.
Спешила Надя к бараку, думая о том, что смеркается и в комнате стужа, за один раз не протопишь, неделю не исчезнут в углу куржаки. Но сколько зиме не злиться, а конец видать. Март все же, весна не за горами, эти морозы последние.
Мысли о весне, о тепле, привычные заботы оттесняли ставшую постоянной тревогу, но она вспыхнула с новой силой, когда Надя увидела в своей комнате свет.
’’Георгий?!”
Ах, как не хотелось новых потрясений! Так не хотелось, что хоть поворачивай обратно, но куда идти измученной женщине, кто скажет, где ее ждут?
Последние дни были столь страшными для Нади, что она и не вспоминала о муже, он как бы исчез из сознания, не существовал в ее мире.
Недобрые предчувствия сжали сердце, когда увидела, что в оконной раме выбито стекло и дыра заткнута изнутри цветастой подушкой.
Дверь комнаты была закрыта, она постучала, но никто не ответил. Постучала сильнее, настойчивей и услышала голос мужа, по которому поняла: пьян.
— Кого там принесло? — язык у Георгия заплетался. — Я закрытый сижу. Хошь, так лезь в окно, там у меня проход есть…
Трясущимися руками достала ключи, вошла.
Какой же здесь был развал! Не походила на людское жилище ее комната, которую она всегда обихаживала, наряжала, содержала в чистоте. Сейчас здесь были грязь и смрад, вонь стояла от винного перегара и нечистот. Барьерчик от опустевшего Веруниного топчанчика отломан, отброшен в угол, и на детской постели в сапогах, грязной короткой телогрейке и в шапке лежал Георгий, которого узнала она с трудом из-за неопрятной щетины, скрывавшей лицо.
— Нарисовалась жена! — захохотал он издевательски громко, с какой-то скрытой угрозой.
Надежда задохнулась:
— Ты, ты… — пыталась сказать она что-то и не могла, не хватало дыхания. Она только подходила все ближе к нему, и одно желание владело ею: убрать, сбросить пьянь с Веруниной постели, с дочкиной инвалидной постели, с жизненного ее пространства, куда загнал ее этот вот человек, отец-изувер. "Ты, ты”, — повторяла она и не смогла дойти до топчанчика, не удержали, подкосились ноги, упала на колени.
И не поняла, что случилось. Не было боли, но какая-то сила подхватила ее, швырнула в угол, к холодной печке, голова взорвалась и словно накрылась алой суконной скатертью, которую у них в интернате стелили на стол в праздники. Плотная эта скатерть закрыла мир, но глаза различали красный-красный свет.
Потом скатерть свалилась, свет стал ярче, продолжая оставаться красным, и она увидела, что поперек Веруниной кровати лежит ОН. Ноги в грязных кирзухах неподвижно стояли на полу, голова неловко упиралась в стену, отчего острый подбородок вызывающе выпячивался, и черная щетина сбегала с него на тонкую шею.
Кто это был, каким именем звался — уже не имело значения. На детской кровати бесстыдно развалилось Зло.
И к Наде вдруг вернулось все: в красных рубцах изувеченные ножки дочери, недетские страдающие глаза, тот клетчатый лестничный угол с ярким пятном ватного одеяльца. Засвистел в ушах ветер, так быстро она бежала к манящим рельсам, грохотал желанный поезд, который пришел лишь сейчас, но не избавил от боли, а лишь увеличил ее, пройдясь только по отброшенной за спину руке.
…Секунда — и Надина рука, раненная острием топора, на который она упала, соскользнула на рукоять, сжала ее, не ощущая боли. Она легко встала, подошла к Веруниной постели.
И поднялась рука с топором прямо над ненавистным ликом Зла. Закрыв глаза, Надежда ударила, что было силы, и сразу разжала кровоточащую руку, но боялась открыть глаза и увидеть содеянное ею. С закрытыми глазами, не смея шевельнуться, стояла, пока вдруг не почувствовала запах сладковатой нежной сырости: это пахла кровь…
Запах сладковатой сырости… Сладковатой сырости…
Почему Надежда так ясно ощущает его и сейчас, спустя столько времени после той страшной ночи?!
Запах сладковатой сырости! Здесь, в камере, стоит сейчас этот запах, и он не кажется, он есть! Это уже не воспоминания!
Надя резко села на постели, окинула взглядом тихо лежащих женщин. И — вот он откуда, запах!
Свисала из-под серого одеяла тонкая Иркина рука, опоясанная широким браслетом красного цвета, и под этой рукой стояла темная густая лужица, источавшая тот запах.
— Ира-а, — что было мочи закричала Надежда и бросилась к неподвижно лежавшей девчонке, откинула одеяло, а под ним и вторая рука опоясана таким же смертельно-алым браслетом, и запрокинутое юное лицо спокойно, без тени страха и боли.
Вскочили разбуженные женщины. Вызывая дежурного, заорала, застучала ногами в дверь всклокоченная Зинуха. Едва увидев кровь, в голос заплакала Шура, закачалась, присела, укрывая в коленях живот, заслоняя его руками, словно прятала от ребенка страшную картину. Бледная Октябрина, растерянно озираясь, прижималась к стене, просто распластывалась по ней. А баба Валя с провисшей рукой, трясущимися губами причитала:
— Господи Боже, яви милосердие твое, к милосердию взываю…
Милосердие явилось толпой в виде дежурных, перепуганной врачихи и здоровенного фельдшера, который схватил на руки потерявшую сознание Ирку и ринулся к двери, зычно крикнув врачу: "3а мной!” — будто звал в атаку.
Потом забрали в санчасть беременную Шуру и бабу Валю, Октябрина выпросила успокоительные капли. Надежда с Зинухой обошлись и так.
В камере было светло и тихо. Ночь больше войти не посмела, прижалась вплотную к стеклу и смотрела на женщин с улицы.
Надежда спать не ложилась, начала приборку камеры, чтобы найти работу рукам и успокоиться. Собрала окровавленную Иркину постель, свернула тощий комковатый матрац и обнаружила под ним сложенный вдвое бумажный сверток.
Развернула. Прочла.
Вот, значит, зачем вызывали Ирку: ей вручили обвинительное заключение. Значит, Иркино дело уже в суде, и девчонка испугалась. Почему же и чего забоялась блатная Ирка, наглая девчонка, которой все нипочем, которая дерзостью своей держала в послушании старших женщин, которая казалась прошедшей огонь и воду и медные трубы?
Надежда принялась читать обвинительное заключение. Больше нигде не найти ответа.
Прочла, уронила на колени бумагу. Окликнула Октябрину и Зинуху: пусть знают про Ирку. Не про ту, что держалась бывалой воровкой, а про ту, что сама была обманута и обворована. Про несчастную глупую девчонку, которая так запуталась и испугалась жизни, что захотела добровольно уйти из нее.
— И сколько, вы думаете, лет нашей Ирке? — задала Надежда вопрос.
Октябрина недоуменно пожала плечами, Зинуха ответила:
— Ну, двадцать два — двадцать пять, наверное.
— Восемнадцать! — почему-то торжественно, словно это имело какое-то значение, сообщила Надя, и женщины враз всплеснули руками.
— Ну-у, — протянула Зинуха, — ну-у…
— И ни разу она не судилась, — продолжала Надя открывать Иркины тайны, — вот, в обвинительном: образование среднее, ранее не судима.
— Откуда же у нее это? — спросила Октябрина, — истории всякие тюремные, жаргон. Дерзость такая…
— Тут ларчик просто открывается. Это все подельники ее. Игорь, Василий — и оба судимы за кражи. С кем, говорят, поведешься, того и наберешься. Ох, бабы, бабы! Это где же ум-то наш бывает? Гляньте, в чем Ирка проштрафилась, гляньте и подумайте, могла ли девчонка что без этих бугаев сотворить?! И пустили, гады, паровозом, спрятались за несмышленыша. Ну где глаза-то у следователей, почему поверили варнакам, разве так можно? Ведь судьба здесь решается, да вон как круто, до смерти!
— Ну чего ты возмущаешься, — остановила Надю Октябрина, — читай вслух эту обвиниловку.
Надежда подняла листки, стала читать:
— Модреску Ирина Николаевна, обучаясь в экономическом техникуме, по поручению администрации выполняла обязанности общественного кассира и являлась материально ответственным лицом. Получая деньги от комендантов общежитий, она не полностью сдавала их в централизованную бухгалтерию, где отсутствовал надлежащий учет, и таким способом похитила 472 рубля. После разоблачения Модреску была отчислена из техникума и скрывала это обстоятельство от родителей, не уехала домой, а проживала у своей знакомой, где познакомилась с ранее судимыми Зуевым и Единчуком. Уходя из техникума, Модреску не сдала администрации запасной ключ от сейфа кассы и с целью хищения денег организовала преступную группу, в которую вовлекла Зуева и Единчука. С этой целью Модреску показала последним расположение кассы, передала им ключ от сейфа и сообщила, что в начале каждого месяца в кассе находится около 15 тысяч рублей, предназначенных для выдачи студентам и преподавателям. Исполняя преступный замысел, Зуев и Единчук позвонили в техникум, узнали о получении денег, ночью поднялись по пожарной лестнице и взломали крышу техникума, проникли в кассу, открыли сейф и похитили деньги в сумме 14 050 рублей, с которыми скрылись.
— От Ирки тоже скрылись? — изумилась Зинуха, прерывая казенные гладкие слова.
— Да, выходит, и от нее тоже скрылись, сволочи. Дальше тут написано, что поймали их в Крыму, где они веселились. А на Ирку, видишь, основную вину свалили. Получилось, что она организатор. Ах, подлецы-подлецы. Ведь наверняка подбили девчонку да обработали поначалу, поднатаскали по блатному делу, а потом натянули нос! Ах, дурочка какая, поди, и любовь тут примешали, она и поверила.
— Баба Валя номер два, — задумчиво сказала Зинуха, — прикрылись девчонкой, ворюги.
Октябрина взяла из Надиных рук документы, посмотрела:
— Батюшки-светы! Да у нее та же статья, что у меня! Хищение в особо крупных размерах! — воскликнула она.
— Неужели девчонка тоже десятку получит? Что же с ней будет тогда, подумать страшно, что с ней будет! Она же разуверилась во всем, бедняга, вон на что решилась! Что-то надо делать, слышите, женщины. Может, написать куда, бороться за Ирку надо, чтобы справедливо ее судили за то, что сделала она на самом деле. Никогда я не поверю, что Ира могла быть организатором, да еще таких парней вовлечь, вишь, невинные овечки! — горячилась она.
— Тихо, тихо ты, — осадила ее Зинуха, — забыла, кто мы сами есть? Мы ведь тоже закрытые, какая тут борьба?!
— Ничего, есть средства, есть, я знаю. Прокурору напишем, — не сдавалась Октябрина.
Надежда слушала молча, думала. Больно ударило произнесенное Зинухой Иркино слово "закрытые”. Они "закрытые”. Страшное какое, многозначительное слово. Незаконное, не имеющее права быть слово. Но ведь жизнь продолжается и, кажется, побеждает. Сколько раз спасали ее, Надю. Сегодня она спасла Ирку, отдала, так сказать, долг жизни, но не полностью. Дети на ней, их судьба, за них будет постоянный спрос с совести. И не имеет права она оставить их. Люди нужны друг другу, вот что. Вот сегодня она Ирке понадобилась, да как срочно! А раньше бедная Ирка высказала заботу о ней, о детях, Октябрина тоже предложила свои услуги, да и Зинуха права со своих бездетных позиций, неведома Зинухе материнская боль и предложение ее не подходит, но сделано оно от чистого сердца…
А она было смалодушничала. Нет, никак нельзя сдаваться, надо победить обстоятельства и уже завтра начать новую борьбу, все объяснить, попросить понять, помочь, проявить милосердие…
Ирка и баба Валя… Зинуха и Октябрина… Все они надеются, все ждут участия и жалости, потому что их преступления, их тяжкие уроки — вырванные из жизни куски, и самое в этом тяжкое их наказание.
— Как-то там Ирка? — произносит вслух Надя, и все они вздыхают, безнадежно глядя на глухую дверь.
Забыты полученные от Ирки обиды.
Горюют бабы над несчастной девчонкиной судьбой, забыв свои беды…
И удивленно смотрит на них Ночь до самого рассвета. Поистине, человек — это тайна.
Особенно, если человек — женщина.
Шло время, и судьбы женщин сложились по-разному.
Ирке не дали умереть. Но то, чего она так боялась, случилось. Назначили ей срок наказания в половину прожитой жизни. Увезли девчонку, и как в воду она канула. Одно можно сказать с уверенностью: нелегко ей живется в колонии — озлобленной, неверящей. А дальше? Что будет с нею дальше? Найдет ли ее справедливость в тех далеких краях? Что повторяет девчонка, уставив по привычке своей глаза в потолок? "К милосердию взываю?..” А может, уже другая молитва у злюки-Ирки, но кто-то ведь должен шептать за нее именно эти слова! К милосердию…
Незавидная участь постигла и Зинуху. Права была Ирка в главном: загремела продавщица под общие показатели. Не было у нее ни наград, ни детей, так что и прошедшая амнистия ее миновала. Одна надежда у Зинухи — может быть, все же изменится что-то, не будут бабам давать такие сумасшедшие сроки, проявят жалость и к ее, Зининой жизни. Но с ходом времени все страшней Зинухе идти на свободу: одна, как перст, ни кола, ни двора, не пишет никто, не ждет. Квартиры нет, лишилась. Какие были тряпки — где их теперь искать, никто ведь за них не в ответе. Куда голову ей приклонить через столько-то лет? А здесь крыша над головой, еда готовая и заботиться ни о чем не надо. И все же плачет по ночам Зинуха от жалости к себе, к своей неудачной такой жизни, которую сама сгубила по глупости. Плакать ей сладко, свою вину она уже забыла, себя винить перестала, ругает лишь злую долю и старается не переборщить при этом, чтоб не было хуже. Зачем, говорят, Бога гневить? Зинуха ни о чем не просит, не жалуется, живет тихо, так как боязно ей теперь от возможной свободы… Одна… Сможет ли?.. Крепко помнит Зинуха бабы Валины стоны: "Молю милосердия…” Но чего хочет — сама уже точно не знает. И видит вокруг — многие маются тем же страхом.
Шура родила в тюрьме мальчишку. Илюшку. Хилого, нервного и писклявого, напуганного еще до рождения. Жизнь чуть теплилась в нем, а у Шуры почти не было молока. Откуда бы ему взяться, молоку? В те редкие часы, когда женщин пускали к детям, Шура плакала, глядя на сына, и молока становилось еще меньше. Шуру ругали врачи, но что с того?
К счастью, на воле родила ребенка Шурина сестра и забрала Илюшку из тюремной больницы, стала выкармливать обоих. Шура осталась в больнице, терзалась, слабела, но вскоре суд отсрочил исполнение приговора до достижения ребенком трехлетнего возраста, Шуру выпустили и больше она не вернется в колонию: амнистия.
Баба Валя срок не получила. Штраф суд ей дал приличный и прямо из зала суда отпустили старуху. Слез было, конечно, море. Но вот что трудно сказать: не прикроет ли когда еще баба Валя своего зятя? Есть ли гарантия, что отвечают такие старухи за дело?
Адвокат Октябрины и вправду стоящим оказался. Дошел до самого верха, все снисхождения просил и добился: снизили срок наполовину. Ну и амнистия, конечно. Помните, награды были у Октябрины… Знала и она добрые времена. Когда ее уважали.
На свободе теперь Октябрина. Живет с мужем. Работать пока боится. Ее историю весь город знает, стыдно.
Особый разговор о Надежде.
Да, в тот злополучный день доведенная до отчаянья женщина решилась на убийство. В ее воспаленном мозгу, почти потерявшем возможность реального восприятия событий, пьяный муж явился воплощением зла, и она хотела разом покончить с ним. Ударила и, боясь глянуть, бросилась из комнаты. Прибежала куда? — конечно, в милицию. Трясется вся: убила, мол, мужа убила. Приняли срочные меры, поехали поднимать труп.
И еще одно страшное потрясение пришлось испытать, когда с нескрываемым ужасом вошла в свою комнату, боясь глянуть вокруг, и вдруг увидела, как отпрянул от детской кровати дежурный следователь, "труп” Георгия заголосил гнусаво, пьяно и слезливо:
— Чего вы, чего вы? Она мне голову разбила, а я же и виноват?!
— Тьфу! — сплюнул следователь и рассмеялся, разряжая всеобщее оцепенение: — Такой лоб топор не проймет! Увезли обоих.
Из больницы Георгий сбежал тут же, рана была не опасной, видно, дрогнула непривычная к злодейству Надина рука, а Георгий так больше и не объявлялся.
Надежда же твердила упрямо: "Хотела убить, разом хотела убить, не было больше сил моих терпеть от него”.
И пошла по категории убийц. Серьезное обвинение — покушение на убийство. И плюсовалась к нему оставленная на лестничной площадке дочка-калека.
Переживания ее слушать особенно было некому, следователи спешили, а тут дело небывалой чистоты: сама преступница в милицию прибежала и твердо стоит на своем: "Да, хотела его смерти”… В общем, стала Надежда преступницей. Что сделано, то сделано.
Ничто не проходит бесследно, верно подмечено. И воспоминания, и камерные события толкнули Надежду на еще одну попытку изменить судьбу: написала она кассационную жалобу. Сама написала, не связывалась с Октябрининым адвокатом. Все как было описала и ничего не просила, лишь вопрос задала: скажите, судьи, как мне жить? Мне и детям моим?
Попала та жалоба с Надиным делом к молодой судье для проверки. Случайно попала, но как не назвать ту случайность счастливой?
Ах, как не нужны на судебной работе люди равнодушные, душевно ленивые, не могущие сопереживать и не умеющие ясно представить себе картину преступления по-человечески, житейски разумно и мудро. Не отрываясь от жизни и не возвышаясь над нею так высоко, что не заметны с той высоты невзгоды и тяготы, боль, страдания и вся дорога, ведущая в дом скорби.
На всем тягостном жизненном Надином пути встречались ей добрые люди. Девчата в бригаде, соседка, дворничиха Люба и другие, а теперь вот эти судьи.
Была ясной необычность преступления. Нужно было помочь человеку, помочь срочно, немедленно и на деле, не на словах.
И было понятно, что мало освободить Надежду, надо дать ей реальную свободу жить, спокойно растить детей.
Попросили прийти народного заседателя, который работал в строительстве, показали дело, рассказали о Наде, поделились заботами. Строитель, полноватый коротышка, экспансивный и шумливый, забегал по кабинету, повторяя только: "Черт-те что, черт-те что, черт-те что!”, но яркая палитра интонаций с лихвой возмещала скупость слов.
Договорились, что его организация обеспечит Надю работой, комнатой в семейном общежитии и местом в яслях для маленького Димки. Судьи брались за судьбу Веруни.
В день кассационного рассмотрения дела зал суда был полон — постарался народный заседатель, и в полном составе явилась готовая принять Надежду бригада отделочниц. Сидели строгие и суровые зрелые женщины и молодые девчонки с округленными живым любопытством глазами. Ждали Надежду.
Она вышла под конвоем, испуганно глянула в заполненный зал. Необычность вызова — к сожалению, кассационный суд не часто пользуется своим правом вызвать и расспросить осужденного, — и теперь эти незнакомые люди в зале, откровенно разглядывающие ее, взволновали Надежду до предела.
Она боялась повторной казни и остро жалела, что написала жалобу и обрекла себя на новые муки воспоминаний и равнодушное любопытство чужих людей.
Опустила голову, отвечала односложно и вяло. Вновь все стало безразличным.
И когда, выйдя из совещательной комнаты, молодая женщина-судья срывающимся голосом объявила, что назначенное Надежде наказание считается условным и она освобождается прямо сейчас, из зала суда, Надя подняла голову, обвела всех недоверчивым взглядом.
Первой мыслью было: нет, не может быть, это происходит не с ней!
И следом пришло устрашающее: куда? Куда она теперь? Что делать ей с собою и детьми, ради которых ей дали свободу? Эта мысль резанула по сердцу, наполнила глаза болью и отчаянием.
Открыл загородку улыбающийся конвоир, Надежда нерешительно шагнула в зал, вышла из проклятой решетчатой зоны и замерла, оглянувшись на судей. Три женщины — одна молодая, с пылающими щеками, та, что читала документ, и еще две, рядом с ней — пожилые, почему-то не уходили, стояли за длинным судейским столом, а сбоку, вытянувшись в струнку, стоял в синей форме молодой прокурор: брови насуплены, а в глазах сострадание.
Надежда хотела хоть что-то сказать им, но не успела, потому что вдруг увидела себя среди сидевших в зале людей, за рукав ее держал низенький лысоватый мужчина и говорил что-то, из чего она поняла только: зовут. Ее зовут с собой.
Мир не без добрых людей. И не светит ли солнце для всех одинаково?
1991 г. Москва.
Приговор она слушала равнодушно, словно все это к ней не относилось и не ей уготовано три года лишения свободы.
Судья положил перед собой белые листки, глянул поверх очков, съехавших на кончик узкого носа:
— Осужденная Углова, вам понятен приговор? Порядок обжалования понятен?
Она увидела в серых усталых глазах судьи нетерпение и выдавила:
— Понятен.
— Судебное заседание окончено, — с облегчением объявил судья, и все встали, задвигались, заспешили, бросая украдкой смущенные и любопытные взгляды за решетчатую деревянную загородку, где была другая жизнь и находилась она. Надежда Углова.
Конвоир, рослый молодой парень, молча открыл дверь загородки.
Надо идти.
Всего несколько часов шел суд, а как она устала! Голова горела и мышцы мозжило, словно после большой работы. Будто она оштукатурила стену огромного дома. Да в непогодь, да слишком густым был раствор…
Волоча ноги, как большая тряпичная кукла, двинулась к машине.
На улице шел дождь, значит, зима совсем кончилась. С этой мыслью толкнулась было привычная забота: детям нужно летнее. Толкнулась, но не задержалась. Она же лишена свободы!
Лишена свободы заботиться о своих детях, о летней одежде для них.
Ну а то еще каких же свобод она лишена?
С трудом поднялась в м. ашину, конвоир помог ей, бесцеремонно приподняв.
В углу, у самой решетки, уже сидела и, закрыв ладонями лицо, рыдала Октябрина по камерной кличке Пилка. Ее возили на суд больше месяца. И каждый день она прихорашивалась, тщательно взбивала длинные и густые волосы, в которых, несмотря на Октябринины сорок пять, не было седины. А может, ее просто не было заметно в пепельной гриве. В камере Октябрина держалась особняком, заметно презирая подруг по несчастью. И ее не любили. А Пилкой прозвали потому, что она была единственной обладательницей крошечной с белой ручечкой пилки для ногтей. Неизвестно, как ей удалось пронести и сохранить этот запрещенный предмет, но вот как-то удалось. Ей завидовали, но, поди ж ты, не донесли. Маленькая пилка, как частичка другой, свободной жизни, существовала в камере следственного изолятора — так назывался казенный дом, где они теперь жили. Октябрина долго ждала, потом ездила в суд, возвращаясь то возбужденно-радостной, то подавленной. Но не плакала, крепилась. А сейчас рыдала в углу машины. У нее сегодня тоже был приговор.
Надежда молча села напротив.
Спрашивать Октябрину, сколько ей дали, не было ни сил, ни желания. Хватит своей беды. Железная дверь с лязгом захлопнулась. Парни-конвоиры закурили дешевые сигареты, удушливый дым пошел к ним, женщинам с новым названием — осужденные.
Октябрина вскоре затихла, и по дороге они молчали, а в камере, едва переступив порог, Октябрина отчаянно вскрикнула:
— Десять!
И опять зарыдала.
Ее бросились утешать, и на Надю никто не обратил внимания. Она прошла к своему месту, села, бессильно уронив руки. Усталость не проходила, ей мучительно хотелось спать. Еще в машине стала одолевать частая зевота, скулы сводило судорогой от безудержных позывов.
Скорей бы наступила ночь, может, сегодня эта усталость поможет забыться, уснуть, спрятаться во временное небытие.
Октябрина, всхлипывая, рассказывала про суд, ее торопливо расспрашивали и в этом жадном интересе ясно слышалась не столько жалость к товарке, сколько озабоченность своей судьбой, тревога и страх, скрываемый всеми по-разному, а то и совершенно откровенный.
Беда Октябрины не тронула Надежду. Пусть. Сама виновата. В тесной камере тайны не скроешь, все они знали о том, почёму содержатся здесь. Октябрина — Пилка была начальницей на строительстве. Машину свою имела. "Волгу”, не просто так.
От мужа откупилась "Жигулями” и связалась с начальником управления-подрядчика. Он-то и подвел ее под монастырь. Приписки, фиктивные наряды, мертвые души и вот теперь тюремные нары. И любовничек этажом ниже, в другом крыле здания. Пожили, повеселились. Пусть. Ей бы, Октябрине, хоть один прожитый Надей год, хоть один, или, например, только зиму, когда Веруня стала калекой и приходилось, уходя на работу, оставлять ее в комнате барака привязанной на широком топчане, как собачонку. И оставлять ей молоко в бутылках со старыми, вздутыми сосками, а в миске еду…
Какими нескончаемыми были стены холодных квартир, которые она штукатурила! Она швыряла на эти враждебные стены плохо замешанный раствор, яростно терла их мастерком и гнала, гнала время: ну же, ну, иди быстрей, беги, беспощадное время, скорей отпусти меня к дочке-калеке, привязанной к топчану, чтобы не упала, не замерзла на холодном полу…
Октябрина, ты думаешь, этого не было? Было! Весь ужас в том, что было! Но тогда ты ездила в своей собственной "Волге", крала копейки у таких, как она, штукатуров, и не хотела знать, как нужны им эти копейки. Большая скорость была у твоей, Октябрина, "Волги”. Мимо проносились чужие печали. Рыдай теперь, камерная Пилка, оплакивай роскошную жизнь…
— А Кислису, Кислису сколько? — выспрашивала при-блатненная Ирка. Кислис — это был любовник Пилки. Тот, соблазнитель.
— Тоже десятка, — удовлетворенно отвечала женщина, — пусть нары полирует, гад.
Удивительно быстро слетела с Октябрины позолота. И вот она уже с Иркой на равных, а Ирка — блатная, воровка она, эта Ирка. И на свободе Октябрина ею бы побрезговала. Здесь же рада участию, и слова сыскала новые, из предстоящей своей жизни.
В Октябрине уже проснулась злоба, воспаленно заблестели глаза, руки нервно подергивались.
— Не буду я столько сидеть, — возбужденно говорила она, — папа дойдет до Москвы. Деньги есть. Витька, молодец, успел снять с книжки в самый последний миг. Пятьдесят лимонов не успели менты загрести!
Пилка победно оглянулась и не сразу поняла свою ошибку: не надо было говорить о деньгах. Они здесь были на равных, эти женщины, и на воле ничего не имели. Богатство Пилки погасило сочувствие, но она этого пока не заметила.
— Витька адвоката возьмет. Московского, пробивного. Вот увидите, скостят половину, а там и амнистия будет, у меня орден есть, а награжденных всех под амнистию, Витька сказал…
— Рогач твой Витька! — прервала Октябрину Ирка и хохотнула. — Рогач он, и ты на него не надейся. Он твои денежки тю-тю! Молодым под хвост пустит! А ты выйдешь старуха. Кому ты нужна будешь?
Октябрина растерянно замолчала.
— Ну что ты? — вступилась за Пилку добрая толстая Шура. — Зачем травишь бабу, ей и так тяжко!
Ирка опять захохотала, а Шура придвинулась к Октябрине:
— Ладно, подруга, чего теперь-то. У тебя хоть детей нет, а у меня, сама знаешь, душа уж почернела…
На воле у Шуры с мужем остался сын-первоклассник. Старая мать, что глядела за ним, сильно болела.
А Шура уже получила свои восемь лет, и в изолятор привезли ее из колонии, потому что на подельниц этот приговор отменили. "Сидели бы спокойно, нет, темнят бабы чего-то, а мне вот расхлебывайся”, — осуждала подельниц Шура. Но Шуриного мнения никто не спрашивал, в отношении нее приговор не тронули, и Шура шла теперь как свидетель по своему же делу. С первого дня, как ее вызвали еще на то, первое, следствие, Шура призналась, что привела двух просителей к знакомой паспортистке — уж очень им нужна была прописка. За эту вот прописку отдали они через Шуру деньги, да и Шуру не забыли, отблагодарили, хотя вовсе и не из-за денег она старалась. В общем, получила Шура за свои услуги восемь лет. В колонии ее навестил муж, дали им долгосрочное свидание двое суток. Осталась Шура беременной после этого свидания и вот снова сорвали ее с места, привезли в тесную камеру, где она еще пуще металась, потому что дом-то был совсем рядом, на автобусе только проехать. Октябрине на суд выдавали бумаги, и Шура выпрашивала клочки, мелко-мелко исписывала их, совала свернутые бумажки Октябрине, дала и Надежде, когда ее повезли на суд. "Передай кому-нибудь, может, дойдут”, — просила.
А кому передать? Шурино письмо Надя оставила в суде в туалете, заткнула за бачок, да так потом и забыла, не проверила, взял ли кто.
Иркины слова про старость упали на благодатную почву: Октябрина, видно, сама подумывала об этом, да и не раз. Думала и боялась, а тут ей прямо в лицо горькую страшную правду: выйдешь никому не нужной старухой.
— А-ах, — опять забилась в слезах Октябрина, — я не хочу жить, не хочу жить! Зачем так меня! Пустьлучше расстреляют, чем мучиться, я не хочу жить, не хочу…
Шура обняла Октябрину, уткнула широкое, обезображенное беременностью лицо в ее пышное плечо и сама мелко затряслась в плаче.
— Ну хватит! — неожиданно для себя крикнула Надежда и добавила оглянувшимся женщинам: —Душу надорвали!
Тут вспомнили и о ней, но она отмахнулась от расспросов, подняла вверх три пальца.
— Трояк, — перевела Ирка и позавидовала, — легко отделалась!
Легко. Она отделалась легко. Три года жизни, о которой она ничего не знала. Никогда не читала, не видела в кино, словно не было таких женщин, таких судеб.
Не думала, что есть такое. Не ведала, что выпадет ей эта доля. Не ведала и не хотела.
Простой жизни она желала, совсем незатейливой. Дом, дети и работа на стройке — вот что ей надо было и к чему тянулась она, сколько было сил.
Строила чужие дома, лепила свое гнездо, тыкалась, мыкалась, терпела, пока не пришел последний край…
Когда подняла топор и, закрыв глаза, опустила…
Тихо стало в камере. Замолчала уставшая от слез Октябрина. Ирка отошла от нее, задрав подбородок, уставилась на зарешеченное окно. Пригорюнилась толстая Шура. Безучастно сидели рядышком баба Валя и Зинуха — их слезы еще впереди.
Бабе Вале было под семьдесят и сидела она за самогонку. Вызывали ее редко — два или три раза на Надиной памяти. Баба Валя пугалась вызовов, крестилась, у нее начинала мелко трястись голова и провисала правая, когда-то парализованная рука. Надежда удивлялась, как это следователь не видит сам, что не могла она управляться с тем проклятым аппаратом и ставить бражку в бочках и ворочать эти неподъемные бутыли с самогонкой. Баба Валя прикрыла дочку, что работала поваром в столовой, таскала оттуда дрожжи и с муженьком варганила дефицитное зелье. Правильно, бутылочки баба Валя выдавала покупателям, дома ведь сидела, сподручно было. Но главное-то зло не в ней было, куда она денется, старуха, если велено ей отпускать самогонку. Дочкой велено, да бугаем-зятем, который работал через день где-то охранником и на работе не переламывался, нет. Выгодней была самогонка. На ладони все это лежало, ну прямо на ладошечке.
А баба Валя упрямо, заплетающимся языком твердила свое: не знала дочка и зять ничего не ведал, я виновата, судите меня. Видно, проще было поверить, и сидела в тюрьме развалина баба Валя, а дочка с зятем были на свободе. Старуха по крестьянской своей простоватой хитрости скрывала дочку и здесь, среди них, сердито шикала на Ирку, которая смеялась над нею, выплескивая жестокую правду, как Октябрине про старость.
Ирка была всех просвещенней, все она знала.
— Тебе, баба Валя, много не дадут, — говорила она, вроде утешая, — может, даже еще и живая выйдешь. А помрешь — дочка поминки на воле справит, ты же будешь навек с нами. Хоть завещание оставь, чтобы дочка на поминки нам передачку подкинула, все ж мы тебе не чужие. А денежки у дочки есть, и не конфискуют ведь, твое имущество искать будут, а много ты его нажила, а, баба Валя? Поди, узелок смертный твой уж забрали, конфисковали. Зато, не горюй, дочкины шмотки целы будут.
Баба Валя отмалчивалась, на жестокие Иркины речи не отвечала, но из старческих глаз начинали катиться мелкие белесые слезинки, застревали в глубоких морщинках, проделывали причудливый извилистый путь и высыхали, не покидая лица.
За бабу Валю обычно вступалась только Зинуха, да иногда еще беременная Шура. Октябрина глядела в сторону, ее не касались эти мелкие страсти. Она знала лучшую жизнь, бабы Валины беды ее не трогали. Не опускаться же ей до самогонщицы. Ей, которая ведала строительством театра. А еще раньше — органного зала, где звучала возвышенная, несовместимая с этой жизнью музыка.
Надежда жалела старую женщину, но утешать не могла. Она и вообще говорила мало, не только в своей новой жизни, всегда.
Родителей не выбирают, и Надежда не виновата, что родилась у глухонемой матери. А говорил ли отец — не знает, никогда его не видела. Язык жестов начала понимать раньше, чем приучилась к словам. Ладно, бабушка поняла угрозу, забрала девчонку к себе, учила говорить, испугавшись, что здоровый ребенок растет немтырем. Но ранняя привычка осталась в немногословии, которого преодолеть не смогли ни бабка, ни интернат, куда Надя попала после бабкиной смерти.
Даже Георгий не смог разговорить ее, и потом в злобе часто упрекал: "Немтырка”. Вот с Веруней она говорила. Веруня была ей собеседница. Ах, дочка, Веруня! Простишь ли ты? Нет, наверное, не будет Надежде прощения, недаром же суд назвал ее преступной матерью.
Подумать только, она — преступная мать?! Или она не любила своих детей? Или пила-гуляла, водила к себе мужиков? Преступная…
Принесли ужин, и все, даже зареванная Октябрина, съели до крошки свои порции.
И Надя съела — не ощущая голода, вкуса и насыщения.
Главное, что время шло и близилась ночь, от которой она ждала успокоения.
Разбередив души, всколыхнув горе, женщины примолкли, думая о своем, отгородились друг от друга невидимой, но ясно ощутимой стеной одиночества. Каждая была один на один со своей судьбой: все прожившие свой роковой кусок жизни, молодые и старые, повидавшие хорошее и худое, виноватые и не очень. Друг от друга они защищались. От самих себя не было им спасения.
Первой начала укладываться баба Валя.
Перед каждой надвигавшейся ночью она, по старости мало спавшая, становилась тревожной и суеверной.
Молитв она не знала — откуда? — в работе прошла жизнь, без кино и без церкви, некогда было себя вспомнить, не то что Бога. Война да разруха, вдовство да одинокое материнство, потом старость да болезни — коли и поминала Бога, то не тем словом. Теперь, на вынужденном горьком безделье, баба Валя пыталась утешиться — а чем больше, как не Господом нашим Богом, про которого, слыхала она, говорили, что он милосердный. И мать его, богородица то есть, само собой.
И все старушечье утешение сводилось к чуть слышному причитанию, которое баба Валя начинала, едва приближались сумерки и сгущалась, сгущалась в камере тоска.
"Господи. Боже наш и богородица, к милосердию твоему взываю. Молю милосердия, Господи Боже наш и богородица, дева пречистая, заступница страждущих…”
Старуха замолкала ненадолго, потом снова заводила свою придуманную молитву: "К милосердию твоему взываю, Господи Боже и богородица, заступница…”
Поначалу бабу Валю травила Ирка, потом отстала, потому что поддержки ни у кого не нашла. Видно, каждая из женщин мысленно повторяла те же слова: "К милосердию взываю…” Кто к кому обращался этими словами, кто к кому и, наверное, не только к Богу.
Но милосердия ждали все они, единственное, что нужно было в их положении — милосердие, от кого бы оно ни исходило…
Жалости и сострадания ждали самогонщица баба Валя, взяточница Зинуха, блатная Ирка, стареющая Октябрина, беременная Шура и ее ребенок, который не успел родиться, следовательно, не сделал ничего хорошего или плохого, а был уже так наказан.
Был закон, были поступки и женщины — вот они, плоть их и кровь, думы и страх. Все было, кроме милосердия, а лишь оно могло заставить глянуть пошире на все вокруг. Да так ли мы праведны, люди, построившие это чистилище и заполнившие его. Настолько ли праведны, что отторгли от себя вот этих, не пожелали видеть их, однажды оскорбивших взор, отторгли и отказали в сострадании?!
А почему они здесь? И, главное, зачем? Как стать ему человеком, Шуриному неродившемуся ребенку? Что он чувствует сейчас, к чему готовится?
”К милосердию взываю, Господи Боже и богородица, заступница”, — шептала баба Валя.
Ужин давно прошел. Значит, наступала ночь.
И пришла она.
Закрыла темным своим покрывалом зарешеченное окно, уложила на жесткие матрацы неработавших, но уставших женщин, и распласталась над каждой, прикрывая собой от негасимой лампочки под потолком и всего, что горело, пылало и жгло их души.
Надежда покорно ждала, что принесет ей ночь. Может, желанный сон и забвение? Может, милость ее будет столь велика, что придет Веруня здоровой, веселой? И маленький Димка хоть намекнет, как ему живется без мамки. Да что намекать-то, Надя лучше других знала, как именно живут детки без матери.
Уже затихли Ирка и Октябрина, тяжело во сне задышала Шура — ей и ребенку не хватало воздуха в тесной камере.
Похоже, засыпала и баба Валя. Из ее угла доносилось лишь оханье — укладывала поудобней старуха свои ноющие кости.
Время шло, и ночь сделала свое дело. Но с Надей не справилась, присела к ней в изголовье и вместо желанного сна завела нескончаемую беседу.
Допрос ли вела, жалела ли, любопытство ли одолело или чего-то не знала и хотела в беседе постичь пришедшая Ночь?
— Как это случилось? — вопрос не коснулся слуха, проник прямо в мозг и заставил содрогнуться, потому что Надя боялась, не хотела его, а он возвращался и приносил новые страдания.
И вот, пожалуйста, когда позади суд, когда надо успокоиться, забыть все, жить и ждать, пожалуйста, первая же Ночь задает этот проклятый вопрос.
— Как это случилось? — бьется в мозгу.
Надо отвечать. А что ответишь? Ее наказали, стало быть, она и виновата. Одна она, ведь наказали только ее. Зачем же теперь спрашивать, как это случилось. Да и почем она знает, как все произошло? Хотела бы понять сама.
— Вот и давай разберемся, — слышится настойчивей.
— Зачем? — возражает женщина. — Мне тяжко и без того. Был суд, и моя вина записана в приговоре. А спрашивать надо было раньше, раньше.
— Никогда не поздно спросить. Суд не решил ничего и не был справедливым, потому что не выяснил главного — почему? Пока не разберемся, не казни себя, — говорит Ночь, и Надя кивает.
— Я хочу думать так и боюсь. Я одна и некому доверить свои сомнения. Ладно, — смирилась она, наконец, — пусть мне опять будет больно, только посиди со мною, помоги мне понять мою жизнь. Не осуждай и не давай советов, они запоздали. Просто выслушай и рассуди.
— У нас впереди есть время. Много раз я приду к тебе. Рассказывай, не торопись. Вначале было все хорошо?
— спрашивает Ночь спокойно и доброжелательно.
Так не спрашивали Надю. Все спешили, все торопились. Спешка убивала интерес. А что рассказывать, коли в глазах собеседника видишь явное нетерпение, если даже он не говорит прямо: "По существу давайте, ближе к делу, к делу”. Словно жизнь ее вся была не по существу. Не было жизни, осталось только дело, уголовное дело…
— Ведь хорошо было сперва, да? — настаивает Ночь.
— Да, было и хорошо, — начинает отвечать Надежда, — без хорошего и жить невозможно.
Ты права, Ночь, стоит вспомнить хорошее, чтобы совсем не увянуть, чтобы знать: есть для чего жить.
Память словно обрадовалась разрешению отбросить страдания, стала живо подкидывать то, что дорого было и радостно.
— В школу я пошла позже других, — продолжает Надя свою исповедь Ночи, — бабка упустила. К восьмому классу в интернате постарше была своих одноклассниц, поздоровее. Вот и поступила в строительное училище. Стала штукатуром-маляром, отделочницей.
— Нравилась работа?
— Как сказать? Руки поначалу очень болели. Покидай-ка раствор на стены, да разотри мастерком. К вечеру не чувствуешь их, рук-то. А раствор как таскали! И все ведь бабы, мужики у нас на стройке все специалисты, раствор не носят. Придет к концу смены мастер-мужик, поморщится: там неровно, здесь мало, что вы, девоньки, день-то делали? А нормы крутые. Особенно трудно зимой. Переодевались на холоде. А роба такая, что поставь — стоит, не гнется и не падает даже. Какая тут любовь? Но привыкли, работали. Заработок был, это главное. Да я здоровая была, сильная, отдохну — и в кино еще успею, читать любила. Общежитие хорошее у нас, девчата подобрались стоящие, следили все за порядком. Красиво у нас было, по-домашнему. Дружно жили, хорошо.
— А муж? Работали вместе?
— Нет, Георгий в селе жил. Послали нас однажды в подшефное село. Поработали месяц, там и Георгия встретила?
— Полюбила?
— Конечно. Ладный парень. Невысоконький, правда, но видный. Сильный, крепкий такой, волосы смоляные, кудрявые, лицо веселое, глаза смеются. К матери своей привел меня, она болела сильно, обрадовалась мне, за дочку признала, приласкала, а я на ласку отзывчивая, мало видела ее. Нравилась мне его мать, жалела я ее, угодить старалась. Как она сына звала, до сих пор помню. Покличет, как ручеек зажурчит сказочный: "Георге-е, Гео-ор-ге-е”. Нам бы в деревне остаться, с матерью, может, все было б иначе. Не захотел Георгий, в город со мной подался, говорил, задаром ломаться не хочу. Оно и верно, порядка в селе у них было мало в те годы. Но город-то его и сломал.
— Как сломал? А ты где была?
— Где я была? Да рядом и была. Не справилась, не смогла. Не знала, как быть. Сама в семье не жила, откуда мне было знать? Своего ума не хватило, а подсказать некому. Где, скажи мне, таких, как я, ополовиненных, учат семейной премудрости? А надо учить, ох как надо. Пока я своим умом до всего доходила, кончилось мое счастье…
— Не спеши, не спеши, — останавливает Надежду Ночь, — мы договорились разобраться, как случилось, что ты здесь. У тебя дети. Двое. Веруня и Димка. Значит, на Георгии жизнь не сошлась клином. Да и с ним что случилось, рассказывай, не торопись.
— Хорошо, слушай. Георгий был деревенский, понимаешь? Там были для него все свои, он с людьми считался и с ним тоже. В городе по-другому стало. Я строила чужие квартиры, а жили мы по углам, снимали жилье. Пока Веруни не было, ничего, мирились. С ребенком стало трудно. Георгий в мехколонне работал, выпивали там многие, да скрывались, а у него хитрости никакой — дважды попался, перевели в слесаря. Как ремонт, так бутылка. И не спешил Георгий к семье. Пьянствовать стал по-настоящему.
— А ты молчала? Не боролась?
— Боролась, — усмехнулась Надежда, — это в книгах: борьба за любимого, за семью. Поборись поди. Я слышала, что надо к людям, к общественности то есть. Пришла в профком к ним. Пришла. Как меня там встретили, вспомнить стыдно. Еще бы, зачем им чужие горести. Нет, на словах все было правильно: "Примем меры”, — сказали. И приняли. "Разберись, Георгий, с женой, — сказали, — чего она кляузничает?" Тогда он впервые руку на меня поднял. Хоть росла я сиротой, но не били меня, никто пальцем не тронул. Страшно было мне и стыдно. Потом плакал, совесть еще была. Прощения просил, простила. Семья, думаю, ребенок. И еще верила: бросит пить, одумается. Комнату мне дали. В бараке, правда, да я ее быстро обиходила. А тут мать его умерла. Я с больной Веруней сидела, поехал он один мать хоронить. Возвратился с деньгами — дом продал. С горем притих немного, прикупили кое-что в комнату, приоделись. Просила-просила, ушел с мехколонны, устроился в мастерские жестянщиком. Выпивать вроде меньше стал, но пил все-таки. Я помалкивала, терпела, а его затягивала водка, опутывала. Мои воздушные замки разрушала быстро. А окончательно подкосило нас горе. Веруне было уже два года, и я решилась на второго ребенка, беременна я была.
— Разве это горе? — Ночь не скрыла удивления.
— Вот теперь торопишься ты, Ночь. Это была радость. Знала я, как плохо одной, и не желала этого дочке. Пусть будет у нее родной человек, — так думала и сказала об этом Георгию. Он тоже был рад. Готовился, ждал сына. Кроватку купил. Роды зимой ожидались, он рамы в барачной нашей комнате сам сменил, утеплил двери. Внимательнее стал, ласковее. Но попивал все же. И горе — вот оно, с водкой рядом ходит, в обнимку.
В декабре я Димку родила, в самые морозы. Лежу счастливая, спокойная. Что передач, поздравлений нет — меня не волнует. Георгий один дома с дочкой, думаю, залурхапся. Я к вниманию непривычная, баловать было некому. И предчувствий никаких у меня, ну ничего дурного мне в те дни не думалось, а несчастье меня пасло, как глупую овцу. И то сказать, неделя быстро прошла, поправилась я, Димка тоже здоровенький, на выписку пора, а не выписывают, и словно глаза все прячут от меня, не глядят прямо. Женщины в палате смотрят жалостно, подкармливают кто чем. Я благодарна им, а забеспокоилась.
Тут девки мои из бригады передачу послали, письмо. "Мы тебя встретим, — пишут, — ты не волнуйся”. Какое не волнуйся, меня уж колотит. И пуще всего неизвестность пугает. Чувствовать стала, скрывают от меня что-то. С Георгием, думаю, беда. К врачу прибежала. Взмолилась. Врачиха пожилая такая, усталая. Голову опустила. "Скрывай, — говорит, — не скрывай, а сказать придется. Муж твой девчонку поморозил и сам сбежал”. Я так и села. Как поморозил? Где Веруня? Жива ли? "Жива дочка твоя, — успокаивает врачиха, — в больнице она. Ты побудь у нас, пока не окрепнешь. Глядишь, и муж вернется. Со страху сбежал он, не иначе. Вернется”.
Ах, как мне было плохо, как плохо мне было! Сколько слез я пролила с той ночью, с больничной. И засобиралась на выписку. Тоска грызла — что с Веруней?
Встретили меня девчата, увезли домой, обласкали, с Димкой остались, а я в тот же час побежала в больницу к Веруне.
В роддоме меня берегли, здесь же встретили иначе. В белом халате толстуха отхлестала словами: "Бросила, — говорит, — ребенка на пьянь, всю жизнь теперь слезами умываться будешь. Оставили девчонку без ног”.
— Как без ног?! — покачнулась Ночь, затрепыхалась от ужаса, от непоправимости. — Как без ног?!
— Тебе слушать страшно, Ночь, а я пережила это. Нет, я переживаю и не могу пережить. Выпил Георгий крепко, еще захотелось. Ребенка посадил на санки, да от пивнушки к пивнушке повез. Неведома жалость морозу. Прихватил Верунины ножки. Когда добрые люди схватились да забрали санки с ребенком, уж поздно было. Увезли Веруню в больницу и ножки спасти не сумели — отняли обе ступни, калекой стала Веруня в неполные три года.
Как я не умерла там, в больнице? Как жить осталась?
От крика зашлась, повалилась. Испугалась толстуха, врачи сбежались, отходили меня.
— А-ах, — закачалась над Надей Ночь, заломила руки, застонала, ведь была она женщиной, Ночь, и были, видно, где-то рожденные ею дети. Может, и Надежду признала она за свое дитя, потому и не бросила одну среди всех, и сидит, и говорит с нею, и плачет…
— Руки на себя наложить хотела, — продолжала Надя, не щадя Ночь, — дети остановили, испугалась сиротства их. Добрела до дому, а там малыш верещит. Тяжко ему, помощи моей просит. Как во сне жила, машиной была для ребенка. Девки мои помогали, подруги. Не обошли заботой. Еду носили, утешали, с ребенком сидели, когда к Веруне я бегала. Та кроха в больнице отошла, беды своей не знает, играет в постели, смеется. А у меня душа на части разрывается, боюсь ей в глаза глянуть. Пришло время, забрала ее из больницы. Стали мы в бараке втроем бедовать. Хотя что я говорю, тогда не одни мы были. Помогали мне, жаловаться грех. Соседки сочувствовали, подкармливали нас. Картошку, капусту, сало носили. Мужики и те — дрова подколят, уголь кто-то привез — до сих пор не знаю, кто, а привезли. Добра в людях много, ничего не скажешь, да у каждого заботы свои и немалые.
Схлынул первый ужас, попривыкли к моему несчастью. Видят, живу, перебиваюсь как-то. Один на другого надеяться стали мои благодетели, так и осталась я одна постепенно. Деньги мои декретные к концу подходили, сбережений и запасов не было. Продала кое-что: ковер, приемник, вазочка была у меня одна хрустальная — отдала за тридцатку. Нету ценностей больше, не на что кормиться, на работу надо, а куда мне детей девать?!
От Георгия ни слуху ни духу. Испугался ответа, сбежал и глаз не кажет. А может, стыдно и страшно было, кто его знает.
Всякое я передумала. Иной раз, думаю, вернулся бы — простила, лишь бы помог детей поднять. Нет, не появлялся Георгий.
Трудно мне было. Но не знала я, что горе мое многосерийным окажется и только первая его серия преходила, другие будут страшнее, а жизнь все будет снимать и снимать новые серии…
На работу мне надо было выходить. То есть отпуск мне еще полагался, но кормить нас некому было. Пошла в наш профком. Помогли сразу, спасибо. Димку в ясли устроили. А с Веруней как быть? Куда только не совалась, кого не умоляла! Не было такого учреждения, куда бы не толкнулась. Сочувствуют, да, а помочь — ну никто. В детсад не берут — калека. В дом ребенка просила взять до весны хотя бы — нельзя, мать есть и не пьяница, не развратница.
’’Няньку наймите”, — так сказал мне один начальник, не помню уж кто. Это мне-то няньку нанять?! Где ее взять, во-первых, чем платить — во-вторых?! Я сама на картошке сижу, да манку себе на воде завариваю, вермишель. Няньку…
Ночь молча слушала, колыхалась, гладила Надежду, укрывала, баюкала, но заснуть не давала. Закрыла измученная Надежда глаза, затаилась, а Ночь темными своими пальцами разлепила ей веки, требует: "Говори!”
— Димке два месяца исполнилось, унесла его в ясли. Собираюсь на работу. Натопила тепло, усадила Веруню на топчан, мне к тому времени сосед топчан расширил, доски набил и барьерчик сделал — манежик вроде. Веруня, бедняжка, на нем и обитала. Раны на ножках у нее затянулись, пытается она встать на ножки, да не может — ступо-чек нет, больно култышки. Упадет на кровать, плачет, и я вместе с ней реву. Но ребенок же, привыкла понемножку, вставать не стала, все ползком по топчану.
Вот в таком виде я должна ее оставить на целый день и работать идти.
Затопила печь, говорила уж. Да, знаю, к вечеру вынесет тепло. В миску картошку положила, хлеба, прянички были. Молоко налила в одну бутылку, в другую воду, сосками Димкиными закрыла бутылки. Веруня смеется, хватает все — думает, игра такая. А я заледенела, даже слез не было. Ноги ватные, сама, как автомат. Поцеловать дочку не могла, стыдно: будто предаю ее, на погибель бросаю.
Выбежала из комнаты бегом, соседку в сенях встретила, та руками всплеснула: "Лица на тебе нет, Надя, не убивайся так, я сегодня, может, пораньше с работы сорвусь, пригляжу за Веруней”.
Как я тот первый день отработала — убей меня, не помню.
Отпустили меня пораньше и прибежала я домой. Подхожу к своей комнате — тихо. Так тихо, будто нет живого человека внутри. Открываю дверь, открыть не могу, руки трясутся. Зашла, наконец.
Господи, врагу не пожелаешь, что я там увидела. У двери, прямо на холодном полу спала моя дочка. Зареванная, грязная, мокрая. Плохо, видно, ей стало в загончике, сумела калека перевалиться через бортик, упала на пол, да там и осталась. Цела в чашке картошка и молоко не тронуто, только прянички разбросаны по топчану. Значит, вскоре после моего ухода упала Веруня и провела день на барачном полу. Беспомощная, голодная, несчастная моя девочка…
Невзвидела я свету, волчицей завыла, схватила дочку…
— К милосердию твоему взываю, Господи, — зашептала Ночь смутным голосом бабы Вали, — к милосердию…
— Думаешь, не было этого? — зло спросила Надежда, но Ночь не ответила, тихо заскользила к решетке, потянулась к окну и исчезла за мутным стеклом, захлестанным весенним дождем, как слезами.
Не хотела больше слушать? Кончились силы? Так или иначе, но оставила она женщину и не дала ей забыться ни на минутку. Не было и здесь сострадания.
Ушла ночь.
Камера просыпалась.
Это был самый тяжкий момент — пробуждение.
Сон уносил женщин в другую жизнь. Знакомую, незнакомую, цветную или черно-белую, радостную или горестную — важно, что в иную.
Где они были?
Откуда возвращались?
Почему сегодня баба Валя начала новый день со своего вечернего причитания? А Шура так усердно задирает вверх бесформенные, даже утром отечные ноги — это утренняя гимнастика. Шура свято верит: гимнастика ей поможет, и терзается, что не всегда находит в себе силы заниматься. Сейчас нашла. Что, приснились ей скорые уже роды?
Почему молчит горластая Ирка? Уставила глазищи в грязный потолок, заложила руки за голову и не орет, как обычно: "Подъем! Выходи строиться!" Притихла. Чем угостил ее сон?
Октябрина старательно чешет роскошные свои волосы, перебрасывает со стороны на сторону — массажи. Многолетняя привычка не оставляет ее и здесь. А глаза опухли, полуприкрылись водянистыми красными веками, дань вчерашним слезам скопилась в мешках под глазами, и лицо кажется совсем серым в серых же утренних сумерках. Но расчесывает женщина, ублажает, нежно ласкает свое богатство — волосы. Серебристо-пепельный палантин обнимает плечи, полощется — направо, налево, направо, налево… Не от него ли появляются светлые блики под зарешеченным окном? Не он ли согрел Октябринину душу, оживил во сне, поднял с казенного ложа и воззвал к новому дню?
Зинуха уже проделала нехитрый утренний туалет, подсела к Надежде, коснулась ласково и сочувственно.
— Что ты так стонала во сне? — спросила. — Снилось дурное? Не печалься, смирись. Чем хуже — тем лучше, запомни. Хватит тебе терзаться. Какой-никакой, а выход в твоей жизни. За три года Димка подрастет, не оставят его добрые люди. Веруню государство тоже выкормит, что бы ты сама-то делала с ними? Себя пожалей. Выйдешь-то, опять тебе ломаться!
Зина-Зинуха! Да не сыпь ты соль на открытые раны! Дай передохнуть, ведь только что пытала Надежду Ночь, пыткой пытала, разбередила душу и горит до сих пор голова, словно адский котел. Неужто новый день обернется старыми муками? К милосердию взываю, Господи!.. К милосердию…
Иди, Зинуха, на свои нары. Иди себе. Жди свою судьбу, не касайся других.
На Зинухины сочувственные слова Надежда не ответила, промолчала. Та повздыхала, погладила серое одеяло, отошла.
А Надежда знала: это не только жалость. Себя Зинуха выверяет на ней. Вот-де стоит ли мне печалиться, когда у соседки такое творится?! Оно и выходило, если подумать, что не стоит.
На воле у Зины-продавщицы оставались мать да дружок. С матерью проблем не возникало, у той была своя жизнь, по всей видимости, беспечальная. Жила она далеко от здешних мест, где-то на Севере, имела другую семью, где Зине давно не было места. Оно и к лучшему обернулось, не томила Зину хоть эта забота. На дружка она тоже махнула рукой. В лучшие-то времена приваживала бутылкой да угождением, а сейчас что? Парень — вольная птица, а девок в округе — пруд пруди, сами напросятся. Болела, конечно, душа. Не просто так Зина парня этого привечала — любила. Тосковала вначале, мучилась. Память у Зины была девичья, короткая, отбросила все плохое, подкидывала лишь доброе, а оттого было еще тяжелее. Но камерная жизнь довольно быстро спустила Зину с небес на землю, тем более, что статья у нее была серьезная — обвиняли ее в получении взяток. И Зина обмирала, слушая радио, где то и дело громили взяточников, рассказывали о суровых карах для них и вообще разъясняли, какая это мерзость — взятки. Безжалостная Ирка, камерный юрист, накаркала ей не менее восьмерки. Господи Боже мой, восемь лет! Что будет с ней за этот срок, если выживет она, если вытерпит только.
— Время такое, Зинка, — авторитетно говорила Ирка, — в неудачное для нас, воров, время ты попалась. Видишь, страна вся в перестройке. Все жулье к ответу призвали. Вот и ты попалась, мало тебе не будет. Очистимся, наконец, от скверны! — и хохотала, издеваясь над побелевшей Зинухой.
Зина, конечно, понимала, что надо ее наказать. Но не могла взять в толк, почему ставят ее в ряд с теми, о ком говорило радио. Вон, должности продавали за многие тысячи и в золоте купались. Деньги, говорят, в землю закапывали. Один деятель государство целое себе устроил, даже тюрьма своя была, издевался над людьми.
Здесь вот, на людях, и спотыкалось Зинухино сознание. Все о взяточниках слышанное и читанное было во вред людям. Что значит купить должность? Покупатель ищет выгоду в этом лично для себя, а продавец знает, что подлеца над людьми ставит. Как ни погляди, а от этого плохо людям. Закрыли Зинуху, как злостную взяточницу, а она все же в толк не могла взять, чем перед людьми провинилась так сильно, что сразу в тюрьму. Ну, выгнали бы ее с работы, да проработали в торге, там бабы зубастые, отхлещут что надо.
Ведь с чего все началось? Поставили ее старшим продавцом, радости много было. Стала она кредит оформлять. Это, конечно, не то, что за прилавком стоять. Люди к ней с уважением, уже по отчеству величают.
Уважение человека меняет. Стала Зинуха-продавщица Зинаидой Павловной, личико построжало, и носик вроде даже не такой остренький стал, а круглые птичьи глаза глядели с достоинством. И дружок перемену заметил, поласковей. Ну, жизнь наступила с перспективою. Зине за двадцать немного, за плечами десятилетка, курсы продавцов, да пять лет трудового стажа. А тут и повышение. Заметили старание, спасибо. Подумывала Зина уже и о техникуме. А что? Не хуже других.
Ну в каких книгах у судьбы записано было, чтобы загуляла соседкина дочка и повинилась матери: ребенка, мол, жду, давай срочно свадьбу. Покричала соседка, одинокая бабенка, поплакала, стала свадьбу дочке готовить, чтоб как у людей. Деньжат, само собой, у соседки нету и занять-то негде, с жениха тоже спрос небольшой — только из армии вернулся и на ноги встает. Пришла соседка к Зинухе: выручи, родная, не допусти позора на материнскую голову. Дочка одна, да с грехом замуж идет, надо по-людски все сделать. И то. Какой девчонке не хочется свадьбу свою попраздновать, платье надеть красивое и чтоб поздравляли все, радовались. Хочется каждой, знала Зина по себе.
— Чем помогу, соседка? — ответила поначалу Зина. — Нету денег и у меня. Сама знаешь мои доходы.
А соседка уж с готовым планом пришла. Ты, говорит, оформи мне кредит, Зина, на ковер дорогой. Я ковер не возьму, деньги мне дашь из кассы. А я потом через свою бухгалтерию рассчитаюсь, на два года кредит ведь.
Магазину какой убыток? Еще и прибыль пойдет, проценты мои государству будут от меня. И у тебя показатель выше. Нечасто ковры-то у вас такие дорогущие народ выкупает.
Зина руками замахала: что ты, что ты, как можно, а соседка в слезы: выручи. Подмочила слезами честную Зинину репутацию, уговорила. Принесла все справки, честь по чести, оформили ковер. С большой опаской Зина соседке деньги выдала. Благо, касса тоже на ней была и не узнал об этом, как ей казалось, никто.
Справила соседка свадьбу, пришла к Зине с благодарностью, кофту принесла. Ненадеванная кофта, говорит, мала мне, зря лежит. Возьми, говорит, за выручку. Поот-некивалась Зина, а взяла. И кофта понравилась, и негусто у нее в гардеробе было. Соблазнилась, одним словом.
Прошло время, все спокойно, и Зина о своем прегрешении забывать начала. Соседка только и напоминала, все кланялась при встрече. Постепенно и сама Зина, забыв былые страхи, стала думать: помогла, выручила бабу, и ничего в том особенного нет, что малость нарушила правила.
И вот подходит однажды к ней пожилая продавщица, дождалась, пока рядом никого, и говорит:
— Сделай, Зина, доброе дело. Брат мотоцикл покупает, а денег не набрал. Оформи ему кредит, он тебя не забудет, отблагодарит:
Заартачилась было Зинуха, да продавщица наблюдательной была. Я, говорит, знаю, что ты своей-то знакомой сделала такой кредит. Отчего мне помочь не хочешь?
Короче, опять Зина сдалась. Принес продавщицын брат справки с работы, оформили и ему кредит, выдали деньги. Мялся, мялся парень и сунул Зине в стол четвертную. Слаба оказалась продавщица, взяла и деньги. Еще пару раз пришлось ей такую операцию провернуть, и все по просьбе, да по слезной, не просто так.
А благодарность-то, Господи Боже! Разве за деньги Зинуха правила нарушать стала? Просили люди, она и помогала им. Думала, что ж тут такого? Обернулось же вон как. Записали ей в обвинении, что злоупотребляла она служебным своим положением и за взятки неоднократно совершала нарушения.
Согласна была Зина: нарушала, да. Но зла никому не хотела.
Где было людям денег взять на срочную нужду? Есть закон, чтоб ее за помощь им наказать, да нет закона, чтоб пошли эти люди куда положено, да заняли бы деньги спокойно, баз нарушений. И платили бы тот четвертной в кассу, а не Зине, он и не нужен ей.
А то как получается? Закрыли Зину, грозятся долгими тюремными годами, а она людям-то навстречу пошла. Позарез им нужда была в деньгах, и кругом от такой сделки убытки были: за кредит проценты с них шли, но и это пустяк, раз нужда поджимала…
И вот как ни раздумывала Зина, как ни раскаивалась в том, что нарушила, а в один ряд со взяточниками ставить себя не могла.
Потому и больно было издевательство Ирки, и жила в душе надежда: разберутся, поймут. И коль накажут, то на так строго. Надежда то уверенно поселялась в ней, то слабела, а вчера с приходом Октябрины и Нади пропала совсем, исчезла.
Стала примерять злостная взяточница Зинуха свою судьбу к тюремным годам. Октябринина десятка ее ужаснула, а вот Надины три года вроде как обнадежили. Как же, Надя вон чего наворочала!
Не сравнить с ее преступлением, как ни смотри, а не сравнить… И все равно страшно.
— К милосердию взываю, Господи… — опять закряхтела баба Валя, и Ирка беззлобно шикнула на нее:
— Чего это ты с утра завела!
Старуха замолкла.
В бедной событиями камерной жизни вчерашний день был особенным, из ряда вон выходящим. Раньше более или менее определенной была только судьба Шуры, но и она надеялась на перемены. Беременность, думала, все же должны учесть. Утешение сл'абое: видела она в колонии беременных и детский сад. Слабое утешение, но было.
Теперь определились еще двое: Надя и Октябрина. Минет срок для кассационного обжалования и скажут им: "Выходи с вещами”. Увезут, раскидают…
Баба Валя, Ирка и Зинуха с особой тревогой ждали теперь своей участи: что-то будет…
Скудный завтрак съели быстро. И потянулись длинные минуты томительного ничегонеделанья, такого непривычного, раздражающего, готового к любому, самому страшному взрыву. Привыкшие к постоянному беспокойству и заботам женщины, даже блатная Ирка, выискивали занятие, чтобы скоротать время, которого всегда хронически не хватало и вдруг стало так нестерпимо, никчемно много. Так никчемно много никому не нужного времени…
Необычно серьезная Ирка подсела к Надежде, тихонько спросила:
— Вспомни, когда твое дело закрыли?
— Двадцать дней ровно, — подумав немного, ответила Надя.
— А обвинительное когда принесли? — опять спросила Ирка.
— Дней пять спустя, а что?
— Быстро, — вздохнула Ирка, — чего же мне тянут? Больше недели как дело закрыли, обвиниловки нет.
— Ты ж не одна, да и дело побольше моего. У меня — один том, а вам, поди, наворочали.
Слушая Надю, Ирка кивала, соглашаясь, лишь при последних словах усмехнулась без обычного ерничества. Беспокоилась Ирка, ясное дело, и сегодня это было видно.
— Я, Ириша, полмесяца обвиниловку ждала, — вмешалась в разговор Октябрина, и голос у нее был заискивающий, смиренный.
Ирка отмахнулась, вновь обратилась к Наде:
— Жалобу писать будешь?
Надежда молча пожала плечами.
— Пиши, — убежденно сказала Ирка, — чем черт не шутит, пока Бог спит. Проси отсрочку. Вдруг дадут. Запросто. Таких случаев сколько хочешь.
Я слышала, как поутру тебя Зинуха настраивала: мол, пусть государство детей растит, а ты живи спокойно. Не слушай эту дуру малахольную.
Ирка говорила тихо, но в маленькой камере и шепот слышен. Зина не утерпела, обиженно крикнула в ответ на упрек:
— Как понимаю, так и говорю. Что она с этими детьми делать будет? Молчала бы ты, беспутная. И не обзывайся, нашлась тоже.
Удивительное дело, Ирка смолчала, не воспользовалась случаем затеять ссору, развеять скуку. Даже головы не повернула, продолжала разговор с Надей:
— Пиши жалобу. Страшно мне за твоих детей. Девчонку твою жалко. Я ведь тоже калека: у меня души нет, как у нее ног. Отняли у меня душу. Калеки мы…
Что такое случилось с Иркой?!
Грубая, циничная, безжалостная Ирка прямо с утра и ни с чего вдруг расслюнявилась, скисла.
Притихла камера.
Нет, не к добру Иркины излияния. Впервые за время долгой совместной отсидки Надя взяла Иркину руку — и поразилась тонкости девичьего запястья, безжизненной холодности хрупкой бледной руки с четко проступающими синими прожилками.
Боль ткнулась в сердце. Когда же эта рука успела стать преступной? Что стряслось с этой чужой дочкой, какие ветры повалили это — видишь руки — слабое деревце?
Не так проста блатная Ирка. Видно, пряталась в шелуху приблатненности тоже раненая душа.
— Брось, Ириша, что это с тобой сегодня? Все наладится, ты молодая совсем. Спасибо тебе на добром слове, — начала утешительную речь Надежда.
— Попкова, на выход, адвокат ждет! — раздалось в дверной амбразурке. Ирка выдернула руку, натянулась, словно струна. Загремели засовы, суетливо вскочила Октябрина. Больше никого не вызвали, Ирка поникла, отвернулась от двери.
— Сука, — без злобы, равнодушно сказала она вслед вышедшей из камеры Октябрине, и повернула бледное узкое лицо к Наде. Странно блестели глаза, металась в них боль, а голос оставался бесцветным.
— Видишь, Надя, эта сука того и гляди вывернется. Как от мамки, так до ямки, поняла?
И вдруг голос ее взвился:
— Пиши жалобу, дура, просись к детям, просись!
Это было больше похоже на Ирку, но голос тут же упал, она молча отошла, села на свое обычное место и опять уставилась в окно не мигая…
Настолько необычным было ее поведение, что затаились, сжались женщины, сидели тоже молча, не зная, как вести себя, что сказать. Не знала и Надя. Чего это ради Ирка простерла на нее свое покровительство? Правда, и раньше она отличала Надю от всех, не затрагивала, не дразнила, и все же сегодняшняя вспышка была тревожащей и заставляла думать: может, еще более тяжкие испытания готовились ей и детям? Может, многоопытная Ирка что-то знала, а она, Надя, нет? Что будет, что будет?!
Видно, недаром томилась Ирка, день выдался событийный, и вскоре вслед за Октябриной вызвали, не объясняя причины, Ирку. Она побрела к двери, не ко времени вялая и апатичная.
Стали ждать их возвращения. Беременную Шуру взволновали события, она тяжело дышала, расхаживала по камере, уперев руки в поясницу, отчего небольшой еще живот грубо и некрасиво выпятился, обтянулся застиранным, вздернутым спереди платьем.
Зинуха опять подсела к бабе Вале, и обе они, как большие вороны, следили за беготней Шуры, враз поворачивая головы.
На Надю никто не смотрел. Итак, жалоба. Ирка требует написать жалобу. Вчера Надежда была твердо убеждена: ничего не надо. Никаких жалоб. Ее право на жалобу ничьей ответной обязанности не вызывало. И незачем новые унижения, через них не обрести сострадания.
Так было вчера.
Ночь начала разрушать эту позицию, а Ирка продолжила…
Кто-то ведь способен и должен понять, почему все случилось?
Надежда прикрыла глаза, и тут же к ней вернулась ушедшая Ночь, окутала на миг прохладой, так что поползли по телу жгучие мурашки и содрогнулась Надина плоть в ожидании воспоминаний.
…Поднимая дочку с холодного пола, она думала: край. Все, пришел конец. Уж этого ей не пережить. Но Веруня, судорожно всхлипывая, с недетской силой вцепилась ей в плечи. Так, с дочкой на руках, приготовила Надя ужин, накормила кое-как Веруню, убаюкала и сама легла одетая, не сумев отодрать дочкины руки от платья.
Спала ли, нет ли — кто знает. Помнит лишь, что с ужасом ждала утра, когда снова надо будет бросать дочку одну. Так долго думала и боялась, что отупела к утру. Безвыходность ее ожесточила.
Без обычной ласки, без уговоров отцепила от себя сведенные страхом детские пальцы, посадила дочь на топчан, разложила еду и вышла, оставив за спиной отчаянный крик.
Душу свою она кидала в тот день на кирпичные стены, сердце кровоточащее растирала мастерком по красному кирпичу…
С топчана Веруня больше не падала: калеки понятливы. Но щебетать перестала. Молчала, не улыбалась, встречая мать. Огромными на худеньком личике глазами следила за Надей, серьезно смотрела, неулыбчиво, и поселилось во взгляде недетское знание, которым отгораживалась Веруня от всех и смущала. Даже соседка, забегавшая помогать Наде, не выдержала, сказала: "Не девка у тебя — прокурор. Ишь, глядит-то как”.
Под строгим Веруниным взглядом жила Надя как на эшафоте, с постоянной бедой и виной, и некуда было деваться от этого.
Ходила опять то туда, то сюда. Рассказывала, просила: помогите. Нельзя, невозможно оставлять увечного ребенка одного на целый день, сгинет девчонка, тронется умом, говорить уж не желает, а умеет ведь. Никто не прогнал, но никто и не помог.
А беда не ходит одна. Объявился вдруг Георгий. Грязный, небритый, опустившийся окончательно. Поплакала, отмыла его, побрила, в чистое одела, оставила дома. Видела, что вина его грызет, надеялась, что переломится Георгий, будет ей опорой и помощью. Ошиблась опять.
Ходил устраиваться Георгий на работу, перебирал места. И однажды домой не вернулся. Хватилась Надя — зарплаты ее в комоде нет. Осталась с детьми без копеечки. Заняла денег немного, дотянула кое-как до аванса, о муже ни слуху ни духу. В аванс свидание состоялось. Встретил ее Георгий недалеко от барака, пьяный, страшный. Стал денег просить. Отказала: жить с детьми надо, долгов полно, дрова на исходе, а февральские ветры продувают щелястый барак, как сито. Объяснила терпеливо, в глаза заглянуть пыталась, к совести взывала. А он, не дослушав, хвать из руки ее сумку — и в переулок. Там, в сумке, не только хлеб и молоко для Веруни, там аванс весь находился, все восемьдесят рублей, пятерку только истратить успела Надежда.
В отчаяньи зашла в милицию, отделение близко от дома находилось. Дежурный на жалобу развел руками: муж да жена — одна сатана. Вы, мол, все равно помиритесь, свои люди, разбирайтесь сами. Ушла ни с чем. Снова в долги влезла. А у кого занимать-то? Все в Надином бараке одинаковые богатеи, да и в бригаде тоже. За комнату платить копейки, а и то задолжала, комендант предупредил: не порти показатели.
Благо еще Димка в яслях на пятидневке был, сыт и ухожен. О себе не думала, вся забота была о Веруне.
Месяц всего один прошел, а стала Веруня как старушка, ничему не рада, улыбаться, говорить перестала. Смотрит так, что душу вынимает и рвет на мелкие частички.
Георгий глаз не кажет, но до Нади доносится: бичует мужик, пьет, на себя не похож. Толкнулась опять в милицию и ушла с чем пришла: посерьезней там дела, не стали слушать.
Сильно Надя весны ждала, оттепели.
Тяжко вечером видеть, как Верунька в темноте на своем топчане лежит, зарытая в тряпье до глаз. Зимний день короткий, темнеет быстро. Пока добежишь до дому — совсем ночь.
Пробовала Надя свет на день в комнате оставлять. Заметил комендант, оговорил: "Еще раз увижу, штраф получишь. Богатая какая, целый день свет палить”. Про Веруню и слушать не стал, глаза выкатил: "Пожар наделать хочешь?!”
Ну что ты будешь делать? И никто не видел, как заходила Надя в темную холодную комнату, откапывала дочку из-под одеял и пальтушек. Веруня тоже мать не щадила, прятаться стала, злиться. Одичал ребенок совсем.
Ждала Надя, когда день прибудет, потеплее станет. Но пришла беда —отворяй ворота. Вместо тепла в марте грянули морозы. И прибежала однажды нянька из ясель: Дима сильно заболел, забирай домой, лечи. Легко сказать. На одних руках все заботы и дети: калека да в жару пацанчик трехмесячный.
На саму Надю смотреть тогда страшно было. Высохла вся, одни глаза остались, а в глазах отчаянье. Вот у нее еще какая свобода была, этой свободы ее тоже лишили теперь. На три года. Решай, кто прав: Зинуха или блатная Ирка. Просить у суда отсрочку или плюнуть на все, отоспаться да покушать по часам? Пайка-то тюремная Надежде не страшна. И работы она не боится, оттрубит свое, за ней не станет. Зато не кхыкает рядом горящий в жару Димка, и не следят за нею непонятные и пугающие дочкины глаза.
И, наверное, не дураки этот закон придумали, чтобы ее на три года от детей оторвать, от мук мученических ее. Помощи не дождалась она, нет. Ну вот и пусть будет как будет. Время лечит, закроются ее раны, даст Бог, привыкнет без детей, будет жить в свое удовольствие. Тоже мне, нашли наказание!
Накачивалась злостью Надежда, аж зубы скрипели, сжимались кулаки: пусть, пусть.
Куда вот хотя бы сейчас она с детьми? Куда?
Начинать по новой этот адов круг? По новой?!
Нет, лучше сгинуть, исчезнуть, пропасть совсем, чем пережить снова то, что уже случилось.
Решено: никаких жалоб. Ничего, ни звука. Три года, а дальше посмотрим. Собственно, за нее и так уже решили. И пусть так будет. С кем бороться-то? Против чего? За что? Пора кончать.
Конечно, пора.
Тем более что клацнули задвижки, и камера получила обратно свою самую дерзкую обитательницу — Ирку.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять ее состояние. Побелели и раздулись крылья тонкого носа, лицо и шея взялись красными пятнами, сузились глаза и черные брови сошлись в одну широкую линию.
В таком состоянии человека лучше не трогать. Особенно если этот человек — Ирка.
Ни на кого не глядя, прошла она к своему излюбленному месту, уселась, отвернувшись, длинно и грязно выругалась, так что баба Валя испуганно прикрыла ладошкой свои вялые губы, а Надежда покачала головой.
Вот оно. Предчувствия не обманули Ирку. То-то утром она разнежилась, чуяла себе неприятность и крепко получила, видно по всему. Расспрашивать побоялись.
Повисла в камере новая тишина. Да, новая. В этой комнате тишина бывала разной. Только что, до прихода Ирки, она была ячеистой, своей для каждой из женщин, и разделяла их. Сейчас тишина стала общей, тягостной, ожидающей. Изредка сквозь зубы Ирка цедила что-то непонятное, непристойное и злое, но эти реплики странным образом не нарушали общую тишину.
Затаились все, затревожились. Шло время, и вот снова громыхнули запоры, впорхнула в камеру оживленная Октябрина:
— Все, девочки, — громко сказала она, — составили кассационную жалобу. Адвокат, скажу вам, толковый парень, прямо в корень смотрит. Такой своего добьется. И губа у него не дура, — Октябрина кокетливо повела плечами, засмеялась.
— Уймись, кобыла, — злобно крикнула Ирка, а Шура из своего угла заговорила примирительно, незаметно для Ирки делая Октябрине знаки промолчать:
— Правда, подруга, повремени немного. Голова прям раскалывается, поясницу сегодня у меня утром еще разломило, кабы не рассыпаться. Что за день сегодня, Господи, не знаю.
Октябрина поняла, примолкла, обвела всех внимательным взглядом, подсела к Надежде, зашептала:
— Надя, правда, адвокат хороший. Хочешь, я за тебя попрошу, он и тебе напишет жалобу?
И, видя, что Надежда поморщилась, заторопилась:
— Знаю, знаю, о чем ты. Не беспокойся. Мои уплатят адвокату, так что не думай. Так как, договорились? Он через день опять придет, и я скажу.
Окрыленная адвокатскими обещаниями, Октябрина готова была облагодетельствовать весь мир, не только Надежду. Не получив ответа, она принялась шепотом расспрашивать, что случилось без нее в камере. Надя так же тихо ответила, что никто ничего не знает, вызывали куда-то Ирку, которая вернулась вот в таком разъяренном виде и рявкает на всех.
Октябрине очень хотелось поделиться своими новостями, но никто не изъявлял желания слушать. Женщины понимали, что новости у Октябрины были неплохие, и никому они нужны не были, потому что как бы увеличивали их собственные беды. Такое уж эгоистичное горе было у каждой. Зла друг другу они не хотели, но и крупицы добра, перепадавшие кому-то, казались им отобранными лично у каждой из них.
Поерзала Октябрина и тоже притихла.
Тянулся, тянулся унылый серый день, но, как кончается все, подошел и он к концу. Как всегда, первой приметой наступающей ночи был ужин, потом забеспокоилась баба Валя, зашептала истово: "К милосердию твоему взываю, Господи, богородица, заступница страждущих, молю милосердия твоего…”
Старухина молитва была как сигнал к переходу в иное состояние, и женщины стали готовиться, собираться к новому мироощущению — кто с надеждой, кто со страхом, кто как.
Надежда ждала свидания с ночью, и владело ею такое чувство, словно стоит она на прозрачном блюдце одна, и у ног ее — бездна, нескончаемая пустота. Нет никакого мира, нет земли и неба, ничего нет — только она на стеклянном блюдце под пропастью и над пропастью тоже.
Сжималось сердце от неизбежности катастрофы, ожидавшей ее при любом движении, а страх вдруг прошел. Она приняла решение, и страх, рожденный неопределенностью, исчез. Надежда знает, что скажет, если снова ее будет допрашивать Ночь.
Уже когда улеглись, подала голос Ирка:
— Октябрина, дай пилку.
— Зачем тебе на ночь глядя? Далеко она у меня лежит, завтра достану, — попыталась отказать Октябрина.
— А я говорю, дай! — в Иркином голосе послышалась угроза, она села на нарах, нащупывая ногами ботинки: — Я все ногти пообкусала, давай пилку, швабра!
Октябрина знала цену Иркиным угрозам, торопливо приподняла матрац, пошарила где-то в своих тайниках. Блеснула белая ручка, Ирка не поленилась встать, забрала пилку у Октябрины, которая всем видом своим выражала недовольство, но смолчала.
— К милосердию взываю твоему, Господи Боже и богородица, заступница… — шептала баба Валя, и вскоре начала перемежевывать свою молитву громкой, с пр Истоном, зевотой. Устала от безделья, от волнений баба Валя. И все устали.
Ждали ночь.
И куда ей деваться — пришла опять. Она приходила и будет приходить всегда. К гениям и убийцам, во дворцы и тюрьмы — всюду. И всегда.
На этот раз Надя встретила ее во всеоружии. А чего распинаться? Расчувствовалась прошлый раз, выворачивала душу, плакала: пойми, пожалей, рассуди. Зачем? Кому это надо? Все решено. И если Ночь вновь потребует объяснений, она скажет раз и навсегда: нечего подавать, иди себе с Богом. Иди туда, где, как говорят, живут по-людски, где играют в красивые взрослые игры, самые разные, которые называют жизнью. Где нужна именно ты, Ночь.
Здесь требуется милосердие. Злую отповедь готовила Надежда, не зная, с кем имеет дало. Многоопытная Ночь сделала вид, будто не покидала Надежду и не интересовалась принятым в муках целого дня решением. Она просто спросила: "А почему? Почему повезла ты Веруню?”
Вот как хитро спросила Ночь. Нельзя не ответить. Вопрос конкретный, без рассуждений. И не имеет отношения к тому, что Надежда решила смириться. Обидный вопрос: "Почему повезла Веру?”. Его уже задавали, и много раз, и все с одной целью: вот сейчас она скажет, что замышляла худое, преступное. Это против Веруни-то, за которую кровь по капельке — хоть сейчас возьмите.
А повезла — что же делать было? Или — или, так стоял вопрос.
…Когда заболел Димка, хлебнула она горького до слез. Все, казалось, против нее: мороз, ветер, безденежье, болезнь сына и взрослые пугающие глаза дочери-калеки.
Пришла к Димке участковая врачиха, поглядела на Надино житье, головой покачала, вызвала "Скорую” и увезла Димку в больницу.
Конечно, ему там лучше. Опять Наде бежать на работу и сил нет Веруню оставить. А та глаз с нее не спускает. Молчит, а взглядом следит неотрывно, странно.
Думала-думала Надя и решила счастья попытать у родной матери. Так решила: привезу, в ноги брошусь, умолять буду, чтобы присмотрела немного за ребенком, сжалилась. Не чужая ведь, мать все-таки.
Пошла к соседке, та ее поддержала. Конечно, не откажет мать, поможет. Денег немного дала соседка.
Купила Надя билет в общий вагон и в пятницу вечером села с Веруней на поезд, а на следующий день к обеду уже к матери стучалась.
Напрасно надеялась. Совсем другая жизнь была у глухонемой Надиной матери. Пожалуй, посложнее, чем у самой Нади. Ясно видела она: нет, нельзя девчонку здесь оставлять, никак нельзя.
Прожила у матери два дня, истратила на кормежку последние гроши, что на обратную дорогу имела. Понедельника дождалась и с утра в исполком. Что ты! Как услышали, что не в этом городе прописана, и говорить не стали. "Устраивайте ребенка по месту жительства”, — так сказали. Значит, нигде не нужна калека, ни здесь, ни там. Хоть с пропиской, хоть без — один черт.
Вечером уехала Надя. Билет до полпути взяла, денег больше не было, и у матери ни гроша, сама помощи просит. Накормила Веруню, уложила на полку, сама головой в столик уткнулась, ночь скоротала. Тем утром и переполнилась чаша.
Чуть свет контролеры пришли, а Надя свою билетную станцию проехала еще ночью. Призналась, что надо дальше, а билета нет. Штраф потребовали, не верят, что нечем платить. Принципиальные попались контролеры, уж такие принципиальные. На первой же остановке высадили Надю с ребенком.
Ну почему? Отчего она такая невезучая?! Так обидно, так горько ей стало. И опять подумалось: зачем, кому нужна жизнь ее и муки. Умри она, Надежда, и все изменится к лучшему. Возьмут Веруню в больницу ли, в интернат ли. Протезики сделают, научат ходить. Не будет Веруня одна в темноте оставаться. Говорить опять станет. От дум этих окаменела вся Надежда, а голова работала четко, составляла план Надя, составляла и составила.
Отводилось ей в этом плане самое последнее место, и меньше всего она о своей судьбе в те минуты печалилась. Так устала, что любой покой, даже смертный, благом казался, жаждала душа покоя любой ценой.
Но слаб человек. Как медленно исполняла задуманное. Смотрела чужими глазами и видела Надежда себя со стороны. Вот сидит она на железнодорожной желтой скамейке в чужом городке. Вокзал почти пуст, и скучающие пассажиры с любопытством оглядывают незнакомую женщину с ребенком. Странно, что такой уже большой ребенок не бегает, не просится на пол, смирно сидит рядом с матерью. И, наверное, всем заметно, что не приласканы жизнью эти двое, слишком не похожи на плакат о счастливом материнстве и детстве. Веруня между тем беспокоиться стала. Простые нужды у нее, но неотложные.
Встает Надежда, заворачивает Веруню, медленно выходит на привокзальную площадь. Огромными буквами сделаны вмятины в низком туманном небе — название станции. Машинально складывает Надя буквы и тут же забывает прочитанное — зачем ей? И вообще, она ли это? Себя ли видит?
За площадью дома — кирпичные красные пятиэтажки. Сколько таких прошла Надя со своим мастерком! "Кирпичные — хорошо, — отмечает мозг, — лестничные площадки теплее, щелей, как в блочных, нет".
Накатанная, разъезженная площадь за ночь подмерзла, превратилась в каток. Ноги оскальзываются в блестящих от льда колеях, и Надя боится упасть, уронить Веруню, закутанную в тяжелое одеяло. Долго-долго бредет через площадь женщина с ребенком.
Вот, наконец, дом. Но сюда нельзя. Верхняя филенка в двери выбита, кое-как заделана фанерой. Нет, нет, прочь! Здесь холодно и грязно в подъезде.
Надя бредет дальше по улице, бракуя один дом за другим. Там неухожен — плохие, нехозяйственные люди живут, равнодушные. Дальше, дальше! Вот дом всем хорош, но гонит от него Надю стоящая у подъезда новая "Волга”. Сытый голодного не разумеет.
Движется дальше Надя, прижимая к себе ничего не подозревающую Веруню. Дочку-калеку, которая с минуты на минуту станет сиротой. Потому что иногда сиротой быть лучше: потому что милосердие избирательно и капризно; потому что кто-то изрек вселенскую глупость: жалость унижает человека. Изрек, ибо был жестоким и не желал никого жалеть. Изрек, ибо был ленивым и не хотел обременять себя жалостью.
Но жалость жила без законной прописки, и на нее-то рассчитывала Надя, разыскивая подходящий дом.
Вот нашла наконец. На лестничных маршах нет окурков, площадки чисто помыты. Тепло. Поднялась на четвертый, предпоследний этаж. Раскутала Веруню, оставила в пальтишке, расстелила одеяло в углу, усадила дочку, прикрыла спинку, ножки. Молчала Веруня, молчала Надежда. Глянула на дочку в последний раз, поклонилась поясно: "Прости меня, доченька”, — сказала это или подумала только, не знает.
Ушла, дверь за собой потихоньку прикрыла и бегом, бегом к станции, туда, на рельсы, к последнему средству спастись от беды, унять разрывавшую сердце боль, уничтожить ее вместе с собой. С постылой, никому не нужной жизнью… Непривычно легкими были руки, и бег был стремительным, и не скользили ноги, и сердце летело впереди ее — туда, туда, скорей туда, где кончатся эти муки…
Она бежала все быстрее, испытывая нестерпимое желание немедленно, сию же секунду быть смятой, раздавленной, уничтоженной. Сию же секунду, сейчас, немедленно, уверенная, что все так и произойдет, как задумано.
То есть она оставит дочку в чужом подъезде и бросится под поезд. Дочку заберут, а ее похоронят. Димка никогда ничего не узнает. Незачем обременять его заботами о сестре-калеке, незачем знать и трагедию матери. Так она решила и так будет. Первую часть плана она уже выполнила, сейчас будет поставлена последняя точка. Сейчас…
Как вкопанная, остановилась она на перроне.
Не было поезда!
Она не могла немедленно убить себя, потому что не было поезда!
Почему-то такая возможность ей в голову не приходила. Она остановилась, огляделась недоуменно. Где? Где поезд, который должен лишить ее жизни? Как же так? Она подкинула дочь и должна умереть, она уже должна быть мертвой, иначе Веруня не может сидеть одна на лестничной площадке чужого дома! Раз жива мать, ребенок не может там быть!
Назад, назад, к дочке — рванулась было Надежда и остановилась, словно пораженная. Не смертью, но не менее страшной картиной: снова лежала Веруня на холодном барачном полу, в темноте…
Нет, дело сделано. А поезд, что ж, поезд еще придет.
Надо только подождать немного, еще чуть-чуть потерпеть.
Время для нее остановилось, не существовало ничего вокруг, кроме той дали, откуда она ждала избавления.
— Женщина, женщина, вам что, плохо? — голос вывел ее из оцепенения. За рукав пальто Надю держал мужчина в форменной фуражке. С беспокойством заглядывая ей в лицо, он пытался оттереть от края платформы, надвигался на Надю, напирал мощным торсом.
— Идемте, здесь нельзя вам стоять, идемте в медпункт, — продолжал мужчина настойчиво.
Надя оглянулась, увидела направленные на нее взгляды — уже несколько человек остановились рядом, наблюдали. Это было нестерпимо. Она резко вырвала руку, бросилась в зал ожидания, села на скамью, отвернувшись от людей. Мужчина в фуражке не оставил ее, сел рядом, спросил:
— Может, в медпункт все же? Или я фельдшера сюда подошлю, а? Вы не стесняйтесь, — мягко уговаривал он Надю, и она боялась поднять глаза, чтобы не зарыдать в голос от этого неожиданного сочувствия.
Мужчина посидел еще рядом, помолчал, потом опять тронул ее за рукав:
— Я дежурный по станции. Если что — заходите. Поможем. Только не надо глядеть так страшно. Горе-то, оно у каждого бывает. Никто его не минует. Держись, бабонька.
Он ушел, но что-то от него осталось. Как будто Надя была уже не одна. И к той, единственной мысли, присоединилась другая: Веруня. Есть еще время глянуть на дочку, увидеть, как она. Не обидел ли кто? Что с ней?
Надя пыталась бороться с этой мыслью, с желанием сейчас же бежать к тому кирпичному дому, где сидит ее дочка — молча сидит, привычная к одиночеству, к холоду, к неприютному миру.
Ведь еще было время.
В конце концов, не один же поезд проходит здесь. Будут и другие после того, как она только глянет на Веруню, только убедится, что она жива и ничего плохого с ней не случилось…
Раздиралось опять Надино сердце, раздваивалась душа. Опять ничего не вышло с задуманным, а казалось, так просто: раз-раз и конец. Она еще и не решила, как поступить, а ноги уже вынесли ее на площадь, над которой утренний туман осел, название станции висело теперь в предвесенней небесной синеве. И было совершенно незнакомым и бессмысленным. Это отчего-то ужаснуло Надежду.
Чужое место выбрала для нее судьба, совсем чужое и с нелепым названием.
Волнения и бессонная ночь лишили Надежду последних сил. Тяжело поплелась она через площадь к красным домам, которые, как оказалось, стояли не рядом, а почти далеко.
Но вот он, кирпичный дом, где выбита филенка на входной двери, вот и другие, что забраковала она для своей задумки.
А вот и тот, Верунин. Возле дома скалывала лед с тротуара женщина в ватнике, прекратила работу, внимательно глянула.
Надя под этим взглядом рванула на себя дверь и едва вошла в подъезд, почувствовала: нету. Веруни уже нет там, на четвертом этаже. Стояла в подъезде неживая, мертвенная тишина, не бывает такой, если находится близко ребенок.
Второй, третий, четвертый этаж. Пусто! Пусто! Нет ребенка! Никогда — ни раньше, ни потом не было Надежде так страшно. Не отрывая взгляда от пустого угла, попятилась она, едва не упала. Спустилась, держась за перила, боясь повернуться спиной к месту, где оставила дочку.
Внизу, у конца ступенек, не могла оторвать руки, цеплялась за гладкое дерево лестничных перил. Она еще слышала, как хлопнула дверь, а потом на нее осел утренний белый туман, который был теплым и плотным.
…Очнулась от холода, резко охватившего лицо.
— Полегчало тебе, сестра? — спросила женщина, которую она уже где-то встречала. — Можешь подняться-то? Соберись с силами, давай ко мне, вон дверь открыта.
Где-то далеко качался открытый дверной проем, и Надя встала, поддерживаемая женщиной, шагнула к нему по ускользающему из-под ног клетчатому полу. Долго-долго, много лет шли они в обнимку с незнакомкой к дивану, покрытому зеленым вытертым одеялом.
Там Надя легла, и женщина молча раздела, разула ее, поставила в изголовье крытую полотенцем табуретку, где были маленькие пузырьки и большая кружка с дымящимся чаем. Мокрое полотенце прошлось по лицу, по груди, по рукам Нади и сняло оцепенение. Затряслась Надя, аж застучали зубы, стала возвращаться к ней утраченная было сила, поднялась на диване, села, но женщина молча протянула ей горячую кружку и запахло чаем, мятой, этот запах уловили шершавый язык и пересохшее горло, которое судорожно сжалось. С трудом поднесла Надя кружку к губам, глотнула. Приходила в себя медленно, оглядывала украдкой скудно обставленную комнату.
Хозяйка не заговаривала, и только когда Надя поставила на табуретку пустую кружку, женщина тихо спросила:
— Твоя девочка-то?
Надя кивнула и каким-то неведомым ранее чутьем поняла по вопросу, что с Веруней не случилось плохого, что эта женщина не желает и ей зла. От сознания этого стало вдруг легче, открылись слезы, задерживались ненадолго в темных впалых глазницах и заливали посеревшие щеки.
— Что с ней, где дочка? — сумела спросить сквозь слезы.
— Успокойся, — ответила хозяйка, — увезли твою дочку в добрые руки, ничего худого. Да как же решилась ты, сестра? Как надумала больное дитя бросить?! Расскажи-ка, облегчи душу. Вижу я, не от хорошей жизни ты появилась у нас. Меня Любой зовут, живу одна. Говори, сестра, никто нам мешать не станет.
И вот сидели они, две женщины. Надежда и Любовь. Две женщины. Без надежды Надежда и Любовь без любви. Надо же было так встретиться. Видно, Надина горькая судьбина иногда промашки давала: то дядьку от самых-то рельсов забыла убрать, а теперь вот послала ей Любу, которая слушала исповедь, ахала, плакала и сморкалась в фартук, и гладила высохшее Надино плечо и жалела, жалела и называла сестрой.
Наплакавшись, Люба осуждать Надежду не стала, но сказала сурово:
— Руки на себя наложить — дело нехитрое. Прожить сумей. И детей поднять.
Взяла слово, что сохранит себя Надя. Рассказала, что Веруню люди обнаружили быстро, тут же милиция приехала, врачи. Развернули девочку да увидели, что увечная, увезли в больницу. Поняли, что брошена девчонка не случайно.
— Брошена, — только и могла ответить Надя, — море слез пролила, чтобы дочку пристроить, никто не помог. Решался ребенок совсем. А теперь вот как получается: брошена.
— Ладно, сестра, — успокаивала Люба, — пусть девочка здесь поживет.
Согласилась Надя с советом женщины: не объявляться пока, уехать домой, выходить Димку, а там начать хлопоты с Веруней. Помочь обещала Люба, в Дом ребенка сходить, девочку устроить и навещать, писать Наде о дочке пообещала добрая женщина.
Вечером же Люба в больницу сходила, куда Веруню увезли проверить здоровье. Объяснила там правду: дворничиха, мол, я из того дома, где нашли девчушку, сердце болит за нее. Сказали Любе, что девочка в порядке, не говорит только, ну и ножки, конечно, сами знаете…
Короче, уехала утром Надя, отправила ее добрая душа Люба, билет купила и еще продуктов с собой надавала.
Можно считать, с того света приехала Надежда в свой городишко, идет к бараку, ветром ее качает. Вся как выжатый лимон. Шутка ли такое пережить, сквозь сердце свое пропустить. Но уже отогрелась чуть-чуть возле Любы, о жизни думает. Как там Димка в больнице? Всего-то недели не прошло, а кажется, целая вечность. Да еще два дня прогул у нее, объясняться с начальством надо. Тревожится Надя, но тревога такая нестрашная, знает, что не будет беды с этой-то стороны.
Так бывает, что порою судьба топит в море житейских невзгод корабль человеческих надежд. Топит так основательно, что кажется все, конец. Ан нет, смотришь, поднимаются со дна какие-то щепочки веры, тонкие прутики любви и ответственности, лепятся один к другому. Глядь, вновь по жизни плывет человек на плотике надежды, и плотик может превратиться в новый корабль, если плывет с человеком добрая надежда.
Спешила Надя к бараку, думая о том, что смеркается и в комнате стужа, за один раз не протопишь, неделю не исчезнут в углу куржаки. Но сколько зиме не злиться, а конец видать. Март все же, весна не за горами, эти морозы последние.
Мысли о весне, о тепле, привычные заботы оттесняли ставшую постоянной тревогу, но она вспыхнула с новой силой, когда Надя увидела в своей комнате свет.
’’Георгий?!”
Ах, как не хотелось новых потрясений! Так не хотелось, что хоть поворачивай обратно, но куда идти измученной женщине, кто скажет, где ее ждут?
Последние дни были столь страшными для Нади, что она и не вспоминала о муже, он как бы исчез из сознания, не существовал в ее мире.
Недобрые предчувствия сжали сердце, когда увидела, что в оконной раме выбито стекло и дыра заткнута изнутри цветастой подушкой.
Дверь комнаты была закрыта, она постучала, но никто не ответил. Постучала сильнее, настойчивей и услышала голос мужа, по которому поняла: пьян.
— Кого там принесло? — язык у Георгия заплетался. — Я закрытый сижу. Хошь, так лезь в окно, там у меня проход есть…
Трясущимися руками достала ключи, вошла.
Какой же здесь был развал! Не походила на людское жилище ее комната, которую она всегда обихаживала, наряжала, содержала в чистоте. Сейчас здесь были грязь и смрад, вонь стояла от винного перегара и нечистот. Барьерчик от опустевшего Веруниного топчанчика отломан, отброшен в угол, и на детской постели в сапогах, грязной короткой телогрейке и в шапке лежал Георгий, которого узнала она с трудом из-за неопрятной щетины, скрывавшей лицо.
— Нарисовалась жена! — захохотал он издевательски громко, с какой-то скрытой угрозой.
Надежда задохнулась:
— Ты, ты… — пыталась сказать она что-то и не могла, не хватало дыхания. Она только подходила все ближе к нему, и одно желание владело ею: убрать, сбросить пьянь с Веруниной постели, с дочкиной инвалидной постели, с жизненного ее пространства, куда загнал ее этот вот человек, отец-изувер. "Ты, ты”, — повторяла она и не смогла дойти до топчанчика, не удержали, подкосились ноги, упала на колени.
И не поняла, что случилось. Не было боли, но какая-то сила подхватила ее, швырнула в угол, к холодной печке, голова взорвалась и словно накрылась алой суконной скатертью, которую у них в интернате стелили на стол в праздники. Плотная эта скатерть закрыла мир, но глаза различали красный-красный свет.
Потом скатерть свалилась, свет стал ярче, продолжая оставаться красным, и она увидела, что поперек Веруниной кровати лежит ОН. Ноги в грязных кирзухах неподвижно стояли на полу, голова неловко упиралась в стену, отчего острый подбородок вызывающе выпячивался, и черная щетина сбегала с него на тонкую шею.
Кто это был, каким именем звался — уже не имело значения. На детской кровати бесстыдно развалилось Зло.
И к Наде вдруг вернулось все: в красных рубцах изувеченные ножки дочери, недетские страдающие глаза, тот клетчатый лестничный угол с ярким пятном ватного одеяльца. Засвистел в ушах ветер, так быстро она бежала к манящим рельсам, грохотал желанный поезд, который пришел лишь сейчас, но не избавил от боли, а лишь увеличил ее, пройдясь только по отброшенной за спину руке.
…Секунда — и Надина рука, раненная острием топора, на который она упала, соскользнула на рукоять, сжала ее, не ощущая боли. Она легко встала, подошла к Веруниной постели.
И поднялась рука с топором прямо над ненавистным ликом Зла. Закрыв глаза, Надежда ударила, что было силы, и сразу разжала кровоточащую руку, но боялась открыть глаза и увидеть содеянное ею. С закрытыми глазами, не смея шевельнуться, стояла, пока вдруг не почувствовала запах сладковатой нежной сырости: это пахла кровь…
Запах сладковатой сырости… Сладковатой сырости…
Почему Надежда так ясно ощущает его и сейчас, спустя столько времени после той страшной ночи?!
Запах сладковатой сырости! Здесь, в камере, стоит сейчас этот запах, и он не кажется, он есть! Это уже не воспоминания!
Надя резко села на постели, окинула взглядом тихо лежащих женщин. И — вот он откуда, запах!
Свисала из-под серого одеяла тонкая Иркина рука, опоясанная широким браслетом красного цвета, и под этой рукой стояла темная густая лужица, источавшая тот запах.
— Ира-а, — что было мочи закричала Надежда и бросилась к неподвижно лежавшей девчонке, откинула одеяло, а под ним и вторая рука опоясана таким же смертельно-алым браслетом, и запрокинутое юное лицо спокойно, без тени страха и боли.
Вскочили разбуженные женщины. Вызывая дежурного, заорала, застучала ногами в дверь всклокоченная Зинуха. Едва увидев кровь, в голос заплакала Шура, закачалась, присела, укрывая в коленях живот, заслоняя его руками, словно прятала от ребенка страшную картину. Бледная Октябрина, растерянно озираясь, прижималась к стене, просто распластывалась по ней. А баба Валя с провисшей рукой, трясущимися губами причитала:
— Господи Боже, яви милосердие твое, к милосердию взываю…
Милосердие явилось толпой в виде дежурных, перепуганной врачихи и здоровенного фельдшера, который схватил на руки потерявшую сознание Ирку и ринулся к двери, зычно крикнув врачу: "3а мной!” — будто звал в атаку.
Потом забрали в санчасть беременную Шуру и бабу Валю, Октябрина выпросила успокоительные капли. Надежда с Зинухой обошлись и так.
В камере было светло и тихо. Ночь больше войти не посмела, прижалась вплотную к стеклу и смотрела на женщин с улицы.
Надежда спать не ложилась, начала приборку камеры, чтобы найти работу рукам и успокоиться. Собрала окровавленную Иркину постель, свернула тощий комковатый матрац и обнаружила под ним сложенный вдвое бумажный сверток.
Развернула. Прочла.
Вот, значит, зачем вызывали Ирку: ей вручили обвинительное заключение. Значит, Иркино дело уже в суде, и девчонка испугалась. Почему же и чего забоялась блатная Ирка, наглая девчонка, которой все нипочем, которая дерзостью своей держала в послушании старших женщин, которая казалась прошедшей огонь и воду и медные трубы?
Надежда принялась читать обвинительное заключение. Больше нигде не найти ответа.
Прочла, уронила на колени бумагу. Окликнула Октябрину и Зинуху: пусть знают про Ирку. Не про ту, что держалась бывалой воровкой, а про ту, что сама была обманута и обворована. Про несчастную глупую девчонку, которая так запуталась и испугалась жизни, что захотела добровольно уйти из нее.
— И сколько, вы думаете, лет нашей Ирке? — задала Надежда вопрос.
Октябрина недоуменно пожала плечами, Зинуха ответила:
— Ну, двадцать два — двадцать пять, наверное.
— Восемнадцать! — почему-то торжественно, словно это имело какое-то значение, сообщила Надя, и женщины враз всплеснули руками.
— Ну-у, — протянула Зинуха, — ну-у…
— И ни разу она не судилась, — продолжала Надя открывать Иркины тайны, — вот, в обвинительном: образование среднее, ранее не судима.
— Откуда же у нее это? — спросила Октябрина, — истории всякие тюремные, жаргон. Дерзость такая…
— Тут ларчик просто открывается. Это все подельники ее. Игорь, Василий — и оба судимы за кражи. С кем, говорят, поведешься, того и наберешься. Ох, бабы, бабы! Это где же ум-то наш бывает? Гляньте, в чем Ирка проштрафилась, гляньте и подумайте, могла ли девчонка что без этих бугаев сотворить?! И пустили, гады, паровозом, спрятались за несмышленыша. Ну где глаза-то у следователей, почему поверили варнакам, разве так можно? Ведь судьба здесь решается, да вон как круто, до смерти!
— Ну чего ты возмущаешься, — остановила Надю Октябрина, — читай вслух эту обвиниловку.
Надежда подняла листки, стала читать:
— Модреску Ирина Николаевна, обучаясь в экономическом техникуме, по поручению администрации выполняла обязанности общественного кассира и являлась материально ответственным лицом. Получая деньги от комендантов общежитий, она не полностью сдавала их в централизованную бухгалтерию, где отсутствовал надлежащий учет, и таким способом похитила 472 рубля. После разоблачения Модреску была отчислена из техникума и скрывала это обстоятельство от родителей, не уехала домой, а проживала у своей знакомой, где познакомилась с ранее судимыми Зуевым и Единчуком. Уходя из техникума, Модреску не сдала администрации запасной ключ от сейфа кассы и с целью хищения денег организовала преступную группу, в которую вовлекла Зуева и Единчука. С этой целью Модреску показала последним расположение кассы, передала им ключ от сейфа и сообщила, что в начале каждого месяца в кассе находится около 15 тысяч рублей, предназначенных для выдачи студентам и преподавателям. Исполняя преступный замысел, Зуев и Единчук позвонили в техникум, узнали о получении денег, ночью поднялись по пожарной лестнице и взломали крышу техникума, проникли в кассу, открыли сейф и похитили деньги в сумме 14 050 рублей, с которыми скрылись.
— От Ирки тоже скрылись? — изумилась Зинуха, прерывая казенные гладкие слова.
— Да, выходит, и от нее тоже скрылись, сволочи. Дальше тут написано, что поймали их в Крыму, где они веселились. А на Ирку, видишь, основную вину свалили. Получилось, что она организатор. Ах, подлецы-подлецы. Ведь наверняка подбили девчонку да обработали поначалу, поднатаскали по блатному делу, а потом натянули нос! Ах, дурочка какая, поди, и любовь тут примешали, она и поверила.
— Баба Валя номер два, — задумчиво сказала Зинуха, — прикрылись девчонкой, ворюги.
Октябрина взяла из Надиных рук документы, посмотрела:
— Батюшки-светы! Да у нее та же статья, что у меня! Хищение в особо крупных размерах! — воскликнула она.
— Неужели девчонка тоже десятку получит? Что же с ней будет тогда, подумать страшно, что с ней будет! Она же разуверилась во всем, бедняга, вон на что решилась! Что-то надо делать, слышите, женщины. Может, написать куда, бороться за Ирку надо, чтобы справедливо ее судили за то, что сделала она на самом деле. Никогда я не поверю, что Ира могла быть организатором, да еще таких парней вовлечь, вишь, невинные овечки! — горячилась она.
— Тихо, тихо ты, — осадила ее Зинуха, — забыла, кто мы сами есть? Мы ведь тоже закрытые, какая тут борьба?!
— Ничего, есть средства, есть, я знаю. Прокурору напишем, — не сдавалась Октябрина.
Надежда слушала молча, думала. Больно ударило произнесенное Зинухой Иркино слово "закрытые”. Они "закрытые”. Страшное какое, многозначительное слово. Незаконное, не имеющее права быть слово. Но ведь жизнь продолжается и, кажется, побеждает. Сколько раз спасали ее, Надю. Сегодня она спасла Ирку, отдала, так сказать, долг жизни, но не полностью. Дети на ней, их судьба, за них будет постоянный спрос с совести. И не имеет права она оставить их. Люди нужны друг другу, вот что. Вот сегодня она Ирке понадобилась, да как срочно! А раньше бедная Ирка высказала заботу о ней, о детях, Октябрина тоже предложила свои услуги, да и Зинуха права со своих бездетных позиций, неведома Зинухе материнская боль и предложение ее не подходит, но сделано оно от чистого сердца…
А она было смалодушничала. Нет, никак нельзя сдаваться, надо победить обстоятельства и уже завтра начать новую борьбу, все объяснить, попросить понять, помочь, проявить милосердие…
Ирка и баба Валя… Зинуха и Октябрина… Все они надеются, все ждут участия и жалости, потому что их преступления, их тяжкие уроки — вырванные из жизни куски, и самое в этом тяжкое их наказание.
— Как-то там Ирка? — произносит вслух Надя, и все они вздыхают, безнадежно глядя на глухую дверь.
Забыты полученные от Ирки обиды.
Горюют бабы над несчастной девчонкиной судьбой, забыв свои беды…
И удивленно смотрит на них Ночь до самого рассвета. Поистине, человек — это тайна.
Особенно, если человек — женщина.
Шло время, и судьбы женщин сложились по-разному.
Ирке не дали умереть. Но то, чего она так боялась, случилось. Назначили ей срок наказания в половину прожитой жизни. Увезли девчонку, и как в воду она канула. Одно можно сказать с уверенностью: нелегко ей живется в колонии — озлобленной, неверящей. А дальше? Что будет с нею дальше? Найдет ли ее справедливость в тех далеких краях? Что повторяет девчонка, уставив по привычке своей глаза в потолок? "К милосердию взываю?..” А может, уже другая молитва у злюки-Ирки, но кто-то ведь должен шептать за нее именно эти слова! К милосердию…
Незавидная участь постигла и Зинуху. Права была Ирка в главном: загремела продавщица под общие показатели. Не было у нее ни наград, ни детей, так что и прошедшая амнистия ее миновала. Одна надежда у Зинухи — может быть, все же изменится что-то, не будут бабам давать такие сумасшедшие сроки, проявят жалость и к ее, Зининой жизни. Но с ходом времени все страшней Зинухе идти на свободу: одна, как перст, ни кола, ни двора, не пишет никто, не ждет. Квартиры нет, лишилась. Какие были тряпки — где их теперь искать, никто ведь за них не в ответе. Куда голову ей приклонить через столько-то лет? А здесь крыша над головой, еда готовая и заботиться ни о чем не надо. И все же плачет по ночам Зинуха от жалости к себе, к своей неудачной такой жизни, которую сама сгубила по глупости. Плакать ей сладко, свою вину она уже забыла, себя винить перестала, ругает лишь злую долю и старается не переборщить при этом, чтоб не было хуже. Зачем, говорят, Бога гневить? Зинуха ни о чем не просит, не жалуется, живет тихо, так как боязно ей теперь от возможной свободы… Одна… Сможет ли?.. Крепко помнит Зинуха бабы Валины стоны: "Молю милосердия…” Но чего хочет — сама уже точно не знает. И видит вокруг — многие маются тем же страхом.
Шура родила в тюрьме мальчишку. Илюшку. Хилого, нервного и писклявого, напуганного еще до рождения. Жизнь чуть теплилась в нем, а у Шуры почти не было молока. Откуда бы ему взяться, молоку? В те редкие часы, когда женщин пускали к детям, Шура плакала, глядя на сына, и молока становилось еще меньше. Шуру ругали врачи, но что с того?
К счастью, на воле родила ребенка Шурина сестра и забрала Илюшку из тюремной больницы, стала выкармливать обоих. Шура осталась в больнице, терзалась, слабела, но вскоре суд отсрочил исполнение приговора до достижения ребенком трехлетнего возраста, Шуру выпустили и больше она не вернется в колонию: амнистия.
Баба Валя срок не получила. Штраф суд ей дал приличный и прямо из зала суда отпустили старуху. Слез было, конечно, море. Но вот что трудно сказать: не прикроет ли когда еще баба Валя своего зятя? Есть ли гарантия, что отвечают такие старухи за дело?
Адвокат Октябрины и вправду стоящим оказался. Дошел до самого верха, все снисхождения просил и добился: снизили срок наполовину. Ну и амнистия, конечно. Помните, награды были у Октябрины… Знала и она добрые времена. Когда ее уважали.
На свободе теперь Октябрина. Живет с мужем. Работать пока боится. Ее историю весь город знает, стыдно.
Особый разговор о Надежде.
Да, в тот злополучный день доведенная до отчаянья женщина решилась на убийство. В ее воспаленном мозгу, почти потерявшем возможность реального восприятия событий, пьяный муж явился воплощением зла, и она хотела разом покончить с ним. Ударила и, боясь глянуть, бросилась из комнаты. Прибежала куда? — конечно, в милицию. Трясется вся: убила, мол, мужа убила. Приняли срочные меры, поехали поднимать труп.
И еще одно страшное потрясение пришлось испытать, когда с нескрываемым ужасом вошла в свою комнату, боясь глянуть вокруг, и вдруг увидела, как отпрянул от детской кровати дежурный следователь, "труп” Георгия заголосил гнусаво, пьяно и слезливо:
— Чего вы, чего вы? Она мне голову разбила, а я же и виноват?!
— Тьфу! — сплюнул следователь и рассмеялся, разряжая всеобщее оцепенение: — Такой лоб топор не проймет! Увезли обоих.
Из больницы Георгий сбежал тут же, рана была не опасной, видно, дрогнула непривычная к злодейству Надина рука, а Георгий так больше и не объявлялся.
Надежда же твердила упрямо: "Хотела убить, разом хотела убить, не было больше сил моих терпеть от него”.
И пошла по категории убийц. Серьезное обвинение — покушение на убийство. И плюсовалась к нему оставленная на лестничной площадке дочка-калека.
Переживания ее слушать особенно было некому, следователи спешили, а тут дело небывалой чистоты: сама преступница в милицию прибежала и твердо стоит на своем: "Да, хотела его смерти”… В общем, стала Надежда преступницей. Что сделано, то сделано.
Ничто не проходит бесследно, верно подмечено. И воспоминания, и камерные события толкнули Надежду на еще одну попытку изменить судьбу: написала она кассационную жалобу. Сама написала, не связывалась с Октябрининым адвокатом. Все как было описала и ничего не просила, лишь вопрос задала: скажите, судьи, как мне жить? Мне и детям моим?
Попала та жалоба с Надиным делом к молодой судье для проверки. Случайно попала, но как не назвать ту случайность счастливой?
Ах, как не нужны на судебной работе люди равнодушные, душевно ленивые, не могущие сопереживать и не умеющие ясно представить себе картину преступления по-человечески, житейски разумно и мудро. Не отрываясь от жизни и не возвышаясь над нею так высоко, что не заметны с той высоты невзгоды и тяготы, боль, страдания и вся дорога, ведущая в дом скорби.
На всем тягостном жизненном Надином пути встречались ей добрые люди. Девчата в бригаде, соседка, дворничиха Люба и другие, а теперь вот эти судьи.
Была ясной необычность преступления. Нужно было помочь человеку, помочь срочно, немедленно и на деле, не на словах.
И было понятно, что мало освободить Надежду, надо дать ей реальную свободу жить, спокойно растить детей.
Попросили прийти народного заседателя, который работал в строительстве, показали дело, рассказали о Наде, поделились заботами. Строитель, полноватый коротышка, экспансивный и шумливый, забегал по кабинету, повторяя только: "Черт-те что, черт-те что, черт-те что!”, но яркая палитра интонаций с лихвой возмещала скупость слов.
Договорились, что его организация обеспечит Надю работой, комнатой в семейном общежитии и местом в яслях для маленького Димки. Судьи брались за судьбу Веруни.
В день кассационного рассмотрения дела зал суда был полон — постарался народный заседатель, и в полном составе явилась готовая принять Надежду бригада отделочниц. Сидели строгие и суровые зрелые женщины и молодые девчонки с округленными живым любопытством глазами. Ждали Надежду.
Она вышла под конвоем, испуганно глянула в заполненный зал. Необычность вызова — к сожалению, кассационный суд не часто пользуется своим правом вызвать и расспросить осужденного, — и теперь эти незнакомые люди в зале, откровенно разглядывающие ее, взволновали Надежду до предела.
Она боялась повторной казни и остро жалела, что написала жалобу и обрекла себя на новые муки воспоминаний и равнодушное любопытство чужих людей.
Опустила голову, отвечала односложно и вяло. Вновь все стало безразличным.
И когда, выйдя из совещательной комнаты, молодая женщина-судья срывающимся голосом объявила, что назначенное Надежде наказание считается условным и она освобождается прямо сейчас, из зала суда, Надя подняла голову, обвела всех недоверчивым взглядом.
Первой мыслью было: нет, не может быть, это происходит не с ней!
И следом пришло устрашающее: куда? Куда она теперь? Что делать ей с собою и детьми, ради которых ей дали свободу? Эта мысль резанула по сердцу, наполнила глаза болью и отчаянием.
Открыл загородку улыбающийся конвоир, Надежда нерешительно шагнула в зал, вышла из проклятой решетчатой зоны и замерла, оглянувшись на судей. Три женщины — одна молодая, с пылающими щеками, та, что читала документ, и еще две, рядом с ней — пожилые, почему-то не уходили, стояли за длинным судейским столом, а сбоку, вытянувшись в струнку, стоял в синей форме молодой прокурор: брови насуплены, а в глазах сострадание.
Надежда хотела хоть что-то сказать им, но не успела, потому что вдруг увидела себя среди сидевших в зале людей, за рукав ее держал низенький лысоватый мужчина и говорил что-то, из чего она поняла только: зовут. Ее зовут с собой.
Мир не без добрых людей. И не светит ли солнце для всех одинаково?
1991 г. Москва.
По факту исчезновения

ЧЕТВЕРГ 7.30
Серенькое утро кисеей занавешивало окно, когда Георгий Иванович Печказов проснулся. Вставать не хотелось, он долго лежал, глядя, как за оконной рамой медленно тает ночной мрак. Вместе с мыслями о предстоящем дне приходилодавно знакомое раздражение. Георгию Ивановичу предстояло сейчас надевать вставную челюсть, натирающую десну, с притворным непониманием выдерживать вечно укоризненный, испытующий взгляд жены. После недавнего телефонного звонка с угрозами встречу с Зоей придется отложить. А Зоя, ах, Зойка! — лицо Георгия Ивановича на мгновение просветлело, — Зоя дарит ему пусть минутное, но ощущение бодрости, подтягивает его, 57-летнего, до высоты своих 26. Но этот гнусный звонок! Женский голос, нарочито искаженный, лишь выкрикнул в трубку угрозы, но не может же… Додумывать — значило окончательно испортить себе настроение, и Георгий Иванович стал медленно одеваться. Да, с Зойкой придется повременить: хорошо, хоть с Леной он давно и окончательно определился. Теперь она ухаживает за мамой, и, кажется, неплохо. Георгий Иванович усмехнулся: охотно пошла в домработницы, а поначалу сколько амбиции было! Видимо, щедрость его Лена помнит, несмотря на двухлетнюю разлуку. — Георгий, — негромко позвала жена, — завтрак на столе, а я побежала. У меня сегодня утренний прием. Жена была стоматологом в детской поликлинике. "Утренний прием — это хорошо, — отметил про себя Георгий Иванович. — Значит, вечером встречать не нужно, и вечер мой". Печказов всегда встречал жену после вечерних приемов: она часто задерживалась и боялась темных улиц. Жена ценила его внимание, и в конечном счете от этого выигрывал сам Георгий Иванович. Ему многое прощалось. Да и он берег жену, безусловно, берег, понимая, что в подступающей вплотную старости идеальные условия жизни может создать ему только она, а уж никак не молодые его подружки, только и умеющие что заглядывать в карман. Оставаясь один, Печказов вставную челюсть не надевал, и ранний уход жены означал хоть непродолжительную, но свободу от тягостной красоты. Позавтракав, Печказов вышел из квартиры и уже замыкал входную дверь, когда раздался голос поднимавшегося по лестнице человека: — Печказов? Вздрогнув от неожиданности, Георгий Иванович обернулся. — Да… А в чем дело? — Поговорить надо. Милиция. — Ступенькой ниже стоял еще один человек. ’’Неужели Тихоню накрыли?” — лихорадочно метнулась мысль. И тут же Печказов одернул себя: "Спокойно. Спокойно. Не суетись!” Загремела цепочка противоположной двери — соседи выходили на работу. Печказов заставил себя дружелюбно взглянуть на нежданных посетителей. — Спешу. Поговорим по дороге, — и стал быстро спускаться вниз. Не хватало еще, чтобы соседи увидели его с милиционерами! И без того разговоров не оберешься. На улице, вопросительно глянув на спутников, Георгий Иванович вдруг заметил, что в глазах второго парня мелькнула какая-то неуверенность, даже испуг, но первый тут же спросил: — Вы подавали заявление об угоне машины? Печказов удивился, едва не рассмеялся и окончательно успокоился: — Никоим образом! Моя старушка, думаю, цела. Пойдемте вместе взглянем. Во дворе дома, где в углу скромно приткнулся его железный гараж, располагался пункт "Скорой помощи”. Печказов с трудом отвоевал это завидное место — и близко, и двор хорошо освещен, круглые сутки обитаем — горожане не дают дремать "Скорой”. К гаражу подошли молча. Печказов тронул рукой накладные замки — один был стандартный, другой сделан на заказ — небольшой шестигранник с хитрым запором. Двери гаража прикрывались неплотно. Печказов глянул в небольшой зазор между створками. — Цела, — он с улыбкой обернулся. И снова — показалось? — мелькнула растерянность в глазах второго, высокого. Первый приложил руку к светло-коричневой пыжиковой шапке. — Ошибка, значит, вышла. Извините.ЧЕТВЕРГ 8.30
Лена, Елена Андреевна Суходольская, медленно собиралась на свою работу. Собственно, на работу — слишком громко сказано. Не считать же в самом деле работой то, чем она занята теперь. Лена брезгливо передернула плечами, вспомнив неопрятную, детски-радостную старуху, с которой ей предстояло провести день. Это занятие так ей опротивело, что закрыла бы глаза и — куда угодно, только прочь из этого дома! Подумать только, за какие-то три года Эмма Павловна из молодящейся, властной дамы превратилась в развалину, не может обслужить себя, всё пачкает, рвет, а какой идиотский смех… Лена вспомнила те давние вечера в квартире Эммы Павловны Мавриди, куда ее впервые привел случайный знакомый — Марик, так, кажется, его звали. Привел — и оставил, а она прижилась в этом доме. Ей нравилась тяжелая старинная мебель, рояль — внушительный, грузный; нравилась хозяйка — в тяжелых золотых серьгах, с унизанными перстнями старческими ухоженными руками. Нравилось бывать ей, девчонке, среди взрослых, солидных людей, которые весьма скоро стали откровенно волочиться за нею и одаривали довольно щедро. Впрочем, щедро ли? Она видела, какого достоинства купюры небрежно швырялись на стол, когда иногда возникала карточная игра, где предводительствовала Эмма Павловна. Ее муж первым затеял с ней игру в ухаживание под одобрительные взгляды супруги. Лена постепенно стала чем-то вроде хорошенькой домашней официантки в этом доме. Появились деньги, наряды, даже кое-какие золотые украшения — цепочки, колечки, сережки. На подруг по общежитию, где она устроилась, приехав в город из небольшого поселка, Лена стала смотреть свысока — что они понимают в жизни? Закончилось все неожиданно просто: однажды ночью внезапно умер Мавриди. Его вдова сразу полиняла, утратила величавость, стала суетлива и забывчива. Вечера в квартире прекратились. А вскоре и у самой Эммы Павловны случился инсульт, ее положили в больницу, и Лену встретил в квартире Георгий — сын Эммы Павловны от первого брака — молодящийся мужчина в возрасте, заведующий крупным магазином. Он просил участия и утешения. Они стали встречаться на квартире Эммы Павловны. Поначалу часто, потом — реже, а затем Георгий и вовсе перестал ей звонить. Так оборвались все связи Лены с домом Эммы Павловны, она стала жить, как все ее сверстницы, снова поступила на работу, поначалу тяготилась, но незаметно привыкла, хотя нет-нет да и вспыхивала в ней непонятная жалость к самой себе, желание снова оказаться в центре пусть не высших, но страстей. В этот период и познакомилась она с Суходольским. Он привлек ее внимание самоуверенностью, вольными манерами, вальяжностью — словом, всем тем, что наблюдала она когда-то в прежних своих друзьях. Вновь пахнуло авантюрным романом. А когда стала она Суходольской, то очень скоро убедилась, что муж ее потрясающе ленив, мелочен, жесток и истеричен. Жить с ним было невозможно. Постоянного дома, как и семьи, не получалось. Долго работать на одном месте он не мог, часто устраивал себе длительные "отпуска”. Случалось, появлялись у него деньги, и тогда он держался с Леной важно и значительно. Такая вот жизнь Лены — ссоры, скандалы, разводы и примирения приводили к прогулам, опозданиям. Да, впрочем, работой своей она никогда и не дорожила. Лену корили, ругали, и она в конце концов взяла расчет. Несколько месяцев жила "по друзьям и знакомым”, пока не попала вместе с Суходольским к его приятелю. Тут-то и разыскал ее Георгий. И вот она снова в доме Мавриди. Лена глянула на часы. Ого, уже скоро десять, надо торопиться. В это время всегда звонит Георгий, справляется о матери. Елена поправила белокурые пушистые волосы, подкрасила пухлые губы, слегка припудрила маленький нос — готово. Можно отправляться. Ставшая постоянной тревога остановила ее у двери. Лена присела на табурет в неухоженной чужой прихожей. ’’Нет, — подумала она, — надо искать выход, что-то снова придумать. Иначе плохо…” Зябко вздогнув всем телом, она отбросила тягостные мысли и вышла в начинающийся мартовский день.ЧЕТВЕРГ 9 часов
Филипп Тихонович Албин проснулся позже обычного: в главке его ждали только к десяти. А значит, была возможность поваляться. Несколько минут он еще полежал, прислушиваясь к самому себе. Порядок. Легко выбросив натренированное тело на пушистый ковер, Албин включил магнитофон, под бодрую музыку тщательно и с удовольствием проделал гимнастику, принял душ, побрился, похлопал себя по гладким глянцевитым щекам, раскрыв рот, внимательно оглядел свой язык — показатель здоровья. Язык Албину понравился, да и сам он себе понравился — подтянутый, стройный, налитый молодой силой — а ведь уже близился сорокалетний рубеж. Албин жил один. Семья, полагал он, лишь усложняет и без того сложную жизнь. Квартиру ему регулярно убирала старушка-соседка, добросовестность которой он щедро вознаграждал, и они были довольны друг другом. Облачившись в синий, с иголочки, костюм — хорошие костюмы были его слабостью, — Албин собрался было покинуть свою уютную квартирку, как вдруг раздался телефонный зврнбк, и ему пришлось вернуться в спальню. — Слушаю, — мягкий баритон Албина вкатился в изогнутую кремовую трубку. Благодушие покидало Филиппа Тихоновича по мере того, как он слушал — молча, внимательно, изредка кивая, словно собеседник мог его видеть. — Так, — наконец произнес он. — Понятно! — возле свежих губ обозначились резче две поперечные злые складки. — Сам все решу сегодня, — и с досадой швырнул трубку на аппарат. ”Ну вот, — подумал Албин, — опять предстоит беспокойный день”. И зачем связался он с этими бестолочами — гребут деньги, греют руки, а сами не могут принять никакого решения и боятся, боятся… Что за трус этот завмаг?! Доля у него приличная, прикрыт хорошо, а все истерики закатывает по любому поводу. Придется крепко поговорить. Порвать нельзя — много знает и хороший рынок сбыта имеет. Завмага терять нельзя, но припугнуть — самая пора. "Увяз коготок — всей птичке пропасть”, — скажет он сегодня и еще кое-что скажет, найдется, что сказать, чтобы не зарывался этот завмаг. Знает ведь, что сбыт для них — самое узкое место, вот и капризничает… С невеселыми мыслями Филипп Тихонович Албин вышел с совещания. В раздумье он направился к проходной завода "Радиоприемник”, где занимал немалую должность в отделе сбыта. День действительно выдался хлопотным.ЧЕТВЕРГ 9.30
Наступило утро. Арнольд Францевич с облегчением открыл глаза. Наконец-то можно не притворяться перед самим собой, будто спишь. А спал ли он в эту ночь, да и в предыдущие? Закроет глаза, лежит, а мысли одолевают. Ночь проходит медленно, как в бреду. Утром и не поймешь, приходил ли сон, удалось ли забыться, или он принял за сновидения, свои не проходящие и ночью фантазии. В последние годы ночи стали для него сущим мучением. В старости признаваться не хотелось — какая может быть старость, если не угасли желания, если мысли, что вечером встают у изголовья, — молодые, яростные, сладостно-греховные. Пора бы, конечно, пора угомониться, но вот поди ж ты, прилепилась к сердцу эта Зойка — не оторвешь никак. Начиналось все славно. Зойка принимала подарки. А если подарок дорогой — Арнольд Францевич тяжело заворочался в постели, — сколько нежности было, сколько ласки. Но и хитра была Зойка! Удавалось ей обманывать всех, встречаясь с этим проклятым "Миллионером”, — только так называл он своего соперника, укравшего Зойкино расположение. Ревность мучила Арнольда Францевича, жгучая ревность к "Миллионеру”, к другим мужчинам, окружавшим Зойку, ко всем, кроме ее мужа. Странное дело, он не ревновал ее к мужу, этому молодому увальню, для которого чертежи и расчеты какого-то станка заслоняли все. ’’Жила бы спокойно с мужем, так нет, вертит хвостом, ни гордости, ни чести”, — зло думал он, не замечая нелепости своих рассуждений. Как бы то ни было, а нужно что-то предпринимать — больше такие муки терпеть невозможно. Да еще эта проклятая печень — ноет, ноет, не утихает, равно как и сердечная боль. Уже неделя, как он на больничном, думал подлечиться, отдохнуть от вечной заботы в мастерской, уладить дела с Зойкой, но ничего пока не получалось. "Надо действовать, — думал Арнольд Францевич. — Пусть знает, что он настоящий мужчина, не рохля, может посто-ять за себя. Так было всегда и будет сейчас, чего бы это ни стоило". Решительные мысли понравились, придали силы. Он встал с постели, попытался сделать зарядку, но отказался от этой затеи, почувствовав, что боль в печени усилилась. Сыновья — двое холостых жили вместе с ним — уже ушли на работу, жена ночевала у третьего, женатого сына, помогала невестке управляться с детьми. Арнольд Францевич сам приготовил завтрак, почитал свежие газеты, задумался, глядя в окно, за которым уже начался безликий для него мартовский день — без солнца, без радости, только с тягостными думами. День будет тянуться, тянуться, потом наступит ночь — и тоже потянется мучительно медленно, заполненная лишь злобой и ревностью. — Ну, нет, — Арнольд Францевич решительно поднялся с кресла. — Нет, придется, видимо, вспомнить свою непростую молодость. "Миллионер”? И мы не бедняки. Посмотрим, как оно будет — деньга на деньгу. Стало весело и жарко от собственной решимости. Он будет действовать! Арнольд Францевич быстро натянул на тощий старческий задок фирменные джинсы "Монтана”. Надел новый кожаный пиджак. По стремянке забрался на антресоли, в углу под старым чемоданом в заветном тайничке нащупал одну из тоненьких книжечек, вытащил, бережно смахнул пыль с серой обложки, удовлетворенно крякнул, глянув на проставленную от руки сумму вклада — этого будет достаточно! Накинув бежевого цвета дубленку — в начале марта утрами примораживало, Арнольд Францевич задержался в прихожей у зеркала, хмыкнул недовольно — из зеркала глянул на него сухонький старик с желтоватой — проклятая печень! — кожей, вислым хрящеватым носом, с тонкими губами. Только глаза, маленькие и острые, глядели молодо и пронзительно из-под темных неседеющих бровей. Он вышел на улицу. Действовать.ЧЕТВЕРГ 20 часов
Вначале тревоги не было. Нелли Борисовна, убрав квартиру, приготовила ужин, с минуты на минуту ожидая мужа, накрыла на стол. Несмотря на прохладную погоду, раскрыла балконную дверь, чтобы сразу услышать, когда с лязгом закроется гараж. При открытом балконе хорошо слышится стук закрываемых металлических ворот гаража, которые нужно с силой прихлопнуть, чтобы вставить в скобы навесные замки. Однако Георгий Иванович сегодня явно запаздывал. Настенные часы пробили девять, затем десять раз — муж все не шел, тихо было у гаража. Пришлось закрыть балкон — с улицы тянуло мартовской холодной сыростью. Нелли Борисовна начинала сердиться: мог бы и предупредить, что задержится. Кажется, давно решено между ними: она не мешает ему в жизни, но ведь и он безоговорочно принял условие — не волновать ее, сообщать об отлучках и опозданиях. Принял и до сегодняшнего дня всегда выполнял. Нелли Борисовна набрала номер телефона Эммы Павловны, матери Георгия. За последний год Эмма Павловна сильно сдала, сын часто, почти ежедневно, навещал ее. Надо отдать должное, он был заботливым сыном. Возможно, матери опять плохо, и Георгий там, возле нее. Телефон Мавриди был занят. Нелли Борисовна погасила в себе раздражение — мать есть мать, Георгию нельзя предъявлять претензий. Сама Эмма Павловна телефоном пользоваться уже не могла, Лена, присматривающая за старухой, уходила в 7 вечера, значит, телефон занимал Георгий, больше некому — так решила Нелли Борисовна. Еще несколько раз попыталась дозвониться она до Мавриди — частые короткие гудки иголочками впивались в ухо — занято, занято… Около двенадцати Нелли Борисовна оделась, сходила к гаражу. Двор хорошо освещался, и ей не было страшно. Чуть раздвинув железные ворота, заглянула внутрь. Машины не было. Вновь появилась погасшая было досада. "Ну сколько можно? — думала Нелли Борисовна. — Сколько можно так жить?” Она заставила себя успокоиться, но невеселые мысли не покидали ее. Прожила с мужем более 20 лет, правда, с некоторыми перерывами, когда они расходились. И всегда прощала его измены, шла за ним, ухаживала, ублажала до новой обиды, когда заходилось болью сердце от обмана, кутежей. Почему она не могла оставить его навсегда? Почему прощала? Уже в зрелые годы поняла: не могла оставить, потому что он в ней нуждался, а ей было необходимо, чтобы в ней нуждались. Напрасно в свое время она не решилась иметь ребенка. Возможно, жизнь повернулась бы иначе… Воспоминания бередили душу. Нелли Борисовна поняла, наконец, что ей не успокоиться, приняла снотворное и уснула.ПЯТНИЦА 5.30
Разбудил ее телефонный звонок. Глянув на часы — половина шестого! — Нелли Борисовна взяла трубку: — Слушаю. Однако ответа не было, затем раздались короткие гудки. Она набрала номер Мавриди. Занято, даже в такое время — занято. "Телефон неисправен”, — догадалась она. Только так. Видимо, все же Георгий у матери и дозвониться до нее не может. Уснуть она больше не смогла, лежала без сна, досадуя на мужа, на себя, на свою жизнь с ним. Ровно в девять вновь зазвонил телефон. И снова, заслышав ее голос, трубку положили. Около 11 часов, а прием сегодня у нее начинался с 14.00, телефон опять зазвонил. Она помедлила немного, надеясь, что теперь-то, наконец, звонит он. Однако, услышав в трубке озабоченный голос Васи Урсу — заместителя мужа, забеспокоилась всерьез. Выяснилось, что Георгий Иванович не пришел в магазин к началу работы — такого с ним не случалось! Нелли Борисовна постаралась не высказать тревоги, боялась подвести мужа. Но что же случилось? Набрала в который уж раз телефон Мавриди. Опять короткие частые гудки. Быстро оделась и поехала в ненавистный дом Эммы Павловны — пора положить конец неизвестности. Дверь открыла Лена, но не торопилась приглашать ее. Нелли Борисовна, слегка отстранив Елену рукой, вошла. В большой комнате был беспорядок. Дверцы старого тяжелого шифоньера распахнуты, на стульях — груда старых вещей, горкой на полу — постельное белье. Дверь в маленькую комнату была открыта, на смятой постели сидела Эмма Павловна, не обращая никакого внимания на гостью. — Что у вас с телефоном? — строго спросила Нелли Борисовна у Лены. — Работает сейчас, — торопливо ответила та, — Эмма Павловна вчера трубку разбила. Я сегодня утром пришла, скрепила трубку изоляционной лентой, и телефон снова заработал. Нелли Борисовна, выслушав, кивнула и вновь задала вопрос: — Георгий Иванович где? Был здесь? — Не-е-ет, — удивленно протянула Лена, глаза ее метнулись в сторону. Машинально проследив за ее взглядом, Нелли Борисовна увидела на полу за раскрытой створкой шкафа запечатанную картонную коробку с магнитофоном "Коралл”. Лена продолжала: — Сегодня еще даже и не звонил. Вчера был дважды — в обед и под вечер, часов в пять. Лена помолчала и добавила неуверенно: — Мне кажется, вечером он был чем-то расстроен…ПЯТНИЦА 12.30
Вася Урсу, черноволосый, с румяными смуглыми щеками молодой мужчина, работал в магазине "Радиотовары” недавно, но был дружен с Георгием Ивановичем Печказовым, который перетянул к себе Васю из окраинного магазинчика, сделал своим заместителем. Что-то, видимо, связывало их, несмотря на разницу в возрасте. Урсу молча выслушал Нелли Борисовну, забарабанил пальцами по столу. — Н-да, — протянул он. — Неужели случилось что? У нас с Георгием Ивановичем было назначено дело на утро, забыть он не мог. Затем решительно пододвинул к себе телефонный справочник: — Извините, Нелли Борисовна, пугаться не будем, но вы врач, понимаете сами — надо звонить в больницы. — Да, — согласилась она. — Надо звонить. Диабет у него. Жалость захлестнула Печказову, едва представила мужа — больного, страдающего. "А я-то его ругала”, — корила она себя, пока Урсу названивал по больницам. Печказова не было нигде. Урсу положил наконец трубку, недоуменно подняв брови, развел руками. — Подождем еще, а? — вопросительно глянул он на Печказову. Та пожала плечами: — Не знаю, ничего не знаю. Нелли Борисовна, удрученная и испуганная, явилась на работу, но ее, узнав о происшедшем, отпустили домой. Позвонила Лена, справилась о Георгии Ивановиче, а потом, помявшись, сказала: — Мне неприятно, конечно, но я все же расскажу. Георгий Иванович дня три назад говорил мне, что ему звонила женщина и сообщила, что его грозят убить. Тут Нелли Борисовна испугалась по-настоящему. Да как она могла забыть, ведь и ей муж говорил об этом! Измученная неизвестностью, Нелли Борисовна поехала в городской отдел внутренних дел.ПЯТНИЦА 14.15
— И последнее, — полковник милиции Николаев оглядел притихших сотрудников, приподнял лежавшую на столе бумагу. — Прошу внимания. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан Волин, уловив его взгляд, понял, что именно ему предстоит работа, хотя полковник и обращался ко всем. — Вот, — Николаев тряхнул белый, исписанный крупными синими буквами лист, — сегодня поступило заявление от жены, — Николаев заглянул в бумагу, — Печказова Георгия Ивановича. Вчера утром он ушел из дому и не вернулся. — Гуляет, поди, — негромко сказал начальник паспортного стола своему соседу. Николаев укоризненно покачал головой: — Не торопитесь. Не похоже, что гуляет. Жена боится, не случилось ли с ним худого. Запишите данные и ориентируйте личный состав. После небольшой паузы Николаев продолжил: — Печказов Георгий Иванович, 57 лет, работает заведующим магазином "Радиотовары”. — Начальник ОБХСС Воронов заинтересованно поднял голову. Печказова он знал, и деятельность завмага в последнее время была ему подозрительна. — Ушел на работу утром 9 марта, — продолжал полковник. — В этот день присутствовал при закрытии магазина, затем уехал на собственной машине "Жигули” красного цвета № 37–80 ИРМ. Домой не вернулся. Сегодня, 10 марта, на работу не вышел. Машины в гараже нет. Приметы: рост 175, полный, темноволосый — волосы подкрашенные, голубые глаза. Одежда: темносерое ратиновое пальто, шапка коричневая из норки, мохеровый шарф в клетку красного цвета, черный костюм. Особых примет не имеет. Страдает диабетом. Меры к розыску принять всем подразделениям. Ответственный за розыск — капитан Волин. Возьмите заявление, Алексей Петрович, — полковник протянул Волину бумагу. — Жена Печказова ждет в коридоре, побеседуйте с ней. Все свободны, — добавил он, и участники совещания покинули кабинет. Волин вышел в числе последних, на ходу разбирая странные, елевым наклоном буквы. "Прошу принять меры к розыску моего мужа Печказова Г. И.”, — прочел он и, подняв голову, увидел сидевшую на стуле худенькую, небольшого роста растерянную женщину лет пятидесяти, с темными глазами. Следы волнения явственно читались на ее показавшемся знакомым лице. И Волин направился прямо к ней, не сомневаясь, что именно она автор заявления. После недавнего капитального ремонта старший оперуполномоченный капитан Волин получил наконец-то отдельный кабинет — маленькую узкую комнату, где едва разместились письменный стол и небольшой приставной столик, громоздкий двухсекционный сейф, о выступающую ручку которого Волин неизменно ударялся боком, протискиваясь к своему рабочему месту. Однако эти неудобства не шли в сравнение с достоинствами отдельного кабинета, где беседы с людьми получались откровеннее, обстоятельнее и, следовательно, результативнее. Капитан работал в розыске почти десять лет и успел научиться ценить доверительные беседы. Печказова робко вошла в кабинет, присела на краешек стула, огляделась без любопытства. — Капитан Волин. Алексей Петрович, — представился он несколько запоздало. — Мне поручена проверка вашего заявления. — Я знаю, — кивнула Печказова. — Ваш начальник сказал. И вас я знаю. Вы недавно сынишку ко мне приводили зуб лечить. Вот почему лицо Печказовой показалось знакомым! Точно. Был он у нее на приеме с сыном. Только без белой шапочки и халата Печказова выглядела иначе — незаметнее, что ли. — Помню, помню, — улыбнулся Волин, скосил глаза на заявление, прочел имя Печказовой. — Так что приключилось, Нелли Борисовна? Расскажите о муже. Характер, привычки, друзья, образ жизни — все важно. И главное — не утаивайте ничего, дело, видимо, серьезное, коли вы к нам обратились, а раз так — важна каждая мелочь. Глаза Печказовой наполнились слезами, она достала платочек, на миг прикрыла лицо. — Я знала, — голос женщины был полон какой-то горькой уверенности, — я знала, что с ним произойдет что-то страшное. И вот он исчез. Что-то случилось. Я уверена, с ним что-то случилось.ПЯТНИЦА 15.30
Волин мельком глянул на часы — три тридцать. Н-да. Так где же может быть Этот Печказов? Что с ним стряслось? Волин покосился на стул, где недавно сидела Нелли Борисовна. Оказывается, она знала про Печказова совсем немного — чем болел, что любил поесть, что предпочитал носить. Жили рядом много лет, а были чужими. Печказов жену к своей жизни не допускал, милостиво позволял лишь обслуживать себя — и только. И она мирилась с таким жалким положением. Теперь осталась одна-одинешенька со своей тревогой. Так где же Печказов? Нужно срочно установить связи, знакомства. Вначале следует поговорить с его сослуживцами. Это из известных. Всех остальных нужно устанавливать самому. Волин вздохнул: сегодняшний день придется уплотнить до предела — кроме намеченного ранее, еще и это, Волин понимал — неотложное дело. Пропал человек — тут уж все в сторону, надо искать. Возможно, Печказову потребуется помощь, хотя не исключено, что он никакой помощи не ждет, а напротив, от нее укрывается. Бывает и такое, тем более, что Печказов, по всей видимости, человек не простой, с секретом. Машина. Красный "Жигуленок” — приметная вещь. Волин набрал номер телефона начальника ГАИ: — Павел Игнатьевич, Волин беспокоит. Как вы решили с машиной Печказова? Выслушал краткий ответ. — Ясно, спасибо. Начальник ГАИ уже распорядился о розыске машины. Обещал немедленно информировать, если она где-то появится. Итак, связи. Волин еще раз перебрал принесенные Печказовой бумаги — печальные свидетельства множества обманов. Вот случайно оброненное Печказовым письмо — без конверта, тетрадный листок в клеточку. "Здравствуй, Георгий”, — пишет незнакомка, а далее сообщает какие-то незначительные мелочи своей далекой от Печказова жизни, пишет, что скучает без него, вспоминает встречи. В конце — "Целую. Зайка”. И дописка: "Не беспокоит ли старый скрипач?”. Значит, Зайка. Волин поморщился, представляя Печ-казову, которая нашла и прочла это письмо, а потом хранила и, судя по всему, перечитывала, бередя свои раны. Для чего? И что за старый скрипач, который может беспокоить Печказова? По какой причине беспокоить? Три анонимных письма. На нелинованной сероватой бумаге машинописные буквы через один интервал — набор гадостей и — угрозы, угрозы. Даже неспециалисту видно, что письма печатались одним лицом, на старой машинке под копирку. Печказовой отправляли почему-то второй экземпляр. А первый? Кому и зачем предназначался первый? Нелли Борисовна уверяла, что у мужа были знакомые женщины. Письмо подтверждало это. Мальцева Зоя — так именует анонимщик пассию Печказова. "Зайка” — это в письме. Зайка — Зойка — Зоя. Похоже, это и есть Мальцева. Кстати, о Мальцевой же говорила и незнакомка, которая недавно терроризировала Печказову телефонными звонками. Нелли Борисовна, по ее словам, вынуждена была обратиться за помощью на телефонную станцию — и звонки прекратились. Значит, абонента тогда нашли. Нужно найти Мальцеву и тех, кто звонил Печказовой. По всей вероятности, угрозы связаны именно с этой стороной жизни завмага. Придется отыскивать и скрипача. Интересно, сколько их в городе, старых скрипачей? В блокноте Волина появилась первая запись. И еще — очень серьезное. Во всех трех анонимках Печказов именуется "Миллионером”. Даже с большой буквы. Что это? Кличка? Ревнивые домыслы? Печказова утверждала, что живут они скромно, муж не имеет сбережений и ценностей, кроме нескольких старинной работы дорогих вещиц, которые принес от матери, когда та заболела и не могла обеспечить их сохранность. Однако Волин понимал, что Печказов многое мог скрыть от жены, так что не исключались и деловые его связи. "Узнать о Печказове в ОБХСС” — капитан сделал вторую запись в блокноте. "Ох и жук”, — с удивлением и досадой подумал Волин. Сколько тайных грешков намечается за скромным завмагом. Не очень надеясь на успех, Волин обзвонил городские больницы. Получив отрицательный ответ, собрался было позвонить в магазин — не явился ли завмаг на работу, пока его разыскивают по больницам и моргам, но в этот момент в двери показалась голова старшего оперуполномоченного ОБХСС Ермакова. — Звоню, звоню тебе. Повесился на телефоне, что ли? — обиженно проговорил Ермаков. — Да вот, — попытался объясниться Волин, но Ермаков не дал ему договорить: — Печказов? И я к тебе по этому вопросу. — Кстати пришел, я тоже к вам собирался, информация нужна, — ответил Волин. — Информация будет позже, — заявил Ермаков, — понимаешь, какая оказия. В дежурную часть только что позвонили из магазина "Радиотовары”. Там у них на складе кража — нам с тобой выезжать.ПЯТНИЦА 16 часов
В магазине их встретил расстроенный заместитель заведующего. — Урсу, — представился он, — Василий Семенович. А это, — Урсу кивнул в сторону стоявшей чуть поодаль полной женщины средних лет, — наш старший продавец, Софья Андреевна Крылова. Видите, Софья Андреевна, милицию побеспокоили, — он говорил тихо и укоризненно. Женщина не дала ему закончить: — Вы, Василий Семенович, молоды. А я тридцать лет в торговле. Георгия Ивановича нет, а у нас бригадная ответственность. — В чем дело? Кража? — Понимаете, — заговорил Урсу, — об этом речь не идет. — Но ведь дежурному сообщили именно о краже. — Ермаков недоуменно поднял брови. Урсу кивнул на Крылову: — Это Софья Андреевна дезинформировала вас. — Я?! — возмутилась женщина. — Какая же это дезинформация? — она подошла почти вплотную к Ермакову, бесцеременно отстранив Урсу. — Выслушайте меня наконец! Георгий Иванович не вышел на работу. В магазине ходят разные слухи. Вчера и сегодня мы торговали спокойно, но завтра — суббота! Наш магазин основной оборот за неделю дает в субботу, и к этому дню мы всегда готовим товар. Всегда, вы слышите, Василий Семенович, — она обернулась к Урсу, затем вновь обратилась к Ермакову: — Сегодня я пришла к Василию Семеновичу… Дело, говорю, не должно страдать, давайте мне на субботу товар, а он: "Подождем еще, может, Георгий Иванович придет”. Зачем же ждать, говорю, у нас бригадная ответственность. Вскроем склад комиссионно, Георгий Иванович не обидится. Он в торговле давно и должен понять. — А кража-то? — напомнил Ермаков. — Кража… — Софья Андреевна замолчала на секунду, оглянулась на Урсу. Тот пожал плечами. — Может, и нет кражи, но контролька-то нарушена! Я тридцать лет в торговле, — опять заторопилась она, — знаю, раз такое дело — нельзя без милиции вскрывать, даже комиссионно. Несколько цементных ступеней вели вниз, прямо к обитой железом двери. На металлических ушках-скобах висел внушительных размеров квадратный навесной замок. Чуть ниже — небольшой контрольный замочек, в скважинке которого лохматилась порванная контрольная бумажка. — Видите? — Крылова указала на бумажку. — Запоры целы, контролька нарушена, завмага нет. Извините, у нас бригадная ответственность… — Софья Андреевна, — раздраженно сказал Урсу. — Перестаньте вы тарахтеть, у меня голова из-за вас с утра разболелась. Женщина обиженно поджала губы. — Склад мы запирали вместе с Георгием Ивановичем, — рассказывал Урсу. — Он расписался на контрольке. Ключи от контрольного и внутреннего замков у меня, от навесного у него. Чтобы не ломать замок, я и предлагал подождать Георгия Ивановича, хотя, конечно, товар нам к субботе нужен. Софья Андреевна настояла, мы втроем — я, она и кассир — подошли к двери склада и обнаружили нарушенную контрольну. Запоры целы, следов кражи никаких, но она подняла волну… — Зачем же вы о краже сказали? Сказали бы дежурному как есть, — укоризненно заметил Волин. Женщина устало махнула рукой. — Сказала и сказала, а вы теперь разбирайтесь. Я и в торг сообщила, сейчас представитель приедет. Волин и Ермаков осторожно осмотрели замки, двери — никаких следов взлома. Вскоре появился невысокий худенький мужчина с папочкой под мышкой — ревизор торга. Дужки навесного замка осторожно и быстро распилил рабочий магазина, внутренний и контрольные замки открыл своими ключами Урсу, он же щелкнул выключателем у двери — открытый склад ярко осветили лампами дневного света. Помещение оборудовано было по-хозяйски: добротные стеллажи вдоль стен, аккуратно составленные ящики с аппаратурой — телевизоры всех размеров, всех марок, приемники, проигрыватели, какие-то детали. Везде порядок, не похоже, чтобы здесь побывал злоумышленник. Ермаков глянул на Софью Андреевну, та пожала плечами. Ревизор из торга молча стоял у двери, Урсу прислонился к стеллажу. Волин обошел склад — порядок, ничего не скажешь. Но отчего обеспокоилась Крылова? И почему так напряжен Урсу? Наконец, к чему там приглядывается Ермаков? Волин подошел к нему. Анатолий Петрович глянул на товарища, затем чуть отстранил от стеллажа Урсу, провел по пустой полке пальцем и выразительно поднял его. Волин понял. На стеллаже за спиной Урсу — четкий темный квадрат выделялся на тонком сером слое пыли. Резкие контуры квадрата были смазаны с одной стороны, ближе к двери. — Отсюда когда товар брали? — обратился Ермаков к Урсу. Тот торопливо обернулся к стеллажу, посмотрел и ответил растерянно: — Не помню… — Софья Андреевна, а вы помните? — спросил Ермаков. Крылова тоже подошла к стеллажу, долго смотрела, затем твердо сказала: — Не было здесь товара. Неделю назад не было ничего. Я это утверждаю. — Но, — попытался возразить Ермаков, показывая на темный квадрат, Крылова перебила его. — Вижу, конечно. Однако уверяю, что в салон товары отсюда не поступали. — Ревизия покажет, — принял решение Ермаков. — Без ревизии не обойтись, — молчаливый ревизор впервые подал голос, поддержав Ермакова. Склад закрыли и опечатали. Ермаков, устроившись в подсобке, решал вопросы ревизии магазина, смотрел документы. Волин в кабинете Печказова приступил к опросу работников магазина. Что-то расскажут они?ПЯТНИЦА 16.30
Каким же он был разным, Печказов, в глазах своих двадцати шести сослуживцев! Одни видели его строгим и справедливым руководителем, другие — молодящимся денежным ловеласом, третьи считали мелочным, жадным и скрытным, но все сходились на том, что Печказов умел работать, однако в последнее время особенно обозначились какие-то иные его интересы. Частыми были телефонные звонки, посещения неизвестных лиц, странным казалось приближение к себе Урсу и кое-кого из молодых продавцов. Завотделом Чесноков неделю назад случайно видел у Печказова крупную сумму денег. И все отмечали странный режим работы заведующего, который он установил себе сам. Днем Печказов неизменно в течение нескольких часов отсутствовал. Где он бывал — точно никому известно не было. Один говорил, что ухаживал за больной матерью, другие тоже говорили, что ухаживал, но за молодыми женщинами, пристрастие к которым отмечали все. Вчера Печказова видели в мастерской "Рембыттехни-ки”. Продавцу Борисову, зашедшему в мастерскую, он сказал, что сдавал в ремонт свой магнитофон. Печказов почти не был на работе, приехал в магазин перед закрытием, помог опечатать склад и уехал на своих красных "Жигулях”. В 19.15 — время продавцы назвали точно. Планами на вечер ни с кем не делился. Таковы были сведения, полученные капитаном Волиным. Ермаков, закончив дела, сидел в небольшом кресле у окна кабинета, не вмешиваясь в беседу, ждал разговора с Крыловой, обещавшего быть интересным. Он не ошибся. Успевшая успокоиться, Софья Андреевна толково и деловито поведала действительно интересные вещи. Крылова работала с Георгием Ивановичем более десяти лет и хорошо изучила своего начальника. Кроме того, ей нельзя было отказать в проницательности. Многое в поведении Печказова Софья Андреевна, мягко говоря, не одобряла. Но главное заключалось втом, что Печказов, по ее мнению, завел сомнительные знакомства и имел левый товар. — Я ведь почему милицию вызвала, — Софья Андреевна заканчивала свой рассказ, — Урсу мне не нравится, не доверяю я ему. Проверку магазина откладывать нельзя — друзья Печказова следы заметут: а дела у нас явно нечистые. Поспрашивайте-ка Урсу, он ближе всех к заведующему стоял.ПЯТНИЦА 19.30
Нелли Борисовна услышала телефонный звонок, поднимаясь по лестнице. Она поспешила одолеть последний пролет, торопливо достала ключи. За закрытой дверью телефон звонил требовательно, настойчиво, и руки Нелли Борисовны затряслись от волнения — конечно же, это важный звонок! Когда наконец она справилась с замками и открыла дверь, телефон замолк. Нелли Борисовна, уронив руки, бессильно прислонилась к косяку. Тишина в квартире сдавила грудь, стесняя дыхание. Женщина захлопнула дверь, машинально заперла ее на замки, привычно накинула цепочку, разделась. Потом осторожно бочком прошла на кухню, включила радио. Тишина сдалась, отступила, стало легче дышать, и Печказова принялась за приготовление позднего обеда. И не услышала, а скорее почувствовала щелчок открывшегося замка на входной двери. Нелли Борисовна прижала к груди мокрые руки, успокаивая заколотившееся сердце. "Георгий! Только у него есть ключи”, — пронеслась мысль, и она бросилась к двери. Уже схватившись за холодный металл цепочки, Нелли Борисовна в узкой щели приоткрытой двери увидела вдруг очертания чужого лица, и на нее глянул незнакомый, с темным неподвижным зрачком глаз. Как завороженная, она смотрела в этот зрачок, не в силах отвести взгляд, а потом закричала — громко, бессмысленно, слыша себя со стороны и не веря, что все это происходит с нею. Она продолжала кричать и тогда, когда глаз исчез, дверь резко захлопнулась. Сердце покатилось куда-то, Нелли Борисовна опустилась на пол, смолкла, оставшись одна со своим страхом.ПЯТНИЦА 22 часа
Алексей Петрович Волин домой попал только поздним вечером. Розыск Печказова не давал пока положительных результатов. Потрачен целый день, да и изрядный кусок вечера прихвачен — и никаких наметок. Из магазина Волин заехал еще на телефонную станцию, где разыскал следы телефонных звонков, проверявшихся по заявлению Нелли Борисовны. То, что узнал капитан, особых надежд не внушало. Печказовой звонила некто Иванова — уборщица производственных мастерских местной психиатрической больницы, женщина одинокая и в почтенных годах. Найти Иванову не удалось ни дома, ни на работе. Молодой участковый инспектор, которого Волин застал на опорном пункте, лишь пожимал плечами в ответ на вопросы капитана. Он обещал разыскать Иванову и вручить повестку о вызове в милицию. Но почему пожилая уборщица звонила Печказовой, грубо разоблачая связь ее мужа с другой женщиной? Что крылось за этими звонками? Ответа не находилось и на этот вопрос. Дома было уютно и чисто, из кухни доносились вкусные запахи. Вышли встречать капитана жена Людмила и сын Алешка, при виде которых на душе у Волина потеплело. За ужином Людмила делилась новостями — она работала фельдшером на станции "Скорой помощи”, и ее информированности мог позавидовать иной работник милиции. Волин слушал жену, но внимание то и дело соскальзывало, он снова и снова мысленно возвращался к Печ-казову. Что же с ним стряслось? Алексей Петрович принял душ, никакая усталость не могла заставить его отказаться от вечернего холодного душа; поцеловал Алешку и уснул, едва коснувшись головой подушки.СУББОТА 1.35
Его разбудил телефонный звонок. Чтобы не тревожить домашних, Волин на ночь переводил звонок на минимальную громкость и приучил себя просыпаться при первых же звуках. Звонил дежурный: — Алексей Петрович… На электронных часах прыгнула очередная зеленая цифра — 1 час 35 минут ночи. — Алексей Петрович, я решил все же вас потревожить. Из "Скорой” нам позвонили минут двадцать назад. Там у них два каких-то типа пытались вскрыть частный гараж. Задержать их не сумели. А гараж-то, говорят, Печказовс-кий… Не нашелся он еще? — вопросом закончил дежурный. — Нет, — односложно ответил Волин. Связано ли это происшествие с исчезновением Печ-казова? Все возможно. Надо проверять самому. Приняв такое решение, Алексей Петрович стал потихоньку одеваться, косясь на жену, но Людмила уже проснулась и молча смотрела на него. Вопросов не задавала — сам скажет, что можно. — Я, Люся, к вам на "Скорую” еду. Там во дворе гараж пытались вскрыть. Кстати, — Волин присел на край кровати, — ты этот железный гараж знаешь? — Знаю, конечно, — ответила Людмила. — Это завмага "Радиотоваров” гараж, фамилию его забыла, а в лицо отлично помню. Жена у него зубной врач, а медсестрой с ней работает Тамара Черепанова, через нее я это семейство и знаю. ’’Вот и я знакомлюсь с этой семьей”, — Волин задумчиво пригладил начинающие седеть темно-русые густые волосы, нахмурился, подошел к окну — вот-вот подойдет машина, пора выходить. Поджидая машину, Волин вглядывался в серую ночную улицу, обдумывал, что предпринять, и остро жалел, что была глубокая ночь и жену Печказова, и без того измученную, тревожить нельзя. Через четверть часа он уже был во дворе "Скорой помощи”. На ворота аккуратного металлического гаража был направлен яркий луч переноски, от небольшой группки стоявших вокруг людей отделился один, пошел навстречу Волину, поздоровался. Это был командир патрульной машины, Волин знал его. — Дежурный велел подождать вас, — сказал он. Капитан подошел к гаражу. Верхние скобы дверей были пусты. Замок лежал чуть в стороне от ворот, заботливо прикрытый перевернутой картонной коробкой. На вторых скобах, расположенных чуть ниже, висел небольшой шестигранный замок с цифровым шифром. — На нем они и споткнулись, — кивнул на замок мужчина средних лет в старой кожаной куртке и начал рассказывать, не дожидаясь вопросов. Он, Семен Лузгин, водитель "Скорой", воспользовавшись затишьем в вызовах, пошел в бытовку, чтобы вскипятить чай. Ожидая, пока закипит чайник, Лузгин рассеянно смотрел в окно, откуда хорошо был виден двор,и обратил внимание на двух мужчин, пытавшихся открыть ворота гаража. Что-то в их поведении насторожило Лузгина, он пригляделся внимательнее и увидел, что один из них, сняв замок, отбросил его в сторону, прямо на подмерзшую мартовской ночью землю. "Хозяин так не сделает, нет” — решил Лузгин и, попросив девушку диспетчера позвонить в милицию, вышел на крыльцо. — Мне подождать милицию надо бы, — виновато развел руками Лузгин, — а я возьми да крикни: "Что вы там делаете?" Парни оглянулись, увидели Лузгина и сиганули за гараж, только их и видели. Выслушав Лузгина, капитан Волин осторожно отжал створки дверей — машины не было. Приподнял прикрывавшую замок коробку. Дужка замка была цела. Значит, замок открыт ключом. Что нужно было незнакомцам в пустом гараже? Что они хотели там найти? И где они взяли ключи?СУББОТА 7.30
Была суббота, но отдыхом для Волина не пахло. События стали развиваться стремительно, дело Печказова обрастало сведениями, как снежный ком. В 8 утра менялась бригада "Скорой помощи”. Волин подъехал к пересменке, чтобы договориться о наблюдении за гаражом с новой сменой. Лучшего выхода он придумать не смог. — Будьте спокойны, Алексей Петрович, — солидно сказал Лузгин, — здесь мы справимся сами. Если что — известим. Я к ночи-то вернусь. Отосплюсь и вернусь. Товарищ просил подменить его. Волин помнил, что Печказовы живут неподалеку от "Скорой”. Шел девятый час утра, капитан подумал, что уже можно позвонить Печказовой, и набрал номер. Трубку долго не брали, но когда наконец раздалось едва слышное "але”, Волин не узнал голоса Нелли Борисовны. — Я не ошибся, это квартира Печказовых? — спросил он. — Да, — прошелестело в ответ. — Кто это говорит? — Капитан Волин беспокоит. Мне нужна гражданка Печказова. Тот же голос, бесцветный и тихий, который Волин не сразу признал, произнес: — Мне очень плохо. Приезжайте… С молодым бородатым доктором они бежали наперегонки. Дорогу показывал доктор, за плечами которого, как стяг, развевался конец клетчатого шарфа, впопыхах не заправленного под воротник. Волин нажал кнопку звонка, быстро заговорил: — Нелли Борисовна, это я, Волин. Вы можете открыть дверь? Отвечайте, вы можете открыть дверь?! — Иду… — слабо послышалось из-за двери. Печказова долго возилась с замками, видимо, пальцы плохо слушались ее, затем дверь открылась. Увидев Печказову, доктор бросился к ней и едва успел подхватить сползающую по косяку женщину. Короткий рассказ Нелли Борисовны был сбивчивым и невнятным, но капитан понял — кто-то пытался проникнуть не только в гараж, но и в квартиру Печказовых. — Нелли Борисовна, — стараясь не замечать укоризненного взгляда доктора, спросил Волин, — а у кого могли быть ключи от вашей квартиры и гаража? Бледное лицо Печказовой, казалось, стало еще бледнее: — Только у мужа, только у него ключи. Доктор вызвал санитарную машину. Состояние Печказовой, пережившей сильнейшее нервное потрясение, внушало тревогу.СУББОТА 10 часов
В горотделе, куда наконец добрался Волин, дежурный сразу сообщил: — Товарищ капитан, я вас обыскался! Тут на вас с утра повышенный спрос: полковник спрашивал, Ермаков ищет. Сегодня Волин уже ничему не удивлялся. Взбежал на второй этаж, мельком, но приметливо, как привык, оглядел сидевших в коридоре людей, быстро разделся и уже через минуту постучал’в кабинет начальника отдела. Полковник Николаев кивнул, здороваясь, указал рукой на стул, приглашая садиться. Быстрым движением нажал клавишу селектора. — Слушаю, — раздался голос Воронова, начальника ОБХСС. "И он на месте”, — отметил про себя капитан. — У меня Волин, — сказал Николаев. Капитан услышал, как Воронов удовлетворенно крякнул и спросил: — Разрешите нам с Ермаковым зайти? — Жду. Вскоре вошли Воронов и Ермаков. О попытке вскрыть гараж все знали из рапорта дежурного, а вот посещение квартиры Печказовых, о котором доложил Волин, было новостью. — И у нас есть кое-что новенькое, — сказал Воронов. — Давайте, Ермаков, докладывайте. — Вчера продавец Борисов сказал, что видел днем Печказова в "Рембыттехнике”. Я там побывал. Контролеры провели проверку и нашли в цехе 6 дефицитных магнитофонов "Коралл”. В заводской упаковке, заметьте! Я допросил директора. Он клянется, что купил их у какого-то проходимца по имени Гога, которого никогда раньше не видел, категорически отрицает встречу с Печ казовым, хотя Борисов видел того выходящим из директорского кабинета. Заметьте, в день, когда завмаг исчез! И никаких документов о сдаче Печказовым в ремонт магнитофона в "Рембыттехнике” нет! — Думаю, здесь есть связь, — вмешался Воронов. — предпринимать что-либо мы воздержались без вас, Алексей Петрович, — обратился он к Волину. — Ясно, что сейчас нужен единый план работы по этому делу, необходимо вместе действовать — уголовному розыску и ОБХСС. — И у меня новость, — сказал Николаев. — Только что звонили соседи матери Печказова. Старушка в квартире одна. Ухаживавшая за ней девица сегодня не приходила… Похоже, — он оглядел присутствующих, — что Печ-казовых преследуют. И серьезно преследуют, о чем свидетельствуют факты исчезновения Печказова, посещения кем-то гаража, квартиры. А история со складом? И вы помните, Печказова вчера не очень лестно отозвалась об этой девице, что ухаживала за свекровью. Сегодня этой девицы нет… — Вот что. — Николаев глянул на часы, подумал немного. — Через 40 минут жду вас с планом работы. Совместным. — Он сделал ударение на последнем слове.СУББОТА 12 часов
В чужой маленькой квартирке Лена Суходольская терзалась мрачными предчувствиями. О старухе Мавриди старалась не думать. Случилось ужасное — она была в этом уверена. ’’Доигралась”, — тосковала Лена, проклиная день, когда она затеяла игру, казавшуюся тогда скорее смешной, чем страшной. Это она во всем виновата: теперь в этом нет сомнений, именно она. Да и те хороши! Взрослые люди, а поверили в тайники и клады! Какие могут быть бриллианты у этой выжившей из ума старухи! Лена металась по комнате, не находя себе места. Внезапно ее взгляд задержался на коробке, прикрытой газетой: зачем она взяла магнитофон из квартиры Мавриди? Если Печказов все же появится, что она скажет ему? Ведь не может же быть, чтобы… Но додумывать она боялась. При всем своем легкомыслии Лена понимала, что не сумеет остаться в стороне от событий. Ведь это она сказала ребятам о "кладе” в квартире старухи! Какой она казалась себе значительной, когда ее расспрашивали, и откуда что бралось — говорила и говорила, придумывая, нагромождая одну ложь на другую. И как они могли верить?! — Негодовала сейчас Лена, понимая, что снова попалась в ловушку из-за своего извечного желания быть в центре событий, выглядеть более значительной и умной, чем, увы, есть на самом деле. Все время, пока длилась затея с поиском клада, Лена не задумывалась, во что это может вылиться. Между тем ее партнеры начали проявлять нетерпение, их требования становились более конкретными и смелыми. Она хотела уже признаться, что все выдумала, но не посмела, испугавшись расправы. Ждала, что все устроится само собой. Зачем они пришли в дом Мавриди? Ведь это не входило в их планы! Лена терялась в догадках. Внезапно щелкнул дверной замок: муж. Лена обрадовалась, но, увидев лицо Суходольского, испугалась. — Ты почему здесь?! — закричал он, затем, оглянувшись, зло зашипел: — Почему оставила старуху, дура! А ну — марш туда! — Суходольский, грубо схватив за плечо, толкнул ее в прихожую, к выходу. Лена заплакала. — Пойми же, глупая, — уже спокойно начал он, — если ты внезапно бросишь старуху… Лена кивнула. Она знала: с Суходольским в таких случаях лучше не спорить. …Когда участковый инспектор Гук позвонил в дверь квартиры Мавриди, ему открыла Лена. В комнатах был порядок. Эмма Павловна, чистая и сытая, спокойно сидела в кровати и разговаривала сама с собой. — Почему же вы отсутствовали, девушка? Где были? — как можно официальнее спросил лейтенант. Он работал в милиции недавно и старался держаться строго. — Зуб у меня заболел, лечить ходила. Знаете, наверное, как это больно и долго! — просто объяснила Лена. Инспектор знал. К зубной боли он относился с уважением и детским страхом. То, что Лена испытывала зубную боль, которой он так боялся, наполнило его сочувствием. "И зачем только меня послали сюда? — подумал он. — Тут же полный порядок”. Извинившись за беспокойство, Гук отправился домой.СУББОТА 13 часов
В больницу к Печказовой Волин направлялся по требованию Николаева, который сам справился о здоровье Нелли Борисовны и получил согласие врачей на беседу с ней. Полковник считал, что Волин как располагающий доверием Печказовой должен повидаться с нею и получить разрешение на осмотр гаража. Собственно, и сам Волин считал необходимой беседу с Печказовой. Что же хотели найти незнакомцы в квартире и гараже Печказовых? Неужели Нелли Борисовна что-то скрыла от него во время их первой встречи? А капитану тот первый разговор показался искренним. Странное дело! Он должен искать Печказова. Георгия Ивановича Печказова, который, возможно, стал жертвой и нуждался в помощи и жалости. Но чем больше узнавал Волин об этом человеке, тем менее сочувствовал ему. Жалел капитан маленькую измученную женщину, жену Печказова. Чувство сострадания к ней смешивалось с удивлением и недоумением: как могла она допустить, чтобы рядом с нею человек, которого она считала близким, так себя вел. Если ключи Печказова в руках людей, знающих его гараж и квартиру, значит, это не случайные люди? Печказова не узнала лица человека, пытавшегося проникнуть в квартиру. Но это ни о чем еще не говорило. Она была напугана, видела лишь часть лица, это могли быть знакомые самого Печказова, которых его жена не знала. Задумавшись, Волин не заметил, как подъехали к зданию больницы. Нелли Борисовна выглядела несколько лучше, чем утром. Увидев капитана, Печказова, то и дело касаясь пальцами его рукава, быстро заговорила: — Алексей Петрович, мне нужно домой, поймите это. Мне нужно! Муж может вернуться. Что он подумает, не застав меня? Конечно, все это ужасно, но я в первую очередь должна думать о нем! Ему сейчас хуже… Волин слушал женщину почти с недоумением. Здесь, в больнице, едва придя в себя, она опять думала только о муже. О том, кто причинил ей столько неприятностей, столько раз обижал и унижал! ’’Эти бы чувства да к доброму человеку! А здесь всепрощение не шло, видно, на пользу”, — с сожалением подумал Волин, успокаивая Нелли Борисовну. Нужно было что-то решать. Женщина категорически отказывалась находиться в больнице. Волин направился к доктору. — Органики у нее нет, — пояснил тот. — Сердце и прочее — норма. Виной всему — психотравмирующая ситуация. Можете вы ее исключить? — Пока нет, — покачал головой капитан. — Тогда нужно свести до минимума все неприятные переживания. — Я только этим и занимаюсь, доктор, что исключаю из жизни эти самые психотравмирующие ситуации, как вы выражаетесь. Вы мне скажите прямо, можно Печказову домой выписать? Или нет? — Ну, если под чье-нибудь наблюдение… — Какое наблюдение, она одинокая женщина. — И, словно испугавшись сказанного, Волин замолчал, затем поправился: — На сегодняшний день одинокая. Впрочем, — оживился он, — будет ей наблюдение! Позвонить разрешите? Доктор молча пододвинул капитану телефон. — Люся! — сказал Алексей Петрович в трубку. — Слушай, есть у Тамары Черепановой телефон? Ну, той Тамары, что с Печказовой работает. Звони ей немедленно, пусть едет в горбольницу. И ты с Алешкой тоже — очень прошу. Заберете Печказову — ей нельзя здесь оставаться. Тамара, кажется, одна живет? Ну, попросим ее с Печказовой побыть. Да такси берите! — крикнул он напоследок. Нелли Борисовна, успокоенная и обрадованная предстоящей выпиской, охотно разговорилась. Волин слушал внимательно, стараясь не упустить ни одной мелочи. Эта беседа укрепила убеждение капитана в искренности Печказовой. Нелли Борисовна ничего не утаивала. Она просто многого не знала. Не хотела или не могла знать? Возможно, и то, и другое. Печказов был женат на преданном человеке и, видимо, по-своему, дорожил этим. Нет, ни о каких ценностях Печказова не знала. Больших денег у мужа никогда не видела. Разве только когда премия, отпуск. Да, разумеется, гараж можно осмотреть. И подвальчик тоже… Во дворе, возле дома. Ключи от него на кухне.СУББОТА 15 часов
Осматривать гараж Волину помогал эксперт-криминалист Владимир Пахомов. Работал он в отделе недавно, был скромным, незаметным и на первый взгляд чуть медлительным, однако ни в одном серьезном деле без него не обходилось. Предшественник Пахомова, ушедший на повышение, оставил ему в наследство прекрасную лабораторию и твердую убежденность сотрудников, что эксперт может все. Пахомов всеми силами старался поддерживать такую убежденность и, надо сказать, ему это удавалось. Шофер Семен Лузгин, считая себя полноправным участником розыска, просто прилип к эксперту, с интересом наблюдая за его священнодействиями. Следы отмычки не обнаружились и на втором замке, который имел шифр. Нелли Борисовна шифр не знала, пришлось дужку замка осторожно распилить. В гараже было такое множество полок, шкафов, забитых разными вещами, что Волин чертыхнулся, представляя, сколько времени займет осмотр. Однако обычно медлительный Пахомов так умело и споро начал работу, что Волин повеселел. В дальнем правом углу гаража, небрежно прикрытые старым одеялом, стояли в два ряда шесть коробок с магнитофонами "Коралл”. Заводская упаковка была не вскрыта. Когда капитан занимался описанием находки, раздался возглас Пахомова. Эксперт, не скрывая торжества, показал изумленным понятым извлеченную из старой кастрюли, стоявшей на стеллаже, кожаную перчатку, а в ней — туго свернутый рулончик зеленых купюр. Доллары. Пересчитали деньги — ровно 15 тысяч. — Н-да, — вздохнул Лузгин, — и кто бы мог подумать — в кастрюле! Вскоре нашли еще деньги — 10 тысяч. Теперь Волин знал, что искали неизвестные в гараже Печказова. Из гаража направились к подвалу, ключ от которого Нелли Борисовна передала Волину. Вход в подвал дома располагался с торцевой стороны. Спустились вниз, прошли по пыльному узкому коридорчику, едва освещаемому тусклой лампочкой. На дверцах вдоль коридорчика — номера кладовых, написанные то мелом, то углем. Печказовский номер 20 выгодно отличался от других — белая аккуратная пластинка из металла с черными цифрами на ней. Замок на двери кладовой помещен в металлический кожух. Володя Пахомов осторожно взялся за углы кожуха, слегка встряхнул. Внутри что-то звякнуло, перекатилось. Подозвав понятых, эксперт извлек оттуда кусочки блестящих штырьков с заостренными крючками на изогнутых концах. — Это части отмычки, — сказал Пахомов. Волин и сам видел, что это были отмычки. — Кто-то пытался проникнуть и сюда. Кто? Те же люди, что были у гаража и квартиры? — Оперативно действуют, — вздохнул Волин, — не можем угнаться за ними. — Как это не можем, — вскинулся Лузгин, — они же никуда не попали, мы везде их, выходит, настигаем. Осмотр кладовой никаких результатов не дал. Обычные для кладовок вещи — ничего, представляющего интерес для розыска. Но замок с обломками отмычек — это были следы неизвестных. Эксперт скажет точно — из чего, как и даже с какой степенью квалификации изготовлены отмычки. Остается выяснить, кем они изготовлены и кому конкретно принадлежали. "Совсем немного”, — усмехнулся Волин, выходя на улицу.СУББОТА 16.30
Когда Ермаков сказал о коробках с "Кораллами”, найденными в печказовском гараже, Урсу не выдержал. Кровь отхлынула от смугло-румяного лица, прожилки на щеках стали синеватыми. Он опустил голову, понимая, что лучший для него выход — признание. Мысли работали теперь в ином направлении — как смягчить удар, под который он сам себя поставил, связавшись с дельцами. — Я прошу мне верить, — выдавил Урсу, — знаю я очень мало, но, что знаю, расскажу. Когда Георгий Иванович назначил меня заместителем, — начал Урсу, — я был очень польщен этим доверием и даже хотел подарок ему сделать — он не принял. Будет, говорит, еще возможность меня отблагодарить. Ну, а где-то полгода назад вызвал меня в кабинет и познакомил с мужчиной лет сорока. Представительный, одет с иголочки. Назвался тот Тихоней. Голос Урсу часто прерывался, рассказ давался ему нелегко, но Ермаков поторапливал его, понимая, что в этом необычном деле от оперативности может зависеть жизнь человека — о судьбе Печказова сведений пока не было. — С этого дня и началось, — продолжал Урсу, — от Тихони время от времени приезжал некий Гога. Он привозил Георгию Ивановичу большие партии магнитофонов "Коралл”, они спросом у нас пользуются. Где он брал их, откуда привозил — этого точно не знаю, но слышал, что на заводе орудует шайка. Хранили магнитофоны на складе… — На стеллаже у входа? — спросил Ермаков, вспоминая квадратные следы на пыльной полке, которые насторожили его при осмотре склада. — Да, там… — покорно ответил Урсу. — Как реализовывали? — Продавали чаще всего со склада — я или Георгий Иванович. Иногда торговали в зале. А полную стоимость, не проводя по кассе, забирал Печказов. — Расскажите подробнее о Тихоне, — попросил Ермаков. — Я действительно мало знаю о нем, — Урсу говорил искренне, и Анатолий Петрович верил ему. Признавшись в главном, Урсу не имело смысла что-то скрывать. — Он звонил всегда сам. Собственно, — поправился Урсу, — это мне он сам звонил. У Печказова, наверное, были его координаты, а у меня — нет. Описать его могу подробно, встречался много раз. При встречах я называл его Тихоней и ни разу не слышал, чтобы Печказов называл его по имени. Могу сказать, что такой человек не должен незамеченным остаться — одеждой на себя внимание обратит, такой франтоватый тип и свысока на всех смотрит… — Когда вы встречались в последний раз? — Да вот с ним как раз мы склад и вскрывали! Вчера, уже после того, как мы с Нелли Борисовной Печказова искали, позвонил мне Тихоня. Я ему сразу про Печказова сказал, чтобы он в такое время не вздумал товар привозить. А он мне: я, мол, знаю обо всем и звоню, чтобы товар со склада убрать. Склад, как вы знаете, опечатан был еще Печказовым. Я тогда не сказал вам, но ключ у меня имелся, пришлось нам контрольну нарушить. Вывезли "Кораллы” — я и не знаю, куда он их пристроил. Ну а потом Софья Андреевна взбунтовалась, видели сами… Больше о связях Печказова Урсу не знал ничего. На вопросы отвечал односложно — устал, переволновался… — Да, женщины звонили… Нет, о связях с "Рембыттех-никой” мне ничего не известно. ’’Рембыттехника!” Ермаков еще не закончил допрос Урсу, а все его помыслы были уже в "Рембыттехнике”. Он чувствовал, что там находится еще одно звено в цепи событий, которые они восстанавливали по крупицам. Почему так упорно отрицает заведующий встречу с Печказовым в этот злосчастный день? Возможно, "Рембыттехника”, как и магазин радиотоваров, могла быть местом сбыта для франта Тихони. Знают ли его там? Не в этом ли секрет скрытности заведующего? В общем, появилось вновь множество вопросов, да таких, решение которых не терпело отсрочки. "Рембыттехника” в субботу работала до 18.00. Ермаков глянул на часы — время еще было.СУББОТА 18.30
Уставший и голодный, Волин забежал в отдел милиции, чтобы встретиться с Ермаковым, узнать новости и рассказать свои. Но, едва он вошел в помещение, как намерения его были разрушены. — Алексей Петрович, — услышал он голос участкового инспектора, — мы вас ожидаем. И тут же из-за спины смущенного инспектора выступила полная краснощекая женщина. — Это я вас полных два часа дожидаюсь? — голос женщины соответствовал ее габаритам и звучал особенно оглушительно в пустом гулком коридоре. — Этот вот, — женщина, не оборачиваясь, указала пальцем через плечо на участкового инспектора, который только разводил руками, — этот, — повторила она, — меня на полчаса сюда привез, а я уж и ждать устала. Нету у вас таких правое, чтоб меня здесь держать, — гремела она, наступая на Волина. ’’Иванова”, — догадался капитан. Та, что Печказовым звонила. Он миролюбиво извинился, женщина буркнула в ответ: — Да ладно, — поутихла и вошла в кабинет, не ожидая приглашения. — Зачем вызывали? — в упор, без предисловий сурово спросила она. И заметно поскучнела, услышав, что от нее требуется. Запираться же не стала. — Что с того, ну и звонила. Это когда было. — Скажите, а для чего вы звонили Печказовой? — Как для чего? — Иванова оживилась. — Он, Печказов этот, козел старый, девку купил и крутил с ней любовь среди бела дня. Срамота! Хорошо ли это? И мне моя совесть не позволила мимо этакого пройти. Вот и звонила! — довольная своим объяснением, женщина победно глянула на Волина. — Конечно, это нехорошо, — серьезно ответил он, — однако я вас не об этом спрашиваю. Вы откуда Печ-казовых знаете? — Да кто их не знает? Она — врачиха, а он — завмаг, миллионер. "Миллионер”?! — насторожился Волин. Так называли Печказова в анонимках! Совпадение или?.. Волин уже понял, что женщиной кто-то руководил — слишком далека была ее жизнь от Печказовской. Но она замкнулась при первых же вопросах о том, по чьей указке действовала. Напрасно Волин приводил самые, казалось бы, веские доводы. Она притворялась непонимающей, возмущалась, грубила и даже всплакнула. Уходило драгоценное время, а капитан так и не мог получить ответа — кто стоял за звонками Ивановой? Отпустить ее он не решался, ясности в деле не было никакой. Исчерпав все разумные аргументы, устав убеждать и уговаривать, Волин безнадежно махнул рукой: — Придется с вашим руководством поговорить, может, оно на вас повлияет, — и поразился совсем неожиданной реакции женщины на этот, казалось, наивный довод. — Что?! — Иванова вдруг расхохоталась. — Пожалуйтесь, погляжу, что из этого выйдет, — она смеялась, а Волин вдруг ясно почувствовал злость, растерянность и незащищенность в смехе этой большой грубоватой женщины. Иванова перестала смеяться, вытерла ладонью выступившие от смеха слезинки, подняла глаза, и капитан не увидел в них былой насмешки. Уловив перемену в настроении женщины, Волин тихо спросил: — Не хотите помочь нам? Зычный голос Ивановой звучал теперь мирно и даже печально: — Наивный вы человек, Господи меня прости. Начальству моему он пожалуется! Да начальник-то и подначивал меня звонить, если хотите знать. Звони, мол, а то врачиху жалко, — Иванова, скривив лицо, передразнила своего начальника. А Волин даже дыхание затаил, боясь спугнуть признание. — Я поначалу-то попалась на эту удочку. Потом, гляжу, врачиха-то вся замирает от моих звонков и вежливо мне так отвечает, голосок только дрожит: "Не звоните мне, прошу вас”, — женщина попыталась передразнить и Печ-казову, но получилось плохо, грубо. Чуть помолчав, она продолжала: — Когда меня телефонная станция нашла, я уж сама звонить перестала, жалко врачиху. Да еще и поняла — мой начальник не врачиху жалеет, а себя, сам с этой девахой встречался, а богатенький завмаг отбил. Сильно злобился наш старик на него. — А фамилия-то начальника как? — решился наконец спросить Волин. — Как, как, — смелая женщина передразнила и его, — фамилия его Скрипач! Пораженный капитан невольно глянул на свой открытый блокнот, где в числе первых красовалась запись: "Проверить в городе старых скрипачей (театры, филармонии и т. д.)”. А Скрипач — вот он, совсем не в театре и вовсе не музыкант. Отпустив загрустившую свидетельницу, Волин зашел за Ермаковым. Шаги его он слышал в коридоре незадолго до конца допроса. — Полковник нас ждет, — сказал Ермаков.СУББОТА 21 час
У Николаева пробыли недолго. Полковник был в курсе розыска, и они лишь еще раз совместно обсудили, что нужно сделать завтра в первую очередь. — Ну, капитаны, — Николаев дружески обнял их за плечи, провожая до двери кабинета, — не взыщите, отдыха вам и завтра не будет. — Не будет отдыха, это полковник точно сказал, — вздохнул Волин и засмеялся: — У меня даже Алешка к работе подключен. Они с Люсей сегодня у Печказовой были! — А мои на выходные дни в деревню направились, так что я холостякую, — сказал Ермаков. — А жаль, ужин самому собирать придется. — Слушай, — оживился Волин, — давай ко мне махнем! Люся ужин наверняка отменный приготовила и ждет. Она в такие запарочные дни меня балует. — В голосе Волина слышалась прямо-таки гордость. — Неудобно, — замялся было Ермаков, но Волин быстро уговорил его. — Петровичи! — всплеснула Люся руками. — Наконец-то! Волин и Ермаков, переглянувшись, расхохотались. Действительно, ведь они оба — Петровичи. — Ай да Люся, приметила сразу! Ужин был уничтожен мгновенно и молча, а за чаем уже возник разговор. — Маль це в а-то в командировке, а ведь он вполне может с ней там прохлаждаться, — будто и не прекращалась беседа, предположил Ермаков. — Нет, слушай, я в это не верю, хотя запрос сделал. И полковник не верит, иначе бы не приказал возбудить дело по факту исчезновения. Ис-чез-но-ве-ния, — раздельно, по слогам повторил Волин. Потом предложил Ермакову! — Давай-ка ночуй у нас. С Алешкой в комнате ляжешь. Утром пораньше встанем, Люся накормит. Ермаков соблазнился скорым отдыхом. Да и не очень ему хотелось шагать по ночному городу в свою пустую квартиру. Пока Люся осторожно, чтобы не разбудить Алешку, стелила Ермакову постель, разговор о деле возник снова — ни о чем другом они не могли сейчас думать, все мысли обращались к делу, только к этому странному делу по факту исчезновения. Волин, направившийся было из кухни в комнату, вернулся. — В связях Печказова с дельцами ты не сомневаешься? — спросил он Ермакова. — Нет, какие тут могут быть сомнения. — Могли же у них возникнуть распри? У таких дельцов постоянные проблемы — грызутся, отношения выясняют, на все пойдут ради барыша. Заведующий "Рембыттехни-кой” показал, что некто Гога Печказову угрожал. Гогу найти, мне кажется, трудно пока, а вот Тихоню я, кажется, завтра достану… — Что же ты у Николаева об этом промолчал? — изумился Волин — Как же так? — Да я прежде сам убедиться должен. Понимаешь, ведь эти "Кораллы” не из воздуха появляются. Делают их на заводе "Радиоприемник”. Но… учитывают, видимо, не все. Эти-то, неучтенные, вывозят и продают через своих людей, Печказова, например. Там у меня один франт на примете — очень похож на того жулика, которого Урсу так подробно описал. Работает на подходящей должности — в отделе сбыта и зовут, как, думаешь? — Давай не томи, конспиратор, — попросил Волин. — Филиппом Тихоновичем зовут. Тихонович — Тихоня. Сочетается? — Ну ты даешь! — Волин сел на кухонную табуретку, хлопнул ладонью по коленям, — заманчиво, конечно, завтра же спросить Тихоню, что он знает об исчезновении завмага. Однако ты это зря. — Что? — не понял Ермаков. — Зря не рассказал об этом у Николаева, так у нас не принято.СУББОТА 24 часа
Филипп Тихонович был вне себя. Душила злоба. Задыхаясь, он рванул ворот рубашки — перламутровые пуговички горохом посыпались на пол. Рушилось все! Тщательно продуманное им, проверенное и, казалось бы, надежное дело трещало. Подумать только, масса трудов, большие надежды, растущие доходы — все вдребезги из-за каких-то кретинов! Где, в чем его ошибка? Албин налил в стакан темно-коричневый пахучий коньяк, выпил залпом, повалился в огромное мягкое кресло. — Будет, — твердо сказал он себе, — хватит психовать. Нужно обдумать все, взвесить, предпринять что-нибудь, чтобы избежать намечающихся неприятностей. Дело, видимо, придется прикрыть. Завтра же дать сигнал — пока никакой новой сборки. До, так сказать, особого распоряжения… Особенно жаль сбыт. Организовать его не так-то просто. Албин помнил, скольких трудов стоило ему уломать нужных людей. И вот конец всему. Да хорошо еще, что он не особенно раскрывал себя, не рекламировал. И все-таки… Разгневанный крушением доходного дела, Филипп Тихонович сразу как-то и не подумал о том, что развернувшиеся события могут лишить его не только будущих прибылей. Выпитый коньяк расслабил, притупил первые огорчительные ощущения. Но теперь, обдумывая случившееся, Албин ясно понял, что угроза нависла не только над его незаконным бизнесом, но и над ним самим, прежде всего — именно над ним, над его жизнью и свободой. ’’Сам я под колпаком, вот что”, — ясно и с ужасом понял Албин и с этой минуты ни о чем другом уже думать не мог — только о том, что его ждет. Мысли метались лихорадочно. Албин силился оценить ситуацию трезво, найти для себя такую позицию, чтобы выйти сухим из воды. С "левым” товаром нужно покончить немедленно, это несложно и в его силах. В магазине "Радиотовары" его не знает никто, кроме Печказова. А Печказов… Албин поежился, вспомнив завмага. Проклятый завмаг, с него-то и началась вся эта кутерьма. "И зачем я послал к нему Гошку, — сожалел Албин, — может, все бы и обошлось”. Он даже зубами скрипнул, вспомнив про Гошку. "Тогу”, как тот стал себя называть в последнее время. "Господи, как можно было довериться этому типу, лживому, жадному”, — тосковал Албин. С магазином проще. На складе чисто, Урсу практически его не знает, Печказов на сегодня числится в исчезнувших. А с мастерской? Нет никакой гарантии, что его там не продадут, спасая свою шкуру. А завод? "Его" мастера? Что, если начнут "копать" и на заводе?! Филипп Тихонович обвел глазами свою квартирку. Расстаться с этим?! С пушистым ковром на полу, с изящным сервизом, с хрустальной люстрой, с ласковым тонким костюмом? Албин застонал, закрыв лицо руками, — нет, нет, это не в его силах. Собственно, это единственное, что он любил в жизни — вон тот диванчик на капризно изогнутых ножках, цветной телевизор, даже вот эти тапочки с белым пушистым помпоном. Ради всего этого он и занялся подпольным бизнесом. Из-за них, этих вещей, грозит ему теперь тюрьма — серый строй, суконные ушанки, сатиновая телогрейка и железные в два яруса кровати! Так, выходит, его вещи ему — враги! И останутся без него, и будут служить другим людям, пока он там, в тюрьме, в колонии… Албин дрожащей рукой налил коньяк, выпил. Грозящая опаснось принимала реальные очертания, неопределенные до того враги получили название. Замутненный алкоголем мозг призывал к активности. — Сволочи! — тихо сказал Албин и подошел к сверкающему хрусталем серванту. Первым, брызнув красно-зелеными искрами, полетел на пол огромный хрустальный рог.ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 часов
На кухне звенел — надрывался будильник, который Алексей Петрович завел с вечера и за разговорами забыл на столе. Часы показывали семь, пора было вставать. По осторожным шагам в коридоре Волин понял, что будильник выполнил свое назначение и разбудил не только его, но и Толю Ермакова. И только Люся сладко спала, отвернувшись к стене. ’’Милая моя, — с нежностью подумал Волин. — Намаялась вчера. Своих забот хватает — работа, Алешка, дом, а тут еще без раздумья бросилась на помощь Печказовой, до вечера пробыла у нее, а ведь выходной день они хотели провести совсем иначе. Ну, да Люся знает цену участия”. Алексею Петровичу невольно припомнилась отвернувшаяся к стене в гулком коридоре больницы худая девчонка — на тот момент свободных мест в больнице не оказалось, и Люсю положили в коридоре. "Сотрясение мозга и множественные кровоподтеки на лице”, — так было записано в истории болезни. Люсю пытались ограбить, когда она вечером возвращалась из медтехникума. Отчаянно сопротивляясь, она защитила себя, но угодила в больницу, и Волин, сыщик из начинающих, тщетно пытался разговорить ее, отвернувшуюся к стенке. Люся переживала обиду на все человечество. Потом были долгие разговоры, врачующее время все больше отдаляло девушку от тягостных воспоминаний, но до сих пор Волин испытывал горечь и стыд оттого, что преступник не был найден — случается, к сожалению, и такое. Зато они нашли друг друга. Осторожно прикрыв за собою дверь комнаты, Волин прошел на кухню. Там уже сидел Ермаков и поглядывал на чайник, начинавший шипеть. Как они ни осторожничали, но Люсю все же разбудили, и она, милая и улыбчивая, принялась разогревать им завтрак, заботливо приготовленный с вечера. Беззаботно спал только Алешка, абсолютно свободный в воскресное утро от всяких обязанностей. Щадя его вполне заслуженный нелегким трудом первоклассника сон, Люся перенесла телефон на кухню, и они даже не сразу услышали его назойливое жужжание. Трубку сняла Люся, секунду послушала, изменилась в лице: — Алеша, скорей! Это Тома Черепанова! Тамара по просьбе Волина ночевала у Печказовой. Капитан прижал трубку к уху и услышал Тамарин голос, взволнованный и поэтому чуть незнакомый. — Алексей Петрович, — Тамара даже не поздоровалась, — быстрее к нам, тут такое случилось, — голос ее дрогнул. — Спокойно, Тамара, давай быстро и по порядку. Ночь как прошла? Он знал, что Тамара быстрее соберется с мыслями, если он будет направлять ее рассказ. — Ночью все было спокойно, — ответила она, — а утром началось! — Вы обе живы-здоровы? — спросил и дыхание задержал, боясь услышать плохое. — Мы-то живы и здоровы. А вот в 7.00 — время я отметила точно — у нас телефон зазвонил. Я, как вы велели, взяла параллельную трубку. Разговор у меня точно записан. Потом прочту, а смысл такой — с Нелли Борисовны выкуп требуют за жизнь мужа! — Голос Тамары опять прервался, пришлось вмешаться Волину: — Спокойно, Тамара! Спокойно и тихо. Кто звонил? Мужчина? — Мужчина звонил, Печказова его голос не узнала. — Тамара, откуда ты звонишь? — Я от соседей звоню, все сделала, как вы велели. На станцию сообщила, они в курсе. Да что вы мне главного не даете сказать! — вдруг рассердилась она, и Волин смутился: действительно! — Так вот, — голос Тамары стал теперь твердым, растерянность, видимо, прошла, — тот звонарь сказал, мол, я не шучу, и вы не шутите, гоните монету, а то плохо будет. Печказов, мол, у нас, можете убедиться, спуститесь только к почтовому ящику. — Ну и что? — поторопил Волин. — Да я, Алексей Петрович, едва ее уговорила, что сама спущусь, боялась ее выпускать-то. Ну, спустилась на первый этаж к почтовым ящикам, открыла двадцатый, печказовский, и сама чуть в обморок не грохнулась! — Тамара притихла на секунду и тихонько выдохнула в трубку: — Челюсть там! Печказовская! Я ее по золотой коронке узнала! Волин ошеломленно молчал. Мистика какая-то! Челюсти, золотые коронки, ну просто английский детектив! Начитались, насмотрелись в кино всякой дряни. А теперь и сами туда же. Наконец он вспомнил, что Нелли Борисовна рассказывала о вставной челюсти мужа, и догадался, о чем речь идет. — Я, Алексей Петрович, зашла к соседям напротив — позвонить, — продолжала Тамара, — и они тоже хотят вам кое-что сообщить. Тут же, без перерыва, в трубке послышался другой женский голос: — Волин, я видела их, они утром в четверг к Георгию Ивановичу приходили — двое. Они его и увели. Я видела их, правда, через глазок и в спину, но видела! — Еду к вам, ждите, — быстро сказал Волин. Ермаков, уже одетый, ждал его в коридоре.ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 часов
Тамаре Черепановой не удалось скрыть от Печказовой страшную находку: Нелли Борисовна зашла к соседям в неподходящее время. Однако присутствие Тамары и соседей помогло ей справиться с новым ударом, и она выдержала его более стойко, во всяком случае к приходу Волина была уже внешне спокойна. Шантажисты действовали изуверски жестоко и достаточно для себя безопасно: они предоставили доказательства серьезности своих намерений, дали жертве короткое время на размышления и обещали позвонить дополнительно, чтобы сообщить о месте встречи. "Немыслимо! Откуда у них уверенность, что Печказова располагает деньгами?” — думал Волин. Только он приступил к расспросам Печказовой и ее соседки, как позвонил Ермаков. — Давай срочно сюда. Урожайная, десять, квартира семнадцать, а я у Тихони, — Ермаков почти кричал в трубку, в которой слышен был еще чей-то рыдающий низкий голос, выкрикивающий, видимо, из глубины комнаты неразборчивые слова, затем раздался грохот. Волин услышал, как, не повесив трубку, Анатолий бросился куда-то с криком: "Тихо, тихо ты!” Волин помчался на Урожайную. Дверь в квартиру не была заперта. Толкнув ее, капитан вошел в прихожую и ахнул — такого погрома не видел он никогда! Ермаков, взволнованный, красный, с хрустом ступая по осколкам стекла, вышел к нему, повел в комнату, успев шепнуть: — Вопросов пока не задавай. Ярится! Албин сидел в глубоком мягком кресле, руки его были связаны полотенцем, к потному лбу прилипли мокрые пряди волос. Возле, настороженно поглядывая на него, стояли два здоровенных парня, удивительно похожие друг на друга, и миловидная средних лет женщина, судя по всему, их мать. — Соседи, — пояснил Ермаков, — я к ним на помощь приехал. А если бы не они — не представляю, что было бы. — Дела-а-а, — протянул удивленно Волин, оглядывая квартиру. Красивая арабская мебель, инкрустированная деревом разных пород, была превращена в груду дров. Гнутой ножкой высокого столика Албин сокрушил все, что смог, — стекла шкафов, посуду, хрусталь. Пустым черным глазом глядел сброшенный на пол огромный телевизор, скелет люстры сиротливо свисал с потолка, всюду валялись клочья рубашек, каких-то тканей. Волин осторожно перешагнул через разорванные по шву темно-синие брюки, покосился на рукав от такого же синего пиджака, прилепившийся к спинке дивана. Пушистый светлый ковер был порублен. Уловив взгляд Волина, женщина сказала: — Когда он топором рубить ковер взялся, тут мы уже не выдержали. Плохо дело, думаем, ну и прибежали. Мы под ним живем, — пояснила она. — Кое-как мои ребята его уняли, связать пришлось, спасибо еще, Анатолий Петрович помог. Ермаков, сделав знак Волину, вышел на кухню. Тот последовал за ним. До кухни Албин добраться не успел, потому на столе неопрятно, нарушая общую гармонию кухонного порядка, стояли бутылки, начатые и пустые. — Пил и безобразничал. — Ермаков зло кивнул на бутылки. — Рассказывай, — коротко попросил Волин. — Тут и рассказывать нечего — сам все видишь. Работы предстоит еще немало, но основное мне ясно — Тихоня возглавлял эту компашку. Даже из того, что он здесь кричал спьяну, можно понять многое. Как мы и предполагали, на заводе шла сборка "Кораллов”. Сбыт — через Печказова и "Рембыттехнику”. В последние дни между "компаньонами” действительно возникли распри — размеры доходов, как можно понять, не устраивали Печказова. Он поскандалил с Тихоней. Значит, причины устранить Печказова у этой "фирмы” были. Нам срочно нужен Гога. Но я вижу пока только один путь выйти на него — через Албина, а тот пьян в стельку. — Мы вот что сделаем. Ведь на Албина прямо указали, что он причастен к хищению? Ермаков молча кивнул. — Давай задерживать его, оформляй документы. И вызывай медвытрезвитель — пусть под контролем протрезвляется. На том и договорились. Увидев вошедших Ермакова и Волина, Албин подал голос: — Развяжите руки, не буду я больше шуметь! — А чего шумел-то? — вполне дружелюбно спросил Ермаков. — Сволочи все, — рыдания прерывали некогда вальяжный баритон. — Зачем я гнулся? Никто спасибо не сказал, только — рвали, рвали каждый себе, а теперь я отвечать должен?.. А эти шмутки, — Албин кивнул головой в сторону груды обломков, — пусть никому не достаются! — Последние слова Тихоня выкрикнул, пьяные злые слезы покатились по щекам, сразу утратившим упругость и холеность. Изумленные парни таращились на Албина, женщина грустно качала головой: — Я к Скрипачу, — сказал Волин Ермакову. — Тебя, как управишься, жду в отделе.ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30
Арнольд Францевич измучился, ожидая звонка. Все-то он продумал, устроил, но почему нет звонка? Пора, казалось бы, быть первому сообщению. Неужели сорвалось? И что не сработало? Он наводил справки — Зоя в командировке. Так удачно складывалось — она вернется, а дело уже сделано. Зоя наконец-то поймет, что с ним шутки плохи. Скрипач пыжился, проигрывая про себя эпизод встречи с Зоей — он был мастер на такие представления и репетировал их заранее, получая от этого не меньше удовольствия, чем от самого разговора. Долгожданный телефонный звонок раздался, но Арнольд Францевич находился в это время на кухне, и трубку сняла жена, для которой он давно перестал быть мужем и остался лишь объектом для любопытства и насмешек. Голос, попросивший пригласить к телефону Арнольда Францевича, был знаком женщине. Она поморщилась, подумав, что опять Арнольд затеял какую-то авантюру, раз связался с этим подонком. Когда Скрипач в своей комнате поднял трубку параллельного телефона, жена его с шумом опустила трубку на рычаг и, чуть переждав, тихонько вновь подняла ее, приложила к уху — интересно, о чем будет разговор? — …понимаешь, о чем ты болтаешь? — услышала она взволнованный голос мужа. — Да я-то при чем? — гудел его собеседник. — Я все сделал, как вы велели… — Велели, велели, — перебил его Скрипач. — Разве я так велел? Деньги где? — Я все сделал, — посуровел голос абонента, — и деньги не отдам. — Отдашь, сволочь, — тонко закричал Скрипач, и жена услышала шум, как будто упало с вешалки пальто на плечиках. Она осторожно положила трубку, вышла в прихожую, чуть приоткрыла дверь в комнату мужа и увидела, что он сидит на полу, привалившись к неприбранному дивану, и ловит воздух широко открытым ртом. Женщина с трудом подняла на диван ставшее тяжелым сухонькое тело мужа, открыла тумбочку, отыскивая нитроглицерин, нашла тонкую стеклянную трубочку с таблетками, сунула одну в синеющие губы. Подняв с пола телефонную трубку, в которой уже раздавались короткие гудки, она набрала 03, вызвала "скорую” и стала ждать врачей. Состояние мужа не особенно ее пугало — во-первых, такие приступы стенокардии с ним случались и прежде, и во-вторых, ей давно стало безразличным его здоровье — они были совсем чужими. Все свое время она проводила в заботах о сыновьях и внуках, была дружна с невесткой, не чувствовала себяодинокой, и поведение мужа, ранее доставлявшее ей горе, стало для нее безразличным. Одиноким был он, хоть и не хотел в этом признаться, искал приключений, развлечений — и вот лежит сейчас — никому не нужный, как этот старый диван. Однако же неподвижно лежащая на плоской подушке голова мужа, с редкими седыми волосами, сквозь которые проглядывал обтянутый кожей череп, вызвала жалость. Женщина принялась поправлять подушку и наткнулась на жесткую серую книжицу. Она раскрыла ее и удивилась — два дня назад Скрипач получил в сберкассе крупную сумму, об этом говорила запись в сберкнижке. Не об этих ли деньгах был телефонный разговор? Жалость к мужу пропала, женщина бросила сберкнижку на тумбочку. Интересно, зачем ему понадобились деньги, да еще такая сумма?! Такой рассерженной и застал жену Скрипача капитан Волин. Внимательно осмотрев удостоверение, она кивнула в сторону комнаты мужа, коротко и сердито бросив: "Допрыгался”! Волин осторожно вошел в комнату. С первого взгляда было ясно, что говорить с больным нельзя — Скрипач тяжело, со всхлипами дышал, глаза были закрыты. Почти следом за Волиным приехала "скорая”, и, пока врачи возились с больным, Волин поговорил с его женой. Женщина не скрыла разговора, предшествовавшего сердечному приступу, рассказала о сберкнижке и о связи мужа с Мальцевой Зоей, из-за которой старик "потерял всякий стыд”, как она выразилась. — Он способен на все, — твердо, не отводя взгляда, сказала она. — Говорил с ним по телефону Курко Андрей. Лечился он от алкоголизма и работал в мастерских у Арнольда, там они и снюхались. И не те ли деньги, что Арнольд снял с книжки, отказался босяк вернуть? Что за дела у них, не знаю. Волин вернулся в комнату, где колдовали врачи. Сердитая докторша на его вопрос возмущенно замахала руками: "Спросите лучше, будет ли жить!” Судя по всему, на скорый разговор со Скрипачом рассчитывать было нельзя. "Интересно, — подумал Волин, — выходит, что старик Скрипач может иметь самое прямое отношение к исчезновению Печказова”. По дороге в отдел он заехал в психиатрическую больницу и вместе с дежурным врачом зашел в тесный кабинетик Скрипача в лечебно-производственных мастерских. На обшарпанной тумбочке стояла старенькая "Москва”. Похоже, анонимки, которые получала Печказова, печатались на ней. Новости были самые серьезные.ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 часов
— Зачем мне обманывать вас? — Мальцева вскинула брови, изображая оскорбленную невинность. Полковник Николаев был человеком выдержанным. Вот и сейчас он ничем не выдавал своего растущего раздражения. Похоже, он стучался в закрытую дверь. Как от стенки горох, отлетали от Мальцевой все разумные доводы. Она, несмотря на воскресенье, обратилась в милицию сама, без тени робости попросила приема "у самого главного дежурного начальника”. В кабинете спокойно уселась на предложенный стул, расстегнула черное тонкой кожи пальто, привычно поправила пушистую белую шапочку и… потребовала объяснить, по какому праву милиция интересовалась ею — дома и на работе. Ни Волина, ни Ермакова на месте не оказалось, и Николаев, зная, зачем искали Мальцеву, решил сам допросить ее. Решил — и вот уже сколько времени не мог добиться чего-нибудь определенного. Женщина отрицала даже самые очевидные факты. Печказова знала. Да, были дружны. Немного ухаживал, но очень недолго. Нет, никогда писем Печказову не писала. С женой его не знакома, знает о ней только со слов Печказова… Возмущаясь явной ложью, Николаев из разговора с Мальцевой все же выяснил, что она вряд ли знает о происшедших событиях. ’’Что ж, если пока не осведомлена о судьбе Печказова, возможно, к его исчезновению отношения не имеет, — подумал полковник. — Как видно, вся ее задача — избавиться от подозрений в неверности. Попробуем разъяснить дамочке, в какую историйку она влипла со своими романами!” Теперь, услышав о том, что Печказов пропал, что полковнику известно о ее отношениях с этим человеком, Мальцева сдалась. Исчезли уверенность в движениях, достоинство и невинность в глазах. Мальцева, вытирая редкие, черные от туши слезинки, принялась выторговывать плату за правду, умоляя не сообщать мужу, если она расскажет все. Представляя, что крылось за этим "все”, Иван Александрович брезгливо поморщился. Пришлось разъяснить Зое, что он попросту не вправе раскрывать глаза ее мужу, если не будет выяснено ничего криминального. Мало-помалу Мальцева успокоилась и рассказала неприглядную свою историю. Случайно познакомившись с Печказовым, она стала принимать от него богатые подарки. Между ними возникли близкие отношения. Однако она боялась разоблачения и уехала к мужу, который учился в другом городе. Оттуда она и писала письма Печказову. После возвращения встречи с Печказовым продолжались, обычно встречались днем в квартире его больной матери. Когда Печказов поздравлял ее с женским днем, то, волнуясь, сказал, что ему звонили по телефону и угрожали убить. Потом он успокоился, отмахнулся. "Пустяки все это, лишь бы ты была со мной”, — дословно запомнила она ответ. Угрожали Георгию и раньше — прежний ее друг Скрипач. Но он больной и старый. Она не придавала значения этим угрозам. А в четверг Печказов провожал ее в эту коротенькую командировку. Он приехал на вокзал, но к вагону не подходил: там оказались знакомые. Постояли немного, и Печказов рассказал, но тоже мельком, что утром к нему приходили двое. На этом они расстались, договорившись созвониться в субботу вечером. — Вчера и сегодня он не звонил, — закончила Мальцева. Собственно, нового она почти ничего не сообщила, лишь подтвердила уже имеющиеся сведения. Разговор затянулся. Полковник уже поглядывал на часы, нетерпеливо ожидая известий от Волина и Ермакова. Отпустив Мальцеву, Николаев спустился на первый этаж в лабораторию Пахомова, который по описанию соседки Печказовых составлял фоторобот неизвестных, с которыми ушел в четверг утром Печказов. Интересно, что показания соседки совпадали с рассказом Мальцевой о двоих якобы из милиции, приходивших к Печказову! Лузгин тоже видел двух парней возле гаража Печказова. Эти две фигуры заявляли о себе все настойчивей. Эксперт успел не только составить фоторобот, но и сделать множество снимков. Пахомов молча подал два снимка полковнику, и тот не сдержал удивленного возгласа: шапка, одежда, осанка снятого со спины человека на обоих снимках были очень похожи! А ведь сделаны снимки по описаниям разных людей — Лузгина и соседки Печказовых! — Возможно, что один и тот же человек приходил и к квартире, и к гаражу Печказовых? — По-моему, один и тот же, — подтвердил Пахомов, — я по описаниям так ясно себе его представляю, что, кажется, знаком с ним. Второй парень проявляется хуже, а этот описан хорошо. Конечно, — добавил эксперт смущенно, — лицо мы плохо представляем. Лузгин совсем не видел, соседка Печказовых видела мельком. Но вот со спины — видите сами, как точно. Можно ведь узнать? — Я узнал бы, — сказал Николаев. — С этого мы и начнем, — продолжал он задумчиво. — Давайте, Володя, побольше снимков. Соберем своих сотрудников — где-нибудь да всплывет эта фигура, приметная она. Мелодично звякнул внутренний телефон, эксперт поднял трубку и тут же передал ее Николаеву: — Вас. Говорил дежурный, и Николаев невольно чертыхнулся — стоило ему выйти ненадолго из кабинета, как поступили важные сведения. Звонил Волин и, не застав полковника, просил передать ему следующее. В квартиру Печказовых шантажисты звонили из автомата на привокзальной площади. Подброшенный в почтовый ящик протез челюсти действительно принадлежал Печказову. Ермаков установил-таки Тихоню. Им оказался Албин Филипп Тихонович. А сам Волин съездил к Скрипачу неудачно и сейчас направлялся в отдел. Вскоре после звонка Ермаков доставил в милицию Албина, почти следом появился и Волин. Вновь началась работа.ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 часов
Албин на вопросы отвечать наотрез отказался. Плакал, ругая все и вся так, что дежурный не выдержал, упрекнул: — Да вроде тебя насильно не заставляли ничего делать, тем более воровать, сам виноват, и ругать тебе некого. При обыске из разорванного в клочья костюма Албина извлекли записную книжку в изящном черном переплете. Ермаков полистал ее и молча показал Волину запись "Гошка” и номер телефона. — Очень может быть, что это Гогу он так именует, — сказал обрадованный Волин. Оказалось — точно. Записанный номер был номером телефона продуктового магазина, где грузчика Гошку Грибкова знали и тотчас же сообщили, что в настоящее время живет он у пенсионера Петренки. "Без прописки”, — добавлено было не без злорадства, и Волин заключил, что если и есть у Гошки друзья в магазине, то их немного. …Деревянный домик Петренки смотрел на улицу двумя захлестанными весенней непогодой окнами. Через темные сени Волин попал прямо в петренкины хоромы — кухоньку да комнату со столом, стульями, тумбочкой, старым приемником да двумя кроватями у стены. Гошка оказался дома, сидел один у стола. Увидев Волина и входившего с ним мрачного участкового инспектора, Гошка вскочил. Суетливо, по-бабьи обмахнул ладошкой стулья, пригласил садиться и на первый же вопрос Волина, который не очень-то привык к легким победам, заявил не в пример своему молчаливому шефу: — Я, граждане начальники, человек маленький, мне скрывать нечего, я все расскажу. Заявляю, что сам хотел пойти в милицию, изобличить расхитителей. Волин улыбнулся. Похоже, что показания давать будет. И действительно, Гошка сыпал слова, как горох — круглые, ровные. — Я с Тихоней в колонии познакомился. — Как в колонии? — удивился Волин. По сведениям Ермакова, Албин судим не был. — Что вы, что вы, — Гошка округлил глаза, — я с его брательником сидел, а Тихоня только навещал его. Гошка не скрывал своих связей. — Я с ним детей не крестил, пусть отвечает. А я что? Принеси, унеси. "Тога туда, Гога сюда”, — передразнил он кого-то и добавил, комично посерьезнев: — Я рабочий человек. По Гошкиному рассказу выходило, что он иногда вместе с Албиным, а иногда и без него доставлял магнитофоны в торговые точки. Как отметил про себя Волин, охотно и подробно рассказывая об этом, Гошка старался не касаться своих отношений с Печказовым. Лишь мельком в числе последних небрежно назвал он завмага. Пожалуй, слишком небрежно и слишком вскользь, чтобы Волин не обратил на это внимания. А ведь капитан знал, что Гошка виделся с Печказовым в день его исчезновения! Алексей Иванович строго спросил: — Давай-ка, Грибков, о Печказове поговорим, о Георгии Ивановиче. — А что Печказов? — Гошка насторожился и скрыть этого не сумел. — Когда виделись с ним в последний раз? Зачем? Кто велел? Гошка изо всех сил делал вид, что пытается вспомнить. Наморщив лоб, он поднял глаза к потолку, помолчал, шевеля губами, потом решительно мотнул головой: — Нет, не помню. Заметив, что капитан укоризненно покачал головой, Гошка снова заторопился: — Не помню, честно, гражданин начальник, не помню! Может, вы напомните деталь какую, чтоб я вспомнил, а? ”Ну и жук, — подумал Волин, — как он только что распинался, а вот на тебе — пытается выудить, что нам известно о Печказове. Узнает и выложит ровно столько, сколько и сами мы знаем. Однако же неспроста это!” — Провалы памяти? — сказал Волин спокойно. — Можно и напомнить. Для начала давайте о встрече в "Рембыттехнике”. Поподробнее. Вопросы те же: когда, зачем и по чьему приказу? — Да что в "Рембыттехнике”? Он и разговаривать со мной не стал! "Пошел ты”, — сказал мне Георгий Иваныч и, извините, еще нецензурно добавил. Вот и весь разговор. — И дальше? — вновь спросил Волин. — Албину об этом сказал? — А как же, — ответил Гошка, и глаза его метнулись, понял, что проговорился. — Ну вот что, парень, — построжал Волин, — хватит ходить вокруг да около, выкладывай, что знаешь о Печказове. Где он? — Это Тихоня вам набрехал, да? — Не получив ответа, он продолжал: — Да ничего я не знаю! Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся. Тихоня послал меня, приказал припугнуть завмага. Сам-то не может. Тихоня культурный. Я его и встретил в "Рембыттехнике”. Ну, какой был разговор — я уже рассказал! Доложил Тихоне, а он мне, дескать, набей ему морду, только втихую. А как я ему морду набью, если он вон какой комод? Тихоне я обещал, конечно. Ждал его, не скрою, хотел вечерком камушком в глаз засветить, но не пришлось. — Где ждал-то? Когда? — У гаража его ждал. В тот же день. Думаю, как выйдет он из машины, тут я и приварю ему кирпичиком. Стемнело уже, замерз я да и оторвался до дому. — В каком часу это было? Гошка задумался ненадолго, потом обрадованно зачастил: — Вспомнил, вспомнил, время не назову, но когда я домой пришел, у Петренки комиссия сидела — из жэка, что ли, прорабатывали его за пьянку. Вмешался участковый инспектор: — Алексей Петрович, я это мигом уточню. Опыт подсказывал Волину, что трусливый Гошка не способен напасть на решительного завмага, но он знает что-то. Стоп! Откуда Албин мог узнать об исчезновении Печказова? А он знал и именно поэтому предложил Урсу очистить склад от левого товара! Не от Гошки ли получил он эти сведения? "Построже придется с ним”, — решил Волин и, обращаясь к Гошке, сурово сказал: — Собирайся, парень, договорим в милиции. — За что, гражданин начальник? — заныл Гошка, не двигаясь с места, между тем как Волин встал, поднялся и участковый инспектор. — Сам не желаешь вспомнить, так Албин, возможно, напомнит, что было. — Да не верьте вы Тихоне, — Гошка не хотел так сразу сдать позицию. — Я ведь насвистел ему. Понимаете, насвистел, чтобы он отвязался. Откуда мне было знать, что все так повернется. А он мне пригрозил, я же говорил вам, помните? — Вы сказали Албину, что Печказов исчез? — спросил Волин напрямую. — Отвечайте коротко и ясно. — Я не говорил, что он исчез, — пытался заныть Гошка, но Волин прервал его. — А как говорил? Решительный тон подействовал на Гошку. — Ладно. И скажу. Но предупреждаю: отвечать мне не за что, я, можно сказать, беду отводил. "Опять понес”, — досадливо поморщился Волин, а Гошка, уловив эту невольную гримасу, тут же перестроился: — В общем, я Печказова ждал во дворе "Скорой", там гараж его. Уж стемнело, а его все нет. Смотрю, вроде как не я один за гаражом наблюдаю, кто-то стоит между забором и гаражной стенкой — там узенький такой проход. Человека мне не видно, только тень. Откуда он появился и когда, не знаю, но по двору не проходил, видно, с тылу зашел: там дворы проходные. "Точно, проходные”, — вспомнил капитан и потребовал: — Дальше! — Я понял, конечно, что и камушком не достану завмага — при свидетелях-то я не дурак кидаться, но интересно мне, чего мужик прячется там, за гаражом? Жду. Если, думаю, завмаг еще кому насолил, то я чужими руками с ним и разделаюсь! Посмотрю, что будет, а Тихоне доложу, что это я его пристукнул. Слышу, подъехал к гаражу "жигуленок". Я в подъезде стоял напротив, выходить не стал. Смотрю, тот из-за гаража прыг к машине. Мотор работал, и никаких слов я не разобрал, но, видно, был разговор, потому что завмаг сперва свою дверцу чуть приоткрыл, потом, видел я, перегнулся, кнопку задней дверцы — раз — выдернул и дверь открыл. Парень этот сел в машину на заднее сиденье. — Парень? — переспросил Волин. — Парень, — подтвердил Гошка серьезно, — по всему видно, прыткий, молодой. Я разглядеть его не сумел, только молодого-то от старого отличить можно. И еще шапку на нем заметил — светлая такая. — Дальше, дальше, — поторопил Гошку Волин. Опять всплывала фигура таинственного парня. — Дальше развернул завмаг своего "жигуленка” и укатил. А я домой пошел, что мне оставалось? — А Тихоня? — Тихоне я тут же позвонил из автомата и сказал, что нанял ухарей и, мол, переживаю сам, как бы его не пришибли. Тихоня меня поругал, а на следующий день примчался к магазину, как бешеный: где, мол, завмаг, куда девали?! Не буду же я ему признаваться, что я ни при чем. Но вот вам честное слово. — Гошка театрально прижал руки к впалой груди. — Честное слово, правду сказал. Тихоне я тогда наврал, дескать, узнаю все у ребят. А сам ушел с работы да и сижу дома. Звонил Печ-казову на работу, домой — нет его. А где он? — теперь во взгляде Гошки Волин увидел недоумение и искренний интерес. Значит, опять появился какой-то человек. Из числа установленных свидетелей Гошка видел Печказова последним. И с этим неизвестным.ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 часов
И в этот день не покидала Волина мысль о Скрипаче. Версия о причастности старого ловеласа к исчезновению Печказова имела право на существование и подлежала тщательной проверке. Ясность могли внести Скрипач да Андрей Курко. Но первый, Волин справлялся, не приходил в сознание, а второго разыскать не могли. Измученная, рано состарившаяся женщина — мать Курко объяснила, что сына — алкоголика не видит неделями. Где он обитает, чем занимается — ей неизвестно. После лечения парень какое-то время не пил, потом старые дружки встретились, и опять жизнь покатилась под горку. Меры к розыску Курко были приняты, но результата пока не дали. А интересно бы знать, о каких деньгах шла речь в последнем телефонном разговоре Скрипача? Зачем он снял с книжки деньги? Что за дела у Скрипача с опустившимся бывшим пациентом психбольницы? И угрозы, угрозы… Их не сбросишь со счета. Волин тщетно пытался дозвониться до квартиры Скрипача. То никто не подходил к телефону, то было занято. Наконец трубку подняли, и незнакомый мужской голос на вопрос Волина ответил, что Скрипач только что… скончался. От нового сердечного приступа. Ошеломленный этим известием, Волин долго держал в руке телефонную трубку, из которой звучал назойливый гудок отбоя.ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.30
Семен Лузгин, шофер первого класса, двадцать лет водивший автомобиль и считавший шоферскую работу самой интересной, тосковал. Впервые ему показалось, что есть дело интереснее, чем у него самого. С тех пор, как он стал невольным свидетелем попытки ограбить печказовский гараж, его жизнь утратила размеренное течение, в ней появился новый интерес. Лузгин увлекался часто — спорт, рыбалка, книги, но все это были увлечения спокойные, без особых страстей и волнений. Теперь Семен прикоснулся к событиям, происходящим на таком накале, когда вплотную вставали вопросы жизни и смерти. События захлестнули его впечатлительную душу. Все эти два дня самым страстным его желанием было найти приходивших к гаражу людей. Он был уверен, что узнает их, особенно того, высокого, в бежевом кожушке, что возился с замками и оглянулся на окрик. Такое чувство Лузгин уже испытывал однажды, когда он, отец уже двух дочерей, шагая по ночному скверику под окнами роддома, так же жгуче, до боли хотел, чтобы жена родила сына. И долго потом где-то в душе он был уверен, что именно это настойчивое желание и помогло появиться на свет сыну. Словом, очень хотелось Семену Лузгину найти парней и помочь своим новым знакомым. Ему нравились неутомимый здоровяк Волин и смуглый быстрый Ермаков, его потряс эксперт Володя Пахомов, в лице которого сочетались для Лузгина наука, техника и трудный розыск преступника. Будь его воля, Семен не уходил бы из лаборатории эксперта и день, и ночь, и все последующие дни и ночи — так было ему интересно. А еще он впервые близко увидел и поразился, насколько трудна была милицейская работа, о которой он знал раньше по книжкам и фильмам, где трудности-то были книжные и киношные. Прошлой ночью, подменившись с напарником, как и обещал Волину, он терпеливо и зорко наблюдал за гаражом, во время выездов на вызовы поручал наблюдение своим сослуживцам, уважительно отчитывавшимся перед ним по результатам дежурства. Однако все было напрасно. Сегодня Семену предъявляли для опознания снимки фоторобота, составленного со слов соседки Печказовых, и Лузгин вышел из милиции, еще более утвердившись в сознании важности своего участия в розыске. Он не чувствовал усталости после ночной смены и хлопотного дня, сказывалась многолетняя привычка к суточным дежурствам. Смеркалось, вечерние улицы в эти часы были довольно пустынными. Лузгин шел неторопливо и размышлял про себя, где можно встретить тех парней. "Судя по добротной одежке, они не ханыги, нет, — думал он. — Напротив, с претензиями ребята. Замок с шифром сразу пилить не стали, открыть надеялись. Значит, в этом деле мало-мало соображают, квалификация есть. Убегать бросились дворами, значит, подходы к гаражу изучали заранее — местные парни, наверняка местные. Ну и где же можно их застать, местных с такими ухватками? Рестораны? Могут поостеречься, коли виноваты в чем. Если я в первую очередь ресторан вспомнил, то не дураки же они, чтобы не сообразить, где искать станут". Лузгину нравился ход его размышлений. Действительно, стоит перебрать в уме все места, где могут они появиться, эти парни. Кинотеатры Лузгин отмел — не до кино им, конечно: театр, музеи и выставки отпадали безусловно. Так где же, где? Город велик. И тут Лузгина осенило. Парни знали Печказова, гараж его, квартиру, работу и все эти дни как-то появлялись именно в этих местах, значит, там и надо будет смотреть. "Кстати, — вдруг вспомнил он, — ведь у Печказова еще мать больная есть”. Лузгин принялся вспоминать, где эта квартира, в его присутствии Волин говорил Ермакову, что участковый был у Мавриди и там все в порядке. Волин назвал и улицу, но название вылетело из головы Лузгина, и он, как ни старался, вспомнить его не мог. Семен был человеком настойчивым, даже упрямым: если решил чего, добьется непременно. Конечно, он понимал, что обращаться за адресом Мавриди к Волину или кому другому из милиции бесполезно — не дадут да еще и отругают — сами, мол, справимся, не лезь не в свое дело. Лузгин посмотрел на часы — поздновато, но на вокзале справочный киоск работает, адрес узнать можно, да тут как раз и остановка автобуса близко — короче, всего через полчаса Семен Лузгин держал в руке белый листочек с адресом Мавриди. Редкая фамилия не оставляла сомнений в правильности адреса. И он не был бы Семеном Лузгиным, если бы тут же не отправился по этому адресу просто так, посмотреть. Улицу и даже дом, где жила Мавриди, он знал — недаром ведь работает столько лет на "скорой”. Дом Мавриди — старая семиэтажка с тремя подъездами: над каждым входом горела тусклая лампочка. Не подходя близко к дому, Семен остановился в скверике. ’’Середина марта, а весна не разгуляется никак”, — подумал он, оглядывая светящиеся окна, и тут дверь крайнего правого подъезда хлопнула, выпустив высокую тоненькую девушку. Разглядеть ее Семен не успел, она быстро завернула за угол, и он продолжал разглядывать окна, прикидывал, за каким из них квартира Мавриди. Так простоял он несколько минут и уже собрался было домой, как вдруг заметил направлявшегося к дому человека. Судя по походке, человек был молодым. В обычное время Семен не обратил бы на него внимания — идет да идет себе человек, но сейчас Лузгин был настороже, и ему показалось, что человек идет как-то не совсем спокойно, осторожничает, что ли. Семен ждал, когда он подойдет ближе к дому, но тот вскинул голову, глянул на окна и, быстро повернувшись, направился за угол, за которым несколькими минутами ранее скрылась девушка. Скудного света хватило, чтобы Семен Лузгин разглядел светлую пушистую шапку на голове незнакомца. Да это же тот, кто был у гаража! Не раздумывая, шофер бросился за ним. Узкая асфальтовая дорожка вела через скверик к соседней улице. Человек в пыжиковой шапке маячил впереди и резко обернулся, когда Семен, выскочив на дорожку, шаркнул подошвами об асфальт. В конце дорожки Лузгин успел заметить фигурку девушки. "Ждет”, — догадался он. Парень прибавил шагу и через несколько секунд исчез вместе с девушкой в тени деревьев, обрамлявших соседнюю улицу. Семен, уже не таясь, побежал по дорожке прямо к старым деревьям на плохо освещенной улице. Он миновал эти деревья и только подумал, что надо бы приглядеться, как вдруг улица осветилась внезапной вспышкой, и ничего не понявший Семен Лузгин, теряя сознание, рухнул на асфальт.ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 часов
Протрезвевший Албин подтвердил показания Гошки. Категорически отрицал лишь то, что давал ему задание расправиться с Печказовым. В кабинете Николаева, будто это и не было воскресенье, опять долго, подробно обсуждали дело об исчезновении Печказова, прикидывали так и этак, что нужно было сделать абсолютно срочно. Разошлись поздно. Алексей Петрович Волин, быстро поужинав, уснул как убитый. Эта ночь для него прошла спокойно. Полковник Николаев запретил дежурному сообщать ночью Волину о том, что с поезда сняли Андрея Курко, убегавшего от Скрипача, который никому уже навредить не мог. По подробной ориентировке Курко был опознан нарядом линейной милиции. Пьяному парню предложили выйти из вагона, он не куражился. При обыске у него обнаружили деньги — большую сумму. К утру Курко доставят в отдел. — А Волин пусть спит, сил набирается на завтра, — сказал полковник дежурному помощнику. И еще одно событие произошло этой ночью. Овчарка жильца пятиэтажного дома по улице Борской обнаружила на дорожке под деревьями лежавшего без сознания мужчину. Испуганный хозяин собаки позвонил в милицию и вызвал "скорую помощь”, которые прибыли почти одновременно. Когда лицо мужчины осветили, врач всплеснул руками: — Да это же Лузгин, наш водитель! Одежда Лузгина была в порядке, пальто, шапка, часы на руке, бумажник с документами — все при нем. Значит, не ограбление. В больнице выяснили, что у Лузгина травма черепа. — Ударился затылком крепко, — сказал озабоченный врач, и дежурный по району, строго наказав врачу позвонить, когда потерпевший очнется, сообщать о происшествии начальнику не стал. Фамилия Лузгина дежурному была не знакома, и он не мог связать ее с делом об исчезновении Печказова.ПОНЕДЕЛЬНИК 8 часов
В понедельник утром выспавшийся, отдохнувший капитан Волин вошел в горотдел. Еще из дома он позвонил на квартиру Печказовых, там было все в относительном порядке. Нелли Борисовна здорова, Тамара находилась при ней неотлучно, и за ночь ничего не произошло. По длинному пустому коридору Волин направился к деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, где был его кабинет, но из-за перегородки дежурного его окликнул участковый инспектор Карцев. Волин с симпатией относился к Николаю Павловичу Карцеву, не раз обращался к нему за помощью, никогда не получая отказа. Карцев давно работал на своем участке, его знали и уважали. Бывали случаи, когда Карцев здорово выручал Волина, поэтому Алексей Петрович обрадовался, увидев участкового инспектора. Несмотря на разницу в возрасте — Карцеву было около пятидесяти, — они были на "ты”: сблизила их совместная работа и взаимная симпатия. — Я тебя, Алексей Петрович, поджидаю, — поздоровавшись, сказал Карцев, — давай-ка вместе с тобой покумекаем. — Пошли, Николай Павлович, ко мне в кабинет, — пригласил Волин, пожимая жесткую руку участкового инспектора. Поднимаясь по лестнице за Карцевым, Волин оглядывал его крепкую, спортивную фигуру, отметил легкую, пружинистую поступь. Зная серьезный и основательный характер Карцева, Волин подумал, что не с пустым делом ждал его Николай Павлович. Привычно ударившись о ручку сейфа, капитан прошел к своему столу, вопросительно посмотрел на Карцева. Тот молча положил на стол снимки фотороботов, изготовленных экспертом со слов Лузгина и соседки Печказовых. На снимках явно проглядывали черты одного и того же человека, снятого со спины: бежевая дубленка с небольшим воротничком, характерно опущенные плечи, высоко остриженный темный затылок, тонковатая шея. — Знаю я его, — сказал Карцев, — мой это. — Как — твой? — не понял Волин. — Ну, мой, с моего участка. Чернов это. Миша, — пояснил участковый. И по тому, как это сказал Карцев, капитан понял, что Мишу Чернова участковый инспектор знал, но особых претензий к нему не имел, иначе не назвал бы Чернова так — Миша. — И что? — Волину не терпелось узнать об этом Мише поподробнее. Участковый инспектор покачал головой. — Трудно поверить, Алексей Петрович, но надо проверить. Миша Чернов меня никогда не тревожил особенно, так только, по мелочи. Семья неплохая была, мать не работала, за Мишей приглядывала. Потом отец бросил их, уехал куда-то, мать на работу пошла. Миша к отцу уезжал на год или два, затем вернулся. После школы на работу пошел, потом в армию. Время быстро летит, гляжу, Миша уже отслужил, женился. Мать его свою судьбу еще раньше устроила, уехала с новым мужем. Миша и остался с женой в квартире. И опять я доволен был им — не выпивал, работал, дома все тихо, учиться в институте стал. Потом смотрю — один он ходит, да и выпивши нередко. В чем дело, думаю, и узнаю, что жена-то ушла от него. Стороной я услышал, что вроде разошлись они. Волин слушал участкового, не перебивая. — Замечаю, выпивки на квартире своей Миша устраивает, девица к нему зачастила, — продолжал участковый. — Особых друзей у него нет, один только почаще других ходит. И знаешь, Алексей Петрович, — участковый вздохнул и вытащил второй снимок. — Похож на этого. На втором снимке фоторобот получился похуже. Парень был невысокого роста, и свидетели плохо видели его из-за спины второго, высокого. Четко выделялась лишь одна деталь — светлая пушистая меховая шапка. — Сам видишь, Алексей Петрович, тут, кроме шапки, ничего приметного нет, и вот у Мишиного друга, кажется мне, такая же. Итак, фигуры двух теней, мелькавших вокруг печка-зовского дела, получали материальное воплощение. Михаила Чернова и его друга нужно было срочно проверять. Когда Волин и Карцев обсуждали, как лучше это сделать, позвонил Николаев. — Алексей Петрович, — голос полковника был тревожным, — Лузгин ведь у нас по печказовскому делу проходит? — Да, он у гаража парней видел. — Давайте ко мне срочно, — прервал Николаев, и обеспокоенный Волин, попросив Карцева подождать, помчался в кабинет начальника. Вскоре пригласили туда и Карцева. Разговор был серьезным. За три дня напряженной работы следы Печказова так и не обнаружились. И вот — новое дело. Лузгина нашли вблизи дома, где проживала Мавриди — мать исчезнувшего завмага. Как оказался там Лузгин вечером? Не связано ли это происшествие с его участием в деле Печказова? Вопросы, вопросы, вопросы… Отпадала еще одна версия — несчастный Скрипач не был причастен к исчезновению Печказова, хотя при жизни страстно желал навредить ему любым способом. Перепуганный Курко рассказал еще по дороге в милицию, что именно об этом его просил Скрипач и дал за это деньги. Заполучив деньги, Андрей запил и провел ночь в городском вытрезвителе. Связываться с Печказовым он не хотел, позвонил Скрипачу и сбежал с его деньгами, чтобы погулять без помех. Николаев после беседы с Курко позвонил в вытрезвитель. Точно. Курко доставлялся для вытрезвления в 19 часов 9 марта. А завмаг провожал Мальцеву в 20.15, Гошка идел его еще позднее. — А парня этого, Курко, придется лечить принудительно, не то пропадет, — сказал Волину огорченный полковник, — но гляди, капитан, сколько пены вокруг темных дел поднимается. Ясно, что тайна исчезновения завмага скрыта в его делишках. Но вот в каких? Единственное сейчас реально появившееся новое лицо — Михаил Чернов. Опустив голову, Волин вынужден был признать справедливым упрек начальника в том, что он не довел до конца работу с Еленой Суходольской, довольствуясь сообщением участкового инспектора Гука о полном якобы порядке в квартире Мавриди. — Нет мелочей в нашем деле, — сказал Николаев, — есть небрежность, которая часто очень дорого стоит.ПОНЕДЕЛЬНИК 9 часов
Сразу после совещания навели справки о Чернове. Оказалось, что Чернов Михаил работает слесарем на железнодорожном вокзале. Работа сменная, и Чернов сегодня отдыхает, а вот в субботу работал и сменился утром в воскресенье, после 8 часов. Факт интересный: было известно, что именно из автомата на привокзальной площади шантажист звонил Печказовой и в такую рань. Чернов же работал на вокзале всю ночь — что ему стоило позвонить рано утром? Это было еще не все. Выяснилось, что к Чернову часто приходит друг, иногда просиживает у слесарей целыми днями — некто Сергей — невысокого роста, в светлой пыжиковой шапке. Где он работал и работал ли вообще — сослуживцы Чернова не знали. Однако же приметы обоих совпадали с теми, что называли Лузгин и соседка Печказовых. Волин не сомневался, что друг Чернова отыщется, раз уж на его след напали, а сейчас горел нетерпением встретиться с Черновым. Потому и казалось ему, что дежурная машина, старенькая и погромыхивающая на обнаженных весной колдобинах, идет чересчур медленно. К Чернову вместе с капитаном ехали Карцев и Владимир Пахомов — эксперт настоял на своем присутствии при посещении квартиры Чернова, вполне резонно заявив: — Помешать не помешаю, да, может, еще и пригожусь. …В квартире Чернова звонок не работал, сорвана была даже кнопка. — Непорядок какой, — вздохнул Карцев и постучал. В ответ на стук из квартиры раздался басовый лай, затем послышался голос — кто-то прикрикнул на собаку. Наконец дверь открылась. Высокого роста смуглый парень лет 25 стоял на пороге. — Здравствуй, Чернов, — негромко сказал Карцев, — разреши к тебе войти. Не в гости, по важному делу. Парень пожал худыми плечами, не ответив на приветствие, взял за ошейник огромную старую овчарку. — Входите, — сказал он и пошел в комнату первым. Теперь, в затылок, Волин узнал его — высокая, не по моде стрижка, худоватая длинная шея, покатые плечи: сомнений не было — свидетели описывали Чернова или очень похожего на него человека. Глянув на Пахомова, капитан заметил, что эксперт тоже узнал в Чернове черты фоторобота, с которым столько возился. Володя, заметив взгляд Волика, глазами показал на вешалку, где висела старая дубленка — уже залоснившаяся, сильно загрязненная на сгибах. Бежевая дубленка! Свидетели говорили о ней. Однокомнатная квартира Чернова была сносно для холостяка прибрана, только пустовата. Сухой рационализм — ничего лишнего. Чернов сел на диван, застеленный серым одеялом, покрытым клочьями собачьей шерсти — собака, видимо, обитала именно здесь. Волин и Карцев сели у стола. Пахомов остался стоять, внимательно оглядывая комнату. — Так что, Миша, — начал участковый, — с серьезным делом мы к тебе. Это, — он показал на Алексея Ивановича, — капитан Волин из уголовного розыска, а тот, — он кивнул в сторону Пахомова, — эксперт, криминалист. Я к тебе, Миша, по-хорошему обращаюсь — расскажи, какая за тобой вина числится? — Нет за мной ничего, а личная жизнь, представляется мне, не ваше дело. Выходило, что Чернов признаваться ни в чем не собирался, и Волин стал обдумывать, как же построить разговор. Еще несколько минут назад он горел желанием видеть Чернова. Ну вот, увидел, и что же дальше? Похож на фоторобот? Ну и что? Если даже и узнают его свидетели, что с того? Никаких других доказательств нет — да что там доказательств, самого Печказова нет, ищем пока ветер в поле. Карцев между тем спокойно продолжал разговор. Спрашивал о работе, зарплате, о здоровье спросил. Чернов отвечал односложно, настороженно, контролируя каждое слово. Карцев перешел к вопросам о знакомых, друзьях, сослуживцах Чернова — те же односложные ответы, и ничего, ну буквально ничего интересного. Пора было и Волину вступать в беседу — не зря же ехал. Но он не мог решить, с чего начать. Внимательно слушая, капитан не сразу обратил внимание на знаки, которые осторожно делал ему Пахомов, стоявший в коридорчике, а когда обратил, то с удивлением увидел, что эксперт показывает ему на детскую коляску, стоящую в узком коридорчике. "Что там с коляской, — подумал Волин, — что там может быть?” — и вопросительно приподнял плечи. Ордера на обыск квартиры у них не было — кто же даст разрешение на обыск, если есть только подозрения, да и то неопределенные. Поэтому и поехал Пахомов — приглядеться ко всему во время беседы. И вот его заинтересовала детская коляска. Почему? Какое она может иметь отношение к розыску Печказова? А капитан решил сыграть напрямую. — Вы знали Печказова? — спросил он. — Печказова? — переспросил Чернов и ответил, не отводя взгляда: — Нет, Печказова я не знаю. ”И не спросил, кто такой этот Печказов”, — отметил про себя Волин. — Кто приходил к вам вчера на работу? Чернов дернул плечами, собака забеспокоилась, и Волин, не получив ответа, понял, что нужно настоять на своем, обязательно настоять. Ответ покажет, лжет Чернов или нет. Ну какие могут быть основания скрывать имя товарища, просто приходившего на работу?! — Ваши сослуживцы говорили об этом, так что скрывать нет смысла, — капитан тем самым решил сказать, что Чернова проверяли уже по месту работы. — Пусть тогда сослуживцы и назовут вам его, — не сдавался Чернов. — А почему вы не хотите назвать? Какие причины есть к тому? — настаивал капитан, и Чернов, видимо, понял, что трудно объяснить это упорство. Понял и сделал правильный вывод. — Сергей приходил. Суходольский. ’’Суходольский! Что это? Опять совпадение? За матерью Печказова ухаживает Лена Суходольская! Так совпадение или… на этот раз нет?” — Расскажите о нем, — потребовал Волин. Чернову явно не понравилось это требование. Он молчал, затем хлопнул рукой по дивану рядом с собой. Собака тотчас вспрыгнула на диван, положила голову на колени хозяина, продолжая глазами следить за Волиным. "Обезопасился, — подумал Волин, — боится нас, что ли?” В разговор вмешался Пахомов: — Разрешите, товарищ капитан, один вопрос? — Давайте, — разрешил Волин, и эксперт спросил Чернова, показывая на коляску: — Это ваша вещь? Чернов ответил нарочито набрежно, но за этой небрежностью почувствовалась тревога: — Это я взял у сестры, еще когда жил с женой. Ребенка мы ждали. Потом жена уехала, а коляска так и осталась. — Алексей Петрович, я прошу вас перенести беседу в милицию, — попросил Пахомов. Волин хорошо знал эксперта. Для этой просьбы были, видимо, самые серьезные основания. Сам капитан тоже подумывал об этом. Знакомство Чернова с Суходольским настораживало. Чернова следовало подробно допросить, а в условиях горотдела это проще сделать, да и проверить показания можно быстрее. И еще — сердце Волина болело за Семена Лузгина. Как он? Пахомов внимательно следил, как Чернов замыкает дверь, попросил показать тонкий стальной ключ с причудливыми бородками на конце. — Изготовили сами? — поинтересовался он. — И замок тоже? — Что здесь сложного? — опять пожал плечами Чернов. — Я ведь слесарь. По дороге Волин пытался выяснить у Пахомова, что его заинтересовало, но эксперт лишь шепнул тихонько: "В отделе”. Едва приехали, Пахомов, пообещав позвонить, направился в лабораторию, а Волин, проводив Чернова в свой кабинет, поручил Карцеву собрать в паспортном столе сведения о Суходольском, разыскать участкового инспектора Гука, справиться о Елене Суходольской. — И еще, — добавил он просительно, — пожалуйста, о Лузгине узнайте. Карцев молча кивнул. В отделе, Волин был прав, все закружилось с молниеносной быстротой. Первым удивил всех эксперт. Не успел капитан приступить к допросу, как его пригласил Николаев. Войдя в кабинет начальника, Волин увидел, что полковник вместе с экспертом разглядывает тонкие блестящие стерженьки. "Да это же обломки отмычки из замка печказовской кладовки”, — узнал Волин. — Я думал, откуда они могли быть? — возбужденно говорил эксперт. — Сравнивал с вязальными спицами, со спицами от зонтов — нет, все не то. — Он обернулся к Волину: — Алексей Петрович, эта отмычка, — эксперт кивнул на стерженьки, — она из верхнего остова коляски, что в коридоре у Чернова стоит! Вы прошли к столу, — продолжал эксперт, — а я как раз возле коляски остановился. Гляжу, верхний остов, ну, на который тент натягивается, в коляске лежит, клеенка с него снята и несколько спиц откушено кусачками, пригляделся — очень похожи спицы на детали отмычки. Мне теперь нужны те спицы, из коляски, проведу экспертизу и дам точный ответ. Но мне кажется, я не ошибся. — Если Володя не ошибается, надо у Чернова обыск делать, — задумчиво сказал Николаев, — может, еще что отыщется. Буду просить санкцию прокурора на обыск. И вот еще что, Алексей Петрович. Ваш Лузгин очнулся и подтвердил наши худшие опасения. Напали на него. Он решил посмотреть на дом Мавриди, затем пошел вслед за человеком, показавшимся ему знакомым. А парня этого, говорит, девица ждала, и вышла она из подъезда, где живет Мавриди. Жаль Лузґина — хороший человек. В общем, сейчас Суходольскую привезут, поехали за ней. Старушку договорились пока в больницу устроить. Полковник замолчал. Волин тоже молча обдумывал услышанное. За несколько минут два таких важных сообщения! Хотя эксперт торопился с обыском у Чернова, решено было вначале провести опознание Чернова соседкой Печказовых. — Лузгина беспокоить нельзя, а если Чернова опознают, будет у вас предмет для разговора — раз и основание для обыска — два, — сказал Волину начальник и оказался прав. Уже через полчаса соседка Печказова безошибочно указала на Чернова, стоявшего спиной к ней в целом ряду мужчин. — Он это, можете не сомневаться, — заявила женщина, — я его хорошо разглядела. Сначала в глазок, а потом видела в затылок, когда они по лестнице спускались с Георгием Ивановичем. Куда вы его дели? — горячилась она. Чернов молчал, опустив голову. Ничего не отрицал, ни в чем не признавался. Молчал — и все. Но подавленность его была явной. Увидев Пахомова, обвешанного аппаратами, с внушительным саквояжем в руках, и узнав о предстоящем обыске, Чернов помрачнел еще больше, хотел сказать что-то, но, передумав, только махнул рукой. И молчал всю дорогу до дома. Пригласив понятыми соседей, Алексей Петрович попросил на время обыска оставить в их квартире собаку. Те согласились. Чувствуя тревогу хозяина, собака в чужой квартире хрипло взлаивала, подвывая. Под этот аккомпанемент и пришлось проводить обыск. В большом ящике для слесарных инструментов нашли части металлических стержней с явными следами обработки. Стержни сняты были с каркаса детской коляски, который тожеизъяли.ПОНЕДЕЛЬНИК 11.20
— Смотрите, ребята, как набухли почки на этой березе! Пройдет еще немного времени, почки лопнут, появятся ярко-зеленые листочки… Лидия Ивановна, юная учительница третьего класса "А”, проводила урок природоведения в лесу за поселком. Сегодня он был посвящен весне. Совхозный поселок — в 60 километрах от города, и Лидия Ивановна считала своим долгом прививать ученикам любовь к родной природе. Лес постепенно очищался от снега. На полянках сквозь мокрую прошлогоднюю траву проглядывала первая смелая зелень. Дорога на взгорках была почти сухой — песчаная почва не держала влагу, в низинках же стояло топкое месиво. За поворотом дороги у речки росли вербы, к ним-то и спешила Лидия Ивановна со своими ребятами. На их тонких ветках, как стая маленьких птичек, сидели пушистые желто-белые соцветия. Внезапно она заметила, что возле нее остались только девочки, да и те нетерпеливо поглядывают за поворот, куда побежали шустрые мальчишки. — Догоняем! — крикнула она своим спутницам и первой побежала по лесной дорожке. За ней с восторженным визгом бросились девочки. Ребячьи голоса звонко разносились по гулкому лесу. Лидия Ивановна бежала впереди — молодая, легкая, радостная. Через несколько метров изгиб дороги закончился, Лидия Ивановна выбежала к реке и сразу увидела, что ребята столпились у красной легковой машины, глубоко, по самый кузов зависшей задними колесами в низинке. Молодая учительница подбежала туда, остановилась у красной машины. Обычно шумные, ребята притихли и стояли кучкой. На заднем сиденье машины, неудобно подогнув под себя ноги, лежал полный мужчина в распахнутом сером пальто. Лицо было полуприкрыто клетчатым пушистым шарфом, но Лидия Ивановна заметила неестественную бледность этого лица. — Плохе? человеку, — заговорила она и сильно постучала по стеклу. — Вам плохо, товарищ?! — теперь уже прокричала учительница. Может быть, слишком громко в окружавшей ее тишине. — Лидия Ивановна, он мертвый, — вдруг сказал кто-то из мальчиков. Учительница снова заглянула в машину и вновь увидела странную неподвижность, какую-то неживую, непривычную позу лежащего. ’’Мертвый?!” — подумала она, и это показалось ей настолько нелепым, что она не поверила. Кругом было столько солнца, таяли последние островки ноздреватого снега, на вербе кудрявились пушистые шарики… И вот — смерть. Немыслимо!ПОНЕДЕЛЬНИК 12 часов
— Разрешите? — В кабинет Николаева вошел участковый инспектор Гук, расстроенный, целиком еще находящийся под впечатлением утреннего нагоняя, полученного за легковерие и безынициативность. — Входите, — голос полковника прозвучал доброжелательно. Он знал меру разносам. Обескураженный инспектор нуждался в поддержке — он получит ее. Гук почувствовал, что полковник больше не сердится, расправил нахмуренный лоб. — Товарищ полковник, я Суходольскую привез, — он показал рукой на закрытую дверь. — К зубному врачу она в субботу не ходила. Еле призналась… — И что? — поинтересовался Николаев. — Все, — смутился инспектор, — плачет теперь только. — Ну, видите, Гук. На вашей ошибке мы два дня потеряли и, возможно, очень нужных нам два дня. Гук виновато опустил голову, затем обратился к начальнику: — Возможно, это не имеет значения, но вдруг пригодится. Сейчас в коридоре Суходольская поздоровалась со смуглым таким человеком из магазина "Радиотовары”. С которым Ермаков работает. Он в коридоре сидит. — Спасибо, Гук, за наблюдательность, сообщим-ка мы об этом Ермакову, пусть поинтересуется, — полковник взялся за аппарат селектора. Переговорив с Ермаковым, Николаев попросил Гука: — Зовите Суходольскую. Волин был на обыске у Чернова, Ермаков занимался с Урсу, и сейчас никто в отделе лучше полковника не знал обстоятельств этого дела. Допрос Суходольской должен был дать интересные результаты, и Николаев решил, не откладывая, встретиться с ней сам. Кое-какие справки о ней навести успели. Молодая женщина обладала явными авантюристическими наклонностями. Чего стоит, например, только одна ее служба у Мавриди. Последние события, и в частности нападение на Лузгина, позволяли думать и о том, что Суходольская как-то причастна к печказовскому делу. Для простого совпадения все слишком сложно, хотя полковник не раз имел возможность убедиться, как неожиданно порою жизнь воедино скручивает факты. Николаев решил дать Суходольской возможность рассказать то, что она сама считает нужным. Если в чем-то замешана — будет шанс признаться, заслужить снисхождение: это немаловажно для человека, попавшего в скверное дело. — Так что, будем рассказывать? — полувопросительно сказал полковник, когда Суходольская появилась в его кабинете. — Начните со знакомства с Печказовым. Суходольская молча кивнула, достав платок, вытерла слезы. Многое из того, о чем она рассказывала, полковнику было известно. О посещениях ею квартиры Мавриди, о связи с Печказовым рассказывали соседи Мавриди и Нелли Борисовна. Лена пыталась приукрасить события своей жизни — явно не хотелось ей признаваться в своей несостоятельности. — Печказов мне много предложил, на стройке я меньше получала. Вот и согласилась. Он сказал, у Эммы Павловны есть сбережения, из них и будет платить… — А теперь о вчерашнем расскажите. Есть основания полагать, что вечер у вас был беспокойным. Глаза Суходольской опять налились слезами: — Как это? — переспросила она. — Вот я и хочу услышать от вас, как это. Почему вы поздно ушли от Мавриди? — Эмма Павловна беспокоилась. — А мужа не ждали? — Мужа? — Да, мужа, — подтвердил Николаев. — Ну, обещал он прийти. — Голос Суходольской дро-жал. — Пришел? Суходольская опустила голову, не решаясь ответить. — Так пришел муж? — настаивал Николаев. — Пришел, — прошептала Суходольская и заплакала уже в голос. Николаев налил ей воды, переждал минуту и предложил: — Давайте-ка, Лена, все начистоту. Мужчина тот, Лузгин, тоже ведь кое-что рассказал. Суходольская открыла лицо, явно обрадованная словами полковника. — Значит, жив он? — с облегчением переспросила она. — Жив, в больнице. — Господи, а я так переживала, — печально и искренне сказала Суходольская, и Николаев поверил ей. Действительно переживала она, иначе так не среагировала бы на сообщение о том, что Лузгин жив. Но что крылось за этим переживанием? За кого боялась Суходольская? За Лузгина или за себя и своего спутника? Николаев молча ждал. — Я расскажу, — торопливо заговорила Суходольская. — Муж за мной обещал зайти. Я вышла, жду его за домом Мавриди, там скверик такой. Вижу — идет. Только прошел дорожку, вдруг за ним мужчина — бегом. Мы — от него, встали за дерево, а когда он поравнялся с нами, Сергей его и ударил. — Чем ударил? Только правду! — Кастет у него в перчатке. ’’Немудрено, что Лузгин столько времени без сознания провалялся. — Кастетом!” — подумал Николаев и спросил: — И за что же он ударил мужчину? — Сказал, что этот тип за ним охотится. И все. — Где сейчас Суходольский? — Не знаю, — быстро ответила Лена, — правда, не знаю. Я ему говорила, чтобы в милицию шел, а он только ругался — поздно, говорит. И сказал мне, что сам меня найдет. Может, у родителей? — предположила она. — Уехать куда-то хотел… Я ему денег обещала достать… Попросив Лену подождать в приемной, Николаев распорядился о розыске Суходольского. И все это время полковника не оставляла мысль: какое же отношение к делу Печказова имеет нападение на Лузгина? — Давайте теперь к Печказову вернемся, — предложил Николаев. Суходольская покорно кивнула. — Куда он исчез, как по-вашему? Суходольская пожала плечами: — Не знаю. Угрожали ему, он и скрылся. — Кто угрожал? — Ну, рассказывал он мне, что женщина ему звонила, сказала, чтобы остерегался, а то убьют. — Убьют? — переспросил Николаев. Суходольская отвела глаза: — Убьют, так он сказал. — Может быть, и убили? — Николаев внимательно смотрел в лицо Суходольской, она испуганно замахала руками: — Да что вы, что вы такое говорите, не могли его убить! — Откуда такая уверенность? Почему не могли? Кто мог звонить? Кто чужой приходил в квартиру Мавриди? Почему был беспорядок в комнате старухи? Четкие, быстрые вопросы так и сыпались на Суходольскую, не давая ей опомниться. Лишенная возможности что-то придумать, Суходольская терялась, и в ответах ее появились шероховатинки, несуразности, не ускользнувшие от полковника, и он все более убеждался, что Суходольская не до конца искренна. Но она рассказала о нападении на Лузгина! Значит, то, что она скрывает, важнее для нее? Николаев окончательно понял, что Суходольская лжет, когда спросил ее: — С Василием Урсу знакомы? — Нет, — коротко ответила Суходольская. — Ну, знаете. — Николаев в возмущении развел руками, но пристыдить Суходольскую не успел. Послышалось ровное жужжание селектора. Полковник щелкнул клавишей. — Да… В кабинет ворвался взволнованный голос дежурного: — Товарищ полковник, срочное сообщение! В лесу за совхозным поселком школьники обнаружили красные "Жигули". В машине — труп мужчины. По всей видимости, это Печказов. Оперативная группа к выезду готова. Николаев не прервал, как хотел вначале, сообщение. Слушая, он не отрывал взгляда от Суходольской, и его поразило, как она удивительно изменилась. Побледневшее лицо, остановившийся взгляд, тонкие руки, хватающие горло, — все говорило о сильнейшем потрясении. — Убили… Значит, убили. — Голос Суходольской был едва слышен, она, казалось, говорила сама с собою — растерянно, горестно. Видя, что Николаев встает из-за стола, она вдруг резко тряхнула плечами, сбрасывая оцепенение, и сказала: — Нет, не согласна я. — С чем? — переспросил полковник, думая о том, что придется отложить допрос Суходольской. Надо было выезжать на место происшествия и допрос перепоручить. — На убийство не согласна, — окрепшим голосом, не замечая нелепости такого заявления, серьезно сказала Суходольская. Потом попросила: — Выслушайте меня, не уходите. И Николаев понял: допрос откладывать нельзя — Суходольская решилась сказать правду. Он молча кивнул, вновь сел за стол. Монотонно, бесцветно, как будто пережитое потрясение лишило красок не только лицо, но и голос, Суходольская сказала: — Я их обманывала, понимаете? Мой муж, Сергей, от Васи Урсу узнал, они одноклассники, что у Печказова много денег. А я подтвердила, я ведь раньше их знала — Мавриди и Георгия. Ну и сказала — сама не знаю зачем, что, мол, да, деньги у него есть, золото, драгоценности в тайниках. В квартире Мавриди, мол, в полу тайник, там деньги и бриллианты. Ну, они меня и уговорили к Печказову пойти работать. Когда он предложил мне за матерью ухаживать, они обрадовались — давай, давай, мол, тайник найдешь. А какой там тайник, — она безнадежно махнула рукой и продолжала: — Замучили они меня — подавай им тайник, уж чего я им только не выдумывала. Они злиться начали, сами, говорят, найдем. Тогда я сказала, что тайник пуст, деньги Печказов забрал, перепрятал. Они говорят, значит, придется его прижать, а жаловаться не станет: деньги нечестные. Я испугалась. И позвонила ему по телефону. Постаралась изменить голос. Сначала просто угрожала. А потом сказала, что его хотят убить. И пусть он осторожнее будет… Но Георгий Иванович, мне кажется, всерьез этого не принял. И все-таки я надеялась, что после такого звонка он насторожится, испугается и ничего страшного не случится. А вечером после праздника Сергей с другом пришли к Мавриди, пьяные оба. Сергей ударил меня, обзывая… Все перерыли — не поверили мне про тайник. Телефон зазвонил — трубку разбили. На следующий день я узнала, что Печказов исчез, но они уверили меня, что он куда-то смылся. Я не хотела думать о плохом. И вам не хотела об этом говорить, может, думаю, отыщется Георгий Иванович. И вот… Отыскался… — Она закрыла лицо руками. — Кто это — друг мужа? — спросил наконец Николаев. — Урсу? Суходольская затрясла головой: — Нет, нет, что вы! Чернов это. Чернов.ПОНЕДЕЛЬНИК 14 часов
Волин и Пахомов приехали, когда возле красных "Жигулей” уже стояли полковник Николаев, немногословный молодой прокурор, следователь прокуратуры Серов и судебно-медицинский эксперт Горышев. Чуть поодаль небольшой тесной группкой притихли понятые и испуганная молодая учительница. У колеса милицейского "газика”, свесив на сторону язык, сидела красивая, с черной спиной овчарка. Кинолог Гурич поздоровался с Волиным, смущенно теребя поводок, и. Алексей Петрович понял без объяснений: собака след не взяла. Эксперт Пахомов, которого все ждали, поудобнее пристроил свой внушительный чемодан, раскрыл его. Серов попросил понятых подойти поближе. Начался осмотр места происшествия. Волин внимательно наблюдал, как священнодействует Пахомов, слушал тихий голос прокурора, диктующего Серову протокол: — На передней правой дверце снаружи, на подголовнике кресла водителя бурые следы, похожие на кровь… сделан смыв… труп лежит на спине… руки заведены назад, связаны многократным обвитием белого шелковистого шнура… одежда сильно помята… Наступил черед судебно-медицинского эксперта. — На затылке глубокие раны. Прижизненные — кожа сильно рассечена. Потеки крови к воротнику, вниз. Были три удара — сзади, чуть справа, когда потерпевший находился в вертикальном положении — сидел, по всей вероятности. Лицо синюшно. Асфиксия, я думаю, — сказал Горышев, снимая перчатки. — К вечеру проведу экспертизу. Волин пытался представить себе трагедию, разыгравшуюся в машине. Вот подъезжает Печказов к гаражу, вот подбегает к машине неизвестный, говорит что-то, и Печказов впускает его в машину. Итак, незнакомец сел в машину сзади. Трудно поверить, что один. Печказов грузен, достаточно силен — вряд ли справится с ним один человек, где-то, наверное, подсел и другой. Три сильных удара по голове — с заднего сиденья. А дальше? Видимо, требовали деньги, ценности. Волин вспомнил, что говорили знакомые и сослуживцы о Печказове: на грани жизни и смерти не расстанется он со своим добром. Так и случилось. Печказов ответил отказом, преступники настаивали, связали его и вот — смерть. Потом они пытались найти тайник сами — не удалось, решили шантажировать жену Печказова. Мерзость какая. И ради чего? Волин вспомнил перчатку с купюрами, поморщился. К капитану подошел Николаев, встал рядом, тронул за рукав расстроенного Волина, дружеским жестом успокаивая его, и сказал тихо: — Следствием займется прокурор. За нами — розыск. Нужен Суходольский. Волин молча кивнул. Да, нужен Суходольский. Чернов молчит. Пока молчит.ПОНЕДЕЛЬНИК 16 часов
Перепуганный событиями Урсу не стал скрывать своего знакомства с Суходольскими. Анатолий Петрович Ермаков, успевший уже изучить характер своего подопечного, только намекнул, что дело Печказова осложняется и очень возможно, что… Урсу, пламенея щеками, схватился за голову: — Неужели и тут я буду замешан?! О Господи, за что мне такое, за что? — застонал он. Не удержавшись, Ермаков мстительно заметил: — А за легкую жизнь. — За легкую?! — в возмущенном голосе Урсу преобладала горечь. — Какая же это легкая жизнь! Я за те сотни, что получил от Печказова, столько страху натерпелся. И расплачиваюсь сейчас репутацией, нервами, здоровьем… — Свободой, — опять не удержался Ермаков. — Свободой, — покорно согласился Урсу, — и свободой тоже, да и еще много чем — жизнь себе покалечил. А чего ради? Где же те деньги? Я и не видел их! Разошлись куда-то все… А не разошлись бы, так еще хуже — страх постоянный. Мне ведь Георгий Иванович все наказывал: "Вася, осторожно, мол, следить могут, люди заметят". Урсу замолчал. Молчал и капитан. Разговор напомнил о печказовском богатстве — слежавшихся купюрах на гаражной полке. Урсу произнес убито: — Конец, всему конец… Ермакову было жаль этого запутавшегося парня, который не только тяжело переживал, но и — а это Ермаков считал главным — искренне стыдился происшедшего. А Урсу рассказывал все без утайки. — С Суходольским мы учились вместе в 9-м и 10-м классах. Не дружили, нет, — заторопился он, предвосхищая вопрос капитана. "Как угадывает", — подивился Ермаков, действительно собиравшийся уточнить эту деталь. — Я в эту школу пришел уже в девятый, у Сергея компания своя была. Я-то деревенский, жил у тетки, — пояснил Урсу, а Сергей, что называется, фирмовый парень, и друзья у него такие же. Приторговывали они всякой иностранной ерундой — майки, сигареты. Я его интересовал мало. После школы не встречались. А нынче где-то после нового года случайно в торговом зале встретились. Вижу, позолота с него пооблезла, но все еще о себе много понимает. Магнитофон пришел покупать. У нас, вы знаете, — Урсу смущенно запнулся, — ну, бизнес в разгаре был, и я ему пообещал. Да еще захотелось доказать, вот, мол, и мы в люди вышли. В люди, — повторил он, вздохнув, — короче, сказал ему, чтобы пришел он в магазин через день. Суходольский явился с другом. Я им — магнитофон, они мне деньги, вот и все. Правда, о Печказове меня спросили, завмаг, мол, ваш, поди, миллионами здесь ворочает. Видели, что я деньги-то в кассу не сдал, догадались. — Урсу замолчал. — А самого Печказова они видели? — Да, они меня и разыскали у Георгия Ивановича в кабинете. Суходольский дверь приоткрыл, я его увидел и вышел. — Значит, вы только два раза встречались с ними? — Нет, больше. Они еще несколько раз приходили. Просто так. Ничего не покупали. — С другом Суходольский вас знакомил? — Знакомил, конечно. Зовут его Миша. Фамилию не называл. Помню, Суходольский сказал о нем "золотые руки”. А кто он, не знаю. — Расскажите о Суходольском, — попросил Ермаков. — Суходольский… Расскажу, что знаю. Но я мало о нем знаю, — сразу оговорился Урсу. — Рассказывайте, что знаете, — подбодрил его капитан. — Учился он так себе, средне. А компания, я уже говорил, у него своя была — фирмовая. — Что значит "фирмовая”? — переспросил Анатолий Петрович. — "Фирмовые”, так они сами себя называли, ну и мы тоже, — пояснил Урсу. — Одевались модно, вещи там всякие — "зарубеж”, музыка — тоже "зарубеж”. Деляги ребята. Все какие-то у них свои разговоры, интересы свои — только и слышно: продал — купил. У нас школа-восьмилетка в поселке, я в девятый приехал в город. Жили скромно — даже в столовой ни разу не был, а они уже и в ресторанах побывали… Короче, я для этой компании интереса не представлял. И все. Дальше и не знаю, что рассказывать. — Урсу вопросительно посмотрел на Ермакова. — А родители? — спросил тот. — Мои родители? — не понял Василий. — Суходольского! — А, Суходольского! Мать видел несколько раз. Ничего, нормальная женщина. Дома у них не был, не приглашали. Помню, говорил он, что отец у него — крупный начальник, все время в командировках за границей бывает. Мать тоже — то ли с торговлей, то ли с заграницей связана. — Начальники, говоришь, большие, — изумился Ермаков. Он знал, что мать Суходольского была паспортисткой в жэке, отец работал заготовителем. А сыну, выходит, они в таком качестве никак не подходили! — Задавался он много, а сам — так себе, пустой малый, — подытожил Урсу характеристику Суходольского. ”Ну, не скажи, — не согласился с ним капитан. — Попросту недооцениваем мы таких типов. А он, судя по всему, далеко не такой пустой”. Заканчивая разговор, Ермаков поинтересовался: — Где он живет, знаете? И где друг его живет? Урсу ответил, не раздумывая: — Нет. Ни того, ни другого адреса я не знаю. Суходольский женился ведь, он сам говорил. А где живет — не рассказывал. Так что просто не знаю, чем вам помочь, — развел руками Урсу, — могу позвонить одноклассникам, если нужно, поспрашивать. Может, кто знает…ПОНЕДЕЛЬНИК 18.30
На обратном пути Волин заскочил домой. Высаживая его у подъезда, полковник Николаев шутливо сказал: — Отпрашивайся, Алеша, на ночь, — и добавил уже серьезно: — Торопись, машину пришлю через полчаса. Волин кивнул. Яснее ясного: предстоит бессонная ночь. За день Суходольский обнаружен не был — проверили и квартиры родителей, и жены, и установленных знакомых. Искали в столовых, кинотеатрах, на вокзалах — Суходольский не появлялся нигде. Предстояло продолжить работу и ночью. Суходольский уехать не мог. Судя по рассказу Лены, денег у него не было совсем, и он намеревался достать их любым путем. Ясно, что путь этот может быть и преступным. Были приняты, казалось, все меры предосторожности. Целый день с Суходольской провела Таня Богданова — толковый работник уголовного розыска. Тот магнитофон, что Лена, не удержавшись, стащила из квартиры Мавриди, она сдала в ломбард. Так что деньги у Лены были, но Суходольский не шел… …Люся была дома. Чмокнув мужа в щеку, она побежала на кухню — по опыту знала, что он ненадолго, и на ходу крикнула Волину, взявшему на руки маленького Алешку: — Позвони Печказовым, тебя Тамара разыскивала. — Давно? — тревожно спросил Алексей Петрович, ставя на пол сына. — Нет, с полчаса, может быть, или минут сорок. — Не сказала, зачем? — Волин уже набирал печка-зовский телефон. — Не сказала, — ответила Люся. В трубке раздался голос Нелли Борисовны. — Слушаю вас. — Это Волин, — сказал Алексей Петрович и услышал, как облегченно вздохнула Печказова. — Слава Богу, Алексей Петрович, это вы… — Что случилось? — перебил ее Волин. И тут же заговорила Тамара Черепанова. Она, видимо, свято выполняла наказ капитана — при каждом звонке брала трубку второго аппарата. — Алексей Петрович, опять звонок был. Слушайте, я записала. "Деньги приготовьте срочно. Скоро снова позвоню и сообщу, как передать. Продавать меня не советую. Хуже будет”. Разговор станция зафиксировала — мы недавно только трубку положили. Тамара замолчала. — Молодец, Тамара, — похвалил ее Волин, — обдумаем все, и я позвоню. Итак, шантажист был здесь, в городе. И от замысла своего не отказался. Волин еще раз мысленно перебрал всех, кто как-то причастен был к делу: задержаны Курко, Албин и Чернов. На свободе Суходольский и Урсу… Но с Урсу вроде бы Ермаков разобрался, ему можно верить. Значит, остается Суходольский. Но до чего же дерзок! "Интересно, откуда звонил он на этот раз?” — подумал Волин, доставая пальто. Он и забыл, что пришел домой поесть перед трудной работой. Из кухни выглянула раскрасневшаяся жена: — На столе все уже, давай быстро! Волин подчинился, передал пальто Алешке, погладил его по голове, подумав с огорчением, что некогда совсем побыть с сыном. Наскоро поев, выпив большую чашку крепчайшего кофе, Алексей Петрович вышел в начинающиеся сумерки. Машина начальника уже стояла у подъезда.ПОНЕДЕЛЬНИК 20 часов
Чернов продолжал молчать. Смотрел затравленным зверем и молчал. Не отвечал ни на какие вопросы. И невозможно было до него достучаться. Николаев ещё днем вызвал участкового инспектора Карцева, разъяснил обстановку, попросил: — Соберите о Чернове все, что можно, даже в школу сходите. На завод. Почему он завод оставил? О жене справьтесь, ребенке. Так ли уж безнадежен этот разрыв? Озлобился он, — пояснил полковник. — Озлобился, — согласился Карцев. В кабинет полковника зашел озабоченный следователь прокуратуры Серов в темно-синем, ладно сидящем форменном костюме, подтянутый, строгий. За ним — эксперт Пахомов. Николаев, хорошо изучивший своих ребят, видел едва сдерживаемую Пахомовым гордость. "Закончил экспертизы, — догадался он, — ах, молодец какой. Везет нам на криминалистов!” Полковник был прав. — Это черновики, — смущенно сказал эксперт, протягивая начальнику исписанные от руки листки, — я не успел оформить, но вот Николай Иванович, — он кивнул на Серова, — просил вам доложить. — Просил, — кивнул головой Серов, — с такими данными можно твердые выводы делать. Смотрите сами. Николаев взял первый лист. Опустив обширную описательную часть, нашел глазами крупно написанное слово: "выводы". Прочел. Ясно. Не ошибся Пахомов. Части отмычки из кожуха замка и стержни из квартиры Чернова изготовлены из остова детской коляски. "С высокой степенью квалификации” — написал эксперт. Ах, Чернов, Чернов, куда приложил свои золотые руки! Николаев поднял глаза на Пахомова, тот молча кивнул. Да, так оно и есть — в подвал Печказова ходил Чернов. Отмычки — его работа. Полковник взял следующий лист. "…Представленные на исследование переплетения", — начал читать Николаев на другом листе, и Пахомов пояснил: — Это шнур, которым Печказов был связан, выполнены из шнура бытового плетеного с наполнением из отходов полиамидных нитей: артикул 48-030-01-58 производства объединения "Химволокно". Диаметр шнура 5 мм. Этот шнур идентичен изъятому в квартире Чернова мотку шнура”. Опять Чернов! Заметив, что Николаев закончил читать, Серов сказал: — Звонил Горышев. Причина смерти Печказова — асфиксия. Задушен Печказов. Кровь в машине — Печказова. — И все-таки Чернов молчит, — задумчиво сказал полковник. — Подход к нему мы пока найти не сумели. И Суходольский на свободе. Он наклонился к селектору, вызвал дежурного, спросил негромко: — Что-нибудь от Волина есть? — Молчит, товарищ полковник, — ответил дежурный. — И этот молчит, — вздохнул Николаев.ПОНЕДЕЛЬНИК 21 час
Вскоре позвонил Волин и сообщил неутешительные вести: Суходольского не нашли, как сквозь землю провалился. К жене и родителям он не заходил и не звонил. Слушая капитана, Николаев представлял себе его усталое, расстроенное лицо и мягко сказал в трубку: — Вот что, Алеша. Я у себя. Жду тебя. — И положил трубку. Вскоре пришел Карцев. Развязал белые тесемки картонной папки, достал документы. Характеристики у Чернова оказались, можно сказать, безупречными. Вот личное дело школьника Миши Чернова. Крупные, четкие буквы, нестандартные, объемные слова… Добрый, отзывчивый, любит читать… На заводе у Чернова тоже нет замечаний. Здесь слова суше, формальнее. Словно усреднено все. Вроде и гладко, и хорошо, а не поймешь, что за человек стоит за этими словами. Просмотрев бумаги, Николаев вскинул глаза на Карцева: — Как же так, Василий Тимофеевич? Ведь неплохой, казалось бы, парень?! Карцев сокрушенно покачал головой: — То-то и обидно, что неплохой. Я прикинул, у него с семьи началось, с разлада. Сперва его отец бросил, потом уехала мать и жена тоже. Вроде не нужен никому. Остался один, выпивать стал. Известное дело, одиночество и водка к добру не приводят. Характеристика-то, — он кивнул на бумаги, — гладкая, а я на заводе поговорил с ребятами: как раз смена, где он работал, заступила. Совсем другое говорят. Заметили Мишу в выпивке — ругать стали. То есть кругом плохо — дома и на работе. Озлобился, ушел с завода. И друг тут, конечно, помог. Суходольский. А жена-то от Миши уехала в положении, — Карцев вздохнул. — Ребенок родился уже? — спросил Николаев. Карцев кивнул: — Мальчик. — Чернов встречался с женой после этого? Видел сына? — Ездил, говорят, к ней. Не знаю, до чего они договорились. У меня телефон ее записан, позвонить можно. Но сейчас, конечно, поздно… Подумав, Николаев вдруг предложил: — А давайте, Василий Тимофеевич, вместе поговорим с Черновым. Карцев заметно обрадовался. — Я и оам хотел просить, чтобы дали мне с ним поговорить, — сказал он. — Все-таки мы раньше беседовали и не раз. Сдается мне, сам он переживает сильно, и сбил его с панталыку приятель этот. Суходольский. Вот тот, по всему видать, фрукт!.. И с собачкой надо решить, — добавил он, помолчав. — Что с собачкой? — не понял Николаев. — Собака Чернова, овчарка-то, — пояснил Карцев, — у соседей осталась. А она тоскует и воет. Соседи пришли ко мне — забирайте. Что делать? Увел я ее к себе, благо смирная. Но скучает она. Не ест ничего. Голову на лапы положила и с двери глаз не спускает. Пусть Чернов собакой бы распорядился… Когда ввели Чернова, участковый инспектор тихо ахнул. За сутки Миша осунулся, под измученными глазами легли тени, тонкая шея выглядывала из ворота беспомощно и жалко. Чернов сел на предложенный стул, сложил руки в замок, уронив их между коленями. ’’Преступнички!” — горько ругнулся про себя Карцев, подавляя жалость и гнев. Легко ли видеть такое! Николаев уловил настороженный, ожидающий взгляд, брошенный Черновым на участкового инспектора, и сказал: — Вы спросить о чем-то хотите, Чернов? Чернов молча кивнул. — Спрашивайте, — разрешил Николаев. — Где собака моя? — голос Чернова, казалось, был таким же осунувшимся, как и его лицо. — У меня собака, — сказал Карцев, — приютил пока дома. Чернов впервые поднял голову, в глазах появилось удивление, признательность, а Карцев тихо продолжал: — Скучает без тебя собачка. Что с нею делать-то прикажешь? Может, подержать, вернешься скоро, невиновен? — Виновен, — выдавил из себя Чернов. — Не скоро вернусь. Что будет с собакой, не знаю. Делайте, что хотите, — и замолчал, махнув рукой. — Вот что, Миша, — начал опять участковый, — я собаку не брошу. Не приучен к такому. И жене твоей сообщу — пусть приедет с мальчонкой. Ты натворил дела, а они все страдать должны?! Вспомни, как без отца рос, а теперь и парень твой при живом отце сирота. Да еще, как я знаю, без квартиры они, на птичьих правах семья твоя живет. Думаю, надо их сюда вызывать, пусть хоть в квартире останутся, крыша будет над головой. Чернов смотрел на Карцева, не отрываясь, затем перевел взгляд на полковника. — Это можно? — спросил он. — Нужно, — твердо сказал Николаев. Он встал, подошел к чернеющему квадрату окна, задумчиво отбарабанил пальцами по стеклу. Тихо стало в кабинете. Первым молчание нарушил Чернов: — Не могу больше так, — сказал он, — не могу и не хочу. — Он приложил ладони к вискам, потер их. Кривилось худое темное лицо, тяжело падали слова, которым не хотелось верить. — …в магазине Сергей спросил у своего знакомого, мол, начальник твой миллионами, поди, ворочает? Парень усмехнулся как-то многозначительно, хмыкнул, так что мы поняли: есть деньги у завмага. Чернов помолчал, собираясь с мыслями, затем опять зазвучал его хриплый голос: — Понаблюдали за этим мужиком, но никакой роскоши у него не увидели, машина разве только, "Жигули”. Но мы уже знали, что он "левый” товар получает. Сергей решил, что прячет он денежки. Однажды Суходольский был у меня с женой. Выпили и опять разговорились об этом — в последнее время, как болезнь, эта мысль в Сергее сидела. Что бы ни делал, что бы ни говорил — все равно к завмагу сведет. Услышала Лена наш разговор, вмешалась. Она Печказова давно знала. Подтвердила, что есть у него тайники с ценностями, золотом. Один тайник — в квартире матери. Тут и началось! Сергей заставил Лену на работу пойти к матери завмага. Лена вначале тайник найти не могла, а нам прийти не разрешила. Потом нашла тайник, но он уже был пуст — все перепрятал Печказов… Тогда Сергей и решил его прижать. Решили зайти к завмагу домой и там потребовать деньги. Утром явились к нему, а он нас не впустил — на лестницу уже вышел. Вот тогда нас соседи и видели… Короче, не получилось, но мы узнали, где его гараж, и Сергей изменил план. В общем, вечером Сергей его у гаража подкараулил, велел ехать будто бы в милицию. Завмаг подчинился. Я подсел к ним за углом. Не доезжая до милиции, Сергей велел поворачивать. Вот тут завмаг и заартачился. Сергей сильно ударил его кастетом по голове. Печказов испугался, поехал. Приехали в один гараж: ключ от него Сергею на неделю знакомый дал за четвертную. Заехали туда… Заметив вопросительный взгляд полковника, Чернов пояснил: — Адреса не знаю, но покажу, где он находится. Там-то все и случилось. Закрылись мы в гараже, Сергей говорит Печказову: "Деньги давай или прихлопнем тебя сейчас’’. Нет, нет, — заторопился Чернов, видя, как не удержавшись, закачал головой Карцев, — мы не хотели его убивать, об этом и разговора не было. Так, пугали только… — …Он говорит: нет у меня денег. Потом они с Сергеем рядиться начали. Прямо как на базаре, я даже удивился… — Сергей сердиться стал, опять два раза ударил его кастетом. Печказов, а он сильным оказался, сопротивлялся. Но в машине тесно, мы его все-таки повалили… Я ноги держал, Сергей голову. Потом он обмяк как-то, и мы связали его. Повернули лицом, а он… мертвый… — последние слова Чернов выдохнул с усилием и замолчал. Молчал и Николаев. Собственно, все, что рассказал сейчас Чернов, было ему уже известно. Именно такая картина преступления вставала перед ним, когда они с Волиным обсуждали результаты допросов, обыска, осмотра, когда со следователем читали выводы экспертиз. Точно такая картина. Значит, розыск был на правильном пути. Остается лишь уточнить детали. И еще — разыскать Суходольского. Николаев посмотрел на часы — скоро явится Волин, нужно торопиться. И вначале — главное. — Где Суходольский? — спросил он. Чернов рассказал, что Суходольский вначале ночевал у него — дома и на работе. — Мы ведь не отстали от тайников, — признался он. — Сергей у Печказова ключи забрал, деньги, часы. — И челюсть? — спросил Николаев. — И челюсть, — опустил голову Чернов, — она у него в кармане лежала, в платочке. Сергей и взял… ’’Точно! — вспомнил Николаев. — Ведь Нелли Борисовна говорила, что муж снимал челюсть, когда один оставался”. — Где все это? — У Сергея, — тихо послышалось в ответ. — Он сказал, что, пока машина в гараже, будет тихо. У нас есть неделя — надо достать деньги и смываться. День мы переждали, ночью пошли к печказовскому гаражу с ключом, да неудачно. Уговорил Сергей меня отмычки сделать к кладовке, я сделал, но опять неудача — сломались. Тут я окончательно отказался от всего, поругались мы, и он ушел. Больше Суходольского я не видел. Где он, не знаю. — Каким же образом машина вместе с телом Печказова оказалась за городом? — Точно не могу сказать. Но Суходольский, видимо, решил избавиться от этой улики. А номера с одного зимующего под брезентом автомобиля мы сняли на следующий день после… После того, как все произошло. Мы же понимали, что искать машину будут прежде всего по номерным знакам. Что ж, этому можно было верить. Уже у двери длинная худощавая фигура Чернова замерла в нерешительности, и он повернулся к Николаеву: — Может быть, это пригодится? Суходольский в последнее время подрабатывал грузчиком на Лесной — там продуктовый магазин есть. Строгости у них небольшие, разгружать машины берут кого угодно. Это ему и нравилось. Я, говорит, свободный художник. Николаев молча кивнул. Подумалось: откуда у них, этих людей, такая озверелая жестокость, цинизм, не знающий предела. Человек уже мертв, но даже это не удерживает от шантажа, желания любым путем заполучить деньги… Когда Волин появился в кабинете полковника, то застал его у большой карты города. — Вот, — полковник прижал пальцем квадратик на карте, — здесь вот, на Лесной, Суходольский подрабатывает. В магазине. Знаешь об этом? Волин подошел поближе, глянул. Улица Лесная — да это же рядом с той, где телефон-автомат! Вот он, ответ на мучивший Волина вопрос. Прекрасно! Значит, задача становится более конкретной.ПОНЕДЕЛЬНИК 22 часа
— Шел бы ты, Сергей, домой. — Толстая фигура сторожихи беспокойно колыхнулась. Она говорила просительно, но в глазах стояла решимость. Спорить с ней — Сергей знал — бесполезно, просить тоже бесполезно. — Не положено ночевать в магазине, сам знаешь. Бригадир меня проверит — будет неприятность. Ты иди домой-то. Повинись перед женой — простит, и поспишь по-человечески. А это что за ночевка — на столе. Слушая сторожиху, Суходольский задыхался от ярости. Его, Сергея Суходольского, гонят прочь и отсюда, где он провел уже две ночи, коротая их со сторожами. Днем он нанимался за бутылку разгружать товары. И оставался на ночь, отдавая сторожу эту самую бутылку: идти ему было некуда. Старики разрешали ночевать, а вот баба… ”Но куда же идти?” — лихорадочно думал он. — Куда идти? Домой — к Лене — нельзя. Он точно знал, что его обложили. Нельзя пойти на вокзал, в аэропорт — непременно схватят. Уехать? Но как уедешь без копейки денег. Проклятый завмаг своей нелепой смертью сорвал все замыслы, разрушил в один миг то, что готовилось так долго. Куда идти? Этот вопрос сделал бессмысленным все, вплоть до жизни, потому что Суходольский только сейчас, слушая ненавистный голос сторожихи, понял — идти ему некуда! А мать? Отец? ’’Эти бы рады, — усмехнулся Суходольский, — да толку в этом нет”. Он представил, как раскудахталась бы мамаша, увидев его, сегодняшнего — небритого, неопрятного. С глазами, красными от бессонницы, с трясущимися от постоянного нервного напряжения руками. Он машинально глянул на свои руки, вытянул их перед собой. Что-то изменилось в нем, потому что женщина вдруг замолчала и попятилась к выходу, глядя на него испуганно. — Собирайся давай, — строго сказала она, не поворачиваясь к нему спиной, толкнула дверь… Суходольский не мог стряхнуть с себя оцепенение — смотрел и смотрел на свои руки и не мог оторваться. Убийца. Он убийца, и его обложили: гонят, как зверя. Против этой мысли протестовало все его существо. Не может быть! Разве он виноват, что с самого детства ему хочется больше, чем всем, и разве он виноват, что эти люди, его родители, не сумели дать желаемого. Мамаша лишь на словах была шустра, а когда нашла у него в комнате кое-что из ворованого, разоралась: "Попадешься, сядешь в тюрьму!” ’’Лучше бы тогда сесть, — подумалось вдруг горько. — Не случилось бы всего”. Приглушенный дверями и расстоянием, до него донесся теперь уже сердитый голос сторожихи: — Позвоню бригадиру, коль счас не уйдешь, поимей в виду. Не стану с тобой шутить. ’’Боится меня”, — удивленно подумал Суходольский. Даже сейчас, после всего случившегося, не укладывалось у него в голове, как это можно бояться его, прогонять… Ведь, кажется, всегда его любили. Были друзья, ходили к нему в гости, слушали "маг”, угощались. Никогда он не жалел для них своих вещей, даже дарил иногда. Заводились деньги — угощал приятелей, водил в рестораны, никого не обидел, кажется. Вспомнив о друзьях, он стал перебирать их мысленно — кто сможет его приютить?! И злобно плюнул в итоге — никто! "Может, пойти все же к Ленке?” — подумал он и тут же отбросил эту идею. Нет, нельзя. Там наверняка его ждет милиция. Раз вышли на Чернова, значит, засветилась Ленка. Не потому ли она на свободе, что на живца хотят прищучить его самого? Суходольский медленно поднялся, застегнул меховую куртку. Надо было уходить, не хватало еще, чтобы сторожиха вправду вызвала бригадира. Тяжело ухнув, закрылась за ним дверь, и он услышал, как шустро задвинулся засов. "Боится”, — вновь, уже равнодушно отметил Суходольский. Что делать дальше, он так и не знал. Стоял, тупо глядя перед собою в ночь, и все его помыслы сходились лишь на одном — деньги, где взять деньги? Ему казалось, что, имей он сейчас кругленькую сумму, все встало бы на свои места — будет ночлег, кончится страх. События последних дней были настолько необычны, что он перестал ощущать реально все, кроме сиюминутной опасности. Может, он ошибся, думая, что жена Печказова не побоялась его предать? Он так и подумал: "предать”, потому что все его кругом предавали — Ленка, упустившая тайник, завмаг, не давший ему деньги и к тому же так глупо умерший; Мишка, бросивший его одного; и, наконец, эта вот баба, которая выгнала его в ночь, в темень… Суходольский скрипнул зубами. Печказова сообщила в милицию обо всем. Но ведь должна же она испугаться! Шутка ли, челюсть мужа получила! И здесь не сработало что-то. Что-то, чего он не знал. В Суходольском снова проснулась злоба. Так просто его не взять! Он уже показал одному, что значит следить за ним — пусть поостерегутся. И, едва он вспомнил лежащую на дорожке неподвижную фигуру, в захлестывающей ярости, как желтый свет на перекрестке, в нем вновь запульсировал страх: не за того, распростертого, за себя, за себя. Страх за себя и подсказывал решение: теперь он знал, где укроется. ’’Урсу не посмеет отказать, сидит на крючке — за "левый” товар по головке не гладят. Можно и другим припугнуть: мол, по твоей милости завмага убили. А что? — обрадованно думал Суходольский, шагая по пустынным улицам. — А заартачится, пусть на себя пеняет, я его быстро уговорю".ПОНЕДЕЛЬНИК 23 часа
На улицу Лесную с Волиным поехал капитан Ермаков: розыск Суходольского стал для всех первостепенной задачей, и Анатолий Петрович дождался Волина, предложил свою помощь, которую тот принял с радостью. До магазина на Лесной было не меньше полчаса езды, и Ермаков не без юмора принялся было описывать делишки Тихони-Албина. Вдруг Волин предостерегающе поднял руку, Анатолий умолк на полуслове. Вслед за шипением и треском из маленького черного динамика послышался искаженный эфиром тревожный голос дежурного: — Внимание, внимание. Всем постам принять сообщение. Десять минут назад на улице Майской из форточки первого этажа дома 18 неизвестный мужчина выбросил прохожему Серегину лист бумаги, на котором написано: "Вызовите милицию. Здесь убийца". Внимание! Всем постам. Сообщите место нахождения. Волин не успел откликнутся на призыв дежурного — Ермаков схватил его за плечо: — Алеша, да это же адрес Урсу! Майская, 18, — я помню хорошо. Там Суходольский! Давай туда! Машина, сделав крутой вираж, свернула на узкую боковую улочку: — Так ближе, — крикнул шофер. Волин молча кивнул ему, связался с дежурным: — Говорит Волин. Принял сообщение. Следую на Майскую. Буду там минут через 10. Дежурный торопливо ответил: — Волин, держите связь. Сообщите, нужна ли помощь. — Помощь не нужна. На связь выйду на месте, — отвечал Волин. — Майская! Остановились неподалеку от дома 18, выскочили из машины. Осторожно прикрыв дверцу, спрыгнул на землю шофер: — Разрешите я с вами? Волин отрицательно качнул головой: — Жди у машины. На первом этаже дома 18 все окна, выходящие на улицу, были темны, лишь во втором от угла угадывался свет. Не в комнате, нет, где-то в глубине квартиры горела лампа, и свет ее слабо. освещал окно. "Не поздно ли? — пронеслось в голове Волина. — Если Суходольский там, то деньги он будет добывать любой ценой, терять ему нечего”. — Толя, обеспечивай окна, я иду в подъезд, — тихо сказал он Ермакову. Тот бесшумно скользнул к стене дома. Волин осторожно повернул за угол, приостановился, оглядывая двор. — Товарищ, — послышался осторожный голос из соседнего подъезда, — я Серегин. — Так что здесь случилось? — тихо спросил капитан. Серегин, оглянувшись, шепотом заговорил: — Да я и сам не знаю, что случилось. Иду мимо дома и даже не услышал, а почувствовал скорее — в крайнем окне кто-то по стеклу легонько скребется. Поднял голову — парень в окне. Молодой такой, смуглый. Он тихонько форточку приоткрыл и лист бумаги выбросил. Смотрю — крупно что-то написано. Я поднял, поглядел — хорошо, фонарь рядом горит — и прочел: "Вызовите милицию, здесь убийца”. Голову поднял, а он палец к губам приложил — молчать, значит, просит, так я понял. Махнул я рукой, мол, сделаю, и бегом домой. Я здесь недалеко живу. Позвонил в милицию и на всякий случай сюда. Да вот еще отец со мной напросился… — добавил он смущенно, — за деревом стоит. Серегин показал рукой на близкий скверик напротив подъезда. Уловив его движение, из-за дерева показалась коренастая мужская фигура. Показалась — и тут же снова исчезла за деревом, сливаясь с ним. — Ну молодцы! — не удержался Анатолий Петрович. — Да что там… — опять смутился парень, и тут же деловито доложил: — Я минут 10 отсутствовал, не больше. Пока звонил, да туда-обратно бегом. Подбежал — в том, крайнем, окне света нет. И все тихо. В голосе Серегина послышались просительные нотки, и он закончил: — Вы меня возьмете? У меня разряд по боксу. — Зови отца, — шепнул Волин парню, — тихо только. Между Серегиными, видно, уже была договоренность, и старший вмиг оказался в подъезде, едва лишь сын сделал ему знак. — Здрасьте, — он протянул руку, и Волин пожал крепкую шершавую ладонь. Серегин-отец оказался широкоплечим и молодцеватым. Серегиных, к их явному неудовольствию, Волин оставил на улице, у окон квартиры, — так безопаснее, сам же осторожно подошел к двери. Ермаков был рядом. Прислушались — тихо. Под осторожным толчком дверь бесшумно приоткрылась. Волин сделал один неслышный шаг и оказался в маленькой прихожей, освещаемой неярким светом из открытой боковой двери. Еще шаг — в сторону другой открытой двери. В комнату, — понял Волин. Он не оборачивался и не слышал шороха за спиной, но знал: Ермаков рядом, идет за ним след в след. Тусклый свет дал возможность Волину сориентироваться, он уже видел часть комнаты — кусочек дивана, тумбочку, стул с накинутым на спинку пиджаком — в таком же был Урсу тогда, в магазине. Где же люди? Словно в ответ из комнаты раздался вздох, скорее всхлип — протяжный и непонятный. Волин понял это как сигнал, прыгнул в дверь и на секунду замер. На брошенном в угол матраце, у стены, чуть приподнявшись на локте, лежал Урсу. Рядом, с краю, просунув руку под подушку и подогнув к животу ноги, на боку лежал Суходольский — капитан сразу узнал его. Суходольский спал. Приподнявшись, мертвенно-бледный Урсу делал отчаянные знаки, указывая рукой на подушку под головой Суходольского. — Пистолет! — прокричал он и навалился вдруг всей своей тяжестью на Суходольского. Из-за плеча капитана резко рванулся вперед Ермаков, но Алексей опередил его, выхватив из-под подушки холодную напряженную руку преступника. Откинул подушку — черный пистолет вмиг оказался в руках Ермакова. Придавленный телом Урсу на матраце распластался Суходольский. Зажгли свет, задержанный встал. Не верилось, что все позади, что Суходольский — вот он, здесь, непонятно апатичный, вялый, даже злые глаза при ярком свете потухли, словно закатились. И вдруг засмеялся Ермаков весело, разряжающе: — Это же зажигалка! — воскликнул он и подбросил на ладони черненькую игрушку-пистолетик. — Ну и жук! Урсу зло сплюнул: — А я-то испугался! — И пояснил, торопливо одеваясь: — Он вечером пришел. Деньги требовал, но откуда у меня? А потом говорит, переночую, мол, а утром деньги ищи, иначе убью. Я испугался, знал ведь, почему он скрывается, а тут еще часы узнал. Печказова часы. Пистолетом пугал. Ладно, говорю, утром достану деньги. И пока чай кипятил на кухне, записку приготовил и прохожего дождался. Поел он, постель сам постелил на пол, в углу, — Урсу кивнул на матрац, — велел мне раздеться и лечь к стенке, а сам — с краю. Суходольский уснул быстро, а я все лежал, прислушивался. — А чего ж не убежал? — полюбопытствовал Волин и с удивлением услышал в ответ: — Я бы убежал, да ведь и он тоже! И потом ищи ветра в поле… Мог бы бед наделать… Позвали с улицы Серегиных, сняли с безвольно повисшей руки Суходольского массивные часы на браслете. — Печказова часы? — спросил Волин. Суходольский молча кивнул. А когда его повели к машине, Серегин-старший тихонько тронул Волина за плечо и, кивнув вслед Суходольскому, спросил: — И это все? — Все, — улыбнувшись, подтвердил Волин, понимая, что Серегины разочарованы, — ни оглушительной стрельбы, ни сногсшибательной погони. — Все, — повторил он, прислушиваясь к голосу Ермакова, который в машине кричал черному кружку микрофона: — Да нет же, товарищ полковник, сопротивления он не оказал. Алексей Петрович улыбнулся, представив, как облегченно вздохнул сейчас Николаев. Не было ни стрельбы, ни погони…Медвежье сердце

1
Своенравная речка-горянка Тагна перестала наконец подбрасывать моторку на бурунах и воронках. Потрепанная лодка по водной глади пошла быстро и плавно, стук мотора отталкивался от деревьев, выбегавших к реке, и устремлялся по речной просеке. Все сильнее пригревало солнце, окончательно прогнав утреннюю таежную сырость. Олег Нефедов расслабил руки, сжимавшие руль, оглядывал близкие берега, покрытые оранжевым ковром сибирской купальницы, цветы которой местные жители метко прозвали жарками. Пушистые яркие жарки напомнили ему золотистую головку дочери, и мысли обратились к дому, к далекому Ленинграду, где ждала его семья и милая сердцу наука. Месяц проработала партия в Саянах, и уже вырисовывались интересные результаты. Подающие надежды пробы в тяжелых ящиках дожидались окончательной проверки. Ему, Олегу Нефедову, главному геологу маленькой геологической партии, прибывшей в Сибирь из Ленинграда, предстояло сыграть решающую роль в судьбе этих таежных мест, да и, кто знает, только ли этих. Приближалось место прежней стоянки, откуда геологи ушли два дня назад, оставив ящики с пробами и при них завхоза Степана, хлопотливого молчуна со странной фамилией — Горбун. Сегодня моторка вывезет все имущество в другое место, выше по реке Тагне, в новый лагерь — табор, как говорили геологи. Стал виден выгоревший на солнце, прополосканный дождями палаточный тент, и Олег удивился странной неразворотливости завхоза: почему не свернут, не приготовлен к перевозке? Привстал, ища глазами Степана. Безлюдно на притоптанной площадке. Нефедов направил лодку к берегу. И вдруг — выстрел. Пытаясь сбросить обрушившуюся на грудь непомерную тяжесть, Олег бросил руль, и мотор тут же заглох, а лодку развернуло и ткнуло носом в близкий противоположный берег, покрытый жарками. Геолог поднялся в лодке во весь свой немалый рост и рухнул в воду. Холодная река накрыла его, привела в чувство и выкинула обратно, а жажда жизни бросила на берег, в буйно цветущие жарки. Лежа на земле, теряя силы, он поднял голову, с недоумением глядя на человека, который медленно поднимал ружье. Нефедов не слышал выстрела. Гулом наполнило голову, и золотые кудрявые головки жарков исчезли навсегда.2
К вечеру не вернулись в лагерь Олег Нефедов и завхоз Степан. Еще не думая о плохом, начальник партии Седых сказал: — Ждем до утра. С мотором, видно, у них нелады. Пусть помучается Степан с перевозкой, сколько раз говорил, — мотор чинить надо. Утро нового не принесло, напрасно слушали геологи таежную тишину: лодки не было слышно. — Однако, сами не справятся — помощи ждут, — осторожно заметил проводник. К вечеру, забеспокоившись, Седых с проводником и двумя геологами на резиновых лодках — моторка-то была одна — поплыли к старому табору. Уже смеркалось, когда Седых вышел на берег. Тревогой сдавило грудь, едва увидел, что моторки у берега нет. На стоянке была тишина, никто не вышел встречать приехавших. Образцы стояли в ящиках, рядами, брезент с них был снят. — Осторожно, ребята, здесь что-то не так, — предупредил Седых. Втроем они внимательно осмотрели лагерь. Людей не было. Исчезла оставленная Степану небольшая палатка, брезент, закрывавший образцы. Не было продуктов, вещей Степана, которые он решил перевозить сам, вместе с образцами пород. Седых снял с плеча карабин, дважды выстрелил в воздух, надеясь услышать ответный выстрел гулкого Степановой) ружья. Тихо. Разожгли костер, наскоро перекусили. Тревожась, почти без сна провели ночь. Утром поиски возобновили. Седых недоумевал. Где лодка и люди? Нефедов знает дисциплину, не мог самовольно, без предупреждения, уйти даже в самый интересный маршрут. Заблудиться не мог — на много километров вокруг тайга исхожена за месяц; сопки, как старые знакомые, а пади идут параллельно, выведут к реке. Да и не такой Нефедов человек, чтобы заплутать здесь, хорошо знает таежные приметы, ориентир держит прекрасно. Но где же они, где? Лодки нет. Может быть, ушли на ней вниз по Тагне? Зачем? И потом — ведь Нефедов дисциплинированный человек. Упустили лодку и пошли к новой стоянке берегом, вверх по реке? Седых обрадовался внезапно пришедшей мысли, она показалась ему простой и все объясняющей. — Конечно же! Не привязали как следует лодку, и быстрая вода унесла ее. Седых облегченно ругал себя, как это сразу не пришло ему в голову; Господи Боже мой, чего только не придумаешь, когда отвечаешь за всех этих доверенных тебе людей, самых разных людей, которым за сотни верст от дома, в таежной глуши обязан быть отцом, матерью, нянькой, учителем — одним словом — отвечать за них. Быстро свернули лодки, поднялись. Повеселели геологи от догадки начальника. Только проводник недоверчиво покачивал головой: — Однако, зарубку бы оставили, Нефедов с понятием человек, опять же брезент тяжелый, зачем тащить на себе? — Идем вверх по реке, берег осматривать внимательно, — распорядился Седых. Километров пять шли молча и медленно. Проводник первым, Седых замыкал цепочку. Вдруг проводник остановился, молча махнул рукой, подзывая всех. За большой валежиной, метрах в двадцати от реки белел свежий пенек небольшой елки. — Недавно рубили, надо, однако, смотреть тут, — сказал проводник. Осматривать место решили кругами от пенька, и вновь зашевелилась в людях тревога. Опять зовет проводник, теперь он уже кричит, держа в руке молодую елочку с подрезанным стволом. — Метил кто-то место. Ой, смотреть надо, не наши метили, зачем им? Плохой, однако, человек — вор, однако, метил, — сибиряк волновался, указывая на едва заметный срез дерна. Седых ухватился за сочную траву, кусок дерна поднялся, рядом лежали такие же аккуратно вырезанные пласты, прикрывавшие свежезасыпанную яму. Лопат не было, но яма была неглубокой, не более полуметра. На дне ее лежал тщательно свернутый брезент. В одну минуту достали тяжелый брезент, развернули, и Седых почувствовал, что сердце его бьется где-то у горла, а виски сдавило тисками. В брезенте аккуратно сложена знакомая одежда. Вот выцветшая куртка Нефедова, он носил ее второй сезон, смеясь, что счастливая. На груди куртки несколько рваных дыр, и их окружают бурые пятна. Бледные это пятна, замытые водой, но видно сразу, что это — кровь. Сложенные с удивительной бережливостью, лежали на брезенте и другие вещи Нефедова, не оставлявшие сомнения в том, что хозяина их нет в живых. И мотор, их старенький лодочный мотор был тут. Поднимая от вещей побледневшее лицо, Седых прошептал странно сухими губами: — Убийство.3
Ближайший районный отдел милиции — за сотню верст, и только вертолетом можно доставить в тайгу группу розыска. Группа такая уже организована, из областного управления вылетели Николаев и Колбин. Ребята молодые, но специалисты по запутанным делам. И действительно, дело совсем темное. Исчезли главный геолог и завхоз партии. Почти вся одежда геолога обнаружена в яме, но вещей завхоза Степана Горбуна там нет. И пока летит к месту происшествия розыскная группа, участковому инспектору Балуткину дано указание срочно прибыть к геологам. Балуткин в милиции давно, чуть не тридцать лет, а участок у него такой, что впору государству какому. Транспорта участковому не положено, Балуткин пробавляется попутным. Да и зачем он ему, личный транспорт? Сыновья чуть не с рождения на мотоциклы сели, а отец так и не научился этой премудрости. Людей понимал Балуткин лучше, чем машины, знал в десятках своих деревень жителей, и его знали. А как не знать? Помнит Балуткин и отцов тех, кто сами уже ныне отцы, знает все важные события, что случались в его "государстве”. Кто чем дышит — знает и помнит Балуткин. На пенсию самому пора, да жаль оставить дело всей жизни. Кажется Балуткину, что уйдет он — и все будет не так. Знает Балуткин, что неправильное у него понятие, а сделать с собой ничего не может. Правда, есть у него мыслишка: дело передать младшему сыну, пограничнику. Отслужит — ему и карты в руки. Старшие-то два сына хозяйством увлеклись, а младший — с детства отцу помогал. Так думает Балуткин, привычно подремывая в вездеходе — попросил на обогатительной фабрике подбросить его, пока есть мало-мальская дорога. До Васильевской заимки доедет, а там до стоянки геологов ерунда — какие-то десять — пятнадцать километров. Это и пешочком пару пустяков привычному человеку. Что же случилось у геологов? О таких убийствах Балуткин не слыхивал в своем районе. Ну, бывало, подерутся мужики, не поделят чего на празднике; бывало, какой непутевый приголубит бутылочку и возись с ним; бывало, самогонкой баловались в селах и на заимках, но вот такое чтобы — впервые. Поэтому тревожно Балуткину, и кажется временами, что вот придет он, а ему Седых руку пожмет и извинится: "Прости, Михалыч, промашка вышла, вон они ребята, живые-здоровые”, а Олег, как в последний раз у Васильевской, посмеется еще: "Королевство твое дикое, Михалыч, подвело. И милиции тут нет, спросить дорогу не у кого. Не то, что у нас в Ленинграде”. ’’Хорошо бы”, — вздыхает Булуткин. Вездеход остановился наконец у завала, водитель смущенно развел руками: "Все, Михалыч, амба, дальше только крылышки надо”. Балуткин махнул рукой, рюкзачишко на плечо и зашагал к Тагне, навстречу неизвестно чему. Ходить он умел, и компасы не нужны были ему. Каждое дерево было ему — компас, так что и по глухомани без малого через пару часов, не отдыхая нигде, вышел он прямо к табору. Вся геологическая партия встречала его. Встревоженные люди окружили Балуткина, а что он мог сказать им? Он сам прибыл к ним с вопросами, вопросов-то и у него полон короб, а вот ответы где? — Найдем ответы, — с внезапной яростью подумал Балуткин. — Ну кому они помешали, геологи? Ребята молодые, красивые все, такие живые, зачем убили их? Кто? Это ведь птаху малую, зверюшку неразумную погубить зазря жалко, а каково таких вот молодцов жизни лишить? Седых молча повел Балуткина к яме. Осторожно развернул брезент. — Да, — вздохнул Балуткин. — Кончил кто-то Олега, это уж точно. Труп не искали? — Искали, — ответил Седых. — Нету. — Еще поищем. А вещички все здесь? — Почти все — Седых отвернулся. — Часов нет, ножа, еще какой-то мелочи. Подумай, Михалыч, лодочный мотор смазан! Чтобы, значит, в земле не ржавел. По-хозяйски. Осторожно и внимательно Балуткин рассматривал вещи. Конечно, университетов он не кончал, но на сборах участковых слушал внимательно, знал, что к чему. Мотор просил не трогать: "Может, отпечатки пальцев где найдут”. Зачем так аккуратно сложены вещи, застираны, только что не заштопаны ужасные дыры? Ясно, к хранению приготовлены, так сказать, к дальнейшему использованию. Да кому нужны-то они, кому? Балуткин, разглядывая вещи, пытается просчитать, кому они могли быть нужны? Если драка была и убийство — зачем драчуну одежду снимать, стирать и прятать? Труп раздевать — не для драчунов работа. Драчун — тот раз-раз, вспылил, натворил, а потом — плачет и не до курток ему, не до ценностей. Нет, не драка здесь, видно. Может, проходящий? А кто проходит-то здесь? Может, где сбежал преступник? Но на этот счет строго в райотделе — тотчас известят, бывали такие случаи, ведь край-то у Балуткина глухой, тайга на сотни верст, целый полк, как иголку, спрятать можно. Но не было ориентировки на побег, наверное, не убегал никто. А Степан? Завхоз Степан? И фамилия у него неприятная — Горбун, и первый сезон работает он в Саянах, не присмотрелся Балуткин к нему. Вещей его в брезенте нет, ружья нет. А ружье было доброе у Степана, редкое — двустволка шестнадцатого калибра, стволы вертикальные. "Хорошее ружье”, — говорил Седых. И палатки Степановой, как выясняется, нет. Продуктов нет, тушенки. А кто знает, может, у завхоза и больше харчей осталось, чем видел Седых. Допустим, на зиму хватит. Тогда объяснимо, что вещи убитого нужны, могут сгодиться на долгой зимовке в тайге. Но убивать-то зачем? Мог ведь Степан тихо уйти. Целыми днями ребята в маршрутах, Степан — кашеварит, весь табор в руках. Целый месяц — не ушел, а потом вдруг — убил и ушел? Вроде не получается, но и не сбросишь со счета. Все же и самого нет, и вещей нет. И следов никаких. Больше всего боялся Балуткин одной мысли и все гнал ее от себя, но надо было быть справедливым. Местные? Кто? Зачем? Драку он уже обдумал и про себя отверг, хоть и проверить следует, потому что бригада косарей, Балуткин знал это, вторую неделю косила луга километрах в двадцати от табора, а по здешним понятиям двадцать верст и не расстояние, люди в гости ходят друг к другу. Но косари все — мужики самостоятельные. Не похоже, чтоб дрались. Драки-то в деревне все по молодости затеваются, так сказать, от избытка сил. Местные? Кто же мог? Все, кто в чем-то провинился ранее, вроде бы у него на учете, всем Балуткин уделяет внимание. Неужто упустил, не углядел? Ну, да узнается, узнается. А Седых, словно читая мысли Балуткина, говорит вопросительно: — Степан-то как в воду канул — ни вещей, ни его. Что случилось, уж не он ли?.. — и не договаривает. Балуткин поднял от брезента голову: — А вы хорошо Степана знали? — Да как сказать, первый год с ним. — Да-a, дела-делишки. На ум Балуткину вдруг пришел случай: года два назад поймали бывшего полицая. Работал в леспромхозе, думал, видно, забыли люди, как он земляков мучил. Много лет таился, а нашли. Тайга многим приют дает, паспорта не спрашивает. А Степан кто? ”Ну, да выяснится, выяснится”, — опять подумал Балуткин, наклоняясь над брезентом. — А это, ребята, чья? — Балуткин указывал на рукав старенькой ватной телогрейки, в которую был завернут лодочный мотор. Седых крикнул, подошли геологи. Участковый осторожно приподнял мотор, достал телогрейку. Залоснившаяся на полах, маленькая и грязная, она явно не принадлежала геологам. Это была детская телогрейка, в таких бегают зимой деревенские ребята лет двенадцати. И снова у Балуткина заныло сердце — местные, местные, когда он увидел, как переглядываются геологи и невольно сбиваются в кучку. — Значит, не ваших, — подытожил Балуткин. — Ну, это уже следок. А Степан, как в воду, говорите, канул? В воду, так в воду. Будем работать, ребята. Летний день долгий, свету у нас еще добрых часа три-четыре. По лесу, говорите, искали, нет на земле бедолаг? Поищем в воде. Рубите шесты, ребята, покрепче, крючья ищите. Будем Тагну пытать, не она ли Олега прячет. Команду геологи исполняют быстро, привыкли. И скоро Балуткин организовал поиск. Одну группу возглавил сам, другую — Седых. На резиновых лодках Седых переправился со своими на другой берег, да и переправа-то какая — речка здесь шириной не более десяти метров. Вооруженные длинными шестами две группы с разных берегов начали обследовать реку. Печальная это была работа. Всякий раз, когда шест цеплял что-то со дна реки, замирали сердца людей. Боялись увидеть труп Олега, его просто невозможно было представить мертвым. Второй час поисков на исходе. Привычные к работе геологи работают споро, не один километр Тагны прощупали шестами. Ничего нет. Но Тагна быстра, мигом уносит она все, что попадает в ее воды. Надо искать. Уже в сумерках наткнулись на упавшее в реку полусгнившее дерево. На него нанесло сучьев, валежника, получился завал, выступающий почти на метр от берега. Балуткин первым подходит к завалу — ничего не видно. Командует идущему с ним в паре проводнику. Два шеста они подводят под лесину, которая набухла водой, не поддается. Группа Седых остановилась на том берегу, смотрят. Еще усилие, еще. Лесина подалась, из-под нее тотчас поплыли щепки. И, видимо, освободившись от держащих его сучьев, показалось и ясно уж было видно белое-белое тело. Олег Нефедов. Днем прилетели вертолетом прокурор Рытов, начальник райотдела Серов, работники уголовного розыска. Осмотрели место, сфотографировали, составили протокол. Набросали план розыска. Николаев и Колбин еще не появились, а розыск нужно начинать немедленно. Расстроенный прокурор протянул Серову написанный здесь же документ: — У меня, сам знаешь, из следователей сейчас только стажер, девочка совсем, и работа эта ей не под силу. Вот постановление. В интересах дела старшим группы назначаю вашего милицейского следователя Николаева. Я его неплохо знаю, потянет. Я тоже в группе, буду заниматься, но все карты в руки — Николаеву. Начальник милиции принял листок, одобрительно кивнув прокурору. — Правильное решение. Да и мы не будем в стороне. Молча несли геологи погибшего товарища, молча положили в вертолет печальную ношу. Застрекотав, вертолет тяжело вскарабкался в небо, а геологи подняли свои карабины, и долго сопки повторяли эхо этого прощального залпа.4
В маленьком морге душно, мало приспособлен одноэтажный деревянный домик для такой работы. Вентиляция — только естественная, через дверь да небольшие форточки двух оконцев секционной. Эксперт Елена Владимировна уже не раз вытирала потный лоб, извинившись, расстегнул рубашку лейтенант Николаев. Вдвоем они который час работают над вскрытием. Вскрывает-то, конечно, она, а лейтенант внимательно смотрит, спрашивает, собирает извлеченные дробинки. Елену Владимировну раздражал поначалу этот лейтенант, не пропускавший ни одного ее движения. Красивое молодое лицо его мучительно морщилось, он, казалось, страдал за мертвого. И она невольно, сопереживая лейтенанту, делала надрезы осторожно, словно боясь причинить боль. Несколько раз предлагала она Николаеву отдохнуть, рядом текла река, речная прохлада так и манила к себе. Но лейтенант упрямо мотал головой и оставался рядом. — Не доверяете вы мне, что ли? — раздраженно говорила она. — Не первый день работаю, а второй десяток лет. Опишу все подробно, не беспокойтесь. А Николаев смотрел на нее печальными серыми глазами и, чуть картавя, просил: — Не сердитесь, Елена Владимировна, мне надо видеть все самому. Все видеть и все представлять. Она смирилась с его присутствием, а потом ей даже понравилось это стремление видеть все. Чего греха таить, от ее работы шарахались многие оперативники, избегали ходить на вскрытия, а сколько полезного для дела могли бы они узнать. Елена Владимировна стала подробно рассказывать лейтенанту о результатах вскрытия. На теле Нефедова следы трех выстрелов. Выстрел картечью — в левый бок, чуть ниже сердца. Шея, грудь, нижняя часть лица осыпаны мелкой, охотники называют ее "бекасиной”, дробью. Елена Владимировна выбирала дробинки, бросая их в баночку, подставляемую лейтенантом. Дробинки звонко цокали, ударяясь о металлическое дно банки — цок, цок… Много их, слишком много даже для такого здоровяка, как Нефедов. Третье ранение было в голову. Елена Владимировна извлекла из раны семь крупных картечин и — пыж. Обыкновенный газетный пыж, пропитанный кровью. Осторожно на чистую салфетку принял его лейтенант Николаев. Это была улика. Маленькая еще, но зацепка. Кто знает, может быть, именно она подскажет, где искать убийцу, а может быть, она просто в свое время встанет в стройный ряд доказательств и уличит преступника.5
По намеченному плану Балуткину предстояло заняться детской телогрейкой. Другие будут устанавливать личность завхоза Степана Горбуна, изучать, что он за человек, будут проверять версии о сбежавших из мест заключения рецидивистах и даже о психически больных людях, а Балу-ткин завернул телогреечку, спрятал в свой вещевой мешок и направился по своим селам и заимкам. Третий день Балуткин жил с чувством своей личной вины в происшедшем. Понимал, что хоть и включены в план розыска самые разные мероприятия, а нужно ему, именно ему пораскинуть мозгами. Перебирал в памяти своих подопечных, отбрасывал одного за другим, ни на ком не хотелось остановиться. Но снова и снова возвращался он мыслями к своим деревням. Днем успел проверить одно из сел — пока ничего. Телогрейка детская, заношенная и грязная, но не лежалая, значит, надо искать ее хозяина в семьях, где есть дети в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Собрал Балуткин в селе своих верных людей, объяснил что ищет, прошли по детным домам, побеседовали с каждым в доме — ничего. Поиски в селе и без него — в этом он уверен — будут продолжены, но по старой крестьянской привычке Балуткин верил только себе самому и знал, что не успокоится. Десять раз проверит каждый дом, а найдет хозяина телогрейки. Трясясь в попутной машине, Балуткин думал о Ерхоне — селе, куда теперь направлялся. Ближе к вечеру приехал в Ерхон. Быстро собрался народ, созванный вездесущей ребятней. В Ерхоне — фермы и тракторная бригада, народу по здешним понятиям много, да ведь знакомый все народ, как говаривал сам Балуткин — стародавний. Раньше часто наведывался он в это село. Появилась в нем одно время самогонка. Но никак Балуткин не мог найти аппарат, пока не подсказали добрые люди: "В тайге, Михалыч, ищи, в землянке Игошина”. А Игошин был крепкий орешек. И не нарушает вроде, а какое-то в нем непонятное зловредство живет. Семью свою держал так сурово, что жена и дочери к соседям выходить боялись, а единственного сына баловал. Вырос Андрей здоровым, красивым, но таким злым, что диву давались люди. Самая ценность в тайге — хорошая лайка-соболятница, все это знают. Так Андрей соседскую лайку не пожалел — на унты себе приспособил, шкура, вишь, пушистая понравилась. Бросились соседи к отцу с жалобой, а тот вышел на крыльцо с ружьем. Плюнули соседи, отступились — себе дороже связываться со зверем. Балуткин говорил после с Игошиным, да толку с этого было чуть, обещал лишь отец приструнить сына. Беспокоило Балуткина когда-то это семейство. Вот и с самогонкой. По всем приметам выходило — в тайге у Игошина землянка, и самогонку там он гнал. Да попробуй отыщи ту землянку. Пришлось тогда в открытую сыграть Балуткину — вызвал Игошина в сельсовет. Ну, и Игошин участкового знал, поостерегся. А вскоре сам зимой едва из тайги приполз — медведь его заломал. Так и не выжил в больнице. Андрей к тому времени семилетку окончил, в колхозе работать не захотел, охотничал самостоятельно лет с шестнадцати. Все в тайге да в тайге, друзей у него — никаких. Сдаст добытые шкурки, а ведь, бывало, соболей добывал, напьется, и не то чтобы хулиганит, но такой вид свирепый имеет, что обходят его стороной люди. И прозвище ему дали: Андрей — Медвежье сердце. Это прозвище самому Андрею понравилось и прилипло к нему. Нет, неспокойно было Балуткину, пока не взяли Андрея в армию. Сейчас старуха Игошиха жила в соседнем селе с младшей дочерью, а старшая дочь замужем была за самостоятельным и непьющим мужиком. Жили они в отцовском игошинском доме тихо, растили детей и Балуткину хлопот не доставляли. Был участковый в последний раз у Игошихи с полгода назад, и старуха показала ему фотокарточку сына. В солдатской форме Андрей смотрелся с карточки строго, Балуткин порадовался, было, за него, да неприятно царапнула надпись на обороте: "Андрей — Медвежье сердце". Не забывает, знать, парень свои ухватки. Ничего-то в жизни не видел, и цена ему, как говорится, медный грош, а заявки какие делает — ишь ты, "Медвежье сердце". Как о себе понимает! Сейчас Балуткин спокоен был за Игошиных — в армии парень, при деле, там забаловаться не дадут. Еще в дороге застал Балуткина дождь, который к вечеру совсем разошелся. По дождливой погоде народ дома сидит, но, заслышав о приезде участкового, уважаемого в селе человека, потянулись в сельсовет и те мужики, кого и не звали. Вскоре в сельсовете тесновато стало. Нигде не объявляли о случае на Васильевской заимке, но село — не город, слух в тайге идет непонятной тропой, напрямик к людям. Обсуждают мужики невероятную новость, курят, вздыхают. И знает Балуткин, что люди эти рады помочь ему, да нечем. — Что, мужики, никто не углядел стороннего человека в эти дни? Нет, не было чужих. Это зимой оживляется тайга. Зимник прокладывают от райцентра до Зарант, где строится фабрика; охотники забредают в чужие угодья из дальних зверопромхозов. А летом охоты нет, дороги нет. Только геологи наведываются, но жители распознают их сразу, и у них — дисциплина, не бродят, где попало. Начинает Балуткин выяснять потихоньку, чем занимались сельчане неделю, где кто работал, не приходили ли косари с Васильевской, да гостей не было ли к кому. Нет, пусто. Обычно текла деревенская жизнь. Работа, хозяйство у всех. Косари не являлись, гостей не было всю неделю. — Слышь, Михалыч, — вдруг говорит сосед Игошиных. — Андрюха Игошинский приезжал на побывку из армии, пожил неделю, да уж дён десять как уехал. Сестра сказывала, служить опять возвернулся. Балуткин так и замер. Андрей. Недаром, видно, вспоминал он беспутного по дороге в Ерхон. "Но ведь уехал задолго до убийства”, — успокаивает себя Балуткин, однако уже твердо знает, что досконально надо этот факт проверять. Сообщение об Андрее насторожило Балуткина, не стал он вынимать из рюкзака телогрейку, сам решил по домам пройтись и обязательно навестить Игошиных. Кстати, и дети у Андреевой сестры есть. Девочки, правда, но возраст, подходящий под телогреечку. Конечно, больше парнишки бегают в таких, но и девчушки тоже носят, пока не заневестятся. Попрощавшись с мужиками, не желавшими еще расходиться, Балуткин пошел по домам. Уже смеркалось, когда дошла очередь игошинского. Встретила Балуткина сестра Андрея Татьяна. Мужа дома не было, а дети возились в избе, дождь загнал их с улицы. Поздоровались, поговорили о скверной погоде, о сельских делах и новостях. Балуткин чувствовал настороженность Татьяны, а когда завел разговор об Андрее, она уже и не скрывала тревоги. И все же Балуткин выяснил, что служит Андрей на Дальнем Востоке, отличился чем-то, и дали ему недельный отпуск, который провел Андрей у нее дома. Только к матери съездил да в тайгу ходил. — А уехал, почитай, как две недели, — закончила Татьяна. "Да, негусто, — подумал Балуткин, — но надо еще испытать”. Развязал рюкзак, достал телогрейку, и у самого сердца замерло, когда увидел, как изменилась в лице Татьяна. — Не ваша ли вещь? — строго спросил Балуткин. — Что ты, Михалыч, у нас все на месте, все барахлишко. А откуда это у тебя? Где взял и зачем тебе? — Татьяна не могла справиться с собою. — Татьяна, я с тобой как власть говорю, вижу, вещь эта тебе знакомая, — построжал участковый. Татьяна комкала платок у горла, смотрела и молчала, и тут, привлеченные строгим балуткинским голосом, подскочили дети. — Мамка, да что ты, это же моя телогрейка, ее дядя Андрей брал, как в тайгу ходил нынче, вон и пуговицу я перешивала, — Татьянина дочь, одиннадцатилетняя Нинка показала на верхнюю черную пуговицу, пришитую серыми нитками. Татьяна приклонилась к перегородке. — Михалыч, что случилось? Уехал Андрей, слово дал мне и уехал служить. Обещался отбыть службу, глупости бросить. … Татьяна говорила испуганно и быстро, а Балуткин вдруг успокоился. Ясно. Телогрейка Игошиных. Брал ее Андрей в тайгу, не вернул. Уехал дней десять-пятнадцать назад. Проверить это дело немедля надо, сообщить в райотдел, там запросят по нужному адресу. Конечно, еще и такую возможность нельзя упускать из виду, что потерял Андрей телогрейку и она попала кому-то другому в руки. Этот кто-то и завернул в нее лодочный мотор, схоронил в земле у Васильевской. Возможно и такое. Но долгий житейский опыт подсказывал Балуткину, что такой вариант для тайги слишком сложен, и надо искать, срочно искать Андрея. И вдруг участковый подумал, что Андрей может быть здесь же, в деревне или в доме, может, и разговор слышал, и улику видел. Неведома жалость "Медвежьему сердцу". Неприятный, давно забытый страх полоснул по спине участкового. Летняя темнота за окном сгущалась, увеличивая опасность. Но дело-то надо продолжить. Кроме как ему — некому. — Беги, Нинка, зови председателя, да еще пусть возьмет двух мужиков, — распорядился Балуткин, решив закрепить улики. Да не без умысла Нинку за народом послал, надо с глаз матери ее убрать, чтоб не пригрозила. Вскоре вошли в избу люди. Балуткин раскрыл планшет, достал бумагу, ручку, и под его не очень привычной к письму рукой родился важный документ — протокол опознания. Девочка опознала телогрейку. После дочери, да при односельчанах Татьяна не могла солгать. Заливаясь слезами, она подтвердила слова Нинки, назвав ряд дополнительных примет — штопка на подкладке рукава, подпалина на полке. Сомнений больше не было — хозяин телогрейки найден. Балуткин раздумывал теперь, как поступить дальше. Связаться с начальством, посоветоваться с товарищами по работе он не мог. И днем-то связь плохая, а ночью — вообще это дело — труба, дозвониться можно только с центральной усадьбы, а до нее — километров сорок. Понимал он, что и времени терять нельзя, ни одного часа. Не оставляла мысль, что Андрей может быть где-то рядом. Он видел следы выстрелов на трупе и как старый охотник понимал, что должен в первую очередь найти и изъять в Татьянином доме боеприпасы, именно они могут быть главной уликой. Искать ничего не пришлось. Явился к этому времени муж Татьяны Виталий, в ответ на просьбу участкового повел его с понятыми в чулан, где и отдал все боеприпасы. Здесь была рассыпная мелкая дробь, самодельная картечь и медвежьи жаканы. Были и уже готовые патроны, с начинкой. Запас у Виталия был солидный, готовился мужик к зимней охоте. Виталий и рассказал, что, приехав на побывку, Андрей рвался в тайгу, а после, возвратясь, заявил вдруг, что служить больше не хочет, надоела ему дисциплина. И лучше он уйдет в тайгу, будет жить там, пока про него забудут. С детства привык парень самовольничать, не подчиняться никому и ничему, кроме своего хотения, и думал, что жизнь лишь для его удовольствия построена, то делаю, что хочу, а не то, что надобно. Виталий с Татьяной ругали его, грозили даже сообщить военкому. Андрей вдруг присмирел, собрал вещички и укатил. Провожать его не провожали, с кем уехал — не видели. А охотничьи боеприпасы брал Андрей сам, когда на три дня уходил в тайгу. Сколько брал, чего — не считано никем. Заполночь уже дал бригадир Балуткину трактор добраться до центральной усадьбы. Дождь не переставал, а по такой дождине ни одна машина не выберется из этих мест. Заспанная телефонистка долго звонила в райцентр, и только под утро участковый сообщил начальнику милиции майору Серову, подняв его с постели, о своих результатах. Не один год работали они вместе, и Балуткин ясно представил себе, как поежился Серов, вымолвив в трубку: "Эх, опростоволосились мы, Михалыч. Неужели такой мог рядом вырасти, а мы не заметили?!" — Так ведь в душу каждому не заглянешь. — Надо, Михалыч, было, на то мы с тобой поставлены. Разделенная, вроде бы, с начальником вина не успокоила участкового и не придала сил, которые были на исходе и по возрасту, и по усталости. Третью ночь на ногах, дремлет только на ходу. Вот ведь оказия какая приключилась у него на участке, да под старость лет. — Боеприпасы срочно с надежным человеком отправь нам. И жди, Михалыч, завтра гостей в Ерхоне. Прибудут ребята к тебе. Да пока справляйся, не видел ли кто Андрея в тайге. Не забудь узнать, где его охотничьи угодья, куда любил он ходить в тайге. Майор понял состояние Балуткина и добавил, утешая немного: — А ты молодец, Михалыч, оперативно сработал. Старая гвардия не подкачала. Ничего, найдем подлеца. А может, и не наши кто, а?6
Николаева разбудила дежурная ветхой районной гостиницы. Начальник милиции майор Серов просил срочно явиться в горотдел. Колбина она тоже подняла. Час был ранний, и дежурная не скрывала недовольства поручением. Вчера они легли поздно. Работы было полно, изучали материалы, полученные к их приезду. Колбин вплотную занимался завхозом Степаном Горбуном, попутно выясняя возможность появления в этих краях залетных "птиц”, способных на убийство. Николаев детально осмотрел одежду убитого, много времени отняло вскрытие трупа Нефедова. Но недаром потрачено это время — драгоценный пыж высушен, обработан, расправлен. Даже не специалисту видно теперь, что для пыжа использовалась газета "Пионерская правда”. Текст на пыже прочли. Нужно установить номер газеты, ее дату и искать подписчика. Николаев побывал в районной редакции, и молодые ребята — журналисты, несмотря на вечную занятость, сразу согласились проделать эту кропотливую работу, просмотреть в библиотеке подшивки, разыскать нужный текст. — Хорошо, — думал Николаев, — что в наших сибирских местах народ здорово нам помогает. Попробуй один справиться с делом здесь, где на преступника работают и время, и расстояния. В городе на место преступления оперативная группа прибывает через несколько минут. Сидят молодцы в кабинетах, ждут своего часа. Звонок — бегом в машину. Оперативники, проводник с собакой, эксперт с аппаратурой, судебный медик с саквояжем — полный комплект. Потом — бабка за дедку, дедка за репку — вытянули репку. А здесь? Труп обнаружен на пятый день после убийства, к месту преступления только часть опергруппы прибыла на шестой день, и это еще с привлечением авиации, а кругом — тайга на сотни километров, а за неделю преступник может ушагать, куда ему заблагорассудится. Да плюс еще погодка — затяжной дождичек смыл все следы. Однако же природа, как говорится, не терпит пустоты. Люди здесь сильные, помогут. Майор уже ждал в райотделе Колбина и Николаева. Рассказал о звонке Балуткина. Опознание телогрейки — большая удача, появилась новая конкретная версия: "Андрей — Медвежье сердце”. — Однако, пока не найдены следы Степана, равная цена этим версиям, и другие тоже нельзя упускать”, — сказал майор, и с ним согласились. Сам Андрей мог стать жертвой неизвестного убийцы. Распределили задания. Колбин продолжит розыск Степана. С получением данных о нем вылетит на заимку Васильевскую, где организует повторный тщательный поиск следов преступления. Николаев выясняет, прибыл ли Игошин в свою часть. Он же изучает материалы Балуткина, назначает экспертизу по исследованию дроби и картечи, извлеченной из трупа и изъятой из дома Игошина. Закончив все дела, выезжает в Ерхон, где его ждет Балуткин. Дальнейшие действия планируются на месте в зависимости от обстоятельств.7
Черноволосый крепыш Сергей Колбин был увлекающейся натурой. Закончил Высшую школу милиции, и для него не возникал вопрос, где работать. Только в родной Сибири и только в уголовном розыске. Деятельная натура Сергея требовала постоянного движения, молодая энергия искала выхода — иногда это и мешало, но зато он был незаменим, когда требовалась упорная опасная погоня, интересный поиск. Колбин, казалось, не знал усталости, дневал и ночевал на службе. "Железный ты, Серега”, — восхищались сослуживцы. Предстоящий таежный поиск как нельзя лучше соответствовал его характеру, и Колбин старался поскорее закончить городские дела. Вчера он был искренне убежден, что совершил преступление Степан Горбун. Завхоз оказался судимым ранее, да не за что-нибудь — за покушение на убийство. Срок отбыл полностью, но не вернулся в родную деревню, остался в Сибири и стал ездить по тайге с геологическими партиями. Вначале рабочим, потом — завхозом. С женой и другими родственниками связи не поддерживал. Молчаливый и не очень приветливый, Степан замечаний по работе не имел никаких, об этом сказал Колбину по телефону сам начальник партии, где работал Горбун в прошлом году. Но Колбин был уверен, что человек, имеющий такое пятно в биографии, способен вновь на черное дело. Убеждало в этом и полное отсутствие следов Степана. Колбин был рад, что именно ему поручена проверка самой, на его взгляд, перспективной версии "завхоз Степан”. Сообщение участкового нисколько не поколебало уверенности лейтенанта. Он рванулся в тайгу, чтобы найти подтверждение своим догадкам. В десять утра позвонили с вертолетной площадки. Вертолет направлялся в Заранты, откуда до заимки Васильевской предстояло добираться пешком. Через полчаса летел в грохочущем вертолете. Попутчиками Колбина были парни со стройки в Зарантах. Они с любопытством поглядывали на Сергея, им хотелось поговорить, но в таком шуме и собственный голос услышать трудно. Сергей смотрел на тайгу. Казалось, что кроны деревьев сомкнулись вплотную, без просвета, переплелись ветвями. Бескрайнее зеленое море, и вдали, как берег, гряда Саянских гор с белыми шапками на вершинах. Где в этом просторе будет искать он Степана? Подлетели к перевалу, который делал летом непроходимой дорогу к Зарантам. Вскоре показались поселок и стройка. Колбин наскоро перекусил в маленькой столовой, затем отыскал начальника строительного участка, который дал вездеход. К вечеру Сергей добрался,наконец, до места. Мало утешительного мог сообщить он геологам. Партия Седых не прекращала работу, но обстановка требовала осторожности. В маршруты ходили не по двое, как прежде, а вчетвером, на ночь назначали дежурного. О Степане по-прежнему не было ни слуху, ни духу, это хоть и огорчило Колбина, но и утвердило его подозрения. Сидя у догорающего костерка, Сергей спросил, обращаясь больше к самому себе: — И где он может быть? Геологи поняли, что имел он в виду Степана. — Все это время я думаю о нем, — негромко ответил Седых. — Не хочется верить, но странно его исчезновение, никуда от этого не денешься. Мы с ребятами не раз уже каждый клочок земли осмотрели в таборе и вокруг минимум как за пять верст. Думали, может, тоже убит Степан. Но нигде никаких следов. Как испарился завхоз. — А вещи? — Колбин вопросительно посмотрел на Седых. — Вещи тоже все перетрясли несколько раз. Степановы пожитки, конечно, незавидными были, но исчезли ведь почти все. Вон, в палатке в рюкзаке — все, что осталось. — А что было-то? И что осталось? — спросил Сергей. — У всех у нас в партии только самое необходимое, — ответил Седых. — Что у него было? Ребята, слушайте, чтобы я не упустил чего, — обратился он к геологам. — Накануне мы все хозяйство перевезли. Продукты, чашки-ложки, личные вещи, имущество партии — все уже в новом таборе при нас было. Остались образцы в ящиках под брезентом. Кстати, — оживился он, — деталь интересная. Ящики-то передвинуты, будто искали что. Степан этого делать не стал бы. Он сам ящики ставил, а закрывали мы их брезентом вместе. Чего бы он искал в пробах? ”Ну, первая новость”, — с досадой подумал Колбин. В допросах геологов этой детали он не встречал. — Дальше, дальше, да поподробнее, — поторопил он, — вспоминайте мелочи, не упускайте. — Степан оставался на ночевку. Были у него палатка, спальник, рюкзак с бельем. Рюкзака и спальника нет. Куртка была стеганая, теплая, защитного цвета и дождевик. Тоже пропали. — Топор завхоза исчез, — напомнил один из геологов. — Да, топор, — повторил Седых. — Топор у него был хороший, нож охотничий, а ружье, можно сказать, ценное. Пожалуй, одно богатство и было у него — двустволка. Ничего не осталось. И все же, — Седых задумчиво покачал головой, — не верю, чтобы Степан… Рослый геолог, хлопнув ладонями по коленям, энергично высказался: — И я не верю! Степан Нефедова ото всех отличал. А уж за ужином лучший кусок Олегу подложит. И беседовали они часто о чем-то. О чем вот? Эх, кабы знать теперь! Геологи наперебой стали вспоминать случай, когда Степан помогал Олегу. Выяснилось, что этих двух совсем разной судьбы людей связывала, оказывается, довольно редкая в наше время заботливая дружба. Месяц таежного тесного общения раскрывает характер людей. Сейчас, в оживленной беседе, Колбин узнавал о Степане много нового. Завхоз никогда не говорил о своей судимости и тюремной отсидке. Стыдился. Только однажды на прямой вопрос кратко ответил, что начудил из-за ревности. Геологов устраивал завхоз, был обстоятельным и находчивым. Партия маленькая, поварихи нет. Кулинарил, как мог, Степан. В поле какое меню — тушёнка да макароны. Но завхоз старался. Рыбу ловил, собирал щавель. И все молчал, говорил мало, улыбался редко. Что у него за душой было — не знал никто. Мог знать только Олег Нефедов, — к этому выводу пришли без сомнений. — Вот так картина, — удрученно думал Сергей, — неужели я поторопился с выводами? — но тут же одернул себя. — Если Нефедов стал невольным хранителем секретов нелюдима, то вполне объяснима и его смерть. Если завхоз хотел скрыться. У потухшего костра договорились, что наутро Седых выделит двух человек и они помогут Колбину в поиске. Нужно тщательно искать следы Степана. Здесь разгадка страшных событий. Колбин посетовал про себя, что сибирские расстояния не дают возможности постоянной связи с розыскниками, ведущими работу в других направлениях. Прошедший день мог принести какие-то новые результаты, о которых он не знал. Но ему поручен важный участок. Живого или мертвого — он должен найти Горбуна.8
Посыльный Балуткина с материалами, добытыми участковым, может прибыть в райцентр еще часа через два. Интересная работа предстоит Николаеву. Нужно успеть сделать ее быстро и ничего не упустить. И сегодня же в Ерхоне его ждет участковый инспектор. Наконец-то появился, кроме Степана, еще один подозреваемый, конкретное лицо — Игошин, "Андрей — Медвежье сердце". Рабочий день еще не начался, но Николаев направился в военкомат, зная по опыту, что военкомы на службу являются пораньше. И не ошибся. Военком был на месте. Проверил для порядка документы Николаева и спросил: — Чем могу быть полезен? — Об армейских отпускниках мне узнать бы. За месяц примерно. Кто приезжал, на какой срок, когда отбыл. Не опоздал ли кто с возвращением в часть? Военком достал из сейфа папку, молча протянул Николаеву листок. Эта была телеграмма. Командование воинской части сообщало, что солдат Игошин просрочил отпуск на двадцать один день. Лаконично и по-военному строго военкому предлагалось выяснить причину. — Сегодня думал заняться, — вздохнул военком, — теперь вместе выяснять будем? — Пожалуй. А больше у вас ничего об Игошине нет? — Отчего же, есть, — ответил военком. — Известно, что Игошин на себе вынес сломавшего ногу старшину. На учениях это было. Много километров тащил товарища. Поощрили отпуском. И вот — просрочил. Да-а, — спохватился он, — а вам-то Игошин зачем? Тоже натворил чего-то? — Ничего не могу сказать, не знаю. Одно ясно пока — Игошина нет у сестры. Где он, что с ним — неизвестно. Я выезжаю в Ерхон. Приеду — свяжусь с вами, — ответил Николаев, прощаясь. Сведения, полученные от военкома, оказались серьезными. Шагая к райотделу, Николай обдумывал ситуацию. Игошин? Неужели дезертировал и пошел на убийство? Не хочется верить в такое. Рассудительный и спокойный, следователь с выводами решил не спешить. Тем более что пятилетний опыт следовательской работы не раз давал ему возможность убедиться: не всегда лучше то, что лежит на поверхности. Копнешь глубже, и откроется такое, что ахнуть только и остается. Николаев расправил широкие плечи, тряхнул русыми кудрями, избавляясь от тревоги, не отпускавшей с самого начала следствия. Ответил улыбкой на удивленный взгляд прохожего и взбежал на высокие ступеньки милиции. Майор Серов без стука вошел в кабинет, куда поместил Николаева, за ним шагнул высокий загорелый парень с рюкзаком в руках. — Вот, — сказал Серов, — от Балуткина товарищ. Мы прямо к тебе. Давай, рассказывай, — обратился он к парню. Тот поставил рюкзак у стола. — Так я что знаю? Михалыч все по телефону вам обещал рассказать. А я, значит, должен вам передать это, — парень кивнул на рюкзак. — На чем добирался? — спросил Серов, нетерпеливо поглядывая на зеленоватый выцветший мешок с лямками. — Михалыч с бригадиром договорился, до свету подняли шофера. Вашего транспорта ведь не дождешься, — съязвил посетитель. — Туго у нас в отделе с машинами, — майор вздохнул. — Дороги плохие, концы большие. Чиним-чиним машины, да на леченом коне далеко не уедешь. Сколько тебе, Иван Александрович, времени надо, чтобы с этим, — майор показал на рюкзак, — ознакомиться? Николаев пожал плечами: — Через полчасика сориентируюсь, идет? —' Вот что, — решительно сказал Серов, — давай поживее. Для поездки дам я тебе Яшу, поедешь на его машине. Как-нибудь обойдемся здесь дежуркой, сейчас распоряжусь. А тебе, парень, — он обратился к посыльному, — спасибо за службу. — Да чего уж, — смутился тот. — Раз Михалыч просит — сделаем. Всего вам! — попрощался и вышел. А Серов уже потянулся к рюкзаку. По распоряжению прокурора руководил следственно-оперативной группой Николаев. Но Серов не мог оставаться в стороне. На территории района, где служил он уже около десяти лет, ничего подобного этому убийству ранее не случалось. Майор понимал, что его опыт, знание района и людей пригодятся опергруппе, и поэтому не ждал, а сам предлагал свои услуги. Добросовестный Балуткин, несмотря на спешку, бережно упаковал свои трофеи. В рюкзаке оказался брезентовый мешок, завязанный тесьмой, скрепленный сургучной нашлепкой. — Ай да Балуткин, служака, — невольно улыбнулся майор. — Все верно сделал участковый, — заметил Николаев, развязывая тесьму. В жесткой папочке лежали протоколы. Быстро пробежав их глазами, Николаев передал бумаги Серову и попросил: — Распорядитесь насчет понятых. Серов позвонил дежурному. Николаев встретил в дверях двух мужчин, осторожно вошедших в кабинет. — Мы недолго вас задержим, — обратился он к вошедшим, — посмотрим, что привезли нам. Прошу внимательно наблюдать за осмотром. В первом свертке, извлеченном из мешка, были патроны для охотничьего ружья шестнадцатого калибра. Более полусотни. Хозяйственный игошинский зять в отдельных мешочках держал патроны с дробью, картечью, жаканами на крупного зверя. Увидев боеприпасы, понятые заинтересовались. — Что ищете-то? — спросил один из них. — Сам я охотник, и билет имею, в патронах маленько разбираюсь. — Я тоже охотой балуюсь иногда, — добавил второй. — Наша задача точно описать все признаки боеприпасов; чтобы можно их было от других отличить и с другими сравнить, — ответил им Николаев. Патроны с мелкой дробью. Самодельная дробь, войлочные пыжи. Патроны с жаканами, их немного. Пыжи войлочные, жаканы самодельные. "Нужен химический анализ”, — отмечает про себя Николаев. Патроны с картечью. Пыж газетный. Николаев осторожно расправляет пыж, показывает понятым. Характерный крупный шрифт. Текст Николаев читает вслух: "…иться, слабость, харак-эгоизм и тому подобные напоминать, по-видимо - не нужно. Это очевидно. Вот но очень горькое письмо еской области: "У нас в кла-беда. Саша Павлов совсем колько ребят отде… …Да это же "Пионерская правда"! Высыпали из патрона картечь. Самодельная. Один из понятых берет в руки картечину, внимательно разглядывает. — Катаная картечь, — обращаясь к Николаеву, поясняет он, — такую обычно охотники меж двух сковородок катают. Вот она получается не совсем круглая и не очень ровная. Николаев едва удержался, чтобы не достать из сейфа банку с той картечью, что получил от Елены Владимировны в морге. Но он и так хорошо помнит, как выглядит картечь, погубившая геолога. А выглядит она так же, как и в этом патроне! "Срочно экспертиза нужна”, — думает Николаев, продолжая осматривать патроны. Все те, что с самодельной картечью, имеют пыжи из газеты "Пионерская правда”, нет никаких сомнений. Слишком характерный шрифт. Жаль, что ни на одном клочке нет никаких почтовых или других пометок, это бы облегчило розыск подписчика. Закончен осмотр. Расписавшись в протоколе, уходят понятые. Майор Серов позвонил дежурному: — Криминалиста к Николаеву, а мне — Яшу к телефону. Яша, — говорит он в трубку, — готовь машину, поедешь в Ерхон. Ожидая криминалиста, Николаев достал из сейфа банки с дробью и картечью, извлеченной из трупа геолога, мешочек с дробью, привезенной майором Серовым с Васильевской, где он во время осмотра изъял у геологов образцы боеприпасов. — Это что же получается? — озабоченно сказал Серов. — Да, вот еще загадка, — Николаев развел руками. — В доме Игошина нет магазинной дроби? Бекасиной? Нет. А у геологов есть — вот она, — Николаев встряхнул мешочек, высыпал на ладонь несколько дробинок. Зато у Игошиных есть картечь — самоделка. Такая же, как эта, — он показал на банку. — И газетный пыж. Утверждать что-то до заключения экспертизы рано, но предположить можно. Пока получается, что в Нефедова стреляли иго-шинской картечью и дробью из запаса геологов, — Николаев вновь развел руками. — Так получается. Вошедший криминалист, посмотрев боеприпасы, заявил, что исследование физико-химических свойств дроби и картечи можно провести только в областном центре. Николаев написал постановление о назначении экспертизы, помог эксперту упаковать образцы. Договорились, что эксперт срочно выедет в область, дождется результатов экспертизы и сообщит о них Серову по телефону. — Ну вот, — озадаченно сказал Николаев, — обе версии имеют право на существование. Завхоз Горбун или Андрей Игошин? — Или кто другой? — У кого из них "медвежье сердце”? — задумчиво спросил Серов, ни к кому не обращаясь.9
Во второй половине дня выехали в Ерхон на милицейском газике. Шофер Яша был своеобразной достопримечательностью райотдела милиции. В Яшиной трудовой книжке была только одна запись — милиция. Совсем не часто встретишь таких постоянных шоферов на милицейских машинах в глухих сибирских районах. Кругом — леспромхозы, химлесхозы — шоферы зарабатывают хорошо, техника новая. А в милиции сержант Яша получал вдвое меньше, частенько покоя не знал ни днем, ни ночью. А уж техника Яшина! Титанические усилия прилагал Яша, чтобы содержать свой газик в порядке, но умудрялся содержать! Яшина машина была всегда на ходу, чистая, аккуратная, безотказная, как сам Яша. Оперативники частенько посмеивались над его приверженностью к малым скоростям, но все без исключения питали к нему глубокое уважение. В пути Яша помалкивал. Разговоры он не любил, да и дорога была сложной. После дождей июльское солнце высушило почву, на дороге остались засохшие глубокие колеи, рытвины да ухабы. Вскоре у Ерхонского сельсовета Николаев познакомился с участковым Балуткиным, о котором наслышался за последние дни. Как-то так получилось, что в этом деле Балуткин всегда оказывался чуточку впереди всей опергруппы. Участковый инспектор был невысоким и жилистым, совсем седым человеком. Темное лицо его с глубокими складками в уголках рта оживляли светлые умные глаза. — Будем знакомы, — степенно сказал Балуткин. — Иван Михалыч я, участковый. Представился и Николаев. — Тезки, значит, мы. Да вы меня зовите, как все, — Михалыч. Я сейчас вас с Яшей накормлю, столовых здесь нет, но сельсоветовская секретарша нам борщ сварила, а потом о деле поговорим. Что новенького? — все же не удержался он. — Из нового я вам, Иван Михалыч, могу сообщить только, что Игошин в часть не прибыл. Просрочил двадцать один день, — сказал Николаев, направляясь следом за Балуткиным к большому дому. Балуткин безнадежно махнул рукой: — Да я уж понял, что так и будет. Опросил мать, сестер Игошиных, с людьми поговорил. Вам здесь работы много? — спросил он. — У Игошиных побывать нужно в доме. С понятыми. — Будут понятые. А мы до утра должны к вертолетной площадке податься, это отсюда недалече — километров тридцать. Яша нас подбросит. Справлялся я — вертолет утром в Заранты будет на наше счастье. Есть там человек один — дед Сорока. Он нам должен помочь. Люди говорят, встречал он Андрея в тайге. — Как встречал? Когда? — Николаев даже остановился. — Идемте, Иван Александрович, — тронул Балуткин его за рукав. — Встречал, видимо, до убийства еще, а то бы насторожился, он у нас дед толковый. Да я вам еще о нем расскажу, он того стоит. В чистом, просторном доме секретаря сельсовета они поужинали и, пригласив понятых, направились к дому Игошиных. Виталий сидел хмурый, Татьяна сразу заплакала, ребятишки притихли. — Мир сему дому, — поздоровался Балуткин. — Да не плачь ты, чего уж, — пожалел он Татьяну и обратился к Виталию: — Опять до тебя, парень, дело есть. Помогай. Виталий молча указал на стулья, приглашая садиться. Николаев видел, как тяжело переживала семья ожидание беды. Еще только ожидание, поскольку шли по деревне неопределенные слухи, но и они ранили больно. Николаев достал бумагу, бланки, разъяснил Виталию цель обыска. Так же молча Виталий встал, принес несколько аккуратных подшивок газет, журналы. По просьбе Николаева Татьяна достала квитанции Союзпечати. В семье были школьники, и выписывали им когда-то "Пионерскую правду”. В селе с литературой небогато, а в доме Виталия, видимо, читать любили. Журналы хранились, газеты подшиты аккуратно. Вот и подшивка "Пионерской правды”. Николаев стал листать подшивку, и Виталий заметил: — Я там с разрешения дочки часть газет весной на патроны извел. Точно. Нет в подшивке газет за конец апреля. Все боеприпасы Виталий отдал Балуткину раньше, больше ничего не осталось. Главный результат — изъятая подшивка газеты "Пионерская правда" с отсутствующими апрельскими номерами. Ночью добрались до вертолетной площадки, спать устроились на сеновале какого-то дома, куда постучал Балуткин. Хозяин вынес им подушки в цветастых наволочках, одеяло и тулуп — в Сибири и июльские ночи не так уж теплы. Лежа на душистом свежем сене, Николаев с Балутки-ным разговорились. — Думаю я, Иван Александрович, что геологи — Андреева работа, — начал Балуткин, — Татьяна с Виталием тоже боятся этого, хоть и не знают еще, что Андрей в часть не прибыл. — Михалыч, я в военкомате был, — поддержал Николаев разговор. — Мне военком сказал, Игошину отпуск дали за то, что спас кого-то, много километров на себе тащил. Как же совместить это? Только что одного спасал, других — убил. — Ты еще молодой, жизни мало видел, — задумчиво проговорил участковый. — Я раньше шибко книжки любил, все глаза попортил, — он усмехнулся, — всяких писателей читал. О разных людях пишут, многие годы все интересуются — почему этот человек такой, а не этакий. Нету ответа ясного, не встречал я. Думаю, не одна — много причин жизнью человеческой управляет. Однако убедился я — главное в человеке доброта. Добрый человек может собой поступиться, злой — никогда. Почему Андрей таким вырос? — А доброты в нем не было, жалости. Отец зверюгой смотрел на всех и мальцу привил это. Я уж думал-передумал об Игошиных. Понимаешь, тезка, ведь прозвищем-то своим — "Медвежье сердце” он, выходит, гордился, раз карточку для матери этой кличкой подписал. Ну что он о себе думал? А над всеми людьми ставил себя. В армии — там обстановка другая была. Дисциплина, спрос. И на Андрее это сказалось. Вот и спасал человека — сила у Андрея есть, и знал он, что со службой шутки плохи. Но не от жалости, не от сознательности тащил. Для людей не жил Андрей, нет. Не было такого. Все для себя, для своего интереса. Я так думаю, что и не повезло ему, не встретил добрую душу, а такая светлая душа каждому человеку для правильной линии должна встретиться. Тут себя я тоже упрекаю… — он помолчал, вздыхая, и продолжил: — Ну вот, без жалости к людям и обросла Андреева душа шерстью. Может, что-то надо было Андрею от геологов, а раз надо ему — вынь да положь, в тайге он сильный. Думаю, если решил он в тайге зимовать — оружие добывал. Свое-то ружье он у Виталия оставил, боялся взять, чтоб не заподозрили худого. — А завтра я тебя с другим человеком познакомлю, — продолжал Балуткин. — Интересный человек. Дед Сорока его зовут. Фамилия у него такая — Сорока. Живет он сейчас один, старуха его померла, ему самому уже за семьдесят, но бодрый. До стройки в Зарантах совсем дикий край был, тайга. Сорока живет там уже полвека. Не любит он вспоминать, как попал в наши края, я и не бередил никогда ему душу. Приехал, женился на местной, дом выстроили и стал жить охотой. И такой оказался он добрый хозяин, что вся округа его знает. Избавь Бог браконьеру появиться в тайге. Сорока достанет. Петли, капканы, ловушки — не терпит, сам не ставит и другим не позволяет. Философия у него такая. Говорит он, что человек должен быть честным даже со зверем в тайге. — Вот бы Андрею такое понятие, — опять вздохнул он и продолжил: — Сорока тайгу вокруг Васильевской знает, как свои пять пальцев. Землянки все знает, лабазы. Слышал ты про лабазы? Строит охотник избушку, и есть в ней на первый случай соль, спички, крупа какая-нибудь, махорка. Таежники держат такие лабазы в порядке, запасы пополняют. Многих лабазы из беды выручают, особенно зимой, в лютые морозы. Только бы здоров был дед, все он нам покажет, проверим. Там, на Васильевской, есть уже ваш один из области. Я его не видел еще, но слышал, что он с геологами тайгу прочесывает. Однако надо знающего человека привлечь, тогда толку поболее будет. Ну, пожалуй, и спать пора, — заключил участковый. — Заговорил я тебя. — Иван Михалыч, — Николаев решил поделиться с Ба-луткиным своими сомнениями, — вот что еще хочу сказать. Заключения экспертов еще нет, но, на первый взгляд, в Нефедова, кроме как самодельной картечью, стреляли еще бекасиной дробью. Мелкой, магазинной. Такой у Виталия не было. А вот у геологов есть. Значит, и у завхоза была. — Да что ты говоришь? — приподнялся Балуткин, — Ну лихо, брат, закручены наши дела. И не рано ли я все свалил на Андрея? — в голосе участкового звучала неприкрытая радость, но нотки эти погасли, когда он сказал: — Да не полег ли солдат от злодейской пули?10
Дед Сорока был дома и Балуткина встретил приветливо и уважительно. Не принято у таежников сразу начинать деловой разговор. Балуткин с Сорокой говорили о здоровье, о погоде. Высокий, чуть сутулый, худощавый дед выглядел значительно моложе своих семидесяти лет. Николаев с невольной завистью смотрел, как легко и пружинисто ходит Сорока по дому, как живо блестят его глаза, какие крепкие зубы обнажаются в улыбке. Решив, что дань обычаю отдана, Сорока обратился к участковому. — Догадываюсь, Михалыч, зачем ты пожаловал. Проводник нужен? — Угадал, Семеныч, проводник тоже нужен. И еще мы с Иваном Александровичем, тезкой моим, — Балуткин кивнул в сторону Николаева, — с вопросами к тебе. Ты, говорили мне, этим летом с Андрюхой Игошинским встречался. Скажи нам, когда это было, где и до чего вы договорились? — Понятно, — дед Сорока сел к столу, — только один вопрос разреши, если можно, конечно. — Давай, — разрешил Балуткин. — Серьезные претензии к Андрюхе имеете или так, мелочь? Балуткин вопросительно глянул на Николаева и, уловив согласный кивок, ответил: — С мелочью, Семеныч, нам не с руки связываться. Парень вот из области прибыл. А без Андрюхи, думаем мы, не обошлось в деле геологов. Так-то вот. Или — или. Жертва ли, или злодей — точку поставить надо. — Так слушай, Михалыч, я вам, видно, смогу помочь, — начал дед Сорока свой рассказ. В последних числах июня направился Сорока в тайгу. Была она для него родным домом, где отдыхал он телом и душой. И, как свой дом, любил и берег Сорока тайгу. Никто не поручал ему охрану, сам он считал своим долгом следить в тайге за порядком. В середине лета тайгу оживляет лесная малышня — подрастают зверюшки, пичужки и часто в беду попадают по неопытности. В это время Сорока любил ходить по тайге, отмечал, как справляется зверье с потомством, велик ли приплод, не бедствует ли живность. Бывало, и из беды выручает. Самому же ему доставляло неописуемое удовольствие видеть милую сердцу жизнь леса. Вот в эту-то пору и вышел Андрей Игошин вечером к костерку деда Сороки. Одет был в гражданское, ружье имел собственное, знакомое Сороке. На вопрос деда, знавшего, что Андрея взяли в армию, ответил, что демобилизовали его, заболел, мол. Говорили в основном о тайге, о предстоящей осенней и зимней охоте. Узнав, что дед Сорока ближе к осени собирается побывать на Голубых озерах, посмотреть уток, Андрей обещал тоже быть там. Договорились, что к озерам придут в последней неделе августа. И разошлись наутро. — День-то не помню точно, когда Андрея встретил, но никак не меньше, чем недели за две до убийства геолога, — закончил Сорока. — Значит, Голубые озера, — задумчиво сказал Балут-кин. — А придет ли он? — Кто знает, — ответил Сорока, — однако из знакомых мест не уйдет он, я думаю. Июль на исходе, осень наступает, а там зима. — Кто-то вблизи Васильевской заимки вещи убитого зарыл, лодочный мотор, — вмешался в разговор Николаев. — Значит, надеялся вырыть, раз зарыл, — кивнул Сорока. — Ну, так какие будут ваши планы? На меня рассчитывайте. Помогу, чем сумею. Такого зверя мне в тайге тоже не надо. — Открою я тебе, Семеныч, карты, а ты присоветуй нам, — задумчиво сказал Балуткин и пояснил Николаеву: — Раз взялся нам Семеныч помогать, все должен знать. Он нас с тобой поопытнее в тайге. Так вот, Семеныч. Завхоз ведь из партии Ленинградской пропал. Ни самого нет, ни вещей. И в Нефедова, знал ведь ты его, стреляли, похоже, дробью из запасов геологов. Магазинной бекас-кой. И еще. Мотор-то зарыт, а лодки нету. Вот какие задачки. Там у геологов парень из области ищет завхоза по тайге, но, видно, не нашел ничего, а то мы бы знали. Так что присоветуешь? — Да, не одна у вас задача, — Сорока нахмурил кустистые седые брови. — Что присоветуешь тут? Если убил завхоз и ушел из тайги — тут уж я не помощник. Если в тайге где находится — найдем следы, человек не иголка, и тайга не город. Да ведь и его самого могли порешить, раз такое дело. Вот ведь, — он возмущенно махнул рукой. — Жизнь прожил в этих краях, такого и не слыхивал. Михалыч, если Андрюху или завхоза порешили, надо их в Тагне искать. Подумай сам, по земле труп далеко не уволочь, округу, говоришь, обыскали. А в Тагне, если в завал не попал, труп далеко унесет, и долго не всплывет он, вода-то с гор, холодная. А лодка? Что лодка, — подумав, добавил он. — Лодку притопить можно, пока не нужна. И, обращаясь к Николаеву, пояснил: — Лодки так прячут, я с этим встречался. Привязывают и топят в воде, а когда понадобится — на берег вытащат, высушат и опять плавай на ней. Посовещавшись, решили направиться сначала на Васильевскую, узнать результаты работы Колбина и уже на месте построить работу так, чтобы искать и завхоза, и Игошина. Мертвых или живых.11
Лагерь геологи переместили ближе к прежней стоянке. Люди, кажется, забыли об отдыхе. Возвратившись из маршрутов, наскоро ели и вновь шли в тайгу, осматривать каждый клочок земли. Поздно вечером, при свете костра, Колбин аккуратно отмечал на карте проверенные участки. Нигде ничего. За два дня непрерывной ходьбы по тайге и без того смуглый Сергей почернел, осунулся. Он убедился, что вблизи Васильевской заимки Степана нет, обыскивать тайгу дальше бесполезно. ’’Что же, как говорят ученые, отрицательный результат — тоже результат", — усмехался Колбин. А что, если Степан Горбун все же использовал лодку для бегства из тайги? Такую возможность он уже обдумывал и отверг поначалу. Ведь лодочный мотор обнаружен с вещами убитого. Какой же смысл плыть на моторке без мотора, хоть и вниз по течению? Но сейчас нужно было искать лодку — может быть, она выведет на завхоза. Другого выхода нет. "Вот какие у нас свидетели — елки, палки, лодки — все бессловесные, и всех разыскивать надо, никто сам не придет и по телефону, хотя бы анонимно, не позвонит", — невесело пошутил Колбин, сообщая Седых и своим помощникам о принятом решении. Едва уснули, послышался близкий выстрел. Насторожились. Седых выстрелил в ответ из своего карабина. И вскоре к встревоженному лагерю вышли из леса Сорока, Балуткин и Николаев, до предела уставшие. Ночное путешествие по ночной тайге во сто крат труднее, чем днем, но они не хотели терять драгоценного времени. Наступил тринадцатый день после убийства геологов, и ясности в деле не было. После раннего завтрака решили еще раз обсудить обстановку. В группу розыска, помимо работников милиции, входили по существу уже и Сорока, и Седых, и четыре геолога, выдел енные для поисков в тайге. Необычное совещание в лесу возле костра открыл Николаев. Дед Сорока одобрил предложение Колбина искать лодку и обследовать Тагну по направлению к устью. Решили сплавляться вчетвером вниз по реке на двух резиновых лодках, которые дал Седых. По двое в лодке. Колбин, Николаев, Балуткин и Сорока. А геологи займутся своей работой. По возвращении из этой экспедиции решено двумя группами направиться к Голубым озерам. Не мешкая, собирались в путь. Из своих припасов Седых выделил продукты. Геологи дали котелок, на четверых не хватит посудины деда Сороки, которую он носил в тайгу в своем рюкзаке. Поплыли. Совсем непростым было это плавание. Непросто управляться с тяжелыми шестами на юрких неустойчивых лодчонках, которые крутятся при всяком неловком движении. Николаев плыл с Балуткиным, и старый участковый, жалея парня, не привычного к такой работе, часто забирал у него шест, и Николаев сердился. Колбин с Сорокой плыли чуть впереди, и дело у них спорилось лучше. Колбин был повыносливее, да и, видимо, не в первый раз орудовал шестом. Но они ведь не просто плыли. Останавливали лодки у речных завалов, ворошили их, прощупывали шестом дно. Тяжелый физический труд, требующий огромного внимания и напряжения. И так — целый день с небольшим перерывом, когда измученные и мокрые они вышли на берег, разожгли костер, немного обсушились, поели тушенки с хлебом, попили заваренный Сорокой крепкий чай со сгущенкой, которую не пожалел для них Седых. Вечером не было сил соорудить шалаш. Спасаясь от сильно досаждавшего гнуса, разожгли дымный костер, улеглись на еловой лапник, нарубленный неутомимым Сорокой. Колбин уснул моментально. А Николаев, следя за красными точками искр, взлетающих от костра к темному небу, еще долго слушал мирный разговор старых друзей. На исходе второго дня Колбин и Сорока, как и накануне, опережавшие вторую лодку, нашли труп Степана Горбуна. Тело завхоза долго несло по быстрине, затем оно застряло в завале, зацепившись одеждой за сучья. Степан Остапович Горбун был убит выстрелом в спину.12
Соорудили носилки, положили на них завернутые в одеяло останки завхоза. Предстоял еще более трудный обратный путь по бездорожью с тяжелой ношей. — Тронем, ребята, — сказал Сорока, — пока светло еще. Завтра за день — кровь из носу — доставить надо беднягу к табору. Вы ведь его в райцентр повезете? — обратился он к Николаеву. — Конечно, — кивнул тот. — Экспертиза нужна. Судебно-медицинская. — Вот видите. Пока Седых свяжется с центром, да пока вертолет прилетит. А мужик, — он кивнул на носилки, — в землице успокоиться должен. Заслужил. Колбин не поддерживал разговора. Целую неделю он азартно и деловито искал Степана Горбуна. И вот — нашел. "Живого или мертвого”, — горько усмехнувшись про себя, вспомнил он свои слова. Нашел мертвого. Выполнил свой служебный долг, сдержал свое слово. Но у завхоза — печальное алиби. Нужно искать Игошина. Целый день, делая лишь короткие остановки, шли они к стоянке геологов. Тяжелые носилки оттягивали руки. Жалея стариков, Колбин и Николаев редко отдавали им носилки. Шли молча. "Вот уж в прямом смысле тяжелое расследование", — думал Николаев. Он покосился на свою замызганную одежонку. Да, мало похож на следователя. Костюм, в котором прилетел он в Заранты, лежит в рюкзаке у Седых, а ему собрали, что называется, с миру по нитке. Геологи дали сапоги, куртку-энцефалитку, так же экипировали и Колбина. Помогают люди, во всем помогают. — Иван Михалыч, — обратился Николаев к участковому во время короткого привала. — У вас какое звание? — Младший лейтенант. Давно уж. Образования у меня мало. Я только на курсах и учился милицейскому делу. Молодым пора дорогу уступать, а нам — на пенсию, — ответил усатый Балуткин. — Ты генерал у нас, Михалыч, — не прибедняйся, — возразил ему Сорока. — В своей епархии самый главный генерал. А на пенсию рано. Успеем, належимся еще. Человек, пока может, работать должен. Вот вы, ребята, — Сорока поднял палец, — Ивана Михалыча Балуткина запомните. Всю жизнь человек отдал делу. Не гнался за чинами. Сколько уж лет мы знакомы — не один десяток, и знаю я, как его уважают. А порядок на уважении держится. — Брось, Сорока, — горько сказал участковый. — Видишь сам, что по тайге несем. И знаешь, кого искать будем. — Это, Михалыч, случай особый, ты больно-то себя не казни. Все я вижу, да в семье не без урода. Найдем вот Андрея, спросим. Я сам бы хотел знать, как такое могло приключиться. А пока не спеши и себя не черни, — Сорока искренне возмущался. А Николаев вновь подивился мудрости этих стариков. "Закончим дело — напишу рапорт начальству, чтобы поощрили обоих — и Балуткина, и Сороку”, — решил он. Но сам понимал, что награды для них не главное. В сумерках подошли к лагерю. Без слов поняли геологи все, увидев носилки. — Вот и Степан Остапович. Прости, брат, за все, — Седых снял кепку, склонив голову перед носилками с телом завхоза. Очередной сеанс связи по рации будет только в полдень завтра. Решили вызывать вертолет по экстренной связи. Уснули усталые люди. Лишь дежурные сменяли друг друга у костра, оберегая сон товарищей. Меры предосторожности надо было соблюдать.13
На следующий день натруженные руки Николаева болели еще сильнее. Колбин бодрился, но видно было, что тоже очень устал. Сорока и Балуткин выглядели получше, сказывалась привычка к таежной жизни, к большим переходам. Ждали вертолет и готовились к новому походу. К Голубым озерам идти не на один день и никто не знал, на сколько времени растянется экспедиция. До этих озер от Васильевской заимки километров семьдесят, не менее. Собственно, это не несколько, а одно озеро. Когда-то, видимо, их было много в предгорьях Саян, но теперь в тех местах лишь одно, а название осталось старое, так вот и зовут — Голубые озера, во множественном числе. Далеко от жилья Голубые озера, никто не беспокоит без нужды дикую птицу, живут там вольготно утки, гуси. Даже осенью редко-редко охотники наведывались туда. Богато озеро птицей, да кто в такую даль за уткой пойдет? Как говорится, за морем телушка — полушка, да рубль — перевоз. Сорока же навещал озеро ежегодно и не столько из-за утиной охоты, сколько из-за удивительной красоты. Озеро действительно было голубым, с чистой холодной водой, в озерной глади отражались недалекие отроги Саян, берега казались драгоценной ажурной рамой. Дальше за озером шли болотистые места — вот где, видимо, были раньше другие озера. На этих болотах в изобилии рос трилистник, которым неизменно ходили лакомиться великаны-сохатые. Богатые места, но труднодоступные. И там-то у Сороки есть крепкий шалаш, который знает Андрей. Договариваясь о встрече на Озерах, они говорили о нем. Николаев как руководитель группы понимал важность хорошей подготовки операции. Нельзя упустить ни единой мелочи. И самым разумным посчитал он опять обратиться к опыту старых таежников. Вместе обсудили детали. Прилетел вызванный ночью вертолет. С радостью Николаев увидел спешащего к нему Серова. Поздоровавшись, майор сказал Николаеву: — Криминалист звонил из области. Подтвердились наши догадки. Геолог убит картечью Игошинского зятя. Все сходится — физико-химические свойства, способ изготовления. А вот дробь стандартная, да теперь не в ней главное. О ваших делах мне сообщили, я и решил сам наведаться, да еще вам подспорье прихватил, — он показал на сверток, который положил на землю при встрече. — Здесь автомат. Пригодится. Работа серьезная предстоит. — Спасибо, — от души поблагодарил Николаев. Он и сам уже задумывался над тем, что вооружены они для поисков в тайге неважно. А ведь он обязан не только организовать розыск, но и обеспечить безопасность людей и, если понадобится, защитить их. — При задержании Игошина будьте осторожны, — продолжал майор. — Я сам не могу с вами идти. А хотелось бы, — вздохнул он огорченно. — Давайте теперь о плане операции. Времени есть немного, — он взглянул на вертолет, вокруг которого собрались геологи. Николаев принялся рассказывать. Организуются две группы задержания. Седых выделил пару геологов, так что в каждой группе будет по три человека. В первой — старший Николаев, с ним пойдут Сорока и геолог. Во второй — старший Колбин, с ним — Балуткин и другой геолог. До озера группы идут вместе, затем разделяются и контролируют озеро с двух сторон, сходясь у шалаша Сороки. Выслушав, Серов одобрительно кивнул и заметил: — Продумали правильно все, дельно. Примите и мои советы. Проследите за одеждой, снаряжением. Вы должны выглядеть как настоящие геологи в маршруте. Предупредите, чтобы в пути не велись разговоры об убийстве, — вообще не касайтесь этой темы. В тайге Игошин может следить за вами, такую возможность нельзя исключить, он опытный охотник, и мы не знаем, что с ним. Я уж подумывал, — он горько усмехнулся, — нормальный ли он, здоров ли психически. В общем, надо быть готовым ко всему. Берегите людей. Если за неделю результата не будет — объедините группы и шлите связного, лучше всего Балуткина, он справится. И еще. В случае задержания Игошина тщательно продумайте конвоирование. Ему терять нечего, а вести далеко. И не спешите при конвоировании, только не спешите. — Ясно, майор, — все учтем, — ответил Николаев. — Я займусь инструктажем, проверю. Только бы найти его, а там не упустим. — Ну, удачи вам! — майор попрощался и пошел к вертолету, где его уже ждали.14
Во второй половине дня группы были готовы к походу. Николаев вместе с Седых придирчиво осмотрел людей. Продуктов взяли немного, да Сорока добудет в тайге пищу, на озере будет рыба. Оружие в порядке, одежда тоже. Николаев еще раз напоминал: нельзя вести разговоры о задержании. Предупредил, чтобы держались кучно. Со всей строгостью, на какую способен, подчеркнул: при обнаружении Игошина задержание начинает старший в группе, остальные оказывают необходимую помощь. — Присядем, ребятки, как полагается перед дорогой, — сказал Балуткин и первым присел на самодельную скамью у кострища. — Ну, тронули, — скомандовал он же. Маленький отряд направляется в тайгу, снова в неизвестность. Наступил август — прекрасная пора в тайге. Солнце днем припекает, небо синее, чистое и высокое, а тайга — красавица выставляет напоказ свои прелести, словно говоря: "Любуйтесь! Вот они — мои стройные ели и сосны, мои могучие кедры, ажурные стланники. Вот моя сизая с матовым налетом крупная голубица, вот розовеет боками брусника”. А осенние цветы — они просто великолепны в зеленой рамке лесов: белые нежные ромашки, густо-сиреневый мощный иван-чай. Предвещая близкое бабье лето, начинают летать в воздухе тонкие паутинки, попадают на лица путников, щекочут. Заигрывает, завораживает тайга. — Эх, погодка-то какая стоит! — мечтательно говорит Балуткин, замыкающий цепочку, и прикрикивает на Сороку, идущего впереди: — Ты, Семеныч, не гони так, загнал совсем. Зачем запаливать ребят, подумай сам. Дед Сорока, смеясь, оборачивается: — Что я слышу! Михалыч пощады запросил. Во дела, так дела. Михалыч, не позорься, ты меня младше на десяток лет. Застоялся конь в стойле! Вот я тебя по тайге погоняю, погоняю, — шутливо грозит он, но снижает темп. Николаев слушает дружескую перепалку стариков и думает, что затеял ее участковый не зря, хочется ему подбодрить людей. Несколько часов идут они за дедом Сорокой, привал решили не делать до ночлега. Время бежит быстро, а идти по тайге так трудно. Путается в ногах высокая гибкая трава, то и дело попадаются старые огромные валежины, иные и не перешагнешь, приходится влезать на них и съезжать, как с горки. Чуть зазеваешься, хлестнет по лицу ветка. Солнце село, но еще стояли голубоватые сумерки, и Сорока уверенно вел группу. Остановились на ночлег, когда совсем стемнело. Сорока вывел их прямо к небольшому родничку. Они еще раньше решили, что отряду не следует таиться, чтобы не насторожить Игошина, который мог заметить их. Разожгли костер, поужинали, Николаев молча показал очередность дежурства, и наступил блаженный отдых. Шли весь следующий день. "Марш-бросок, — шутил Колбин, — чемпионы мира по таежной ходьбе. Лидирует Сорока”. Вечером у костра Сорока сказал: — Доставайте карты, ребята. Озеро теперь уже близко, завтра пути наши разойдутся. На карте Колбина Сорока показал, где сделан второй привал, отметил место, где у озера находился его шалаш. По расчетам старого охотника, группа Колбина, обогнув озеро с севера, должна подойти к шалашу примерно в одно время со второй группой, обследующей южную часть. — Будете споро шагать, поспеете к чаю, что мы заварим, — опять пошутил он. — Не ленись, Михалыч, а то чай остынет. Сорока стал подробно рассказывать о таежных ориентирах, обращаясь главным образом к Балуткину. Колбину он сказал: — Ты, парень, извини, хоть ты старший, а меня в тайге Михалыч лучше поймет, мы с ним договоримся быстро. — Какие тут обиды, — ответил Колбин. — Я в этих местах впервые. Утром группы разошлись. Николаев с беспокойством смотрел вслед уходящим. Конечно, он уверен в них, но как предугадать, что предстоит им, в какой ситуации они окажутся — условия розыска были необычными и трудными. Впервые он подумал, что, может быть, не следовало разделяться на небольшие группы, но тут же одернул себя — все они сделали верно. Если ничто не насторожило Игошина, он выйдет к озеру, а если выйдет — значит находится где-то поблизости. Когда произойдет встреча с Игошиным, не знал никто. — Ну, молодая гвардия, пошли дальше, — негромко сказал Сорока. — Иван Александрович, ты замыкаешь, а Вадим, — он показал на геолога, — в середке у нас будет. Поглядывайте, ребята, по сторонам, да и под ноги не забывайте смотреть. Спешить не будем. Пообещав не спешить, Сорока тем не менее вел группу ходко. Не переставал удивляться Николаев выносливости и неутомимости Сороки, а тот успевал на ходу еще рассказывать им о местах, где они проходили. Отдых давал только, как он говорил, со значением — на ягодных полянках, у лесных родничков. Солнце припекало, рюкзаки казались тяжелее, чем прежде, а встречавшиеся колодины — все больше. Часа через три утомительной ходьбы вышли, наконец, к озеру, искупались в прохладной воде, и силы вроде прибавились. С улыбкой наблюдал за молодыми Сорока. — Эх, молодость, молодость. Мне бы ваши годы, ребята, — вздохнул он; Веселый Вадим ответил: — А нам бы, дедушка, ваши силы! По тайге, как сохатый, идете. Не угонишься. — Сейчас что! А вот раньше я ходил, так ходил. Что летом, что зимой. Как говорится, ветер свистел за мной. По соболиному следу три дня в мороз без отдыха бегал. Пересплю ночь укостерка — и опять. Сейчас уж не то, — охотник опять вздохнул, — не то, ребята. Но силы еще есть, — бодро добавил он, — а посему — айда дальше. Сегодня мы до шалаша моего не дойдем. Заночуем, знаю я место хорошее, недалече будет, верст десять с гаком, — он уже шутил, и Николаев, зная присказку, подыграл ему: — А гак-то велик? — Не велик гак, ребята, верст десять всего, — засмеялся старик. Притворно завздыхал Вадим: — Десять верст, да десять гак — итого двадцать. Что же ты делаешь с нами, дедушка?! — Здесь гнус нас заест, — уже серьезно ответил Сорока, — отдохнуть не даст. Место низкое, видите? — он развел руками. — А вот подальше вдоль берега будет взгорье, берег повыше, ветерком продувается, там будет спокойнее. И поляна там большая, ночевать будет удобно, — добавил он, обращаясь уже к Николаеву, — не то, что здесь, — и показал на лес, близко подступивший к воде. — Правильно, Семеныч, — одобрил Николаев, — пошли, засветло доберемся. Снова в путь, теперь уже вдоль берега озера. Сорока был прав — к усталости добавились муки от гнуса. Комаров было здесь пропасть, но особенно досаждала мошкара. Несмотря на жару, надели и плотно завязали капюшоны, но проклятый гнус попадал и под завязки. Сорока вынужден был сделать привал. — Ну, завтра вас и мама не узнает, — засмеялся он, достал из рюкзака баночку с мазью, дал помазаться ребятам, предупредив: — В глаза не попадите. Самодельная мазилка, крепкая. Мазь отпугнула таежных кровососов, стало полегче, и опять дед Сорока шутил: — Какую вы, братцы мои, скорость развили, когда гнус вас прижал! Чуть меня не обогнали. План, считай, перевыполнили. Скоро, скоро дойдем до заветного местечка. До заветной дедовой полянки шли долго, но было еще светло, когда наконец вышли к ней. Сорока замер у края леса, предостерегающе поднял руку — полянка была обитаемой. На ней разбита палатка. Они поняли сразу, что стоять у опушки нельзя — опасно. На вопросительный взгляд Николаева Сорока лишь едва заметно пожал плечами. Чуть придержав Сороку за рукав, Николаев шагнул на полянку первым, за ним — остальные. И тут Сорока громко и весело заговорил: — Кто тут есть, добрые люди, встречайте гостей! Николаев в кармане куртки снял пистолет с предохранителя. Догадливый Вадим быстрым движением сбросил с плеча рюкзак и держал его теперь в левой руке, готовый в любую минуту прийти Николаеву на помощь. На голос Сороки полог палатки откинулся, и из палатки вышел загорелый человек в плавках. — Здравствуйте, — приветливо поздоровался он.15
— Здравствуйте, — повторил хозяин палатки, удивленно глядя на напряженно замерших людей. — Давненько здесь обитаете? — продолжал Сорока. — Что-то раньше я вас в этих местах не встречал. Геологи? — Геологи, — ответил человек и надел очки, висевшие, как оказалось, на крючке у входа в палатку. — Вот теперь и я вас разгляжу. Проходите, гости. — Мы к озеру поохотиться пришли, надоели консервы, решили побаловать своих свежениной. А вы здесь как? — вмешался в разговор Николаев, решив не открывать карты, пока не выяснится обстановка. — Мы здесь уже третью неделю. Ченская партия. Такой нам маршрутик достался. Что называется — вдали от родины. Двое наших ушли с утра к шурфам, а я вчера ногу повредил, — геолог показал на пятку, заклеенную пластырем. — Один домовничаю. ’’Один”, — отметил про себя Николаев. — Я тебе, парень, травку привяжу, заживет, как на собаке, — дед Сорока засмеялся. — Спасибо, попробуем. А вы местный, дедуся, охотник? — геолог вопросительно посмотрел на Сороку. — Ну да, — кивнул Сорока, — охотник и местный. Вот геологи, — он показал на спутников, — попросили к озеру проводить, поохотиться им надо, подкормить своих, а я все равно сюда собирался, каждый год хожу за уткой. Ну вот и притопали. К моему шалашу шли, да в гости попали. Ночевать тут придется, не возражаете? — Отчего же возражать? — ответил неторопливо геолог. — Нам веселее будет. Новости расскажете. У нас рации нет, мы без связи совсем забурели. Глухо, как в танке, — он засмеялся, показав ровные белые зубы, — скоро ребята подойдут, будем ужинать. Я уже ушицу варю, — он повернулся к Сороке и опять спросил: — А не вас ли это солдат ждет на озере? Сорока тревожно взглянул на Николаева и ответил на вопрос вопросом: — Какой такой солдат меня ждет? Николаев замер, ожидая ответа. — Ну, не солдат — дембель, — поправился геолог. — Мы на шалаш случайно вышли. Это километров десять — двенадцать отсюда будет, а там дембель этот. Говорит, жду деда-охотника, пойдем с ним дальше в тайгу. Я и подумал, не вас ли он ждет? Николаев хотел было уточнить дату встречи, но Сорока опередил его и равнодушно протянул: — A-а, это Андрей, видно. Когда вы его видели-то? ”Ах, какой молодец Сорока, — подумал Николаев, — никак нельзя сейчас себя выдать, ничем нельзя”. — Дня два назад. Нет, три, — поправился геолог, — точно, три дня. А имя не знаю. Не знакомился. Он не представился, а мы спешили, надо было сюда, — он показал на палатку, — вернуться. — Понятно, — сказал Сорока и обратился к Николаеву: — Ну, Александрыч, кажется, нам попутчик будет. Андрей. Охотник он хороший, не помешает. — Да мне-то что, раз ваш знакомый, пускай себе. Дичи всем хватит, тайга большая, — как можно спокойнее ответил Николаев, а мысль его уже лихорадочно работала в поисках решения. Ясно, что на стоянке геологов Игошина нет, но он где-то поблизости. Контакта с геологами он, по-видимому, не испугался. До шалаша Сороки не менее десяти километров, значит, сегодня засветло не дойти. Самое лучшее — отдохнуть сейчас, поужинать, набрагься сил и во второй половине ночи, соблюдая крайнюю осторожность, направиться к шалашу, подойти к нему обязательно до рассвета и устроить засаду. Если Игошин в шалаше Сороки, они быстро обнаружат его, и тогда задержание будет обеспечено. "С дедом надо срочно обговорить все”, — решил он и сказал: — Давай, Вадим, располагайся, еду доставай, есть хочется, — и приложил ладонь к губам. Вадим наклонил голову, он все понял. Подошли к костру, над которым устроен был таган и варилась уха. Вадим развязал рюкзак, достал хлеб, кружки, банку тушенки. — Сейчас я, ребята, отлучусь на минутку, — смущенно засмеявшись, Николаев пошел к лесу. Понятливый Сорока встал, попросил геолога снять с ноги пластырь, посмотрел на рану, покачал головой: "Эк тебя, парень! Сейчас я травку принесу” — и тоже направился к лесу. Войдя в лес, Николаев вдруг ясно почувствовал, что их маленький отряд очень легко обнаружить. Пока они были более уязвимы, чем тот, кого они искали. С тревогой вспомнил Николаев об отряде Колбина. Ребята не знают, что Игошин где-то близко. "Только бы не выдали чем-нибудь себя, — подумал он. — Нужно первыми выйти к шалашу, чтобы не случилось нового несчастья”. Николаев оглядывал тайгу, невольно отмечая, что она может укрыть преступника за любым деревом, за валежиной, в высокой густой траве. Даже вот в тех роскошных цветах можно схорониться. Сейчас тайга казалась ему не нарядной красавицей, а злой и коварной сообщницей преступника. Неслышно подошел Сорока, тихо окликнул: "Давай-ка, брат, обмозгуем дело. Быстро только. Что думаешь предпринимать?” Николаев рассказал. Сорока задумчиво покачал головой: — Александрыч, пугать не хочу, но скрывать не стану. Опасно стало. Андрей зверя скрадывал, ему нас выследить — раз плюнуть. До темноты с поляны нельзя уходить, но глядите в оба. С геологами — молчок, так я советую. Незачем нам лишний шум. Они пока в безопасности. Андрей их не тронул раньше, сейчас подавно не тронет, меня ждет. Если утром Андрея не найдем — вернемся, предупредим. А сейчас нельзя. Как погуще стемнеет — тронемся, но не по тропе — вдоль тропы пойдем и очень тихо, с оглядкой, — он, к удивлению Николаева, зло выругался и добавил: — Ты пушку свою поближе держи, на зверя идем. Дуй к костру, я следом. Николаев вернулся к костру, где умный Вадим увлеченно и громко обсуждал с хозяином какие-то геологические проблемы. Вскоре подошел Сорока, принес травку, пополоскал в озере, привязал к ране геолога, дал и про запас, наказав сменить повязку утром. "Мы-то до свету тронемся, а простимся с вечера”,— пояснил он. Сняли с костра готовую уху, вскипятили чай. Николаев и Сорока, казалось, без слов понимали друг друга. Стараясь казаться беспечным, Сорока громко шутил, подтрунивал над ребятами, а сам настороженно прислушивался, незаметно оглядывал тайгу. Николаев тоже был начеку. Улучив минутку, он осторожно переложил в карман куртки наручники, приготовленные для задержания — вдруг понадобятся. Пистолет тоже был под рукой. Собираясь, ужинать, Сорока и Николаев сели у затухающего костерка лицом к лесу, чтобы не упускать из вида всю поляну. Геологи расположились рядышком напротив них. Отведали свежей наваристой ухи. Разлили в железные кружки черный, обжигающе горячий чай. Хозяин палатки вынес в мешочке из-под проб сахар, стал угощать. Куски сахара были крупными, неровными, и геолог похвалился: — Завхоз наш такой сахарок добыл. Самый таежный. Крепкий, сладкий, берите, не стесняйтесь! Вадим взял кусок, стал прилаживаться, как удобнее расколоть его в ладони обушком ножа. Николаев отвлекся, следя за его веселой возней, и вдруг, не видя, просто почувствовал, как напрягся старый охотник Сорока. Вскинув голову, Николаев увидел стоящего почти за спиной геологов человека. Он никогда его не видел, но узнал. Это был Андрей Игошин. Высокий, широкоплечий, он казался еще выше от того, что стоял на взгорке. Выцветшая солдатская форма без погон, патронташ. Нож в чехле. Под правой рукой стволами вниз — двустволка, он придерживает ее, палец на курке. И ружье узнал Николаев, геологи хорошо описали ружье завхоза. Все это успел охватить Николаев одним взглядом и в тот же миг понял, что все они под прицелом. Игошин видел их, улучил момент, застал врасплох и был сейчас хозяином положения, контролируя всю группу. Двустволка убитого рассеяла последние сомнения — перед ними стоял убийца. Недаром призывали к осторожности Сорока и майор Серов. Андрей Медвежье Сердце был опытным охотником, вышел из леса бесшумно и занял такую позицию, с которой мог отразить любое нападение, стреляя навскидку. Уж он не промахнется. А жертв допустить нельзя. — Привет, — сказал Игошин, не изменяя позиции. На звук его голоса мгновенно обернулся Вадим, да так и застыл, а Игошин обратился прямо к Сороке: — Ты, дед, что рано прибежал? Кого привел? Сорока равнодушно ответил: — A-а, Андрюха, ты. Подходи чаевничать. Да я давно в тайге, вот геологи попросили к уткам подвести, я и пришел, все одно собирался сюда. А ты что рано? — Да так, дома-то чего сидеть, — Игошин не двигался с места, настороженно следя за сидящими. Кстати вмешался гостеприимный хозяин палатки: — Подходи, солдат, садись с нами. Сколько гостей у меня сегодня, как в городе, — засмеялся он. — То за полмесяца одного его встретили, — он кивнул на Андрея. — А тут за час — целая толпа! "Спокойно, спокойно, — подумал Николаев. — Сорока уже оценил обстановку, понял, что нужно отвлечь Игошина. Только бы не сорвался Вадим!" Но строгий инструктаж не пропал даром. Вадим, глянув на лейтенанта, тоже изобразил равнодушие, хотя голову вновь повернул к Андрею. Нельзя было немедленно приступать к задержанию. Игошин может среагировать даже на резкое движение, если оно покажется ему подозрительным. "Ему терять нечего!” — вспомнил Николаев слова Серова. Но и особенно медлить было нельзя. Скоро подойдут геологи, увеличится число людей на стоянке. Люди эти ничего не знают. Как поведут они себя при задержании Андрея? Не бросятся ли ему на помощь? Не станут ли сами жертвами, если возникнет перестрелка, — а такую возможность Николаев не исключал, видя настороженность Игошина. "Только бы он положил ружье, только бы положил”, — твердил про себя Николаев, а Сорока, между тем, продолжал разговор: — Ты, Андрюха, что столбом встал? Застеснялся, что ли? Проходи давай, присаживайся. Мы тут ночевать вздумали, а завтра поутру тронем к шалашу. И ты, коли хочешь, давай с нами. Есть-то будешь? Уха знатная у геологов, навострились варить, — похвалил он. — Сейчас чашку дам, подходи, — хозяин палатки приподнялся было, но Андрей опередил его: — Не беспокойтесь, сыт я, есть не буду. И Николаев увидел, как Игошин при движении геолога чуть заметно повел стволом в его сторону. "Точно, — понял он, — Игошин будет стрелять, если я на него брошусь”. Николаев не думал об опасности, грозящей лично ему. Милицейская молодость бесстрашна. Но ему вдруг представился на миг мертвый Нефедов с лицом Вадима, и он даже ясно услышал звонкое цоканье дроби о дно банки — "цок, цок, цок”. Нельзя этого допустить, не имеет он такого права. Медленно тянулось время. Сорока продолжал: — Ты направился куда или меня ждешь? — Я тебя, дед, одного ждал, а ты с целым полком прибыл, какая тут охота, — ответил Андрей. — Нет, не пойду я с тобой, на гольцы подамся. А у тебя хочу патронами разжиться, дашь? — Отчего не дать, дам, конечно. Много у самого нет, но поделюсь. Да ты куда торопишься-то? Сам не хочешь пить, так мне не мешай! Погоди, напьюсь чаю, дам тебе патроны и катись, торопыга, — сердито говорил Сорока, и под эти слова Игошин подошел ближе, сел на чурку возле костра, но ружья из руки не выпустил, по-прежнему держа всех под прицелом. Николаев мучительно искал выхода. Тянуть долго нельзя. Не бросит Андрей ружья, осторожен. Нужно брать его сейчас, у костра, пока он немного успокоился. А что, если?.. Николаев принял решение. Автоматизм — вот что использует он. На практикумах по психологии они, тогда еще студенты, часто забавлялись этим свойством человека. Каждый из нас, занятый мыслями об одном, автоматически, бездумно выполняет многие действия. Это он и использует. Напряжение и настороженность преступника помогут обезвредить его! Только бы удалось! — Утки много видел? — спрашивал Сорока Андрея. — А гуси? Нагуливают жирок? — Есть утки, и гуся много, нагуливают, — отвечал односложно Игошин. И в это время Николаев, держа в левой руке кружку, правой взял хваленый геологом большой кусок сахара. — Ничего минерал, — весело сказал он и быстро протянул сахар Андрею со словами: — Расколи-ка, солдат! Сработало! Андрей, разговаривая с Сорокой, машинально протянул свободную руку, чтобы принять сахар, а лейтенант, как пружина, молниеносно распрямившись, быстро, схватил его за руку и рванул на себя, прямо через неостывшее кострище. Николаев рассчитал верно. Игошин не успел выстрелить. От неожиданного сильного рывка он не удержался, повалился на костер и таган, подминая лейтенанта, не выпускавшего его руки. Ружье оказалось под ними. Думая освободиться, Игошин выпустил приклад, рванулся от Николаева. Старый Сорока одним прыжком оказался возле двустволки, мигом схватил ее, а Вадим бросился на помощь лейтенанту. Игошин сопротивлялся отчаянно, изо всех сил, но Николаев цепко держал его, Вадим же пытался укротить мощные ноги Андрея. Николаеву удалось завернуть за спину руку Игошина, сильным приемом уложить его лицом вниз, тот на мгновенье затих, и лейтенант сумел, наконец, достать наручники. Скованные наручниками руки ослабили сопротивление Игошина, а тут еще Вадим сумел сесть на его ноги, и Николаев быстро связал их ремнем. Убийца затих, лежа вниз лицом. — Игошин, — задыхаясь от усталости и волнения, сказал Николаев, — я лейтенант милиции. Я искал тебя и нашел, и ты мне будешь рассказывать, как ты убивал геологов. Расскажешь все, "медвежье сердце"! И тут все, находившиеся на поляне, вздрогнули от страшного, оглушительного крика! Хватая крепкими зубами протоптанную траву, Андрей Игошин бился лицом о землю и дико, нечеловечески кричал. Крик разносился по синей озерной глади, скакал по деревьям далеко в тайгу, отражался от близких Саянских гор, возвращался, дробился и наполнял все вокруг звериной тоской и непонятной болью. Ни раньше, ни потом не слышал лейтенант такого крика. Вадим в ужасе зажал голову руками, а Сорока, повидавший всякое на своем долгом веку, бегом бросился к озеру, зачерпнул воды и вылил ведро на Игошина. Тот замолчал.16
Успокоились не скоро. Подняли, посадили на колоду Игошина, который, выкричавшись, теперь опустошенно молчал, но не менее страшными были слезы, непрерывно катившиеся из-под его опущенных век и оставлявшие светлые дорожки на грязном, испачканном золою и землей, сразу осунувшемся лице. Всплеснул руками дед Сорока: — Батюшки-светы, да на кого же вы похожи, ребята?! Ожесточенная схватка происходила на кострище, Николаев и Вадим были покрыты грязью. Только сейчас почувствовал лейтенант боль от ожога — вылившийся из котелка чай ошпарил ему руку. Под глазом Вадима всплывал огромный кровоподтек. Хватаясь за сердце, от палатки подошел к ним геолог, не решаясь приступить к расспросам. — Спасибо вам, — тихо сказал Николаев. — Дело сделано. А сейчас давайте обсудим, как будем строить охрану этого, — он кивнул на Игошина. — За тобой слово, Иван Александрыч, — ответил Сорока. — Ты приказывай, мы исполним. — Когда подойдут ваши? — обратился Николаев к геологу. — К заходу солнца. — Так вот, охранять Игошина будем по трое безотлучно, оружие наготове. И себя в порядок нужно привести. Вадим, мойся, а потом я. А вы… — лейтенант вопросительно посмотрел на геолога. — Виктор Иванович, — быстро подсказал тот. — Виктор Иванович, извините, что напугали вас. Не могли мы объяснить все сразу. Пошли бы расспросы, разговоры, а нам нельзя этого было делать. Игошин находился близко, мог слышать, насторожиться и в лучшем случае уйти. Этот человек подозревается в убийстве двух людей из Ленинградской партии. Двоих — да каких людей! — с горечью промолвил он. — Мы за этим псом сколько дней идем, — со злостью вмешался Вадим и крикнул Игошину: — Ты бы нашим мужикам попался, гад, они бы тебя под орех разделали! За что ты ребят? За что?! Пришлось Николаеву успокаивать Вадима, но он извлек урок из этого разговора: нужно было опасаться не только побега Игошина, но и самосуда над ним. Значит, в каждой группе охраны должен быть работник милиции. Нужны Колбин и Балуткин. "А пока, — подумал Николаев, — смотри, Ваня, в оба и за тем, и за другими. Ночь впереди”. Нужно было оформлять документы. Разложив бумагу на ровном пне, торчавшем у костра, лейтенант составил протокол задержания и приступил к обыску Игошина. Тот не сопротивлялся, равнодушно разрешая снимать с себя вещи, которые узнавал кипевший от ярости Вадим. На руке Игошина были часы Нефедова — их хорошо знал Вадим, в кармане нашли нефедовский же складной нож, ружье — двустволка с вертикальными стволами — принадлежало завхозу. — Рюкзак у него должен быть, — подсказал Сорока. — Где твой сидор, парень? — обратился он к Игошину. Тот молча кивнул в сторону тропы. Лейтенант разрешил Сороке поискать рюкзак Игошина, и охотник вскоре принес его к костру. — Спрятал у опушки, мерзавец, недалеко от тропы, — пояснил он. Тут Андрей "Медвежье сердце" впервые поднял лицо, грязно выругался: — Иуда ты, дед, — хрипло сказал он. — Поверил я тебе зря. Я за вами вдоль тропы километров десять шел, надо было перестрелять всех, как уток, — пожалел. Знал бы, зачем идете, — всех порешил. — Вот как? — дед Сорока направился, было, к Игошину, но лейтенант предостерегающе поднял руку, и он остановился. — Нет, не Иуда я. Это ты род людской опозорил, тайгу опоганил. Зверем бы назвал я тебя, да боюсь зверя обидеть. Э, да что говорить, — Сорока устало махнул рукой. В рюкзаке Игошина тоже обнаружились вещи убитых. Между тем наступали сумерки. Возвратились из маршрута геологи — два здоровенных парня. Долго кипели страсти, когда узнали они о происшедшем — убийстве, розыске, задержании Андрея Игошина. Опять Николаеву Пришлось напомнить людям, что нельзя допустить самоуправства. Игошину устроили постель, но он отказался лечь, сидел, прислонившись спиной к дереву, запрокинул голову, смотрел в небо. Опустилась на землю черная, без просвета ночь. От озера пополз клочковатый туман. В костре потрескивали ветки. Измученного и потрясенного событиями Вадима отправили спать. Сорока отказался: "Не усну я. Да мне по-стариковски много ли сна надо? Посижу с тобой, Иван Александрович”. Напряжение погони понемногу спадало, Николаев думал теперь о том, как организовать конвоирование. И еще очень хотелось ему допросить Игошина, но он каким-то внутренним чутьем понял, что нужно подождать, пока схлынет злость Андрея, погаснет надежда вырваться, уйти в тайгу и захочется облегчить душу признанием. — Иван Александрыч, — тихо сказал Сорока, — как бы Балуткин в шалаше нас не стал дожидаться, время потеряем. — Придется сходить к шалашу. Там нужно и обыск сделать, может быть, еще вещи найдем. Я оставить его, — Николаев кивнул на Андрея, — не могу, Вадим дороги не знает, геологов наши ребята не знают, остается вас просить. — Господи, зачем меня просить, — обиделся Сорока, — зачем просить, когда я сам хотел предложить. Я до свету уйду налегке, а ты Колбину напиши, что нужно сделать. Дождусь их, сделаем, что положено, и вернемся. — Что бы я делал без вас, Семеныч? — благодарно ответил Николаев. — Брось, парень, общее дело делаем. — Конечно, общее. Но рад я, что познакомился с вами. — Какое это знакомство! — Дед Сорока мечтательно протянул: — Э-эх, приезжай-ка ты ко мне в отпуск. В такие места тебя уведу, такие чудеса покажу — никогда не захочется к Черному морю. — Хорошо бы. Люблю тайгу. А у Черного моря я не был. Деньги туда, говорят, надо большие. А я только обживаюсь. Жена у меня, дочке два года, шустрая такая. К родителям ездим, стареют они. Какое тут море! А в тайгу бы я с удовольствием, да еще с вами. Мечтая о тайге, Николаев не знал еще, что совсем скоро судьба снова сведет его с Сорокой, надолго привяжет к здешним местам, и однажды Сорока поведет его по заветным тропам, с гордостью покажет любимые потайные уголки. Они познакомились в трудные дни, узнали цену друг друга, и, несмотря на разницу в возрасте, свяжет их крепкая дружба. Одинокий старик отогреет свое сердце в доме Николаева, полюбит маленькую Олю, которая будет называть его ласково дедулей. И когда загадочная смерть внезапно настигнет-таки Сороку в его любимой тайге, Николаев найдет его и отдаст последний долг. А пока они тихо разговаривали, сидя у костра. Николаева клонило ко сну от усталости и напряжения, и мудрый Сорока, оставив попытки уговорить его соснуть, развлекал лейтенанта разговорами, рассказами о таежной жизни. Сменили друг друга геологи. Выполз из палатки заспанный Вадим, глаз у него заплыл окончательно. — Это он меня сапогом стукнул, — пожаловался, прикладывая к щеке намоченный в озере платок. — До свадьбы заживет, парень, не горюй, зато как лихо ты его оседлал, — утешил и похвалил его Сорока. Ночь проходила. Начинало светлеть за Саянами небо. Засобирался в путь Сорока. — Пока они там будут работать, вы отдохните, это просто приказ, — как можно строже сказал Николаев. — Когда вас ждать? — Ладно, приказ, — усмехнулся Сорока, — ты за меня не волнуйся, я свои силы знаю. А ждать нас, — он задумался, — спешить будем, но только после полудня сюда поспеем, не раньше. Ушел Сорока. Геологи рядышком сидели у костра, молчали. Николаев подсел поближе к Игошину, который, запрокинув голову, тоскливо глядел в розовеющее небо. Всю ночь он тоже не спал, неподвижно и молча сидел, то уставившись в небо, то прикрывая глаза набухшими от слез веками. — Пить дайте, — вдруг сказал он. Геолог принес кружку остывшего чаю. Напившись, Игошин тихо спросил: — Как вы про меня узнали? — Уж узнали, — ответил спокойно Николаев, — все про тебя узнали. И как из отпуска не вернулся, и как в тайгу ушел, и как с геологами встретился. — Не хотел я, — Игошин закачал головой, — не хотел я их убивать, так получилось, я сейчас расскажу. — Давай-ка по порядку все, — посоветовал Николаев. И Игошин начал свой рассказ.17
— В армию я с охотой пошел. Надоело дома. Мамка, сестры сперва приставали — учись, учись, потом стали приставать — иди в колхоз работать или в леспромхоз. Ну не хочу я ярмо на себя надевать, жить хочу как хочу, а они — нет, зудят и зудят. Один раз Балуткин — это участковый наш, прискакал: "Нехорошо, — говорит, — Андрей, надо трудовую книжку заводить, чего ты как босяк живешь?” Надоели мне. Стреляю я отлично, думал, в армии мне легко будет. Куда там! Стрелять мне почти не пришлось. А только что прибыли в часть — все надо мной начальники, везде строем, по команде, народу кругом полно, ни днем, ни ночью покоя нет мне. Время идет, а я не могу привыкнуть никак. Батя меня гордости учил, а тут!… — Я и учиться не хотел, не по мне это было. Подрос — в тайгу пошел, там мне только хорошо и было. Сам себе хозяин и вокруг всему хозяин. Вот меня прозвали "Андрей — Медвежье сердце”. Почему прозвали? А потому, что характер у меня такой. Я в тайге хочу — казню, хочу — милую. А как дали мне отпуск, приехал домой, сходил в тайгу — ну не хочу больше никуда. Думаю, никуда не поеду. Сестре сказал, а та — в слезы. Виталий заругался, к военкому, говорит, пойду. Плюнул я на них, сказал, что обратно еду, а сам — в тайгу. Боеприпасов взял потихоньку у Виталия. А ружье оставил, боялся поймут, что я в тайге. Возле Васильевской я раньше косарей видел, у них ружья были в шалаше, думал украсть. Николаев боялся прервать исповедь Игошина. А тот говорил печально и тихо, пробуждая в лейтенанте чувство жалости, которое он прогонял, но не мог прогнать окончательно. ”Ну почему? — думал Николаев. — Почему этот парень стал убийцей? Дезертировал — вот и причина”. — У Васильевской на лагерь геологов наткнулся, — продолжал между тем Игошин, — а в лагере один завхоз. Ночевать оставил, накормил. Я смотрю — ружье у него отличное, такое для тайги — клад. Стал думать, как ружье это взять. А тут вижу, под брезентом ящиков полно. Решил, что продукты там. Геологов, знаю, хорошо снабжают. Вот бы, думаю, мне эти продукты да ружье, так я бы год из тайги не вышел. Прошла ночь, утро пришло — надо мне решаться. Я поначалу хотел взять ружье — и тягу, а вот когда мне продукты взять захотелось — тут я и надумал. Вроде в шутку подумал, а прицепилась эта мысль ко мне. Думаю, кто узнает? Какие следы в тайге? Старик пожил свое, теперь мне надо жить. А геологи решат, что обворовал их завхоз и сбежал. Утром Степан чай вскипятил. Ружье у него в палатке было. Оба ствола заряжены, я видел. Он и не оглянулся — я ему в спину… Он — бульк в воду. Подбежал я к речке — его уж нет. Стал я ружье смотреть. Гильзу пустую вынул, свой патрон вставил в ствол — с картечью. Собираюсь. Поднял брезент с ящиков, а там — камни! Зло меня такое взяло! Ну, думаю, возьму, что есть. Брезент снял, палатку, вещи собрал, какие поцелее. Хотел подальше в тайге спрятать. Игошин замолчал. Он молчал долго, потом тревожно спросил: — Что мне будет, а? — Не знаю. Суд будет — это точно, — ответил Николаев. — Хоть тут ты правильно решил — признаешься. Каешься, что такое сотворил? — Не хотел я геолога, — зло сверкнув глазами, выкрикнул Игошин. — Я и сам не пойму, как это случилось?! Когда я уже почти собрался, слышу — мотор на реке. Я ружье сграбастал и — по берегу навстречу. Чуть отошел, вижу из кустов — плывет в лодке, не стережется. Опять я разозлился. Думаю, сейчас все прихватит. Распалился, а тут и он — напротив. Поднял я ружье — и картечью, он — в воду. Потом гляжу, а он на берег лезет, как раз напротив лагеря. Я бегом к лагерю, зарядил стволы. А он голову поднял и смотрит. Я еще раз выстрелил — он и упал там. — …Страшно, — выдохнул Игошин, — даже сейчас страшно. — Я и не хотел убивать, не собирался, — заторопился он. — Как-то само получилось. Я же не знал, что он приплывет, откуда мне знать? Вот и вышло так. — А одежду? — напомнил Николаев. — Тоже не хотел? — Почему? Одежду снял, могла мне пригодиться. Что я, не понимал? Мне надолго надо было в тайге залечь. Вначале за лодкой побежал. Мотор у лодки заглох, ее к завалу прибило. Мотор завести не мог, с шестом на лодке вернулся к геологу. Он у самой воды лежал. Посмотрел — часы на руке, идут. Снял часы, ножик взял, ну и другое. А тело в воду. Переехал на лодке в лагерь, отошел малость — тайник вырыл, там вещи зарыл, мотор с лодки. — Нашли мы твой тайник, — сказал Николаев. — Лодка где? — На лодке я вниз спустился почти до Кирея. В устье вода спокойная, там я лодку притопил. Думал, сгодится. А тайник там же — палатка и вещи. А сам налегке сюда, к озерам. У меня патронов маловато, хотел у деда разжиться и на гольцы податься. Уж там бы меня не нашли! — Нашли бы мы тебя, Игошин, и под землей бы нашли, — устало сказал Николаев. — Дезертировал ты не только из армии. Из жизни тоже. Перелюбил ты себя. Подумай-ка, одних ли геологов жизни лишил? Самому ведь, хоть и зовешься "медвежьим сердцем”, страшно того, что сделал. Убийцей себя не хочешь называть, недаром ни разу не сказал, что убил людей, слова даже боишься этого. "Стрелил, жахнул”, — убил ты их и себя убил с ними. Солнце уже встало и осветило сияющий, ослепительно прекрасный мир. Позади бессонные ночи и трудные дни. Игошин благополучно доставлен на базу геологов в заимке Васильевской, где его уже ждали военные следователи. Николаев и Колбин прощались с людьми, которые стали для них близкими в это печальное и беспокойное время. Пожимали руки геологам. Балуткин отказался летать в райцентр: "Мне здесь до дому — рукой подать!” Николаев представил себе это "рукой подать”, засмеялся, обнимая Ивана Михайловича. А Сорока успел набрать спелой голубики и теперь совал туесок с ягодой в руки Николаева: "Отвези дочке, прошу!” Николаев смущенно отказывался, а Сорока обиженно вскидывал брови: "Что ты за человек такой, задавит тебя туесок, что ли?” Так и пришлось Николаеву лететь с подарком охотника. Игошин тоскливо и безотрывно смотрел в маленькое круглое оконце вертолета на проплывающую внизу тайгу. Болело, видно, и медвежье сердце. А голубика, закрытая в тонкой бересте, вобравшая в себя свежесть леса, источала тонкий аромат, нежный и стойкий, как сама жизнь.Происшествие на реке

Старенький "Москвич” жалобно постанывал на колдобинах, разбрызгивая по сторонам коричневатую жижу. Казалось, дождь лупит по дороге прицельно. Тугие струи стреляли прямо в лужи, взрывая их пузырями. В машине царило молчание. Мне казалось, что молчали все по-разному. Плотный, с густой седеющей шевелюрой хмурый шофер молчал укоризненно. Я сочувствовал ему. После такой нагрузки по выщербленной гравийной дороге, да по непогоде не миновать "Москвичу” ремонта. Шофер долго не соглашался везти нас в такую даль, почти за 200 километров. И подчинился только, когда начальник порта, выйдя из себя, хлопнул ладонью по столу: "В конце концов ты на работе и машина тоже. А за поломку я отвечаю”. Я не мог гарантировать шоферу благополучного возвращения — потому и сочувствовал. А вот Геннадий Иванович Чурин — худой блондин средних лет — молчал обиженно. Он считал, что ему, капитану-наставнику порта, незачем было трястись за тридевять земель и заниматься, как он выразился, милицейскими делами. Его дело — водный транспорт в порту, все остальное его не касается. Я не мог убедить его в обратном. Времени для этого было мало, кроме того, я знал, что в своей неправоте он скоро убедится сам. Помощь специалиста была нам необходима. Кроме меня — я работал тогда следователем милиции, — в машине ехал оперуполномоченный уголовного розыска Гоша Таюрский, широкоскулый смуглый сибиряк, щупловатый, но жилистый. Он тоже молчал, потому что ухитрялся дремать даже в такой обстановке. Он привык к неудобствам и неожиданностям. Помалкивал и я. Собственно, обо всем, что было известно, мы переговорили перед отъездом. Знали мы очень мало, и сейчас я, подпрыгивая на продавленном переднем сиденье "Москвича”, обдумывал ситуации, в которых мы могли оказаться. Мысли невольно обрывались с каждым новым ухабом, отрывавшим меня от сиденья и бросавшим затем на жесткий металл между коварно расступавшимися пружинами. Надо было запастись терпением часа на четыре такого пути. Зато на пристани с красивым названием Жемчужная нас ждал катерок. Он-то, не колыхнув, доставит до места. На катере нас, конечно, напоят чаем. Промозглая сырость стояла в машине. От неподвижности, тесноты, влажного холодного воздуха мерзли ноги. И хотя июнь стоял на дворе, холод был осенний — беспросветный и липкий. Мы выехали рано утром, еще до семи. Часов пять на этом кряхтящем старце — "Москвиче” — это в лучшем случае, если без поломок. На катере, говорил Чурин, тоже 2—3 часа пути. Значит, прибудем засветло и можно будет начать работу. Но сначала чай. Так хочется горячего чаю! Зря отказался я от термоса, который совала мне на дорогу жена. И неужели никто не поступил разумнее? Я покосился на спутников. Словно в ответ на мои мысли заворочался Чурин, упирая колени в спинку моего многострадального сиденья. — Разверзлись хляби небесные. — Двухчасовое молчание, кажется, кончалось. — Чаю хотите? Что-то продрог я. — Голос Чурина будто застоялся. — Спаситель, — я шутливо поднял руки и получил широкую пластмассовую крышку от термоса. В крышке плескался чай — горячий, крепкий — именно о таком я только что мечтал. Шофер от чая отказался. Гоша, съежившись в углу, дремал, а я повернулся, насколько мог, к Чурину, отдал пустую крышку и бодро сказал: — Порядок! — Порядок… — ворчливо повторил Чурин, — у меня работы по горло, а я с вами путешествую. Каждый должен делать свое дело… Чурин явно хотел оседлать старого конька, и я поспешил увести разговор в сторону, интересовавшую меня. Да и его самого интересующую — в этом я был уверен. — Неужели у вас, Геннадий Иванович, нет никаких предположений? Никогда не поверю. — Есть, конечно, как не быть. — Чурин легко переключился, и я понял, что он не переставал думать об этом. — Только зачем нам предположения? Истинная картина нужна. — За картиной и едем, — ответил я, а Чурин покачал головой, то ли сомневаясь, то ли соглашаясь. Я не люблю неопределенных жестов, Чурин заметил это по моему лицу и наконец смилостивился. Капитан-наставник был умный мужик, и его недовольство поездкой было вынужденным, от загруженности в порту. Но я уже видел, что он смирился с неизбежным и весь в мыслях о загадочном происшествии, вынудившем нас отправиться в дорогу. Что мы знали? На землечерпальном судне, именуемом попросту земснарядом, пропал человек. При совершенно невыясненных обстоятельствах бесследно исчез матрос Балабан. С начала навигации земснаряд стоял ниже пристани Жемчужной, углублял дно и добывал отличный речной гравий, который периодически вывозили буксиры. Экипаж был малочисленный. Люди, на целый плавсезон оторванные от семьи, работали напряженно, со временем не считались и были на виду друг у друга. Это к тому, что тайны на земснаряде не существовали. Во всяком случае, так считалось. Балабан работал первый сезон, в отделе кадров порта сведения о нем были самые скупые — родился, учился. Настораживало, что был судим за кражу, но это ни о чем еще не говорило. Срок свой отбыл и устроился на работу в порту. Его отправили на земснаряд: на них всегда с кадрами туго. Так вот, этот Балабан заступил вечером на вахту, а утром его нигде не оказалось. Вещи матроса были на месте, сам же он исчез. Получив это сообщение, я особой загадки в нем не увидел: матрос мог упасть нечаянно за борт, а мог стать жертвой преступления. Разберемся. Загадочным исчезновение матроса сделало второе сообщение: год тому назад на этом же земснаряде тоже пропал матрос. Факт этот расследовали, но, не дознавшись, приостановили дело. Матрос тогда так и не обнаружился, ни слуху, ни духу о нем не было до сих пор. Новое исчезновение было непонятным и поэтому таинственным и волнующим настолько, что команда земснаряда отказывалась от ночных вахт и вообще, как мне сказали, готовилась сбежать на берег. В ночном исчезновении людей роковую роль стали приписывать самому земснаряду. Особое старание проявлял в этом матрос Приходько. Конечно, люди страшатся необъяснимого, и стараются что-то придумать для объяснения. Прошлогоднее дело я поднял, тщательно изучил и сейчас вез с собою в портфеле: не будет ли чего общего в этих двух печальных событиях? Это было все, чем я располагал. Мы продолжали начатый разговор. — Если по формуле "кому это выгодно”? — Чурин поднял вверх указательный палец, но назидательного жеста не получилось, машину сильно тряхнуло, и капитан схватился за мое плечо. — Так вот, если по этой формуле — я не вижу, кому было бы выгодно исчезновение матроса. — Формул у нас полно, — я попытался шутить, — вплоть до "ищите женщину”. Но, чтобы формулу составить, нужны данные. У нас же — одни неизвестные. А не может ли наш ларчик просто открываться? Ключиком техники безопасности? Чурин беспокойно завозился на сиденье. Этот вопрос был для него из числа самых нежелательных. — Видите ли, уважаемый Сергей Борисович, техника безопасности на флоте — вещь достаточно сложная. Река и судно постоянно подбрасывают задачки. И решить их не каждому под силу. Не всегда, во всяком случае, — поправился он. — Балабан прошел обучение, вы журнал с его подписью видели — что я могу вам сказать? Журнал я действительно видел. Мне показали его в порту в первую очередь. Балабан расписался, что прошел курс обучения по технике безопасности. Но вот как знал эти правила и как применял? — И вообще, — продолжал Чурин, — какая там у вахтенного матроса опасность могла быть? Река спокойная, земснаряд исправен, все, как говорится, путем; Не-е-т, — протянул он, — эта пропажа по вашей части. — Конечно, по нашей, — подал голос проснувшийся наконец Таюрский. — Здесь налицо или мафия, или привидения — уголовный розыск разберется. — Привидения… — обиделся Чурин. — Привидения тут ни при чем… — Да ведь матрос Приходько говорит, что на земснаряде именно с этой стороны нечисто, так нам сообщили, по крайней мере. Команда в панике и разбегается. — Таюрский, конечно, шутил, но в его шутке была доля правды. Мне тоже сказали, что Приходько рассматривает проблему именно так. — Ну, разбирайтесь, — буркнул Чурин и опять обиженно замолчал. Так, в молчании, под непрерывным дождем, просочившимся даже в машину, прошел остаток нашего пути, и я старался не замечать вздохов шофера, который прислушивался к мотору. Я тоже слышал, что мотор застучал. Первый сюрприз ждал нас в Жемчужной. На деревянном настиле причала рядом с молодым капитаном катерка стоял невысокий седой человек в прорезиненной накидке, блестящей от дождя. — Никонюк, — представился он, — капитан "Сокола”. Я смотрел на него вопросительно, и капитан пояснил: — Мой "Сокол” швартовался к земснаряду ночью, а утром этого матроса не досчитались, вот я и жду вас. Может, поговорить надо с моими людьми. Мы с Гошей Таюрским одновременно глянули на Чурина. Тот смущенно развел руками: об этой швартовке ничего не было известно и ему. — Порядочки… — протянул Гоша, ни к кому не обращаясь. Чурин намек понял, поднял выше костлявые плечи. Возразить ему было нечего — это был непорядок, если мы не знали о такой важной детали той ночи — о швартовке судна. Здесь же, на пристани, Никонюк рассказал нам, что его "Сокол” как плавучая лавка снабжает разбросанные по реке земснаряды и драги продуктами и всем необходимым. В ту злополучную ночь они припозднились и пришвартовались к земснаряду в 0 часов 18 минут. Сам капитан находился в рубке, а вахтенным был матрос Найденов. — Он по натуре-то незлой человек, этот Найденов, — пояснил капитан Никонюк, — а как потребовал я у него объяснений по этой ночи — взъярился. Швартовался, говорит, как обычно, и ничего не знаю. Одним словом, говорите с ним сами, — подытожил он. Капитан был прав. Прежде чем отправиться к земснаряду, следовало опросить людей с "Сокола” и в первую очередь матроса Найденова. Мы направились на "Сокол". Ветер гнал по реке мелкую беспорядочную волну, трап на "Соколе” зыбко качался. — Вахтенный, Найденова в каюту капитана, — зычно крикнул Никонюк. Спустя четверть часа дверь каюты приоткрылась без стука, показалась взлохмаченная голова молодого парня, который с нескрываемым беспокойством сказал: — Нету Найденова нигде. Однако на берег сиганул. — Как нет? — удивился капитан. — Я ведь ему ждать велел! Матрос молча пожал плечами. Мы с Таюрским переглянулись. — Ну вот, — хмыкнул Гоша, — еще одна потеря. Начинается работенка. Действительно, начиналась работа. Посовещавшись, решили, что Таюрский остается в Жемчужной. Ему предстояло переговорить с командой "Сокола”, отыскать матроса Найденова. И еще я напомнил Гоше, что недалеко от Жемчужной, километрах в пяти, не более, находится поселок, где жила, по сведениям годичной давности, семья того матроса, который пропал с земснаряда первым — фамилия его была Тимохин. Слушая меня, Таюрский лишь молча кивал. Я поручал ему большой объем работы, но я хорошо знал Гошу. Его называли у нас двужильным. Еще больше почернеет, похудеет, но сделает все, что нужно. По-умному азартный, он умел заражать интересом к розыску всех, с кем сводила его служба, и его подчиненные работали так же. Работа с Таюрским считалась удачей, и я был рад, что в таком тесном деле рядом со мной Гоша. Рассчитывал я и на то, что Таюрский из здешних мест, а дома, как говорят, и стены помогают. Одним словом, Таюрский остался в Жемчужной, а мы с Чуриным направились на земснаряд. Не ждет ли там нас новый сюрприз? Как я и ожидал, на земснаряд мы прибыли засветло. Дождь не прекращался. Усилился ветер. Пузатые рваные тучи плыли по низкому небу, и быстрые струйки дождя, казалось, выстреливали по ним из пузырящейся реки, а не проливались сверху. Капитан земснаряда был какой-то серый и съеженный. Испуганный событиями, он ничего вразумительного пояснить не могу. — Да, швартовка ночью была. Прошланормально… "Сокол” стоял у борта до утра, команда отдыхала… Да, вахтенный был на месте… Нет, его не проверял, просто думал, что тот на месте… Я видел, как злился Чурин. Капитан-наставник понимал, что на судне не было должного порядка. Если капитан судна проспал ночную швартовку — не место ему в капитанской рубке на коварной реке. Осмотрели вещи пропавшего матроса. Богатство Балабана, хранившееся в небольшом чемоданчике, состояло из смены белья, нескольких рубах, пары полотенец. На гвозде, вбитом в перегородку, висел аккуратно прикрытый газетой костюм. Среди бумаг — паспорт и тетрадь в клеенчатой обложке. Я осторожно полистал тетрадь. Может быть, дневник? Нет, стихи. Матрос Балабан, значит, любил стихи и по-детски переписывал их в тетрадку. И сам, наверное, сочинял, чаще всего так оно и бывает. Ни записной книжки, ни адресов или телефонов в записях Балабана не было. Видимо, координаты друзей, если они у него были, Балабан помнил наизусть. Вещи матроса не приоткрыли завесу над тайной его исчезновения. Начинало смеркаться. Поручив Чурину проверить судовые документы, я начал беседы с командой, которая не уходила с палубы, несмотря на дождь. — Приходько, заходите, прошу, — крикнул я. Мощное тело матроса Приходько боком просунулось в узкую дверь крошечной каютки, в которой я расположился. Под распахнутым плащом белую майку на груди матроса украшал олимпийский Мишка, так чудовищно растянутый в ширину, что я невольно улыбнулся. Улыбнулась и Приходько. — Лида, — представилась она, приткнулась на краешек стула и наклонилась ко мне. Толстый медведь-олимпиец удобно уселся на столе. Итак, впечатлительный бунтарь-матрос оказался женщиной. — Вы меня послушайте, — начала Приходько, не дожидаясь вопросов, — я на этой землеройке третий год вкалываю, с тех пор, как с мужем разошлась. Хотите верьте, хотите нет, но не нравится мне здесь, ой, не нравится… Она говорила приглушенно, таинственно, и я видел, как ей хочется, чтобы ее подозрения обрели реальность. — Вот матрос Балабан, — продолжала женщина, — он свою смерть чуял… Я вопросительно поднял брови: — Ну почему же обязательно смерть? — А я вам говорю, смерть. — В голосе Приходько послышалось раздражение. — С самого первого дня. Как пришел к нам, он, сердечный, все беду ожидал. Ходил смурной такой, неулыбчивый. Бывало, ребята ржут на палубе, а он — ни-ни, не улыбнется. Сторонился всех, шепчет что-то одними губами, я сколько раз замечала. А взгляд, — Приходько сложила в замок большие руки, прижала к груди, — взгляд у него был уж не живого человека… Ясно, судьба за ним ходила и настигла вот… Она говорила так убежденно, что я вдруг почувствовал, как где-то в самом дальнем тайничке моей души зашевелилось желание поверить ее словам, и от этого по телу поползли холодные мурашки. — Вечером я Балабана на палубе поздно видела, — продолжала между тем Приходько, — духота стояла, перед непогодой этой однако. Балабан на кнехте сидел, голову опустил, смотрел в воду. Я его еще окликнула: "Колька, ты чего пригорюнился?” Он вроде встрепенулся малость. "Нет, — отвечает, — ничего, Лида, я так”. Ушла я к себе. Ночью мне как-то не по себе было. И спала неспокойно. Как "Сокол” швартовался, я слышала. У Ни-конюка голос, как труба, зычный, мертвого разбудит, а я дремала только. Как "Сокол” к борту нашему ткнулся, вроде я свист услышала. Резкий такой, быстрый… — Свист? — переспросил я удивленно. Какой такой свист могла услышать Приходько из своего закутка на камбузе? И тут же вспомнил, что камбуз-то как раз на той стороне судна, куда швартовался "Сокол”. Итак, свист. Это новость. — Человек свистел? Олимпийский медведь на груди Приходько принял новую причудливую позу: — Не знаю, — выдохнула Приходько, снизив голос до шепота, — не знаю, что за свист, не поняла. Говорю, короткий свист такой. Я всех своих поспрашивала, его только Линь слышал, да вот я… Утром встали — Балабана нет. Как корова языком слизнула. Приходько замолчала. В глазах — смесь торжества и любопытства. Действительно, чертовщина какая-то. Я начинал понимать команду, которой эта прорицательница вещала всякие ужасы. — А Тимохин? — продолжал я спрашивать. — Его вы тоже знали? Приходько оглянулась на дверь и еще более понизила голос: — Знала, как же, вместе работали, пока он не пропал. — Ну а вот, — попытался я пошутить, — тот смерти не чуял? — Может, и чуял, мне не известно. Дело вам говорю, а вы насмешки строите, — обиделась она. Я поспешил успокоить Приходько: — Какие же насмешки, я прошу вас о Тимохине рассказать. — Да что рассказывать-то? — ей явно не хотелось продолжать разговор. А ведь о Балабане она говорила охотно, с азартом. Пришлось повторить вопрос настойчивей. Приходько долго мямлила о том, что плохо знала Тимохина, мало с ним общалась, что все их знакомство сводилось к небольшим взаимным услугам: она ему белье постирает, он дровишки с берега доставит. Я слушал, подавляя в себе раздражение. Именно ее наивная попытка отмежеваться от несчастного Тимохина убедила меня в том, что Лида Приходько знала его лучше, чем пыталась представить. Сам не могу объяснить, почему мне в этот момент пришла такая мысль, но я спросил Приходько: — Когда Тимохин исчез, "Сокол” к вам швартовался, или, может, другое судно? Приходько машинально кивнула: — "Сокол”… — и осеклась, отвернулась. — Ну-ну, — напрасно подбадривал я ее. Она только рассердилась: — Не нукай, не запряг! Не помню точно, была ли вообще швартовка. Не обязана помнить, — отрезала решительно. Так и пришлось отпустить ее с миром, не добившись больше ничего путного. Расстались мы не так дружелюбно, как встретились. После Приходько я опрашивал других членов команды, но они были людьми новыми, о прошлогоднем случае ничего не знали, о Балабане отзывались хорошо, отмечали лишь его замкнутость и рассеянность. "Словно озабочен был всегда”, — так сказали несколько человек. Наверное, события обсуждались на судне, и у коллектива сложилось о них свое собственное мнение. Последним в каюту ко мне юркнул — не вошел, а именно юркнул — человечек небольшого роста. Я подумал вначале, что это подросток, но нет — солидный возраст вошедшего выдавали жидкая неопрятная щетина на подбородке и частая седина в волосах, прилипших к маленькой, какой-то птичьей головке. — Линь, — представился человечек. Фамилия у него тоже укороченная. Линь оказался для меня сущим кладом и поведал весьма любопытные вещи. Фактами их не назовешь, конечно, так, личные наблюдения, но если бы они подтвердились!.. Я остро жалел, что нет рядом Таюрского. Вот тут бы ему и карты в руки. Что поделать — приходилось ждать. Зная Гошину разворотливость, я надеялся увидеть его на земснаряде уже завтра. Едва я распрощался с говорливым Линем, пришли Чурин с капитаном. Чурин кипел от негодования, а капитан помалкивал, только втягивал голову в плечи. В моей каюте капитан-наставник продолжал свой возмущенный монолог: — Капитан на судне всему голова — даже нянька, если хотите. Да-да, и не возражайте, — говорил он капитану, который и не думал возражать. — Вы же людей не знаете, тех, кто рядом с вами и поручен вам! Сразу по возвращении на место я вопрос о вас поставлю самым серьезным образом! — Что случилось-то? — Мне стало жаль капитана, и я поспешил прервать Чурина. Да и не нотации здесь были нужны, а конкретные меры. — Как с судовыми документами? — задал я вопрос Чурину. Тот устало махнул рукой: — Документы формально в порядке, но это ведь не все для капитана. — Чурин опять начинал заводиться, и я перебил его: — Хватит, Геннадий Иванович. Спустили пар, будет. Скажите лучше, можем мы сейчас посмотреть записи о швартовках прошлого сезона? Не остывший еще Чурин грозно глянул на капитана, тот торопливо кивнул: — Конечно, можно. Пока капитан ходил за судовым журналом, Чурин горько жаловался мне: — Недосмотрели мы с капитаном. Он долго в помощниках ходил, повысить решили в прошлом году, а у него за два сезона — два таких случая! И что возмутительно — он только плечами пожимает, даже и не пытается разобраться. — Чурин вздохнул. — И не знает, что за люди рядом с ним живут. Руководитель называется, капитан. — В голосе Чурина слышалось презрение. — Да, — наконец-то отвлекся он от своих забот, — а зачем вам прошлогодние швартовки? Я не успел ответить. Капитан принес судовой журнал. Листать дело Тимохина не было нужды — я помнил, что исчез он 27 июля. Вот он, этот день в журнале. И "Сокол” швартовался вечером в 20 часов 35 минут. Ушел от борта в 23 часа. Могла ли помнить об этом Приходько? Могла, конечно. Но могла и забыть — не упрекнешь. И все же у меня сложилось впечатление, что Приходько помнила об этой швартовке, оговорилась случайно и неумело пыталась скрыть это. Неужели выводы маленького Линя не лишены оснований? Мне хотелось спросить кое о чем Приходько, но пришлось отложить разговор на утро, потому что было уже очень поздно. День выдался утомительный и длинный, у меня разболелась голова, и я вышел на палубу, накинув на плечи длинный плащ капитана. Дождь все шел и шел и казался бесконечным. Ветер налетал порывами, гоняя по палубе дождевые лужи, и я видел, как на близком берегу, сопротивляясь ветру, деревья дружно и резко взмахивали кронами, сбрасывая тяжелую воду. Надрывно кричала в лесу какая-то птица. Природа словно создавала подходящий фон для моих мрачных размышлений. Головная боль не отпускала, я досадовал, что плохо собрался в эту командировку — не взял даже таблетки аспирина. Несмотря на сырость и холод, возвращаться в душную каюту мне не хотелось, я подошел к леерному ограждению судна и долго стоял возле кнехты, на которой, по словам Приходько, незадолго до исчезновения сидел Балабан. Я смотрел в темную воду, пытался представить, что здесь произошло. Пытался, но ничего не получалось. Балабан пришвартовал "Сокола" к борту земснаряда, то есть принял канат, закрепил его на кнехтах. Что случилось потом? Смущала меня и ложь Приходько. Что крылось за нею? Какое отношение имела эта ложь к двум моим делам? Как проверить подозрения Линя? Мне нужен был Таюрский, без него моя работа заходила в тупик. Что-то еще он привезет мне и когда, когда — вот основной вопрос. Шум реки и дождя скрадывал все звуки на судне — оно словно вымерло. Честно говоря, мне все было не по душе — эти два дела, погода и затаившееся судно. Так стоял я довольно долго и собрался отправиться было в каюту, как меня остановил какой-то новый звук в ставшем привычным шуме реки и дождя. Я осторожно отступил от борта, повернул голову на шум и увидел неуклюжую фигуру в брезентовом плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Такая фигура на судне одна — Приходько! Она огляделась, постояла у открытой двери камбуза, осторожно прикрыла ее за собой и направилась к корме. Я поразился легкости ее шагов — ведь Приходько была грузна. Что же нужно ей на палубе в такой час, да в непогодь? Решил понаблюдать. Не доходя до кормы, Приходько вдруг резко повернулась и направилась… прямо ко мне. ’’Тень, — догадался я, — она увидела мою тень, перечерченную леерным ограждением”. Таиться не имело смысла, я тоже шагнул ей навстречу: — Не спится? — как можно приветливее спросил я. — А вам? — вопросом на вопрос ответила Приходько. В ее голосе отчетливо слышалась злоба. — Вы что, за мной следите? Чего вам от меня надо? Чего привязались? Что я вам сделала? ’’Мой милый, что тебе я сделала?” — совсем некстати пришли на ум цветаевские строчки, и я произнес их вслух. — Чего-чего? — переспросила Приходько, надвигаясь на меня. Пришлось попятиться. — Не хватало мне ночной схватки с дамой, — попытался я отшутиться и уже серьезно спросил: — Что с вами, Лида? Расскажите. Мой призыв Приходько оставила без внимания. Опять резко повернулась, громко топая, бегом направилась к своей двери на камбуз. — Утром поговорим, — крикнул я ей вдогонку, не подозревая, какую делаю ошибку. Утром Лидии Приходько на судне не оказалось. Исчезла также лодка, привязанная к корме. "Что за оказия”, — чертыхался я в отчаянии: сплошные пропажи! Озадаченный не меньше моего, Чурин не мог мне ничем помочь, только разводил худыми длинными руками, а капитан совсем онемел. Здесь, на земснаряде, делать мне было больше нечего, и я сгорал от нетерпения узнать, что там у Таюрского? Наконец на моторке мы отправились в Жемчужную, осыпаемые мириадами брызг — и сверху, и сбоку лилась на нас эта нескончаемая вода. Моторку вел наблюдательный Линь. Я с облегчением вздохнул, увидев у причала "Сокол”. Таюрского на нем не было. Нас встретил и напоил чаем энергичный капитан Никонюк. Он же сообщил, что Гоша Таюрский должен быть в отделении милиции, и я отправился туда, оставив Чурина с капитаном. В отделении мне ловко козырнул щеголеватый дежурный помощник и провел в кабинет начальника. Навстречу поднялся из-за стола светлоглазый мужчина за пятьдесят, с густыми русыми, аккуратно причесанными волосами, с двумя глубокими поперечными складками возле губ. — Майор Жданович, — представился он, крепко пожимая мне руку. — Таюрский скоро будет, жду с минуты на минуту. Не дожидаясь вопросов, Жданович, посмеиваясь, рассказал, что Гоша развил здесь кипучую деятельность. — Втянул в свои дела моих ребят, а их у меня — раз-два и обчелся, — ворчливо говорил Жданович, но по его смешливо поблескивающим глазам я видел, что он не против этого. Майор пояснил: — Работы, конечно, и своей много. Но ведь этот Таюрс-кий — личность в угрозыске известная, ребята к нему так и прилипли. Хорошо, пусть учатся разворотливости… Да, у вас-то как? — спохватился он. Я рассказал о событиях на земснаряде. Жданович в задумчивости заходил по кабинету. Молчание несколько затянулось, и первым его нарушил майор: — Я не хотел бы до Таюрского вас информировать, да уж ладно, забегу поперед батьки, как говорится. Дело в том, что Таюрский, кажется, на след Тимохина вышел. — Тимохина?! — Я не сдержал удивленного возгласа. — Тимохина, — кивнул Жданович, — У него семья в леспромхозовском поселке — жена, детей двое. А в Икее — это село километров за тридцать, там старики его живут, братья тоже. Так вот в леспромхозе о нем ни гу-гу, а в Икее у нас такие серьезные есть мужики — учуяли Тимохина. Наведывался он в село нынешней весной. Вот ведь, — Жданович горестно вздохнул, поерошил рукой свою чуть седеющую шевелюру, — мы его разыскивали как алиментщика, жена заявление подавала, а упустили. Ну я, признаться, так и думал, что он утонул в прошлом году. В нашей реке ведь не удивительно пропасть без следа — вода холодная, быстрая… Так вот, Таюрский раскопал-таки, что Тимохин приходил к брату в мае, с началом плавсезона. Где был зимой, где сейчас обитает — неизвестно пока, Таюрский с ребятами над этим работали в Икее. Позвонил, что едет в Жемчужную. Что-то еще привезет? — А Найденов? Матрос с "Сокола”? — спросил я. — И что рассказали люди с "Сокола”? — Найденова не нашли. Видели его в магазине незадолго до вашего приезда. Продуктов набрал и как в воду канул. Гляньте, — Жданович показал рукой на окно, откуда видна была кромка леса, — вон она, тайга-матушка, укрыться есть где. — Он замолчал на минуту, задумался, с сомнением покачал головой. — Однако в такую непогодь надо знать, куда идти в тайге. Иначе пропадешь. А разговор с командой "Сокола” ничего не дал. Что поделаешь — ночь, спали люди. Под окном кабинета послышался скрип тормозов. Я выглянул — к отделению милиции шел Гоша Таюрский в сопровождении огромного детины в телогрейке, в рыбацких сапогах с загнутыми голенищами. Из кузова забрызганного грязью по самую крышу уазика выпрыгнули двое молодых парней. Судя по форменным сапогам, это были "ребята” Ждановича. Гоша обрадованно пожал мне руку, весело поблескивая узкими темными глазами, принялся рассказывать: — Привез вот старшего Тимохина, к которому наш пропащий наведывался. Парень неплохой, хоть и непросто мне дался. Уж теперь-то, кажется, мы на Тимохина выйдем… Да, — он приостановился, взглянул на меня вопросительно, — тебе обрисовали положение? — Рассказал, что знал, — ответил за меня Жданович. — Гоша, не увлекся ли ты Тимохиным? — не удержался я от упрека. — Знаешь, что на земснаряде случилось? — Что? — насторожился Таюрский. Я рассказал и был удивлен Гошиной реакцией. — Да это же здорово! — воскликнул он. — Теперь-то Тимохин никуда не денется. Степан! — крикнул он зычно, и я вздрогнул, не ожидая такого рыка от Гошиной небольшой стати. На зов Таюрского вошел детина, которого я видел в окно, переминаясь, встал у порога. — Проходи, проходи, — голос Гоши звучал теперь приветливо, — садись давай вот тут. — Гоша отодвинул стул от приставного столика, усадил Тимохина. — Рассказывай, — сказал он. Мы молча ждали. Степан Тимохин смотрел исподлобья. Видно было, как не хочется ему говорить. — Что рассказывать-то? Все уж сказано было. — Повтори людям, Степан, — строго сказал Гоша, — поимей уважение к начальству. Я поразился Гошиному умению владеть своим голосом. За несколько минут — столько интонаций! "Артист”, — восхищенно подумал я. Тимохин между тем также исподлобья оглядел нас. — Пусть они тоже скажут, что братухе не будет хуже, коли его сейчас возьмут, — угрюмо попросил он. Я понял, в чем дело. Гоша оказался тонким психологом. Поспешив на помощь товарищу, я сказал: — Таюрский прав. Что сейчас за вашим братом? Он скрывается от уплаты алиментов — и только. А к чему приведет его тайная жизнь? Ведь для жизни нужно многое: продукты, одежда, оружие, патроны для охоты — он ведь в лесу? — спросил я, но Степан промолчал, и я продолжил — Он может совершить преступление. Кражу или чего похуже. Судите теперь, когда его лучше уму-разуму поучить — сейчас или потом, когда натворит что-нибудь серьезное. — Оно конечно, — вздохнул Тимохин, — вот и Таюрский меня также убеждал. Видно, правы вы, мужики… — Он осекся, назвав нас мужиками, огляделся и, не увидев обиды, успокоился: — Батя его тоже крыл. А он заладил одно — не буду с женой жить. Ну, говорим, не живи, коль не хочешь, а дети при чем? Степан Тимохин горестно махнул рукой: — Что с беспутного взять. Мы так считаем, его бабенка какая-то с панталыку сбила. Где они шастали зимой — не знаю. К весне у него, видно, той любви поубавилось, в родные места потянуло. Дали мы братану ружье хорошее, патроны. Сахару взял, соли, муки тоже. Поживу, говорит, лето на приволье. С этим ушел, да вот полтора месяца не был. — Но вы-то видели его? — быстро спросил Таюрский. — Видел, — выдавил через силу Тимохин. — Сердце болит по брату, беспокоимся. Хоть и не сказал он, где будет, да мы решили — в зимовье нашем обитает, где ему еще быть? Ну, я и пошел — полмесяца назад, однако. Точно! Там и застал его. Оставил харчи, что со мной были, боеприпасы кое-какие. Да он, видел я, не бедует. Навещает его кто-то, однако. Степан замолчал, только двигались желваки на скулах. Таюрский подошел к нему, положил руку на мощное плечо, тихо сказал: — Покажешь зимовье? Тимохин решительно замотал головой: — Нет, не просите даже. Не пойду на брата. По карте укажу — берите сами, но я — не пойду. — Как же так, — возмущенно начал я, но Таюрский предостерегающе поднял руку. Я замолчал, подумав: "Ладно, в конце концов Гоше виднее". Жданович расстелил перед Тимохиным карту района, тот ткнул в нее пальцем: — Здесь вот зимовье, у Ключей. Я тихонько присвистнул, увидев, где расположены эти Ключи. Выпроводив печального Тимохина, мы принялись обсуждать наши дела. Мои данные пересекались с Гошиными лишь в одном: Тимохин был связан с женщиной, и, как мне говорил Линь, этой женщиной была Лидия Приходько. Наблюдательный моторист, видимо, не ошибался, подозревая наличие связи. — Где земснаряд стоит? — спросил меня Гоша. Я показал на карте: — Примерно здесь. — Не в зимовье ли Приходько? — задумчиво говорил Таюрский. — Не отправилась ли предупредить дружка? От земснаряда до Ключей, глядите, верст 10, не больше. — Может, Тимохин замешан в исчезновении Балабана? — предположил я, — застал их, допустим, Балабан, вот его и убрали. — Эк, любите вы, следователи, накручивать, — поморщился Гоша. — В жизни проще все. Что сделал Тимохин? Он алиментщик просто. Допустим, приплыл он к этой Лиде, увидел их Балабан. И что? Без ума надо быть, чтобы на убийство пойти из-за такого пустяка. Нет, я пока не думаю, что так могло быть. Пока, — подчеркнул он, видя мое смущение. — И потом, вы Найденова забыли? Эта фигура к Балабану ближе. Вахтовали оба в ту последнюю ночь. Вы отправили ориентировку? — обратился он к Ждановичу. — Утром еще ушла, — кивнул майор. — Ну вот, — сказал Таюрский, — ориентировку на розыск я дал, порядок такой, но искать его будем здесь. Жданович вопросительно поднял брови. — Да, здесь, — подтвердил Гоша. — Судя по продуктам, что он купил, Найденов в тайгу пошел. И вот еще что: он ведь дружил с Тимохиным — соседи они, из одного села. Тут уж, не выдержав, я развел руками: — Ну, Гоша, такой необычный узел завязывается… — Да, узел, — тихо сказал Гоша, глаза его погрустнели, я вдруг увидел, как он устал. — Узел, — повторил он задумчиво, — судьбы, характеры, чувства, случайности — вот тебе и узел. Распутай-ка его, пока он людей не поломал… А может, уже… Кстати вмешался Жданович: — Я так понимаю, надо в Ключи? Мы с Гошей одновременно кивнули. Конечно, нам надо в зимовье, к Тимохину. Непроизвольно я взглянул в окно — на улице все так же нудил дождь, затяжной, холодный. — Мерзкая погода, — сказал Жданович и положил руку на телефон: — Вертолетчиков попрошу. Выручат ребята. Я облегченно вздохнул: вертолет — это хорошо. В такую погоду шастать по тайге — не подарок. Майор остался договариваться с вертолетчиками, Та-юрского ребята Ждановича увели кормить, а меня на дежурке подбросили до "Сокола”, где я попросил недовольного Чурина подождать меня до вечера в Жемчужной. На вертолете к вечеру я надеялся обернуться. — Да покумекайте тоже, капитаны, что же могло с Балабаном приключиться? — попросил я на прощанье. Сборы наши были недолгими, к моему приезду в кабинете Жданова находились Таюрский и высокий молодой мужчина. — Рогов, — представился он. — Наш главный лесничий, — пояснил Жданович, — все зимовья в округе знает наперечет, в том числе и тимохинс-кое, дорогу покажет. Мы принялись экипироваться. Заботливый Жданович приготовил нам с Гошей непромокаемые легкие накидки, стеганые куртки и резиновые высокие сапоги, так же был одет и Рогов. Я с радостью увидел, что с нами собирается Жданович. — И я прокачусь с вами, — ответил он на мой вопросительный взгляд. — Проверьте оружие, — серьезно сказал Гоша, когда мы были готовы. — Так, на всякий случай. Мы молча подчинились — Таюрский руководил операцией по задержанию. Уголовный розыск. Молодой вертолетчик, развернув карту, предупредил: — У самых Ключей не сяду. Здесь вот, — он показал на карту — есть местечко, приземлюсь. От Ключей километров пять или чуть больше. — Отлично, — бодро сказал Рогов, — это место я знаю, выведу к Ключам быстро. — Да и не спугнем раньше времени хозяев заимки, — заметил Жданович. В грохочущем, низко летящем вертолете все молчали: я смотрел в круглый иллюминатор на расстилавшееся внизу мокрое зеленое море и с тоской думал, как по такой мокроте мы будем добираться до зимовья? Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Высадились мы на песчаном взлобке. Вертолетчики порывались увязаться за нами, но Гоша был неумолим. Пришлось им остаться и ждать нас у машины. Мы от-правились. Первым, естественно, шел Рогов, я следовал за высокой, чуть сутуловатой спиной Ждановича, цепочку замыкал Таюрский. Вот это был поход! Рогов вел нас напрямую, через тайгу, сквозь зеленое мокрое царство, где не было, казалось, ничего сухого. Сыпал дождь, с деревьев проливалась на нас притаившаяся на листьях вода, мокрая трава скользила под ногами, а огромные осклизлые валежины словно нарочно подставляли на каждом шагу свои труднодоступные бока. Жданович и Рогов будто не замечали этого. В очередной раз споткнувшись, я оглянулся на Таюрского — Гоша подбадривающе улыбнулся мне. Усталости или недовольства на его лице я не приметил. Казалось, мы шли очень долго, но, как кончается все, кончился и этот утомительный для меня путь. Мы остановились у небольшой опушки, на которой стояло срубленное из крупной лиственницы зимовье — домик, обращенный к нам дверями. Окон видно не было, из высоко выведенной трубы вился дымок — зимовье было обитаемым. Надо было присмотреться, и мы не выходили из леса, стояли молча несколько минут, затем Таюрский тихо сказал: — Ну, мужики, сейчас двинем. Рогов — на зимовье. Ты, Сергей, — он тронул меня за плечо, — остаешься у двери. Мы с майором — внутрь. Плащи всем снять. Едва мы собрались покинуть свое укрытие, как Таюрский предостерегающе поднял руку. Мы замерли, услышав шаги, и тут же из леса, легко неся полное ведро воды, вышла Приходько в брезентовом дождевике. Подошла к избушке, пошаркала сапогами о пожухлую траву, брошенную возле грубо сколоченного крыльца, и скрылась за дверью. — Пошли, — резко сказал Гоша и первым бросился к зимовью. За ним в два прыжка пересек поляну долговязый Жданович, не отстал и я, оказавшись у избушки как раз в тот момент, когда Гоша рванул на себя дверь и властно крикнул: — Сидеть! Дверь осталась открытой, я прижал ее плечом, не давая закрыться. В избушке у сколоченного из досок стола сидели двое. Одного я сразу узнал по сходству с братом — это был Тимохин. Я успел заметить на столе горку дроби, патроны. А Приходько так и застыла, держа руку на дужке ведра, которое только успела поставить на лавку возле двери. — Сидеть всем на месте, — повторил Гоша. Я не успел понять, что случилось. — Говорил я, — спокойно начал Тимохин, и голос его вдруг истерически взвился: — Навела, стерва! В тот же миг Гоша рванулся к столу, раздался ружейный выстрел, избушку заволокло пороховым дымом. Я тоже прыгнул в зимовье, оставив свой пост у открытой двери, которая глухо бухнула за моей спиной. Но опоздал. Жданович уже держал Тимохина, завернув ему назад руки, а Гоша Таюрский почему-то одной рукой медленно клонил к желтой лавке стоящую между колен Тимохина двустволку и морщился при этом, сводя к переносице свои соболиные брови. Второй мужчина с побелевшим лицом застыл у стола. Я прыгнул к нему, схватил за плечи, а сам не мог оторвать взгляда от Гошиного лица, понимая, что с ним неладно, и страшась увидеть, что же такое с ним приключилось. Гоша наконец выдернул двустволку, бросил к стене, и тогда я увидел на его правом плече медленно расплывавшееся по куртке багровое пятно. Таюрский был ранен. Пока Жданович перевязывал рану, Тимохин пьяно плакал, уткнувшись лицом в стол, ругал Лиду, которая неподвижно сидела на лавке, не замечая, что рукав плаща полощется в светлой ключевой воде полного ведра, с которого она так и не успела снять руку. Вид Приходько вызвал у меня жалость к этой незадачливой и неудачливой женщине. Ах, матрос Приходько, не туда завела тебя любовь! Второй мужчина, как и предполагал Таюрский, оказался Найденовым. Мне хотелось поговорить с ним уже сейчас, но Гоше требовалась врачебная помощь. Мы должны были спешить к вертолету и успеть засветло. Тимохин, Найденов и даже Лида — все трое были пьяны, это затрудняло наш и без того нелегкий путь. Когда, наконец, мы подошли к месту нашей высадки, вертолетчик укоризненно развел руками, но, увидев бледное лицо Гоши Таюрского, бегом бросился в машину. В Жемчужную мы прибыли, когда уже смеркалось. Жданович повез Таюрского в больницу, и Гоша грустно сказал мне: — Давай, Сергей, разворачивайся один пока. Но к утру Я буду. — Ладно, — ответил я, — о чем беспокоишься? Встретимся утром. Гоша нагнулся ко мне: — Найденова допроси, — сказал он тихо, — не напрасно вахтенный сбежал. Знает о Балабане — чувствую. Допроси его, пока чего не напридумывал. Он сейчас правду скажет. Я кивнул Гоше: — Сделаю. Таюрский и здесь был прав. Уже в машине, везшей нас с вертолетной площадки, Найденов начал с беспокойством поглядывать на меня. Я заметил его взгляды, но делал безразличный вид. "Пусть помучается, созреет до правды”, — думал я не без злорадства, видя его терзания. На Тимохина я не мог смотреть спокойно — вскипала злость. Он сидел рядом с Роговым, голова бессильно моталась при каждом толчке машины. — Все равно убью гадюку, — повторял он пьяно, — найду и убью. Зачем навела ментов? Убью! — Будет тебе, — не выдержал Рогов. — Никто на тебя не наводил, сами нашли. Зимовье-то твое я что, не знаю? А бабу зря ругаешь, отвяжись от нее. И не грози, и так делов наделал. Ранил ведь человека, едва не убил. — Я не хотел в него, — уже осмысленно и с тревогой сказал Тимохин. — Я в Лидку хотел, зачем же он подставился? — Эх, Тимохин, Тимохин, — грустно сказал Рогов, — я тебя давно знаю, а того парня — первый день. Но вижу, какие вы разные люди. — Люди, люди, — пробормотал Тимохин, — все люди одинаковые. Руки, ноги и все такое… — Не скажи, Тимохин, — серьезно возразил Рогов, — люди душой разнятся. Ты стрелял в человека, а он собой его прикрыл. Вот разница в чем между вами. Потому-то ты в тайге от детей прячешься, а он… — Рогов махнул рукой. — Что тебе объяснять. Разберутся вот с вами где надо. — А я-то при чем? — впервые подал голос Найденов. — Я к этому делу причастия не имею! Водку, продукты ему носил — да, было такое дело, а больше ничего… — Разберутся, разберутся, — осадил его лесничий. Я не вмешивался в разговор, но в отделе, превозмогая усталость, сразу повел Найденова в кабинет. Остановил меня дежурный. — Никонюк вас спрашивал, — сообщил он, — и майор звонил, велел переодеть вас в сухое да накормить. А этот, — он кивнул на Найденова, — пусть здесь посидит, в дежурке. Майор сказал, что скоро прибудет. Я попросил дежурного сообщить капитану "Сокола” о нашем прибытии и прошел в кабинет Ждановича. Ах, как хотелось мне прилечь хотя бы вот здесь, на стульях, вытянуть гудевшие ноги… Но об отдыхе лучше было не думать, я быстро переоделся в сухое — дежурный позаботился об этом, он же принес мне большую кружку горячего душистого чая и несколько кусков хлеба с нежно-розовым, слегка пахнущим чесноком салом. Уже через десять минут я вызвал Найденова. Неужели мне наконец повезет, и я узнаю тайну второго дела? В первом все встало на свои места еще днем — Тимохин не исчез с судна, а попросту сбежал, не желая платить детям алименты. И доскрывался. А вот что стряслось с Балабаном? Найденов не пытался скрыть свою растерянность и беспокойство — понимал, к чему прикоснулся. Едва войдя в кабинет, он спросил: — Что мне за это будет? Вы же видели, я ничего такого не сделал, это все Тимохин… Я нисколько не жалел Найденова, но не в моих правилах было скрывать правду и запугивать человека: — Не делал ничего плохого, так ничего и не будет, — успокоил я его, — но мы не только Тимохина, мы и вас искали. — Знаю, — опустил голову Найденов. — Из-за матроса? — Из-за него, — подтвердил я. — Давай-ка, парень, выкладывай все начистоту, послушай моего совета. Видишь, как круто все заварилось. — Но я ведь здесь тоже ни при чем, с матросом-то! — не то злость, не то отчаяние было в голосе Найденова. — Любой мог стоять на вахте вместо меня — я все сделал, как полагается, а как увидел, что он с моим канатом за леерное ограждение шагнул, я даже свистнул ему, предупредить хотел… — Свистнул? — переспросил я, вспомнив рассказ Приходько и маленького Линя. — Ну да, — подтвердил Найденов, — свистнул. Ведь как все получилось? Я канат ему бросил, он принял — все в порядке. Но судна разносит, надо быстро конец крепить на кнехту, а матрос квелый какой-то, не может подтянуть. Перешагнул он через ограждение, конец набросил на кнехту, а я вижу — сейчас его за борт канатом сбросит, канат-то натягивается! Свистнуть успел, а его канатом — раз! — и не вскрикнул. Я к борту, а его уж не видно. — Почему сигнал не подал "Человек за бортом”? — Так вначале я растерялся, потом подождал немного — выплывет, думаю. Ну а потом Лидка вышла — молчи, говорит, а не то попадет тебе. Подумают, что второго за вахту угробил. Тимохина-то ведь в прошлом году я вывез втихую. В свою вахту. Уговорил он меня. Поищут, мол, решат, что утонул, а я буду вольный казак, а то гнись на алименты. С Лидкой он тогда крутил. — Вот-вот, — позлорадствовал я, не удержавшись, — поиграл Тимохин. В казаки-разбойники. Побыл вольным казаком, теперь стал разбойником! — Да уж, — печально сказал Найденов. — Я его предупредить хотел, чтобы уходил от греха. Не знал, что и Лидка заявится с тем же. Вот и влип в историю. — Влип, — подтвердил я. Вот так и раскрылась история гибели матроса Балабана. Какое-то подобие этой истории я интуитивно чувствовал. Потому и спрашивал Чурина о технике безопасности… Во время разговора с Найденовым по-хозяйски широко открылась дверь кабинета, вошли без приглашения мои капитаны. Я видел, что Никонюк торжествует, а Чурин сильно смущен, костлявые плечи его то и дело приподнимались, словно говоря: "Ну, бывает, бывает и так, кто же мог подумать?!” Увидев в кабинете Найденова, Никонюк не удивился, властно указал на дверь: — Жди в коридоре, парень! Я попытался вмешаться, но Никонюк остановил меня весьма энергично: — Стоп, машина! — сказал он, взял из рук Чурина большой лист бумаги, прижал короткопалыми сильными ладонями. На листе аккуратно были вычерчены какие-то линии, овалы… — Вот, — торжественно сказал Никонюк, — вот что случилось в ту ночь при швартовке… Я посмотрел чертежи. Расчеты капитанов подтверждали рассказ Найденова. Да, нарушены были правила техники безопасности. Вахтенный матрос Балабан, мечтательный и нерасторопный, не справился со швартовкой. Крепя на кнехте конец, он перешагнул через леерное ограждение судна, и натянувшийся канат сбросил его в реку между судами. Я смотрел на понурившегося Чурина, вспоминая его гневный монолог, и думал: "А ведь и вправду, будь капитан земснаряда внимательнее к своим людям, заметил бы, что Балабан слаб, а в духоту, перед непогодой — особенно. Был бы хороший капитан — не допустил бы гибели парня… И Найденов… Мог бы спасти… Равнодушие…” Чурин, словно читая мои мысли, виновато сказал: — Что ж, придется ответить… Я молча кивнул. Ответить придется. Вскоре пришел Жданович, по его лицу я определил сразу — с Таюрским порядок. — К себе отвез его после больницы, — сказал Жданович, и мне приятно было слышать нежные нотки, прорывавшиеся в голосе этого большого сурового человека. — Не захотел там остаться. Спит сейчас, а я — сюда. Мы еще посидели вчетвером — капитаны, Жданович и я, выпили крепкого чаю, составили подробный план розыска тела матроса Балабана. Даже с помощью водолазов, уверяли речники, тело парня будет найдено дня через три-четыре, не раньше. Больно уж холодна сибирская река, слишком сильно ее течение… Потом Жданович увел меня к себе, и я не удержался, зашел в комнату, где спал Таюрский. Глядя на него, спящего, подумал, что он похож на баргузинского соболька — черный, быстрый, благородный и драгоценный. И тогда, в зимовье, он метнулся на выстрел молниеносно, как соболь… На следующий день мы уехали из Жемчужной. Дождь лил, не переставая. Вскоре мне позвонил Жданович: "Версия наша подтвердилась. — сообщил он. — Водолазы подняли тело Балабана. Трос, сбросивший парня с судна, оставил на его ногах глубокие ссадины. Других повреждений нет”. Гоша Таюрский, которого никакие медицинские запреты не могли удержать дома, выслушал мое сообщение, прижал рукой раненое плечо, нахмурил широкие брови так, что они сошлись в одну темную линию. — Больно? — участливо спросил я. — Больно, — кивнул Гоша. — За парня больно. Его чужое равнодушие сгубило…

А. И. Бабиков Записки работника уголовного розыска

«ДРУГОЙ ЖИЗНИ НЕ ХОЧУ»
Великая Отечественная война застала меня, семнадцатилетнего юношу, на Южно-Уральской железной дороге, где мы, учащиеся 4-го курса Омского железнодорожного строительного техникума, проходили производственную практику. Уже в ноябре 1941 года группа учащихся добровольно ушла в Красную Армию, в мае 1942 года с маршевой ротой попали на Северо-Западный фронт, с февраля 1944 года — на 1-й Белорусский фронт, где довелось участвовать в освобождении Польши, форсировании Одера, ожесточенных боях на Костринском плацдарме, в штурме Берлина. 2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал и для нас война победоносно закончилась. В канун 28-й годовщины Великого Октября, 6 ноября 1945 года, я, демобилизованный солдат Советской армии, вернулся домой, где меня ожидала мама, учительница начальных классов. После непродолжительного отдыха я посетил родной техникум, встретился с преподавателями, договорился о продолжении учебы. Но доучиться мне не удалось. По направлению Куйбышевского райкома КПСС я был направлен на работу в милицию, где прослужил 35 лет, пройдя путь от рядового до заместителя начальника Управления внутренних дел, от старшины — до полковника милиции. Учился милицейской службе у опытных практиков чекистов: Василия Ивановича Галкина, Леонида Ксенофонтовича Скорнякова, Петра Николаевича Герасимова, Ивана Тимофеевича Воробьева, Василия Петровича Коломийца, Максима Лукича Зуева, Алексея Александровича Лубянского, Федора Федоровича Солдатова, Михаила Ивановича Девонина и многих, многих других. Все они не имели специального образования, но были начитанны, были преданными солдатами правопорядка. За их плечами — многолетний опыт борьбы за справедливость. По окончании Великой Отечественной войны на службу в милицию пришли Николай Юматов, Сергей Панфилов, Дмитрий Токмаков, Иван Никитин, Михаил Рябов, Николай Уткин, Григорий Василенко, Иван Назаров, Петр Казмирчук, сотни других демобилизованных воинов. К службе все они относились ревностно. Но не хватало знаний, опыта. И здесь нельзя не упомянуть о постоянной практической помощи старших товарищей: братьев Быковых, в совершенстве владевших казахским языком, Подгузова, знавшего нравы цыган и их язык, Григория Канунникова, Василия Целикова, Василия Верещагина, Сергея Зубарева, Василия Матящука и многих других, чьи «университеты» мы постигали. Послевоенные годы были очень трудными. Участились кражи государственного и личного имущества граждан, разбой и грабежи, изнасилования, случаи хулиганства. Нередкими были кражи продовольственных карточек и их подделка, объектами нападений зачастую были демобилизованные воины и солдаты, следующие в кратковременный отпуск. Прибавила работы милиции и амнистия 1953 года. Оперативная обстановка требовала предельного напряжения. К 1955 году обстановка в основном стабилизировалась, стойкие преступные группы были ликвидированы. Менялось и лицо милиции. Каждый, кто хотел посвятить себя охране общественного порядка, учился. Мы помнили слова Феликса Дзержинского: «Чтобы быть хорошим милиционером, надо неустанно работать над обогащением своего ума знаниями, которые дадут тебе возможность честно стоять на страже революционной законности и сознательно проводить в жизнь все мероприятия Советской власти». Многие из нас закончили заочно 10 классов, Омскую среднюю школу милиции, поступили на заочное отделение Высшей школы МВД СССР, которая к тому времени превратилась в высшее учебное заведение страны. Уже к началу шестидесятых годов большая группа работников омской милиции имела высшее образование, сейчас высшее образование имеют почти все офицеры, многие из них закончили Академию МВД СССР. Недавно мы встретились с другом — однокашником Михаилом Петровичем Квачом, командиром-железнодорожником. На его вопрос, доволен ли я прожитой жизнью, работой в милиции, я ответил: «Другой жизни не хочу».ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ДЕЛА
1954 год. Вещевой рынок. Работники милиции обратили внимание на странное для завсегдатаев рынка поведение женщины средних лет. Она покупала облигации разных государственных займов у людей с «сизыми» носами, стремящихся наутро «оздоровиться». Цена 5-7 рублей за 100-рублевую облигацию. На рынке и за его территорией эту женщину изредка встречали с мужчиной примерно того же возраста. Встречи были короткими. Мужчина, тщательно оглядевшись, передавал ей какие-то небольшие свертки. Удалось установить адрес неизвестной. Проживала она на 14-й Линии в небольшом домике. Участковый инспектор доложил, что хозяйкой этого домика является Лидия Титовна Шустова, 45-ти лет, нигде не работающая. Вместе с ней проживает дочь Ирина — студентка. Живут скромно, с соседями не общаются, подруги у Ирины не бывают. Во время очередного посещения Шустовой рынка и скупки облигаций ее задержали вместе с продавцом и доставили в управление. На этот раз она за 300 рублей скупила облигаций на сумму более двух тысяч рублей. Продавцом оказался некто Терехов, освободившийся из заключения и совершивший кражу из квартиры вещей и облигаций. Начинаем беседу с Шустовой: — Где работаете, чем занимаетесь? — Нигде не работаю. После расторжения первого брака вышла замуж вторично. Второй муж — офицер — погиб на фронте. Получаю пенсию. Жизнь посвятила воспитанию дочери. Живем мы скромно, много ли нам надо. Изредка помогает первый муж. Он скорняк, портной, хороший сапожник. Зарабатывает неплохо, принимает заказы на дому. Очень любит дочь, не забывает ее. — Что же вас заставило заняться скупкой облигаций? — Это случилось впервые. Что меня толкнуло — даже объяснить не могу. Дочь заканчивает институт. Думала, вдруг облигации попадут в тираж выигрышей, сделаю ей хороший подарок. Но мы-то знали, что это у Шустовой был не первый случай. Решили произвести обыск. С трудом получили у прокурора города разрешение. И вот мы у нее дома. Ирина нашему посещению удивлена. «Доченька, родная! Я погубила тебя и себя», — кричала и плакала навзрыд мать. «Мама, мама, что случилось?» — спрашивала Ирина. Как могли, успокоили их, пригласили соседей-понятых. Обыск начался.Внимательно осмотрели комнату, кухню, шифоньер, комод, этажерку с книгами. Ничего. Шустова повеселела. В наш адрес посыпались упреки: «Зачем вы нас, честных людей, позорите? Я жена погибшего офицера-фронтовика. Что бы он сказал вам? Вы и на фронте-то, наверное, не были». Видим, что ее слова вызывают сочувствие у понятых. И тут капитан Сабачук предлагает вскрыть порог двери, соединяющей сени и кухню. Он в обыске участия не принимал, имел специальное поручение: внимательно наблюдать за поведением Шустовой и ее дочери. Иван Трофимович заметил, что Шустова старалась загородить дверь в сени, даже садилась на порог. Решили вскрыть, принесли топор. Хозяйка неожиданно упала в обморок. Вызвали «скорую помощь». Когда порог вскрыли, там оказались облигации различных займов на сумму более 200 тысяч рублей и деньги — около 30 тысяч рублей. Медицинские работники, прибывшие по вызову, хотели оказать помощь Шустовой. Но помощь не потребовалась. Обморок был обычной симуляцией. Обыск окончен, протокол подписан Шустовой и понятыми. Последние озадачены. Они впервые встретились с таким человеком. Тогда-то мы и объяснили Шустовой, что многие из нас воевали, а, демобилизовавшись из армии, пошли на работу в милицию, чтобы искоренять зло. Шустову и Ирину доставили в управление милиции. Предстоял долгий и серьезный разговор. «Зачем занимались скупкой облигаций?» Дочь ничего не знала. В ее непричастности к делу мы убедились. Зато мать пояснила, что этому ремеслу ее научил первый муж — Петр Саввич. Решили рискнуть и провести в его доме обыск. Оперативную группу работников милиции возглавил начальник отделения Алексей Васильевич Носов. Искали долго, и вдруг за плинтусом обнаружили вклад на предъявителя на сумму 25 тысяч рублей. Вскрыли другие плинтуса и обнаружили около ста тысяч рублей. О результатах обыска было доложено начальнику областной милиции. Его решение: усилить оперативную группу, продолжать искать ценности. Распоряжение пришлось выполнять мне. Беседую с Шустовым в одной из комнат, где обыск закончен. На столе пачки денег. — Петр Саввич! Откуда у вас такая крупная сумма денег? — В армию меня по состоянию здоровья не призвали. В годы войны выделывал меха, шил костюмы и платья, обувь. Продавал на рынке. А ведь вы знаете, какие цены были в войну. При денежной реформе в 1947 году мне удалось с помощью друзей значительную сумму денег обменять на новые. Кроме того, перед реформой я купил много дефицитных промтоваров и золотых изделий, которые затем продал. — Почему же вы деньги прятали? — Ну, это мое дело, где хранить свои деньги. — А вот ваша бывшая супруга Лидия Титовна утверждает, что вы научили ее скупать облигации и сами неоднократно передавали ей пачки облигаций на крупные суммы. — Пусть она не лжет и не клевещет на меня. Я знал, что Лидия изредка скупает облигации, предупреждал ее о последствиях и уголовной ответственности за эти действия, обещал помочь ей сделать хороший подарок дочери после окончания института. Продолжили обыск. В различных закутках дома нашли еще крупную сумму денег. Но облигаций нет. Решили осмотреть надворные постройки. Развалили поленницу дров, обнаружили пять тетрадей с записью номеров облигаций разных займов. Снова вопрос к Шустову: — Где облигации? — Этим делом не занимаюсь, ничего не знаю. Внимание участника обыска старшего лейтенанта Семеновского привлекло поведение жены Шустова. В ответ на нашу просьбу укоротить цепь злобной овчарки, она закрыла ее в будке. Предложили закрыть собаку в сарае. Отвечает: — Она и так никого из вас не тронет. Не буду убирать. Если надо — сделайте это сами. — Что, собаки вам не жалко? Ведь мы вынуждены будем ее пристрелить. — Стреляйте. Ответите за это! Просьбу нашу выполнил Миша, 14-летний сын Шустова. Будку осмотрели, сдвинута в другое место. Грунт под будкой мягкий, податливый. На метровой глубине обнаруживаем 8 бидонов из-под мороженого, а в них — облигации. Их очень много. Пришлось для описи вызывать женщин, работающих в управлении милиции, и студенток финансово-кредитного техникума. Писали двое суток. Что интересно: ни жена, ни дети Шустова не знали о его грязных делах, держал он их в «черном теле». Лидию и Петра Шустовых арестовали. Судили. Так закончилось это дело.ТРИ ВЫСТРЕЛА В УПОР
Сентябрь 1964 года выдался отменным. Стояла солнечная погода. Дни были по-летнему жаркими. На полях заканчивалась уборка доброго урожая. Большинство сельчан уже выкопали картофель на своих огородах. А вот Юрий Пастуховский с этим делом подзапоздал. Работа на спецмашине почти не оставляла досуга, а сменщика у него не было. ...В милицию Юрий пришел, что называется, по зову сердца. До армии работал механизатором в совхозе. На воинскую службу его провожали торжественно, наказывали честно служить Родине, а после демобилизации обязательно возвращаться в хозяйство. Простился он с женой и дочуркой и отбыл на сборный пункт. Время пролетело быстро. Вчерашний солдат снова работал в совхозе. У него родился сын, потом вторая дочь. Все бы ничего, но слишком беспокоен, с точки зрения супруги, был характер у Юрия. Не мог он пройти мимо правонарушений. Не терпел пьяниц, хулиганов, самогонщиков, воришек. Не случайно первым записался в добровольную народную дружину и возглавил ее. В конечном счете хозяйство потеряло хорошего механизатора, а село — потомственного крестьянина. Юрию предложили пойти на работу в милицию, и он охотно согласился. Служил в Омске. У шофера рабочий день беспределен: и днем, и, зачастую, ночью — за рулем. Частые и длительные командировки в районы, разъезды по городу. И здесь в полной мере Юрий Пастуховский проявил свой характер. Участвовал в задержании правонарушителей. За успехи в работе ему присвоили звание «Отличник милиции», представили к медали «За отличную службу по охране общественного порядка». Не раз он получал ценные подарки и денежные премии. С одним лишь было плохо — с жильем. Юрий снял небольшую комнату в частном доме. В деревне у бабушки жили две его дочери. Там же оставался, так сказать, «продовольственный тыл» семьи. Наконец, командир нашел возможность отпустить Пастуховского и разрешил ему воспользоваться автомашиной. Ранним утром Юрий с женой и четырехлетним сыном Володей выехали на копку картофеля. По пути заглянули в село к матери Юрия, взяли мешки, лопаты. Мать не смогла поехать с ними: болела старшая внучка. Через тридцать минут были на поле. Урожай вызрел на заглядение: крупные клубни радовали глаз. К вечеру картофель собрали и засыпали в мешки. Двадцать из них погрузили в машину, оставалось еще двенадцать. Устали, присели отдохнуть и заодно перекусить. Время подходило к вечеру, солнце зашло. И вдруг из ближайшего колка показался молодой мужчина с ружьем на плече и подстреленным рябчиком. Подошел, поздоровался. — Откуда? — спросил Юрий. — Из «Комсомола», — ответил незнакомец. — Второй день ищу нетелей, куда-то ушли. В лесах много дичи, вот на досуге подстрелил несколько штук. — А кто разрешил? — вскинулся Юрий. — Ведь охота на боровую дичь запрещена. Есть ли разрешение на оружие? Сдайте ружье! Раздался выстрел в упор, и Юрий навзничь упал на землю. Заряд дроби угодил ему прямо в сердце. Ольга не успела и с мыслями собраться, как второй выстрел лишил ее жизни. С диким криком побежал от этого места малыш. В ста пятидесяти метрах от места гибели родителей его догнал убийца. Удар прикладом — и жизнь четырехлетнего Володи оборвалась....Было воскресенье. В моем кабинете мы с товарищами готовились к поездке в Оренбург, где намечалось совещание руководящих работников уголовного розыска страны. Предстояло обсудить меры по активизации борьбы с наркоманией. Мне предстояло выступить с содокладом как начальнику уголовного розыска области. Результаты нашей работы, по сравнению с обстановкой в других областях, были положительными. Нам удалось разоблачить немало организованных групп наркоманов, выявить поставщиков гашиша из числа жителей среднеазиатских республик, перекупщиков, сбытчиков. Настроение у всех было, как говорится, чемоданное. Договорились о поезде, которым предстояло отбыть, и порядке сбора на вокзале. Мы уже хотели расходиться, когда раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал голос полковника Александра Григорьевича Смирнова, начальника управления. Он спросил: «Где Ковба?». «Здесь, у меня», — ответил я. «Немедленно заходите вместе с ним. Если есть кто-то еще, пусть задержится». Как только мы вошли в кабинет Александра Григорьевича, тот спросил: «Что с Пастуховским, где он находится?». Для нас вопрос был непонятным, мы переглянулись в недоумении. — Такие дела, товарищи начальники, — продолжал полковник. — Пять минут назад позвонил командир и доложил, что в четверг он дал Пастуховскому машину и отпустил на копку картофеля. Сегодня воскресенье. Прошло трое суток — Пастуховского нет ни дома, ни у родителей, ни на работе. Нет также и автомашины, на которой он уехал. Где он, что с ним? Вот что, товарищ Ковба, командировку в Оренбург я вам отменяю, поднимите личный состав отдела, берите транспорт и активно ищите Пастуховского. А вы, Анатолий Иванович, не уходите с работы, мобилизуйте весь уголовный розыск, будьте готовы к его задействованию. Надо отдать должное Борису Иосифовичу Ковбе. Он действовал энергично: разослал подчиненных по известным связям Пастуховского. Договорился с начальником Омской высшей школы милиции о выделении двухсот курсантов для прочесывания картофельных полей, отведенных для нашего личного состава. Через десять минут колонна машин с курсантами ушла за город. Около пятнадцати часов Иван Степанович Лазарев, дежурный по Управлению, позвал меня к аппарату. По рации Ковба сообщил: — ЧП, очень большое ЧП. На поле под мешками картофеля найдены трупы Пастуховского и его жены. Спецмашины нет. — Борис! Слушай меня внимательно, — распорядился я. — Обеспечь оцепление места происшествия. Никаких действий не предпринимай, никого из посторонних к нему не допускай, ожидай нашего приезда. Ясно?! Поднимаюсь к начальнику Управления. У него — прием граждан по личным вопросам. Извинившись, вхожу в кабинет и сообщаю, что трупы Пастуховского и его жены обнаружены на картофельном поле в двух километрах от села Серебряковка. Ковба обеспечивает охрану места происшествия. Я же беру оперативную группу, судебно-медицинского эксперта и выезжаю туда. — Ясно, — кивнул полковник. — Я захвачу следователя прокуратуры, эксперта-криминалиста, и тоже прибуду в Серебряковку. Не задерживайтесь. В 16 часов мы были на месте событий. Картофельное поле находилось в 300 метрах от профиля, ведущего в город. Окружено березовыми перелесками. На перепаханной земле — куча мешков с картофелем, присыпанная соломой. А под ними два трупа. С огнестрельными ранами в упор. Тут же — гильза от ружья 16 калибра. Машины нет. Нет и мальчика. Даю распоряжение курсантам школы милиции прочесать все вокруг. Через пять минут раздается крик курсанта: «Сюда, сюда!» В кустах с разбитой головой лежал Володя. Яков Александрович Злацовский, начальник отдела прокуратуры области, эксперт-криминалист Павлов, судебно-медицинский эксперт Александр Иванович Белов приступили к осмотру трупов и места происшествия. Остальные во главе с подъехавшим полковником Смирновым отошли в сторону и стали обсуждать обстановку, намечать вероятные рабочие версии мотивов убийства и вероятных преступников. Сформулированные в ходе нашего совета ближайшие гипотезы звучали так. Убийство могли совершить, во-первых, родственники, на почве мести, или люди, находившиеся с Пастуховским в неприязненных отношениях. Во-вторых, как работника милиции из ненависти Юрия могли убить лица, в прошлом судимые. В-третьих, главной целью убийц было завладение автомашиной для совершения других преступлений. В-четвертых, милиционер стал случайной жертвой непредвиденной ссоры. — Еду в Управление, — решил Александр Григорьевич. — Надо доложить о происшествии. Анатолий Иванович, вы остаетесь здесь. Займитесь сбором информации в ближайших селах. Через некоторое время к вам прибудут еще машины. Используйте их на полную катушку. Я договорюсь с авиаторами, чтобы на поиск машины задействовать вертолет. В Управлении образуем штаб, командовать им будет ваш заместитель Владимир Дмитриевич Антоненко. Вопросы есть? Действуйте. Со дня гибели семьи прошло трое суток. Во все села, прилегающие к Серебряковке, были направлены оперативные работники. Их задача: установить факты и события, которые дали бы нам какую-нибудь ниточку, ведущую к цели. К ночи стали поступать доклады. Первый из них, оперуполномоченного Жукова, нас особенно заинтересовал: за день до трагического происшествия совершено серьезное преступление в селе Ясная Поляна. Некто Кулажин на почве ревности произвел выстрел в Кириллова, тяжело его ранил и скрылся. Выезжаем в поселок. Выясняем такую историю. Кулажин Василий Борисович, 1937 года рождения, житель поселка «Комсомол», с детства работой себя не обременял, с трудом окончил 6 классов, рано пристрастился к спиртному. В 1963 году украл деньги у односельчанки, был привлечен к уголовной ответственности, осужден условно к полутора годам лишения свободы и передан на перевоспитание коллективу седьмой фермы Ачаирского совхоза. Надзора за его поведением не было, он по-прежнему нерадиво относился к труду, пьянствовал, задирал и оскорблял товарищей. В августе 1964 года Кулажин познакомился со студенткой педагогического училища Лукиной, прибывшей в Ясную Поляну с группой сокурсников на уборочные работы. Кулажин стал буквально преследовать девушку. Надя же избегала встреч с ним. И вот, изрядно употребив спиртное, Кулажин похитил ружье с патронами из квартиры родственника Мадкова и встретил возвращавшуюся из клуба группу молодых людей, среди которых была и Надя. — Пойдем со мной, — потребовал Кулажин и направил на нее ружье. Студентку заслонил Кириллов: — Что тебе нужно? Надя не хочет с тобой встречаться, оставь ее! Раздался выстрел, и тяжело раненный Кириллов упал. Преступник с места происшествия скрылся. Однако чрезвычайное происшествие не вызвало тревоги у руководителей отделения совхоза, не получило должной оценки и у медиков, к которым был доставлен Кириллов. По существующему положению они обязаны были немедленно уведомить дежурного управления внутренних дел, но этого не сделали. К утру следующего дня оперативные работники выяснили, что продавцу села Спайка сдал картофель по закупу неизвестный молодой мужчина. Картофель он привез на милицейской спецмашине. Еще сообщение. В день убийства в районе села Серебряковка пастухи Очиров и Гарин встретили пьяного Кулажина. Он был вооружен. В этот же день Кулажин покупал водку в селе Семеновка. Наконец, одна из жительниц «Комсомола» призналась, что через день после покушения на Кириллова Кулажин провел ночь у нее. Итак, надо было срочно искать Кулажина. Докладываем об этом в Управление. Руководитель штаба операции Антоненко развернул все силы милиции. На раскрытие преступления были ориентированы и райотделы, о нем сообщено в другие области. На всех дорогах расставлены посты ГАИ. Работники уголовного розыска «закрыли» рынки, вокзалы, рестораны. Были размножены фотографии Кулажина и розданы всему личному составу милиции, дружинникам. В поиск Кулажина включились жители Омского и Кормиловского районов, особенно совхозов «Победитель» и «Ачаирский». Выставлены милицейские засады в домах, где Кулажин мог появиться.
...С борта вертолета пришло сообщение, что на глухой дороге в 7 километрах от Серебряковки лежит на боку спецмашина. Выезжаем. Да, это автомобиль Пастуховского. Проводим осмотр. В канаве обнаруживаем ветошь с обильными следами крови. Кровяные мазки — на дверях и стеклах машины. Фиксируем отпечатки пальцев — они пригодятся для изобличения преступника. Оперативные уполномоченные Николай Юматов и Сергей Панфилов получили информацию такого содержания: некая Наталья Мяснова была в Ачаирском совхозе. Там познакомилась с шофером спецмашины, встречалась с ним. Навещаем Мяснову, беседуем с ней. — Гостила у родственников, — рассказывает она. — В пятницу крайне надо было попасть в Омск. У магазина встретила шофера спецмашины, познакомились. Он назвался Василием, сообщил, что работает в милиции. Согласился довезти до Омска. В магазине Василий купил вина и водки, закуску, и мы выехали. Ночь провели в лесу, опьянели. Наутро я обнаружила в кабине кровь и поинтересовалась, откуда она. Василий ответил, что накануне садил в машину пьяного с разбитым лицом. Он довез меня до Ачаира, дал три рубля и посадил в автобус. Мы условились, что Василий приедет ко мне домой, как только закончится командировка. Это, несомненно, Кулажин! Оставляем на квартире Мясновой засаду. Пятый день со дня гибели Пастуховских, вторые сутки непрерывного поиска преступника. Раннее утро. Железнодорожный вокзал. Постовой милиционер обходит помещение. Пассажиры утомлены, дремлют. Особенно крепко забывшихся постовой тревожит: спать, дескать, здесь нельзя. Потревожил он и Кулажина, но забыл об ориентировке, не взглянул на имевшуюся у него фотографию разыскиваемого преступника. К сожалению, случается и такое: отдельные сотрудники милиции пренебрегают «формальностями». В результате — возможность новой беды. Около десяти часов утра дежурному по «02» позвонил директор Никоновской школы и сообщил: «На рынке Ленинского района видел Кулажина». Кольцо поиска сужалось. Старшему оперуполномоченному уголовного розыска Виктору Александровичу Шишкину выпал боевой участок — омский «бродвей». Прохаживаясь по аллеям сквера, он обращал внимание на гулявших. Вот прошла группа студентов, о чем-то оживленно беседуют. На берегу Оми сосредоточенные рыбаки ожидают рыбацкой удачи. Здесь же несколько полупьяных ханыг. Им торопиться некуда. Виктор вспомнил главы только что прочитанной им книги Гиляровского «Москва и москвичи», раздумывал об обитателях Хитровки, Сухаревки, Неглинки. Но ведь тогда было другое время, другие условия. А черты характеров, поведение неприкаянных людей повторяются. Каким же типом является убийца семьи Пастуховских? Сумасшедший, наркоман, маньяк? В Барнауле, где работал Виктор до прихода в Омский угрозыск, ему приходилось участвовать в ряде серьезных операций по задержанию опасных преступников. Были погони, схватки, стрельба. Однако нынешняя ситуация ставила его в положение сапера, шагающего по заминированному полю. Не знаешь, откуда ждать беды. ...Загнанным зверем чувствовал себя Кулажин. Охмеление вседозволенностью прошло, наступило отрезвление. Куда пойти, что делать? Ранним утром его охватил страх, когда был разбужен милиционером на вокзале. Конец? Но обошлось, милиционер просто-напросто выдворил его из помещения. «Дождусь вечера, пойду к Мясновой, она ничего не знает. Притворюсь больным, отлежусь у нее несколько дней, потом подамся в тайгу, а там видно будет», — так размышлял Кулажин, сидя на скамейке в сквере. И не замечал, что за ним пристально наблюдает молодой человек в темно-синем костюме. «Он, — оценивал Виктор про себя, всматриваясь в фотографию. — Он! Надо задерживать, не теряя времени». Осторожно обойдя скамейку, Виктор оказался позади сидевшего. — Кулажин! Встать, руки назад! Следуй вперед, не оглядывайся! Стреляю без предупреждения! От места задержания до Управления внутренних дел — ходу пять минут. На втором этаже Виктор обыскал задержанного. В кармане пиджака нашел ударно-спусковой механизм ружья, милицейский свисток и удостоверение личности на имя Пастуховского. Убийца — в кабинете начальника УВД. Здесь же прокурор области Павел Филатович Толкачев. В Серебряковку по рации поступает сообщение: «Кулажин задержан, возвращайтесь!» Через час мы — в Управлении. В кабинете полковника Яков Александрович Злацовский ведет допрос Кулажина. Разговор для последнего трудный. Нелегко признаться в зверском преступлении, особенно — в убийстве четырехлетнего мальчика. Назавтра для уточнения обстоятельств убийства Кулажин был вывезен в Омский район. Он показал, как выкрал ружье и патроны из квартиры родственников, где и как поджидал Лукину и стрелял в Кириллова, как похитил коня на Комсомольской ферме, где провел после этого ночь, покупал водку, как добрался до картофельного поля. Здесь у него и возникло желание завладеть автомашиной. С ее помощью он намеревался заработать денег и уехать в другую область. Решительность милиционера Пастуховского спутала все его карты. И тогда он решился на крайнее: открыл стрельбу. А мальчика добил, чтобы не осталось свидетелей. Кулажин показал место, где разобрал и выбросил стволы и разбитое ложе ружья, пиджак убитого Пастуховского. По делу было проведено много экспертиз. Признано, что Кулажин в момент совершения преступления психически был вменяем. Дело об убийстве семьи Пастуховских рассматривалось коллегией областного суда под председательством Юрия Ивановича Аносова. Приговорили Кулажина к исключительной мере наказания. Суд вынес тогда частное определение в адрес руководителей Ачаирского совхоза, проявивших полнейшее безразличие к поведению находившегося у них на перевоспитании Кулажина, а также в адрес облздравотдела, работники которого грубо нарушили инструкцию и не уведомили органы милиции о стрельбе в Ясной Поляне и раненом Кириллове. Ведь если бы не их беспечность, кто знает, дальнейших несчастий можно было бы избежать, вовремя изолировав преступника.
САМООГОВОР
В начале декабря 1963 года ранним утром ко мне на квартиру позвонил дежурный по Управлению внутренних дел И. К. Андриенко. Сообщил, что в 112 номере гостиницы «Сибирь» совершено серьезное преступление: у председателя колхоза имени XXII Партсъезда И. Ф. Региды похищен костюм с документами, удостоверяющими, что он депутат Верховного Совета СССР, нагрудный депутатский знак, Звезда Героя Социалистического Труда, партийный билет, деньги. Задача стояла нелегкая: установить преступника, найти похищенное и возвратить владельцу. В первые часы и дни поиска были опрошены десятки людей: жильцы гостиницы, горничные, другие служащие. Сам же потерпевший ничего существенного сказать не мог. В момент совершения преступления он уже спал, его же товарищ по номеру — председатель Называевского райисполкома — ушел ужинать в ресторан, оставив дверь номера открытой. Этим и воспользовался преступник. Одна из горничных пояснила, что поздно вечером в гостинице находился электрик Куприн, ходил по этажам, в двух номерах заменил электролампы, а в номере, соседнем с тем, где совершено преступление, заменил настольную лампу. Появилась первая рабочая версия: кража совершена Куприным. Группа работников уголовного розыска — В. Колодько, В. Н. Матвеев, С. Н. Панфилов и др. — занялась отработкой этой версии. Куприн оказался личностью интересной. В прошлом судимый, он не жил с семьей, в рабочее время употреблял спиртное, пил «рассыпуху», которая в то время, к сожалению, продавалась в любом продовольственном магазине. После работы в местах продажи этого зелья встречался с лицами сомнительного поведения, «двоил», «троил». Спать оставался у своих сожительниц. В один из запойных дней Куприн учинил хулиганские действия в магазине, за что постовым и дружинниками был задержан и доставлен в Куйбышевский райотдел милиции. Составлен административный протокол. Судья определил ему административное наказание —10 суток ареста. Дальнейшую работу с Куприным поручили одному из лучших и опытных работников уголовного розыска Лаврентию Григорьевичу Першину. Начались серьезные, длительные беседы с Куприным, уточнялись его показания, проверялись источники доходов, которые давали ему возможность ежедневно употреблять спиртное не только в магазинах, но и посещать вечерами рестораны и кафе, заказывать неплохо сервированные столики, расплачиваться за своих приятелей и приятельниц. Да и при задержании у Куприна были обнаружены деньги, сумма которых далеко превышала полученную накануне зарплату.Через три дня после задержания и отбывания наказания в КПЗ (на работы его не выводили из-за опасения, что обязательно найдет возможность употребить спиртное) Куприн через дежурного попросил свидания с Першиным, которому «чистосердечно» рассказал: «...Мне известно, что за пять дней до моего задержания в гостинице «Сибирь», где я работаю электриком, совершена кража у жильца 112 номера. Похищены костюм и документы с деньгами. После бесед с Вами, зная гуманизм нашего законодательства, считаю своим гражданским долгом чистосердечно рассказать о том, что это преступление совершено мною. В этот день я, как всегда, был «на взводе». Еще с утра поступило несколько заявок на замену перегоревших лампочек в комнатах 3-го этажа, на установку переносной электролампы в 114 номере. Днем удовлетворить эти заявки не мог: дрожали руки со вчерашнего. Сходил в магазин «оздоровиться», выпил несколько стаканов вермута. На работу выйти уже не смог. Знаю, что за мной следят десятки пристальных глаз сослуживцев. Я и до этого имел не один неприятный разговор с Ольгой Васильевной (директор гостиницы) о моем неправильном поведении. Но обещанного не выполнял. Считал, что никто ничего не заметит. После опохмелья почувствовал, что «переборщил», решил заявки выполнить вечером, когда администрации гостиницы не будет. На работу пришел в 11-м часу вечера. Быстро заменил электролампы, установил настольную лампу в 114 номере. Проходя по коридору, обратил внимание на открытую дверь 112 номера. Заглянул в номер. На койке спал мужчина, вторая койка была свободной. На стуле висел костюм, я быстро проверил карманы и обнаружил деньги. Внезапно у меня вспыхнула мысль взять этот костюм. Быстро снял его со спинки стула, засунул под пальто и через «черный» ход вышел во двор гостиницы, где спрятал под складирующиеся тарные ящики. На следующий день, придя на работу, узнал, что в гостинице «Сибирь» находятся работники уголовного розыска. Боясь попасть в поле их зрения, за украденным не пошел, решил выждать. Костюм должен находиться там, под ящиками». Куприн весьма охотно все рассказанное изложил на бумаге. Першин предложил Куприну выехать на место, показать, где спрятано похищенное. Куча тарных ящиков оказалась на месте, хотя, судя по показаниям Куприна, она была там и 7 дней назад. Тщательно осмотрели «склад» тары, но костюма не обнаружили. Подозреваемый пояснил: «Наверное, кто-то увидел и унес». Получалось: вор у вора дубинку украл. Пришлось много поработать, чтобы перепроверить «чистосердечное» признание Куприна, настаивающего на своих показаниях. Были установлены очевидцы, пояснившие, что в день совершения преступления он уходил с работы через парадный ход, хотя Куприн утверждал, что ушел через ворота ресторанного двора. Появилось сомнение в правдивости показаний «кающегося». Першин скрупулезно стал допрашивать Куприна о похищенных вещах и предметах. На вопросы: «Поясните, какого цвета был взятый Вами костюм и что, кроме костюма, Вами было взято?» — последовал ответ: «В номере был полумрак, а, кроме костюма, я ничего не брал». Преступником же были украдены и кожаные меховые перчатки, имеющие по показаниям потерпевшего характерные особенности. Стало ясно, что Куприн себя оговаривает. Были приглашены специалисты из соответствующей клиники, которые констатировали у Куприна психическое расстройство на почве алкоголя, он был переведен в специальную больницу. После излечения и выписки из больницы мы беседовали с Куприным о причинах, толкнувших его к самооговору, источнике получения денег, превышающих его доходы. Он пояснил, что очень хотелось выпить, своим «признанием» думал войти в доверие к следователям, воспользоваться их гуманностью, раньше срока освободиться из КПЗ и удовлетворить свое желание. Куприн не учел одного: его наказал суд и ни один следователь раньше 10 суток освободить его не мог. Наличие денег объяснил тем, что проводил «левые» работы, назвал адрес. При проверке показания его подтвердились. Поиск продолжался. Оставалось несколько дней до серьезного совещания в Москве, где должен был присутствовать потерпевший. Без документов, похищенных у него неизвестным преступником, поехать в Москву он не мог. В розыскные мероприятия были включены все работники уголовного розыска райотделов Омска, в первую очередь Куйбышевского района. Мероприятия розыска по этому району возглавил заместитель начальника райотдела Арон Семенович Кац, имевший немалый опыт в оперативно-розыскной и следственной работе, в оперативную группу входили опытные оперативные работники Переверзев, Самойлов, Гофман и другие. 23 декабря в поле зрения Гофмана попал некто Бородихин, проживающий по улице Пушкина. В прошлом он был уже судим за карманные и квартирные кражи, освободился из мест заключения в июне 1963 года, но поступать на работу не спешил. Бородихин носил перчатки, которые внешне очень походили на похищенные в гостинице. Решили задержать Бородихина, подробно побеседовать с ним об образе жизни, где он находился и чем занимался в день совершения преступления, тщательно осмотреть перчатки, выяснить, где и когда они приобретены. Рано утром 24 декабря Бородихина доставили в уголовный розыск. Беседу с ним проводил А. С. Кац. Она была долгой и трудной. На все вопросы следовал ответ: не помню, не знаю, нигде не был, никуда не хожу, на работу устроиться еще не успел, перчатки купил на рынке у неизвестного. С учетом, что перчатки по своим индивидуальным признакам уж очень совпадали с похищенными, решили произвести в квартире Бородихина обыск. Получили на это санкцию прокурора. Бородихин оставался на допросе и об обыске ничего не знал. Оперативные работники, прибывшие на квартиру Бородихина, предъявили его матери постановление о производстве обыска, объяснили, что они хотят найти, предложили ей добровольно это выдать. Анна Николаевна сразу же рассказала, что ее сын в начале декабря поздней ночью принес мужской костюм, который якобы случайно купил у неизвестного, но по размеру он ему не подошел, поэтому носить он его не стал, а положил в чемодан, где он находится и сейчас. Костюм, который мы так долго искали, был изъят. Как будет реагировать Бородихин (разговор с ним в кабинете уголовного розыска продолжался) на то, что костюм потерпевшего у нас? Он по-прежнему не откровенен, скрытен. Предложили ему быть более откровенным. Паясничает. Задали конкретный вопрос: — Перчатки Вы купили случайно у незнакомого человека. А у кого Вы в это же время приобрели костюм? — Какой костюм? Ничего не знаю! — Может, Вам предъявить этот костюм? — Пожалуйста! Показали сначала чемодан. Признал, что он принадлежит ему. Открыли. В нем костюм. Задали вопрос, каким образом костюм оказался в его чемодане. Бородихин долго думал. Наконец, признался: — Да, я украл этот костюм в одном из номеров гостиницы «Сибирь». Сказалась прежняя привычка. Костюм — это не все. Мы и потерпевший, в особенности, заинтересованы в обнаружении документов и знаков. Предлагаем Бородихину выдать их. Бородихин, немного поупрямившись, согласился поехать с нами, показать, где спрятаны документы и знаки. Первые оказались запрятанными за карнизом крыши одного из домов по 5 Линии, вторые — под обшивкой фундамента другого дома по этой же улице. После того, как все похищенное найдено, звоним в райотдел милиции района, где проживал потерпевший. Просим, чтобы он был в райотделе милиции. Встретились. В числе других предъявили на опознание и его костюм, который сразу же был опознан. Документы и знаки предъявлять не требовалось. Они принадлежали ему. Радость потерпевшего трудно передать. Он вовремя уехал в Москву. Бородихин после отбытия наказания встал на правильный путь. Женился. Работает. С прошлым покончил.
ОРУЖИЕ СЛУЧАЙНО НЕ СТРЕЛЯЕТ
Оставалось три месяца до моего отпуска. Предвкушая знакомство с Японией, Филиппинами, Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом, я готовился к поездке, в свободное время заглядывал в книги и журналы. Хотя, честно сказать, досуга остро не хватало. Оперативную обстановку в городе осложняли преступления октября 1977 года: кража товаров с контейнерной станции, разбойное нападение на сторожей дорожно-ремонтных мастерских и кража денег из здешней кассы, нападение на вахтера завода, у которого отобрали револьвер системы «наган» с семью боевыми патронами, вооруженное сопротивление группе работников милиции, тяжелое ранение капитана Шарафутдинова и горожанина Садовского. Весь аппарат уголовного розыска города не знал отдыха. Расскажу подробнее об этих преступлениях. Первого октября в Ленинский райотдел милиции поступило сообщение: ночью неизвестные преступники проникли на контейнерную площадку и, разломав внушительную упаковку, похитили детские трикотажные изделия стоимостью более 1200 рублей. Никаких вещественных доказательств преступники не оставили. Впрочем, следы не особенно-то и искали. Через два дня, вечером в Управление внутренних дел прибыл водитель 6-го автохозяйства и отдал большой тюк с детским трикотажем. Выяснилось, что в обед на площади у железнодорожного вокзала к нему в машину сел неизвестный и предложил поехать на вещевой рынок. Вышло так, что за их «такси» долгое время следовала милицейская машина. Пассажир заволновался, занервничал и попросил остановить у продовольственных магазинов близ 20-й Линии. Неизвестного, как говорится, след простыл. А милицейская машина, не останавливаясь, прошла мимо. Шофер ожидал пассажира несколько часов, но тот не появился. Тогда, раздираемый любопытством, таксист заглянул в оставленный багаж и, увидев содержимое, прямиком направился в УВД. Доставка «груза» была соответствующим образом оформлена, шофера поблагодарили, и он уехал. К сожалению, и здесь не обошлось без «проколов». В беседе водитель, указывая приметы, отметил, что у пассажира на левой руке нет двух пальцев. Как ни странно, ни дежурная часть УВД, ни оперативные работники уголовного розыска ни этой информации, ни в целом событию не придали должного значения. Реальных мер к установлению «беспалого» никто из работников угрозыска и линейного отдела милиции не предпринял. Хуже того, о краже товаров из контейнера и последующей «находке» не был проинформирован личный состав райотдела милиции. ...Рано утром 7 октября в Ленинский РОВД позвонили по телефону два сторожа дорожно-ремонтных мастерских отделения железной дороги. Поздним вечером накануне, когда они пили чай, к ним в сторожку ворвались в полумасках три человека, угрожая физической расправой, отвели в цех, затем в контору, уложили на пол и связали обоих. Вскоре таким же образом к ним «приобщили» и кочегара. Потом налетчики проникли в кассу, взломали сейф и, захватив деньги, скрылись. На место происшествия немедленно выехала оперативная группа РОВД и линейного отдела. Осмотр места происшествия, дальнейший поиск преступников возглавлял Василий Антонович Дубицкий. Сторожа Попов и Голубева, кочегар Решетников показали место в конторе, где они лежали связанными, припоминали ряд угроз в свой адрес. Голубевой, например, сказали: «Бабка, молчи, а то это будут твои последние слова». Попова вначале ударили в зубы, в живот, потом припугнули: «Молчи, если хочешь жить». Решетникову зажали рот, привели в контору, связали, положили лицом вниз вместе с Голубевой и Поповым. Один из неизвестных остерег другого: «Ты так оружие не держи, а то может случайно выстрелить». Всем свидетелям-потерпевшим было приказано лежать и не подавать признаков жизни в течение получаса после того, как отбудут налетчики. Злоумышленники, вскрыв сейф, обнаружили в нем 876 рублей. Здесь они явно просчитались. Контора вот-вот должна была получить заработную плату. В ходе расследования стало ясно, что преступники уехали с территории мастерских на автомобиле ЗИЛ-555, прихватив из сторожки ружье и патроны к нему. Бензин у них, видимо, был на исходе, и потому они бросили машину на улице Ростовской. В Ленинский райотдел были вызваны все местные оперативные работники и участковые инспектора. Чуть позднее подъехали начальники уголовных розысков других районов города, группа оперативных работников УВД во главе с начальником отдела Владимиром Григорьевичем Каракаем. Начался обмен мнениями. Да, такого дерзкого разбоя уже давно не было. По всему видно, что преступники — «опытные», отчаянные и шли на дело, рассчитывая на хорошую выручку. Дубицкий терпеливо выслушал суждения товарищей, одобрил предложения об отработке лиц, представляющих оперативный интерес. Значительная группа сотрудников была оставлена на территории мастерских: им предстояло тщательно осмотреть место происшествия, обнаруженную на улице Ростовской автомашину, переговорить со всеми рабочими. Ведь без наводчика здесь явно не обошлось. К сожалению, служебно-розыскная собака оказалась бессильной. ...В ночь на 14 октября стрелок ВОХР одного из заводов Алексеева, находясь на службе, по привычке вышла на улицу из оборудованного поста. Внезапный удар по голове лишил ее чувств. Придя в сознание, Алексеева ощутила себя связанной, головной платок был заткнут в рот, кобура пистолета расстегнута, револьвер с 7-ю боевыми патронами отсутствовал. Склонившись над ней, стояли двое неизвестных. «Молчи, если хочешь жить», — и ствол со взведенным курком коснулся ее головы. О чем-то пошептавшись, оба ушли на территорию завода. С трудом Алексеевой удалось освободиться от пут, добежать до поста и доложить начальнику караула о случившемся. Через три минуты о ЧП было сообщено дежурному райотдела. Да, неприятно было руководителям завода слышать гневные слова вохровцев: на службу отряда-де никакого внимания не обращается, заводской забор — в завалах и проломах, личный состав охраны хронически недоукомплектован, поэтому на посты стрелки расходятся самостоятельно, без разводящего, в отряде нет транспорта. И много, много других жалоб. Ранним утром сходимся в кабинете начальника Ленинского РОВД обсудить происходящее, определить линию дальнейшего поведения, распределить силы. По ассоциации вспомнили аналогичные старые «дела». ...Июнь 1960 года. Четверо неизвестных в масках накинулись на сторожа химико-механического техникума, связали его, вскрыли сейф, похитили два пистолета системы Марголина и несколько пачек патронов к ним. Месячный розыск преступников успехом не увенчался. А через месяц случилось несчастье. Вооруженный преступник ворвался вечером в сберкассу, велел всем не двигаться и стал хватать деньги. Кто-то сделал попытку дать сигнал о нападении. Грабитель открыл огонь, убил контролера, ранил второго и с деньгами скрылся. Розыскникам в тот раз помогли вездесущие мальчишки. В лесопосадке, неподалеку от Черлакского тракта, они наткнулись на брошенный кем-то чемоданчик, а около него — ленты от банковских упаковок. О находке сообщили в милицию. Чемоданчик был приметным, на нем отпечатались следы веревочных креплений от коньков. Наши работники показали его учащимся техникума, выставили на обозрение в кассе, где выдавалась стипендия. И вот одна из студенток воскликнула: «Да это же Петрова чемодан, мы с ним зимой часто ходили на стадион». Дальнейшие события развивались довольно быстро. Не составило большого труда найти студента Петрова, его брата, двух приятелей. Правда, владелец чемодана накануне отбыл на пароходе в Салехард. Старший оперуполномоченный Петр Иванович Черноок на «Волге» срочно выехал в Тару, там встретил судно. Петров был «снят» с борта, доставлен в райотдел милиции и, припертый фактами, сознался в содеянном. По телефону поступило сообщение о том, что он назвал своих соучастников. Все они в ту же ночь были арестованы. В задержании и первичных допросах подозреваемых активное участие принимали наряду с розыскниками УВД Савелий Яковлевич Шерман, Николай Иванович Горбунов, Арон Семенович Кац. Из показаний задержанных стало известно, что пистолеты они после ограбления сберкассы побросали в котлован. «Добровольцы» часами месили грязь в поисках оружия. Пришлось вызвать пожарных, которые откачали воду. И оружие было найдено. Преступники в это время сидели неподалеку в милицейских машинах. Потом их с трудом удалось увезти с места событий, поскольку к котловану подошло много людей, которые хотели расправиться с преступниками. Все участники преступной группы были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Припомнился и другой случай. В глухую октябрьскую ночь 1969 года по территории шинного завода проходила контролер Мишина (фамилия изменена). Неожиданный удар в голову лишил ее чувств. Придя в себя, она не обнаружила при себе револьвера с патронами. Первичный допрос показал, что незадолго перед происшествием она обратила внимание на неизвестного, одетого в тренировочный костюм синего цвета. Кстати, этого человека она и раньше встречала на заводе. Через два дня после случившегося произошел почти комический случай в комиссионном магазине на Слободском рынке. Время было обеденное. Продавец только собралась закрыть магазин, как в него вошел мужчина и, выхватив оружие, скомандовал: «Ни с места, руки на голову, подойди к сейфу и открой его!» Женщина, не растерявшись, ответила: «Чего? Ты брось эту игрушку, видела я таких пугальщиков. А ну, вали прочь отсюда!» Неизвестный ушел. Продавец обрисовала приметы мужчины: «Одет в полупальто спортивного покроя, под ним синий спортивный костюм, на вид 25 лет, роста низкого». Немало труда пришлось потратить работникам уголовного розыска, чтобы выйти на предполагаемого преступника. Понадобились десятки встреч с руководителями спортивных коллективов, тренерами, спортсменами. А между тем однотипные налеты продолжались. В обеденный перерыв в продовольственный магазин, что на Красном Пути, вошли двое неизвестных, скомандовали продавцам не двигаться, отключили телефон и, забрав выручку, как говорится, «сделали ручкой». Пострадавшие подняли тревогу лишь через полчаса — время достаточное, чтобы замести следы. Опрос продавцов выводил нас опять на приметы человека, пытавшегося ограбить комиссионный магазин. Мы понимали, что каждый день пребывания преступника на свободе чреват тяжкими последствиями. Не буду входить вподробности. Из-за них повествование стало бы намного длиннее. Как бы то ни было, работникам розыска удалось установить, что нападение на стрелка охраны совершил некий Андрей Иванович Архутов, мастер спорта по классической борьбе. Он же участвовал в налетах на комиссионный и продовольственный магазины. История его падения банальна. Неумеренность почитателей, дармовые угощения породили неудержимую тягу к «красивой жизни». Талант его таял, слава уходила безвозвратно. Утешения он искал в ресторанах, требовавших больших денег. И Архутов решился на воровство. За хищение спортивного имущества был осужден к двум годам лишения свободы. После освобождения под кров родителей не вернулся и перешел, можно сказать, на нелегальное положение. Это, естественно, сильно осложнило наш поиск. Пришлось срочно устанавливать борцов классического стиля, хорошо знавших Архутова. Среди них, кстати, оказались и некоторые милиционеры. Были взяты «под колпак» рестораны. И результат не замедлил сказаться. Поздно вечером в моем кабинете раздался звонок: — Говорит Алексей. Я нахожусь в ресторане «Маяк». Архутов здесь! Срочно, оперативной группой, следуем к речному вокзалу, в машине распределяем роли. Я с Рудольфом, хорошим знакомым Архутова, подхожу к столику, где он сидит. Здороваемся. — Андрей, давно тебя, брат, не видал. Познакомься, мой хороший товарищ, — говорит Рудольф. Архутов поворачивается ко мне, подает руку. Мгновенная схватка — и он скручен. Буквально на руках выносим его в раздаточную ресторана. Подоспевшие работники розыска обыскивают Архутова, изымают оружие, надевают наручники и увозят в Управление. Впоследствии Архутов был осужден к 15 годам лишения свободы. К сожалению, он так и не выдал своего соучастника. Тот канул в милицейских архивах и, может быть, совершил не одно преступление. Но вернемся в октябрь 1977 года. Факт захвата оружия заставил нас создать штаб по раскрытию опасных преступлений и предупреждению новых. Вся тяжесть оперативной работы ложилась на Ленинский райотдел милиции. Немало трудностей падало на сотрудников, занимавшихся преступниками, похитившими промтовары на контейнерной площадке, совершившими разбой на ремонтной станции и нападение на стрелка ВОХР. Мы опирались лишь на общие отправные данные: один из преступников имел дефект левой кисти — отсутствие двух пальцев. Об этом свидетельствовали и следы на руле угнанного ЗИСа. Пришлось перерыть уйму архивных материалов, оперативно-розыскных карточек, провести многочисленные беседы с участковыми инспекторами, коллегами из исправительно-трудовых учреждений. Наконец, в поле нашего зрения попала колоритная фигура Валерия Аркадьевича Блоцкого, 1947 года рождения, в прошлом судимого за грабеж, хулиганство и кражу государственного имущества. После освобождения Блоцкий общественно полезным трудом не занимался, перешел на нелегальное положение, оставив мать, жену и четырехлетнего ребенка. В установление личности Блоцкого, его идентификацию немало сил вложили сотрудники уголовного розыска Анна Бессонова и Елена Кириллова. К сожалению, никто из сотрудников Ленинского РОВД, Управления уголовного розыска Блоцкого в лицо не знал. Ни дома, ни у родственников и знакомых он не появлялся. Согласно намеченному плану сотрудники милиции «перекрыли» сберкассы, магазины. Была повышена бдительность инкассаторской службы. Наступило 26 октября. Вечером на улицах Ленинского района, как всегда, бурлила жизнь. Работники милиции находились на своих местах и маршрутах. Свободный от службы сотрудник РОВД Крайветников, проживавший в общежитии треста «Омсктрансстрой», оставив в своей комнате форменное милицейское пальто и шапку, ушел на занятия в вечернюю школу. Блоцкий, который, как оказалось, был частым гостем в общежитии, проник в комнату Крайветникова и решил прогуляться в его шинели. На проспекте Маркса, около дежурного магазина, он обратил на себя внимание офицеров милиции Кузнецова, Гунина и Шарафутдинова. — Товарищ сотрудник, подойдите сюда, — сказал Кузнецов. — Почему Вы нарушаете форму одежды, надеваете шинель поверх гражданского костюма? Предъявите удостоверение личности! Ничего не сказав, «нарушитель» бросился наутек. Отбежав примерно на двадцать метров, он обернулся, произвел два прицельных выстрела в работников милиции и снова побежал. Почувствовав, что его догоняют, ряженый опять остановился и трижды выстрелил в преследователей. В результате был тяжело ранен в лицо капитан Шарафутдинов. Другая пуля угодила в бок находившегося вблизи гражданина Садовского. Воспользовавшись минутным замешательством, преступник ушел от погони. Однако Кузнецову удалось проследить, что беглец скрылся в подъезде общежития «Омсктрансстроя». Шарафутдинова и Садовского «скорая помощь» увезла в больницу. Позже пришлось серьезно разбираться, почему офицеры не открыли ответного огня. «Думали догнать и взять живым», — объясняли они. В связи с этим невольно задаешься вопросом: а всегда ли работники милиции готовы к действиям в самых экстремальных ситуациях? За последние годы изменился облик милиционера, заметны его подтянутость, выправка, здоровый цвет лица. Но сплошь и рядом руки таких здоровяков заняты либо большим портфелем, либо «дипломатом». Можно подумать, что это — банковский чиновник в милицейской форме. Бросит ли свой портфель или «дипломат», когда потребуется его помощь? Где же положенная милицейская сумка или офицерский планшет? Вахтер общежития сообщила, что скрывшийся «милиционер» не кто иной, как трехпалый «Блоха», и что в одной из комнат спит нетрезвый его дружок. С трудом того растрясли и доставили в райотдел. Им оказался некий Бастрыкин, 1953 года рождения, в прошлом судимый за драку. Он числился трубоукладчиком водремслужбы. После недолгого запирательства Бастрыкин признался в краже на контейнерной станции, нападении на сторожей дорожно-ремонтных мастерских и захвате оружия. Больше никакой вины за собой он не признавал. Неизвестен был ему и адрес «Блохи», который в гости к себе никого не звал, а сам наведывался к приятелям, когда хотел. Ежедневно, поздними вечерами, в кабинете генерала проходили оперативки, где обсуждались сообщения о проверенных подозрительных лицах, намечались новые варианты поисков вооруженного бандита. 4 ноября, около 11 вечера, в моем кабинете раздался звонок. Неизвестная сообщила: «Блоха» находится у Ани» и назвала адрес. С включенной сиреной, на большой скорости неслась по городу наша машина. Потребовалось десять минут, чтобы преодолеть расстояние от Управления до Московки. Оперативная группа во главе со старшим уполномоченным Мироном Агрбой ворвались в квартиру Ани. Блоцкого обнаружили во второй комнате. Пальто его с пистолетом в кармане висело в коридоре, и он не оказал серьезного сопротивления. Блоцкий ни на следствии, ни в суде не запирался, он лишь «сглаживал углы». Оба преступника были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Как и в деле Архутова, ушел от наказания неустановленный партнер «Блохи» по разбойному налету на сторожей ремонтных мастерских. На таких преступников, как правило, дела выделяются в отдельное производство. А розыск их, увы, предается забвению.И В БОЛОТЕ СЛЕДОВ НЕ СПРЯЧЕШЬ
Петр Иванович и Надежда Петровна были приглашены в гости к родственникам в соседний район. Предложение заманчивое. Но как быть с девятилетней Таней? Взять ее с собой — значит, подвергнуть тяготам долгой, метельной дороги. Да еще и оторвать от школы. Надо оставить дома. Соседи пообещали, что последят за девочкой: и накормят, и выполнение уроков проверят, и спать уложат. На том и порешили. На следующее утро соседи встревожились: дверь Таниного дома — на замке. Заглянули в окно: жилым, как говорят, не пахнет. Обежали всех ее подруг по третьему классу, надеясь, что заигралась у кого-нибудь допоздна и заночевала. Безрезультатно. В известность немедленно были поставлены администрация леспромхоза и дирекция школы. По местному радио передали обращение ко всем жителям поселка с просьбой сообщить, кто и где видел Таню во второй половине 9 февраля. Не дождавшись ничего утешительного, обратились к участковому инспектору. Тот доложил в райотдел милиции. Начальник РОВД А. М. Немыкин создал оперативную группу и выехал в поселок Алексино. Но перед тем позвонил дежурному УВД. Тревожное сообщение было доложено генералу. Он вызвал к себе начальника уголовного розыска и поставил задачу: во что бы то ни стало найти девочку. На место происшествия командировали одного из опытных розыскников Юрия Калинникова. Первичные меры розыска были сориентированы на следующую версию: Таня пошла в тайгу и заблудилась. Сотни лыжников — старшеклассники средней школы, комсомольцы, рабочие леспромхоза, — в пургу прочесали местность в радиусе 10-15 километров от поселка. «Проческа» оказалась безуспешной. Опробовали и другую версию, допустив, что Таня уехала с попутной машиной к родственникам, где гостили ее папа и мама. Срочно установили, кто выезжал 9 февраля из поселка. Телефонограммами попросили работников райотделов милиции встретиться с водителями и выяснить, не брал ли кто с собой в путь из Алексино девочку-школьницу. Отрицательные ответы поступили отовсюду на следующий же день. Родители Тани, вернувшиеся в Алексино по первому сигналу, были буквально потрясены происшедшим. Дальнейшие мероприятия по розыску Тани тоже были тщетными. Правда, следовало бы по горячим следам заинтересоваться одной информацией. Кто-то из жителей рассказал, что в ночь с 9 на 10 февраля было совершено нападение на рабочую леспромхоза некую Люсю. Тогда к ней приставал неизвестный, жестоко избил ее. К сожалению, работники уголовного розыска не придали этому значения. Все усилия направлялись в основном на отработку наиболее, по их мнению, вероятной версии: с Таней произошел несчастный случай, она — жертва пурги. Прошло почти два месяца. 4 апреля в УВД поступило сообщение из Усть-Ишима. В двух километрах от Алексино, на болоте, найден вытаявший из снега, обезображенный грызунами труп Тани. При внешнем осмотре обнаружены явные следы насильственной смерти: рвано-рубленые раны на голове, повреждения в области других жизненно важных органов. Срочно созданная оперативная группа выехала в район. «Газик» вел один из старейших работников гаража Григорий Потапович Василенко — наш бывалый и мудрый «Хоттабыч». Машины он водит с 1930 года, освоил самые разные типы и марки. В свое время был одним из организаторов колхоза в Одесском районе. Участвовал в войне с белофиннами, где получил ранение. С первых дней Великой Отечественной войны — снова на фронте и снова тяжело ранен. В 1943 году стал шофером омского УВД. Весенняя распутица. Дорога очень трудная. Глубокой ночью 5 апреля мы, так сказать, капитально «засели» под Знаменкой. Хорошо, что нас ждали коллеги из тарской и знаменской милиции. Трактор «Беларусь», пробуксировав «газик» около 10 километров, вывел его на сносную дорогу. В семь утра мы были в Усть-Ишиме. Полчаса приводили себя в порядок, затем собрались на оперативное совещание. На нем присутствовали работники милиции, райпрокуратуры и судебно-медицинский эксперт. Он пояснил, что Тане нанесено несколько ударов в область головы острорежущим предметом типа лопаты. Встал вопрос: кто мог это сделать? Определили круг вероятных лиц из числа жителей Алексино. Не мешкая, мы выехали в поселок. Около конторы леспромхоза нас ожидали рабочие, особенно много было женщин. Все потрясены случившимся, каждый выдвигает свои предположения. Причем сходятся в одном: преступление совершено не местным жителем, поскольку кадровые рабочие постоянно живут в поселке, каждый из них на виду. По имеющимся в конторе документам установлены все сезонники из других хозяйств нашей и соседней областей, которые в то время работали на лесоучастках, заготавливали древесину. К моменту обнаружения трупа Тани все они разъехались по домам, потому что командировки их окончились. Даны поручения начальникам райотделов милиции изучить образ жизни и моральный облик каждого. В случае выхода на «интересного» в оперативном плане человека «примерить» его к преступлению, тщательно отработать. Через три дня были получены ответы, из которых явствовало, что ни один из проверенных особого интереса не представляет. Все они люди семейные, члены колхоза или рабочие совхоза, честно и добросовестно трудятся, ни в чем предосудительном замечены не были. Решили вернуться к сообщению о случае с Люсей. Пригласили ее на беседу, попросили подробно рассказать о том, что произошло с ней в ночь на 10 февраля. Она долго молчала, потом произнесла: — Зачем ворошить старое? Обида моя забылась, да я и не могу утвердительно сказать, кто ее мне нанес. Пришлось долго убеждать женщину быть с нами откровенной: а вдруг в ее тайне — ключ к причинам гибели Тани. И вот что мы услышали. — Поздним вечером 9 февраля я дежурила в здании строящейся школы, — рассказывала наша собеседница. — Раздался стук. Спрашиваю: «Кто?» Ответ: «Открой, забыл инструменты». Открыла дверь и сразу же получила удар в голову. Я потеряла сознание и, что со мной произошло дальше, не помню. Очнулась лишь глубокой ночью. С трудом добралась до кочегарки, где мне оказали помощь, вызвали фельдшера. Кочегару и фельдшеру я рассказала о случившемся, но не назвала, кого я подозреваю. Вам же могу сказать: по голосу я определила, что это был рабочий из строительной бригады Алхин. Но утверждать не буду, могла и ошибиться. Занялись личностью Алхина. Парню 24 года. За хулиганство отбыл два года в колонии. После освобождения несколько месяцев проживал в Омске у родственницы, сменил несколько мест работы. Часто пьянствовал, дебоширил. И, когда им заинтересовался участковый инспектор, Алхин, бросив работу, уехал в Алексино к престарелым родителям. Здесь поступил в строительную бригаду. Надо отдать должное, он был неплохим плотником. А расчет имел лишь с бригадиром «шабашников». Поэтому не случайно руководители леспромхоза на наш запрос ответили, что никакого Алхина они не знают, никаких правовых отношений с ним не имеют. Бригадир же в это время отсутствовал — он выехал на юг. Самого Алхина дома не оказалось. Его родители объяснили, что 5 апреля он по непонятным для них причинам собрал свои вещи и сказал, что поедет в Новосибирскую область к тетке. Назвали ее адрес. И отец и мать при этом, что называется, в голос сетовали, что их сын ведет себя плохо, чрезмерно пьет, скандалит, деньги домой не приносит. В день отъезда из поселка вымогал у них 30 рублей. Необходимо было установить, где и с кем Алхин был 9 февраля, перекрестились ли их пути с Таней? Участковый инспектор на вечернем оперативном разборе предположил, что небесполезно побеседовать с официанткой и буфетчицей столовой поселка. Они, судя по отдельным их высказываниям, что-то знают, но до конца не раскрываются. Тотчас же пригласили обеих в кабинет конторы леспромхоза, который был отведен нам для работы. Будучи допрошены официально, они дали показания, которые сводились в основном к одному: 9 февраля, около 9 часов вечера, в столовую пришел Алхин вместе с жителем поселка Кудриным. Оба были пьяны. Кроме пива, в столовой никаких спиртных напитков не продавалось. Алхин подождал, а Кудрин ушел и через некоторое время вернулся с двумя бутылками вина. Опорожнив их, приятели еще более захмелели. Перед закрытием столовой в ней появилась девочка, купила булку хлеба и ушла. Вслед за нею в дверь буквально вывалился Алхин, а Кудрин остался до закрытия. Кудрин эти показания при допросе подтвердил. Дополнительно он сообщил, что, увидев в столовой девочку, покупавшую хлеб, Алхин произнес: «А вот и моя соседка. Пойду провожу, а то ее родители уехали в гости, дома она одна». После долгих разборов, советов, споров решили произвести у родителей Алхина обыск. Правда, прокурора на месте не было. Было использовано процессуальное право: в случае необходимости органы дознания имеют право произвести обыск с последующим уведомлением об этом прокурора. Производили обыск работники райотдела милиции. Ставилась задача: тщательно осматривать все вещи и предметы, оставленные Алхиным у родителей. Мы понимали, какую травму наносим родителям Алхина — коренным жителям поселка, которых глубоко уважали все. Но иначе поступить не могли. Обыск почти ничего не дал. Единственное, что оставляло надежду выхода на верный след, — валенки Алхина. Старые, замызганные, они имели полустертые пятна бурого цвета. Срочно, с первым же самолетом, направили их в бюро судебно-медицинских экспертиз. Специалистов его попросили определить, нет ли на валенках следов крови. Если есть, то какой группы? Для ускорения дела пришлось позвонить на кафедру судебной медицины нашей давней знакомой Иде Васильевне. В феврале 1972 года в Куйбышевском районе Омска на улице Куйбышева было совершено серьезное преступление. При осмотре места происшествия розыскники обнаружили кровавую дорожку следов, ведущих к одному из домов на улице 3-я Линия. Хозяева в тот момент отсутствовали. Группа наших работников была оставлена для задержания владельцев дома при их приходе. Ида Васильевна, участвовавшая в воскресный — для нее нерабочий — день в осмотре места происшествия, взяла на тампоны кровь «дорожки». Срочно отправившись в лабораторию, сделала анализ и установила, что кровь принадлежит собаке. Этим заключением она сняла подозрение с честных советских граждан. Преступление в дальнейшем было раскрыто не без участия Иды Васильевны. ...Вместе с валенками на экспертизу направили заборы крови трупа Тани и кровь Люси. Через два дня Ида Васильевна сообщила, что на валенках имеются следы крови и пострадавшей, и убитой. Принимаем решение: срочно установить местонахождение Алхина, задержать его и доставить в УВД. Поручили это работнику уголовного розыска Юрию Васильевичу Лохманюку. Самим же нам надо было срочно выезжать в Омск. Дорога к тому времени окончательно раскисла. Поэтому мы решили оставить машину в райотделе и улететь самолетом. 11 апреля позвонил из Новосибирской области Лохманюк и доложил, что Алхин задержан. При этом он проявлял нервозность, возмущался: на каком-де основании сделан обыск, изъяты вещи, тем самым «нанесено оскорбление» его родственникам? В этот же день поздно вечером Алхин был уже в Омске. Начинаем беседу. После ознакомления со статьей 38 Уголовного законодательства об обстоятельствах, смягчающих ответственность перед законом, Алхин подробно рассказал и собственноручно записал показания о том, что в ночь на 10 февраля 1975 года, будучи пьяным, приставал к Люсе, нанес ей телесные повреждения. Подписавшись, Алхин повеселел, видимо, решив, что это все. — Вы ознакомлены с содержанием статьи 38 Уголовного кодекса. И, вроде бы, решили искренне признаться в совершенном вами преступлении, а тем самым помочь органам следствия объективно разобраться в содеянном. А там уж дело суда. Но ведь вы же не рассказали главного. Около 9 часов вечера 9 февраля вы вместе с Кудриным находились в столовой поселка Алексино. Ни вина, ни водки там не продавалось, было лишь пиво. Ваш приятель Кудрин пошел в магазин, через 5-7 минут принес две бутылки вермута. Вы, надеюсь, это помните? — Да, это я хорошо помню. А что же еще вы хотите от меня? — Только правду. Еще и еще раз правду. Продолжим воспоминания. Ваш приятель принес две бутылки вина. Вы его выпили. В это время в столовую зашла девочка. Вы помните это? Кто она, вы ее знаете? — Да, я это все хорошо помню. Но зачем вы хотите мне что-то приписать? Я знаю, что в этот день исчезла Таня. Но ведь я-то к этому никакого отношения не имею. — Знаете ли вы, что произошло с Таней? — Мне об этом ничего не известно. — 4 апреля труп Тани был обнаружен на болоте около Алексино. Это событие глубоко потрясло каждого жителя поселка. Не могли не знать об этом и вы. В связи с этим объясните причину вашего внезапного отъезда. После продолжительного молчания последовал ответ: — Не помню. 4 апреля я весь день пил, был пьян. Решение же о выезде из Алексино у меня созрело значительно раньше, хотелось уехать, бросить пьянствовать, начать жить по-новому. К тому же боялся, что Люся меня в тот вечер узнала, сообщит об этом в следственные органы. — Расследованием установлено, что 9 февраля после распития спиртного вы из столовой вышли вместе с Таней. Сказали своему приятелю, что проводите ее. Что произошло дальше? Снова долгая пауза, и наконец: — Не помню, был пьян. Стало ясно, что откровенного разговора с Алхиным у нас в этот день не получится. Рекомендую ему еще раз все продумать, оценить, напоминаю, что лишь откровенное раскаяние может облегчить его участь при вынесении приговора. Алхина уводят в камеру, а я остаюсь наедине со своими мыслями. Нападение на Люсю доказано. Да преступник этого и не отрицает. Впереди главный вопрос. Как Алхин будет вести себя дальше? Мы имели в своем арсенале неопровержимую улику: на его валенках обнаружены следы крови, которые, по заключению Иды Васильевны, принадлежали не только Люсе, но и Тане. Собрал товарищей посоветоваться. На этом оперативном совещании присутствовали не только работники уголовного розыска, но и Светлана Федоровна Гусельникова, которой прокурор области поручил вести дело, Ида Васильевна и другие. Решили продолжить допрос Алхина, ознакомив его с заключением биологической экспертизы. Как он отреагирует? — Как отдохнули, что надумали? — спрашиваю парня, как только он входит в мой кабинет. — Надеемся, что наш предыдущий разговор заставил вас серьезно задуматься. Речь идет о Тане, причинах ее гибели. Как это произошло, расскажите правду. Алхин надолго задумывается, потом выдавливает: — А что меня ожидает, если я расскажу все, что произошло, как было? — Многое зависит от вас, от вашей искренности. И снова гнетущее молчание, раздумье. Мне, посвятившему многие годы оперативно-следственной работе, видевшему лица разных людей, для которых решение суда означало жизнь или смерть, стало ясно, что Алхин на переломе. Нарушаю тишину: — Криминалистика, как и другие науки, не стоит на месте. Неужели вам непонятно, что научно будет доказано, кто и где был. Вам-то это понятно, или нет? — Да, мне это понятно, но что же у вас имеется? Ведь у меня при задержании изъяты все личные вещи. И что же вы на них нашли, что имело бы отношение к гибели Тани? — Эти вещи исследуются. Не будем спешить с результатом. Но, уезжая от родителей, вы оставили в их доме валенки. Так было? Можете их опознать? — Да, действительно, валенки я оставил, ведь пришла весна, и они мне были не нужны. — Так вот, валенки мы изъяли, направили на биологическую экспертизу. Она закончена. На них обнаружена кровь человека. Как эта кровь могла попасть на ваши валенки, кому она может принадлежать? Последовала пауза, за которой чувствовались внутренние колебания допрашиваемого. Однако он продолжал, словно по инерции, запираться. — Это, наверное, моя кровь. Я часто падал пьяным, разбивал себе лицо, руки. Предъявили Алхину среди других его валенки. Он их уверенно опознал. Задаем вопрос: — Каким образом на ваших валенках оказались следы крови, анализ которой показал, что она — двух групп и принадлежит Люсе и Тане? — Не может быть! Знакомим его с актом биологического исследования. Он в шоке. И его можно понять. Припертому к стенке приходится признаваться в гнусном преступлении. И Алхин, запинаясь, исповедуется перед нами. — Когда я уходил с Таней из столовой, то был пьян, смутно помню, что произошло. Пригласил ее, несмышленыша, в строящееся здание за якобы оставленным инструментом. Дверь долго не открывалась. Я рассвирепел, и когда дверь открыла женщина, то стал избивать ее. Таня вначале оцепенела, а потом пронзительно закричала. Женщина лежала недвижима, а Таня с криком побежала по улице. Я испугался, схватил лопату, догнал девочку и ударил несколько раз по голове. Потом унес на болото... Через два месяца обнаружили труп Тани. Я испугался и, чтобы избежать ответственности, уехал из поселка. Следствие продолжала Гусельникова. Она вывезла Алхина на место происшествия, зафиксировала его действия и обстоятельства событий, назначила производство необходимых экспертиз. Алхин был осужден на длительный срок лишения свободы. Конечно, человека погубила прежде всего личная моральная распущенность. Однако основой ее было пьянство, точнее — беспредельное употребление спиртного. Ведь в то время оно лилось рекой: на вынос и в розлив, в любой торговой точке, в любом предприятии общепита. Работникам милиции, как никому другому, часто приходилось встречаться с бедами, порожденными пьянством. Разлады в семьях и их распад, обездоленные дети, дебоши, злостные хулиганства, воровство, грабежи и разбои, насилия над личностью, нерадивое отношение к труду, полная деградация человека и, наконец, убийства — все это от «зеленого змия». Через 5 месяцев мне снова пришлось побывать в Алексино, и снова по чрезвычайному происшествию. Шли уборочные работы. Выполняя распоряжение директора школы, учеников 5-6 классов переправили на катере через Иртыш на поля колхоза для сбора колосков. А в конце дня перевезти их обратно забыли, команда катера ушла пьянствовать. На крики малышей за ними на моторной лодке подъехал пьяный подросток, посадил в лодку восемь девочек и повез их через реку, показывая «искусство» лихой езды. И доигрался. На середине реки опрокинул лодку, семь девочек утонуло. Можно представить себе горе и возмущение родителей, всего населения поселка, прилегающих сел и района. Пять дней водолазы вели поисковые работы, и пять дней на берегу Иртыша горели костры, зажженные родителями и родственниками погибших девочек. И снова причиной страшной беды была водка.СТАРОМАЛИНОВСКИЕ «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10 августа 1978 года. Начало отпуска. Через час отбываю с семьей в санаторий. Чемоданы уложены. Осталось бросить их в машину, потом забежать в Управление, доложить генералу об отъезде, попросить его взять на контроль отдельные дела. Начальник УВД встретил приветливо, пожелал счастливого отдыха. Я собрался было сделать «налево кругом». Вдруг — телефонный звонок. Генерал поднял трубку, послушал минуту-полторы, изменился в лице, знаком подал сигнал: дескать, садись. — Сколько? — переспросил невидимого собеседника. — Более ста двадцати тысяч? Как это могло случиться? Минут пять он — весь внимание — слушал. — Ясно! Обеспечьте охрану места происшествия. К детальному осмотру не приступайте. Займитесь сбором возможной информации, опросите всех, кто связан с операцией получения и выдачи денег. К вам выезжает оперативная группа. Ее возглавит мой заместитель... Отдав распоряжение, он молча прошелся по кабинету. За долгие годы совместной работы я редко видел генерала таким взволнованным: — Растяпы! Вот что, Анатолий Иванович, ваш отпуск отменяется. Срочно соберите оперативную группу и выезжайте в Нижнеомский район на центральную усадьбу совхоза «Береговой». Сегодня ночью неизвестные проникли в контору, взломали сейф и похитили более ста двадцати тысяч рублей... Это зарплата рабочих... Вы понимаете, что это такое? Численность группы не ограничиваю. — Наряду с оперативниками возьмите подразделение милиционеров, одетых в форму, — продолжал он. — Блокируйте все выезды из села. Захватите радиостанцию. Она обеспечит устойчивую связь с Управлением... У нас организуется штаб, который будет работать по вашим сигналам. С собой возьмите Бичевого и Скороходова из уголовного розыска, Шерстнева из оперативно-технического отдела, Черноштана из следственного управления, опытного старшего офицера из службы милиции. Остальных работников пусть руководители подберут сами. Необходимый транспорт будет у подъезда через 30 минут. Вопросы будут? Нет? Тогда действуйте... Звоню домой, сообщаю жене, что отъезд наш откладывается, выезжаю в командировку, прошу принести вещи и обувь. По тревоге вызываю руководителей служб, информирую о случившемся, ставлю задачу. На сборы даю 20 минут. И вот мы в пути. Следуем колонной из трех вездеходов УАЗ-469 и грузовой машины с подразделением милиции. Всю ночь шел дождь с грозой. Продвигаемся медленно, преодолевая распутицу и бездорожье. Около 14 часов, наконец, добираемся до места происшествия. У здания совхозной конторы — толпа людей, как всегда в таких случаях — куча любопытных ребятишек. Многие селяне приехали из других отделений совхоза получать заработную плату. Каких только разговоров здесь не услышишь. Критика руководства хозяйства, не обеспечившего своевременной выдачи зарплаты и не выставившего посты для охраны денег. Скепсис в адрес работников милиции, не сумевших разыскать преступников, укравших ранее, в июле, сейф с деньгами из местной конторы потребкооперации. Немало высказывалось и предположений, кто бы мог совершить это преступление: работники бухгалтерии по сговору с приезжими из города; жители других сел; временные рабочие из числа «шабашников»... Даю распоряжение — построиться для получения приказа. Звучит четкая команда: — Подразделение, равняйсь, смирно! Равнение на середину! Печатая шаг, ко мне подходит майор и докладывает: — Товарищ полковник! Личный состав по вашему приказанию построен! Наступила мертвая тишина, даже ребятишки замерли. Через мегафон обращаюсь к коллегам: — Товарищи! Минувшей ночью в совхозе совершено опасное преступление. Неизвестными лицами взломан сейф и похищена крупная сумма денег. Подчеркиваю, денег, которые предназначались для зарплаты. Они нужны рабочим, их семьям. Наша задача — найти украденное как можно скорее. Для этого надо поработать. Настойчиво, упорно, инициативно. Необходимо блокировать все выходы из села. Всех, кто попытается покинуть его, останавливать и тщательно проверять. Провести «проческу» лесных массивов. Службу нести бессменно, до розыска преступников. Вопросы есть? Товарищ майор! Развести личный состав по маршрутам, обеспечить их связью и питанием! Затем несколько слов местным жителям: — Мы найдем преступников. Но как скоро это будет, зависит и от вашей помощи. Нас интересуют все мелочи. Если кто из вас что-то видел или слышал, — придите, расскажите, посоветуемся. А сейчас прошу всех разойтись. Каждого из нас ждет работа. Оставив группы оперативных работников для сбора информации, мы с Григорием Григорьевичем Черноштаном, Алексеем Бичевым и Сергеем Федоровичем Шерстневым зашли в помещение конторы. Начальник райотдела милиции доложил коротко о предпринятых до нашего приезда мерах. Нового в его сообщении было немного. Приступили к осмотру места происшествия. Контора размещалась в здании барачного типа. В левом крыле размещались кабинеты директора совхоза, секретарей партийного и комсомольского комитетов, специалистов совхоза. Правую половину занимали профсоюзный комитет и бухгалтерия. Из нее дверь вела в кассу. Все двери бухгалтерии оказались взломанными. На полу в кассе валялся сейф со вскрытыми дверцами. По опыту знаю: чем больше людей участвует в осмотре места происшествия, тем ниже его качество, его результативность. Особенно, когда много «начальства». Поэтому, поручив Шерстневу с группой криминалистов и следователем детально разобраться с обстановкой — описать место происшествия, определить пути и способы проникновения преступников в помещение бухгалтерии, способ и орудие взлома сейфа, возможное число участников преступления, зафиксировать и изъять следы преступников, — я с остальными обосновался в отведенном нам кабинете заместителя директора совхоза. Установив связь с Управлением, дали первую радиограмму: приступили к работе. Продолжительные беседы с директором совхоза А. Д. Треллером и его заместителем В. С. Купалловым, главным бухгалтером Н. Ф. Поляковым, заместителем главбуха З. В. Тарсенко, а также с Г. И. Коваленко, работавшей кассиром до 8 августа, ее преемницей В. А. Шуликовой и техничками Т. И. Ячменевой и Л. Горбуновой ничего полезного не дали, кроме вывода: в данном случае проявлена редчайшая безалаберность, допущено грубейшее нарушение известного Положения о ведении кассовых операций государственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций. Схема происшедшего вырисовывалась примерно такая: 9 августа зарплата рабочим совхоза не выдавалась, в 18 часов работники бухгалтерии «организованно» ушли домой, хотя у кассы стояли десятки «просителей», требовавших получку. Ни у кого не возникло даже мысли — выставить в бухгалтерии охрану. Технички не прибрали и тоже отбыли по родным углам, закрыв контору на висячий замок. Я с нетерпением ожидал результатов осмотра взломанного сейфа. Наконец, Шерстнев доложил: «Сейф вскрыт механическим способом. Запорное устройство взломано предметом, похожим на монтировку — обнаружен ее осколок». Естественно, розыскники в первую очередь заинтересовались производственными участками, где используются монтировки, — гаражом, узлом связи, электрогруппой. В гараже Александр Назаров установил несколько фактов пропажи инструмента: в начале июля исчезли две монтировки, кувалда, зубила; в августе — снова монтировки. Некоторые шоферы показали, что в июле они частенько пьянствовали с Алексеем Баранчиковым и Николаем Зайцем, работавшим шофером кооперативного торгового предприятия в то время, когда там, 5 июля, была совершена кража! Подозрения на связистов-монтажников отпали сразу. Весь инструмент на узле связи был, как говорится, в наличии, и им не пользовались в течение недели. Зато особое внимание привлекли монтажники-высоковольтники районных электросетей. Бригадир этой службы Решетников пояснил, что под его началом — 7 человек, трое из них проживают на центральной усадьбе совхоза, остальные — на отделениях. В день кражи и на следующий день не выходил на работу Баранчиков: отпросился «косить сено и окучивать картошку». Решетников пояснил также, что они постоянно пользуются монтажными ломиками, которые по окончании работы оставляют в кузовах автомашин. Когда наши сотрудники проверили, в кузовах ни одного из этих орудий не оказалась. К концу дня мы располагали значительной информацией. Взяли на учет три автомашины сторонних организаций, убывших из совхоза ночью, десятки людей, ранним утром 10 августа уехавших в Омск на теплоходе. Установили приметы и признаки портфеля, который похитили преступники. Все это сообщили по рации в штаб розыска. Тотчас же оперативными силами городской милиции были «закрыты» вокзалы, аэропорт, все питейные заведения областного центра. Началась активная проверка лиц, склонных к совершению преступлений. 11 августа при подворном обходе розыскники «вышли» на некую Катю, которая показала, что поздним вечером, после окончания киносеанса, она сидела в беседке вблизи своего дома с товарищем и видела, как два человека прошли к автомашине, залезли в кузов и бренчали железками, после чего ушли в сторону конторы. Около часу ночи она зашла домой, и вскоре погас свет. Отключение света с часу до трех подтвердили еще несколько человек. А ведь в это время как раз и было совершено преступление. Однако, кто мог отключить свет? Скорее всего, люди сведущие, знакомые с системой. А это могли быть в первую очередь электрики-монтажники РЭС. Из семи электриков особо следовало, очевидно, заняться теми, кто проживал на центральной усадьбе. Мы тщательно ознакомились с материалами уголовного дела о краже сейфа с деньгами в ночь на 5 июля из конторы потребкооперации. Тогда тоже была сильная гроза, шел проливной дождь. Неизвестные проникли на второй этаж, через окно выбросили сейф, погрузили его на автомашину и увезли. После было установлено, что преступники воспользовались автомашиной УАЗ-469, закрепленной за бывшим директором совхоза и оставленной им у своего дома без присмотра. Из машин совхоза, находившихся в гараже, исчезли монтировки, кувалда, зубило. Все свидетельствовало, что преступники были местными жителями, но розыск их проводился пассивно. Ничего вразумительного нам не мог сообщить и местный участковый инспектор милиции. А ведь молодежь села в течение месяца после кражи пребывала в «загуле». Водка и коньяк лились рекой, спиртное разбиралось из магазинов центральной усадьбы и соседних сел. Распития совершались в женском общежитии, в кустах у танцевальной и спортивной площадок, на берегу реки. В попойках активное участие принимали Александр Шестнер, Владимир Гаврилов, Тамара Говоруха и еще многие. Как выяснилось впоследствии, они «одалживались» на спиртное у определенной группы лиц, не задаваясь вопросом, откуда у «кредиторов» столько свободных денег. Да, Анискин — «деревенский детектив» — из нашего участкового инспектора явно не получился. Существовала полная возможность раскрыть преступление по «горячим следам», но участковый ею не воспользовался и тем открыл путь ко второй краже. ...Тяжкое наследство досталось новому директору совхоза Александру Давыдовичу Треллеру. Воспитательная работа в совхозе была пущена на самотек. Многие главные специалисты, особенно главный бухгалтер, не стремились навести должный порядок. Трудовая дисциплина была низкой. Процветало пьянство. Памятны выдержки из бесед с работниками совхоза и жителями села. Из протоколов допросов. Ведомский В. И., тракторист-монтер: «8 августа ремонтировали автомашину, были Баранчиков и другие. Недалеко от водохранилища выпили спиртного. Надо ехать за трактором в Покровку. На своем мотоцикле с Решетниковым Сергеем и Анатолием поехали к Звереву, его не было. Трактор не взяли: ругалась жена. Около 7 вечера взял у жены денег, у пекарни встретил Курочкина и Тарасенко. Купили бутылку коньяка и распили ее на станции». Ведомский Александр: «Два месяца назад упал с мотоцикла, когда вез водку для угощения товарищей по поводу рождения сына. Нахожусь на больничном». Горенков Владимир, шкипер пристани: «Закончил работу в 21.30. В магазине встретил Пушкаренко и Ефременко. Купили водки, выпили...» Агарков Александр, шофер совхоза: «9 августа ездил в Калачинск, вернулся вечером. С друзьями взяли водки, выпили». И так — почти с каждым, кто попал в поле нашего зрения. 12 августа в 6 часов утра мы были уже на работе. Коротко подвели итоги вчерашнего дня. Констатировали: время идет, дело стоит, деньги не найдены, преступники не обнаружены. Молодые сотрудники уголовного розыска Назаров и Ерошенко предложили задержать Зайца и Баранчикова, доставить их в контору совхоза и, обеспечив изоляцию, тщательно допросить. Другие товарищи считали задержание преждевременным: мол, надо еще поработать, собрать побольше информации об этих людях. После часовой дискуссии решили задерживать сразу обоих, но перед этим произвести в их домах обыск. Риск? Да, риск! Но интуиция подсказывала, что обыск нам многое может дать. По телефону поставили в известность прокурора района. Получили категорическое «нет». Пришлось срочно запросить разрешение у прокурора области. Через 5 минут дежурные уголовного розыска Юрий Лохманюк и Василий Шаблинский доложили: санкция на обыск дана — действуйте. Скомплектовали две оперативные группы — по три человека в каждой. Одну возглавил Ерошенко, вторую — Назаров. Первая должна была производить обыск в квартире Зайца, вторая — у Баранчикова. Группы разошлись «по маршрутам». Оставшихся охватило томительное ожидание. Некоторые, не скрою, были настроены скептически: дескать, обыски ничего не дадут, ведь не станут же предполагаемые преступники держать такие деньги при себе. Через полчаса вернулась группа Ерошенко. С неутешительной вестью. Отец Зайца, бывший фронтовик, категорически отказался пустить наших сотрудников в дом без санкции прокурора. Закон, конечно, он знал. Но не учитывал, что в исключительных случаях работники милиции имеют право производить обыск и без санкции прокурора, которого, однако, в суточный срок надо уведомить о происшедшем. После непродолжительного разговора направляю работников милиции с заданием задержать Зайца. Его следовало доставить в контору совхоза и начать беседу «разведывательного» характера. Через час вернулась группа Назарова. С «уловом», который нес сам Баранчиков в небольшом бауле. Назаров доложил: обыскали весь дом — вроде бы ничего. Стали обследовать кладовку. И тут обратили внимание на ящик, доверху наполненный гвоздями. Что-то показалось подозрительным. Назаров ссыпал гвозди, а под ними — деньги, и очень большие. Их и считать не стали, сложили в баул, задержали Баранчикова и вместе с понятыми доставили в контору. С матерью Баранчикова стало плохо — упала в обморок. Назаров оставил в доме старшину милиции, чтобы вызвать врача и оказать ей помощь. Баранчиков выглядел явно удрученным и подавленным. Надо было «ковать железо, пока горячо». Начали допрос. — Алексей! Сколько здесь? — задаю вопрос, показывая на открытый баул. — Ровно половина. — А где остальные? — У Зайца! — Так сколько же досталось лично вам? — Тысяч шестьдесят. Точно не считал. Делили пачками в моей бане. Остальные в портфеле унес Заяц. Захожу в кабинет, где Ерощенко и Будкин беседуют с Зайцем. Разговор у них, чую, не ладится. Беру Зайца и веду в кабинет, где идет пересчет найденных денег. — Николай! Здесь половина. Где остальные? Он в шоке, растерян. — Где остальные деньги, верните их! — повторяю. Он понял, что сопротивляться нет никакого смысла. — Пойдемте, они у меня в гараже. Через несколько минут опергруппа прибыла на усадьбу Зайца. В присутствии понятых в гараже, в железном ящике, обнаружили остальные деньги и тщательно пересчитали. А что же отец? Петр Николаевич переживал, он бушевал, негодовал: — Выродок, фашист, убивать таких надо! Ты опозорил меня, наш род. За что я воевал, зачем тебя вскормил и вспоил? Пришлось увести отца в дом, отобрать у него ружье, успокоить. Меня пригласили к рации. Юрий Лохманюк сообщил, что рано утром к нам выехал генерал. Все переданные нами сведения в Управлении проверяются, но положительного нам ничего сообщить пока не могут. — Юра! Отбой! Полный отбой! Преступники обнаружены и задержаны, деньги изъяты. Подробности позднее. Поручив Григорию Григорьевичу Черноштану работу с задержанными, я выехал навстречугенералу. Встреча произошла на Муромцевском тракте. Настроение у Ивана Романовича было не из хороших. Я не стал его томить и доложил: — Товарищ генерал! Виктория! Полная виктория! — Какая еще Виктория? Дело на контроле в обкоме партии, облисполкоме, министерстве. Заместитель министра направил меня сюда для разбора обстоятельств происшествия. — Преступники установлены, задержаны, похищенные деньги изъяты! — Молодец! Я рад за вас! Через час в кабинете директора совхоза состоялось совещание, на котором присутствовал председатель райисполкома. Разговор шел о причинах происшедшего. Условились, что исполком на своем заседании рассмотрит этот вопрос и сделает соответствующие выводы. После обеда генерал уехал. Перед отъездом он поручил нам закончить передачу денег совхозу и поработать с задержанными, чтобы выяснить их причастность к краже сейфа из потребкооперации. Начинаю разговор с Баранчиковым. — Алексей! С этим делом все ясно. Но как вы дошли до него? После продолжительного молчания слышу: — Это все Заяц виноват. Он соблазнил меня на преступление. Мы с ним друзья. Вместе учились, вместе ушли в армию. Служили в одном гарнизоне, вместе демобилизовались, наша дружба продолжалась. Заяц работал шофером в потребкооперации, в июне уволился... Во время одной из выпивок он завел речь о красивой жизни: мол, будет много денег, их можно приобрести безнаказанно, украв сейф из конторы торгового предприятия. Контора никем не охраняется. Правда, там же живет директор. Но он крепко спит, да его можно и изолировать. Только надо выбрать подходящее время. Под пьяный угар я дал согласие. Настало 4 июля. Мы распивали водку на берегу реки, затем пошли в клуб на киносеанс. По окончании фильма ожидались танцы. Но не состоялись: заведующий клубом запил. И мы со всей молодежью пошли по домам. Начиналась гроза. Заяц намекнул: время подходящее... Мы на время расстались, условившись через час встретиться в кустах у спортплощадки. Сошлись, как и условливались, выпили еще бутылку вина, которую принес Заяц, и направились к конторе. Свободно прошли на второй этаж, на всякий случай веревкой привязали к перилам дверь в жилую комнату директора, чтобы он вдруг некстати не высунул голову. Под громовые раскаты взломали дверь в бухгалтерию, открыли окно и выбросили сейф. Он оказался очень тяжелым, вскрывать сейф на месте мы не решились. Зная, что у дома, где жил бывший директор совхоза, безнадзорно стоит автомашина УАЗ-469, мы воспользовались ею. Заяц подогнал «уазик» к конторе, мы погрузили в него сейф и по Муромцевскому тракту уехали в леса. Через три дня я взял мотоцикл у сестры, и мы с Зайцем поехали к тайнику. Зубилом, кувалдой и ломом взломали сейф и забрали деньги (инструмент мы похитили из машин в гараже). Деньги поделили поровну. Мне досталось тысяча сто рублей. — Можешь показать место, где оставили сейф? — Могу. Через час оперативная группа вернулась с изуродованным металлическим ящиком. Потом показания Баранчикова подтвердил и Заяц. В дальнейшем следователи Росляков, Коноваленко, Пьянзин установят третьего соучастника кражи сейфа из конторы потребкооперации. Так были раскрыты два тяжких уголовных преступления.ИХ ИМЕНА ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
В ночь на 15 октября 1974 года на берегу Оми, в районе лодочной станции, выстрелом в упор был смертельно ранен старший сержант милиции Виталий Григорьевич Харчевников, 1941 года рождения. Свой трудовой путь он начал семнадцатилетним юношей, комсомольцем. Работал на тракторе в Тевризском районе. Затем три года служил в армии, откуда в октябре 1965 года пришел в органы милиции. Виталий не искал легкого места в жизни. Его отец Григорий Павлович погиб на фронте. И сыну страстно хотелось доказать, что он достоин памяти защитника Родины и способен на подвиг. В милиции Виталий служил честно, добросовестно, инициативно. Восемь благодарностей, несколько денежных премий, нагрудный знак «Отличник милиции», медаль «За безупречную службу» — неопровержимые тому свидетельства. В 1967 году у жены Виталия, Светланы, родился сын. В честь деда малыша назвали Григорием. ...В ту ночь Виталий, сдав оружие, поздно возвращался с работы. На улице Пушкина его внимание привлек одиноко стоявший легковой автомобиль. Из ангарчика лодочной станции доносился скрежет металла. Неведомый «ночной труженик» вызвал невольное, чисто профессиональное подозрение. Виталий спустился к берегу и у одного из ангаров увидел неизвестного, который, взвалив на плечо лодочный мотор, направлялся вверх по склону. — Вот так и шагай, — сказал Виталий. — Только держи левее. Там отделение милиции. Задержанный вроде бы и не протестовал. Он двинулся вперед. А через несколько мгновений раздался выстрел... Мы приехали на место происшествия в 4 часа утра. Судебный эксперт констатировал, что смерть Харчевникова наступила от обильной потери крови. У него была перебита артерия. При вскрытии трупа обнаружили пулю от малокалиберного оружия. Отсюда следовало, что преступник был вооружен обрезом или самодельным пистолетом. С рассветом приступили к осмотру ангаров. Три из них оказались взломанными. В одном из помещений преступником (или преступниками) были оставлены орудия взлома: лом-фомка, монтажный ломик и молоток — все аккуратно обмотаны киперной лентой. Предусмотрительность, характеризующая опытного вора, старающегося избегать лишнего шума в работе. К утру по тревоге были подняты весь личный состав уголовного розыска и служба участковых инспекторов. О случившемся информировали все службы милиции, Управление пожарной охраны, работников исправительных учреждений, руководителей народных дружин. Выступили по телевидению. Рассказали о трагическом происшествии, продемонстрировали инструменты взлома. В результате стали поступать сигналы о сомнительных лицах, о кражах лодочных моторов в других районах города, о фактах хищения оружия и лицах, его нелегально хранящих, — все это помогло нам раскрыть немало преступлений. Однако выходов на конкретного разыскиваемого нами убийцу не было. А время неумолимо шло вперед. Текучка подбрасывала новые и новые дела. В это время, к примеру, в уголовный розыск стали поступать однотипные жалобы. В основном от солидных людей, занимающих руководящие должности. Всех их встревожили внезапные телефонные звонки. Чаще всего они раздавались глубокой ночью. Мужской голос грозил всяческими бедами, неприятностями и хозяину, и членам семьи, если не будут уплачены крупные суммы денег, и называл пункты, куда эти деньги должны быть доставлены. Розыскники сделали несколько «кукол-ловушек», установили в условных местах и вели за ними неослабное наблюдение. Но вымогатель не появился. Вскоре в Управление пришла группа церковнослужителей. Они показали письмо такого содержания: «Погиб архиепископ Мефодий. «Доблестная» милиция плохо ищет преступника. А я знаю, кто это сделал. Подробно расскажу вам об этом при встрече. Буду ожидать вашего представителя 14 ноября в 20 часов у танцевальной веранды городского парка культуры. Представитель должен иметь с собой портфель или сумку, в руках держать журнал «Наука и техника». Я подойду к нему, убедившись, что он один и не привел за собою «хвоста». За собранные мною сведения он должен вручить мне 10000 рублей». Ничего не скажешь, наглости вымогателю не занимать. Что ж, решили ответить на это хитростью. В мой кабинет пригласили работников милиции — мастеров спорта по самбо. Одному из них предстояло сыграть главную роль в задуманной нами инсценировке. Посоветовались, кто лучше может сыграть роль служителя церкви. Выбор пал на старшего лейтенанта, ныне подполковника милиции Леонида Анатольевича Камоцкого. Ни ростом, ни фигурой он не производил особого впечатления. Вместе пошли в драмтеатр, обратились к специалистам. К вечеру новоиспеченный священник был готов: одели его в длинное черное пальто, наклеили курчавую бородку. В руки дали видавший виды портфель и свернутый в трубку журнал «Наука и техника». За час до назначенного времени к месту встречи были направлены наши работники. Иван Топоринский, Юрий Лохманюк, Юрий Зубарев, Василий Шаблинский и другие скрыто вели наблюдение за верандой парка. «Священник» прибыл к месту встречи в 20.00. Треть часа он прохаживался у веранды. Внезапно к нему подошел мужчина: рост около двух метров, косая сажень в плечах. — Здорово. Принес деньги? — Принес. Говорите, что вам известно. — Давай деньги, взамен получишь вот это письмо. В нем все сказано. Да побыстрее. Некогда тут рассусоливать. Камоцкий протянул портфель и тут же мгновенно провел бросок. Подбежавшие товарищи подняли задержанного и усадили в подошедшую машину. Через 20 минут его ввели в мой кабинет. В течение получаса он мало что соображал. Испуг сыграл с ним плохую шутку. Находиться рядом было неприятно. Его увели в другой кабинет, допросили. Потом, доложив прокурору, арестовали. Позднее состоялся суд, и вымогатель получил по заслугам. Мне же осталось немного: сердечно поблагодарить Камоцкого и всех участников операции за правильные и умелые действия. ...Розыск убийцы между тем продолжался. Велась активная работа среди населения города и районов области. Работники угро выступили почти во всех трудовых коллективах, обрисовали фабулу преступления, продемонстрировали фотоснимки вещественных доказательств. Установили регулярную связь с коллегами из соседних областей, обменивались взаимной информацией, командировками розыскников для совместной работы по сигналам, заслуживающим внимания. Мне, честно говоря, было стыдно, неудобно встречаться с родственниками погибшего: братом Геннадием Григорьевичем, сестрой Галиной Григорьевной, женой Светланой Васильевной. Они справедливо упрекали нас в беспомощности, сетовали на то, что имя Виталия в то время даже не занесли на стенд погибших на боевом посту (стенд находится в музее Дворца культуры им. Дзержинского). В октябре 1975 года наш сотрудник Владимир Соловьев вел в Павлодаре Казахской ССР розыск машины, угнанной с территории Ленинского района Омска. В это время павлодарскими товарищами был задержан житель Карасука, что в соседней Новосибирской области, Владимир Григорьевич Пидоряк. Он попался на магазинной краже. При осмотре в багажнике его личной автомашины обнаружили гвоздодер, монтажный ломик, монтировку, молоток. Все инструменты были обвязаны киперной лентой. Последнее обстоятельство насторожило Соловьева. Ведь аналогичный «арсенал» в свое время был найден на месте гибели Харчевникова... Началась активная «отработка» задержанного. Выяснилось, что он, неоднократно посещая Омск, угонял автомобили, снимал с лодок моторы. В присутствии прокурора Соловьев приступил к допросу Пидоряка. Он заявил, что последний подозревается в убийстве Харчевникова, и показал фотографии предметов, изъятых год назад на лодочной станции на Оми. Долго, очень долго молчал Пидоряк. На него напала нервная зевота. Затем заговорил. — Да, в октябре 1974 года я был в Омске. Глубокой ночью проник в ангарчики лодочной станции и похитил нужный мне мотор. В это время раздался окрик: «Стой, ни с места!» Оглянувшись, я увидел в двух шагах милиционера, который скомандовал мне подниматься наверх. На левом плече я нес мотор, правая рука была свободной. Поднявшись на берег, я достал имевшийся пистолет и в упор выстрелил в милиционера, намереваясь лишь ранить его и скрыться. Не думал, что рана эта окажется смертельной. Пидоряка привезли в Омск и вывели на место происшествия. Он показал взломанные ангары, в том числе и тот, где украл мотор и в спешке забыл инструменты. Он вывел нас на место, где выстрелил в Харчевникова. Характерно, что похищенный мотор он не бросил, погрузил в машину и уехал. В Карасук выехала оперативная группа. С участием местных товарищей был произведен обыск в доме Пидоряка. Из огромного подвального помещения, погребов и сараев было изъято множество запчастей к машинам и мотоциклам, лодочных моторов, а также большое количество промышленных и продовольственных товаров. Как выяснилось, Пидоряк обладал какой-то необъяснимой жадностью, патологической страстью к обогащению. Он воровал, кажется, отовсюду и что можно. Его руками были взломаны и обобраны десятки магазинов в Новосибирской и Павлодарской областях, Алтайском крае. Потребовалось несколько грузовых автомобилей, чтобы вывезти его добычу. Что интересно, по работе Пидоряк характеризовался исключительно хорошо: передовой машинист депо, активный общественник, командир добровольной народной дружины, примерный семьянин. Более того, чуть ли не кандидат на представление к ордену. Следствие продолжалось долго. В апреле 1977 года за совершенные преступления Пидоряк был приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу. ...Время залечивает раны. Но ничто не заглушит боль родных погибшего. К сожалению, имя Виталия Харчевникова не носит ни одна пионерская дружина (в том числе — и в школе, где он в 1971 году заочно окончил 10 классов), ни одна комсомольская организация. Его именем не названа ни одна из улиц города, где Виталий в течение 9 лет охранял покой граждан и по которой мог бы нынче с гордостью пройти его взрослый уже сын Григорий. А фотография отважного милиционера сейчас помещена на стенд Музея боевой славы во Дворце культуры им. Дзержинского. Говоря военным языком, мы не раз еще теряли боевых товарищей. В октябрьские дни 1978 года погибли на боевом посту сержанты Юрий Геннадьевич Нарыжный и Леонид Николаевич Смагин. В ночь на 30 сентября 1979 года был убит сержант Юрий Михайлович Никулин. Все они комсомольцы, пришли на работу в милицию по зову сердца, сразу же после службы в Советской Армии. ...Юрий Нарыжный окончил 8 классов 113-й школы, а в 1975 году — ГПТУ № 5, работал на заводе им. К. Маркса. С ноября 1975 года служил в армии. Леонид Смагин учился в Павлоградской школе. В 1976 году окончил школу рабочей молодежи № 29 и поступил на заочное отделение Новосибирской школы милиции. Юрий Никулин в апреле 1972 года окончил ГПТУ. Осенью ушел в армию. С декабря 1974 года работал в милиции. ...28 октября 1978 года. В 18 часов старший офицер Первомайского РОВД капитан милиции Канишев провел развод личного состава, проверил оружие и снаряжение, внешний вид и, зачитав приказ о заступлении на дежурство, приказал разойтись по постам и маршрутам. Сержантам милиции Юрию Нарыжному и Леониду Смагину предстояло контролировать 45-й маршрут, охранять общественный порядок на улицах 9-го микрорайона. Служба проходила относительно спокойно. Время от времени ребята встречались с народными дружинниками, коротко обменивались с ними впечатлениями. Их неоднократно проверяли по маршруту офицеры милиции, последний раз, в 3 часа 45 минут, это сделал командир взвода Волков. А через четверть часа произошла трагедия. К утру был сильный туман, видимость — почти нулевая. Проходя мимо гаражей кооператива «Омич-14», постовые услышали характерное повизгивание пилы, вгрызающейся в металл. Они осторожно пошли на звук, условившись выскочить к месту взлома с разных сторон. Первым перед преступником оказался Смагин. — Стоять на месте! — приказал он. В ответ грянул выстрел, и сержант рухнул на землю. Выскочивший следом Нарыжный велел убегавшему уже преступнику остановиться и предупреждающе выстрелил вверх. Неизвестный ответил выстрелом. Страшная боль на миг лишила Нарыжного сознания. У него хватило сил пробежать несколько шагов и выстрелить вслед. Потом, собравшись с силами, с пистолетом в руках, он вышел на улицу Королева и с трудом остановил проходившее мимо такси. Шофер Карташев доставил раненого в больницу и по телефону 02 сообщил о случившемся. Мы застали Нарыжного в приемном покое в полусознательном состоянии со страшной раной в области живота. Его срочно готовили к операции. Сержант успел сказать, что Смагин убит, и потерял сознание. Врачи трое суток боролись за жизнь Нарыжного. На четвертые сутки его не стало. Труп Смагина с пробитой головой был обнаружен у ворот гаража. Стреляли из обреза. У сержанта, видимо, еще хватило сил достать оружие, но применить его он уже не смог. К рассвету туман рассеялся, и мы приступили к осмотру места происшествия. Оказалось, что в эту ночь пострадали восемь гаражей. Взломщиками пяти из них были подростки из соседних домов и, как выяснилось, никакого отношения к убийству не имели. Два гаража были взломаны квалифицированно, но попытки угнать из них автомашины не удались. Уж слишком хорошими «секретами» они были оборудованы. Проникновению преступника в очередной гараж помешали милиционеры. Около дверей мы нашли ножовку по металлу и стандартный пыж от ружья 16 калибра. Служебно-розыскная собака метрах в ста от места происшествия нашла оставленный преступником ботинок. Однако при выходе на улицы Поселковые след потерялся. Весь личный состав был поднят по тревоге. Особенно напряженная обстановка сложилась в Первомайском РОВД. Рабочий день здесь продолжался, можно сказать, круглые сутки. Поздними вечерами в кабинете начальника РОВД Мартынова проводились планерки руководителей аппаратов уголовного розыска. На них присутствовал первый секретарь райкома партии Михаил Михайлович Сухов. Он настраивал нас на непременный успех, тактично гасил возникавшие деловые споры с районным прокурором и работниками следствия, рекомендовал более действенные формы связи с общественностью. Были подняты десятки дел по фактам угона автотранспорта, попыткам краж мотоциклов и автомашин. Мы пересмотрели реальность мер пресечения в отношении угонщиков, изучили материалы о кражах и потерях оружия. Из Златоуста Челябинской области поступило сообщение, что там задержана группа воров-гастролеров, которые в Павлодаре, скрываясь от преследования на угнанной машине, обстреляли милиционеров. В Златоуст направился в командировку работник угрозыска Валерий Напалков. Ему удалось раскрыть несколько мелких краж в Октябрьском районе Омска. Но, как выяснилось, к убийству наших сержантов задержанные отношения не имели. К вечеру 30 октября от инспектора ГАИ УВД поступил рапорт: «Несколько дней назад я проходил по улице Бархатовой и обратил внимание на группу подростков, неправильно себя ведущих. Я подошел к ним и сделал замечание. Один из них повел себя дерзко, был в нетрезвом состоянии. Я попытался его задержать, но он убежал. При преследовании произвел в меня выстрел. Поначалу я посчитал, что он применил обычный мальчишеский «пугач», и не обратил на это внимания, думая, что сам найду хулигана и приму меры... Среди подростков была девушка в красном пальто...». Этот сигнал привлек самое пристальное внимание. Решили «отработать» весь 9-й микрорайон, побывать в каждой квартире, в каждом доме, побеседовать с жильцами обо всех «трудных» подростках. Между тем наступил день похорон Леонида Смагина. В траурном убранстве стоял дворец Сибзавода. Тысячи рабочих предприятия, жителей Первомайского и других районов города пришли проститься с героем. В почетном карауле — сослуживцы Леонида, ветераны милиции, дружинники, комсомольцы. На траурном митинге начальник РОВД Мартынов дал клятву, что убийца не уйдет от наказания. Оперативным работникам уголовного розыска Юрию Минееву и Вагифу Ахмедову удалось к 3 ноября найти девушку в красном пальто и ее подругу, а через них — и того, кто стрелял в инспектора ГАИ в двадцатых числах октября. Это был Андрей Тищенко, семнадцатилетний, нигде не работавший подросток. Когда распорядились принять меры к его задержанию, оказалось, что за час до распоряжения он уже был задержан по заданию следователя шофером-милиционером Иваном Лепишевым. Это произошло так. Лепишев подъехал к дому барачного типа, где жили Тищенко, постучался в двери, затем в окно. Никакого ответа. И вдруг с противоположной стороны раздался звук открываемого окна. Обежав дом, Лепишев увидел убегающего Тищенко, догнал его, задержал и доставил в РОВД. Условились, что следователь допросит подростка по факту попытки угона мотоцикла и водворит в изолятор временного содержания. Оперативные же работники угрозыска выехали на квартиру к Тищенко и произвели в присутствии матери обыск. В ходе его обнаружили ботинок, аналогичный найденному служебной собакой при осмотре места происшествия. Не могу умолчать о том, как вела себя мама Андрея. Каких только «ласковых» слов не пришлось услышать от нее работникам милиции в свой адрес... Начались беседы с Тищенко. Он охотно признал себя виновным в угоне мотоцикла, но упорно отрицал, что имеет оружие и стрелял в работников милиции. Отрицал даже тогда, когда ему были предъявлены оба, обнаруженных в разных местах, принадлежавших ему ботинка. Однако в изолятор он отправился слишком подавленным, чувствовалось, что ему есть о чем говорить. На личный прием к начальнику уголовного розыска Владимиру Лукачу он запросился глубокой ночью. А в 4 утра они уже были у меня в кабинете. И здесь Тищенко во всем сознался: стрелял из обреза, который похитил на одной из дач. Ботинок потерял, убегая с места происшествия. Обрез должен находиться под диваном в их квартире. Последнее нас озадачило. При обыске никакого оружия под диваном не было. Вместе с Тищенко выезжаем к нему на квартиру. Нас опять очень «приветливо» встретила его мама. Однако Андрей прервал ее, сказав: — Мать, отдай обрез, что я спрятал. Ты знаешь, где он. Ворча и возмущаясь, мать повела нас к общественному туалету, откуда достала оружие. Она припрятала его там уже после задержания Андрея, незадолго до обыска. В этот же день состоялись похороны Юрия Нарыжного. Дворец Сибзавода снова в траурном убранстве, снова — тысячи заводчан, жителей района и города, траурный митинг на кладбище. Начальник РОВД Мартынов отдавал своеобразный рапорт: — Юра! — говорил он. — Мы поклялись, что найдем преступника и он понесет заслуженное наказание. Клятву свою мы выполнили, тебя мы никогда не забудем, наш дорогой боевой товарищ! Закончилось расследование. В июне 1979 года Омский областной суд приговорил Тищенко Андрея Анатольевича к 10 годам лишения свободы. Преступление он совершил, когда ему было семнадцать лет и четыре месяца, то есть несовершеннолетним. Другого наказания суд определить не мог. Правда, коллективные письма-ходатайства о применении к убийце исключительной меры наказания направлялись в Президиум Верховного Совета СССР. Но они были отклонены. Наше законодательство гуманно, и суды, вынося приговоры, руководствуются принципами человечности. Этим, кстати, надо объяснить и довольно мягкий приговор по делу Алхина, упомянутого в очерке «И в болоте следов не спрячешь». В розыск убийцы внес огромный вклад весь личный состав Первомайского РОВД. Особенно хотелось бы отметить Михаила Филипповича Мартынова, Владимира Ивановича Колесеня, Владимира Николаевича Лукача, Николая Николаевича Афанасьева, многих других работников РОВД и уголовного розыска Управления. Нельзя умолчать и о серьезных просчетах, которые способствовали совершению тягчайшего преступления. В апреле 1976 года Тищенко за кражи государственного и личного имущества был осужден на 2,5 года лишения свободы. В июле 1978 года освободился и нигде не работал. Однако это не озаботило ни участкового инспектора, ни инспекторов по делам несовершеннолетних. На здании Первомайского райотдела есть мемориальные доски с именами погибших на боевом посту отважных милиционеров, к ним постоянно возлагают живые цветы. Фотографии Юрия и Леонида помещены на стенде погибших, что в музее боевой славы Дворца культуры им. Дзержинского. Их имена в числе других павших при исполнении служебного долга называют при ежегодных совместных разводах милиции, добровольной народной дружины и оперативных комсомольских отрядов, устраиваемых в октябре. В музее боевой славы Дворца культуры им. Дзержинского на стенде погибших на боевом посту помещены десятки фотографий. Немало погибло и работников пожарной охраны, которые отдали свои жизни, спасая народное добро....В ночь на 30 сентября 1979 года у ресторана «Чайка» милиционер Куйбышевского РОВД комсомолец Юрий Никулин задержал группу пьяных граждан, находившихся в автомашине, и пытался доставить их в отдел милиции. В пути следования они напали на милиционера, нанесли ему тяжкие телесные повреждения, обезоружили, вывезли за город на пустырь, где зверски убили. Труп погибшего был обнаружен через полмесяца, а преступников разыскали лишь через четыре года после совершения ими других тяжких преступлений. Но это — тема для другого рассказа... Выше я говорил о памяти погибших, но помнить нужно и о живых. Недавно мне пришлось проходить ВТЭК. Здесь я встретил десятки товарищей, с которыми начинал работать в суровые послевоенные годы. Кое-кого привели на комиссию родственники, кто-то приковылял на костылях или с палочкой. Всех их мучили болезни — и фронтовые, и трудовые. Но не было жалоб на боль. Высказывались обиды на неустроенность, на невнимание. О ветеранах забывают товарищи по работе, к ним небрежно относятся врачи. Годами не посещают бывшие сослуживцы и даже забывают послать поздравительные телеграммы в праздничные дни. С теплотой отзываются они лишь о работниках пенсионной группы финансового отдела. Если уж ветеранов называют «золотым фондом» и другими лестными эпитетами, то и относиться к ним надо бы соответственно.
НА СТО ДЕСЯТОМ КИЛОМЕТРЕ
1
Ранним утром в один из отделов милиции позвонила женщина и взволнованным голосом сообщила дежурному, что ее муж, Локтев Валентин Николаевич, вчера ушел на работу и до сего времени домой не вернулся. За десять лет совместной жизни ничего подобного с ним не случалось. Дежурный, как мог, успокоил женщину, записал приметы мужа. После этого он попросил Елену Николаевну Локтеву позвонить ему часа через два-три и в случае, если муж не объявится, подойти в отдел милиции с его фотографией. Тут же он доложил о поступившем заявлении дежурному по Управлению. Проверил по всем больницам города, не поступал ли к ним Локтев, связался с дежурными райотделов милиции и другими специальными службами. Ознакомившись с суточным рапортом о происшествиях, начальник райотдела милиции К. А. Гуров поручил ведение розыска Локтева своему заместителю Григорию Викторовичу Тумянину. Пока Тумянин знакомился с материалами, размышляя о возможных последствиях поступившего заявления, вновь позвонила Елена Николаевна и сообщила, что муж пока не объявился. Тумянин попросил Локтеву зайти к нему. Елена Николаевна, женщина лет тридцати, миловидная и стройная, очень волновалась. Лицо ее было блеклым после бессонной ночи. С тревогой она поведала, что ее муж, как всегда, утром отвел дочку в садик и ушел на работу, затем ушла и она. Вечером муж домой не вернулся. Тумянин стал подробно расспрашивать Елену Николаевну о родственниках, друзьях, знакомых, о том, не было ли раньше подобных случаев. Извинившись, спросил, не мог ли он завести себе любовницу. Елена Николаевна сказала, что Валентин — хороший семьянин, любящий муж. Живут они хорошо, мечтают купить автомобиль, стоят в очереди на его получение. Но в последние дни Валентин был расстроен. Он объяснял это тем, что на работу пришло письмо от фронтовиков и рабочих-орденоносцев, в котором высказывалось неудовольствие решением местного комитета о выделении ему автомобиля из поступивших на предприятие машин, и местный комитет приостановил выполнение своего решения. Тумянин попросил Локтеву подробнее рассказать о друзьях мужа. Выяснилось, что близких друзей у него не было. Находился со всеми в ровных отношениях, и, насколько Елена Николаевна знала, люди к нему относились хорошо. Увлекался стрелковым спортом и был охотником. Совсем недавно он с руководителем группы Мотовым подрабатывал на стройке Лузинского свинооткормочного комплекса, так как не хватало денег на покупку машины. Потом Елена Николаевна добавила, что у ее мужа никаких врагов не было, отклонений в его поведении она не заметила. Куда-либо ехать он не собирался. Правда, накануне вечером позвонил начальник, с которым Валентин работал в Лузино, и они договорились о поездке за брусникой. Елена Николаевна ждала мужа до поздней ночи, а потом решила позвонить начальнику его отдела Алтунину. Выяснилось, что Валентин отпрашивался у него с работы для поездки в магазин «Автомобили». Елена Николаевна открыла столик трюмо: ни денег, ни документов мужа на месте не было. Тумянин, прощаясь с Локтевой, заверил, что милицией будут приняты меры по розыску ее мужа. Тут же попросил, чтобы она не волновалась. Возможно, муж уехал к родственникам и по каким-то причинам не смог ей об этом сообщить. Проводив Елену Николаевну, Тумянин поручил работникам отдела розыска проверить адреса всех родственников Локтевых и выяснить, не находился ли он в прошедшую ночь у кого-нибудь из них. Вскоре из Управления позвонил начальник уголовного розыска и поинтересовался, что выяснилось по заявлению о пропаже Локтева. Он сообщил, что генерал это заявление взял под контроль. Тумянин вкратце доложил, что сделано. Затем позвонил на работу Локтева и вызвал для беседы начальника отдела В. В. Алтунина и руководителя группы А. П. Мотова. Из объяснения Алтунина: «...вчера поздно вечером мне домой звонила Локтева и спрашивала, где ее муж, что с ним. По голосу я понял, что она очень взволнована. Я объяснил ей, что накануне Валентин отпросился с работы, сказал, что с утра поедет в автомобильный магазин». Из объяснения Мотова: «...Валентина Локтева знаю по совместной работе более десяти лет, нахожусь с ним в дружеских отношениях. Вместе работали на стройке Лузинского свинооткормочного комплекса в строительной бригаде, часто ездили на охоту. Валентин мечтал приобрести автомобиль и даже неоднократно просил посодействовать ему в этом. Последний раз видел Валентина позавчера. Вчера его на работе не было. Мне Алтунин сказал, что он у него отпрашивался, минуя меня, так как я задержался до десяти часов утра, был в музыкальном училище, встречался с классным руководителем дочери...». Поступили сообщения от сотрудников милиции: ни у кого из родственников Валентин Локтев в прошедшую ночь не находился, никто его не видел. Из анонимного письма (текст напечатан на машинке): «...мы, фронтовики и кадровые рабочие-орденоносцы предприятия... возмущены неправильным распределением машин в личное пользование. Машины выделяются для нас, а одну из них продают вне очереди Локтеву...» Решение профсоюзной организации предприятия: «...Рассмотрев заявление инженера Локтева В. Н. о продаже ему в личное пользование легкового автомобиля, анонимное письмо о нарушениях в этом деле, постановили ранее принятое решение оставить в силе, автомашину «Жигули» продать Локтеву...» Многолетний опыт, интуиция подсказывали Тумянину, что дело это не простое. Исчезновение Локтева не связано с каким-то заурядным жизненным поступком, за этим кроется нечто большее. К такому же мнению пришел и начальник уголовного розыска, к которому Тумянин явился на доклад в конце рабочего дня. Дома Григорий Викторович включил телевизор. Показывали хоккей, который он очень любил. Матч был интересным, но не мог отвлечь от забот прожитого дня: перед глазами стояло тревожное лицо Елены Николаевны, мысли вертелись вокруг запутанной истории с исчезновением ее мужа. Когда Тумянин утром пришел на работу, у дверей кабинета он увидел Локтеву. Она молча встала, Тумянин пригласил ее войти. — Мы все делаем для розыска вашего мужа, Елена Николаевна. У родственников его не было, в больницы не поступал, в других спецучреждениях тоже не был. Так что поиски продолжим. — Вчера к нам приходил Мотов. Успокаивал, утверждал, что Валентин вернется или даст о себе знать. Я ему сказала: «Ты знаешь, где Валентин, но почему не говоришь? Вы же в автомобильный магазин вместе собирались». Мотов ответил: «Собирались-то вместе, но мне сообщили, что дочь пропускает занятия в музыкальном училище». Он и решил поехать к классному руководителю, а Валентин отправился в магазин один. Я разозлилась, наговорила много глупостей. Ведь он много раз обещал помочь Валентину приобрести машину с рук через своих знакомых. — Действительно было такое? Почему вы не сказали об этом сразу? — Я не придавала значения его обещаниям. — Когда был этот разговор? — Осенью прошлого года. — О чем еще разговаривал Мотов с вашим мужем и что обещал? Что их связывало, кроме охоты и спорта? Елена Николаевна задумалась. Семьями они не дружили. Только один раз, когда осенью прошлого года она уезжала отдыхать в санаторий, Мотов отвозил ее в аэропорт на своей машине, а после встретил. — Ездил ли куда-нибудь ваш муж с Мотовым на его личном автомобиле, кроме как на охоту и стенд? — Не знаю.2
Проводив Елену Николаевну, Тумянин позвонил в уголовный розыск и попросил направить в соседние области ориентировки о розыске мужчины с приметами Локтева. В это время дежурный доложил, что к Тумянину есть посетители. Вошел Алтунин. Прямо от двери он заговорил: — Товарищ следователь, у меня есть важное сообщение. Тумянин пригласил его сесть. — Слушаю вас. — Вчера вечером в моей квартире было небольшое торжество: зашли выпить по фужеру вина приятели. Во время разговора меня пригласили к телефону. Звонила женщина. Она сказала, что на мое имя в автоматической камере хранения железнодорожного вокзала оставлены документы, которые мне необходимо получить. Назвала номер ячейки и шифр. — Какой шифр? — Ячейка двести двадцать четыре, шифр — Б 198. — Что еще говорила женщина? — Ничего. Я спросил, с кем разговариваю, но женщина не назвалась, сказав, что это неважно, что она в Омске проездом. И положила трубку. Я рассказал друзьям о странном телефонном разговоре, и мы решили, что это какая-то шутка. Но Андрей Мотов предложил поехать на вокзал и проверить камеру хранения. — Мотов тоже был среди вас? — Да. — Что дальше? — Мы сели в машину Андрея и поехали на вокзал. По названному шифру открыли ячейку автоматической камеры и обнаружили в ней газетный сверток. В машине его развернули. В нем оказалось два конверта. В одном из них мы нашли служебное удостоверение Локтева и два заявления. Второй конверт вскрывать не стали, но в нем прощупывается кольцо. — Где эти пакеты? Алтунин положил на стол два почтовых конверта. Тумянин открыл один из них и вынул удостоверение Локтева, два листа с текстами, один из которых напечатан на машинке, а другой написан от руки. Машинописный текст гласил: «Руководителю предприятия от Локтева В. Н. Заявление. Прошу Вас уволить меня с работы в связи с переменой места жительства и срочным отъездом из Омска. Локтев. 1.04.19... года». Тумянин отложил прочитанное заявление и взял второй листок. «В связи с переездом на жительство в другую местность от выделенной мне машины отказываюсь, прошу провести мое оформление согласно прилагаемому заявлению. Локтев.» Дата в заявлении не указана. Тумянин взял второй конверт, осторожно вскрыл его. На стол выпало золотое обручальное кольцо. — Пригласите ко мне Мотова, — попросил он Алтунина. Алтунин вышел. «Что это? Действительно заявление Локтева или хитроумный ход с целью запутать следствие? Необходимо срочно вызвать Локтеву для опознания кольца и почерка мужа». Тумянин поднял трубку и передал указания дежурному. Через некоторое время в кабинет вошли Алтунин и Мотов. Тумянин внимательно оглядел их. Оба довольно спокойны, если не считать обычных волнений, свойственных каждому человеку в такой ситуации. — Андрей Павлович, вы ездили вчера вместе с Алтуниным на вокзал получать сверток по анонимному звонку? — Да, ездил. — Каково ваше мнение по поводу неожиданного появления этих документов? Мотов пожал плечами. — Мы заявление прочитали. Валентин мне не говорил о своих переездах. Он мечтал все время о машине, а здесь вдруг отказывается. Хотя заявление написано им лично, я хорошо знаю его почерк. — Вы тоже хорошо знаете почерк Локтева? — обратился Тумянин к Алтунину. — Да, это его почерк. — А шрифт машинки вы можете узнать? У вас есть машинка в отделе? — Да. Но шрифт тут несколько иной. — Что вы скажете по поводу кольца? — Очень похожее кольцо было у Валентина. Он носил его на правой руке. Это было обручальное кольцо. Мотов и Алтунин ушли. Тумянин связался с начальником уголовного розыска и доложил ему о ходе поисков. Выслушав Тумянина, он попросил передать дело в областное управление.3
На совещании у генерала было решено: розыск Локтева возглавит полковник Андрей Иванович Бубнов, имеющий немалый опыт оперативно-розыскной работы. Непосредственно вести дело было поручено квалифицированному работнику Сергею Васильевичу Крахмалеву. Внимательно ознакомившись с имеющимися материалами, Крахмалев сразу же вызвал Локтеву. — Это кольцо вашего мужа? — внимательно посмотрев на осунувшееся лицо женщины, спросил он. Елена Николаевна побледнела. — Что с Валентином? Где он?! — Успокойтесь. Вашего мужа пока не нашли, а это кольцо с двумя заявлениями было обнаружено в автоматической камере хранения железнодорожного вокзала. Взгляните на эти заявления. Пока Локтева читала, Сергей Васильевич внимательно следил за ее лицом. Но оно было по-прежнему бледным, вызывающим сострадание. — Это подпись не Валентина, — сказала Локтева, прочитав первое заявление. — А второе, похоже, написано им. — Почему похоже? — Думаю, что такое заявление он не мог написать. — Но почерк его? — Почерк его. — Что скажете по поводу кольца? — Кольцо принадлежит моему мужу. В последний вечер перед исчезновением он принимал ванну, и я помогала ему мыть голову. Тогда я видела, что кольцо было у него на пальце. — Она вдруг закрыла лицо руками и с дрожью в голосе сказала: — Никуда он уехать не мог... Мотов знает, где Валентин, спрашивайте его. — Почему вы так думаете? — Мне так кажется. — Не волнуйтесь, Елена Николаевна. Мы все сделаем, чтобы найти вашего мужа. — Крахмалев налил воды, подал его Локтевой. Сделал отметку на пропуске, попрощался. Едва он уселся за стол, чтобы поразмыслить, как зазвонил телефон. Неизвестный, не представившись, попросил принять его по делу Локтева. Через несколько минут в кабинет вошел мужчина среднего роста, полноватый. Он назвался братом Валентина Локтева — Николаем. — Сегодня я получил странную телеграмму из Новосибирска, — сказал он. — Вот она. Текст телеграммы был следующий: «Омск не вернусь, все оставляю Елене, продай гараж, рассчитайся с Харчиным. Валентин.» — Кто такой Харчин? — Наш общий знакомый. Валентин занимал у него тысячу рублей на постройку гаража. — Вы знаете его адрес? — Да. Пятнадцатая линия, дом номер... — Что вы еще можете сказать о своем брате? — Мне абсолютно ничего не понятно. Валентин и слова не говорил о том, что куда-то хочет уехать. Жил с Леной хорошо, в дочке души не чаял... Долго еще беседовал Крахмалев с братом Локтева, подробно выясняя все необходимое для ведения следствия. Из производственной характеристики на В. Н. Локтева: «...принципиален, опытный специалист, дисциплинирован, морально устойчив, ударник коммунистического труда, командир ДНД, награжден знаком «Отличный дружинник», неоднократно поощрялся...» Прочитав характеристику, Крахмалев задумался: «Первое заявление — явная липа. Подпись не Локтева. Да и зачем Локтеву писать заявление об увольнении на машинке? Второе настораживает. Судя по материалам, Локтев давно мечтал иметь автомашину и вдруг — внезапно отказывается от нее. Если учесть, что в конверте находится обручальное кольцо, то можно предположить, что заявление написано Локтевым под угрозой. Вероятно, кольцо с него сняли силой. Возможно, над Локтевым нависла опасность. Эти два заявления — ход, которым «некто» пытается запутать следствие. Во-первых, если бы заявление принадлежало Локтеву, он написал бы его от руки, как и второе. Во-вторых, Локтев характеризуется и руководством, и женой как положительный, честный человек. Особых стремлений у Локтева не было, кроме мечты о приобретении автомашины, и этого «некто», вероятнее всего, следует искать в связи с ситуацией по приобретению автомобиля. Кто так или иначе связан в этом деле с Локтевым из известных нам лиц? Пока только один Мотов. Следует запросить на него характеристику и поближе с ним познакомиться» .4
Из характеристики Мотова: «...руководитель конструкторской группы, технически грамотен, исполнителен и дисциплинирован, сдает экзамены по кандидатскому минимуму, имеет авторские свидетельства на изобретения. В обращении с товарищами по работе корректен, вежлив. Друзей не имеет...». Справка о проведенных мерах розыска: «...Проверен аэропорт, вылет Локтева В. Н. из Омска не зарегистрирован. В Новосибирск прибыл работник уголовного розыска, изъял в почтовом отделении аэропорта заполненный бланк телеграммы Николаю Локтеву. Текст написан не его братом: почерк школьника. Бланк направлен на графическую экспертизу вместе с заявлениями, изъятыми из камеры хранения. Согласован вопрос с прокуратурой о возбуждении уголовного дела по исчезновению Локтева. Расследование поручено старшему следователю прокуратуры Галине Денисовне Груниной.» Прочитав вновь поступившие материалы, Крахмалев решил срочно встретиться с Галиной Денисовной. Он собрал лежащие на столе материалы в папку, заказал машину и вскоре уже был в прокуратуре. Пока Грунина знакомилась с материалами, Крахмалев думал о случившемся. Из головы не выходил Мотов. Созрела мысль: более тщательно изучить окружение этого человека. Вместе с Груниной они решили вызвать на допрос жену Мотова. Но предварительно послать в конструкторское бюро, где работал Локтев, сотрудников уголовного розыска с целью опроса сослуживцев Локтева и более детального ознакомления с его работой. — Галина Денисовна, как быть с Локтевой? Она звонит несколько раз в день, спрашивает, где ее муж. Вчера расплакалась по телефону и заявила, что его нет в живых. — Утверждать, что Локтева нет в живых, пока рано, хотя его смерть вполне вероятна. Локтевой о наших предположениях не говорить. Вы же знаете, Сергей Васильевич, что в нашей практике аналогичные случаи бывали. Теряет женщина мужа, проходит днейдесять, и выясняется, что все благополучно: заболел или уехал неожиданно в командировку. Так что от каких-либо категоричных предположений пока воздержимся...5
Сослуживцы характеризовали Локтева как хорошего товарища, честного работника. Вот одно из показаний — Кравцовой: «...Валентин Локтев работает со мной рядом. Веселый, жизнерадостный, доброжелательный и внимательный человек. Но, на мой взгляд, излишне доверчив. Первого апреля, как всегда, без пятнадцати девять я была на работе. Через некоторое время пришли все сотрудники нашего отдела. Не было лишь руководителя группы Мотова и Валентина. Часов в десять на работу пришел Андрей Павлович. Он был приветлив, учтив, жизнерадостен. Объяснил, что задержался в музыкальном училище. Поинтересовался, где Локтев. В тот же день после обеденного перерыва Андрей Павлович сказал нам, что на работе его не будет: крайне необходимо съездить в магазин и купить для автомашины огнетушитель и запчасти. На следующий день мы узнали, что Валентин Локтев домой не вернулся и его разыскивает жена. Андрей Павлович пошутил: «Валентин, наверное, куда-то укатил искать машину, а может быть, и молодую жену», — и рассмеялся». Жену Мотова, учитывая серьезность событий, допрашивал сам полковник Бубнов. — Мария Григорьевна, расскажите, пожалуйста, о своем муже. Мотова, женщина лет сорока, внимательно посмотрела на полковника, пожала плечами: — Мой муж — хороший человек, заботливый и внимательный семьянин. Он увлекается музыкой, играет на пианино, гитаре, поет. Дочь у нас тоже играет на музыкальных инструментах и поет. Живем хорошо, материально обеспечены. Семья дружная, сын посещает технический кружок. Летом все вместе ездим за грибами, на рыбалку или просто отдыхать на природу. Нередко я езжу с мужем на охоту. — Не заметили ли вы отклонений в поведении мужа первого апреля и в последующие дни? Мария Григорьевна немного помедлила. — Нет, ничего особенного. Утром рано ушел на работу. Домой вернулся поздно, так как ремонтировал машину. — В последующие дни он отлучался куда-нибудь? — Нет... Проводив Мотову, Бубнов перечитал протокол допроса, подумал. Ему показалось, что Мотова говорила неискренне, что-то скрывала. «Придется еще раз допросить ее через некоторое время». Зазвонил телефон. Один из сотрудников, связанный с розыском Локтева, попросил разрешения войти. Он принес протокол допроса преподавателя музыкального училища Петровой. «...В начале апреля в училище приходил А. П. Мотов, интересовался учебой дочери, беседовал со мной недолго. Это было утром. А совсем недавно пришел повторно и сказал мне, что попал в неловкое положение. В тот день, когда он приходил в училище, якобы исчез его сослуживец Локтев, и следственные органы ведут его розыск. Мотов попросил меня, чтобы я подтвердила при случае, что он первого апреля был в училище». «Опять этот Мотов, — подумал Бубнов. — Не слишком ли часто он мельтешит перед глазами?..» Полковник пригласил к себе Тумянина, которому была поручена работа по проверке конструкторского бюро и других связей Локтева. Из беседы с председателем местного комитета КБ: «...Локтева знаю многие годы. Вдумчивый, серьезный инженер. Мечтал приобрести автомобиль. В феврале этого года местком решил из своего фонда выделить Локтеву «Жигули». Но в конце марта неожиданно поступило анонимное письмо от имени фронтовиков и ветеранов завода о якобы неправильном действии местного комитета, и нам пришлось вновь пересмотреть решение по заявлению Локтева. Второго апреля местком вынес повторное решение, подтверждающее прежнее». — Григорий Викторович, доложите, что еще удалось выяснить? — Есть любопытные факты. Оказывается, жена Мотова вместе с мужем занимается стендовой стрельбой. Несколько лет тому назад на почве ревности стреляла в него на охоте, ранила. Этот факт друзьям и близким они объяснили как несчастный случай и вообще тщательно его скрывали. — Вот как! Кто же она, эта женщина, из-за которой произошел конфликт? — Некая Ласкина. Работает в объединении инженером. Живет с родителями, имеет десятилетнюю дочь. С мужем разошлась. — Нужно срочно вызвать ее на беседу. Зазвонил телефон. Бубнов поднял трубку. — Да?! Очень хорошо. Пропустите. — Он положил трубку. — Представляешь, Григорий Викторович, Ласкина, оказывается, здесь. — Вот как! — удивился Тумянин. — Опередила нас. Спугнули или сама решилась? — Посмотрим.6
Из заявления Ласкиной Л. В.: «Четвертого апреля я пришла домой поздно. Мама сказала мне, что приходил Андрей Мотов, долго меня ждал, был чем-то взволнован. На другой день он опять приходил к нам, но меня не застал. В воскресенье утром Андрей снова пришел и попросил оказать ему услугу. Он сказал, что у него на работе неприятность: следственные органы ведут допросы родственников, знакомых, сослуживцев, ищут Локтева Валентина, а тот, по его словам, уехал в другой город за автомобилем. Этот Локтев его большой друг. Он вроде бы попросил Андрея отправить по почте какие-то документы начальнику отдела Алтунину, а Андрей сделать это не может, так как находится под наблюдением. «Сделай ты, Лида, — сказал он мне, — отвези, пожалуйста, эти два конверта на вокзал и сдай их в камеру хранения, а шифр и номер ячейки сообщи Алтунину, вот его телефон». Зная порядочность Андрея, я согласилась ему помочь. После разговора с Алтуниным Андрей попросил меня слетать в какой-нибудь город и отправить оттуда телеграмму Николаю Локтеву. Я согласилась сделать и это. Андрей дал мне на расходы двести рублей, написал адрес Локтева. На мой вопрос, почему он сам не расскажет обо всем Локтевой и не отдаст ей документы, Андрей ответил: «Дал слово другу, не могу». Ответ его звучал искренне, я не сомневалась в его честности. Вечером я поехала на вокзал, положила пакет с документами в двести двадцать четвертую ячейку, закодировала шифром «Б» сто девяносто восемь» и сделала все, как просил Андрей: позвонила Алтунину, приобрела билет на ближайший рейс до Новосибирска. Прилетела в Новосибирск поздно ночью. В почтовом отделении аэропорта попросила незнакомого мальчика написать текст телеграммы, объяснив, что без очков плохо вижу. Отправив телеграмму, я взяла билет на обратный рейс и утром была в Омске. Вечером встретилась с Андреем. Он поблагодарил меня за услугу и остался доволен. Вчера вечером встретила соседку, которая работает вместе с Андреем, и узнала, что Локтев домой не вернулся. Все это показалось мне подозрительным, и я решила прийти к вам с заявлением...» Прочитав заявление Ласкиной, Бубнов откинулся на спинку стула и задумался. Нужно просить санкцию прокурора на задержание Мотова и производство обыска. — Пригласите Ласкину, — отдал он распоряжение. В кабинет вошла привлекательная молодая женщина. — Садитесь, пожалуйста, — сказал полковник. — Мы весьма признательны, что вы пришли к нам сами и сделали очень важное заявление. Я задержу вас ненадолго, всего на несколько минут. Скажите, какие отношения у вас с Мотовым? Она вскинула брови: — С Андреем Мотовым я познакомилась давно, почти десять лет назад, на вечеринке у общих знакомых. Он понравился мне своей обходительностью, эрудицией. В то время я тоже увлекалась музыкой, и у нас с ним завязались дружеские отношения. — Скажите, а вы знаете о том, что жена Мотова из ревности стреляла в него на охоте и ранила? Ласкина вздрогнула, и полковник понял, что она слышит об этом впервые. — Нет, я об этом ничего не знаю. — Знаете ли вы Локтева? — Нет, я с ним не знакома...7
На совещании у генерала было высказано мнение, что Мотова необходимо задержать в качестве подозреваемого. Грунина дала на это согласие. Решено было создать две оперативные группы для производства обыска в квартире Мотова и в гараже. К этому времени были проведены экспертизы заявлений и конвертов: графическая, почерковедческая, дактилоскопическая, а также исследования образцов машинописи. На допрос повторно была приглашена жена Мотова. — Мария Григорьевна, в прошлой беседе вы с нами были не совсем откровенны. Вы же образованный человек. Не мне вам объяснять, что бывает за дачу ложных показаний или отказ от них, — начал Бубнов. — Что вы имеете в виду? — Мотова обиженно поджала губы. — Вы, например, утаили от нас, что ваш муж, по вашим предположениям, изменял вам, находился якобы в интимной связи с некоей Ласкиной, из-за чего вы на охоте даже стреляли в него. Мотова побледнела. — Какая женщина не ревнует своего мужа. А насчет выстрела — неправда. Это был случайный выстрел. — Вы знаете Ласкину? — Да, я ее хорошо знаю. Было время, когда мы дружили. Потом Андрей стал проявлять к ней повышенное внимание. Я запретила ей бывать у нас. — Может быть, вы все-таки расскажете нам о том, как вел себя ваш муж после первого апреля? Она пожала плечами: — Ничего особенного в его поведении я не заметила... Из заключения почерковедческой экспертизы: «Я, старший эксперт УВД Чуриков, изучив представленные на исследование документы: заявление Локтева об увольнении с работы, напечатанное на пишущей машинке, и заявление об отказе приобретения выделенного ему автомобиля, — делаю выводы, что роспись на первом заявлении принадлежит Локтеву. Он же писал второе заявление...» Заключение экспертизы по исследованию машинописного текста: «Я, полковник милиции Щетинин С. Ф., изучив представленные на исследование документы: заявление Локтева об увольнении с работы, отпечатанное на пишущей машинке, и анонимное письмо о неправильном распределении местным комитетом профсоюза очереди на продажу автомобиля в личное пользование, — делаю вывод, что текст исполнен на одной и той же пишущей машинке, принадлежащей отделу, которым руководит Алтунин...» Группу оперработников, производивших обыск в гараже Мотова, возглавлял старший лейтенант милиции Летов. Из гаража были изъяты около сотни патронов от малокалиберной винтовки, книга «Автомобиль», пробитая пулей, мужская шляпа с небольшими бурыми пятнами, которая очень заинтересовала следствие и была срочно направлена на биологическую экспертизу.8
Повторный допрос Мотова начался ранним утром. Присутствовали Грунина и Бубнов. Перед этим выяснилось, что среди отпечатков пальцев, оставленных на заявлениях Локтева и анонимном письме, имеются и отпечатки пальцев Мотова. Из заключения дактилоскопической экспертизы: «...выявленные следы пальцев рук на анонимном заявлении о нарушениях при распределении автомобилей и на заявлениях Локтева об увольнении с работы принадлежат Мотову...» — Андрей Павлович, следствием установлено, что первого апреля вы встречались с Локтевым. Расскажите об обстоятельствах этой встречи? Где она проходила? О чем шел разговор? — Первого апреля с утра поехал в училище, где занимается моя дочь. Разговаривал с преподавателем Риммой Петровной об ее успеваемости. К десяти часам прибыл на работу и никуда больше не отлучался, Локтева не видел. — Хорошо. Назовите своих самых близких друзей и приятелей. — Ближе всех я с Валентином Локтевым. Приятелей много — все сослуживцы. — Вы были на квартире Алтунина, когда к нему позвонила неизвестная женщина? — Да. Об этом звонке мы подробно рассказали в райотделе милиции вместе с Алтуниным. Другого объяснения я дать не могу. — Как по-вашему, кто звонил Алтунину? Мотов качнул головой. — Откуда мне знать? — Почему в числе лучших знакомых вы не назвали Ласкину? Лицо Мотова как бы окаменело, он отвел глаза в сторону. — Какое это имеет отношение к делу? — Нам лучше знать, что имеет, а что не имеет. Когда вы в последний раз встречались с Ласкиной? — Точно не помню. Где-то дня три-четыре тому назад. — Где происходила встреча и о чем шел разговор? — Я приехал к Ласкиной домой... Как всегда, поиграл на пианино, спел несколько песен и уехал. — Знает ли ваша жена о встречах с Ласкиной? — Они хорошо знакомы. Но потом жена приревновала меня к ней. И я избегал встреч с Ласкиной. Грунина прервала запись и спросила: — Скажите, Мотов, правда ли, что ваша жена когда-то на охоте стреляла в вас? Мотов усмехнулся. — Ерунда, у нас с ней прекрасные отношения. Это случай. У нас же дети... — Вы хорошо знаете почерк Ласкиной? — вновь спросил Бубнов. — Конечно. — Тогда ознакомьтесь вот с этим заявлением. Мотов побледнел, как-то сник. Весь его внешний лоск будто ветром сдуло. — А что в нем? — Послушайте выдержки из этого заявления и поясните их нам. Может быть, вас оговаривают? Бубнов стал читать самые существенные места из заявления Ласкиной. И по мере того, как он раскрывал содержание заявления, Мотов клонился все ниже. Потом наступила томительная пауза. — Что же вы молчите? — Такой человек, как Ласкина, врать не способна. В заявлении написана правда. — Тогда объясните причины и цель ваших поступков. — Я сейчас не могу, я устал, расстроен... Дайте мне отдохнуть, сосредоточиться. — Отдохнете потом. Вы же понимаете, что семья Локтевых ждет домой мужа и отца. Где он? Мотов помолчал минуту-полторы, словно собирался с мыслями, наконец заговорил: — Точно не знаю. Одно могу сказать, что Локтев уехал. В прошлом году, когда мы с ним сошлись поближе, — а этому способствовали стендовая стрельба и охота, — Локтев рассказал мне, взяв честное слово, что не любит жену и имеет в Москве женщину, с которой тайно встречается. Эта женщина ему очень нравится. Он ее любит, тоскует о ней и жизни без нее не представляет. Беда лишь в том, что он очень привязан к дочери, из-за чего семью оставить очень трудно. Я пошутил над его секретом, сказал, что рано или поздно все станет на свое место. Тридцать первого марта утром Валентин пришел ко мне в гараж расстроенным и сказал, что надежда приобрести машину рухнула из-за анонимного письма, и он решил уехать. Я попытался его успокоить, отговорить, но Валентин стоял на своем, попросил помочь ему. Когда я спросил, в чем должна заключаться моя помощь, он сказал, что хочет уехать быстро и незаметно, не встречаясь ни с кем, чтобы не передумать. С этими словами он вручил мне два заявления и обручальное кольцо и попросил передать документы Алтунину, а кольцо — жене. Я выполнил его просьбу. — Почему вы не передали заявление прямо Алтунину, Елене Николаевне — кольцо, а разыграли фарс с телефонным звонком? — Я побоялся расспросов и не был уверен, что смогу удержать в секрете отъезд Валентина. — Вы считаете, что Локтев уехал в Москву? — Почти уверен, что он в Москве. — Он не дал вам московский адрес? — Нет. Бубнов подумал, взглянул на Грунину. Она молчала. Было видно, что вопросов у нее нет. — Объясните, пожалуйста, — начал снова Бубнов, — почему Локтев, передав вам заявления и кольцо, не уехал из Омска сразу? — По его словам, он боялся встречи с родными и знакомыми, боялся передумать. — Однако он ночевал дома и утром пошел на работу. — Не могу знать. Я рассказал все, как было. Возможно, он сразу не мог достать билет. Снова возникла пауза. — Андрей Павлович, — прервал ее Бубнов, — вы арестованы по подозрению в связи с исчезновением Локтева. Вот санкция прокурора. Мотов распрямился, пожал плечами. — Дело ваше, я сказал все. — Хорошо, отдыхайте, разговор продолжим. Когда Мотова увели, Бубнов спросил: — Каково ваше мнение, Галина Денисовна? Грунина задумалась. — Трудно сказать. Возможно, он говорит правду. — Как будем действовать дальше? — Нужно получить акт биологической экспертизы по исследованию шляпы, найденной в гараже. Снова побеседовать с Локтевой. По ее словам, она видела кольцо на руке мужа тридцать первого марта. Нужно спросить у нее, не видела ли она кольцо на руке мужа утром первого апреля и отлучался ли Локтев из дома после того, как помылся в ванной. Надо сверить отпечатки пальцев и спросить у Мотова, как попали отпечатки его пальцев на анонимное письмо...9
На совещании у генерала было отмечено, что следствие идет по правильному пути. Нужно иметь еще несколько фактов, чтобы добиться правды от Мотова. В его «честных ответах» сомневались все. Что-то настораживало работников уголовного розыска. Утром Бубнову позвонили. Результаты биологической экспертизы были готовы. На шляпе, изъятой при обыске в гараже, обнаружены следы человеческой крови, не принадлежащей Мотову. Бубнов решил еще раз его допросить, предварительно побеседовав с Локтевой. Елена Николаевна вошла в кабинет осунувшаяся, заметно похудевшая, с потухшим взглядом. Она поздоровалась кивком головы. «Не верит в нас, — подумал про себя полковник, — а ведь мы почти подобрались к главному. Причем всего за три дня». Он достал кольцо, положил на край стола. — Елена Николаевна, в прошлый раз вы заверили нас, что это кольцо принадлежит вашему мужу? — Да, это обручальное кольцо Валентина. — Вспомните, пожалуйста, такой момент: уходил ли куда ваш муж тридцать первого марта после того, как помылся в ванной? И было ли у него кольцо утром первого апреля перед уходом на работу? — Я уже говорила, что тридцать первого вечером, когда я легла спать, Валентину звонил Мотов. Я спросила у Валентина, кто звонил. Он сказал, что звонил Мотов по поводу поездки за брусникой. Вскоре я уснула и определенно сказать, уходил Валентин или нет, не могу. Но хорошо помню, что утром во время завтрака кольцо на руке у него было. Локтева достала из сумочки платок, вытерла глаза. — У меня такое ощущение, что в нашей квартире кто-то побывал после ухода Валентина. Документы, которые хранятся в общей сумке, лежат как-то не так, паспорта Валентина нет. А совсем недавно я обнаружила, что нет кинопроектора. — Могли бы вы вспомнить, был ли кинопроектор первого числа, когда вы ждали своего мужа? — Нет, я на это не обратила внимания. — Возможно, вы сами в расстроенном состоянии рылись в документах и переложили их по-другому, а не так, как обычно? — Не помню. Бубнов порылся в папке и вынул телеграмму, полученную из Новосибирска. — Ознакомьтесь с этой телеграммой. Локтева быстро пробежала по ней глазами. Взгляд ее остановился где-то в конце текста. — Это не его телеграмма. Валентин не так подписывался. Он всегда подписывался сокращенно: Валент, а здесь полное имя. — Спасибо, Елена Николаевна. Прошу вас подождать в вестибюле. Если не обедали, можете пройти в столовую... Мотов вошел бодрым шагом, не ожидая приглашения, сел на стул. Бубнов пытался поймать на его лице следы тревоги или волнения, но тот был спокоен. — А вы нам не все сказали, Андрей Павлович. У вас в гараже была найдена шляпа, на которой обнаружены следы крови человека. Группа этой крови вам не принадлежит. Как вы это объясните? Мотов даже чуточку усмехнулся. — Кто ее знает. В шляпе я многие годы ездил на охоту, а там все бывает. Мало ли кто из моих знакомых оставил эту кровь. — Ну хорошо. На анонимном письме, написанном в местный комитет вашей организации, обнаружены отпечатки ваших пальцев. Вот заключение экспертизы. Как вы объясните это? — Очень просто. Анонимное письмо печаталось на машинке нашего отдела. Может быть, бумага взята с моего стола. Андрей Иванович нахмурился. Казавшиеся неумолимыми улики разбивались, как волны об утес. — Резонно. И все-таки вы нас стараетесь водить за нос, Мотов. Есть маленькое несовпадение в ваших показаниях. Очень маленькое, но оно может вылиться в нечто очень большое. Вы сказали, что Локтев тридцать первого марта вечером передал вам кольцо и заявления. А вот жена его уверяет, что она видела кольцо на руке мужа перед уходом на работу первого апреля. Мотов ничуть не смутился. — Может быть, просто ей показалось, может быть, она путает числа. — Логично, но сейчас вы с ней встретитесь и постарайтесь уточнить... Мотов чуть-чуть побледнел. — А надо ли? Женщина в таком состоянии... — Ничего, мы вас в обиду не дадим. — Вот влип... — Мотов вытер лоб рукавом. — Верно говорят: «Не делай добра, не будет зла». Можно мне взять в камеру бумагу и карандаш? Если я что-то забыл, то на досуге вспомню и напишу. — Пожалуйста, — Бубнов протянул Мотову карандаш и несколько листков бумаги. Вошла Локтева и остановилась на пороге. Потом она вдруг бросилась к Мотову, вцепилась в его одежду. — Где Валентин? Куда ты его дел? Крахмалев, присутствовавший при допросе, с трудом удержал ее. — Успокойтесь, Елена Николаевна, — попросил полковник. — Скажите нам, когда в последний раз вы видели кольцо на руке мужа? — Утром первого апреля, когда он уходил на работу. Резал хлеб, и я точно помню, что у него было кольцо. — Он хлеб резал не только первого числа, но и до этого, — язвительно заметил Мотов. Локтева ожгла его злобным взглядом. — Я еще не сошла с ума! — Хорошо, можете быть свободной, Елена Николаевна. Когда Локтева вышла, Бубнов сказал: — И вы тоже. — Уведите, — кивнул он на Мотова. Вновь совещание в кабинете генерала. Как быть дальше? Мотов арестован как подозреваемый, и пока нет ничего конкретного, что могло бы подтвердить его виновность в исчезновении Локтева. Генерал внимательно выслушал доклады, мнения и предложил повторно осмотреть гараж Мотова. Утром полковнику Бубнову позвонил дежурный КПЗ старший сержант Низдрин и доложил, что на утренней прогулке к нему обратился Мотов с просьбой отнести записку своим родственникам. Обещал вознаграждение. Через некоторое время записка лежала на столе у полковника. «Кемеровская, № ... Мотовой М. П. и Петру. Здравствуйте, мои родные мама и Петя. Получилось все довольно нескладно. Я переживаю за вас. У меня все в порядке, я здоров и бодр. Крепитесь и обо мне не беспокойтесь. Петр, срочно сходи в гараж. В корпусе электродвигателя стеклоочистителя находится жетон о сдаче вещей в камеру хранения аэропорта на имя Желтова. Если жетон не найдешь, попроси его получить вещи по паспорту, и пусть он хранит их у себя. Там кинопроектор, а в нем, кроме свертка, есть заявление Локтева. Срочно его возьми, слетай в Москву и отправь на имя Алтунина. Обратно езжай поездом, следов не оставляй. Если сделать не можешь, записку не получал. Встретимся — все объясню. Андрей...» «Опять какая-то хитрость, или нервы у него сдали? Похоже, что сам в капкан лезет», — подумал Бубнов и сразу же позвонил следователю Груниной. Решили Мотову о записке пока ничего не говорить, а выяснить, кто такой Желтов, и ждать результатов повторного обыска в гараже. Из протокола допроса жены Мотова: «...Желтов — мой дальний родственник, проживает в Шербакульском районе, работает ветврачом. Не видела его более полугода...». Сообщение начальника РОВД Шербакульского района: «Желтов допрошен, в Омске не был более месяца, Мотова не видел больше года, никаких вещей в аэропорту не сдавал. Протокол допроса высылаю с нарочным...» По жетону из триста пятнадцатой камеры был изъят кинопроектор в упаковке. В свертке были обнаружены паспорт Локтева, 6200 рублей и заявление на имя Алтунина следующего содержания: «В связи с тем, что не имею возможности явиться для оформления увольнения, прошу документы выслать в Москву: главпочтамт, до востребования». Слова «начальнику», «подпись заявителя», «дата» отпечатаны на пишущей машинке, текст выполнен рукописно. Заявление было передано срочно на исследование. ...В кабинете полковника собрались работники прокуратуры и милиции. К этому времени была готова почерковедческая экспертиза и исследован машинописный текст заявления. «...Заявление Локтева, печатные слова выполнены на пишущей машинке отдела, где работали Локтев и Мотов. Рукопись и текст заявления написаны Локтевым. На заявлении обнаружены следы пальцев Мотова...» — Вроде бы многое прояснилось, — сказал Бубнов после короткого совещания. — Но заявления, написанные Локтевым, никак не вяжутся с предположением о его гибели. Даже если он жертва какого-то преступления. Решили вновь допросить Мотова. Допрос опять вел полковник Бубнов. — Как настроение, Андрей Павлович? Как отдыхалось? Что можете дополнить к нашему разговору? Мотов несколько осунулся, но голос его звучал бодро: — Какой там отдых! Всю ночь думал, как помочь вам быстрее выпутаться из этого дела. Может быть, вы направите меня со своим работником в Москву и там мы разыщем Локтева? Расходы я могу взять на себя. — Зачем такая щедрость? Если будет необходимо, мы можем сделать это за свой счет. Вы у нас брали бумагу... Ничего не написали? — Нет. Ничего дополнительного вспомнить не могу. — Он вдруг загорячился: — Что с моей семьей?! Ведь они беспокоятся?! — Успокойтесь, Андрей Павлович. Семья в курсе дела. Вчера мы беседовали с вашей женой. Пояснили ей, что вы находитесь под следствием. Возможно, это и недоразумение, но против вас есть кое-какие улики. — Какие улики? — Мотов увидел себя в зеркале. — Не мешало бы побриться, а то дома не узнают. — Какой бритвой вы бреетесь? — Электрической. — Пожалуйста, — полковник вынул из тумбочки электробритву. Мотов брился, а Бубнов незаметно наблюдал за ним. «Или чувствует себя невиновным, или у него железные нервы», — думал он. Мотов побрился, повеселел. — Эх, сейчас бы освежиться. — И это можно. И он подал пульверизатор. — Андрей Павлович, мы с вами встречаемся уже не первый раз. Где все-таки Локтев? — Да напрасно вы беспокоитесь. Оглядится на новом месте и объявится. — А кто такой Желтов? Мотов несколько стушевался, но тут же ответил: — Дальний родственник моей жены. — Когда вы с ним встречались? — Откровенно говоря, не помню. — Как же на его имя вы оставили вещи в камере хранения аэропорта, о которых написали в записке? Как в этих вещах оказались паспорт и заявление Локтева? Мотов заметно побледнел, лоб его покрылся бисеринками пота. Он встал, подошел к окну, потом опять повернулся к столу. — Я жду ответа, Андрей Павлович. — Я голоден, хочу есть, — неожиданно сказал Мотов. Полковник позвонил в столовую и попросил принести обед. Аппетиту Мотова можно было позавидовать. От двух порций рагу и четырех стаканов чая, внушительной горки хлеба ничего не осталось. Отряхнув с коленей крошки, он спокойно сел на свое место и поглядел на полковника. — Ну что же, всему бывает конец. Я еще сегодня ночью понял, что переиграл. Нужно было затаиться, притихнуть, но я не знал, какими данными располагает следствие. Короче, я не знал мелочей и боялся их, думал, что на мелочах попадусь, и это беспокойство толкнуло меня на неоправданные поступки. — Вы имеете в виду фарс с заявлениями и кольцом? — Да. — Это была ваша первая ошибка. — Вторую я тоже знаю. Не ожидал, что вы меня так быстро арестуете, и поэтому сдал в камеру хранения кинопроектор и деньги. Но здесь выхода у меня не было, так как по истечении нескольких дней контрольное время хранения кончилось бы и камеру все равно вскрыли. Дежурный мне показался парнем вполне пригодным, способным клюнуть на деньги... — Андрей Павлович, Локтев жив? — Локтева я убил нечаянно из малокалиберной винтовки. — Вы же утверждали, что он в Москве. — Утверждал по известной причине. — Хорошо, разберемся. Покажите, где его труп. — За сотню километров от Омска...11[35]
Перед выездом состоялась встреча с генералом, которому доложили о результатах последнего допроса. Генерал сказал, что у него была на приеме Елена Николаевна. Она очень расстроена, упрекает нас в медлительности. — Надеюсь, что ваша поездка поставит точку в этом деле. День был теплый, солнечный. Природа радовалась началу весны, а люди ехали за... трупом, ехали и молчали. На сто десятом километре Исилькульского тракта синий указатель показал, что вправо поворот на деревню Шеффер. Мотов попросил свернуть и вскоре остановил машину. — Здесь я захоронил своего лучшего друга, — показывая на полотно профилированной дороги, сказал он и всхлипнул. — Прямо на проезжей части дороги? — Да, потому что никуда не мог свернуть, была распутица. Он первый взял лопату и стал пробовать дорогу. Работники милиции также взяли лопаты и стали ему помогать. Более часа ковыряли проезжую часть, но ничего не нашли. Мотов вдруг перестал копать и сказал: — Я не могу вспомнить, в каком месте его закопал. Дело было ночью. — Вы, что, никаких отметок не оставили? — спросил полковник. — Нет, не до этого было. — Все же мне непонятно, Мотов, почему вы не пришли сразу к нам, коль произошел несчастный случай? — Побоялся, подумал, что не смогу доказать. Предполагал, что спрятать будет лучше. — Мы могли бы вам помочь в определении несчастного случая. — Тюрьма все равно была бы. — А вы бы хотели совсем без тюрьмы? — Как видите, хотел, но ничего из этого не получилось. Мотов вдруг начал тихонько петь. Голос у него был приятный, хорошо поставленный. Бубнов, послушав его, двинулся от дороги в лес, потом подозвал Крахмалева и велел поехать за дополнительной группой работников, для прочесывания местности. Неожиданно метрах в пятидесяти от места, указанного Мотовым, Бубнов заметил вытаявшую из-под снега бутылку с отбитым горлом и осторожно поднял ее. Он тщательно осмотрел бутылку и попросил эксперта найти возможные отпечатки пальцев. Другая группа работников милиции, начавшая прочесывать лес, обнаружила кострище, в котором видны были обгоревшие металлические предметы, подковки и замки от мужских туфель. — Товарищ полковник! — окликнул Бубнова эксперт. — В бутылке — остатки серной кислоты, а на внешней ее стороне следы отпечатков пальцев, очень похожих на отпечатки пальцев Мотова. — Это моя бутылка, — выслушав сообщение эксперта, сказал Мотов. — Кислотой я облил лицо Локтева на случай обнаружения трупа. Закопал его здесь, против бутылки... Начальник райотдела милиции Карлов пригнал из ближайшего колхоза трактор «Беларусь» с механической лопатой. Несколько взмахов ковша, и труп Локтева был извлечен. Бубнову, прошедшему фронт, видавшему немало смертей, многие годы проработавшему в уголовном розыске, стало немного жутковато. У многих, увидевших обезображенный труп, навернулись слезы. Заплакал и Мотов. Грунина и эксперт принялись за свое дело, составляли документы. — Что за кострище там в лесу? — спросил полковник Мотова. Тот размазал по лицу слезы. И как-то быстро успокоился. — В этом кострище я сжег одежду и обувь Валентина... После необходимых процессуальных действий труп Локтева направили в город для судебно-медицинского исследования, следом уехали и все остальные. Когда прибыли в Управление, обо всем доложили генералу. Он долго молчал, ходил по кабинету и курил, потом махнул рукой и с горечью сказал: — Погиб еще один хороший и честный человек не за понюх табаку, и мы были не в силах сделать что-либо... В приемной полковника ждала Елена Николаевна. Она почти бросилась ему навстречу. — Что с Валентином? Бубнов решил, что утаивать дальше правду нет смысла. Он попросил подождать минуточку, а сам, войдя в кабинет, вызвал медсестру и врача. Когда вошла Локтева, Андрей Иванович сказал: — Случилось самое тяжелое. Валентин погиб. Лицо Елены Николаевны стало белее бумаги. Она упала бы, если бы ее не поддержали. Обморок был долгим.12
На другой день утром результаты судебно-медицинского исследования были уже в Управлении. Заключение гласило следующее: «...Локтев убит выстрелом в затылок с очень близкого расстояния, калибр оружия 7,62, автомат или пистолет ТТ. Смерть наступила мгновенно...» «Эх, Мотов, Мотов, опять обманул, опять изворачивался. Выстрел в затылок, да еще в упор не может быть случайным. Значит, он умышленно убил Локтева, а это уже другое дело. Но каковы мотивы? Неужели только ради шести тысяч?» Мотова вновь вызвали на допрос. Внешне он почти не изменился. Был также спокоен. «Ну и выдержка, — снова позавидовал Бубнов. — А ведь убийца». Допрос вела Грунина. — Мотов, познакомьтесь с заключением судебной экспертизы. — Она протянула ему листок бумаги. Мотов прочитал заключение и побледнел. — Да, я нечаянно убил его, но не из малокалиберной винтовки, а из самодельного пистолета, который сделал давно, на всякий случай. Приходится много ездить на автомобиле, мало ли что... — Где этот пистолет? — Он спрятан во дворе дома моей матери. — Но это не все, Андрей Павлович, — вмешался полковник. — Выстрел произведен в затылок в упор. А как можно такой выстрел произвести случайно? К тому же Локтев значительно выше вас. Мотов опустил голову, помолчал, потом взбодрился. — Да, я убил его. Мы повздорили, а у меня в последние дни не совсем в порядке нервы. У нас в роду болели шизофренией. Возможно, это наследственность. — Хорошо, мы это выясним... Укажите, где лежит пистолет. Мотов рассказал, что спрятал пистолет под перекладиной сарая, завернув его в тряпку. Позднее пистолет был изъят. — Еще два момента мне не совсем ясны во всей этой неприятной истории. Откуда взялись заявления Локтева и как они к вам попали? Мотов печально усмехнулся. — Я сказал Локтеву, что смогу ему помочь в приобретении автомобиля на стороне, в воинской части. Но для этого нужны заявления об увольнении и выезде из города, на основании которых его фиктивно можно было оформить на работу в воинскую часть. Я его уверил, что о заявлениях никто не будет знать. — Значит, анонимное письмо вы писали для того, чтобы убедить Локтева: машину ему в организации не продадут. С целью получить от него эти заявления? — Да. — Значит, Мотов, вы уже тогда предполагали, что можете быть привлечены к суду за свой мерзкий поступок. Не рассчитали вы только одно: как бы преступник ни таил свои следы, как ни хитрил, рано или поздно, — на той или иной, самой махонькой, мелочи — попадется. Истина обязательно восторжествует... Эксперт-психолог признал Мотова вменяемым. Под давлением неопровержимых улик он рассказал, что ему очень нужны были деньги. Он якобы запутался в отношениях с женщинами, имел любовницу, фамилию которой назвать наотрез отказался. Первого апреля в восемь часов утра, по заранее намеченному плану, у себя в гараже Мотов убил Локтева из самодельного пистолета, воспользовавшись моментом, когда тот рассматривал охотничью карту. Суд приговорил Мотова к исключительной мере наказания.* * *
...Бубнов сидел в своем кабинете и смотрел на мокрые ветки тополя под окном. Почки уже набухали и скоро должны были раскрыться. На душе у полковника было тягостно, несмотря на успешное завершение трудного, необычного уголовного дела. «Откуда берутся Мотовы? Казалось бы, человек образован, культурен, имеет хорошую семью, работу, и на тебе — преступление, да еще какое?.. Пожалуй, все пошло от малой нечестности в жизни. Изменял жене. Запутался. А дальше пошло-поехало...» Телефонный звонок прервал тяжелые мысли...Михаил Божаткин ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «ДОРОТЕИ»
 Чесменская, 34
Чесменская, 34
Севастополь. Лето 1922 года. По пустынной, пыльной улице медленно идут трое молодых ребят.
— Может, вернемся, а?.. Попросим направление на завод или в коммуну? — снова предложил Тимофей Худояш.
— Надо бы сразу, а то неудобно, — пробасил Антон Чупахин.
— Неудобно, когда обувь жмет, но это нам, кажется, не грозит, — ответил Сима Цыганок, — и выставил вперед свой разбитый ботинок. — Да… Они уже вступают в стадию окончательного разрушения, — пробормотал он. — Ладно, побережем свои миллионы… Так вот, нет, у вас должного уразумения. Пользы своей осознать не можете…
— Это в каком же смысле? — задал вопрос Тимофей. В самом обыкновенном. Один мой знакомый…
Но где же тридцать четвертый номер? Я понимаю топить корабли, взрывать склады, но кому нужны уличные таблички, так сказать, путеводители для пилигримов в незнакомом городе?
Он остановился, оглядывая дома: краска поблекла и отслоилась, образовав пятна самых невероятных цветов, с крыш свисали листы железа — до указателей ли?
— Прямо хоть раскопки производи, — посетовал Сима. — Ага, вот есть одна!.. Что за черт! Эта Чесменская до самого Синопа тянется, что ли!.. Да, так я говорю, у одного моего знакомого — начальника уездной милиции из города Гайворона…
— А с папой римским ты незнаком? — спросил Симу Худояш.
— Пока нет, — невозмутимо ответил тот. — …Так вот, у моего знакомого, начальника уездной милиции из города Гайворона, экипировка была — закачаешься. Барашковая кубанка с красным верхом, желтые хромовые сапоги с ремешками у колен, галифе — во, — развел он руки чуть ли не на всю ширину. — Курточка — тоже из желтого хрома, а через плечо на ремешке маузер…
— Какой, двадцатичетырехзарядный? — оживился Антон. К сапогам с ремешками, к кубанке и ко всему прочему он был равнодушен, но оружие!.. Его «голубой» мечтой было иметь «маузер». И был же он у него, был! Когда вытащил из-под обстрела раненого командира взвода, тот подарил ему свой. Но пистолет пришлось сдать: не положен таковой рядовому красноармейцу. И сейчас у него не было никакого оружия, да и вообще он, так сказать, бывший красноармеец, как, впрочем, и его товарищи — Тимофей Худояш и Серафим Цыганок.
— Да вот он! — неожиданно воскликнул Сима.
— Кто, папа римский?
— Начальник милиции… Товарищ начальник, товарищ начальник! — окликнул Цыганок.
Человек обернулся, на нем все было такое, как только что рассказывал Сима: блестящие сапоги с ремешками у колен, желтая хромовая куртка, «маузер» через плечо на ремешке.
— В чем дело? — спросил тот и положил руку на колодку «маузера».
— Где тут Чесменская, 34?
— Никогда не думал, что кому то в голову придет искать уголовный розыск, туда обычно приводят. Вот он, — показал человек на небольшой приземистый дом и, повернувшись, зашагал вниз по улице.
— Что-то тебя твой знакомый начальник не очень радушно встретил, — съязвил Тимофей.
— Это не он, обознался. Впрочем, говорят, того шлепнули. Какую-то мзду с нэпачей получал… Ну, ладно, пошли!..
Скрипнула тяжелая, грязная дверь, открылся длинный коридор, в конце которого тускло светила лампочка. Затхлый воздух ударил в нос. Тимофей поморщился, а Сима весело воскликнул:
— Узнаю родные ароматы!
— Ничего себе — родные! — не удержался на этот раз и Чупахин.
— Как для кого… А мне пришлось и ночлежки, и тюряги хлебнуть, — с грустью сказал Сима, но тут же обрел свой обычный независимо-веселый вид.
Тимофея охватило чувство брезгливости, ему захотелось немедленно выйти на свежий воздух. А потом? Будь что будет, возвратит направление, поедет на родину, найдет там работу на заводе.
«Зря согласился, зря», — в который раз подумал он.
А Сима уверенно шел по коридору к небольшой загородке, из- за которой видна была голова дежурного по уголовному розыску.
— Товарищ начальник, разрешите доложить…
Тот посмотрел на вошедших воспаленными от бессонницы глазами:
— Вы что хотели, ребята?
— У нас направление к вам…
— Ну, это к начальнику. Второй этаж, шестой кабинет, — махнул дежурный рукой в сторону лестницы.
«Так и запишем: зачислить в штат»
В кабинете, на двери которого мелом было написано «Начальник СУР. т. Ковнер А. П.», царил полумрак. Сквозь щели закрытых ставень проникали солнечные лучи, и в них танцевали пылинки. Когда глаза привыкли к полумраку, они увидели человека с наголо обритой головой, сидевшего в углу комнаты за письменным столом. К столу около телефона были прислонены костыли. — Слушаю вас, товарищи, — сказал Ковнер глуховатым, ровным голосом. — У нас направление… — Так вы из пограничного округа! Звонили мне от туда, звонили. Сказали, что лучших комсомольцев направили. А ну, поворотитесь-ка, как говаривал Тарас Бульба, посмотрю, что вы за орлы! «Орлы» вытянулись по стойке «смирно»: слева Тимофей Худояш, невысокий, худощавый, похожий на подростка. Обмундирование, хоть и старенькое, стираное перестираное, ладно сидело на нем, яловые ботинки почищены, обмотки завернуты, как и положено по инструкции, «буденовку» он держал в руках. Рядом Сима. Ростом примерно такой же, но в плечах шире и, сразу видно, физически покрепче. На нем тоже армейское обмундирование, но все чуточку с отступлением от нормы: гимнастерка заужена, на ногах хоть и потрепанные, но модные узконосые туфли, вместо обмоток- старенькие краги. Над своими друзьями возвышался Антон Чупахин. Ему все было узко, все коротко: кисти рук далеко высовываются из рукавов, пуговицы на рубахе переставлены к самому краю. — Добре, сынки, добре!.. Как у вас со здоровьем ребята, а? — Какие могут быть болезни в двадцать лет! Тимофей и Антон промолчали, а Сима вдруг состроил страдальческую гримасу, схватился за живот, сказал первое, что пришло в голову: — Подагра проклятая мучает… — Серьезная штука. Ею в основном князья да графы страдали. А теперь, оказывается, графская болезнь на пролетариат перекинулась. Правда, она обычно в преклонных летах бывает, но у тебя, видать, особая форма. Смуглое лицо Симы порозовело, в иссиня-черных его глазах, из-за которых он и получил прозвище Цыганка, погасли смешливые искорки. — Так что же ты не лечишься? — улыбнулся Ковнер. — Так война была! — А она, ребята, и не кончилась, — сразу посерьезнел Ковнер. Давайте-ка сначала познакомимся, — и он разорвал пакет. — Я — начальник Севастопольского уголовного розыска Ковнер Алексей Павлович. Пока с вас хватит. Теперь посмотрим, кто из вас кто. Тимофей Иванович Худояш. Это вы? — взглянул он на Тиму. — Лет — двадцать, родился в Николаеве, комсомолец, служил в 41-й дивизии, в отдельном батальоне пограничной охраны, в отдельном морском отряде, в погранокруге. За участие во взятии Перекопа награжден ценным подарком Реввоенсовета. Все правильно? — Правильно, — подтвердил Тимофей. — Родители, родственники? — Мать погибла в восемнадцатом, во время восстания против немцев, отец работает на судостроительном заводе, брат Федор служит на канонерской лодке, «Красный Крым». Больше никого нет. — Говоришь, брат Федор… Федор Худояш? Встречался я с ним… «Так вот оно что! — мелькнула догадка у Тимофея. — Значит, Ковнер тогда Федора в тыл к белым направлял…». — Тимофей Худояш, значит, — словно что-то вспоминая, негромко проговорил Ковнер. — Слушай, а это не с тобой что-то в Одессеслучилось, что-то там с трибуналом? — Со мной. — А ну-ка, расскажи для полной ясности. Тимофею пришлось рассказать Ковнеру свою историю. Когда после ранения он выписался из госпиталя, по пути в свой батальон пограничной охраны зашел на Одесский привоз, чтобы обменять пайковую махорку на что-нибудь съестное. Там окликнул его довоенный товарищ, соученик по реальному училищу Жора Мичиган. Угостил хлебом, салом, порасспросил о житье-бытье, а когда узнал, что Тимофей классный пулеметчик, стал уговаривать дезертировать. Тимофей, догадавшись об истинном смысле этого предложения, согласился, успев предупредить о своем решении только одного человека — уполномоченного особого отдела ЧК военного моряка Федора Неуспокоева. Так он оказался в немецкой колонии, в которой врангелевские офицеры готовили восстание против Советской власти. Через батрачку ему удалось сообщить командованию своего батальона о выступлении белых, но при подавлении восстания единственный человек, знавший о поручении Тимофея — военмор Неуспокоев, был убит. И, захваченный в плен вместе с восставшими, Худояш предстал перед Ревтрибуналом как дезертир и предатель. Хорошо, нашлись люди, которые разобрались во всех обстоятельствах дела. — Вот теперь ясно… Антон Чупахин. Ну, брат, ты и вымахал! — покачал головой Ковнер. — А чо, в батю пошел… — Здесь указано — рабочий. Где работал? На дегтярном заводе. — И много вас там было? — Двое, я да батя. — Чем же вы занимались? — Как чем? Пни дергали, потом деготь гнали. — Во, пролетарий! — не выдержал Сима. — А чо! Мы даже забастовку устраивали. — То-то я смотрю — все телеги скрипят! — поддел Сима. — Ладно уж!.. — обиделся Антон и хотел что-то сказать, но Ковнер постучал пальцем по столу. — Участвовал в боях с белогвардейцами в составе Усть- Днепровской флотилии? — Да что там — участвовал: кочегарил на «Аграфене», да и все тут!.. На этот раз и Тимофей не смог сдержать улыбки: «Аграфена» — небольшой колесный пароходик, принадлежавший когда-то николаевскому купцу Шевалдину. Оказывается, и он был вооружен. — Награжден ценным подарком Реввоенсовета… — Точно. Это когда мы восставших кулаков тряханули. Вот он подарок-то! — вытащил Чупахин из кармана массивные серебряные часы. — Потом был под Перекопом… — Это вот вместе с ним, — кивнул Антон на Тимофея. — Только меня сразу же ранили, и провалялся я все время в мечети. — Потом служба в погранотряде… — Это уже после госпиталя, — уточнил Антон. — Хорошо! — и Ковнер взял последнюю бумажку. — Серафим Васильевич Майданович. Белорус? — Не знаю, товарищ начальник. Только… Зовите меня, как все — Цыганок. — Родился в Одессе… — Ничего подобного, — возразил Сима. — Я очаковец. Коренной. Мой предок вместе с запорожским атаманом Антоном Головатым на штурм крепости ходил, там и жить остался, — с гордостью сказал он. — А Одесса-мама оказалась для меня хуже мачехи… — Это почему же? — История эта, товарищ начальник, продолговатая и малость запутанная, но если позволите, я вам ее изложу… Тимофей эту историю слышал раз десять, и в расширенном и в сокращенном варианте, в зависимости от времени и состава слушателей. Но при каждом рассказе она обрастала все новыми и новыми деталями. «Что-то он поведает на этот раз?» — подумал Худояш. — Как поется в народной турецкой песне, — начал Сима, — мать, отец и сын жили весело. Отец ловил неводом рыбу, мать пряла пряжу, постреленок-сынишка пропадал на море. Но, как указывается в той же песне, изменчива судьба — отец однажды не вернулся с моря… Стала работать мать, да простудилась и отдала богу душу. Пришлось сынку-постреленку наняться кухаренком на «дубок» — так у нас небольшие парусные шхуны зовут. Но чем- то он не угодил шкиперу, — продолжал Сима. — Тот его по затылку, а кухаренок шкипера — кочергой. А так как дело было в Одессе, то пришлось бывшему кухаренку добывать себе средства к существованию на Дерибасовской. Подавали негусто, а есть, как вы знаете, нужно каждый день, так что мне всегда хотелось этого вечно прекрасного хлеба. А потом нашлись люди, дали и кров и стол, да еще к своему ремеслу приучили. В общем, неудавшийся кухаренок стал обыкновенным одесским жуликом… Революцию мы уголовники, приняли по-своему: стали грабить только буржуев. А потом даже решили организовать полк чтобы пойти на фронт. И организовали, и экипировались за свой счет, да еще как! У каждого маузер, финский нож, по две бомбы, одеты все в хромовые сапоги, хромовые куртки, кожаные фуражки. Дали прощальный бал в оперном театре и под командованием Михаила Исааковича Винницкого, известного больше как Мишка Япончик, наш полк двинулся защищать революцию от гидры капитализма. Под Вопняркой мы даже выбили петлюровцев из окопов. Но потом начала бить артиллерия, подошел бронепоезд, и по рядам нашего доблестного полка пронесся клич: «Братцы, даешь Одессу-маму!» Захватили мы санитарный поезд и драпанули на юг. По пути красноармейцы нас почистили. Нашего доблестного командира Мишку Япончика расстреляли в Вознесенске. Меня, же судьба привела в чудеснейший городок — Гайворон. Ах, какой это городок! Как только будет возможность — обязательно сменю свою фамилию на Гайворонский. Это не то, что Майданович, — звучит! Мне там было неплохо, очень неплохо, но в мою деятельность вмешалась милиция. Начальник хотел припаять высшую меру социальной защиты, да нашелся хороший человек. Между прочим, он тоже все время плечо потирал, как вы свои руки. Не только Сима, но и его товарищи заметили, что Алексей Павлович время от времени потирает кисти рук. — Это так… От старого режима осталось, — смущенно ответил Ковнер и снова потер руки. — У того тоже от старого режима: на заводе раздавило болванкой пальцы, а потом, в войну, осколком вот так, — показал Сима немного ниже локтя, — руку оторвало. И, понимаете, какое дело, руки нет, а раздавленные пальцы болят… — Фантомные боли, так врачи называют это явление — сказал Ковнер. — Руки или ноги нет, а поврежденное раньше место болит. — Понятно… Так вот этот человек — его Иваном Степановичем звали, заставил меня по-иному на жизнь взглянуть… С прошлым было покончено, решил я отдать все свои силы делу защиты Советской власти и мировой революции. Иван Степанович направил меня в Николаев к своему другу товарищу Калашникову. Только товарища Калашникова на месте не оказалось, а тут начали формировать отряд для поездки в Новороссийск, только что освобожденный от беляков. Ну и я попал в этот отряд. А там было такое, что на неделю рассказов хватит. В общем, побывал я и в Крыму, был и в партизанском отряде. Потом меня послали с донесением: в Новороссийск, где готовился десант для высадки в Крым. Я, конечно, был в десанте. После этого я с ними, — кивнул Сима на друзей, — в погранотряде служил, и вот теперь здесь… — Ясно. Только у меня вот еще какой вопрос. Ну, примем мы вас… Вы что, считаете это своим призванием, мечтали о работе в милиции? — Ответом было молчание. — А кем вы думали быть? Ну, вот ты, Тимофей? — Кораблестроителем, — без запинки ответил Худояш давно обдуманное решение. — А ты, Чупахин? — Бить гидру буржуазии до полной победы мировой революции! — Это у нас можно делать с таким же успехом, как и в любом другом месте. А ты, Майданович? Вообще-то Симу тянуло к машинам. Еще когда он был кухаренком на «дубке», то бегал на соседние моторные шхуны и часами наблюдал, как матросы ремонтировали двигатели. Потом бы научился бесшумно открывать любые замки, а уже на службе в погранотряде ремонтировал у всех часы, какой бы марки они ни были, да исправил в канцелярии покореженную пишущую машинку «Мерседес». Но он понимал, что сейчас говорить о своем пристрастии не время, и ответил: — Нас, наверное, послали сюда потому, что мы здесь нужны, так что, товарищ начальник, решайте, что нам делать… — В таком случае так и запишем: зачислить в штат, — улыбнулся Ковнер. — Только, если любите тихую жизнь, сразу скажу — берите направление обратно. Вы не будете знать ни отдыха, ни сна, вас постараются подкупить, вам будут угрожать… Да что там угрожать: несколько дней назад бандиты убили нашего сотрудника… И к самим себе нужно быть беспощадными. Мы не прощаем ошибок, а если работник нарушит дисциплину, превысит власть — по всей строгости закона. Ну, а со снабжением… Обмундирования не хватает, будете пока ходить в своем. По лицу Симы пробежала тень: рушилась мечта о хромовых сапогах с ремешками и о кубанке с малиновым верхом. Жить тоже негде, дадим ордер в гостиницу… — Кормить-то будут? — не выдержал Сима. — Кормить будут. Не очень сытно, но будут… Сейчас идите в красный уголок, минут через пятнадцать там начнется оперативное совещание. Ребята вышли, а Ковнер привычным жестом потер запястья, пододвинул к себе лист бумаги, на котором уже было написано: «Председателю исполкома Севастопольского горсовета от начальника уголовного розыска», и продолжал писать: «1. В уголовном розыске совершенно нет транспортных средств. Задолженность извозчикам: составляет несколько миллионов рублей, свои лошади находятся без фуража. 2. Сотрудники ведут полуголодное существование, так как главным продуктом питания является хлеб, который мы получаем нерегулярно. 3. Сотрудники не снабжены ни обмундированием, ни обувью и донашивают остатки собственного. 4. Не хватает оружия. Исходя из вышесказанного», — и дальше пошло сплошное «Прошу»… И знал, что ничего не получит, но писал с надеждой: а вдруг! В Крыму обстановка продолжала оставаться тревожной. На Украине урожай хороший, там теперь порядок. Как сообщают, в Поволжье тоже отойдут от прошлогоднего голода, а на Крым и в двадцать втором напасть за напастью. Весна выдалась сухая, всходы появились слабые. А тут саранча навалилась, все население было мобилизовано на борьбу с ней. Только справились с саранчой, как с Северной Таврии началось невиданное нашествие мышей. Две недели миллиарды зверьков сплошным потоком валили через Перекоп и Чонгар, их ничто не могло остановить- ни ямы, ни костры. Снова мобилизация всего населения. Собранного урожая хватит едва ли на месяц. А еще уголовники, остатки белогвардейцев, беспризорники, голод, проституция… Центральное правительство обещает оказать помощь, так ведь и там излишков нет. Нет, на помощь рассчитывать нечего. Хотя бы оружие получить да с частниками за транспорт рассчитаться… «Пошлю завтра», — решил Ковнер, пряча бумагу в стол.Задание
Цыганок, Тимофей, и Антон забились в угол небольшой комнаты, стены которой были увешаны лозунгами и плакатами. Многие из присутствующих в ней выглядели так, что не только Тимофей и Чупахин, но даже многоопытный в таких делах Цыганок не смог бы догадаться, что они сотрудники милиции. Обычные люди и одеты обычно, как большинство в городе. Рядом с друзьями сел молодой черноволосый парень в стареньком застиранном френче и синих диагоналевых брюках. «Тоже, наверное, комсомолец», — подумал Сима, и, когда, опираясь на костыли, вошел Ковнер, он прошептал: — А наш начальник на буржуя похож… — На буржуя! Скажет тоже… Да он двенадцать лет на каторге пробыл, в кандалах. Пять раз голодовку объявлял… Вон у него железо в кости въелось, все время растирает руки… А от карцеров ноги отнялись и глаза яркого света не выносят… Сима невольно опустил голову. Парень еще что-то хотел сказать, но Ковнер постучал по столу: — Внимание, товарищи! Начнем наше очередное оперативное совещание. В окрестностях города, около Максимовой дачи, появилась новая банда. Возглавляет ее, как нам стало известно, бывший врангелевский офицер Коловрев… — И откуда они берутся! — вздохнул кто-то. — Придется с вами, товарищи, провести краткий урок политграмоты, — сказал Ковнер. — За годы революции и гражданской войны почти вся буржуазия из Москвы, Петрограда, Киева и других городов перебралась сюда, на юг, под крыло Деникина и Врангеля. Многие уехали за границу, но немало отсиживается здесь, рассчитывая на скорые перемены. К осени двадцатого года в Крыму скопилось не менее полумиллиона буржуев. Все они — активные враги Советской власти. С Врангелем ушло вряд ли больше ста пятидесяти тысяч человек — это вместе с армией. Значит, в настоящее время в Крыму по крайней мере триста тысяч явных или тайных врагов. Триста тысяч! Вот питательная среда для банд, для контрреволюционных заговоров. И сейчас — банда Коловрева. Задача: разгромить, не дать уйти в горы. Вот эти товарищи — Алексей Павлович зачитал десятка полтора фамилий- поступают в распоряжение начальника секретно-оперативного отдела товарища Подымова. Операцию будете проводить вместе с летучим отрядом чека. Все, можете идти. — За мной, товарищи! — поднялся щегольски одетый человек, в котором друзья узнали незнакомца, указавшего им здание СУРа. Тимофей и его друзья подумали, что Ковнер скажет: «С вами пойдут еще трое комсомольцев», но Алексей Павлович ничего не добавил, и они продолжали молча сидеть. — Перейдем ко второму вопросу. Вы, товарищи, все знаете, мы об этом говорили не раз, какой страшный яд алкоголь. Но особенно он вреден в самогонном варианте. Видите этот плакат, — Ковнер показал на большой лист бумаги, на котором был изображен сизоносый пьяница и под ним надпись: «Самогон — яд!» Как, товарищ Деренюга? — Точно! Как только выпью — чувствую: отравляет он мне душу, — отозвался Деренюга. — Но дело не только в том. На производство самогона используются пищевые продукты, а вы знаете, как у нас обстоит дело с питанием… — На какое-то мгновение тишина воцарилась в комнате. Работники СУРа уже и забыли, когда они в последний раз наедались досыта, а если у кого еще семья… — Сегодня вам необходимо обследовать поселок на Зеленой горке. Старшим пойдет Кайдан. — Молодой человек, сидевший рядом с Цыганкам, встал. — Помощником у вас — Деренюга. — Кто-то хмыкнул. — Я понимаю ваше недоумение, но у Деренюги в буквальном смысле слова нюх на самогон. Производство самогона от него не укроется, он и по запаху, и по цвету дыма его определит. Ну, а уж вы сами следите, чтобы он не увлекался снятием проб. Так группа за группой уходили люди на задания, и вскоре красный уголок опустел. — Вы думаете, я о вас забыл? — повернулся к хлопцам Ковнер. Хмурое выражение его глаз сменилось молодым задором. — У меня к вам, товарищи, особое задание… Всех троих вас посылать на это дело нет смысла: вид у товарища Чупахина уж очень приметен. Вы, Чупахин, отправитесь в таможню, у меня давно они просят надежного хлопца. Что предстоит делать — там скажут. Вас, Тимофей и Серафим, никто не знает, так что задание подойдет. В город каким-то образом поступает из-за границы спирт, причем в больших количествах. Вот вам и предстоит узнать, каким образом он поступает в Севастополь, где хранится, какими каналами он идет к нэпманам. — Ох, эти нэпачи! К ногтю бы их всех… — не выдержал Сима. — Можно и к ногтю, сил на это у нас хватит. Да только… Нам сейчас недостает всего, буквально всего. Государство не может сразу удовлетворить потребности населения. А ведь где-то есть и продукты, и одежда, и другие товары. Вот через нэп мы их и вводим в оборот. Конечно, понятие новой экономической политики шире, сложнее, это лишь упрощенная схема. Во всяком случае, допустив свободу товарооборота, открыв дорогу частному предпринимательству, мы не можем пустить это дело на самотек. — Да знает он все! — вступился за товарища Тимофей. — Рассказывали нам о нэпе в погранотряде… — Тем лучше… Торговля открыта, торговля идет. Но кроме видимой, есть еще и невидимая. Ну, и контрабанда. Привозят все, что имеет особую ценность на рынке: духи, чулки, женское белье, кокаин. Переправляют через границу и валюту, и драгоценности, но это пока не ваша забота, вам — спирт. Но если нащупаете канал поступления других товаров — в сторону не уходите… И еще: за все платится, и не совзнаками, они и у нас в стране пока имеют невысокую ценность, а за рубежом тем более. Что идет взамен, каким образом? Видите, сколько вопросов! Так что не жалей те, что я вас не послал на другие задания, ваше — не самое легкое… — Тимофей это понял сразу, да и Сима слушал с необычной для него серьезностью. — Что самое обидное — помочь я вам мало чем могу. Человек я здесь новый и только осваиваюсь, до этого другим делом приходилось заниматься… Не стал Алексей Павлович Калашников, который свое партийное имя Ковнер сделал официальной фамилией, рассказывать ребятам, что он профессиональный революционер и почти постоянным местом его жительства до революции были централы и каторжные тюрьмы России. В период гражданской войны Алексей Павлович выполнял поручение партии по подбору и заброске подпольщиков и разведчиков во врангелевский тыл. — Дать вам в помощь я никого не могу — нет людей, а тем более опытных… — продолжал Алексей Павлович. — Сами разберетесь что к чему. Может, случай какой подвернется. Случай — вещь великая, но лучше всего, если его удастся организовать… Действуй те по обстановке, а на первый раз рекомендую побывать в кафе на Приморском бульваре. Вам, товарищ Майданович… Цыганок, — улыбнувшись, поправился Ковнер, может пригодиться знание уголовного мира… — Сима что-то хотел сказать, но Ковнер опередил его: — Понимаю, вы не миллионеры, вернее, с вашими миллионами заходить в кафе и рестораны не с руки. Сей час я вас познакомлю с комендантом. Он вас обеспечит… Чем, конечно, может. Человек он геройский, беляки за его голову большую награду назначали. Его отряд так Бушуйские копи взорвал, что не только Врангель, но и мы вот уже два года восстановить не можем…Комендант СУРа
С трудом перекинув через порог негнущуюся ногу, вошел человек огромного, прямо-таки исполинского роста, перед ним и Чупахин, наверное, спасовал бы. Он был одет в матросскую тельняшку, правый пустой рукав ее был заткнут за пояс черных флотских брюк. На голове, сдвинутая на затылок, чудом держалась бескозырка с длинными ленточками и надписью «Борец за свободу». Хотя броненосец «Борец за свободу», он же «Потемкин», ржавел в Южной бухте, моряк сберег ленточку. Через плечо на ремешке у коменданта висел маузер в деревянной колодке. Но не это привлекало внимание к матросу, а изуродованное шрамами лицо. Правый глаз моряка закрывал черный кружочек резинки. — Знакомьтесь, — наш комендант Борис Петрович Бугримов, бывший командор с «Потемкина», бывший красногвардеец, бывший партизан… — Что вы, товарищ начальник, все бывший да бывший. Рано еще меня хоронить! — Я же сказал, что комендант СУРа, — возразил Ковнер. — А это наши новые работники, комсомольцы… — Нет у нас обмундирования, — комендант сразу догадался, что от него требуется. — Они будут работать на особом задании, и об этом никто, кроме нас с вами, пока не знает… Ребят надо немного приодеть. Может, какие-то ботинки найдутся, штаны, ну и головные уборы. — А как? Под нэпманов? Или под блатников? — Нет, просто безработных ребят, только что демобилизованных из армии. Денег немного дать надо, Задание такое, что придется им кафе и рестораны посещать. Как видно, комендант был прижимист. Что поделаешь, должность такова — спрос велик, а обеспечение почти что на нуле. — Ладно, что-нибудь придумаем. И ребята зашагали за комендантом. Огромным амбарным ключом отпер замок склада, распахнул дверь. Помещение было почти пустым, только около стен стояли ящики с кучками одежды на них. — Тут у нас и склад, и камера вещественных доказательств, — пояснил Бугримов. — Выбирайте, кому что подойдет. Вшей нет, пропарили… Сима подобрал себе туфли с длинными узкими носами, так называемые «джимми»: носить их начали еще перед войной, но с появлением нэпманов они снова вошли в моду. Нашел почти новые, расклешенные брюки и темно-синюю курточку. Примерил и кепку с большим нависающим козырьком. Тимофею подошли крепкие тупоносые ботинки и черные брюки. Рубашку брать не стал, остался в гимнастерке — подозрений это не вызовет, полстраны ходит в военном или полувоенном. Из ящика комендант вытащил пачку денег. — Нате. Да расходуйте экономнее. Помните: деньги государственные. Нужно будет выпить или закусить — выбирайте, что подешевле… — Оружие бы… — Вы же тайные агенты! Если тайный агент берется за оружие — считай, что он сам труп и задание сорвано. — А если бандиты? — С бандитами вот чем надо, — потряс Бугримов огромным кулаком. — Вот ваш товарищ, что недавно у меня винтовку брал, наверное, их не боится. Конечно, вам… — и он скептически оглядел совсем небогатырские фигуры ребят. — Ну, это еще как сказать, — усмехнулся Сима. Тимофей ни драк, ни борьбы не любил и старался увиливать от занятий, которые проводил с пограничниками командир взвода — бывший цирковой борец. А Сима ни одного занятия не пропустил и так наловчился, что самого учителя укладывал на лопатки. Даже Антон не мог против него устоять и спасался тем, что ловил Симу в охапку и поднимал вверх. Да, не знал Тимофей, что это может ему пригодиться, к другому себя готовил. Впрочем, Тимофей завидовал и находчивости своего товарища, и неиссякаемому оптимизму, уменью сразу же сойтись с людьми. Вот и сейчас тот отпустив какую-то шуточку, отчего лицо коменданта расплылось в улыбке. — Где это вас? — спросил Сима, глядя на Бугримова и проводя пальцами по своему лицу. — Такое впечатление, словно вы в мясорубке побывали. — Да и было похоже на мясорубку… Зимой я здесь был, в лесах, — кивнул Бугримов в ту сторону, где, по его мнению, должны были находиться горы. Только теперь вспомнил Цыганок, где он слышал его фамилию: среди партизан Крыма о Бугримове ходили легенды. Командуя небольшой конной группой, в которой были отчаянные ребята, вооруженные в основном ручными пулеметами, он наводил ужас на белогвардейские гарнизоны. — Сделали мы налет на Бушуйские копи, откуда беляки уголь брали, — продолжал рассказывать комендант СУРа. — Копи взорвали, в стычке был я ранен и остался с пулеметом прикрывать отступающих. Когда у меня патроны кончились, наскочили белые… Стреляли, саблями рубили. Бросили — думали, что мертвый. А я — вот он!.. — Он зашагал по складу, вытащил из какого-то закутка почти новые тельняшки, дал хлопцам. — Нате! Штука теплая, пригодится. А как у вас с ночлегом? — Как у турецкого святого — под звездным одеялом. — Сейчас дам ордер в гостиницу, — комендант взял из стопки бумаги лист, размашисто написал несколько слов. — Вот! «Роскошно у них с бумагой», — подумал Тимофей, вспомнив газеты, отпечатанные на синей или серой бумаге, а то и на обратной стороне старых бандеролей. Однако на обороте и этой бумаги было что-то напечатано. Тимофей не смог сдержать возгласа изумления: это была листовка, на которой помещался портрет коменданта СУРа, только без повязки, и текст, оповещающий, что «правительство Юга России» назначает награду за «большевистского бандита Б. П. Бугримова, если он будет доставлен в контрразведку живым или мертвым». — Не успели расклеить, улепетывать пришлось, — прокомментировал Борис Петрович. — Да и дешево они меня оценили… — О таком я только в книжках читал, — признался Сима. — А тут — наяву. Это откровенное восхищение, а может быть, и секретное задание, полученное ими от начальника, расположили коменданта к друзьям, и он решил оказать им еще услугу. Человек в душе добрый, Бугримов старался не показывать этого и потому говорил отрывисто и вроде бы сердито. Вот и теперь, не пригласил, а приказал: — Идемте-ка! В углу двора, среди густо разросшихся кустов дерезы, показал на металлическую решетку, закрывающую водосток. — Вот там защелка, отодвиньте ее и поднимите решетку. Здесь и проходите, если срочно потребуется… А то с парадного хода — какие же вы агенты будете? Сима первым спрыгнул в яму, отодвинул защелку, приподнял заграждение и нырнул вниз. Тимофей — за ним. Они очутились на склоне, спускающемся к Большой Морской улице, в зарослях дерезы и боярышника.Таверна «Рваные паруса»
На приморском бульваре друзья нашли невзрачное строение с брезентовой крышей. Как видно, хозяин не особенно стремился к рекламе — на ржавом листе железа только и было написано: «Кафа Мкртчн». Но так как рядом стоящие шесть согласных произнести было просто невозможно, кто-то смилостивился и между «ч» и «н» вставил сверху букву «я». — Черт, пока выговоришь, язык штопором скрутится, — проворчал Сима. Однако какой-то романтик, не удовлетворенный прозаической вывеской, нацарапал углем на двери: «Таверна „Рваные паруса“». — Ну вот, это я понимаю! — щелкнул по надписи Сима и открыл дверь. В помещении царил полумрак, только у стойки было несколько светлее от небольшого окошечка. Пахло пищевыми отходами, застарелым табачным дымом и спиртом. На стойке стоял мужчина, женщина протягивала ему бидон, но, как только скрипнула дверь, она опустила руки. Ладно, после вымоем… — сказала она. — Что хочешь? — крикнул мужчина. — Напиться зашли. — Закрыто! — Ну, куда же нам теперь? Напоите жаждущих странников. Человек спрыгнул со стойки, буркнул что-то и ушел за перегородку. — Так что вы хотите? — спросила с легким кавказским акцентом женщина, в полумраке лицо ее ребята не могли рассмотреть, только и заметили большую шапку волос и огромные глаза. — Синьора, — галантно начал Сима, — вы рождены, чтобы пленять людей, сводить их с ума. Но мы не можем рассчитывать на вашу взаимность по многим причинам, одна из которых перманентная нехватка дензнаков. — У меня еще уйма работы до открытия, говорите скорее, что вам надо, — улыбнулась женщина, хотя в глазах ее мелькнул тревожный огонек. — Дорогая… — облокотился на стойку Сима. Тимофей, видя, что Цыганок не торопится уходить, прислонился к металлической колонне. И странно — на улице стояла жара, от полотняного верха, от стен тянуло зноем, а колонна была холодной. Обыкновенная металлическая колонна толщиной вершка в три, по-видимому, из трубы, уж она-то должна была бы прогреться за день, а тут… И Тимофей пощупал ее рукой — холодная. — Думайте быстрее, мне некогда! Из-за перегородки выглянул мужчина. — Ситра нада? — спросил он. — Не нада? Дай им киндербальзам! — и снова скрылся. Женщина налила по полстакана какой-то желтоватой жидкости, подала друзьям. Тимофей хлебнул и задохнулся — жидкость была необычайно крепкой, с сильным, неприятным запахом. Сима выпил все, вздохнул, спросил вежливо: — Сколько? Уплатил и направился к выходу. Женщина последовала за ним. Ей вдогонку что-то сердито по-армянски крикнул мужчина. Когда ребята вышли, за ними громыхнул засов. — Вот так киндербальзам! — покачал головой Сима. — Спирт с самогонкой. Тима ничего не смог ответить, он никак не мог отдышаться. — Знаешь, — наконец начал он, — колонны у них какие-то странные. — А ты что хотел, чтобы в такой таверне все было нормально? Нет брат, там кругом тайна. Тайна в колоннах, таинственна эта женщина, а хозяин с непроизносимой фамилией начинен тайнами до самого кончика своего феноменального носа. Он может быть и честным торговцем, может быть и контрабандистом, может и ворованное принимать, а при случае секир-башка сделает. Кругом тайна, Тима, кругом… В гостинице по ордеру они получили большую пустую комнату. Уставшие друзья сразу же легли на пол и заснули.Вечер в «Нафа»
Слушайте, граждане, да их тут больше, чем сейчас дензнаков в Крыму, — воскликнул Сима. — Нет, я не в состоянии один прокормить столько!.. — Он вскочил с пола, снял рубаху, встряхнул ее. Из нее посыпались клопы. — Вот наголодались, даже днем орудуют. Тимофей тоже давно чувствовал зуд по всему телу, но занятый своими мыслями, не придал этому значения. — Слушай, Цыганок, а что если они в этих колоннах и хранят спирт? — сказал он. — Думаешь? А то! Заклепал снизу, сверху сделал крышку, и ни один черт не обнаружит, хоть сотню обысков произведи. — Когда мы зашли, этот Мкртчян стоял на прилавке, а женщина хотела подать ему бидон… — Я тоже это заметил, да сразу не сообразил, что к чему, — согласился Сима. — Для нас-то главное не то, у кого и как хранится спирт, а как он поступает. Но все же начальнику об этом доложить надо. — И еще одно мне в голову пришло, — продолжал Тимофей, — нельзя нам в этой гостинице оставаться. Вдруг кто-то заинтересуется: что, мол, за люди. А как узнают, что мы живем по ордеру уголовного розыска, тогда нам и показаться никуда нельзя будет. — Смотри-ка, парень, каков ты — соображаешь. Из гостиницы мы завтра уйдем. Я бы и сегодня сбежал, да куда? Ночь скоро. Ух, придется этих шестиногих тигров еще раз кормить, — и Сима содрогнулся. — А сейчас снова пойдем в эту таверну, посмотрим, что там и как. Вечером «кафа» выглядела привлекательнее. Яркий свет от нескольких ламп, аккуратно застланные скатертями столы. Между ними прохаживалась хозяйка в кружевной наколке и белом переднике, принимала заказы. Теперь ребята ее хорошо разглядели: она была очень молода, огромные голубые глаза на смуглом лице придавали необычайную прелесть девушке. Впрочем, рассматривал ее только Сима, а Тимофея больше интересовали бутылки с яркими этикетками, обилие закусок, дорогие папиросы. «Откуда что берется!» — вздохнул он. Они сели за стол. Девушка их узнала, подошла. — Что вам угодно? — Мадам, дайте что-нибудь хорошее. Только не тот бальзам, которым вы угощали нас утром. Для наших молодых организмов он несколько, так сказать, резковат. — У нас выбор большой, можете найти по вкусу. — Моя мама по праздникам угощала меня черно-смородиновой наливкой. Нет ли? — Найдется. А закусить что? — А что вы можете предложить? — Вот, пожалуйста! — она подала меню, самое настоящее меню, отпечатанное на машинке. Правда буквы стояли вкривь и вкось, текст из-за сбитой ленты едва был виден — но все же! А какие соблазнительные там были вещи! И копченая кефаль, и знаменитая черноморская барабулька, и зайчатина. Но цены!.. Ребята помнили наказ коменданта тратить экономно и заказали самое дешевое — пудинг. Через пару минут все было на столе. Все честь по чести: бутылка запечатана сургучом, цветная этикетка. А на тарелках что-то розовое, студенистое. — Это еще что за фаршированная медуза? — ковырнул Сима закуску вилкой. — Пудинг, как вы заказали. — Что хоть оно такое? Девушка улыбнулась снисходительно, но объяснила. Сима вздохнул и открыл бутылку. Налили по рюмке. Цыганок выпил и скривился. — Тот же спирт, только смешан с какой-то сладкой дрянью. Ладно, не подавай виду… Маленький оркестрик — скрипка, бубен и мандолина — играл танго. — Хорошо тут у вас, — сказал Сима хозяйке, когда она проходила мимо. — Да и женщина вы, видать, душевная. Не могли бы вы нам услугу оказать? Демобилизовались мы. Миллионов наших хватит на несколько дней, а дальше? Работенку бы какую… — С такими вопросами надо в ревком. — Были. Послали на биржу. А там и без нас народу хватает. — А что вы умеете делать? — Я — все, — заявил Сима, — а мой товарищ на все согласен. — Ничего не могу вам сказать. Зайдите завтра… Когда она отошла, Сима тихо сказал Тимофею: — Но ты обрати внимание на колонны, ведь они ничего не поддерживают, не доходят до крыши, брезент висит на перекладинах… Так что твоя догадка, возможно и правильна… Кафе между тем стало наполняться народом. Многие были знакомы между собой: здоровались, обменивались фразами, подсаживались к столикам, о чем-то шептались. — Слушай, Цыганок, ничего мы здесь не узнаем, только государственные деньги напрасно потратим, — вдруг сказал Тимофей. — Ну кто сейчас им что принесет? Это делается или поздно ночью, или днем. Нужно просто установить наблюдение за кафе, и все. — Может, ты и прав… — ответил Сима. — Но все равно, давай посидим еще немного — интереснейшая публика начинает идти, да еще как — косяком! А публика, действительно, начала меняться: нэпманы уходили, стали появляться подозрительные личности. Вихляющей походкой прошла мимо столика молоденькая девушка, за ней, закусив папиросу и презрительно прищурив глаза, неторопливо шел молодой человек в живописном наряде: обтянутые в бедрах и сильно расклешенные книзу брюки, коротенький пиджачок, называемый попросту клифтиком, цветастый платок на шее, фуражка-капитанка с синим верхом и квадратным лакированным козырьком. Он поманил пальцем хозяйку и, когда та, бросив все, подошла к нему, молча показал на пустой столик. Женщина что-то спросила, парень кивнул головой. — Эх, тряхнуть стариной, что ли! — оживился Цыганок и, пригладив свои непокорные волосы, встал, направился к столику, за который только что села парочка. — Позвольте пригласить вас, мадам, — обратился он к девушке. Девушка взглянула на Симу, затем на своего спутника, согласилась. Сима выкидывал такие курбеты, что посетители таверны «Рваные паруса» один за другим прекращали танцевать и смотрели на него и партнершу. А один восторженный зритель даже зааплодировал: — Ай да Любка, ай да молодец! Кончился фокстрот, оркестр заиграл начинавший входить в моду чарльстон. Тимофеи заметил, что спутник Любки то и дело косо посматривает на танцующих, но Сима или не видел этого, или не хотел видеть. И вдруг парень вскочил, ударил кулаком по столу, крикнул: — А ну, тихо! Это было так неожиданно, что даже оркестр замолк. — Граждане, что случилось? — удивленно, с блатным акцентом спросил Сима. — Почему тишина? — Я сказал — тихо! — снова крикнул парень и для убедительности ударил ладонью по столу еще раз. — Но моя дама танцевать хочет! — невозмутимо ответил Сима. Парень схватил девушку за руку, дернул к себе: — Любка, на место! — Что такое? — воскликнул Сима. — Что я вижу? Я вижу, что честному гражданину не дают возможности повеселиться! — А вот что такое! — парень резко вырвал руку из кармана, в ней сверкнул нож. Все ахнули, но случилось неожиданное — ноги парня вдруг описали дугу, и он упал на пол возле стойки. Нож выскочил из руки. Сима поднял его, небрежно бросил на стол. Парень поднялся и снова рванулся к Симе. Но Цыганок сделал выпад в сторону и ударил его по шее. Тот упал на соседний столик, опрокинул его и растянулся на полу. Сима посмотрел на парня, на притихших посетителей, с усмешкой сказал: — Вставай, а то простудишься… И когда тот поднялся, протянул расческу: — Причешись!.. Тебя как звать-то? — Михаил… Мишка Сом. — Ну, а меня — Сима Цыганок. Так вот, твой тезка Михаил Исаакович Винницкий, известный больше под именем Мишки Япончика, всегда говорил: «Не можешь — не берись, а своих вообще не трогай…» Не знал? — Ты что, видел Япончика? — Видел! Да я с ним несколько лет от одной коровы молочко пил. Я с ним до самой смерти… Э, да что там!.. Ты уж извини, что так получилось. — Ты же порядок должен знать! — Ладно, больше твою зазнобу не трону, — великодушно сказал Сима. — Держи! Сом пожал протянутую руку. — Перышко мне оставишь, — кивнул Сима на нож, — Пользуйся… Да, а как ты здесь очутился? — сузил глаза Сом. — Долгая история. Все рассказывать — придется десятка три городов вспомнить, а разных событий — и того больше. — А вкратце? — Можно и вкратце. Засыпался. Грозила «вышка». Прикинулся раскаявшимся, был отправлен на фронт, потом служил в армии. Вот демобилизовался и прочно сел на мель. — Что же ты делать собираешься? Сима пожал плечами. — Может, старые друзья подвернутся, помогут, Ты со своими не познакомишь? Сом смерил взглядом Цыганка. С ног до головы, парень ему в общем-то нравился, но обида за поражение не прошла, и потому бросил сквозь зубы. — Посмотрю, посоветуюсь… — и направился к Любке. — Нужно тебе было с ним связываться! — упрекнул товарища Тимофей, когда тот сел за свой столик. — Там у них один закон — сила. Чувствую я, придется нам с Сомом и его дружками столкнуться. А теперь я у них не только за своего сойду, но и буду не в числе последних. — Последних! Пырнет он тебя из-за угла… — Ну нет, своего так не положено… — Будет тогда — не положено, — не сдавался Тимофей. — Так что же мы будем делать? — Если Сом решит взять нас в свою компанию — надо идти. Но пока нужно и самим меры принимать. Попробуем завтра проболтаться целый день здесь, хотя трудно предположить, чтобы этот носатый зверь, — кивнул он на суетившегося около прилавка армянина, — был так прост, чтобы на виду получать банки со спиртом. Кафе постепенно стало пустеть. Направился к выходу Сом, кивнув на прощание Симе и Тимофею. Любка, которая шла за ним, приветливо улыбнулась Цыганку. За столиками остались только сильно захмелевшие посетители. Один из пьяных все время пытался затянуть какую-то песню:«Кудой в Одессе не пойдешь,
Тудой ты выйдешь прямо к морю…»
Морской вариант
К утру сырость и ветерок с моря так прохватили друзей, что они вскочили до рассвета. — Не умей дрожать — замерз бы, — воскликнул Цыганок, размахивая руками. — Слушай, пойдем в угрозыск, пока улицы пустынны. Там доложим обо всем Ковнеру. На этот раз путь им показался короче: шли они не от вокзала, а от базара, да и дорогу уже знали. — Значит, явились, — встретил их Ковнер. — По вашему виду нетрудно догадаться: предположений у вас хоть пруд пруди, а результатов никаких… Настроение у Алексея Павловича было отвратительное: засада не дала результатов — банда Коловрева ушла. По пути налетела на село около Максимовой дачи, разгромила ревком, уничтожила его работников. Лежат сейчас во дворе чека четыре изуродованных трупа, после обеда будут хоронить. Прощальные речи, тройной салют из винтовок… Однако перед Худояшем и Цыганкой Ковнер своего настроения не показал. Он сидел на табуретке и продолжал делать физзарядку: с усилием, морщась, сгибал в коленях и слегка приподнимал ноги, затем пытался вытянуть их. Рядом на полу лежали костыли. — Рассказывайте, не обращайте на меня внимания… Эта привычка у меня еще с той поры осталась. Когда сидишь в одиночке и знаешь, что для тебя только два пути — или виселица, или Сибирь, нужно постоянно тренировать тело и дух. Иначе сумасшедший дом… Вот и приучил себя к физзарядке. Ну, что там у вас? Цыганок кратко рассказал о стычке с Мишкой Сомом, о его обещании познакомить с кем-нибудь из своих, о вспышках света в море и о предположении Тимофея, что в металлических колоннах, которые ничего не поддерживают, хранится спирт. — Мы думаем, что контрабанда поступает с моря. Там надо ловить… — Ловить-то, дорогой мой, нечем. Врангель увел все, что могло на воде держаться. Остался у нас один, так называемый, истребитель с моторчиком от автомобиля «пежо», делает он от силы пять узлов. А ход у самой паршивой греческой шхуны вдвое больше. Придет время, мы и близко к своим берегам никого не допустим, а сейчас… Давайте разберем наши варианты. Пренебрегать знакомством с Мишкой Сомом не следует, тут могут быть далеко идущие последствия. Но насколько нам известно, он сам ничего не решает, верховодят в преступном мире другие. Резервуары? Можно, конечно, их изъять, но это только насторожит вашего Мкртчяна, а заодно и тех, кто ему спирт поставляет. — Значит, нужно следить за морем? — Это, пожалуй, самый лучший вариант… Вот что, около базара живет рыбак Чебренко, Харитон Пименович, или просто дед Хапич. Разыскивать его вам долго не придется — человек заметный: борода вот такая, — опустил руки ниже пояса Ковнер, — и левой ноги нет, ходит на деревяшке. Ковнер замолчал, нагнулся, поднял костыли, но продолжал сидеть на табуретке. — Харитона Пименовича поищите в Артиллерийской бухте, там его лодка стоит. Познакомьтесь с ним, заделайтесь рыбаками, тогда ваш интерес к морю не вызовет подозрения. У меня до окончания операции не появляйтесь, что потребуется — скажите деду Хапичу, он передаст. Вот все, идите. Впрочем, позавтракайте в нашей столовой, только что открылась… — Ковнер постучал костылем в пол. Через минуту в кабинет вошел дежурный. — Покормить надо людей. Что у нас сегодня? — Ячкаша. — Ну что ж, ячмень — очень питательный продукт. Очень… На голодный желудок все вкусно. Ребята расправились с кашей молниеносно и, покинув угрозыск, направились к морю. — Придется нам стать рыбаками, — с нотками разочарования протянул Сима. Тимофей молчал. Он тоже был не очень доволен таким оборотом дела. Вступить в открытый бой с врагом, как было на фронте да и на охране побережья под Одессой, на худой конец, скрываться, выслеживать врагов — это он понимал. Но вот так… Один вечер просидели в кафе и фактически без толку. Теперь надо рыбу ловить, а Тима к этому никакого пристрастия не имел, он даже на бычков со своими друзьями в детстве ходил с неохотой. В Артиллерийской бухте было пустынно, зато в море маячило с десяток лодок. — Подождем! — решили ребята и пошли бродить по базару. Базар кишел народом. Торговали всем — от рваных опорок до шампанского. Друзья приценились кое к чему, в основном из съестного. Цены круглые: хлеб — 200 тысяч рублей за фунт, картофель -100 тысяч, яйца — 700 тысяч десяток, а масло — ровным счетом миллион рублей за фунт. Это — советскими денежными знаками. Но на базаре можно было увидеть и царские кредитные билеты, и деникинские «колокола» — тысячерублевые купюры с изображением Царь-колокола, иврангелевские коричневые бумажки пятисотрублевого достоинства, и даже «грузбоны» денежные знаки, выпущенные в свое время меньшевистским правительством Грузии. Как видно, кто-то на что-то еще надеялся, и каждые ценились по определенному курсу. Вот только «керенки» Временного правительства и «карбованцы» Центральной рады шли ни во что. В неразрезанные листы «керенок» хоть можно что-то завернуть, а «карбованцы» и на это не годились. — Может, кутнем, а? — с усмешкой спросил Сима. — Ладно уж, вчера кутнули… Пошли на берег, вон рыбаки возвращаются.Дед Хапич
Одна за другой подходили к берегу лодки. Их тут же окружали торговки. Шум, гам, ругань… Цыганок и Тимофей внимательно приглядывались к рыбакам, боясь пропустить нужного им человека. — Идет!.. — вдруг воскликнул Сима. Действительно, на очередной лодке подходил рыбак с могучей бородищей. Его, как и других, сразу окружили перекупщики. — Хапич, я у тебя все заберу! — выкрикнула какая-то женщина. — А чего ты? — возразила вторая. — Я тебе, дед Хапич, дороже дам! Между торговками началась перепалка. Рыбак причалил лодку, вылез из нее прямо в воду, ребята еще раз убедились, что это именно тот, кто им нужен: вместо левой ноги из брезентовой штанины выглядывала деревяшка. Он поставил на берег корзины — одну с рыбой, другую с креветками, осмотрел окруживших, затем окликнул одну, стоявшую поодаль его женщин. — Ксюша, иди сюда! Сегодня ее очередь, а ну, марш отсюда! — прикрикнул он на остальных. Подошедшая женщина даже раскраснелась от радости. — Креветки все бери, — распоряжался Чебренко, — да смотри, не продешеви, а то я знаю тебя, уж очень сердобольна. Рыбы тоже возьми, да не всю продавай, себе оставь. Как Петька-то? — Уже, слава богу, лучше. На улицу стал выходить, есть просит. — Смотри, береги парня. Теперь мужики, ох, как нужны будут, — полушутя-полусерьезно говорил он, отбирая женщине из корзины рыбу. — Ну, а это я себе оставлю, так как она пойдет за полцены, а покопчу да повялю — озолочусь. Неплохой сегодня улов был, неплохой… Да ладно, ладно тебе с деньгами, вот выторгуешь, тогда и отдашь… А Петьку пришли ко мне, на рыбалку с ним сходим. Когда все разошлись, рыбак стал вытаскивать лодку на берег. Сима и Тимофей молча подошли, помогли. — Берите по паре рыбешек за помощь. Сварить-то, надеюсь, сумеете сами, — сказал Чебренко, заматывая цепь за трубу, вбитую в землю. — Вы — Харитон Пименович Чебренко? — Допустим, — ответил рыбак, глядя на ребят из-под насупленных бровей. — Только… Сейчас мода все сокращать, вот и мое имя-отчество сократили, зовут Хапичем. — Вот нам так Алексей Павлович и сказал! — Какой Алексей Павлович? — Ковнер. — Ковнер? — переспросил Чебренко. — А откуда вы его знаете? — Ну, это разговор особый, — уклонился от ответа Сима. — Нам с вами поговорить надо. Товарищ Ковнер сказал, что вы сумеете нам помочь. — Поговорить, так поговорить… Берите весла, — и он захромал в сторону от базара. Вдруг рыбак остановился, затем повернулся… к морю, стал прислушиваясь, смотреть вдаль. — Идут!.. — Кто? — Заграничные коммерсанты… Кто же на этот раз? Ага, старая знакомая «Доротея»… А за ней? Какой-то большой транспорт… Да никак итальянская «Амалия»? Точно, только у нее так близко к носу ходовой мостик вынесен. Давненько не наведывалась в Севастополь. А там и еще кто-то шлепает, ну, братцы, дела! Дом деда Хапича находился среди других хибарок на склоне, вернее, в склоне, крутого холма. Построен он был так же, как и многие другие: в толще известняка вырублена прямоугольная яма, боковые и передняя стенки выложены из вырубленного камня, а задняя так и осталась известняковым монолитом. Крыша земляная — и тепло и дешево. Дверь выкрашена веселенькой зеленой краской, около входа в принесенной откуда-то земле торчало с десяток луковиц. Сразу же за дверью — небольшая прихожая. Здесь — железная печка, от нее — две трубы: одна на крышу, а другая в расположенную по соседству комнату. — Заходите, хлопцы, заходите, — пригласил Хапич. В комнате чисто, в зарешеченное окно проникает свет, пол выстлан корабельными досками — об этом свидетельствовали кусочки смолы на стыках. Стол тоже, видать, когда-то был на корабле — на концах ножек еще сохранились медные скобы, которыми он крепился к палубе. Вместо скамеек — рундуки, на одном из них рыбак, по-видимому, и спал: в изголовье лежала свернутая одежда. В специально сделанных пазах в стенах проходила труба от печурки. — Это у меня для отопления приспособлено, — объяснил Чебренко, заметив взгляд, который друзья кинули на трубу. — Летом дым идет прямо на улицу, а зимой я его через трубу пускаю. Вот и тепло… Ну, подождите, я сейчас уху соображу… Дед Хапич вышел в прихожую, а Тимофей потянулся за книгой, лежавшей на полочке. Ни начала, ни конца у нее не было, но по шрифту, по пожелтевшей бумаге видно, что издана она была давно. «Первоначальное плавание по Черному морю, не говоря о походе Язона, начато греками по необходимости сообщаться с заведенными ими, на берегах его, колониями» — начал читать Тимофей. — Смотри-ка, интересно. — Интересно, конечно, да язык-то уж больно того… — Так что, непонятно, что ли? Ты слушай: «Скифы и мидяне, обитавшие издавна близ берегов его, конечно, имели ладьи, на которых пускались за рыбным промыслом или добычей…» — Дальше идет описание всех берегов Черного моря. Вот что говорится о нашем Николаеве: «Река Буг, древний Ипанис, вытекает из Южной Польши, где с востока принимает в себя реку Ингул. Реки, сливаясь, образуют полуостров, на котором расположен означенный город — место пребывания Главного управления Черноморского флота… В Николаеве можно иметь все нужное для судов, налиться водою из Спасского фонтана или из реки…» Между прочим, сейчас в Спасском фонтане даже курица не напьется, а в реке вода почему-то стала соленой, — прокомментировал Тимофей. — Там и про Очаков есть? — А как же! Такому городу, да не быть, — начал листать книгу Тимофей. — Вот он: «От Кучуруб берег поворачивает к зюйд- весту…» Слова-то какие!.. «зюйд-весту и оканчивается крутым мысом, на котором выстроен город Очаков… Город этот весьма беден, и в нем, кроме говядины, трудно чем-нибудь запастись». Вот и все. — А про рыбу, значит, ни слова? А еще первые мореходы по Черному морю сюда приходили за рыбой. — О рыбе ничего нет, — подтвердил Тимофей, что-то разыскивая в книге. — Вот: «От оконечности Джарыгатской косы к востоку Каркинитский залив, по мелководью для плавания непригоден». Рассказал бы я составителю этой книги, как Перекопский залив для плавания непригоден. — Составителю! Вот ты и мне, как говорится, другу до гроба, рассказать никак не соберешься, что там у вас получилось… — Расскажу когда-нибудь… Ну-ка, про Севастополь почитаем. — Лоцией интересуетесь? — спросил, заходя в комнату, дед Хапич. — Интересная книга. Правда, устарела малость, она еще до Крымской войны издана. Я тоже иногда ее просматриваю, вспоминаю, где приходилось плавать. — Вы моряком были? — Довелось… Семь лет прослужил, а потом шесть в тюрьме просидел. Во флоте я и с Павловичем познакомился. Вместе в восстании участвовали — это когда Шмидт на «Очакове» командование флотом принял. Только к Павловичу построже подошли, в кандалы его, да в одиночку… Он, наверное, сам вам об этом рассказывал… — Давайте-ка ушицы поедим. Хлеба, правда, у меня… Вот ребята с корабля сухарей принесли, спасибо, не забывают. Дед Хапич отодвинул рундук, вынул из стены ловко пригнанный камень из такого же ракушечника, как и вся хата, за ним открылся тайничок. Достал завернуты в тряпицу сухари и несколько небольших желтоватых рыбок. — Барабульки тоже попробуем. Я вам, ребята, так скажу: жирен беломорский палтус, хорош балык из осетра или белуги, отличная уха получается из кефали, но копченая барабулька!.. Ладно, потом, а то после нее и уха не уха. — Значит, с Павловичем я познакомился давненько, еще до девятьсот пятого, — начал разговор дед Хапич после обеда. — Потом, как я уже говорил, в восстании участвовали, это в ноябре пятого. Ну и судили нас вместе. После встречаться нам не довелось, а теперь вот разыскал меня, пенсию исхлопотал. Правда, ее хватает на буханку хлеба, но разве в этом дело! Так что вы давайте без утайки, зачем пожаловали? Сима на этот раз без своих обычных шуточек рассказал. — Мы предлагали устроить засаду около кафе «Рваные паруса»… Товарищ Ковнер не согласился. — Что ж, он прав. Во-первых, трудно определить, кто из посетителей приносит спирт, не станешь же обыскивать всех. Обыщешь одного, а все станут настороже — цепочка может оборваться. Не исключено, что где-то в условленном месте люди передают товар из рук в руки, даже не зная друг друга. Нет, выследить доставщиков спирта в кафе — полдела, да даже не полдела, а так, пустяковина. Спирт не только туда поступает, но и к другим нэпманам. Прав Алексей Павлович, нужно найти, кто его в город привозит. — Поступать он может только морем. Вот он и посоветовал познакомиться с вами. — Резонно, резонно… я рыбачу, почти все время в море. Ну и если ко мне приехали дальние родственники и помогают в работе — все нормально. А теперь давайте покумекаем, как нам лучше поступить, а то море велико, в нем не только пароходишко, целую эскадру найти нелегко… Контрабандой промышляют фелюжники, это я знаю, но не слыхал, чтобы они спирт возили. Ходят они только в Турцию, а там спиртное религией запрещено… Можно, конечно, наладить доставку через турецких коммерсантов, но тогда выгода пропадает: чем больше посредников, тем больше приходится тратить — всем же платить надо… Этот народ пока оставим в покое, хотя им удобно — фелюга, считай, в любом месте причалить к берегу может. Большие суда тоже можно сбросить со счета, бывают они редко, а подходить ночью к берегу опасно. Остаются греческие шхуны. Вот такая, как сегодня пришла — «Доротея». — Так «Доротея» вместе с пароходом идет прямо в порт, а там выгрузить контрабанду труднее… — возразил Тимофей. — Труднее, конечно, но можно. Однако на прямое нарушение законов они не пойдут… — Стоп, ребята! — вдруг после раздумья воскликнул дед Хапич. — А что если шхуна подходит где-нибудь к берегу, например, в Карантинной бухте, передает товар кому нужно, затем — курс в море и утром как ни в чем не бывало — в порт, а? — Мы ночью какие-то огоньки видели. Чуть левее Хрустального мыса. — Значит, на траверзе Карантинной бухты. Точно, сдала контрабанду, а теперь идет почетным гостем! Обычно следом за «Доротеей» приходил и «Архангел Михаил» — тоже греческая шхуна. В общем, сегодня ночью пойдем ловить креветок к Карантинной бухте…«Доротея» в Севастополе
Антон Чупахин не знал, что делают его друзья Тимофей Худояш и Серафим Цыганок, но догадывался — заняты чем-то стоящим. А он, Антон, дежурил в таможне с допотопной японской винтовкой в руках, перечитывал уже выученные наизусть плакаты. На одном из них был нарисован окутанный цепями земной шар и мускулистый рабочий, молотом разбивающий эти цепи. И надпись: «Мы — пожара всемирного пламя, молот, сбивший оковы с раба». На другом, с надписью «На развалинах старого здания возведем мы свой светлый чертог» были нарисованы черные развалины, поверженные кресты… все затянуто паутиной, а над этой свалкой — прекрасный розовый дворец со множеством окон. Антон не знал, что такое «чертог», но, наверное, думал он, именно такое здание, в котором не будет ни чердаков, ни подвалов, ни темных углов, а только большие комнаты, светлые и чистые. Неожиданно зазвонил все время молчавший телефон. Антон снял трубку, доложил, как и положено, что он — Чупахин, дежурит по портовому таможенному пункту. — Приготовьтесь к приему иностранных кораблей! — распорядился голос на другом конце провода. Чупахин хотел спросить, кто говорит, но трубку уже повесили. Антон не знал, как нужно готовиться к приему иностранных кораблей, и на всякий случай направился на причал. Оттуда было видно, что шхуна зашла в бухту, а на рейде маячил пароход. «Что же делать?» — подумал он. Но решать ему ничего не пришлось. Вскоре на пункт пришло много народу: портовики, таможенники. Антон, как и положено по инструкции, занял свое место у проходной и стал проверять удостоверения и пропуска у всех, кто входил в таможню. Около ограды собралась толпа. После некоторой суматохи — портовики за эти годы даже концы принимать разучились — шхуна пришвартовалась. А потом и разгрузка началась. На причал опускались плуги, бороны, сеялки. Шхуна невелика, но и технических средств, кроме судовой стрелы, никаких, поэтому с выгрузкой провозились чуть ли не до вечера. А тут к проходной подошла повозка, запряженная парой волов. На ней — тюки шерсти. Экспедитор предъявил документы. Чупахин открыл ворота. В этот момент к воротам направился матрос с греческой шхуны. — Обождите! — крикнул ему Чупахин. Инструкцию он знал: без увольнительной записки капитана ни одного человека в город нельзя было выпускать. Но матрос, то ли не понимая, то ли не слыша, продолжал идти к выходу. Пришлось Антону к нему бежать. Задержал в последнюю минуту. Матрос что-то объяснять начал, руками размахивает. «Эх, как плохо, язык не знаю», — мелькнула мысль у Чупахина, а сам показывает на ладони, вроде бы пишет, записка, дескать, нужна. Матрос опять руками замахал, и тут у него фляга из кармана вывалилась. Поднял ее Антон, отвинтил крышку, понюхал — спирт. — С этим не пропущу! — сказал он твердо. Пока он возился с матросом, тюки уже сгрузили на причал, стали их на палубу поднимать, а волы повернули обратно. Со вздохом облегчения закрыл за ними Чупахин ворота. Кто его знает, правильно ли он поступил: вроде бы по инструкции, да разве в ней все можно предусмотреть! Впрочем, кроме него на таможенном пункте еще люди есть — проверяют бумаги, оформляют их. Перед самым концом смены еще у него случай произошел. Открыл ворота, чтобы пропустить воз с тюками шерсти, а тут опять греческий матрос показался. Идет из города, ногами кренделя выписывает, а под мышкой — икона. Что делать? Об иконах ни в одном пункте инструкции ничего не сказано. Об оружии есть, о предметах искусства есть, а икон словно на свете не существует. Задержал на всякий случай. Хорошо хоть этот моряк немного по-русски говорил, можно с ним было договориться. — Купил на рынке, — объяснял он, и это вполне правдоподобно — на рынке все можно купить. — Моя мама очень богомольна, просила из России икону привезти. — Что ж, и это может быть. — Пропусти, господин, — просил матрос. — Нельзя — запомни меня, вынесу, отдам. — У Антона глаз верный, человека только один раз увидит и уже никогда ни с кем не спутает. Пропустил. А после смены не выдержал, пошел к Ковнеру — раз он Антона послал на это дело, так кому же о своих сомнениях рассказать, как не ему? Так прямо с винтовкой в руках и зашел в кабинет. — А я к вам посоветоваться пришел. — Ну, ну, слушаю. Только ты теперь свое начальство имеешь. — Свое я еще не узнал как следует, а вы меня послали на эту работу, мне и ответ перед вами держать, — и Антон рассказал, как он сначала чувствовал себя не у дел, дежуря в полупустом помещении и изучая давно знакомые плакаты, и о том, как сегодня он правильно поступил, отобрав у матроса спирт, и неправильно — пропустив другого с иконой. — Икону ты правильно пропустил. А спирт тебе придется отдать — такие вещи, во всяком случае в таком количестве, мы не можем запретить проносить с собой. А вот расскажи-ка поподробнее, как эти оба случая произошли. Тут уж и Антон что- то начал подозревать: в первый и второй раз он, занятый с матросами, не проследил как следует за повозками. По инструкции он обязан был пересчитать, соответствует ли количество мест указанному в документе, не нарушена ли упаковка, но не сделал этого. — Виноват я, товарищ начальник, ой как виноват! — Антон даже по стойке смирно встал. — Это в чем же? — Да ведь матросы могли со мной бузу затеять с отвлекающими целями, а я клюнул на это и повозки не проверил. — Ну что ж, в дальнейшем умнее будешь. Да, надо подсказать, чтобы двоих дежурных назначали во время прибытия иностранных судов… Ну иди, Антон, спасибо, что зашел. — А дружки-то мои… Ну, Серафим Майданович и Тимофей Худояш, где они? — А они на задании. Тоже важное дело. После ухода Чупахина Ковнер несколько минут сидел молча.Прекрасная гавань
Древние греки назвали эту бухту Прекрасной гаванью. С точки зрения моряков она действительно прекрасная — в глубину ее, наверное, и в самые сильные штормы волнение не доходит. А сейчас пустынные берега выглядели мрачно, эту мрачность еще более подчеркивал празднично-яркий Владимирский собор, возвышающийся на холме, в центре древнего Херсонеса. Тимофей, Сима и дед Хапич пришли в бухту ловить креветок, но цель у них была другая — проследить, не подходят ли к берегу суда с контрабандным товаром. Они сидели на берегу и домучивали чайник кипятка, заваренного вместо чая пережаренными сухарями. Темнело. Сима подгреб в костер концы не сгоревших поленьев, и пропитанное морскими солями дерево вспыхнуло разноцветным пламенем. — Гасить это уже надо, — сказал Чебренко. — Через несколько минут оно само все прогорит, — заметил Сима, но послушно разбросал головешки по песку. — Сначала я думал пойти в шлюпке всем троим, — негромко начал Хапич. — А теперь решаю — так не годится. Все привыкли, что на лов я хожу один, а если вдруг пойдем втроем — может подозрительным показаться. Будет лучше, если вы спрячетесь на берегу, вон хотя бы около карантинных казарм, а я, как всегда, буду ловить креветок. Бухта тут невелика, сами все увидите, а что я узнаю — потом расскажу. Все равно мы шхуну не сумеем задержать… «Да мы и не имеем на это права», — подумал Тимофей. Дед Хапич проковылял к лодке, отчалил, а ребята пошли вдоль берега. У самого уреза воды притаились за обломком скалы. Стояла первозданная тишина. Сюда, за мыс, звуки из города не доносились. И уже потом, когда они привыкли к оглушающему безмолвию, стали различать легкое бормотание воды среди гальки. Ребята долго лежали за скалой, руки и ноги затекли, от воды потянуло холодком. — Нет, здесь мы ничего не дождемся… — прошептал Сима. — Тише ты!.. — Смотри… Далеко-далеко в море мигнул несколько раз огонек, пропал, снова замигал. Через несколько минут послышался легкий всплеск весел и из глубины бухты появился силуэт лодки. Похоже, что на ней сидело двое, но точно определить это на фоне черного берега было невозможно. Лодка двигалась к выходу в море, и гребец так тихо опускал весла в воду, что если бы друзья не ожидали этого, если бы напряженно не прислушивались, то, наверное, ничего и не заметили бы. А потом донесся приглушенный голос: — Ты, Хапич? — Я… — Как улов? — Вроде ничего, попадается. — Что-то давно тебя здесь не видно было. Барабулька у Константиновского равелина ловилась. А теперь не идет, вот и пришел сюда за креветкой. Это дело верное. — Ну, ну… И уже другой голос: — Шел бы ты, дед, домой. — Чего вдруг? — Да так… Гости должны к нам прийти, а они не любят посторонних… — Что ж, могу и домой, наловил уж порядочно… — Как хочешь, Хапич, — снова начал первый голос, — можешь ловить, только… Никому ничего, а то сам понимаешь — у меня разговор короткий… — Да я что… Я ничего… — и сразу же послышался всплеск воды. И опять все стихло. — Слушай, я поплыву, узнаю, что там, — сказал Тимофей и пополз к воде. — Куда ты? — ухватил его за ногу Сима и горячо зашептал: — А если заметят? Вон море какое, — и он бросил небольшой камешек — вода вспыхнула, словно туда бросили уголек. — Прослежу за ними, могут же в другое место уйти. Сима ничего возразить не смог. Тимофей вошел в воду и тихонько поплыл, время от времени поглядывая вправо на Большую Медведицу. Когда почувствовал усталость, лег на спину и несколько минут лежал неподвижно. Потом поплыл вновь. На запад, туда, где они увидели с берега огоньки. Ему казалось, что он плывет целую вечность, стали неметь ноги… Тимофей поднял голову и прямо перед собой, на фоне усеянного звездами неба, различил темную глыбу судна. Заметил он и лодку под кормой. Тогда он вздохнул глубоко-глубоко и повис неподвижно над глубиной, чуть-чуть шевеля руками. Вокруг стояла тишина, и у Тимофея мелькнула мысль: «Уж не оглох ли?» Но вот по воде гулко донеслось: — Не могли ближе подойти? — говорили из шлюпки. Ответа с судна Тимофей не расслышал. — Камни, камни!.. Вам бы только наживаться! Ну, давайте! — крикнули вновь из шлюпки, и через несколько секунд: — Да что вы свои жестянки суете! Успеете с ними! Давайте главное!.. Как видно, с судна стали спускать что-то тяжелое, потому что и наверху слышались слова команды на незнакомом Тимофею языке и снизу время от времени покрикивали: — Осторожнее! Осторожнее! Так, так! Сейчас… Порядок! Давайте второй! — снова зазвучали слова команды, потом какой- то обиженный крик. — Вот свиньи! — ругнулся кто-то на шлюпке. И громче: — Не можете потом счеты свести, что ли! Так, так! Да осторожнее вы!.. — И тут же гулкий удар по борту судна и всплеск. — Сволочи! — взревели на шлюпке. — Лучше бы вы сами утонули… Моряки называются! — Ругань доносилась и с палубы судна, и долго еще голоса раздавались над морем, пока наконец со шлюпки не крикнули: — До рассвета здесь стоять собрались, что ли! Давайте банки! Разгрузка пошла быстрее, и вскоре шлюпка двинулась к берегу. Поплыл к мысу и Тимофей. Он все больше и больше мерз. Стучали зубы, мускулы рук и ног совсем окоченели, начала одолевать сонливость, равнодушие. Тимофей уже думал, что и не доплывет. «Ну, ничего, они пошли в бухту… А там Цыганок…» — пронеслось у него в мозгу. Но тут ноги коснулись дна. Он выполз на берег и несколько минут лежал неподвижно. Поднялся, нашел то место, где раздевался. Одежда лежала там же, только Симы не было. «Куда теперь? — думал Тимофей, одеваясь. — Сима, конечно, направился за шлюпкой… И мне туда? А если заметят? Нет, Сима сам справится…» Тимофей решил идти к Чебренко, а куда же еще? Ноги плохо слушались, но он все же побежал, и когда над городом затеплился синеватый рассвет, Тимофей уже стучал в знакомую дверь. Дед Хапич молча открыл, молча проводил в комнатушку. — Ложись сюда, — показал на рундук, с которого только что поднялся. — Ну, как? — Вроде, порядок, — ответил Тимофей, почти засыпая. Но тут же встрепенулся: — А кто это был в шлюпке, не узнали по голосу? — Одного узнал — Мишка Сом. Есть тут такой… А второй голос незнаком… «Мишка Сом… Мишка Сом… Так вот он чем промышляет…» — думал Тимофей, засыпая. Но отдохнуть ему не пришлось, прибежал Сима. И с порога, не переводя дух: — Пошли!Ниточка
В кабинет вошел дежурный: — Сводка, — положил он на стол лист бумаги. На первом месте, как и обычно, данные о голодающих. Триста двадцать одна семья находится в бедственном положении — на три меньше, чем вчера. По-видимому, удалось устроить на работу. Казалось бы, ну какое дело уголовному розыску до голодающих. Но ревком решил: заниматься этим должны все. Дальше сообщалось о происшествиях. Девять ограблений, семнадцать краж, три драки. Одно хорошо: не было за истекшие сутки бандитских налетов, но и без этого картина нерадостная. Дежурил сегодня Кайдан, молодой работник, пришедший в УР по путевке комсомола. — Слушайте, Кайдан, а почему некоторых нэпманов даже за тот короткий срок, что я здесь, уже по два три раза обчистили, а других не трогают? — Тут все просто — откупаются. — Та-ак… Что ж, выкуп, пожалуй, дешевле обходится, чем ограбление, — проговорил Ковнер и про себя с горечью подумал: «А мы не можем защитить граждан…» — А если через них добраться до шайки? — Во-первых, побоятся. Если жулики узнают, кто их выдал, могут всю семью вырезать. А потом нэпманы нас, то есть Советскую власть, считают своими кровными врагами. Развернуться полностью мы им не даем, да и защитить от бандитов не можем… «Прав парень, прав», — соглашался Ковнер. — Так что они в силу своей классовой ограниченности будут поддерживать наших врагов, хотя те являются и их врагами. — Да-а… Спасибо, идите! «Каждый день два-три десятка происшествий. Конечно, ни сил, ни средств не хватит расследовать каждое, тут нужна система — организованным шайкам необходимо противопоставить организованную борьбу с ними. Эх, если бы ликвидировать белогвардейские банды, которые терроризируют население срывают все мероприятия Советской власти!.. А уж с воровскими шайками расправиться было бы не так уж сложно. Вот еще контрабандисты… Где-то ребята, что они делают?» Он восстановил в памяти весь разговор с Антоном Чупахиным. Матрос с иконой и матрос со спиртом могли совершенно случайно оказаться у проходной одновременно с привезенными тюками шерсти? Вполне. Но могло это быть и отвлекающим маневром? Несомненно. Значит? Значит, нужно посмотреть, не находится ли, кроме шерсти, что-то в тюках. С трудом привстал, покрутил ручку телефона, вызвал начальника таможни. — Это Ковнер. Слушай, шхуна «Доротея», что пришла вчера, кому принадлежит? Фирме «Камхи». Солидная? С нами ведет дела исправно… Хорошо. А что вывозят? В основном шерсть. А как организована скупка? Значит, покупают у частных лиц и госхозов, а потом сами сушат, сортируют и упаковывают… А при погрузке? Обычный таможенный досмотр, количество тюков и их вес… Ясно, спасибо… — Ковнер вызвал коменданта. — Борис, надо на «Доротее» произвести обыск. — Это мы зараз, возьму оперативную группу и перевернем все от киля до клотика. — Нельзя так. Шхуна принадлежит фирме, с которой мы торгуем. Она первая завела с нами связи, за ней другие пошли. А если мы эту ниточку обрежем? — Произвести незаметно обыск?.. — растерянно спросил Бугримов: он любил все делать открыто, брать храбростью, удалью. — У тебя в порту, наверное, есть знакомые. Узнай-ка там, нет ли какой зацепочки. — Постараюсь, но… Действовать надо, да и все. Если что-то найдем — мы правы, нет — извинимся. Зато будем уверены… — Ты, Борис, хочешь действовать, как старые политики. — Ну, что вы! — Точно. Некоторые деятели так и говорили: «Главное — арестовать, а за что — причину всегда можно найти». При царице Екатерине Второй был такой случай… — Цепкая, тренированная многими годами одиночного заключения память сразу же подсказала нужный факт. — Арестовали фельдмаршала Бестужева — чем-то не угодил царице. Так канцлер Бутурлин сказал: «Бестужев арестован, мы в настоящее время ищем причину, почему это сделано…». Пройдет несколько лет, и к нам будет приходить столько кораблей — бухта станет тесна. И вот ради этого мы не можем ничего предпринять против этой «Доротеи», хотя все следы, все данные говорят о том, что на ней есть немало интересного для нас. — Ясно, товарищ начальник. Будет сделано, зацепочку найдем! — Быстрее надо, вечером она может сняться, и задерживать ее без причины неудобно. Но не успел Бугримов сделать и нескольких шагов к выходу, как в кабинет вошел дежурный: — Товарищ начальник, Покровский собор ограбили! — доложил он. — Собор?! Так это же прекрасно! — улыбнулся Ковнер. — Машина на ходу? — Так точно! — Бугримов, со мной! Вы — тоже! — взглянул он на Кайдана. — Пусть вас кто-нибудь подменит! Не прошло и пяти минут, как машина «Изотта-фраскини» выползла из ворот СУРа. Она была роскошной. Говорят, что на ней сам Врангель ездил, но тогда она заправлялась английским бензином, а сейчас мотор вынужден был работать на смеси. Оглушительно стреляя и дымя, она направилась к порту.Тайные агенты в беде
Ну, что там? — спросил Тимофей, как только друзья вышли из домика деда Хапича. — Порядок! И бидоны со спиртом, и еще какой-то ящик. И где все это? — Спрятали в старых зданиях. Этой ночью заберут. — Интересно, что у них в ящике? — задумчиво сказал Тимофей. — Они один упустили в море, и тот, что на лодке, так ругался! Наверное, что-то очень ценное, потому что банки со спиртом он просто жестянками назвал. Все получается хорошо, задание, можно считать, они выполнили, узнали, как попадает спирт в Севастополь. Милиция нагрянет туда, где спрятали свой товар контрабандисты, а потом можно и к ответственности привлечь кого следует. Одно только не давало покоя Тимофею — в этом деле он оказался вроде бы сторонним наблюдателем. Цыганок выследил, может быть, рискуя жизнью, куда контрабандисты спрятали товар. А что он? Ну, плыл, ну, видел, как грузили со шхуны ящики и бидоны в шлюпку. И все. Только и того, что устал смертельно, вот даже и сейчас мускулы рук и шеи болят, а ноги дрожат. Так он и сказал своему другу. — Ты молодец, я бы так, наверное, не смог. И потом, если бы они решили пойти в другую бухту, — как бы мы об этом узнали. Хорошо, что ты видел, как со шхуны это поступало — может, и пригодится, — утешил Тимофея Сима. Они поднялись по склону горы, нашли потайной вход и только пробрались во двор СУРа, как столкнулись с дежурным. — Кто вы такие, что вам надо? — строго окликнул тот. — Нам нужен товарищ Ковнер. Или комендант. — Да кто вы такие? В это время во дворе появился начальник секретно-оперативного отдела Подымов. — Что такое? — Да вот… — показал дежурный на Тимофея и Цыганка. — Смотрю: во дворе какие-то типы ходят. Как сюда попали — не говорят, кто такие — тоже не хотят отвечать. Требуют товарища начальника или коменданта. — Посади их в каталажку. Да смотри, чтобы не утекли! Народец, видать, ушлый. Я их, кажется, уже где-то видел. Что делать? Раскрывать себя они не имели права даже перед работниками милиции. — Ладно, ведите, — великодушно согласился Сима. — Надеюсь, предоставите лучший номер? — Шикарный, как в гостинице Киста! — пообещал дежурный и открыл дверь в большую комнату, по стенам которой стояли нары. — Отдыхайте. Обед — по требованию, предварительные заказы принимаются за неделю вперед. — Ладно, если у вас найдется уха из стерляди с расстегаями — несите, — отшутился Сима и уже серьезно добавил: — Только как появится товарищ Ковнер или комендант — сразу же доложите о нас. В этот утренний час камера была пуста. Сима с невозмутимым видом лег на голые доски. А Тимофей, впервые попавший в подобную обстановку, начал было читать надписи, которыми были покрыты стены. — Брось! — увидев его старания, сказал Сима. — Бывающий здесь люд не очень-то изобретателен — везде одно и то же. — Ну, мне еще не приходилось такого встречать. — И не надо… Помолчали. — Слушай, а нам сейчас нельзя те вещи забрать! — сказал Сима. — Почему? — Мы же деда Хапича под удар поставим. Понимаешь, они о нас ничего не знают, а видели только Хапича. Так? — Так. — И вот их тайная операция становится известна милиции. Кто донес? Ясно, Хапич. Этот Сом на меня с ножом кинулся только за то, что я с его кралей потанцевал. А тут такое… Расправятся, как пить дать! — Что же делать? — С Алексеем Павловичем посоветуемся. А теперь давай-ка спать, а то ночь-то у нас бессонной была. Проснулись оба почти одновременно. Солнца, с утра светившего в окно, теперь уже не было видно. — Неужели до сих пор товарищ Ковнер еще не прибыл? — спросил Цыганок и, спрыгнув с нар, начал барабанить в дверь. Стучал он долго, наконец, щелкнул замок и показался дежурный. — Я же сказал, что предварительные заказы выполняются через неделю. Чего же вы беспокоитесь? — Слушай, начальник, мы понимаем, что ты большой начальник, но пойми и ты, у нас здесь — он постучал себя по голове — важная тайна. Ты представляешь, что значит, если в голове у человека тайна государственного значения, а его держат в кутузке? Это значит, что тот, кто сажает человека с тайной в голове под замок, сам совершает государственное преступление… — Сначала дежурный улыбался, но по мере того, как говорил Сима, лицо его стало приобретать серьезное выражение. — Если ты думаешь, что мы сюда пришли, чтобы ограбить Севастопольский угрозыск, то ты ошибаешься, хотя бы потому, что у вас тут совершенно нечего взять. За все имущество, имеющееся в каптерке вашего коменданта, можно в лучшем случае получить бутылку киндербальзама. — Это еще что такое? — Детский напиток — смесь спирта с самогоном… От твоей болтовни у меня голова заболела. Что вы хотите? — Хотим видеть товарища Ковнера или коменданта. И по делу, не терпящему отлагательства. — Так что же я могу сделать, если ни того, ни другого нет! — Дежурный должен знать, где они. Так вот, сообщите, в каких словах и каких выражениях — это ваше дело, все, что вы от нас услышали, ну, и опишите нас, если сумеете. — Хорошо, я доложу начальнику. — Вот давно бы так. А то увидел, что на нас один из начальников начал кричать, и туда же. Бог клепку для головы раздает не в зависимости от занимаемой должности, самому соображать надо… Но дежурный уже не слушал, он закрыл дверь и щелкнул замком.Сокровища «Доротеи»
«Изотта-фраскини» подъехала к Покровскому собору. Ковнеру было трудно выходить из машины, и он послал Кайдана пригласить священника. Через минуту перед машиной стоял батюшка. — Скажите, святой отец, действительно ночью ваш храм ограбили? — спросил Ковнер. — Посягнули, нечестивцы, посягнули. — И что же украли? — Был тут ваш представитель, составил документ! Мы все ему перечислили. — Ну, акт еще ко мне не попал, вы скажите так. — Сосуды драгоценные, потребные для богослужения, похитили, дароносицу серебряную позолоченную унесли, несколько икон, в том числе Божьей матери, древнюю, греческого письма. Ну, и сбережения храмовые, кои в алтаре хранились. — Не везет вашему собору, — вздохнул Ковнер. — Что так, сын мой? — Весной у вас пулеметы и патроны в подвале нашли, сейчас вот обокрали. — Я служу богу и только богу, и в том, что оружие очутилось в храме, не повинен. Нечестивцы понесли достойное наказание. — Но ведь действовали тогда люди, причастные к собору? — Верно, сын мой. — Вот и теперь тоже… — Откуда такие сведения имеете? — Ну, в этом мы разберемся. А сейчас оденьтесь попредставительнее, как в архиерею на прием — поедите со мной в одно место. Там, возможно, находятся ваши сокровища. Послужите богу, а заодно и Советской власти. Вахтенный «Доротеи» вызвал капитана. Тот спустился с борта корабля, подошел под благословение к священнику, спросил: — Чем обязан вашему визиту, господа? — Неизвестные злоумышленники ограбили Покровский собор, — начал Ковнер. — Очень неудобно вас беспокоить, но нам доложили, что ваш моряк пронес на корабль икону. Мы просто хотим убедиться, что она не принадлежит собору. — Я, право, не знаю… Разве было такое? Вахтенный «Доротеи» ничего не ответил, а Ковнер подтвердил: — Было, было… — Я верю… Но ведь матросы вольны покупать то, что свободно продается в магазинах и на базарах. Во всяком случае так обстоит дело во всех странах… Да и мы так же поступаем. Но если ворованное… — Ну, что ж, найдите того матроса, вызовите сюда… — Как-то неудобно держать священнослужителя на причале, проявите долг гостеприимства, пригласите на борт. — Да, но я не знаю, кто вы. — Я — начальник Севастопольского уголовного розыска, вот мой мандат. А это мои сопровождающие… «Покажу я им эту проклятую икону», — решил капитан и пригласил всех на судно. В капитанской каюте вестовой поставил на стол бутылку ракии, тарелки с маслинами и сладостями. Вскоре матрос принес икону. Небольшая, в простеньком окладе из штампованной фольги, в обычной деревянной раме. Даже беглого взгляда на нее было достаточно, чтобы определить: она никакого отношения к собору не имеет. — Таких изображений ликов святых угодников в нашем храме не бывало, — торжественно заявил священник. Что оставалось делать? Поблагодарить, извиниться и уходить. Об этом думали поп и комендант, этого ждал и капитан Фокос. Но Ковнер медлил, он рассматривал на свет ракию, начал разговор о качестве вина, способах его приготовления в разных странах. Волей-неволей капитану пришлось поддерживать разговор: скоро он увлекся, так как на родине у него был небольшой виноградник, и он считал себя прирожденным виноделом. Вдруг дверь без стука открылась, и вошли Кайдан и еще один сотрудник СУРа — о них как-то за это время забыли. А те знали свое дело: когда все были заняты разговором, они отошли, не замеченные никем, в сторону, и Кайдан нырнул в трюм. Сейчас он молча подошел к столу и положил на него три тяжелых бруска. Два из них вспыхнули желтым светом. — Вот, — только и сказал он. — Золото. И серебро. — В тюках шерсти? — спокойно и, как могло показаться со стороны, несколько печально спросил Ковнер. Только священник уловил эти нотки печали, но не понял почему. А Алексей Павлович подумал: «Сколько же драгоценного металла ушло вот так, минуя таможню, контрабандой, сколько продуктов можно было бы купить на это золото». Тяжело вздохнув, Ковнер сказал ровным голосом: — Мы вынуждены будем обыскать ваше судно, господин Фокос. Вот ордер. — Это фирма, я тут ни при чем! — поспешил заверить капитан. — А мы вас пока ни в чем и не обвиняем. Но обыск все же произведем. Немало пришлось потрудиться работникам уголовного розыска, чтобы тщательно обыскать все помещения «Доротеи», осмотреть груз. Их старания были вознаграждены: на столе в капитанской каюте выросла гора золотых слитков, драгоценных камней, изделий из золота, серебра, слоновой кости. Матово поблескивающие серебряные бруски складывали прямо на пол. Все это находили не только в тюках с шерстью. В капитанской каюте и других местах оказались тайники, набитые драгоценностями. Когда началось их вскрытие, капитан Ламбросос Фокос потерял контроль над собой. — Это мои сбережения! — закричал он. — Сколько же нужно лет, чтобы накопить такие сокровища при вашем жаловании?! — невольно вырвалось у Ковнера. — Не так уж тут и много… — Какова, например, стоимость вот этого изделия? — Алексей Павлович взял в руки подсвечник из слоновой кости, инкрустированный золотом, серебром, драгоценными камнями. — Я его купил в Константинополе за… триста лир! — До чего же много глупцов развелось в Константинополе! Вещь стоимостью в пять-шесть тысяч золотых рублей продается по цене старенького костюма… Ну, а это откуда у вас? — показал он на одну из безделушек. — Это подарок моей матери! — Тогда вашей матерью следует признать дядю нашего бывшего царя — великого князя Николая Николаевича Романова. Вот его вензель, — показал Ковнер. — Вещь эта находилась в княжеском дворце в Ливадии и исчезла после его ограбления. Я мог бы вас ознакомить с соответствующей описью, но, наверное, это будет удобнее сделать на суде. — На суде? — Конечно. Ваше судно мы задержим, а дело о незаконном вывозе драгоценностей передадим в суд. А уж он решит, что делать с вами и вашим судном. Да, еще один вопрос, вот вы говорите, что это ваши сбережения, так почему же вы прячете их в тайниках? — От команды. Вы знаете, какие у нас люди? Вор на воре. Ковнер устало улыбнулся, хотел было сказать, что команда судна в какой-то мере характеризует и капитана, но только распорядился: — Команду перевести на берег, ценности передать в Госбанк, на судне выставить охрану! — и, тяжело опираясь на костыли, спустился на причал.Подготовка к операции
— Тоже мне — тайные агенты, сами попали в каталажку, — беззлобно поругивал Цыганка и Тимофея комендант СУРа, ведя их по коридору к Ковнеру. — Вам гусей пасти доверить нельзя… — Ребята молчали, да и что они могли сказать? — Вы уж извините, что так получилось, — встретил их Ковнер. — Но порядок есть порядок. И в самом деле, что делать с неизвестными, которые вдруг оказались на территории уголовного розыска, да еще и не хотят сказать, кто они такие и как сюда попали? Сима кратко рассказал обо всем, что они видели ночью. — Дед Хапич говорит, что в шлюпке был Мишка Сом, — добавил Тимофей. — Он узнал его по голосу. — Вот оно как! Эта ниточка может нас привести куда надо. — Пойти сейчас и забрать всю контрабанду! — рубанул Бугримов. — Можно, конечно, и забрать… А что потом? Начнут в другом месте переправлять, где-нибудь у Чумки, или у Омеги, или в Казачьей бухте. — Сделать ночью облаву, арестовать тех, кто придет за вещами. — Нет, так нельзя, — заволновался Тимофей. — Тогда они деда Хапича убьют!.. — Так что же вы предлагаете? — Пусть знают, что это мы сделали! — Как им сообщить, объявление повесить? — Ну, не объявление… Просто мы поведем милицию туда, где они спрятались. — Выстроимся в шеренгу, вы — на правом фланге, так что ли? Нет, ребята, не так все это просто. Да и расшифровывать мне вас не хочется… А деда Хапича следует оградить от удара. Так что же придумать? — спросил Ковнер. — Придумать можно кое-что, вот только согласитесь ли вы, — озорно прищурился Сима. — Ну, выкладывай! — Неподалеку от бухты есть какой-нибудь магазинчик? — Наверное, есть. — Ну, а если его какие-нибудь урки обворуют, да так, чтобы это милиция увидала, ведь их ловить будут? — Конечно! — весело воскликнул Ковнер, начиная понимать, к чему клонит Цыганок. — Воришки, конечно, попробуют скрыться и побегут в сторону бухты… В общем вырисовывается такой вариант: мы, — кивнул Цыганок на Тимофея, — с наступлением темноты обчистим лавчонку где-нибудь неподалеку от бухты. Милиция, будем надеяться, заметит ограбление… — Постараемся, чтобы на этот раз все было в порядке, — улыбнулся Ковнер. — Милиция начнет ловить преступников. Те, пытаясь скрыться, побегут к старым зданиям. Работникам милиции ничего не останется, как случайно «наткнуться» на тех, кто принял прошлой ночью контрабанду со шхуны. И все станет на свои места: дед Хапич будет ни при чем, виноватыми во всем окажутся мелкие воришки. — Что же, все логично. Будем считать, что операция утверждается. — Только чтобы нас не подстрелили ненароком. А то еще хуже — сгребут, а потом по всей строгости закона… Было же так однажды с ним, — кивнул Сима на своего друга. — На этот раз ни я, ни Борис Петрович на задание не идем, так что ничего с вами не случится, иобещаю, ответственности за «очистку» магазина вы не понесете. Но на всякий случай поговорите с Кайданом, в засаду мы пошлем других людей, а вот группу по охране магазина и преследованию возглавит он. Потребовалось всего несколько минут, чтобы выяснить, что у СЕПО — Севастопольского потребительского общества недалеко от бухты, около кладбища, есть лавка, но товаров в ней- никаких. Место глухое, ненадежное, боятся завозить. — Сегодня туда доставьте что-нибудь, — распорядился Ковнер. — Неважно, только чтобы видно было, что товар… Вот так… Охрана? Будет охрана. До наступления темноты все сделать! Ну что ж, ребята, порядок! — сказал Алексей Павлович, повесив трубку. — Действуйте. Что вы намерены сейчас предпринять? — Нужно посмотреть, какие там замки. Не ломать же дверь! — Справедливо, Серафим Васильевич, нужно беречь государственное имущество. Я вам посоветовал бы наведаться в какое-нибудь место, так сказать, злачное показать себя. Да еще таинственный вид на себя напустить… — На этот счет будьте спокойны! — заверил Сима. — Ребята, идемте-ка со мной! — пригласил их комендант, когда они вышли из кабинета Ковнера. Со звоном открылся запор уже знакомого друзьям склада, в нем за эти дни ничего не изменилось: те же ящики у стены, только кучи старой одежды стали меньше. — В детский дом отправили, — заметив взгляд Симы объяснил Бугримов. Он засунул руку в один из ящиков, вытащил пачку денег. — Это вам на посещение ресторана или кафе — сами решайте. А теперь… — он порылся в другом ящике достал оттуда «браунинг», протянул Тимофею. — Нате. Хотя оружие можно выдавать только по разрешению начальника, но вам такое дело предстоит… Пистолетик не очень-то силен, но незаметен, а на близком расстоянии… — он не договорил, считая, что и так все ясно. — Да, пользоваться вы им умеете? — Я не умею стрелять. — Тут дело простое, сейчас покажу… — Я не умею стрелять, только из Большой Берты, — закончил Сима. — Говорят, у немцев есть такая пушка. — Даже тут без зубоскальства не можешь! — упрекнул Бугримов.Операция
— Лавчонка дрянная, но замок у нее! Динамитом нужно взрывать. Ничего, на толчке сейчас все можно подобрать, — констатировал Цыганок. У старичка, торговавшего железным хламом, он за пятьдесят тысяч рублей купил старый заржавевший ключ, тут же стершимся напильником подправил у него бородку и положил свое приобретение в карман со словами: — Как раз то, что нам нужно! А теперь в «Рваные паруса». В кафе было людно. — Здравствуйте, дамы и господа! — весело воскликнул Сима, входя. К ним подошла Варсеника. — Здравствуйте, ребята. Что-то вас долго не было видно? — Если уж вам двое суток показались долгими, то что же говорить о нас? Мне кажется, я вас не видел целую вечность. Дайте нам пока черносмородиновой настойки, которой когда-то угощала меня моя бедная мама, и что-нибудь закусить. Только, пожалуйста, не разварную медузу. — Варсеника улыбнулась. — Но и не самое дорогое из ваших яств. Сегодня мы еще бедные, а завтра — попируем! — Что, на работу поступили? — От работы, дорогая, кони дохнут! Вот так-то. — Так что вы нам предложите? Варсеника возвратилась через несколько минут, неся на подносе бутылку черносмородиновой настойки. Тимофей заметил, что бутылка та же самая, и невольно взглянул на колонны у буфетной стойки: они были на месте. На закуску Варсеника принесла пряно пахнущее мясо. Сима подцепил на вилку кусочек, попробовал, в восторге зацокал языком: — Это же надо такое придумать! Нет, вы скажите, что это за яство — хобот мамонта? Седло бизона? А может быть, язык африканского гиппопотама? — Дельфин, — прошептала ему на ухо Варя. — А готовила я сама. Если положить побольше приправы, то и не узнаешь, что это такое. — Как бы это ни было восхитительно! — и ребята навалились на дельфина. Когда бутылка черносмородиновой опустела, а Сима показал себя всем присутствующим в кафе, он шепнул Тимофею: — Пора! Друзья молча минули бульвар, базар, стали спускаться к кладбищу. И только тут Сима нарушил молчание: — Сейчас мы отмочим штуку… Обчистим магазин так, что никто и не заметит. — Так его же стерегут! — Ну и что? Обведу! В этих делах я специалист… Когда показался небольшой домик, что-то вроде торгового ларька, Сима зашептал в ухо Тимофею: — Лежи здесь, в бурьяне. И держи! — дал ему в руку конец веревки — Как дерну — тащи! Через несколько секунд послышалось негромкое щелкание ключа, потом едва слышный скрип открываемой двери. Вот дернулась веревка. Тимофей потащил — к другому концу ее был привязан увесистый мешок. Может быть, действительно Цыганку удалось бы провести «очистку» магазина незаметно, но он решил еще закрыть дверь, и замок закрылся с оглушительным треском. Тут же из-за угла показалось несколько темных фигур, одна из них голосом Кайдана крикнула: — Кто здесь? Стой, руки вверх! Ребята молча подхватили мешок и помчались по склону к бухте. Позади послышалось громкое топанье ног, крики: — Держи!.. — Стой!.. — Стрелять будем! Кто-то несколько раз выстрелил. Ребята уже подбегали к зданиям старой таможни, когда из развалин тоже начали стрелять. — Ложись! — толкнул Сима Тимофея в какую-то канаву. — Вижу, дело заваривается такое, что могут случайно в нас дырок наделать. Друзья лежали долго. Выстрелы то учащались, то становились реже, доносились какие-то возгласы. Кто-то отчаянно закричал: — Держите его! Уходит!.. Снова послышались выстрелы, но вскоре стихли. Зафыркал откуда-то взявшийся автомобиль, голоса людей стали приближаться. Были слышны отдельные фразы: — Этот уже готов, — отметил кто-то. — Жаль… Живые нам нужнее… — Ух, какой тяжелый! — раздался другой голос. «Может, тот ящик, который со шхуны на лодку спускали?» — подумал Тимофей. Наконец все стихло. — Как видно, операция удалась, — сказал Сима, вставая. — Наверное, здесь были не только те, что магазин стерегли, — высказал догадку Тимофей. — Говорил же Алексей Павлович, что организуют засаду… Да, но что же нам теперь делать? — Пойдем в милицию. Тяжеленный… Что там такое? — пощупал Тимофей сквозь ткань. — Черт его знает! Брал, что под руку попадет… Они побрели вверх по склону, но вдруг Цыганок остановился: — Слушай, давай-ка этого армянского святого проверим, не занимается ли он и скупкой краденого. — Что ж, можно. К таверне «Рваные паруса» друзья подошли с заднего хода. Тимофей остановился поодаль, а Сима постучал в дверь. — Что нада? — Позовите Варю! — Кто это? — Цыганок сказал. Прошло несколько томительных минут, скрипнула дверь, в слабо освещенном проеме показалась женская фигура. Сима что-то быстро заговорил. — Нет. Нет, мы этим не занимаемся! — Вот так здорово! Улов хорош, а рыбу продать не кому! — засмеялся Сима. И вдруг Варсеника заговорила быстро, сбивчиво и такое, что ребята своим ушам не поверили: — Зачем вы это делаете! Вы такие хорошие, не похожи на остальных… Попросите, вам дадут работу… Из-за двери раздался сердитый голос: — Вара! Зачем так много говоришь? Сюда ходы!.. — Вот так-так! — невольно воскликнул Серафим, когда девушка ушла. — А я-то думал… — Помолчал. — А добычу, — вскинул он увесистый мешок на плечи, — придется в милицию сдать!Мишка Сом и другие
Алексей Павлович Ковнер искоса поглядывал на Мишку Сома, сидевшего у стены. Сом был смущен, растерян, не знал, что делать, исподлобья смотрел на сидевшего перед ним человека, недоумевая, чего же тот молчит. Это молчание не только тяготило, но и сбивало с толку. А Ковнер был доволен: захвачено шестнадцать бидонов со спиртом и ящик с оружием. Оружие русское — наганы, винтовки, патроны к ним, находится в отменном порядке: почищено, смазано, каждая вещь завернута в промасленную бумагу. Кто-то, видать, специально занимается этим, скупает на Константинопольском базаре (или где там?) оружие у белогвардейцев, переправляет сюда. С людьми, правда, не особенно хорошо получилось. Один, как только началась перестрелка, обрубил постромки у повозки, вскочил на лошадь и скрылся в лесу. Другой убит. Личность его пока установить не удалось, никто из работников милиции его раньше не видел. Врач, делавший вскрытие, сказал: — Кто он — судить не берусь, это не по моей специальности, но одно скажу: этот человек босым не ходил, — показал он на узкую белую стопу, — и физическим трудом не занимался… Алексей Павлович не без основания решил, что убитый — связной или посыльный из какого-то бандитского отряда, скрывающегося в лесах, и прибыл он на повозке за оружием. Повозка с двойным дном: поставил ящик, накрыл его досками верхнего дна, положил сверху солому и езди, где хочешь. Только один попался в руки живым. Этот милиции хорошо знаком — Мишка Сом, а по документам Михаил Семенович Ткачук. Мелкий жулик, ни в чем серьезном пока не был замешан, хотя вел себя вызывающе и тратил немалые деньги. Теперь-то стало ясно, откуда они у него брались — был посредником при передаче контрабандного спирта и, может быть, и других товаров. Алексей Павлович специально затягивал допрос: нужно, чтобы человек поволновался. — Ну что ж, Михаил Семенович, давайте побеседуем… — сказал Ковнер. — Подсаживайтесь ближе… Сом вздрогнул, услышав свое имя и отчество: только единственный раз вот так же обратились к нему — в Одесской губчека. От трибунала его тогда спасла амнистия. «Значит, плохо дело», — подумал он, тяжело вставая и подходя к столу. — Садитесь… Значит, вы, Михаил Семенович Ткачук, родились в Голте… Красивый город, был я там. Вы знаете, что его сейчас переименовали, называют Первомайском? — Нет, не слыхал… — Ну, разве можно быть таким отсталым человеком! — упрекнул Ковнер. — Во всех газетах об этом писали… Так, когда тебе, — перешел Ковнер на «ты», — было десять лет, семья переехала в Одессу. Работу отец что ли искал? — Тогда на заводе Гана была забастовка, ну и отца, как участника ее, уволили. Он и переехал в Одессу. — А где сейчас отец? — Погиб он. Во время империалистической… — А Сомом тебя почему прозвали? — В Одессе это. Пошли мы на море с ребятами, стали под камнем рыбу ловить. Я вытащил рыбину, да и кричу: «Братцы, сома поймал!» А ребята смеются: «Сам ты, говорят, сом! Это же бычок!..»- вот так с тех пор и прозвали Сомом… — И отец у тебя, похоже, был хорошим человеком, и детство у тебя, вроде, было хорошим, а вырос ты бандитом… Сом передернулся, — не ожидал, что его могут так назвать. — Да, Сом, бандитом. Разве доставлять оружие с иностранного судна белогвардейским шайкам не бандитизм? Самый настоящий! — Оружие? Я не знал, что в ящике оружие. — Знал, Сом, знал… А как ты назовешь вооруженное сопротивление и убийство милиционера? Мишка побелел. — Я не стрелял, у меня и оружия не было! Но Алексей Павлович твердо был уверен в обратном. Тот, что умчался на лошади, конечно же, не бросил своего оружия. Возле неизвестного убитого лежал «парабеллум», а в руке зажата новая обойма — по-видимому, смерть настигла его, когда он хотел перезарядить пистолет. На месте боя был найден еще наган, в барабане которого остался невыстреленным один патрон. Кому он мог принадлежать? Только Сому. — Ты знаешь, что такое дактилоскопия? Ну, определение личности по отпечаткам пальцев? — Мишка кивнул головой. — Ну так вот посмотри. Это — отпечатки твоих пальцев, взятые здесь, а это — снятые с рукоятки нагана. Сом опустил голову. Но вдруг вскинул ее, взглянул на Ковнера и почти закричал: — Не убивал я!.. Я в воздух стрелял!.. — Не кричи, я не глухой. Сейчас разберемся. Ты знаешь, что такое баллистическая экспертиза? Ну, как бы тебе это лучше объяснить… В общем, если из двух револьверов выстрелить, а потом исследовать пули, то можно определить, из какого пистолета какая пуля. — Мишка слушал. — Дело в том — продолжал Ковнер, — что каналы ствола совершенно одинаковыми не бывают. На одном инструмент оставил свои заусеницы одной формы, на другом — другой. Влияет изношенность ствола, раковины, образовавшиеся от коррозии. Понимаешь? — Сом — утвердительно кивнул головой. — Если выстрелить из подозреваемого оружия и пулю сравнить с ранее обнаруженной, то будет ясно, кто стрелял. Вот мы так и сделали. Извлекли пулю из тела убитого милиционера, затем, уже здесь, сделали выстрел из твоего нагана, у нас в подвале есть для этого специальная комната: выстрел делается в ватный матрац, а пулю потом найти нетрудно. С обеих пуль сняли оболочки, сфотографировали их, увеличили, и вот смотри, что получилось, — пододвинул он Сому фотографические от печатки. В действительности в СУРе не было лаборатории, в которой можно было бы произвести баллистическую экспертизу. Ковнер вырезал фотографии из иностранного криминалистического журнала. Да и операция на этот раз обошлась без потерь, только одному милиционеру пуля пробила мышечные ткани в предплечье. Но как иначе можно было заставить заговорить Сома? Сом смотрел, фотографии были одинаковыми. — Что же теперь? — прошептал он. — Ты лучше меня знаешь, что за такое положено. И даже смягчающих вину обстоятельств нет… Впрочем, Советская власть умеет не только наказывать, но и прощать… Ты газеты читаешь? Нет… Жалко. Так вот, недавно белогвардейский генерал Слащев… Слыхал такого? — Мишка кивнул головой. — Слащев прибыл в Советскую Россию. И правительство его простило, хотя на его руках, ох, как много крови. Простило и всех офицеров, которые вернулись вместе с ним. — И меня могут простить? Ковнер молчал. — Я могу только ходатайствовать об этом, а все дело решает суд, — сказал он. — Ну, а просить я буду только тогда, когда ты будешь откровенным. — Меня убьют, если я все расскажу! — Кто? Можешь быть уверен — тебе со своими друзьями теперь долго не придется встречаться. А впрочем, как хочешь… Да мы, собственно, и сами все знаем… — Позавчера ночью вы выходили на шлюпке в море. Вместе с вами был и «Апостол»… — Что вы! — с испугом воскликнул Сом. — «Апостол» на операции никогда не ходит. Да и вообще о нем… И я-то узнал случайно… Нет, я был с Вовкой Орехом… «Вот, брат, с какими ты китами связан! — отметил про себя Алексей Павлович. — Вовка Орех… Впрочем, это только одно из его прозвищ. Зовут его и Счастливчиком, и Студентом, и даже Профессором. Поговаривают, что Орех когда-то учился на юридическом факультете университета, потом связался с преступным миром. Или он был уж очень удачлив, или предусмотрителен, но ни разу — ни до революции, ни после — не был задержан. Вот и сейчас похоже, он возглавляет крупную воровскую шайку, а может, и руководит всеми преступниками города. Уголовный розыск охотится за ним давно, удавалось выслеживать его квартиры — „малины“, проводились облавы там, где он бывал, но Орех-Счастливчик-Студент-Профессор был неуловим». «А может, его кто-то предупреждает?» — уже не в первый раз подумал Ковнер. — Значит, с Вовкой Орехом? Не узнали мы его в темноте… В море вы встретились с греческой шхуной «Архангел Михаил», вам передали с нее шестнадцать бидонов со спиртом и два ящика с оружием. Один ящик упал в воду… Сом удивленно посмотрел на Ковнера. — Так? — Так… — Что вы передали на шхуну? «Раз и без того все известно, то и скрывать нечего», — решил Мишка и ответил: — Икону. — Из Покровского собора? — Да. — Вы участвовали в ограблении собора? — Нет, я там не был. — Кто же принес икону к бухте? — Орех… Его люди. — А где лодку взяли? — Она всегда в бухте стоит. — И никто ее не уводит? — Что вы! Ведь это лодка Ореха! — Вот оно как!.. Значит, сели в шлюпку и вышли в море? — Нет, дождались сигнала с моря. — А потом? — Гребли, пока не увидели судна, а когда подошли к борту, один ящик упал в воду. Все это на берегу спрятали в развалинах старых зданий. Я остался стеречь, а Орех ушел. — Когда вас обнаружили, там было несколько человек. Кто они? — Эти двое приехали на повозке, когда начало темнеть. Кто они — не знаю. А тут вы… Один вскочил на лошадь и ускакал, а тот… — Вы только с «Архангела Михаила» получали контрабанду или с других шхун тоже? — И с других. С «Архангела»… Потом с «Доротеи». С «Джалиты», когда она еще не была конфискована. — Доставляли спирт, оружие, что еще? — В основном спирт. Иногда сахарин, белье разное, такие тяжелые ящики бывали редко… — Кто же вам сообщал, когда придет судно? — Я не знаю. Мои обязанности — грести, принимать груз, ну и иногда разносить жестянки… Видел я, что Орех встречался с каким-то человеком. Высокий, худощавый, с усиками. Ходит в котелке и сером костюме. Его еще «Французом» называют. Многие из ранее задержанных упоминали про человека средних лет, с усиками, в котелке и сером костюме, то ли грека, то ли в самом деле француза. Кто он — пока узнать не удалось, но похоже, что он осуществлял связь между поставщиками контрабанды и преступным миром. Да, и почему так испугался Со при упоминании имени «Апостола»? Много следовало бы узнать у Мишки, но Ковнер торопился — остались считанные минуты до начала совещания в ревкоме. В другое время он сообщил бы, что не может быть на совещании, но на этот раз нельзя — будет разрабатываться план совместной операции по ликвидации белогвардейской банды Коловрева, а после совещания необходимо побывать на шхуне «Архангел Михаил», только что пришедшей в порт. «Теперь Сом никуда не денется, вечером все выясню», — решил Ковнер. — Что ж, Михаил, иди пока, — сказал он. — В хорошую компанию ты, однако, попал. Один — белогвардейский офицер, другой — отпетый бандит, для которого нет ничего святого — удрал, своих товарищей оставив в беде. А Вовка Орех всю жизнь за чужие спины прятался, потому и слывет Счастливчиком. Сом поднял глаза на Ковнера: с этих позиций он действия своих друзей не оценивал. После того, как увели арестованного, зашел Бугримов. — Товарищ начальник, — с порога начал он, а ведь тот, что в морге, мне знаком. — Да ну! Кто же он? — Этого я точно не знаю. Но тогда, в Бешуйских копях, он вроде главного был. Когда на меня набросились, так он крикнул: «Прекратить!» А потом говорит: «Зачем же сразу человека жизни решать, пусть он сначала о своих базах расскажет…» Плетку в ход пустил, потом стал стрелять из револьвера, да так, чтобы не убить. В руки, в ноги… После из меня четыре пули вынули, да три насквозь прошли — целый барабан. И все его. А уж под конец — саблей, — показал он на закрытый резиновым кружком правый глаз. — Я его навек запомнил, и голосок его тихий, и глаза круглые, немигающие, и подбородок необычный — так раздвоен, словно разрублен. Голоса-то он теперь лишился, глаза поблекли, а вот подбородок- его. Тогда на погонах у него три звездочки было — штабс-капитан… В своих предположениях Ковнер не ошибся, только вот из какой банды прибыл этот штабс-капитан? Коловрева? Но поступили сведения, что и отряд врангелевского полковника Сташевского бродит неподалеку…«Архангел Михаил»
Разгрузка шхуны «Архангел Михаил» уже закончилась. Последние плуги и мешки с продовольствием укладывались на подводы. Можно было подумать, что капитан «Михаила» ждал прибытия работников уголовного розыска, а может быть, и в самом деле ждал: он сразу же пригласил прибывших на судно. В каюте у капитана были приготовлены ракия и сладости. — Прошу! — пригласил капитан. Он неплохо говорил по-русски, и потому переводчика не требовалось. — Обыскивать будете? — Зачем? Так арестуем. — Ну, для этого даже в вашей стране нужны основания — захватить, как говорили древние римляне, «инфлагранто деликта» — на месте преступления. — А у нас и без того есть основания. На складах фирмы в тюках с шерстью, приготовленной для погрузки на вашу шхуну, обнаружена контрабанда — золотые и серебряные изделия, драгоценности. — Так вы и предъявляйте претензии к фирме, причем же здесь капитан? — Контрабанда должна поступить на ваше судно. — Должна, но не поступила. Вы не допускаете такой возможности, что капитан может не принять такой товар? — Вообще-то допускаю, но не для капитана «Архангела Михаила». — Позвольте узнать, почему? — Вы же приняли контрабандный спирт в Пирее… — Ковнер помедлил секунду и добавил: — И оружие. — У вас есть доказательства? — капитан и спрашивал, и отвечал спокойно, улыбаясь. — Что ж, я с детства люблю истории про пиратов и контрабандистов. — Ну, про пиратов как-нибудь после, попозже, а про контрабандистов — пожалуйста. Так вот, шхуна под названием «Архангел Михаил» вышла из Пирен… Какого числа? — В судовом журнале записано. — …В день, указанный в судовом журнале, шхуна вышла из Пирея, имея на борту, кроме зарегистрированных грузов, шестнадцать бидонов спирта и два ящика с оружием. — Ваша история начинает быть интересной! Продолжайте, пожалуйста… — В пятницу ночью она подошла к берегам Крыма, и на траверзе Карантинной бухты, у Севастополя, подала условный световой сигнал. — Кому? Береговым пиратам? — Нет, приемщикам контрабанды. Они нам знакомы как Вовка Орех и Мишка Сом. К «Архангелу Михаилу» подошла шлюпка, и Мишка Сом с Орехом приняли груз, то есть контрабанду. Не будем вдаваться в подробности, но через некоторое время и контрабанда, и названные лица попали в милицию. Как вы, наверное, помните, древние римляне говорили: «закон суров, но это закон». За доставку контрабанды шхуна «Архангел Михаил» подлежит аресту. — Суд поверит документам, а не показаниям людей, которые, по вашему собственному выражению, не заслуживают доверия. Ваши свидетели отпадают… Вещественные доказательства, — продолжал капитан, — не имеют никакого отношения к моей шхуне. У меня находилось и находится на борту только то, что подтверждается судовыми документами. Правда, на борту есть два бидона спирта, но они предназначены для нужд команды. Все, что вы мне тут говорили, не больше чем занятная история. Позвольте поблагодарить вас за нее, — и капитан поднялся, давая понять, что разговор окончен. Ковнер пододвинул костыли к себе, но вставать не торопился. — Когда ящик упал в воду, он стукнулся о борт шхуны. Водолазы подняли ящик, на нем есть следы краски. Надеюсь, вы не будете возражать, если наши работники возьмут образец краски с бортов вашей шхуны для анализа. Капитан улыбнулся. — Возможно, на борту шхуны и были царапины, вы сами понимаете, швартовка не всегда проходит благополучно. Но плох тот капитан, который приходит с исцарапанными бортами в иностранный порт. Боцман, наверное, уже успел привести их в порядок… «Даже это предусмотрел», — подумал Алексей Павлович, а вслух заметил: — Есть, и еще одно вещественное доказательство. Какое же? — Да вот над вами. — Икона что ли? — Она. Из Покровского собора. Украдена и передана вам. — Может, похожа, да только это не она. Смотрите, — капитан показал на серебряную дощечку, прикрепленную к окладу. — Дар Афонского монастыря. «Все у него предусмотрено, видно, не первый год такими делами занимается, — подумал Алексей Павлович, поднимаясь. — Что ж, пока прямых доказательств участия „Архангела Михаила“ в доставке контрабанды нет, обвинение придется строить на показаниях Сома… Не хотелось бы Худояша и Цыганка привлекать к этому делу, да, как видно, придется…» Ковнер вышел на палубу и вдруг услышал крики и брань, несшиеся из носового кубрика. Потом тумбучина откинулась, и на палубу выскочил окровавленный матрос в разорванной одежде. Мешая греческие и русские слова, он кричал, что капитан — мошенник, боцман — бандит и что он, Георгий, не хочет больше служить на этой проклятой шхуне. — Возьмите меня с собой! — кинулся матрос к Ковнеру. Они меня здесь убьют, в море выбросят. Говорят, будто я виноват в том, что ящик упал в воду. Капитан пожал плечами: — Такому свидетелю веры все равно не будет. Мало ли что он из мести может наговорить. Так в Советской России появился новый гражданин — Георгий Полигиросос, или просто Юра Грек.Чрезвычайное происшествие
В угрозыске Ковнера ждало известие: погиб Миша Сом. Причем никто даже не мог объяснить толком, как это случилось. Конвойный твердил: — Повел я его в камеру через двор. Он только вышел на крыльцо и тут же: обратно рванулся, зашептал испуганно: «Апостол!.. Апостол!..» А у самого лицо белое и губы трясутся. — Ты что, брат, — говорю, — рехнулся? Тут святые не водятся. Он вроде бы взял себя в руки, зашагал. Спустился с крыльца — и упал. Что такое? Я стал его поднимать. Смотрю, а у него из виска кровь течет… Что-то он прошептал напоследок вроде бы снова «Апостол». Ковнер прошел тем же путем, которым вели Сома, конвойный показал ему место, где упал Мишка. Не могли здесь убить Сома. Здание СУРа стояло на холме, почти на самом высоком месте города. Случайная пуля? Но кто мог знать, что именно в этот момент Сом был на допросе и вот-вот должен был выйти во двор? Значит, убить мог тот, кто находился на территории угрозыска. Получалось, что стрелять могли только из угла двора. Ковнер направился в этот угол, тяжело опираясь на костыли. Точно, отсюда удобно: небольшое строение, рядом кусты дерезы и боярышника, за ними решетка водостока. Алексей Павлович сразу догадался, что перед ним именно тот секретный ход, о котором докладывал Бугримов. «Кто знал об этом ходе?» — подумал Ковнер и заторопился к себе в кабинет. «Но „Апостол“, „Апостол“!.. Почему так испугался Сом, когда была названа мной эта кличка? Почему он перед смертью вспомнил его?» — не давала покоя мысль Ковнеру. — Принесите картотеку! — приказал он дежурному. Когда Ковнер был назначен начальником уголовного розыска, он осмотрел дореволюционные архивы Севастопольской полиции и жандармского управления. В груде сваленных в подвале дел нашли картотеку уголовников. Ковнер просмотрел ее тогда бегло, думая более подробно ознакомиться с ней позднее: практика показала, что в уголовном мире опытные преступники прошлого концентрируют вокруг себя деклассированных личностей, беспризорников, вовлекают их в свои шайки. При просмотре картотеки Алексей Павлович обратил внимание на кличку «Апостол». Ее обладателем оказался бандит, на счету которого были вооруженные ограбления и убийства. Дежурный принес ящик, Ковнер стал перебирать карточки — карточки «Апостола» среди них не было. — Где хранилась картотека? — В основном в дежурке, но брали ее и в отделы. — Кто-нибудь из посторонних мог иметь к ней доступ? — Разве когда дежурный отлучался, ну как я сейчас, например. — Да, есть над чем задуматься. В здании уголовного розыска убивают арестованного жулика, который знал многое. А перед смертью тот вспоминает «Апостола». И надо же, в картотеке, хранящейся в уголовном розыске, исчезает карточка на «Апостола»… Эту карточку мог похитить и посторонний, но это мало вероятно. Возвратившийся Бугримов преподнес еще один сюрприз: — Ушел Орех! — безо всяких предисловий доложил он. — Оцепили мы дом. Дверь заперта, на стук не открывают. Взломали. В комнате пусто, а на столе — вот это, — и он положил перед Ковнером лист желтой бумаги. На бумаге был карандашный рисунок: сидит за столом человек. Несмотря на карикатурность изображения, все же с первого взгляда видно — Ковнер. А внизу текст: «Извините, начальник, я понимаю Ваше желание встретиться со мной, но я не могу доставить Вам этого удовольствия, так как тороплюсь в другой город. Что поделаешь — дела! Владимир Орех, больше известный под именем Студента». — Что значит грамотность! И не бесталанный. Сходство верно схвачено… Ну, положим, он мог меня видеть. А вот откуда это известно, — показал Ковнер на рисунок, — телефон и костыли у стола. В этом кабинете он не был. — Я вам давно, Алексей Павлович, говорю — не все ладно у нас. — Давайте разберемся по порядку. Кто знал о секретном ходе? — Я, вы. Показал этим двум хлопцам. Ну и еще Подымову. — Ему-то зачем? — Когда ребята здесь очутились, он все допытывался — как? И потом, он же не барыга с обжорного ряда, а ваш первый… — Тогда посмотрим, кому было выгодно убить Сома. Возьмем меня — и он написал на листе бумаги свою фамилию: «А. П. Ковнер». Себя-то зачем? — Ладно, ладно… Ну, во-первых, мне с моими ногами через этот лаз перебраться трудно. И потом, зачем мне лишать жизни человека, показания которого могли бы мне очень помочь? Значит, я отпадаю. Теперь посмотрим коменданта, — и на листе бумаги появилась новая фамилия: «Б. П. Бугримов». — Не будем разбирать, были ли причины у Бугримова «убирать» Сома, у него есть «алиби»: когда я вел допрос, вы уже выехали на операцию. Посмотрим Худояша и Цыганка. Придется их исключить — они в это время находились в камере и к тому же они безоружны. — Я дал Худояшу браунинг, а у Цыганка есть финка, — вставил Бугримов. — Но стреляли из маузера, — и Ковнер положил на стол пулю. — Насколько мне известно, у преступников «маузеры» встречаются очень редко. Даже у нас только у командного состава. Остается один человек, — и Ковнер обвел фамилию Подымова и поставил рядом знак вопроса. — Неладно о нем говорят… — заметил Бугримов. — Связан он якобы с преступниками. Потому и одет не в пример остальным. Действительно, почти все работники милиции в основном донашивали военную форму, и только Подымов блестел хромовой кожей. — Я спрашивал у него, говорит, что Реввоенсовет фронта за участие в прорыве врангелевских позиций на Чонгаре наградил его обмундированием. — Так-то это так… Есть у меня дружок, он сейчас в порту служит, а раньше в составе тридцатой дивизии, которая Чонгар брала, находился. Не помнит он такого. А если наградили — должен быть известным человеком. — Как сказать… В операции участвовали десятки тысяч человек. Домыслы, догадки, предположения… Ладно, идите, — сказал Ковнер и спрятал листок бумаги, на котором рядом с фамилией Подымова стояло уже три вопросительных знака. — К вам тут один гражданин должен прийти. Он тоже хотел видеть Ореха. Думал я его арестовать, да нельзя — оказался иностранным подданным. Вот я его и попросил… — А вдруг не послушает? — Придет! Я ему пообещал, что под землей найду, со дна моря достану. Ковнер ничего не сказал, он думал уже о другом. «Доротея» арестована, поймана с поличным. Отделения фирм «Камхи» и «Витое» предстанут перед судом, а вот «Архангел Михаил» ускользает. Мишка Сом, который мог бы дать показания, погиб. Вовка Орех сбежал. Худояша и Цыганка не хочется выводить на это дело, да и что они могут сказать? У них нет никаких доказательств, что «Архангел Михаил» и подходившая к Карантинной бухте шхуна — одно и тоже судно. Остается только Юрий Грек. А это опора шаткая, опытные юристы без труда сведут на «нет» его показания. Вот разве настоятель Покровского собора опознает икону. Но не загипнотизирует ли его прикрепленная к иконе пластинка с дарственной надписью?Негоциант из Натягайловки
Ковнер думал о «Доротее», а из головы не выходила история с Мишкой Сомом. Когда Мишку выводили из помещения, он увидел кого-то во дворе. Возможно, «Апостола». Но ведь конвойный его не заметил… Значит, успел скрыться. А скрыться можно только в кустах дерезы около водостока. Ох, этот водосток!.. Бугримов, принимая обязанности коменданта, ощупал каждый камень в ограде. Тогда-то он и заметил, что штыри, удерживавшие решетку водостока, перержавели. Доложил об этом Ковнеру. И тот предложил сделать потайной ход. Так появилась защелка на решетке. И вот к чему все это привело. А может, решетка тут ни при чем, может, и без этого Сом был бы убит? Его размышления прервал дежурный: — Там какая-то рожа в котелке вас спрашивает! — А точнее доложить не можете? — Ковнер сердито вскинул глаза на дежурного. — Сейчас! Через минуту перед Ковнером стоял высокий представительный человек, черноглазый, черноусый, с интеллигентным лицом. Одет в модный светло-серый, в крупную клетку костюм, лаковые остроносые туфли, на голове котелок. Именно таким рисовали уполномоченного иностранных фирм и Мишка Сом, и председатель грузовой артели «Ювелир», которая переплавляла золотой и серебряный лом в слитки. — Такой огромный матрос, — посетитель поднял руку выше головы, — с повязкой на глазу, так настойчиво просил меня зайти к вам, что я понял: явка обязательна. И вот я здесь. — Простите, а с кем имею честь? — Греческий негоциант Жан-Жак Цыпаревич. — Вы так хорошо говорите по-русски… — Я родился на Украине, в местечке Натягайловка. О Натягайловке Ковнер слыхал: небольшой хуторок на окраине Вознесенска — городка, расположенного в ста двадцати верстах от Одессы. — И долго там жили? — До восемнадцатого года. — И чем занимались? — Коммерцией. В Натягайловке все занимались коммерцией: торговали на Вознесенском базаре кто чем может. Говорят, что именно в Натягайловке родился анекдот о коммерсанте, который покупал сырые яйца, варил их, а затем продавал по той же цене, барышом считая оставшийся навар. Такой же примерно барыш был и у Цыпаревича, и в семнадцатом году Цыпаревич перебрался в Одессу. — Чем же вы занимались в Одессе? — Коммерцией. — А конкретно? — Продажей движимого и недвижимого имущества. Из недвижимого имущества Жан-Жак Цыпаревич продал только- лачугу своей тетки, жившей на Молдаванке. А вот о движимом имуществе — разговор особый. В то время в Одессу съехалась чуть ли не вся знать обеих столиц и других городов. «Сколько же потребуется теперь для них ночных горшков!» — подумал Цыпаревич и решил поставить снабжение населения на широкую ногу. Уговорив тетю продать домишко, он на вырученные деньги закупил горшки и снял помещение для магазина. Однако князья и графы, финансовые тузы и промышленные воротилы проклинали большевиков и революцию, проматывали драгоценности в одесских кабаках, но ночными горшками обзаводиться не торопились. Ему удалось в поистине вавилонском столпотворении февраля 1920 года уехать из Одессы за границу. — Почему же вы покинули родину? Ведь революция навсегда покончила с проклятым наследием царизма — национальным и социальным угнетением, вы теперь были бы как все — полноправным гражданином Советского государства… — Я не хотел быть как все, я хотел иметь свой миллион, — ответил греческий подданный. — И имеете? Цыпаревич неопределенно пожал плечами: — Вы же прервали мою деятельность, закрыли фирмы. «Имеет, бродяга, имеет», — решил Ковнер. А вслух сказал: — Ну, ладно о миллионах. Чем вы занимаетесь сейчас? — Коммерцией. — Точнее. — Поверенный в делах фирм «Камхи» и «Витое», — с гордостью ответил Цыпаревич. — Интересно, какое же вы жалование получаете? — Я — в долевом участии. — Как это? Совладелец фирм? — Нет, получаю проценты от проведенных операций. — Расскажите конкретно, какие задания вам приходилось выполнять? — Но это является секретом фирм! — Слушайте, господин Цыпаревич, вы тут такое натворили, что вас можно сейчас же, сию минуту отдать под суд! — Позвольте, — сделал негодующий жест негоциант, — я действовал строго в рамках закона!.. — Быть наводчиком при ограблении собора — это в рамках закона? — Не понимаю, о чем вы говорите. — Да о том, что вы указали главарю воровской шайки Вовке Ореху, какую икону нужно украсть из собора! — Ничего подобного, я этого не делал. Как-то господин Шмидт, управляющий отделением фирмы «Витое», сказал мне, что ему очень нравится икона в соборе. И когда меня спросили, какая икона нравится господину Шмидту, я сказал. Вот и все. Я и думать не мог, что собор обворуют! — А сообщение контрабандистам о времени прихода шхун — это тоже в рамках закона? — Я, как поверенный в делах фирм сообщал клиентам, когда прибудут зафрахтованные ими суда. Вот и все. Я же не знал, что их клиенты являются контрабандистами. — А оплата за проданную контрабанду? А связь с ювелирной артелью помимо горсовета? — Я выполнял задания фирм! — Вы же опытный человек, вы всю жизнь занимаетесь коммерцией, неужели вы не понимали, что делали? — Я, конечно, понимал, но формально я должен был выполнять указания руководителей фирм по связи с клиентами. — Нами установлено, что деятельность фирм выходила за рамки, предусмотренные законом. Таким образом, вы, как служащий фирм, являетесь соучастником незаконных действий. — Я не состоял в штате фирм, я действовал на процентных условиях и таким образом формально… — Если вы служащий фирм — то являетесь соучастником их незаконных действий, если нет — то вы соучастник воровских шаек. Будете вы отвечать на мои вопросы или вам следует официально предъявить обвинение? — Ну что вы, зачем официальные обвинения? Я вам все скажу, что знаю, но я не знаю, что вы хотите знать! — Правду. Итак, какие задания вы передавали артели «Ювелир»? — О, вы это уже знаете! Так об чем речь!.. Цыпаревич явно волновался, с него сошел весь лоск, он стал обыкновенным натягайловским торговцем. — Я прошу вас рассказать, какие задания фирмы вы передавали артели, как часто это было? Цыпаревич рассказал, как приносил драгоценный лом в артель и как там переплавляли его в слитки. — Вы знали, что многие вещи краденые? — Знал. То есть нет, откуда мне было знать? — Да или нет? — Никто мне этого не говорил, но я догадывался. — Откуда у голодранца Савки может быть кубок работы парижских мастеров? Тут и слепому ясно — украл…. — Кому вы сообщали о приходе судов? — Я никого не знал, кроме господина Ореха. Знал, то я, конечно знал, но сообщения передавал только ему. — Сведения получали от руководителей фирм? — Откуда же еще? Только они знали точное время прихода судов. — Орех и его дружки встречали суда, забирали контрабанду и передавали ее кому следует, так? — Мне этого никто не говорил, но это таки было так. — Что же привозилось? — Мне не сообщали, но я таки знаю: спирт, сахарин, чулки, женское белье. — А оружие? — А было и оружие? — Было. — Мне об этом никто ничего не говорил, но я таки знаю- было… — Чем рассчитывались за полученный товар? — Золото, серебро, валюта, драгоценные камни. Иногда картины, иконы, ковры. — Орех и его друзья сами все это доставляли на фирму? — Нет, все расчеты велись только через меня. — А сегодня зачем вы шли к Ореху? — Передать вот это, — и Цыпаревич достал из кармана пакет. — Ого! — не удержался от восклицания Ковнер. — Доллары, фунты стерлингов. И всегда рассчитывались с доставщиками валютой? — Я в конверты не заглядывал, но я таки знаю: обычно идут драхмы и лиры, а когда особый товар — доллары и фунты. — Особый товар — это оружие? — Цыпаревич утвердительно кивнул головой.«Апостол»
Вечерами Ковнер изучал незаконченные, или, как говорили в СУРе, «незакрытые» дела. «Посетители» в это время обычно не докучали — их «рассортировали» дежурные по милиции: одних отправили в камеры, других — домой. Но на этот раз дежурному попался такой настырный посетитель, — пропустите его к начальнику, да и все. И вроде не пьяный, правда, вид не очень-то внушающий доверие: на костылях, пиджачишко старый, залатанный на локтях, лицо замотано тряпкой, из-под повязки видны только глаза. Провел дежурный посетителя наверх, а сам остался в кабинете посмотреть, а что же будет: начальник СУРа хотя и умнейший человек, но постоять за себя не может — куда ему с больными-то ногами. Да еще имеет привычку «маузер» — держать в ящике стола — об этом все в угрозыске знают. Ковнер взглянул на посетителя, махнул рукой дежурному: — Идите, идите, тут все в порядке! И к вошедшему: — Что это еще за маскарад? Дед Хапич поставил в угол костыли, размотал полотенце, вздохнул облегченно: — Дело срочное, Алексей Павлович, пришлось нарушить договор. — Что же теперь сделаешь, если пришел! Что случилось? — Сейчас расскажу, — неторопливо начал Хапич, усаживаясь на стул. — Пошел я с Петей гулять на Приморский бульвар… Я вам рассказывал, что у меня дружок погиб на «Марии», так я его вдове помогаю, а недавно сынишку к себе взял. Сидим мы, любуемся. Смотрю: к будке часовщика Яшки ваш один подошел. Ну, такой нарядный, в коже весь. Да его весь город знает… — Подымов? — Фамилия мне его неизвестна, да только другого такого нет. Ну, что ж, подошел и подошел, мало ли у часовщика людей бывает. И этот часы показал, постоял с минуту и ушел. Яшка тут же свою будку на замок — и к рынку. Заинтересовало это меня. Сами понимаете, следить за ним мне, не с руки… Вот я и говорю Петьке: «Жми, парень, за ним, потом доложишь!..» Проследил он Яшку до домика за базаром, на Крутой улице. Яшка постучал каким-то особым способом в окно, зашел туда и буквально через минуту опять появился. Петька сообразил, что не зря он сюда приходил, притаился за кустиками, стал ждать. Минут через пятнадцать из домика вышел хорошо одетый человек с небольшим чемоданчиком и быстро зашагал к базару. Петруша хотел было за ним, да тут у домика ваши появились: комендант, еще люди. Оцепили домик, зашли туда, да никого там не оказалось… Вот такие дела, а уж что к чему — вы сами разбирайтесь. — Разберемся, Харитон Пименович, разберемся. Спасибо, большую помощь вы нам оказали… Потом я вам сообщу о результатах, а пока нам самим еще не все ясно. — Да это уж ваше дело. Я понимаю, не все можно даже самым доверенным людям рассказывать… Так я пойду… Как только посетитель вышел, Алексей Павлович вызвал Кайдана. — Вам не попадалась на глаза будочка неподалеку от памятника Затопленным Кораблям на Приморском бульваре? Там часы ремонтируют. — Это Яшки-часовщика? Ну кто его не знает! — ответил Кайдан. — Чем же он так знаменит? — Ремонтирует хорошо. Даже если принесешь ему колесико — он из него часы сделает. Ну и потом через него все можно достать, хоть спирт, хоть кокаин. — Вот оно как. Завтра утром сходи к нему и спроси, что, мол, ему велел передать «Апостол» для Вовки Ореха. — «Апостол»? Откуда он здесь взялся? — Да вот появился. И говорят, давненько. А что? — Мне батя о нем рассказывал. Отпетый бандит, будто бы еще при царе был осужден на пожизненную каторгу. Потом,когда Керенский открыл все тюрьмы и выпустил уголовников на волю, «Апостол» организовал шайку и в Екатеринославской губернии наводил ужас на население. Отец несколько месяцев со своим отрядом рядом преследовал его группу, она была рассеяна, а «Апостол» исчез. Так что, если он здесь объявился, надо с ним кончать. Страшный человек. — Отец видел «Апостола»? — Не знаю, не спрашивал… Хотя, стойте, наверное, видел. Он рассказывал, как они окружили шайку на хуторе. Многих порешили, но «Апостол», отстреливаясь, ушел. — Тогда пригласи отца. Пусть утром придет и под видом пьяного посидит около дежурного. Хорошо? Ковнер вставал в шесть утра, быстро умывался, полчаса ходил по коридору, поскрипывая костылями. Садясь за работу, в первую очередь просматривал самые сложные дела. Затем ему приносили сводки, донесения, и начинался суматошный день, кончавшийся в десять-одиннадцать вечера. Но в это утро он прошелся по коридору всего пару раз и сразу же — в кабинет. И как ни кинь, получалось, что у него, в угрозыске, засел враг. Да, он его первый заместитель, Подымов. Теперь-то это уже не вызывало сомнений. Мелкие преступления — кражи, ограбления он раскрывал с молниеносной быстротой, можно было подумать, что он знает лично всех преступников и догадывается, кто из них что может сделать. А когда дело доходило до серьезных операций, словно кто-то невидимый вставлял палки в колеса. Так было и с операцией у Максимовой дачи. Были получены точные сведения о предстоящем налете банды Коловрева на этот пригородный совхоз. А операция сорвалась, бандиты сделали налет на другое село. Руководить этой операцией поручалось Подымову. Вспомнились и другие факты. Да вот последний: были получены сведения о местонахождении Вовки Ореха. Быстро сколотили оперативную группу, поставили во главе ее Подымова. Однако он отказался. — Пусть Бугримов ведет, тут особой сложности нет, А у меня другое дело наклевывается… Орех оказался предупрежденным. Сбежал. Вскоре явился с докладом Кайдан: — Яша просто взорвался, когда я ему задал этот вопрос. «Никаких, — говорит, — „Апостолов“ и „Орехов“ я не знаю. Подошел ко мне прилично одетый гражданин, сказал адрес, попросил сходить туда и сказать, что, мол, охотники собрались и пора выходить. И положил передо мной царский серебряный рубль, который сейчас стоит миллион с гаком. Почему мне не уважить человека, ведь я на эти деньги целую неделю вожусь с колесиками. Дайте мне миллион, я для вас любое поручение выполню…» — Что ж, пригласи ко мне Бугримова, а минут через десять скажи Подымову, что сегодня проводятся учебные стрельбы. Там же, в подвале. Сам вместе с ним придешь и постарайся пройти мимо своего отца. Он уже здесь? — Сидит около дежурного. Но… — Вы слышали, что я вам сказал? Повторите приказ! Есть. Через десять минут передать начальнику оперативно-секретного отдела товарищу Подымову, что состоятся обычные учебные стрельбы в подвале, явиться туда вместе с ним и пройти так, чтобы его видел мой отец. — Все, выполняйте. В подвале внимательно следите за комендантом — будете поступать так же, как он. Алексей Павлович Ковнер с первых дней работы в уголовном розыске вынашивал мечту — создать лабораторию для проведения баллистической экспертизы. Было подобрано помещение в подвале для проведения экспериментальной стрельбы, но пока не было оборудования, там проводились учебные стрельбы работников СУР а — надо же людям владеть оружием. Приказ Ковнера — провести сегодня стрельбы выглядел вполне естественным. Первыми в подвал спустились сам начальник с Бугримовым. Комендант был посвящен в план операции. Он отстегнул ремешок у колодки «маузера», чтобы сразу можно было выхватить пистолет. Через несколько минут появились и Подымов с Кайданом. Лицо Кайдана было растерянным, в ответ на вопрошающий взгляд Алексея Павловича он утвердительно кивнул головой и прошептал едва слышно: — Он!.. Казалось, Ковнер даже повеселел. Сказал Кайдану: — Развесь-ка мишени! Тот быстро прикрепил на противоположной стене серые листы бумаги с кругами, начерченными углем. — Что-то сегодня народу мало, — заметил Подымов. поздоровавшись. — Заняты пока люди, да и зачем всем толпиться? Вот отстреляемся мы — Бугримов с другими станет проводить занятия. Ну, начнем! — дал команду Ковнер. Он первым сделал несколько выстрелов. За пределы листа пули не вышли, но и в центральных кругах пробоин не было. — Прошлый раз у вас лучше получалось, — заметил Подымов. А Кайдан вообще отличился — все пули у него пошли «за молоком». Зато у Бугримова они ложились кучно. Но лучше всех результаты были у Подымова — он бил, что называется, в «яблочко». — После него снова стрелял Ковнер, и опять неудачно. — Да что такое! — огорченно воскликнул он. — А ну, дайте-ка я из вашего попробую! Подымав протянул начальнику свой пистолет и тут же увидел направленным его себе в грудь. — Что такое? Я же не мишень! — Вот что, гражданин «Апостол», будем считать, что игра окончена… Подымов сжался, словно собрался броситься на Ковнера, но тут же увидел, что на него направили свое оружие и Бугримов с Кайданом. Овладев собой, сказал внешне спокойно: — Если вы меня в чем-то подозреваете, то это нужно еще доказать. — Докажем, докажем! И как вы проникли в угрозыск, и с кем были связаны, все докажем. Уведите его! Да смотрите, это такой тип — на все способен. — Ничего, управимся! — заверил Бугримов. — Дай-ка руки! — и тут же захлестнул их вытащенным из брюк ремнем: — Пошли!Вынужденное заключение
Получилось именно так, как предполагал Цыганок, как только они явились с мешком в уголовный розыск, их сразу направили в камеру. Утром зашел Кайдан. — Слушай, Вась, что же такое делается — воскликнул Цыганок. — Во-первых, не «Вась», а гражданин милиционер, а во- вторых, вы что думаете, вас за ограбление по головке погладят? Это было так неожиданно, что Цыганок не нашелся что ответить. Василий Кайдан пришел в органы милиции по путевке комсомольской организации Морского завода, где принимал участие в разоблачении шайки расхитителей, которые за известную мзду ремонтировали на заводе суда иностранных компаний. Вот и думал, что в СУРе ему поручат расследовать сложные, загадочные дела, а приходилось чуть ли не круглыми, сутками возиться с мелким жульем, проститутками, самогонщиками, беспризорными. Но он чувства юмора не потерял и решил подшутить над друзьями. — Дурак я! Надо было так обчистить эту лавчонку, чтобы никто и не почуял! Посмотрел бы я, какой ты тогда имел бы вид! — совершенно искренне возмутился Цыганок. Тут уж Кайдан не выдержал — лицо его расплылось в улыбке: — Это товарищ Ковнер так распорядился, и для вашего же блага. Здесь безопасно. А вчера с вами всякое могло случиться. — Теперь-то что нам делать? — спросил Цыганок. — Алексей Павлович просил подождать до вечера, а там он вас вызовет. Не забыл о них Ковнер, вызвал. — Давайте, ребята, поговорим откровенно, — такими словами встретил он друзей. — С фирмами и со шхуной «Доротея» все ясно, пойманы, как говорится, с поличным. А вот с «Архангелом Михаилом» сложнее… Капитан ее оказался стреляным воробьем, документы у него в полном порядке. Свидетельских показаний мы лишились. Мишка Сом убит. — Как? — Да вот так получилось, — уклончиво ответил Алексей Павлович. — Другой вероятный свидетель, Вовка Орех, — это он вместе с Сомом ходил к шхуне, скрылся. Есть один человек, — продолжал Ковнер, имея в виду Цыпаревича, — но он иностранный подданный, и неизвестно, как поведет себя на суде. Вы сможете доказать, что шхуна, которую вы видели около Карантинной бухты, была именно «Архангелом Михаилом»? Цыганок посмотрел на Тимофея, Тимофей — на Цыганка, и оба одновременно ответили: — Нет, не сможем… — Видите, что получается — все доказательства косвенные. Бесспорных же доказательств мы пока не имеем… В общем придется вам пока побыть у нас… — А я-то думал Варю навестить, — упавшим голосом сказал Сима. — Это еще кто? — Официантка из «Рваных парусов»… Ну, того кафе, где Мкртчян орудует. Она очень хорошая девушка, и даже удивительно, что там находится, — поспешил заверить Сима. — Ладно, еще увидитесь! Мы выделим вам отдельную камеру и даже снабдим персидским порошком, чтобы клопы не очень буйствовали. Будем давать книги, газеты. Но для всех, кроме меня и коменданта да еще Кайдана, вы — подследственные, которых взяли под стражу… — Ясно… Срок службы-то нам хоть зачтется? — шутя спросил Цыганок. — Само собой, — так же шутливо ответил Ковнер. Потянулись длинные-длинные дни. Ребята откровенно мучились, не знали куда себя деть. Сима нашел себе занятие — ремонтировал часы сотрудников СУРа, починил и два «Ремингтона». Однажды пришел к ним пожилой лысеющий человек — юрист. Расспросил подробно обо всем и задал вопрос: могут ли они доказать, что шхуна, подходившая к Карантинной бухте, называлась «Архангел Михаил». Ребята ответили то же, что и Ковнеру. — Вскоре после этого их вызвал к себе Алексей Павлович. — Ну, как дела? Наверное, проклинаете меня, дескать, взял на работу, а держит в кутузке? — встретил он хлопцев вопросом. — Ничего, вы когда-то говорили, что у нас не будет ни отдыха, ни сна. Вот мы и запасаемся впрок. — Ничего, ребята, наладится дело… А вы молодцы, большое дело сделали. С вашей помощью мы изъяли транспорт контрабанды, в котором было и оружие, предназначавшееся для белогвардейских банд. Мы, по сути, закрыли один, и, кажется, самый главный, канал доставки контрабанды. Молодцы, ребята! — повторил Ковнер. — Руководство УРа выносит вам благодарность и премирует комплектом нового обмундирования! Друзья невольно встали. — Обмундирование мы вам вручим, как только получим, а сейчас вам предоставляется отпуск. До праздников. Вы куда поедете? — спросил он Худояша. Куда мог поехать Тимофей? Конечно, в Николаев. Надо отца повидать — почти два года в разлуке. — Ну, а вы? В Очаков или в Одессу? — В Очакове у меня никого не осталось, в Одессе — делать нечего можно с тобой? — спросил Сима Тимофея. — О чем речь? Конечно! — Хорошо. Во время отпуска постарайтесь изучить двигатели, которые устанавливаются на парусно-моторных шхунах, особенно системы «Болиндер». Да не просто так, а досконально. А потом вы получите новое задание… — Может, сейчас? — Кто вы сейчас для тех, кто вас знает? Мелкие жулики, пойманные при неудачном ограблении магазина. И вот вы появляетесь на воле. Как, для чего, каким образом? Может, вас специально выпустили. А перед праздником будет амнистия, и вы — на свободе. А нам надо узнать, где находится щелочка, через которую ускользают люди за границу. Вот вы и попробуйте найти ее. Понятно? Идите, собирайтесь, а я пока узнаю, не идет ли что в Николаев, чтобы вам по железной дороге не трястись. — Чупахин с нами не поедет? — вспомнил о своем товарище Тимофей. — Хватились! Он уже в Москве, его в спецшколу послали. Выучится, станет организовывать торговлю с заграницей. Вот как! — А что с «Рваными парусами»? — решился, наконец, спросить Сима. — Прикрыли. Правда, небольшая осечка получилась… Когда зашли работники милиции в кафе, Мкртчян сказал: «Адын минут…», вышел в пристройку, да только его и видели. А девушка… Она была у него на положении служанки. — Где сейчас Варсеника… Ну, эта служанка? — Право, не знаю. — Алексей Павлович, у меня… У нас, — взглянул Сима на Тимофея, — к вам просьба. Большая. Помогите Варе. Она хороший человек. Когда мы решили проверить этого Мкртчяна и принесли мешок с товаром в кафе, она нас уговаривала, чтобы мы не занимались воровством, не связывались с Сомом. — И готовит она очень хорошо, — вставил Тимофей. — Ну, что ж, поможем. Нам, между прочим, нужен повар в столовую. А то даже Кайдан, уж на что безответный парень, и то говорит: «Если и дальше так кормить будут — бунт учиню…». Передам деду Хапичу, чтобы он разыскал вашу Варю и прислал ее ко мне…Суд
Следствие по делу о контрабанде длилось долго. И вот суд. На скамью подсудимых сел респектабельный, одетый по последней моде директор фирмы «Камхи» Хаим Паппо: он приехал в Севастополь из Константинополя по делам фирмы и при обнаружении контрабанды на судне арестован. Рядом с ним — невысокий, худощавый, чем-то похожий на подростка капитан «Доротеи» Ламбросос Фокос. Тут же и капитан «Архангела Михаила» Ковачевич, сотрудники фирм «Камхи» и «Витое». Не было среди них только директора Севастопольского отделения фирмы «Витое» Шмидта: он успел скрыться, прихватив с собой принадлежащие фирме бриллианты — 1 100 каратов. Фирмы серьезно подготовились к процессу, наняли лучших русских защитников — бывших дореволюционных светил адвокатуры. Прибыли юристы из Греции. На ведение процесса было израсходовано полтора триллиона рублей — сумма очень крупная даже по астрономическим ценам того времени: на черном рынке на эти деньги можно было купить около ста тысяч золотых червонцев. Представители фирмы «Витое» пытались все свалить на исчезнувшего Шмидта, но не стоило особого труда доказать, что сам он, без содействия руководителей фирм и капитанов судов, не смог бы ничего сделать. Большую помощь обвинению оказал Жан-Жак Цыпаревич. Боязнь пересесть со скамьи свидетелей на скамью подсудимых заставила его рассказать о том, что он знал достоверно и о чем догадывался. Господин Ковачевич, капитан «Архангела Михаила», пытался все отрицать. И небезуспешно: Сом погиб, Орех сбежал, показания Цыпаревича можно было оспаривать, потому что сам он не видел, как шхуна доставляла контрабанду, а только слышал или догадывался. Свидетельства Георгия Полигирососа — Юры Грека — были шаткими, адвокатура выдвинула версию, что он дает изобличающие показания из чувства мести капитану и команде. Настоятель Покровского собора, зачарованный дарственной табличкой из Афона, не мог решить, чья же это икона — украденная из собора или нет. Ковачевич торжествовал. Но работники милиции при повторном обыске обнаружили на дне угольного бункера «Архангела Михаила» три ящика с изделиями из бронзы и слоновой кости, как видно, полученные раньше за доставку контрабанды, а скорее всего откаты от фирм. Многие изделия, как выяснилось, были из крымских дворцов. После этого запирательство уже стало невозможным. Экспертиза установила, что дарственная таблица на иконе приделана к ней недавно. Фирмы были оштрафованы на двести тысяч золотых рублей, и деятельность их на территории страны прекращена. Руководители фирм отказались платить штраф, и был наложен арест на их имущество, находящееся в Севастополе и других городах Черноморского побережья. Суд постановил за систематическую доставку контрабанды и незаконный вывоз ценностей из Крыма шхуну «Доротея» конфисковать. Непосредственные виновники провоза контрабанды — Паппо, Фокос, Шмидт (заочно), работники фирм Гюндус Топино, Зенгин — были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Но в то время недаром говорилось, что Советская власть не столько карает, сколько прощает, — к ним была применена амнистия, объявленная правительством в связи с пятой годовщиной Октябрьской революции. Председатель трудовой артели «Ювелир» Самойлович, принимавший без санкции соответствующих органов в переплавку золотые и серебряные изделия, был осужден по всей строгости закона. «Все, эту страницу можно перевернуть, — подумал Ковнер. — Эх, если бы она была последней!.. — вздохнул он. — Последней!.. А тут, — пододвинул он к себе сводку, — хулиганства, кражи, насилия. А вчера банда сделала налет на подсобное хозяйство Морского завода. Сожгли склады с собранным урожаем, угнали скот, убили пастуха. Он-то при чем? Кончать надо с бандами, кончать!» Дверь в кабинет открылась, и дежурный ввел… Жан-Жака Цыпаревича. Вид он имел весьма плачевный: босиком, в разорванной рубашке и сбившейся на бок манишке. Под глазом негоцианта красовался огромный синяк. — Откуда вы? — не смог сдержать своего изумления Алексей Павлович. — Вам же разрешили выезд за границу… Поистине судьба оказалась неблагосклонной к греческому подданному. Как только судно, на котором он решил отбыть за границу, вышло из Севастопольской бухты, к Цыпаревичу подошли трое неизвестных, с профессиональной быстротой раздели, отобрали все деньги. — И портсигар забрали, мой портсигар! — с плачем проговорил Цыпаревич. Оказалось, кроме комиссионных, негоциант набрал полный портсигар золота — собирал по крупинкам, по песчинкам, то спиливая понемногу с передаваемых ему изделий, то отламывая выступающие уголки. — Так вам нужно было сразу к капитану! — Не успел… Они меня за борт… Собственно, не ожидая для себя ничего хорошего в дальнейшем, негоциант поспешил сам прыгнуть в море, благо берег был еще недалеко и вокруг рыбачьи лодки. Рыбаки и подобрали его. — Следующим пароходом поезжайте за границу. — Ну что вы! — в ужасе поднял вверх руки Цыпаревич. — Они меня там сразу же убьют! А нельзя ли… Нельзя ли мне ходатайствовать о получении советского подданства? — робко спросил он. — Можно… Только ведь здесь миллионером вы вряд ли станете. Цыпаревич промолчал. — Ладно, что-нибудь придумаем… а пока… — и Ковнер вызвал коменданта. — Борис Петрович, оденьте во что-нибудь этого охотника за собственным миллионом да устройте ночевать.Борис Боксер Особая должность Из рассказов о подполковнике Коробове Повесть
УРОКИ
Благословенное азиатское лето царило в Паркентских горах. Невесомое небо опиралось на вершины гор. Перекатывалась через россыпи крутолобых камней безымянная речка, растекаясь бесчисленными рукавами. Под легким ветром покачивали фиолетовыми султанами, огненно-желтыми зонтиками, бледными колосками горные цветы. Среди зарослей барбариса и шиповника тут и там виднелись ульи, окрашенные суриком и охрой. Ташкентские пчеловоды вывезли их сюда еще в пору цветения миндаля и останутся с ними здесь до глубокой осени, до первого инея. На одном из пчельников и священнодействовал Лев Михайлович Коробов, высокий плотный человек лет пятидесяти пяти. Для меня он был до поры пасечником, не более, хотя уже неделю кряду чаевничали мы у него по вечерам, засиживаясь до того позднего часа, когда небосклон густо темнел и над самой дальней, высокой и острой вершиной возникал сапфировый Лебедь, верша изначальный полет по Млечному пути. На чай со свежим горным медом привел меня к Коробову встреченный в доме отдыха ташкентский строитель Гильманов — приятель еще юношеских лет. Как-то он рассказал мне, что неподалеку от дома отдыха, где мы, подобно многим горожанам, спасались в июле от духоты, расположился со своей пасекой его ташкентский сосед, как говаривали в старину, — некто Коробов. Ранней весной Гильманов помог ему вывезти сюда, в горы, ульи и фанерный домик, в котором Коробов наващивал рамки, откачивал мед, занимался делами, издали напоминающими колдовство. Он и вправду был похож на чародея, сильного и доброго, и впечатление это усиливалось благодаря живому взгляду глубоко посаженных по-детски голубых глаз. Как нередко бывает на отдыхе, само собой случилось, что стали мы заходить к Kоробову едва ли не ежевечерне. Беседовали о всякой всячине: есть в мужской откровенности своя привлекательность. Слушая Коробова, я не догадывался до поры, что в прошлом он — не только военный, но и сотрудник «Смерша», особого, окутанного романтикой и тайной, отдела контрразведки — «Смерть шпионам». Такие отделы были созданы во время войны; назначение их понятно из самого названия, если не совсем благозвучного, то несомненно — точного. О том, что составляло главный смысл жизни этого пасечника из дивного Паркентского края, узнал я случайно. И это — тоже примечательно для Коробова. Однажды вечером обсуждали мы несколько насмешливо концерт, который накануне давала в доме отдыха «дикая» эстрадная труппа. Среди артистов, к удивлению моему, оказался и чечеточник; грешным делом, я полагал, что жанр этот давно изжил себя, но вот же, как в давние годы, выбежал на эстраду немолодой человек и под баян начал истово и дробно пристукивать носками блестящих туфель. Молодежь глядела на него, как на ожившую диковинку, мне же почему-то стало жаль пожилого артиста и даже как-то неловко за него, но суть, впрочем, не в этом. После концерта, за чаем у Коробова, заговорили о чечетке, весьма популярной до войны, и о чечеточниках. Гильманов поведал о своем полковом командире, который питал к чечеточникам великую слабость и даже приказывал освобождать их от нарядов на конюшню. Мне же вспомнилось нечто не столь забавное. В первую неделю войны на киевском Крещатике седоватый дядька цепко ухватил за локоть невысокого прохожего с фибровым чемоданчиком в руке. У прохожего было плоское круглое лицо, на котором тревожно бегали узкие, прикрытые тяжелыми пухлыми веками, блестящие глаза. Он напоминал малайца или японца, во всяком случае — выглядел непривычно среди европейцев, и этого оказалось достаточно, чтобы толпа, взвинченная неизбежной в начале каждой войны шпиономанией, вмиг окружила странного человечка, самовозбуждаясь от минуты к минуте. Трясущимися детскими пальцами он извлек из нагрудного кармана удостоверение артиста эстрады, но ему не поверили. «Кажи, що в чемодане!» — рявкнул седой дядька и сам рванул защелку. На асфальт шлепнулись блестящие лаковые туфли с медными набойками на носках и каблуках. Увидев эти набойки, взглянув на несчастный бледно-желтый лик артиста, все и самый ретивый разоблачитель — тоже устыдились на миг. Даже я, в ту далекую пору — мальчишка, вспомнил, что как-то в парке Дворца пионеров видел выступление этого чечеточника. Плясал он и вправду замечательно, а металлические подковки отбивали ритм вовсе уж бесподобно... Лежа на раскладушке, подперев голову массивной ладонью, Коробов внимательно слушал меня. — По вашей части, Лев Михайлович, — заметил, непонятно улыбаясь, Гильманов. Коробов откликнулся не сразу. — А настоящий-то враг был наверняка рядом и подталкивал невыдержанных людей вот на такие выходки. Древнее правило у жулья: громче всех ори «Держи вора!» — произнес он своим высоким голосом как бы нехотя. — Ну а если бы там были вы, Лев Михайлович, — спросил, словно подзадоривая, Гильманов, — вы что, сразу установили бы, кто там шпион? — Контрразведка не цирк, оперработник — не фокусник, — с некоторым недовольством откликнулся Коробов. — Но все-таки разоблачают же шпионов, — по-мальчишески не отступал Гильманов. — Значит есть, наверное, у контрразведчиков какое-то особое профессиональное чутье? — Чутье — чутьем. — Коробов поднялся, опустил ноги на землю. — Оно, конечно, необходимо, как в любом деле. Вот недавно здесь в доме отдыха выступал лектор, рассказывал, что без интуиции никакое творчество невозможно. Машина настоящие стихи не выдаст, какие бы ты там программы в нее не закладывал. И все-таки догадаться можно раз, пусть два. А если ошибешься? Тут же не только невинные пострадают — подлинный враг улизнет. Вот о чем думать надо. На том и закончился разговор в тот вечер, но потом Коробов сам продолжил его. Рассказывал он о себе и о своей работе не очень последовательно; мог прервать рассказ долгим и обстоятельным рассуждением о том, как нынче прошел у его пчел большой взяток, или сколько «силы» набрала новая пчелиная семья. То вдруг, оборвав себя «на самом интересном месте», разражался монологом о негодяе поваре из дома отдыха, который ворует из кухни баранину для брата шашлычника, а тот дерет втридорога за тощую палочку шашлыка. Бывало, и вовсе не желал уходить в прошлое и втягивал заядлого шахматиста Гильманова на весь вечер в спор о различии манер Карпова — Таля. Но минули лето и осень, и чаще стали вспоминаться мне те вечерние беседы в Паркентском краю. И начали складываться из эпизодов и фраз (из многих собственных предположений, не скрою, и домыслов — тоже) рассказы об одном из тех, кто без намека на позу, без малейшей надежды на то, что когда-нибудь люди узнают о нем и о его делах, пренебрегая морозным веянием смерти, — а чувствовал он ее рядом с собой едва ли не чаще, чем солдат в окопе, — хладнокровно, разумно делал то, что положено делать при столкновении с врагом. Что и означает — воевать, даже если находишься за тысячу верст от фронта. Тыла во время войны не бывает, и Ташкент в ту пору отнюдь не был тихой заводью. Прежде других сложился у меня рассказ о том, как Лев Михайлович Коробов пришел в контрразведку.ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ
В юношеских мечтах Коробов себя контрразведчиком не видел. Перед неизбежным выбором — кем быть, встал он в тридцатые годы, а тогда кумиром у юношей его поколения был удивительный летчик Валерий Чкалов. По всей стране мальчики строили из бамбука модели самолетов — «утки»; став постарше, прыгали с парашютных вышек в парках, самые удачливые в семнадцать лет в восторге парили на фанерных планерах. Все это Коробов видел только в кино и на фотографиях. В станице бывших семиреченских казаков вблизи Алма-Аты, где он родился и жил, не было аэроклуба, но газеты и журналы приходили. Коробов вырезал из них снимки... Валерий Чкалов в кабине нового самолета; Чкалов, Байдуков и Беляков на аэродроме в Америке, после перелета через Северный полюс, — трое русских парней, жизнерадостных и счастливых, в кожаных шлемах с защитными очками, поднятыми высоко на лоб. У сельского киномеханика выпросил он кадр из рекламы к фильму «Чкалов». Тот, где отчаянный Валерий на хрупком «У-2» пролетает под Невским мостом. Снимки висели над топчаном, на котором спал Лева Коробов. Разумеется, на призывной комиссии он заявил, что желает служить только в авиации, но комиссия устала от похожих просьб, и, едва взглянув на рослого сильного парня, военком определил его в пехоту. Там потребность в людях была куда значительнее. Коробов окончил училище, стал командиром пулеметного взвода и в этой невысокой, но трудной должности встретил короткую, тяжелую войну на Карельском перешейке. Стояла лютая зима 1940 года. Дотрагиваясь в пылу боя голой ладонью до заледенелых станин «максима», пулеметчики оставляли на них полосы кожи. Батальоном, который неделю кряду никак не мог взять высоту у застывшего озера Кури Ярви, командовал некий Саликов, человек, неизменно мрачный, с землистым неподвижным лицом, в белых неуставных бурках на коротких тонких ногах. Вновь и вновь по его приказу поднимались бойцы на штурм и, сделав десяток-другой невыносимо тяжелых шагов, падали под пулеметным и минометным огнем, пропитывая кровью маскировочные халаты и отвердевший наст, ослепительно сверкавший под холодным карельским солнцем. На рассвете в воскресенье Саликов приказал пулеметчикам пробраться на склон высоты первыми и закрепиться там, чтобы затем, когда начнется очередной штурм, поддержать его перекрестным огнем с флангов. Все поначалу шло на удивление удачно. Красноармейцы, — сам Коробов тоже впрягся в салазки, на которые были установлены «максимы», — вытащили пулеметы далеко вперед и, едва наша цепь поднялась, ударили по вражеским позициям густыми очередями. Под прикрытием огня две роты быстро одолели восточный склон злополучной высотки, и вот тогда на них, а заодно — на позиции, которые занимали пулеметчики — обрушился шквал мин. Противник только и ждал, чтобы наши бойцы залегли на участке, где каждая точка была пристреляна заранее. Коробов помнил, что перед боем комиссар Плотицин, сдержанный, подтянутый кадровик с орденом еще за гражданскую войну, предупредил Саликова об этом, но капитан лишь поморщился брезгливо и попросил политрука, чтобы тот занялся своим делом — настроил людей на успех и только на успех. Еще он заметил, что на войне стреляют и случается, кто-то гибнет в бою. Этот намек Плотицин понял. Он ответил тем, что сам повел в наступление роту и был убит одним из первых. И все-таки прежде, вопреки строжайшему запрету Саликова, он разрешил подразделениям отползти назад, в ложбину, прочь из зоны, где смерть неизбежно нашла бы всех. Вернулся на исходные позиции и Коробов с остатками своего взвода. Уцелело лишь девять человек из сорока и три пулемета. Спустя полчаса всех командиров вызвал к себе в землянку Саликов. Он был бледнее обычного. Едва разжимая тонкие губы, выкрикнул, уперев серый взгляд в лицо Коробова: — Шкуру свою спасал! А пулеметы твои где? Учти, до вечера не доставишь их в расположение — под трибунал отдам. В подобных случаях не стоит объяснять, что остались на высоте не пулеметы, а груды искореженного металла. Приказы не обсуждаются. И вновь стоял Коробов перед коротенькой шеренгой своих бойцов. Он не решился приказывать, он только спросил у измученных и усталых парней, кто пойдет вместе с ним? Понятно было, идти надо почти что на верную гибель, но, как и следовало ожидать, шаг вперед сделали все. Едва забрезжил февральский рассвет, они попрощались с товарищами и поползли по слежавшемуся снегу к высоте. К оставленным позициям своим на восточном склоне подобрались благополучно, однако разбитые пулеметы вмерзли за ночь в наст. Нечеловеческие усилия требовались для того, чтобы оторвать их, и вскоре на вражеской стороне вспыхнуло зловещее око прожектора, а затем с визгом посыпались мины. Земля, перемешанная со снегом, взметывалась фонтаном и обрушивалась на пулеметчиков. Маленький боец, который был в паре с Коробовым, — они волокли назад станину и половину ствола, — все, что осталось от «максима» после прямого попадания мины, ткнулся лицом в снег и замер. Коробов едва успел заметить, что лицо паренька окровавлено; в бедро Коробову ударила пуля и тут же, теперь — в обе ноги сразу впились осколки мин. И все-таки он пополз дальше, таща за собой разбитый пулемет, понимая, что спасти может только движение. Боль в ногах стала невыносимой. Коробов уже не думал о том, что надо прятаться за сугробами, за окаменевшими трупами убитых накануне бойцов. Вражеский снайпер несомненно пристрелил бы его, если бы не хлестнул сбоку меткой очередью по окопам противника наш пулемет. «Самойленко! — все же мелькнуло в сознании у Коробова. — Жив остался сержант...» Всего лишь на несколько минут отвлекся противник, но этого оказалось достаточно, чтобы Коробов и остатки его группы добрались до траншеи. В окоп он свалился, уже лишившись сил. В госпитале Коробов узнал подробности о Самойленко. Оказалось, что сержант этот единственный из всех ослушался Саликова и повел свой расчет в обход высоты, нашел отличную позицию среди нагромождения валунов, пристроил там свой пулемет, не хуже, чем в доте, так надежно, что противник не мог его долго выбить оттуда ни минометным, ни даже артиллерийским огнем. Пулемет сержанта Самойленко поддерживал и новое наступление на высоту. Его провели десантники, высадившиеся по приказу командира дивизии в тылу у противника, и танкисты. Саликова от участия в операции командир дивизии отстранил. И все же, когда Самойленко, восторженно встреченный товарищами, вернулся в батальон, Саликов наотрез отказался подписывать представление о награждении отважного сержанта. Твердил одно: «Он приказ не выполнил. Спрятался. Его расстрелять надо». Лишь год спустя Самойленко был отмечен наградой. В госпитале, хотел или не хотел Коробов, мысли его возвращались все к тому же — к штурму злополучной высоты «100». С тоской вспоминал погибших товарищей, особенно комиссара Плотицина и своего молоденького напарника. Стоило прикрыть глаза, вновь видел, как дрогнула щека у комиссара, когда Саликов жестким голосом одернул его и велел выполнять приказ, не рассуждая. Непрестанно точила мысль о том, почему Саликов, вопреки законам тактики, вопреки опыту боя, наконец, житейской логике наперекор, так настойчиво требовал, чтобы высоту штурмовали именно в светлую пору суток и непременно по восточному склону, где, ясно же было, противник пристрелял едва ли не каждый метр. Доказал же и Самойленко, ослушавшись приказа, а затем — десантники, овладевшие высотой за какие-то двадцать минут, что можно было действовать и умнее, и успешнее, а значит — и задачу выполнить, и людей своих сберечь! Волей-неволей получалось, что целью Саликова было едва ли не то, чтобы погубить побольше людей, а заодно — посеять сомнение в успехе, значит — подорвать боевой дух: вот, мол, несчастную высотку за целую неделю взять не смогли... Вспомнились и все пересуды о Саликове. Некоторые командиры служили под его началом еще до войны, тогда Саликов занимал довольно высокий пост. Потом он исчез. Говорили, что привлечен к ответственности, как скрывший свое прошлое: отец его будто бы был мурзой среди касимовских князьков, Саликов же представлялся сыном батрака. Однако года за полтора до финской кампании Саликов появился в армии снова, хотя и пониженный сильно в звании и должности. Люди военные принимают необходимость подчиняться старшему как должное, кем бы тот старший ни был и какие бы требования ни предъявлял (рассказывали, к примеру, что именно в праздничные вечера или в день, когда кто-либо из взводных женился, Саликов поднимал командиров по тревоге). Подобное можно было еще понять и даже как-то оправдать. Тревожнее было то, что, несмотря на всю изощренную требовательность Саликова, батальон его на смотрах и поверках неизменно оказывался по боевой подготовке хуже других подразделений. Даже новобранцы уже знали: «К Саликову в батальон лучше не попадай. У него одну пулю по мишени выпустишь, потом три недели будешь свою винтовку драить. Главное для Саликова, чтоб только блеск да лоск...» В госпитале рядом с Коробовым лежал пожилой, однако не в очень высоком звании командир по фамилии Аврутин, молчаливый, худощавый, морщинистый, с иронично поджатыми губами. У него были обморожены ноги. Рассказал нехотя, что, когда ехал в эшелоне на фронт, попал под бомбежку, а пока подобрали контуженного, сутки лежал неподвижно на морозе. Хранить сомнения в себе было невозможно, и, слово за слово, Коробов поведал Аврутину о Саликове, попросил совета у старшего товарища: как тут быть? Аврутин выслушал его все так же молча. Его седеющая голова неподвижно лежала на свалявшейся госпитальной подушке, и Коробов, было, уже пожалел о своей откровенности, но дня три спустя Аврутин, по-прежнему глядя в стену перед собой, произнес ровным, четким, напоминающим учительский, тоном: — Ну а если взглянуть по-другому, так, как требует презумпция невиновности? В ту пору Коробов, конечно, не знал, что означает этот юридический термин, и Аврутин терпеливо разъяснил, что человек до той поры считается невиновным, пока вина его не будет доказана судом. — А разве факты не говорят сами за себя? — возразил Коробов. — В том-то и дело, что одни и те же факты можно толковать по-разному. — И, вдруг оживившись, несколькими фразами Аврутин разрушил башню, воздвигнутую против Саликова Коробовым. Прежде всего он напомнил (и это была правда), что Коробов лично оскорблен Саликовым, а обида велит нанести ответный удар. Затем, используя только те же факты, Аврутин заключил, что двигало Саликовым чрезмерное честолюбие — и все! Он тщеславный, но на беду свою и других — неумелый и не очень умный командир. Однако Коробов не сдавался. Вспомнил о происхождении Саликова, тогда, резко повернув к нему лицо, Аврутин посоветовал: — А ты поставь-ка на его место себя. Представь, что это тебя в каких-то смертных грехах обвиняют. Доказательства нужны, — произнес он по складам, — а иначе получается оговор. На том и кончилась беседа, оставившая в Коробове недоумение и досаду, но случилось так, что вскоре пришлось поневоле вспомнить Коробову и о самом Аврутине, и об этих словах его.Война на Карельском перешейке окончилась в марте, а незадолго до майских праздников Коробова, уже вернувшегося к себе в часть, вызвали на заседание парткомиссии. Председатель зачитал вслух письмо. В нем утверждалось, что Лев Михайлович Коробов — выходец из кулацкой семьи, и что отец его в годы коллективизации был осужден. Потребовали объяснений. Коробов стоял перед столом, застеленным красной скатертью, пораженный в самое сердце. Вот когда невольно вспомнилось: «Поставь-ка себя на его место...» Хотелось вопить, будто за столом сидели глухие: «Как же можно? Все же это — напраслина, по злобе кто-то на меня клевещет». Но, встретив спокойный твердый взгляд председателя и поняв, что тут — не до эмоций, объяснил коротко: отец не только не противился коллективизации, но сам одним из первых вступил в колхоз. Сдал свою собственность, честно трудился на пасеке, а мать — на табачной плантации. Правда, в тридцать пятом году кто-то в райцентре вспомнил о крестьянах, которые, еще до создания колхозов, не выполняли планы хлебопоставок. В списке этом оказался и Михаил Лукич Коробов. На суде он сумел доказать, что хлеб в том злополучном для него 1929 году не сеял вовсе, болел зиму и весну: его зашибла лошадь. А дети были еще малы и справиться с хозяйством сами не могли. Все же Михаила Лукича осудили, а семью вскоре выселили из дома. Однако жалобы не остались без внимания: полгода спустя приговор был отменен, Михаил Лукич Коробов — оправдан. Вот и все. И давным-давно, казалось, забыта эта невеселая история. Вольно́ же кому-то ворошить старое... Строго глядя на Коробова, председатель комиссии объяснил: Коробов — боевой проверенный командир, его порядочность, партийная честность ни у кого сомнений не вызывают. Но что, если автор заявления прав? Беда же не в том, что отец Коробова противился постановлениям властей и был за это наказан; не все крестьяне сумели сразу отрешиться от веками сложившихся взглядов. Худо, если коммунист Коробов скрыл от партии, от командования правду о своем отце. Вот за что надо отвечать! Ничего Коробов больше объяснять не стал. Попросил только: пусть пошлют кого-нибудь из членов комиссии к нему на родину, в маленькую станицу под Алма-Атой. Все там друг друга хорошо знают. Сыщутся уважаемые люди, которые и об отце расскажут правду, тем паче, что в районе и документы об оправдании по суду можно найти. Самыми трудными были дни перед отъездом. Нет-нет, слышал Лев Михайлович шепот у себя за спиной: «Из кулаков... Скрыл...» Еще больнее было, когда обращались прямо к нему с сочувственными словами, а то и советами: «Покайся. Пиши в Москву...» В чем каяться? О чем просить? Отвечал, что убежден: правда свое докажет. Но нелегко стало на сердце, когда за холмами, знакомыми с детства, появилось родное село. Мечтал когда-то: вернется сюда бравым командиром с наградами на новенькой гимнастерке, погордится перед земляками — вот, мол, кем стал подпасок Левка! Теперь же поначалу пришлось глаза от людей прятать. Все узнали сразу, что приехал Коробов не на побывку, а по личному делу. Кто-то, как водится, и слух пустил, что дело-то — едва ли не контрреволюционное, потому что не один он появился, а в сопровождении большого начальника. С ним и в самом деле приехал капитан по фамилии Каландаров, орехово-смуглый ферганец, член партийной комиссии, специально командированный Военным советом в Казахстан по делу Коробова. Не теряя времени, понимая, как тяжело переживает Коробов все происходящее, Каландаров занялся проверкой. Осмотрел снаружи старый дом, где давно уже проживали другие люди, опросил соседей, хорошо знавших семью Коробовых, побывал в школе, где когда-то учился Лев Михайлович, беседовал с учителями и с бывшими одноклассниками. К Коробову обращался редко, с короткими вопросами: где проживает такой-то, кто еще знал отца в ту пору?.. Коробов томился неведением. Старый учитель, — он, бывало, предсказывал Леве Коробову (на удивление точно) командирское будущее — утешал: все обойдется, но службу не оставляй ни за что. Ты человек честный, справедливый, я тебя знаю. Такие армии и нужны. После встречи с учителем стало немного легче на сердце. Но третьи сутки были уже на исходе, а Каландаров все еще не начинал писать заключение. Тогда, решившись, Коробов спросил: может нужны какие-то дополнительные факты? Он, Коробов, сейчас в родном селе кое-что вспомнил. Каландаров неожиданно блеснул улыбкой. Сказал, что Коробов может спать спокойно. Такие люди, как его покойный отец, кулаками не становились. Добрыми товарищами вернулись они с Каландаровым к себе в гарнизон, и там Коробову, к его радости, было объявлено: пусть служит по-прежнему, так, будто ничего не произошло. Но не мог он забыть, сам не понимал почему, об этом деле. День и ночь точила мысль: кто же послал то подлое заявление и зачем? И вот как раз в ту пору судьба вновь свела Коробова с сухим и ироничным Аврутиным, с которым лежали когда-то в госпитале под Ленинградом. Аврутина Коробов встретил в штабе дивизии на большом командирском совещании. Морща высокий с залысинами лоб, майор предельно внимательно слушал, что говорит командующий. Когда Аврутин отвлекся на миг, Коробов постарался встретиться с ним глазами и даже кивнул. Ему подумалось, что Аврутин не узнал его, однако во время перерыва в курилке Аврутин подошел к Коробову сам. Оказалось, он очень рад, что бывший пулеметчик остался в строю и даже служит в одном округе с ним. Случилось так, что они и в гарнизон поехали вместе (Аврутину нужно было туда по заданию военной прокуратуры, где он служил). В поезде, неспешно одолевавшем степные километры, поведал майору Коробов о том, что мучило его сейчас. Скорее всего, чтоб скоротать время, как то и происходит обычно в дороге, рассказал Коробов обо всем и обо всех, кто имел хоть какое-то отношение к его делу. О своих версиях и сомнениях. Обо всех «за» и «против», о том, с кем и какие взаимоотношения сложились у него и у отца, были ли поводы для обид, мести, зависти, материальной и прочей заинтересованности, — всё, из-за чего кто-то мог опорочить Коробовых. Иное, очевидно, показалось Аврутину наивным, когда Коробов начал вслух вспоминать тех, с кем мог повздорить или кому мог досадить в старших классах; Аврутин коротко хохотнул и молвил: — Скорее всего — учителям. И все же что-то в Коробове несомненно заинтересовало майора. Аврутин долго молчал, глядя в окно, за которым один только телеграфные столбы и мелькали, но Коробов уже знал, что майор не торопится ни с ответами, ни с выводами. Наконец Аврутин отхлебнул остывшего чаю и поднял на Коробова глаза в красных прожилках. — Я же хорошо помню: выкомандир-пулеметчик, следственное дело никогда не изучали, практикой не занимались. Но есть в вас, несомненно, эта склонность. Есть. Я еще тогда, в госпитале, заметил, когда вы мне о Саликове рассказывали. Нет-нет! — он жестом остановил Коробова, который был несколько ошеломлен. — Никакого разоблачения Саликова не могло быть и в помине. Тут вы стали, как говорится, жертвой стереотипной версии. Однако не без оснований зацепила вас эта история. Могу вам рассказать теперь, что дознание по поводу штурма высоты «100» действительно проводилось по указанию сверху. И прежде всего было установлено, что штурмовать высоту можно было лишь по восточному склону и никак не иначе. Именно так и приказывал Саликов. Он узнал на совещании в штабе, что только этот единственный склон удалось разминировать нашим саперам. Почему он не довел это до сведения командиров рот или хотя бы комиссара Плотицина? Вот тут — разгадка: вздорный характер, повышенное честолюбие. «Я — начальник, знать — мое дело. А ваше — исполнять приказ...» К слову, и Самойленко потому вызвал ярость Саликова, что мог запросто нарваться на минное поле. Чудо, как это удалось сержанту пробраться со своим расчетом по откосу, утыканному противопехотными минами! Но все же один боец из его расчета подорвался там. Дальше. Стало известно, что Саликов — попросту однофамилец касимовского мурзы, у которого сам батрачил когда-то мальчишкой-конюхом... Коробов был обескуражен и смущен. Начал было о том, что он-де все свои домыслы при себе оставил, но Аврутин перебил: он не сомневается в том, что Коробов человек порядочный и обладающий чувством ответственности. Иначе к чему бы весь этот разговор? — Но все-таки, — заключил он, — в какой-то мере чутье вас не обмануло. Начальство теперь пришло к окончательному выводу: для командования людьми Саликов — фигура неподходящая. Его перевели в интенданты и, говорят, как раз там оказался он как нельзя более на месте со своей придирчивостью и неуступчивостью. Но, как молвится, бог с ним. Поговорим лучше о вашем собственном, к счастью, как вы мне уже рассказали, — закрытом деле. И Аврутин вновь начал расспрашивать, какие версии приходят здесь на ум Коробову? Кто же все-таки из этих людей, о которых он так обстоятельно рассказал, — клеветник? Судя по всему, Коробов не забыл никого. Значит, теперь надо суживать круг, шаг за шагом. Учтем для начала, что автор анонимки должен был хорошо знать всех Коробовых, а не только одного Льва Михайловича. Значит, оставляем лишь односельчан. Дальше. Не станем витать в облаках, мотивы у заявителя самые что ни на есть бытовые, возможно, даже не низкие, а мелкие. Ну можно ли в самом деле допустить, к примеру, что кто-то, сидя в далеком селе, исходит желтой завистью из-за того, что командир Коробов, находясь где-то за тридевять земель, может вскоре получить еще один кубик в петличку?.. Тут Коробов впервые перебил Аврутина, обрадованный тем, что подтвердились его собственные догадки. Он перечислил тех, которым мог быть известен его адрес — название города, где он служил, и номер почтового ящика. Аврутин взглянул теперь на Коробова, не скрывая одобрения, но возразил: могло случиться, какое-либо из писем утащили на почте или нашли на дороге, либо, скажем, подглядел кто-то адрес. Потому сперва переберем родственников. Было их не так уж много. Только брату своему и писал Коробов иногда. Брат — тракторист, отвечал на письма редко, причем, — Коробов отметил в своих записях и это, — адрес на конверте всегда был выведен не его корявым почерком, а четким, аккуратным. Так могла писать невестка, учительница, с которой брат прожил совсем недолго. Года через два после свадьбы они разошлись, а нынешней зимой и развод свой оформили. Женщина она была, по заключению Коробова, неплохая, только чересчур раздражительная. Аврутин заметил строго: не только в характерах, трудных или прекрасных, с житейской точки зрения, надо ответ искать. Поступки людей нередко диктуются обстоятельствами, настроением, чувствами. На том и расстались, договаривая последние фразы уже около штабной легковушки, которую прислали на станцию за Аврутиным. На прощание майор посоветовал Коробову довести это расследование, он назвал его с усмешкой — частным, до конца. Сказал, улыбаясь щербатым ртом, что стоит это сделать хоть «спортивного интереса» ради. Коробов посетовал на то, что не разрешили ему самому с делом ознакомиться, сдано, мол, оно в архив, чего тебе еще? Аврутин по-свойски хлопнул его по плечу. Нет худа без добра! Зато Коробов сможет убедиться, по плечу ли ему самостоятельная проверка. Дал свой телефон, просил звонить и глядел на Коробова все время так, будто прикидывал, соответствует ли этот молодой командир какой-то лишь Аврутину известной мерке. Многое было пока Коробову непонятно во всей этой затее, однако, получив отпуск, он так, будто решено было все заранее, выписал проездные документы снова в свою станицу. Теперь там, кажется, вовсе уж никого из родных не осталось. Брат после развода уехал в Алма-Ату, работал там шофером. Совсем иначе воспринял теперь Коробов знакомые места. С удовольствием бродил по улицам, по окрестным горам, любимым с детства. Рассказывал землякам, школьным товарищам о боях под Выборгом, о командирской службе, слушал их, но замечал: о чем ни зашел бы разговор, пытается свести его к главному, что волновало, — к анонимному клеветническому письму. Разумеется, впрямую не говорил об этом; люди сами сочувственно замечали: вот же совершила какая-то гадина подлость! Однако даже догадок на этот счет никто пока не высказывал. Один лишь Федька Сухорукий, шестидесятилетний отпетый пьянчужка, зацепил Коробова у сельской лавки, опасливо скосил опухший глаз и прохрипел на ухо, что это участковый милиционер, никто иной, накапал на него, на Левку. Тут же Сухорукий намекнул, что не худо бы опохмелиться. Коробов отвязался от пьяницы, лишь сунув в корявую ладонь бумажку, ради которой, понятно, и был затеян зряшный разговор. Однако как ни странно это было для самого Коробова, размышляя и ночью все о том же — о своем деле, начал он невольно вспоминать участкового — поджарого кавказца по фамилии Гаджиев. Случилось однажды не очень приятное столкновение с ним, когда Коробов после училища приехал на побывку и заглянул в райцентр, повидаться со знакомыми ребятами. Пошли, как водится, в клуб, посмотрели картину, потом начались в фойе танцы, и тут же явился этот Гаджиев и велел баянисту прекратить музыку. Парни возмутились, девушки были огорчены. Пожаловались Коробову: не впервые поступает этот Гаджиев так. Объясняет тем, что на танцах бывают стычки между парнями, а потому лучше, в порядке профилактики преступлений — от греха подальше. Чувствуя за собой некоторую силу, Коробов — он был в новенькой коверкотовой лейтенантской форме — по-дружески попросил милиционера, чтоб тот отменил свой нелепый запрет. Гаджиев упорствовал, и тогда Коробов, что было, конечно же, лишним, напомнил, что участковый мог бы посчитаться с просьбой старшего по званию командира, тем паче что Коробов принимает ответственность за этот вечер на себя. У самолюбивого Гаджиева даже усики дрогнули. Он кивнул баянисту: «Ладно! Начинай!», и обрадованные пары запрыгали под фокстрот «Рио-Рита». Весь вечер стоял Гаджиев у порога, играя желваками, а когда Коробов оказался рядом, сквозь зубы бросил: — Жизнь большая. Посмотрим еще, кто кого обскачет... ...Вот те и мудрец Аврутин! Кто, дескать, станет завидовать лишнему кубику в коробовской петлице? И адрес, кстати, тоже мог узнать участковый милиционер безо всякого труда на той же почте хотя бы. Едва рассвело, отправился Коробов в райцентр. Ему сказали там, что участковый, — уже младший лейтенант, — сейчас на курсах в Алма-Ате. Узнав об этом, Коробов испытал даже некоторое облегчение: он не представлял, как вести себя с Гаджиевым? Не спросишь же в упор: не ты ли на меня поклеп послал? Он завтракал в чайной. Накурено там было до того, что оконный свет пробивался, словно из-за туч. Буфетчица Люба узнала его. Восторгалась («Какой ты представительный стал, Левушка!»), перебрала всех общих знакомых, вздохнула несколько притворно о том, что вот, мол, невестку твою, Галю, брат твой оставил. Жаль, конечно, да и то сказать: слишком много понимала из себя эта Галя, или Галина Семеновна. Она, дескать, культурная, в Кызыл-Орде училище кончила, а Сашка кто такой? Тракторист. Керосином от него разит за версту. Вот здесь, в чайной, Галя об этом и говорила, Люба своими ушами слыхала. Выпила стакан красного украдкой (учительница все же!), а потом и начала: «Пусть Сашок не думает, что легко отделался. Коробовы еще попомнят меня. Я имею полное право весь дом их отсудить. Все равно Беклемишевы занимают его незаконно...» Люба болтала уже о чем-то другом, полюбопытствовала, где, мол, остановился молодой лейтенант. Но Коробов, поглощенный нахлынувшими мыслями, слышал теперь ее голос будто из-за стены. Да, да! Беклемишевы, Беклемишевы... Это же они поспешно заняли отцовскую усадьбу в том злополучном году, когда его арестовали. Родич их был в ту пору председателем сельсовета, он-то и поторопился передать им собственность, изъятую у «классового врага», а когда Михаил Лукич был оправдан, затеял волокитное дело с выселением, до того нудное и тягостное, что отец рукой махнул на свою усадьбу. А вот Галя, выходит, оказалась настойчивей... Словно издалека донеслось, как выпевает Люба: — Дом-то они, конечно, ей не отдали, пустили, правда, во флигель (Люба произнесла — «флигер»), они его уже потом сами поставили, за огородом, там, где две орешины. Теперь Коробов почувствовал, что напал на верный след. И не важно было, что Люба продолжала: — Всё трясутся Беклемишевы до сих пор, не явишься ли дом у них требовать; закон-то на твоей стороне, Лева! А Сашка для них не страшный: он, говорят, когда разводились, расписку Гале выдал: так, мол, и так, отказываюсь от всего имущества в пользу бывшей жены, поскольку она меня на всем готовом содержала, когда я после аварии, покалеченный, работать не мог... И снова оказался прав Аврутин: «Мотивы могли быть самые бытовые...» Он сомневался еще, но действовать решил, идя напролом. На попутной вернулся в Тургень, уже в темноте перемахнул через знакомую ограду, забрался на толстую ветвь орешины, заглянул в освещенное окошко флигеля. Наклонив низко черную, но уже с нитями седины голову, Галя шила. Игла быстро мелькала в ее руках. Дверь была незаперта, и Коробов неожиданно появился на пороге. Галя, хотя и знала о его приезде, и видела его в селе, вскрикнула испуганно и упала грудью на шитье. — Зачем ты сделала это? — спросил он, не в силах справиться с учащенным дыханием, и она уронила голову на вытянутые руки и произнесла сквозь слезы: — Беклемишевы, будь они прокляты, злыдни...
Утром он вновь подошел к родной усадьбе. Хотел застать Беклемишевых, чтобы они в лицо ему поглядели. Новые прочные ворота была заперты изнутри, так же как и ставни на окнах. Видно, Беклемишевы учуяли, что он накануне нанес тот тяжкий визит своей бывшей невестке. Коробов пошел вдоль ограды к задней калитке, чтоб пройти огородами, приподнялся над забором и вдруг увидел две русые выгоревшие головенки. Притаившись в зарослях кукурузы, мальчики, несомненно посланные родителями, следили за ним с недетской неприязнью и страхом. Он спрыгнул с забора на пыльную тропку, махнул рукой так же, как, очевидно, когда-то его отец, и ушел прочь от прошлого, не оглядываясь. Подумалось по пути: благо, не оказалось милиционера Гаджиева на месте...
Коробов и в самом деле уже забыл обо всей этой истории, как о дурном сне, но однажды в гарнизонном клубе встретил его вновь майор Аврутин. Сам подошел к нему, поинтересовался, узнал ли Коробов, кто написал тогда на него? Коробов ответил в двух словах. — Ну, ладно, — неопределенно заключил Аврутин, пожал Коробову руку и удалился своей невоенной походкой, широко расставляя ступни. Весной 41-го года Коробову предложили, если он желает, перейти на работу в милицию. Он был назначен старшим инструктором политотдела милиции в Алма-Ате, но всего три месяца спустя началась война, и в первый же день он сам явился в военкомат, заявил, что молод, здоров (ранение не в счет), имеет боевой опыт. Не сомневался, что уйдет на фронт во главе маршевой роты, а ему неожиданно велели ждать дополнительного вызова. Неделю спустя сообщили, что назначается Коробов на службу в особый отдел. Лишь через много лет узнал Коробов, что в его личном деле находилась письменная рекомендация военного прокурора Аврутина.
Задача у особых отделов была такая: выявлять и пресекать деятельность вражеской агентуры в военной среде. Вскоре присвоили им и название, наиболее отвечающее духу суровой поры, — «СМЕРШ».
ТРЕТИЙ ВЫСТРЕЛ
Уже полтора года шла война. В длинном приземистом помещении штаба была выделена Коробову комната с низким потолком, глинобитным полом и единственным окном. Служила она ему и кабинетом, и жилищем. У окна был поставлен стол и табурет, в углу — несгораемый шкаф, у стены кровать, на которой спал Коробов: пистолет под подушкой, на полу у изголовья — телефон. Едва загудит зуммер, можно, не открывая глаз, нащупать трубку. Порой все ограничивалось коротким разговором, но чаще приходилось подниматься среди ночи или на рассвете и спешить к машине, вылинявшей и все-таки на редкость выносливой довоенной «эмке». Так было и первого января 1943-го года, когда где-то около пяти утра позвонили из района. Дежурный по гарнизону торопливо сообщил, что в одном из бараков на берегу реки заперся военнослужащий и никого к двери не подпускает, угрожая наганом. Прежде в комнате раздалось три выстрела подряд. Дежурный докладывал о происшествии уполномоченному «Смерша» потому, что так требовала инструкция: дело касалось армии. Коробов не сомневался, что на месте что-то уже предпринимается. Кто знает, может, и не имеет это событие никакого отношения к «Смершу». Сколько уж раз случалось: поднимут шум, а на поверку — выеденного яйца не стоит дело. Тем паче ночь новогодняя. Не исключено, выпил кто-то лишнего и бузит... Рассуждения не были лишены логики, однако Коробов отлично понимал и то, чем навеяны они. Все сотрудники отдела, кто не был занят оперативной работой, встретили Новый год, выпили за победу, за близких, посидели вместе. Всего лишь два часа назад он уснул. До смерти не хотелось теперь вылезать из-под колючего, но уютного шерстяного одеяла, выходить на обледенелую улицу, ехать в седом, пробирающем до костей тумане по тряскому булыжному шоссе... Пока «эмка» добиралась до предгорного района, уже рассвело. Они подъехали к заснеженному, унылому в эту пору берегу обмелевшей реки, вдоль которого тянулись слепленные кое-как бараки и мазанки, около одной из них топталась небольшая группа военных. Коробов увидел морщинистого лейтенанта из запасников, начальника комендантского патруля, с тремя бойцами и нескольких военнослужащих из танкового училища. Их, как доложил сразу же Коробову пожилой лейтенант, он вызвал сюда, выяснив, что заперся в комнате старшина из хозяйственного взвода, обслуживающего училище. Уже называли и фамилию преступника — Скирдюк. Он заведовал в училище продовольственным складом и столовой. — Как сыр в масле катался, паразит, — сказал о нем лейтенант, морща красноватый с глубокими залысинами лоб. — Какого беса ему недоставало, спросите? Жрал, пил вволю, девок менял... Сведения эти уже были получены, очевидно, от двух приятелей Скирдюка. Один из них, высокий, костлявый, служил поваром в курсантской столовой, второй — рыжеватый, надменный с виду был писарем в штабе. Оба носили лишь сержантские звания, но одежда на них была отменная, командирская, куда более щеголеватая, чем у лейтенанта — начальника патруля. Разобравшись в обстановке, отметив сразу же как важное обстоятельство то, что о выстрелах сообщил в комендатуру по телефону хриплый мужской голос, Коробов подозвал к себе этих двоих. — Подойдите как можно ближе, выясните, есть ли в помещении кто-либо, помимо Скирдюка, и передайте приказ: пусть выходят и не сопротивляются, — велел он. Сержанты, однако, мялись, переступая с ноги на ногу. — Вперед! — тихо, но требовательно повторил Коробов. Он все же добавил, чтоб успокоить их: — В вас стрелять не станут. Вы же приятели. Нехотя двинулись они к бараку по заснеженной дорожке, оставляя на ней своими начищенными хромовыми сапогами глубокие следы. Идя, они кричали: — Эй, Степан! Старшина! Не пали! Это — мы. Два слова сказать надо. Рука с наганом все еще высовывалась из форточки, однако сержанты подошли почти к самому окну, поговорили с минуту не больше и поспешно возвратились в овражек. — Говорит, он Нельку застрелил, — сообщил, не глядя на Коробова, писарь. Он был по-прежнему сдержан, однако веснушки на его лице побелели. Повар вел себя более возбужденно. Вытягивая длинную шею, прерывисто дыша, он произнес: — Точно! Валяется Нелька поперек кровати в одежде, как мертвая. А больше никого не видать. — Вы предложили ему сдаться? — Он вот что ответил, — писарь гмыкнул и сделал непристойный жест. — Идите снова туда и повторите предложение в последний раз, — жестко велел Коробов. Он видел, что с губ писаря готово сорваться: «Сами, мол, идите, коль жизнь не дорога», и напомнил: — Вам приказано — действуйте! Они встретились с непреклонным взглядом глубоко посаженных глаз капитана и обреченно побрели к бараку снова. Едва сержанты одолели половину пути, Коробов кивнул своему подручному Никишину, в недавнем прошлом — фронтовому разведчику. Похожий на подростка юркий Никишин по-змеиному быстро пробрался вслед за сержантами к бараку и, едва они вступили снова в короткий разговор со Скирдюком, закинул за дверную скобу конец веревки, вытянул его на себя, вскочил и помчался, пригнувшись, к овражку. Люди, приданные Коробову, понимали его с полуслова. Едва Никишин вернулся, восемь рук, Коробова в том числе, натянули веревку до предела, дернули ее по команде на себя, сорвали дверь с петель и кинулись к бараку. Расчет строился на том, что Скирдюк неизбежно опешит хоть на миг, и его удастся опередить. Так и вышло. Едва старшина, слепо шаря перед собой наганом, показался в зияющем дверном проеме, Никишин кинулся под ноги ему, а Коробов вышиб из пальцев падающего Скирдюка наган. Уже со связанными за спиной руками, Скирдюка проводили мимо недавних его приятелей. Коробов ожидал, что он кинет им нечто злое: «Суки!» или еще какое-то словечко, которым в преступном мире клеймят предателей, но старшина будто не заметил повара и писаря. Шел, высоко вскинув небольшую голову, украшенную курчавым чубчиком, смотрел перед собой в пространство безразличными ко всему желтоватыми глазами на мертвенно бледном лице. В крохотной квадратной каморке лежала поперек кровати женщина в белом платье с веселыми вылинявшими цветочками и синей бумазеевой кофте, на которой расплылось обширное темное пятно. Рядом с ним застыли скрюченные судорогой пальцы: очевидно, убитая ухватилась рукой за простреленную грудь. Кисть этой руки тоже была окровавлена. Лицо, искаженное гримасой боли, казалось старушечьим. «К чему было трижды кряду стрелять в эту хрупкую, очевидно, не оказывавшую сопротивления женщину?» Вопрос этот, впрочем, был попросту отмечен памятью. Сейчас надо было осмотреть место происшествия. Итак, дверь из комнатки, — ровно три шага вдоль и три поперек, — выходила прямо на улицу. Громоздкая металлическая кровать Наили, или как называли ее соседи — Нельки, занимала едва ли не половину этой каморки. Стены, выпяченные внутрь, были когда-то побелены известью; теперь на них кое-где проступила ржавчина. Над кроватью висело несколько фотографий, на одной была изображена светлоглазая девочка с застывшим взглядом, а рядом — большеротая, улыбающаяся женщина — Наиля в разную пору своей недолгой жизни. В деревянном чемодане под кроватью хранился ее небогатый гардероб. Пальто с вытертым цигейковым воротником висело на спинке кровати. Столом служил довольно широкий подоконник. На нем стояла тарелка с остатками пищи — вареная колбаса, селедка и соленые помидоры, банка с яблочным повидлом, две книжки (одна на другой), пустая бутылка и четыре граненых захватанных стакана. На одном остались следы повидла. Такие же свежие следы Коробов заметил и на книжке, лежавшей сверху. Это был один из выпусков дореволюционной «Дешевой библиотеки». Какая-то повесть без начала. Коробов машинально пробежал глазами пару страниц. Речь, как он понял даже при беглом знакомстве, шла о том, что некий Эмиль застрелил свою возлюбленную госпожу Моро, с которой они прежде условились уйти из жизни вместе. Госпожа Моро надела самое красивое платье, поцеловала Эмиля в последний раз; он выстрелил в нее, но себя убить так и не смог. На этом месте взгляд Коробова и споткнулся. Помимо всего, он заметил внизу страницы жирный селедочный след большого пальца. Вторая книга была растрепанным учебником политэкономии. На сером картонном переплете отпечаталось множество кружков, оставленных донышком горячего чайника. Сейчас чайник, едва теплый на ощупь, стоял на плите, сооруженной в противоположном от окна углу. В узкой топке лежала горкой зола, сквозь которую просвечивали розовые угли. Очевидно, протопили печь уже давно. В подобных случаях возникает необъяснимое побуждение — пошевелить угли, и Коробов уже взял прислоненную к боку плиты проволочную кочерёжку, но вдруг остановился. Он заметил поверх золы свернутый от жара трубкой, испепеленный листок бумаги. Взять его, к сожалению, было невозможно: он грозил разлететься в прах, едва пальцы приблизятся к нему. Он даже под направленным на него лучом карманного фонарика подрагивал, однако Коробов все же разглядел проступающие неровные строки, написанные от руки. Нечего было, разумеется, и мечтать о том, чтобы прочитать сгоревший текст, но все-таки, стараясь не дышать на изгарь, он разобрал слово, которое повторялось чаще других. То было имя, оканчивавшееся на «берт». Возможно — Альберт и рядом фамилия, прочитать которую было невозможно. Прежде всего следовало решить, подведомственно ли, а иными словами — представляет ли интерес это дело для «Смерша» или оно должно быть передано военной прокуратуре. Как всегда, немалое значение имела биография Скирдюка. В течение суток, прошедших после ареста, Коробов собрал немало сведений о Скирдюке из документов, которые хранились в канцелярии училища, из показаний свидетелей, из материалов обысков. Вздремнуть ему удалось лишь на обратном пути в Ташкент; да и то, просыпаясь, когда «эмку» встряхивало на булыжном в ту пору Луначарском шоссе, Коробов продолжал привычную работу: раскладывал по соответствующим полочкам все, что успел узнать о Скирдюке и убитой Наиле Гатиуллиной. Взвешивал, взвешивал, поворачивал детали так и эдак, остерегаясь, однако, согласно незыблемому правилу своему, делать сразу выводы. Итак, Скирдюк родился и жил в большом селе на Украине, из армии был уволен старшиной, а в начале войны призван снова. Уже в июле 1941 года оказался он вместе со своей частью в окружении. Многие однополчане его были взяты в плен и увезены в лагеря, Скирдюк же зимой следующего года во время короткого контрнаступления, когда у немцев были отбиты под Великими Луками несколько сел, объявился в нашем расположении. Он рассказал, что скрывался на хуторке у вдовой молодицы, помогал ей в обезмужиченном хозяйстве. Немцы на этот хуторок, затерянный среди безбрежных лесов, по его словам, не заходили. Версию такую можно было считать правдивой: спасаясь от плена, некоторые наши солдаты становились в фашистском тылу теми, кого называли «примаки». Из Великих Лук, после соответствующей проверки, Скирдюк был направлен в Узбекистан. Почему? Здесь все тоже выглядело логично. Оказавшись опять среди своих, Скирдюк подал командованию рапорт, сообщил, что незадолго до войны хотел поступить в Харьковское танковое училище, однако тогда ему было отказано из-за того, что окончил он только восемь классов. Теперь же, во время войны, в училище в порядке исключения принимали фронтовиков, не имеющих полного среднего образования. Скирдюк просил, чтобы такое исключение было сделано для него. Разумеется, нечего было и думать о том, чтобы найти еще довоенное заявление Скирдюка: когда училище эвакуировалось из Харькова, все бумаги, не имеющие большого значения, сожгли. Скирдюку поверили и направили учиться на танкиста в Узбекистан. Все здесь не вызывало сомнений, так же, как судьба Скирдюка уже в стенах училища. В деле его хранились документы и врачебные заключения, свидетельствовавшие, что едва ли не на первых тактических учениях, еще проходя курс подготовки молодого бойца, курсант Скирдюк, спрыгивая на ходу с танка, серьезно повредил правую ногу и вынужден до сих пор периодически лечиться. Он был списан в нестроевые, мог уйти из армии, однако обратился к начальству с просьбой, чтобы его оставили в училище на службе. «Докуда прокляти враги топчуть Украйну, мое место в армии», — было написано рукой Скирдюка. Далее — в деле был подшит рапорт начальника продовольственной части, некоего Хрисанфова, по званию старшего лейтенанта, с просьбой к командованию о назначении кладовщиком на склад Скирдюка, который «еще у себя в селе работал в кооперативе, знает немного товароведение, документацию и умеет работать на счетах». Просьба Хрисанфова была удовлетворена, Скирдюк начал служить кладовщиком, очевидно, проявил себя не только расторопным, но и умеющим угодить кому надо, и в короткий срок дорос до начальника склада и столовой. Ему было двадцать семь лет. Он был черняв, высок, строен, а хромота, как известно еще с лермонтовских времен, придает человеку в шинели даже известную романтичность. Был Скирдюк к тому же независим от казарменной дисциплины, а в портфеле у него рядом с накладными и квитанциями лежала всегда и бутылка, и кольцо колбасы, и банка консервов. Мудрено ли, что дружки и женщины, и те, и другие — известного рода, липли к нему. Тут-то и возникла первая загадка, которая останавливала Коробова, когда он уже подумывал, не передать ли дело в военную прокуратуру. — За что ты ее, Степа? — спросил все же один из приятелей, писарь, когда Скирдюка вели к машине. — За что? За любовь, конечно... И Скирдюк, заметил Коробов, съежился при этих словах. Об интимной стороне его жизни тоже было уже кое-что известно. — Приходили, приходили. Вы думаете, только женщины? Девочки даже, — охотно рассказывала грузная парикмахерша, окна ее мастерской смотрели в переулок, где Скирдюк с разрешения командования снимал комнату. — Какая-то из ремесленного бывала, потом одна блондинка в пальто с пушистым воротником. Я не знаю, конечно, чем они там занимались. Какое мне дело? Зашли — вышли. Так вот: Наиля Гатиуллина была старше Скирдюка на шесть лет. Чуть скуластое лицо, светлые глаза, но что-то неуловимо привлекательное во всем скромном облике. Снимки были сделаны давно, когда Наиля работала на заводе в Башкирии. В альбоме у Наили лежала и газета-многотиражка, на первой странице которой было помещено фото: стахановка-лаборантка Гатиуллина Н. А. за работой. Снимок был неудачный. Наиля выглядела чрезмерно широколицей и большеротой, может потому, что фотокорреспондент, подобно всем своим коллегам, заставил ее улыбаться... Нет, что ни говори, на роль красотки, которую убивают из ревности или из-за неразделенной любви, женщина эта не подходила. Впрочем, только ли это? Вопросы возникали один за другим. Наиля работала в лаборатории «Невская»[36], эвакуированной из Ленинграда. Так вот, не имела ли Наиля доступ к секретному производству? Давно ли началась ее связь со Скирдюком? Не говоря уже о том, что загадкой оставалось самое главное — мотивы жестокого убийства, к тому же такого, скрыть которое никак не удалось бы. Да Скирдюк, по всему судя, и не стремился к этому... Коробов уже доложил начальству о происшествии по служебному телефону. Теперь он направлялся в Ташкент, чтобы все-таки получить разрешение на передачу дела прокурору, и, что греха таить, хоть немного отдохнуть, но с каждым километром, подмятым под колеса «эмкой», все больше возрастала и его тревога. Он был теперь почти убежден, что, теряя время, упускает нечто чрезвычайно важное. Показались глинобитные домики, беленые дувалы пригорода. — Стой! Поехали обратно! Шофер, привыкший за время службы в «Смерше» ничему не удивляться, притормозил и начал разворачивать машину на узкой дороге назад. Что-то тянуло Коробова к убогой комнатке на берегу, в саманном поселке. Комната зияла дверным проемом. Хлипкая дверь валялась неподалеку. Накладка с искривленными гвоздями, вырванными из рамы, удержалась на язычке врезанного замка, но ключ, которым была заперта дверь изнутри, найти не удалось, как ни искали его в первое же утро. Не оказалось его и у Скирдюка в карманах при обыске. Возможно, когда дверь сорвали, ключ улетел далеко в сторону. Где уж там было пытаться найти его среди присыпанных снегом ржавых банок, обрывков жести, камней, которыми было усеяно все окрест. И все же теперь внимание Коробова, когда он вновь попытался отыскать ключ, привлекла папиросная коробка — «Северная Пальмира» с изображением сфинкса на Невском берегу. Папиросы были дорогими и легкими. Отнюдь не те, которые предпочитает курить рабочий человек. К тому же, никто не бросил бы сдуру почти полную пачку: папиросы с красивыми золотыми марками на мундштуках лежали одна к одной, нетронутые. Значит, кто-то совсем недавно уронил здесь «Северную Пальмиру» случайно. Уронил то ли будучи пьяным, то ли — от испуга, то ли — в спешке. Он бережно поднял «Северную Пальмиру», перевернул пачку и увидел номер телефона, записанный химическим карандашом. Цифры на бумаге расплылись; теперь можно было только гадать: не то 3-93-44, не то 3-03-14, а может 3-03-19 или что-то еще похожее. И все же коробок в сочетании с телефонным звонком в комендатуру (звонить могли только из дому; автоматов в ту пору в поселке не было) и этим номером, пусть пока не уточненным, был находкой важной. Не оставалось к тому же сомнений, что брошена здесь «Северная Пальмира» недавно: папиросы даже не успели отсыреть. Коробов вошел еще раз в комнату, охраняемую теперь ефрейтором из комендатуры. Вновь осматривал он небогатое жилище Наили Гатиуллиной. Посуда и даже обе книги по его указанию были уже отправлены с необходимыми предосторожностями на дактилоскопию, хотя сомнений не вызывало, что, к примеру, след большого пальца, измазанного селедкой, на последней странице сентиментальной пожелтевшей повести, принадлежит старшине Скирдюку. Не исключено, что он читал эту книжицу вслух, прежде чем застрелить Наилю. Да и она сама, наверное, не раз листала страницы; на некоторых остались следы яблочного повидла (Коробов запомнил это), того самого, которое еще оставалось в банке на подоконнике. Повидло — пища небогатая, очевидно, не было принесено сюда Скирдюком; банку эту выдали Наиле на карточку, вместо сахара. Итак, можно было предположить, что Скирдюк станет утверждать, будто они с Наилей решили, подобно госпоже Моро и ее возлюбленному, уйти вместе из жизни, но вот у него, так же как у Эмиля из повести, духу не достало, чтобы и самому застрелиться тоже. Впрочем, для подобной версии требуется, чтобы любили друг друга Скирдюк и Наиля Гатиуллина так же жестоко, как любовники из старой повести, да чтоб и препятствия на пути к общему счастью были так же непреодолимы для них. Начнем с любви. О ней должны знать подруги. Таковых почти не оказалось. Соседи рассказывали, что на улице, даже в благостные теплые вечера, Наиля показывалась редко. Работала, правда, много, а придет — тут же запрется. Даже свет не всегда зажигала по вечерам. Если и заглядывала к кому ненадолго, так это к Клаве Суконщиковой, дверь которой была рядом в том же бараке. Клава, молодая мать-одиночка, держа на коленях годовалого Витьку, стреляя по сторонам острыми глазами, долго рассказывала о всякой всячине, имеющей лишь косвенное отношение к Наиле, и вдруг (Коробов терпеливо дожидался этого) сообщила, словно о чем-то пустом: — Да не любила же Нелька того паразита, Степана. Ну, может, вот столечко (Клава отвела в сторону Витькин мизинец), и то — поначалу. Как раз в последний день (тут Клава непритворно всплакнула), перед тем, значит, как Степка ее порешил, увидела меня возле колонки, я как раз белье полоскала, и говорит: «Нужна я ему, как той рыбке зонтик. Мучает меня только — и все». И рассказала, как ей переживать приходится. Будто бы позорила ее недавно какая-то Зинка с автобазы. Расфуфыренная вся из себя, рассказывала Нелька, кубаночка серенькая на ней; папаша этой Зинки, говорят, большие тыщи гребет. Нелька, значит, пошла карточки отоваривать, стоит со всеми в очереди, а тут машина подъезжает, вылазит эта Зинка и сразу — в дверь. Ну, женщины, конечно, не пускают ее, а она им: «Я по личному делу». Нелька не выдержала, стала говорить, что они после смены два часа стоят, а тут какая-то финтифлюшка вперед лезет, а та, значит, узнала ее и говорит так ехидно: «Что ж ты за какой-то повидлой несчастной два часа стоишь? Наверное, мало дает тебе за твои услуги один военный? Поговорила бы я с ним, чтоб платил получше, да за такую дешевку даже дурак много не даст». Нелька слова сказать не смогла в ответ. Расплакалась да и побежала. Только лицо руками закрыла. А я бы, — добавила Клава, — всю бы краску на морде у этой паршивой Зинки размазала. Коробов не усомнился, что именно так и поступила бы эта Суконщикова. — Почему же и после этого случая принимала все-таки Неля Скирдюка? — спросил он. Клава усмехнулась, снисходя к его наивности: — Да какому ж мужичку наша сестра нынче не рада? А тут — Степка этот. Про таких говорят: «И удовольствие, и продовольствие», — Клава засмеялась, показав неровные зубы. — Не то что мой: переночевал под первое мая да под октябрьские и полетел фашистов сбивать. Спасибо, на память оставил, — и Клава зло подкинула захныкавшего Витьку. — Значит, все-таки, выходит, любила Скирдюка Неля? — Обманывал он ее, — сердясь на непонятливость Коробова, возразила Клава, — все вы нас, баб, обманываете. Получите свое — и в кусты. Конечно, поначалу Нельке вроде бы лестно было. Зинка эта, диспетчерша, рассказывали, от ревности прямо зеленая стала, никакие пудры не помогали. Она же моложе Нельки лет на десять, не меньше. Но все-таки Нелька гордая была. Как раскусила Степана, так и сказала, чтоб больше не ходил. А он — настырный. Стучит, стучит... Она и откроет. Как раз под Новый год было. Слышу, шумят. Витька у меня не спал. Только он угомонился, Степан дверью как хлопнет, крикнул что-то и пошел. А потом опять вернулся. — А Неля — что же? — Пустила. Разве ж нас поймешь? А потом, значит, и порешил он ее, подлец. — Тянуло его, выходит, к Неле, хоть и старше других, хоть и не такая уж красивая? Клава пожала плечами и сообщила как о чем-то вовсе уж пустяковом: — Чудной он все-таки какой-то, а может — псих. Потому и застрелил ее, наверное. Как выпьет, так и начинает петь Нельке: «Ты — солдат тыла. На таких весь фронт держится. Не зря тебе талоны на усиленное питание выдают. Так, наверное?» Нелька, конечно, молчит. Есть вещи, про которые говорить не полагается. Это мы понимаем. Коробов помолчал. Достал из полевой сумки пачку печенья (сухой паек), дал Витьке (тот тут же начал облизывать глянцевую обертку) и попрощался.Теперь, занявшись делом по-настоящему, Коробов прямо от Клавы Суконщиковой отправился в отдел кадров лаборатории, где работала Неля. В тоненьком личном деле Гатиуллиной Наили Мингазовны он прочел ее автобиографию, едва занявшую треть листка: «...родилась в 1910 году в селе Ермекеево Башкирской АССР, окончила 7 классов и нефтяной техникум в городе Саратове, впоследствии работала на нефтекомбинате в Черниковске. Отец ушел к другой семье, когда мне было шесть лет. Мать, Гатиуллина Минавар, 1887 года рождения, умерла в 1940 году от сердца...» Затем в деле были подшиты копии приказов. Последний, датированный декабрем 1942 года, гласил, что Гатиуллина Н. М. принята на должность лаборантки. На копии стоял оттиск штампа «секретно».
Днем Коробов велел привести Скирдюка на первый допрос. На лице Скирдюка, изрядно осунувшемся за прошедшие после убийства сутки, застыло выражение безразличия ко всему на этом и на том свете, однако Коробов сразу же вывел его из состояния равнодушия, то ли действительного, то ли мнимого. — Вот что, Степан Онуфриевич, — сказал Коробов, заполнив первую страницу, где записал обычные сведения о допрашиваемом, — сейчас — война, времени у всех в обрез, у меня тем более, поэтому давайте сразу отбросим легенду о вашей несчастной любви с Наилей, о том, что вы решили вместе уйти из жизни, но рука на себя у вас, мол, не поднялась. Желваки на проступивших скулах Скирдюка заходили. Он ожидал, очевидно, чего угодно, но только не такого начала. — Откуда вам про это известно? — спросил Скирдюк с недоумением, похожим на суеверный испуг. — Спрашиваю здесь я, — напомнил Коробов, — ваше дело — отвечать, а потому скажите, сколько выстрелов было вами произведено? Скирдюк вскинул на него из-под нахмуренных густых бровей тяжелый взгляд. В нем мелькнули недоумение и страх, и это не укрылось от Коробова. — Разве ж это я стрелял? — начал Скирдюк хрипло и тут же закричал, с силой стукнув себя в грудь. — Оно, оно во мне горело. Он произносил по-южному: «воно, воно...» — Так, Степан Онуфриевич, выходит, склоняете вы нас все-таки к той же версии: убийство на почве трагической любви? — Коробов вздохнул. — Что ж, дело ваше... Будем опровергать. Итак, если вот здесь, — Коробов указал на сердце, — такая огромная любовь, других женщин к себе не приглашают. Ремесленниц, к примеру, или медсестер. И с диспетчером Зиной не заводят романов тоже. Как это вы все свяжете вместе? Скирдюк вновь повел встревоженно глазами, но тут же хмыкнул пренебрежительно: — Намололи уже вам бабы. Языки без костей... — Проведем очные ставки, если вы настаиваете на большой любви. — Да мне один теперь хрен, — раздраженно бросил Скирдюк, — что вам полагается, то и проводите. Все едино — к стенке. Того я поскорей и желаю. Не мучили бы только разговорами, а сразу. Мне теперь жисть не в жисть. — Без Нели? Скирдюк засопел и кивнул. — Пусть так. А сколько патронов было у вас в барабане? — Не помню, — ответил Скирдюк глядя в пол. — Я никогда полный не заряжаю. — Барабан сейчас пустой. — У меня всегда не хватает. — Можете объяснить, почему? — Привычка. — Не верю. Вы военный и знаете, что магазин у оружия всегда должен быть полным за исключением особых случаев, например, выполнение на стрельбище специального упражнения. — А я и вправду вам скажу, вы все едино не поверите. — А вы скажите, Степан Онуфриевич, все-таки. — Игра есть такая, может, слыхали когда: «Дуэль с судьбой» называется? — Да-а... Развлеченьице, щекочущее нервы: несколько гнезд пустых, провертеть барабан, наган к виску и нажать на спуск. Только вам зачем было заниматься этим? Жизнь надоела? — Я же говорил — не поверите вы мне. — Все потому же: из-за несчастной любви? Да разве же могла Наиля, у нее, у бедняги, уже волосы седели, отказать в любви вам, молодому, красивому? И вообще, что могло вас привлечь к ней? Скирдюк скривил губы в подобии усмешки. — Не для протокола, — произнес он тихо и доверительно наклонился над столом, так, будто находился не на допросе, а в тесной мужской компании. — Татарочек вам встречать не доводилось? Коробов на миг стушевался. — Да ничего, — с некоторым оттенком снисходительности продолжал Скирдюк, — вы же помладшей меня будете. Успеется. А повезет, поймете сами. Человек этот был не прост. Коробов преодолел замешательство и строго произнес: — Ближе к делу. Где и когда вы познакомились с Гатиуллиной? Он уже знал из показаний Клавы Суконщиковой, что «видный из себя военный» начал появляться в гостях у Нели незадолго до Нового года, значит, как раз в ту пору, когда Гатиуллину перевели в экспериментальный цех лаборатории. Но, очевидно, и на этот вопрос ответ был заготовлен загодя. — Приметил я ее давненько, только никак добраться до нее не мог. Такую женщину не возьмешь с ходу. Такие цену себе знают. — Когда же все-таки вы добрались до нее, как вы выражаетесь? Скирдюк пошевелил губами, будто подсчитывая. — Летом, наверное. Точно — летом. Потому что они на Чирчике как раз купались с девчатами, а я с двуколкой мимо проезжал. — Ездовой был ваш? Фамилия? — Алиев. Наверно, он был. С другими я редко езжу. — Продолжайте. — Ну так вот. Отправил я двуколку в часть, а сам к ней. Отбил ее от гурта, слово за слово и познакомились. Понятно было, что несмотря на предупреждение в самом начале допроса, Скирдюк от своей любовной версии не отступит. И Коробов задал последний, сейчас — самый важный вопрос: — Что же вам мешало соединиться с Наилей, жить с ней, как говорят, в любви и счастье? — Коробов знал из личного дела Скирдюка, что тот женат, но ждал, чтобы арестованный сам сознался в этом. Скирдюк отвернулся к стене. Ответил он после долгого молчания: — Я уже женатый. Жинка, правда, пока под оккупацией, но оно ж не навеки. Так? — Впервые уловил Коробов искренние ноты. — Есть жинка, есть и семья. Хлопчик, Миколка, — Скирдюк прикрыл глаза и умолк на минуту, а прежде, чем заговорить снова, вздохнул. — А самое главное, — он исподлобья взглянул на Коробова, — не любила Нелька меня. Это — точно. Ее голубишь бывало, а она мало что в морду тебе не плюет. Вы когда-нибудь переживали такое? — Он неожиданно вскочил. — За что вы мучаете меня? Под трибунал скорей — и точка! — Замотал курчавой головой и закрыл лицо ладонями. — Без истерик, Скирдюк! Вот, выпейте воды и отправляйтесь в камеру. Подумайте там еще. Может, поймете, что не надо морочить следствие сказками? Скирдюк заскрипел зубами. Коробов вызвал конвой. — Война идет, — напомнил он сурово, когда вошел конвоир, — люди жизни отдают, самое дорогое. Может и вы еще сумеете послужить Родине, если расскажете обо всем чистосердечно? Вот о чем надо думать, Скирдюк. Фраза — едва ли не обязательная, однако, услышав ее, Скирдюк запнулся у порога. На миг он повернул к Коробову лицо. Напряженная мысль застыла на нем, но тут же Скирдюк шумно вздохнул и вышел.
Утренним рабочим поездом прибыл старший лейтенант Гарамов — оперуполномоченный того же отдела, где служилКоробов. В свойственной ему манере, с тем выражением на молодом благополучном и даже несколько холеном лице, которое называется «Нас ничем не удивишь, и не такое мы видали!», сообщил он Коробову, что Старик (так называли они между собой своего начальника, полковника Демина) сердится, дела незавершенные остались, а Коробов застрял здесь. Коробов возразил, что далеко не все представляется ему здесь простым и ясным, и познакомил Гарамова с делом. Однако Гарамов прибыл, очевидно, не только с заданием от Демина («Посмотрите там вместе с Коробовым, помаракуйте: может, не представляет это дело интереса для нас?»), но и с готовым, сугубо личным мнением. — Опять мудришь ты, Лева, — говорил Гарамов, выпячивая нижнюю пухлую, как у девицы, губу и небрежно листая протоколы допросов. — Трагично, конечно: застрелил пьяный девушку ни за что ни про что. Но хочешь, я тебе в два счета закруглю это дело для передачи по принадлежности — в военную прокуратуру? То было продолжением давних споров. Гарамов был младше Коробова года на два, однако его уже порой ставили в пример другим: «Гарамов зря время не тратит. Парень с хваткой...» Не относясь прямо к Коробову, звучало такое заключение как упрек. У Коробова в самом деле случались расследования, когда, не щадя себя, с огромным трудом он расшифровывал им же самим составленное уравнение со многими неизвестными, а «икс», как выражался, хмыкая, тот же Гарамов, оказывался «равным нулю». Так было, к примеру, с инвалидом, который вернулся с войны с документами погибшего однополчанина и долго выдавал себя за него. Гарамов предложил передать это дело милиции, поскольку большего оно не заслуживает, Коробов же довел расследование до конца и получил в итоге «жирный пшик»: оказалось, что инвалид попросту таким образом сбежал от алиментов. Гарамов не преминул напомнить ему об этом провале и сейчас, однако Коробов не отступал. Они пили чай в чайхане, сидя в изрядном отдалении от общего помоста, за колченогим столиком. Ловко вскрывая перочинным ножом банку американской тушенки, Гарамов внушал по своему обычаю так, будто был старше и по званию, и по возрасту: — Пойми, наконец, начальству нужен результат. А что это такое? — Гарамов слизал с лезвия жир. — Ты же тратишь порох зря. У тебя сейчас дело — простое, как мычание. Пусть Скирдюк получит то, что полагается по закону, обосновать обвинение должен прокурор, сделать ему это нетрудно, все факты налицо, а у нас, ты знаешь, осталось в Ташкенте кое-что поважней. Поэтому покушай, перестань грустить, потому что девушкам нравиться не будешь, и закругляйся. Коробов с аппетитом ел, запивая бутерброды жидким, но зато огненно горячим чаем. — Конечно же, Скирдюк свое получит, — ответил он, жуя. — Он, кстати, и сам к этому стремится. Но почему он сам так торопится к этому? К примеру, когда мы его везли, он из машины выброситься хотел. Еле-еле удержал я его. А мы, между прочим, по мосту проезжали. Высота там — метров пятнадцать. — Сбежать хотел, что тут непонятного? — устало возразил Гарамов. — Чудак ты, Аркадий, ей-богу! Там же воды всего десять сантиметров, а под ней — сплошные камни. Костей бы его не собрали. — Еще что? — спросил Гарамов, уже не скрывая раздражения. — А то, что всего лишь для отвода глаз вся эта его версия с пламенной любовью. Хотя бы потому, что человек, который так любит, что на преступление готов, не станет от одной женщины к другой мотаться. — Почему — нет? — Гарамов подмигнул выпуклым карим глазом. — От несчастной любви лучшее лекарство другая женщина. И вообще, что это тебя, Лева, вдруг на любовные версии потянуло? — Не меня, как видишь, а Скирдюка. — Коробов допил чай. — Нет, Аркадий, — произнес он решительно, — дело Скирдюка я не оставлю. — Опять — твоя знаменитая интуиция? — не тая насмешки, спросил Гарамов. — И она — тоже. — Коробов на миг задумался. — Жизнь, Аркадий, — сказал он, — сама научила меня: и факты, и логика, и интуиция — не последнее дело в нашей с тобой работе. Жизнь и еще один человек, Аврутин. Он теперь, наверное, полковник. Никак не меньше. Будет время, расскажу тебе и о нем, и о том, как он мне помог самого себя найти. А сейчас, я думаю, удастся ли убедить Демина, чтобы он и тебя к этому делу подключил. Как смотришь? Гарамов выразительно посмотрел на него. Без слов понятно было: «Ты что, друг, рехнулся?». Однако, когда Коробов позвонил Демину и дал понять, что дело заслуживает внимания, полковник разрешил не только ему самому остаться, но и подключить к работе Гарамова. Добавил все же: — Чтоб вдвоем — в два раза быстрей, а не наоборот. Понятно?
— За женщин надо браться, за женщин! — Гарамов, желая как можно скорей доказать Коробову несостоятельность его предположений, уже выписывал из дела адреса. — Как раз тот случай, когда надо именно — шерше ля фам. — Действуй, Аркадий, — легко согласился Коробов. — И я тоже познакомлюсь поближе с одной, с Зиной-диспетчершей, как ее Суконщикова назвала. Он узнал, что Зина сменилась с дежурства еще утром, и пошел к ее дому (Зина жила с родителями в особнячке под горкой) пешком, чтобы не привлекать внимания соседей. Открыла молодящаяся женщина. Волосы ее были закручены мелкими колечками. Следом за ней показалась в дверях и сама Зина, с томными большими глазами и нежным ртом, девушка из тех, кого считают хорошенькими. Коробов назвался и был поспешно впущен в дом. По военным временам жили здесь обеспеченно. На овальном столе, накрытом толстой скатертью с тяжелой бахромой, стояла ваза, в которой горкой были насыпаны конфеты, вокруг валялись цветные обертки и яркая фольга. На блюдах лежали яблоки, груши и гранаты, печенье и ломти торта. Перехватив взгляд Коробова, хозяйка мигом убрала чайную посуду и все, что было на скатерти, и ушла на кухню. Коробов, как он и просил о том, остался вдвоем с Зиной. Несомненно, она ожидала, что история со Скирдюком, о чем, конечно же, были все наслышаны, как-то коснется и ее, и потому визит человека, назвавшегося военным следователем, не испугал. — Что, расстреляют теперь Степана? — как-то по-деловому справилась Зина, когда Коробов сообщил ей о цели своего прихода, о которой она и сама догадывалась. Тон был едва ли не безучастный, и все-таки из подведенных глаз Зины не потекли, а брызнули слезы. Она быстро взяла себя в руки и начала ровным голосом, не торопясь, рассказывать о том, как катались они со Скирдюком на мотоцикле («Иногда до самого Акташа доезжали...»), как потом начал Скирдюк захаживать к ним («Но только не подумайте: со мной он ничего такого себе не позволял. И потом — папа у нас кавказец, человек строгий. Всегда только при нем сидели. Ну, пили чай, иногда — чего покрепче. В карты играли. Степан тут самого чёрта обставит»).

Папаша по фамилии Зурабов был экспедитором холодильника на железнодорожной станции, следовательно, его со Скирдюком связывали и деловые отношения. Однако сейчас внимание Коробова было отвлечено иным. Он слушал Зину, а сам все заглядывал в приоткрытую дверь. Зина прервала себя. — Это степанов китель там висит, — все так же спокойно сообщила она, — он уже и вещички свои кой-какие к нам перенес. На май расписываться собирались. Так и вышло бы, когда б не швабра эта, не Нелька задрипанная, — Зина коротко вскрикнула, будто наткнулась на острие, и помотала головой, успокаиваясь. Халат на ее высокой груди распахнулся, но она не замечала этого, хотя Коробов и отводил деликатно глаза. — Давно началось у него это, с Гатиуллиной? — Шут его знает! — зло ответила Зина. — Он же, Степан, вообще по натуре дурной. Шатун. То с ремесленницей какой-то крутил, то с медсестрой из военного госпиталя. Я обижалась, конечно, как узнаю про что-то такое — пла́чу, а папаша успокаивал: все, говорил, так в молодости. Пройдет. Баловство кончается, жена остается. И тут Коробов спросил намеренно жестко: — Вы что, не знали, что Скирдюк давно женат? Что у него и ребенок есть, мальчик, Миколкой зовут? Семья у него там, на временно оккупированной территории. У Зины отвердели губы. — Не может быть, — произнесла она с трудом, — это вы нарочно... — Вот — выписка из личного дела. Можете в этом месте прочитать сами. Кроме того, очную ставку устроим вам. — Мразь!.. — выдохнула Зина. Видно, она была оскорблена сейчас до глубины души. — Записывайте! — она решительно повернулась. — Если вам это нужно.
Нужными, впрочем, оказались всего лишь два обстоятельства, которые Коробов выделил из длинного путаного рассказа Зины Зурабовой. Скирдюк в последнее время не мог избавиться от непонятного для Зины страха. Зина предполагала, что, возможно, в городе объявился кто-то из родственников Наили, может, брат или дядя, и преследует Скирдюка за связь с Наилей. И еще. Хотя она, как утверждала, не могла простить Скирдюка и даже вещи его собиралась выбросить, ловила все же, как каждая оскорбленная в своих чувствах женщина, любое слово о сопернице. Потому она и узнала от телефонистки, что за несколько дней до убийства к ней на коммутатор приходила Наиля. Звонила оттуда какому-то военному начальству. Просила, чтобы ее приняли для важного разговора. «Я все расскажу сама...» Разумеется, Зина по-своему истолковала это «все»: Наиля, очевидно, захотела, ледащая, чтоб Скирдюка заставили жениться на ней. Нашла средство, негодяйка! Коробов, однако, рассуждал иначе, тем более, что, сопоставив даты, он убедился: Наиля Гатиуллина, так и не дозвонившись до начальства, ушла на смену. Ночью она была убита.
Гарамов встретил Коробова радостным восклицанием: — Все! Передаем дело прокурору, а сами — нах хаузе. К выводу этому он пришел после допроса девушки из ремесленного училища. Звали ее Тамара, судя по виду ей было гораздо больше указанных в паспорте шестнадцати лет. Очевидно, в детдоме, куда она попала ребенком, возраст ее определили неправильно. В своем объяснении Гарамову Тамара написала: «Степа любил револьвером баловаться...» — Ты понял? — блестя глазами, радуясь успеху, спросил Гарамов. — Он же психопат типичный. Мания убийства у него. Я уверен, экспертиза подтвердит это на все сто процентов! Коробов однако не разделял его восторгов. — Скажи, что тебя, наконец, в таком случае убедить может? — уже в некотором раздражении спросил Гарамов. — Ну что ж. Допустим заодно, что у Скирдюка еще и мания преследования, — и Коробов открыл то место в показаниях Зины Зурабовой, где было записано: «Так Степан был вроде не трус. Один раз мотоцикл испортился на дороге за городом, к нам двое пьяных пристали. Степан с ними обоими голыми руками справился. А тут, перед Новым годом особенно, стал прямо трусливый какой-то. Про таких говорят: своей тени боится. Чуть смеркается, он уже из дому не выйдет...» — Конечно, — подхватил Гарамов, — явная шизофрения. Стремление к убийству — от постоянного страха. — Что же, он и Гатиуллину боялся? — Больному неважно, кто перед ним: бандит или слабая женщина. Коробов молчал. — Скажи, что тебя все-таки мучает? — продолжал наступать Гарамов. — Ну, а интерес к тому, чем именно занимается в своей лаборатории Наиля? Даже у недалекой, по всему судя, Суконщиковой это вызывает кой-какие подозрения. Ты полагаешь, что и подобное любопытство по отношению к тому, о чем знать посторонним не положено, тоже — от шизофрении? Теперь умолк Гарамов. — С женщиной надо же о чем-то трепаться, — хмыкнув, возразил он. — Видишь ли, Аркадий, отправить сейчас Скирдюка на психиатрическую экспертизу, значит дать основание к тому, чтобы он замкнулся окончательно. В интересах ли это нашего следствия? Тем паче, что я убежден: экспертиза даст ответ отрицательный, а Скирдюк — это субъект не простой — с заключением не согласится и будет играть невменяемого, с которого, как тебе известно, взятки гладки. — Коробов старался говорить как можно спокойней, но Гарамов при этих словах почему-то смутился. — Давай-ка просмотрим еще раз, теперь вместе с тобой показания медсестры. Она писала сама. Медсестра Протопопова Надежда Илларионовна, 1921 года рождения, незамужняя, уроженка города Пскова, прибывшая сюда вместе с эвакогоспиталем, обнаружила прямо-таки графоманский дар. С десяток страниц было исписано круглым размашистым почерком, что вызывало особую ярость Гарамова, поскольку писчей бумаги им выдавали немного. Но главным образом негодовал старший лейтенант потому, что написала Протопопова «целый роман», а для дела, оказывается, — ничего существенного. Ну кому нужны описания ее встреч со Скирдюком! «Было чудесное осеннее утро...» — иронично процитировал Гарамов. Или сердечные излияния: «Когда молодая девушка в незнакомом городе совершенно одинока, о, какое магическое воздействие на нее производит взгляд мужских заинтересованных карих глаз, как вздрагивает тогда сердце, как тает что-то в душе...» Примиряло Гарамова с медсестричкой лишь то, что была она «портативная блондиночка», как он выразился, однако служба есть служба и думать о Протопоповой как о милой женщине Гарамов себе не позволял. Он перелистывал, все еще возмущаясь, ее показания и неожиданно споткнулся на каких-то строках. — М-да... — произнес он, покачивая головой, — прочитай-ка это, Лева. Кажется, такое обстоятельство работает на твою версию. Протопопова записала, что не так давно (Коробов тут же определил: случилось это за день до убийства) Скирдюк неожиданно примчался в госпиталь, вызвал Протопопову, — ей пришлось солгать начальнику отделения, будто проездом с фронта прибыл на полчаса ее брат, — и попросил («Умолял меня едва ли не на коленях»), чтобы она дала ему снотворных порошков. Она вынесла на два приема, но он потребовал еще, страшно нервничал, говорил, что не спит уже третьи сутки, «заклинал сжалиться над ним», и Протопопова, поскольку люминал у них на строгом учете, вынуждена была выпросить еще четыре порошка у своей ближайшей подруги. Скирдюк спрятал порошки в бумажник, рядом с деньгами, и умчался на своем мотоцикле. «Он едва ли не взлетел на нем, и сердце мое оборвалось от страха за него и от какой-то не понятной мне тревоги...» — Та-ак, — раздумывая вслух, произнес Гарамов, — он хотел инсценировать самоубийство Наили, но почему-то у него это не получилось. — Почему? — спросил Коробов. Гарамов усмехнулся. — Есть такой невеселый анекдот: «От чего твоя теща умерла?» — «Кислотой отравилась». — «Почему же лицо у нее побито?» — «Пить не хотела!» Пить не хотела, — уже серьезно повторил Гарамов. — Ты смекнул, Лева? — он вскинул на Коробова выпуклые глаза. — Молодец, Аркадий! — воскликнул Коробов и нетерпеливо постучал кулаком по столу, что-то припоминая. — Да! — произнес он, словно прозревая, — там на подоконнике кружка эмалированная стояла, и на полу, я это заметил сразу, лужицы. Я тогда решил, что Наиля напиться хотела, а Скирдюк вырвал у нее кружку. Вода, конечно, расплескалась, и уже только потом он выстрелил. Но все, конечно, могло быть иначе... А ну по-быстрому — в барак! Может, что-нибудь еще осталось?
«Следы фенилэтилбарбитуровой кислоты — люминала» — дала заключение экспертиза после исследования белого налета, сохранившегося на стенке кружки. Эмаль во многих местах была отбита, но снаружи еще сохранился потускневший довоенный рисунок: юный пионер трубит в горн.
Коробов велел привести на допрос Скирдюка. Странно задумчивое выражение мелькнуло на лице Гарамова, когда Коробов отдавал это распоряжение, однако, поглощенный мыслями о предстоящем допросе, Коробов не придал этому значения. Вскоре он понял, что означало неожиданное смущение Гарамова. Скирдюка остригли наголо и теперь, с остро выступающими костями черепа, небрежно побритый, в гимнастерке без ремня, он мало походил на ловца женских душ, каким представлялся до сих пор едва ли не всем окружающим. Коробов, впрочем, с самого начала сомневался: только ли донжуанские побуждения руководили Скирдюком, когда он заводил связи то с одной женщиной, то с другой? Вот и ремесленница Тамара. Как удалось выяснить Гарамову (как бы скептически ни относился он к предположениям Коробова, однако следствие вел с неизменной профессиональной добросовестностью), девушка эта вместе с несколькими подругами занималась на снайперских курсах при военкомате, а там недавно получили новые оптические прицелы. У Тамары, как у всех девушек, посещавших кружок, была взята строгая подписка-обязательство о неразглашении военной тайны, и все же Скирдюк, вроде бы посмеиваясь над девчонкой, вздумавшей отправиться на фронт, расспрашивал ее, куда же она все-таки заглядывает, целясь, и что видит: круг с делениями или просто — перекрестье? Ну и так далее. И еще на одно обстоятельство не мог не обратить внимание Коробов: Тамара проходила недавно практику в той же лаборатории, где работала Гатиуллина. ...Итак, старшина, заметно утративший ухажерский лоск, вновь сидел на табурете напротив капитана Коробова. Изменился Скирдюк не только внешне — он и вел себя по-иному. Куда девалась угрюмая сдержанность, граничащая как бы с безразличием к себе, к своей судьбе. Сейчас взгляд Скирдюка был тревожен и рассеян, он то и дело почесывал расслабленными пальцами свою стриженую голову. Беспечный воробей слетел с ближнего тополя и уселся снаружи на подоконнике. — Вы его только сюда не пускайте, за ради бога, — Скирдюк вяло повел пальцем, странно улыбаясь при этом. — Попадет — не выпустят. Так же? Коробов начал догадываться. В досаде он даже прищелкнул пальцами. Однако надо было взять себя в руки и провести допрос. Время убегало, в Ташкенте ждали незавершенные дела, представлявшиеся пока более важными, и Демин, можно было легко догадаться, сердится уже не на шутку. Дернуло же Гарамова усомниться в психической полноценности Скирдюка! Он, несомненно, дал почувствовать это арестованному, и теперь Скирдюк симулирует помешательство. — Здраво, здраво рассуждаете, Степан Онуфриевич, — заметил как бы небрежно Коробов. Он будто вспомнил о чем-то забавном и решил поделиться. — Тут как раз перед вами одного ненормального приводили. Представляете: в течение месяца вытаскивал линзы из оптических приборов. У него нашли мешочек, полный линз! Хотел, говорит, аппарат сделать, прожигающий вражеские танки лучом. Скирдюк вскинул на него непонимающий, вполне трезвый взгляд: зачем, мол, капитан рассказывает ему эту историю? — Так вот, — продолжал Коробов, — он тоже увидел этого воробьишку, ну и, как обычно все шизофреники, жалобно так попросил: «Пустите птичку сюда! Я с ней записку в академию отправлю. Принцип моего аппарата изложу. Чтоб в Москве узнали...» Коробов усмехнулся, однако Скирдюк стал мрачен. — Не будем валять дурака, Степан Онуфриевич! — строго произнес Коробов. — Артист из вас плохой и ничего вы не добьетесь этим. Любая психиатрическая экспертиза сразу же покажет, что вы абсолютно здоровы. Скирдюк поерзал на табурете. — Какой я есть — другим не стану, — произнес он сердито. — Ну и порядок! Приступим к допросу. Жалобы, просьбы есть у вас? — Имеется, — Скирдюк ухмыльнулся. — Хлопните меня скорей и не мучайте вашими разговорами. Конечно же, он понимал, что по законам военного времени за убийство, совершенное военнослужащим, положено суровое наказание. Он был лишен всяких надежд, и все же именно это и решил использовать Коробов. И потому прежде всего следовало добиться, чтобы Скирдюк отступил от своей легенды — о трагической любви к равнодушной Наиле. И не торопясь, нанизывая на логический стержень собранные за это время факты, Коробов нарисовал сейчас перед угрюмо слушающим его Скирдюком следующую картину. И в самом деле, Наиля не любила Скирдюка. Уступила мимолетному женскому порыву — от одиночества, от тоски по мужскому вниманию, ласке. Но как раз поэтому вовсе не собиралась она уходить вместе с ним из жизни, подобно госпоже Моро и ее возлюбленному Эмилю. Пожелтевшая книжечка, Наиля возможно перечитала ее не раз, понадобилась Скирдюку всего лишь для инсценировки, шитой белыми нитками. Кстати, сам Скирдюк опроверг свою версию еще на первом допросе, когда кричал, страдая, что Наиля была холодна с ним. К чему же было ей соглашаться на крайний выход? Нет в этом логики, и потому лишний раз факты убеждают, что убийство — именно так! — готовилось тщательно и заранее. Правда, план свой Скирдюк изменил. Сперва он хотел отравить Наилю, усыпить ее большой дозой люминала (Способ среди женщин-самоубийц распространенный. Тут Коробов предъявил заключение химиков). Тогда со Скирдюка, были бы, как говорится, взятки гладки. Почему же отказался Скирдюк от этого намерения своего, которое, осуществись оно, возможно позволило бы ему уйти от прямой ответственности? Коробов был убежден, что Скирдюк начнет сейчас же отпираться, однако арестованный, все так же глядя в пол, сообщил глухим голосом: — Порошки у меня Нелька сама просила. Спать ночами не могла — маялась, а утром ей на смену. — Неправда это, Скирдюк. Следов снотворного в крови убитой не обнаружено, а концентрация люминала в кружке была очень высокая. Значит все шесть порошков сразу в ней и растворили. Человек, который желает просто уснуть и проснуться вовремя, так не поступает. Доза была, несомненно, смертельная, однако пить Гатиуллина не хотела, а вы настаивали. Она сопротивлялась, вы заставляли ее пить насильно (потому и расплескалась вода, остались на полу лужицы), она начала кричать, и тогда... Скирдюк вскочил, дико вращая глазами, и растопырил пальцы, явно намереваясь схватить Коробова за горло. Невольно рука легла на пистолет, но Коробов сдержался. — Перестаньте ломать комедию, Скирдюк! — прикрикнул он и нажал на кнопку звонка. Вбежал конвоир. Скирдюк уперся ладонями в стену, бодал ее лбом. — Застрелите! — хрипел он. Продолжать допрос было бессмысленно.
— Вот негодяй! — Гарамов бурно переживал рассказ Коробова. — Ты же имел право оружие применить. — Зачем? — несколько раздраженно возразил Коробов. — Чтоб убрать единственного человека, который может хоть какой-то свет пролить на это дело? Гарамов скептически пожал плечами. — Так уж и прольет тебе свет этот тип... И на что проливать? — Ты, между прочим, тоже помог ему, Аркадий. Дернуло тебя расспрашивать у Скирдюка, не было ли в роду у него ненормальных. Подсказал ему ход. Кривляние у него не получилось, я ему это быстро доказал, тогда он решил изображать буйного. Они возвращались из штаба училища, откуда звонили полковнику Демину. Демин разрешил продолжать следствие, но потребовал, чтобы Скирдюка направили на психиатрическую экспертизу. Просил, однако, опять, чтоб поторопились; хотел вызвать Коробова на собеседование, но Лев Михайлович доложил, что хочет собрать еще некоторые дополнительные данные, а уж потом доложить Демину дело Скирдюка. — Я и теперь уверен, что застрелил он эту татарочку только по глупости, — упрямо вел свое Гарамов. — Ну, а этот, как мы называем, особый интерес Скирдюка к объектам, имеющим военное значение? К лаборатории, к новой оптике? Ты полагаешь до сих пор, что дам своих он выбирал произвольно, руководствуясь только симпатиями? Ну, Зина Зурабова или медсестричка эта — предположим. А Тамара? Что в ней-то привлекательного? Или — в той же Наиле? — Скажу откровенно, — с трудом сознался Гарамов, — иногда я согласен с тобой. И все-таки чаще делаю вывод, что Скирдюк этот — обыкновенный мерзавец или псих. А «Невская» лаборатория, прицелы, — все это могут быть и совпадения. Возьми сейчас любого человека, первого встречного, и окажется, что он тоже имеет какое-то отношение к военной тайне. Подумай еще раз, Лева: может Скирдюк и в самом деле в раж вошел? Понимаешь, все перед ним стелются, а одна вдруг в морду плюет, к тому же — далеко не самая красивая... Но Коробов вел свое: — Жаль, невозможно проверить, как он там у своей вдовушки в оккупации жил. — Ничего, недолго осталось. Сводку сегодня слышал? — Еще бы! Триста тридцать тысяч окружено! Вот они где хлебнут наконец за все наши горести! Несколько минут они, отвлекшись от Скирдюка, оживленно обсуждали последние новости со Сталинградского фронта. — Увидишь, Лева, через два месяца всю Украину освободим! — блеснув глазами, заключил Гарамов. — Может и так, но нам с тобой — распутывать узел здесь. Это сейчас самое главное — узнать, кого или чего он так опасался? — Думаешь все-таки, он агент и у него связь была? — Предполагать это мы обязаны. Задача — проверить. — Как? — Гарамов резко вскинул руки. Жест, означавший недовольство, даже отчаяние. — Наверняка нет у него никакой связи! Нет, понимаешь? Будь здесь резидент, разве позволил бы он Скирдюку поднять вот такую пальбу и демаскировать себя? — То-то и оно! — Не понимаю тебя, — искренне признался Гарамов. — Я и сам пока — в потемках, но полагаю, что поведение Скирдюка связано с его страхом. Этот страх — сильнее смерти. Потому он пытался броситься с моста, потому просится скорей к стенке, потому и меня провоцировал, когда накинулся во время допроса. Он запирается, наверное, все-таки не потому, что изменить чему-то не хочет (мы с тобой наблюдали не раз, как самые матерые агенты раскрываются). Это у него — тоже от боязни. — Чего? — иронически спросил Гарамов. — Что может быть хуже расстрела? — Теоретически — многое, но не станем философствовать. Надо попытаться получить дополнительные факты у свидетелей.
Вообще-то Скирдюк при всем своем, как можно было решить с первого взгляда, любвеобилии и щедрости, был на самом деле то ли нелюдимым, то ли прижимистым, если верить его сослуживцам. «Выпивать с тобой садится, обязательно колбасу на две пайки разделит: себе получше, тебе — ту, что с хвостиком. А если кто случаем заглянет, Скирдюк сразу все, что на столе, газетой закроет», — сообщил еще на самом первом допросе веснушчатый надутый писарь Лыков. Повар Климкевич на жадность Скирдюка, по понятным причинам, обращал меньше внимания. Его задевало иное: «Просишь его, бывало: давай, Степан, посидим у тебя компанией. У тебя ж девчат знакомых много, пусть какая и для меня пригласит одну. Не обязательно, чтоб что-то такое сразу, но просто время провести, чтоб веселей... Он — ни за что». Впрочем, с этими двумя Скирдюк хоть как-то общался, а ездовой Алиев, морщинистый, с длинными запорожскими усами, рассказывал обиженно: «Например, в Ташкент продукты получать едем, три часа — туда, три часа — обратно, он даже одно слово говорить не хочет. Я что скажу, он сам молчит, как вроде не слышит совсем. Лошадь и то лучше: по-хорошему говоришь — радуется, на тебя смотрит. Скирдюк (Алиев произносил по-своему — Скирдык) — никогда. Я так сразу понимал: паразит!» Отпуская этих свидетелей, Коробов просил их припомнить и даже записать все, что относилось к Скирдюку, даже самые на их взгляд малозначительные мелочи и подробности. Верный своей военной должности Лыков исписал затейливым писарским почерком три страницы и положил их на стол с некоей важностью, свойственной ему вообще, поскольку он, как легко было догадаться, мнил себя человеком, близким по роду службы к начальству куда более высокому, нежели какой-то капитан, пусть даже — из «Смерша». Коробов быстро пробежал глазами показания Лыкова, однако всего лишь одно место привлекло его внимание. «Со стороны Скирдюка мною было получено недавно предложение оформить командировочное предписание на имя одного неизвестно лично мне младшего лейтенанта. При этой просьбе Скирдюк сильно волновался, объясняя ее тем, что обязан выручить товарища, с которым подружились в госпитале в Ташкенте. По словам Скирдюка, этот товарищ попал из-за него в нехорошую историю. Он вроде бы дал Скирдюку свою планшетку, где находились деньги и документы с тем, чтобы Скирдюк приобрел для него на базаре вина и закуски, а Скирдюк, находясь в нетрезвом состоянии, забыл эту планшетку, сам не помнит где. Деньги он вернул младшему лейтенанту свои, но тот требует командировочное предписание, поэтому Скирдюк ко мне и обратился, зная, что у меня по долгу службы хранятся в сейфе различные бланки. Хотя во время упомянутой беседы, находясь в гостях у Скирдюка, я тоже был сильно выпивши, однако нарушать инструкцию категорически отказался и объяснил Скирдюку соответствующие пункты, он же в ответ разозлился, начал попрекать, я, мол, плохой друг, а потом начал уговаривать, чтоб я забыл про этот разговор. Он вроде бы только хотел взять меня на пушку — проверить настоящий я товарищ или нет. Вообще он был чудной какой-то всегда, и потому я подумал, что это — правда. В чем и расписываюсь». — Фамилия того младшего лейтенанта? На веснушчатом лице Лыкова впервые мелькнула виноватость. Он пожал плечами: — Разве ж я предполагал, что оно понадобится? Да и пьяный был очень. Коробов не стал его упрекать. Он попросил: — Постарайтесь вспомнить хоть приблизительно: на какую букву начинается или какая — по национальной принадлежности? Вы же представляете хоть примерно — русские оканчиваются на «ов», армянские на «ян», польские — на «ский». Как писарь вы же не раз с этим сталкивались? — Конечно, — Лыков попытался возвратить себе важность, однако почесал пальцем залысину на лбу. — По-моему, если память не изменяет, какая-то непонятная, скорее всего — азиатская. — Он даже начал размашисто с завитушками выводить на листке какие-то фамилии, но видно было, что только запутывает себя этим. — Знай, что кому-то это нужно будет!.. — опять повторил он, сокрушаясь. — Да я даже записать ее не пожелал. Отказался наотрез — и все. — Ладно, Лыков, — уступил Коробов, — идите, но постарайтесь все же припомнить. Писарь вскочил, вытянулся, по-штабному лихо откозырял и повернулся кругом. — Так, так, — произнес вслух Коробов, когда писарь вышел. Он уже чувствовал, что, как он называл это про себя, «разгадка виляет хвостиком», но вот как ухватиться хотя бы за кончик его! Скирдюку понадобилось командировочное предписание. Зачем — догадаться нетрудно. Стоп... Коробов даже вскочил, боясь упустить мелькнувшую догадку. У него была привычка, казавшаяся тому же Гарамову, к примеру, чудачеством: по непонятному внутреннему побуждению вдруг заинтересоваться при допросе вещью или обстоятельством, которое, кажется, никакого отношения к делу не имеет и никогда иметь не будет. И у Зурабовых, когда и он, и Зина уж изрядно устали от разговора о Скирдюке, обратил внимание на небольшую фотографию, которая стояла на тумбочке: худощавый парень в мешковатой гимнастерке с кубиками на отложном воротничке напряженно смотрел в объектив. «Назарка это, — Зина вздохнула, перехватив взгляд Коробова. — В вещах его осталась карточка. Хотел, видно, девчонке какой-то подарить, там даже надпись есть, вот, посмотрите: «Храни копию, если дорог оригинал». Не успел», — Зина на миг пригорюнилась. «А кем он вам приходится?» — спросил Коробов. Она грустно поправила: «Приходился... Брат сводный. Умер в госпитале. В Ташкенте». Решение было принято без колебаний: получить у прокурора ордер и ехать к Зурабовым.
Открыла мать, уже знакомая Коробову, несколько манерная женщина, по всему видно из сельских, но вот уже многие годы играющая городскую даму в ее представлении. Она и теперь манерно запричитала, мол, в доме у нее ужасный беспорядок, неудобно перед интеллигентным человеком, что подумают о ней; однако, едва Коробов предъявил ордер на обыск, лицо женщины вмиг стало растерянным и жалким. На капитана устремила бегающий обеспокоенный взгляд, ни дать ни взять — перекупщица с черного рынка. — Да нечего у нас искать, — запричитала она по-бабьи, — ей-богу, все на виду, живем, от людей не прячемся, все, что есть — своими руками, своим горбом... Никишин и два конвоира стояли у порога. Рядом с ними уже топтались соседи-понятые: пожилой человек в войлочной шапке и женщина, держащая за руку ребенка. — Прежде всего покажите все вещи, принадлежавшие Скирдюку, вплоть до мелочей, наподобие карандаша или зажигалки, — попросил Коробов. Хозяйка несомненно опасалась чего-то иного и заметно было, что от сердца у нее немного отлегло. С чрезмерной поспешностью сняла она с вешалки китель, с шумом вытащила из-под шкафа фибровый чемодан и с готовностью распахнула его перед Коробовым. В чемодане оказалось два отреза: отличное офицерское сукно и коверкот. Под ними лежало четыре хромовых заготовки на сапоги и сложенные стопкой, остро пахнущие подошвы, тоже — новые. Всему этому в военную пору цены не было. Коробов отметил это про себя, однако волновало его сейчас иное. — Письма, бумаги? — нетерпеливо спросил Коробов, убедившись, что карманы кителя пусты. — Ничего такого не было, — она, кажется, говорила искренне, — вот только это и принес он к нам, глаза бы мои его не видали. Сколько же раз наказывала я Зинке: не водись ты с ним, добром не кончится. Так разве ж наши детки слушаются нас! — А сколько их у вас, детей? — спросил, словно бы кстати, Коробов. Прозвучало это невинно, будто обычное праздное любопытство, и так же естественно хозяйка ответила: — Двое, — глаза ее все же повлажнели, — Зинка эта, неприкаянная, да еще Сережка. Тринадцать лет ему. В ремесленное устроили. Жестом Коробов дал понять Никишину, чтоб он отпустил понятых и вышел бы сам с конвоирами тоже. — А старший ваш? — спросил Коробов. И вновь лицо женщины, чрезмерно белое от пудры, стало жалким. Она молчала, и Коробову пришлось повторить свой вопрос настойчивей: — Про Назара вы почему-то не вспоминаете. Он предполагал, что Зурабова окажется в затруднении: именно это и произошло, и Коробов утвердился в правильности своей догадки. Однако он был почти уверен, что найдет, если не в чемодане, то в кителе у Скирдюка документы умершего Назара Зурабова. Ради этого и примчался сюда. Пока — напрасно. — Потому не вспоминаю, — на этот раз с трудом подбирая слова, ответила наконец хозяйка, — что не совсем нашим он был. Всем видом своим Коробов выразил недоумение. — Мой Назарка был, мой, — на ее напудренных щеках обозначились мокрые дорожки. — Я за Мишу, за Мамеда то есть, вышла уже с сыном на руках. А Зинка и Сергей — эти конечно наши общие. — Как звали старшего по отчеству? Зурабова на какое-то мгновение замялась: — Вообще-то назвали мы его когда-то Назарлен. Это — еще с первым моим мужем... — она опечалилась чуть и вздохнула. — Ну, а когда Миша усыновил его, честь по чести записали: Назар Мамедович. — Значит, Назар Мамедович Зурабов, — повторил вслух Коробов. Он преодолел затруднение и задал следующий вопрос: — Как же это он, Назар ваш?.. Уже в тылу... — Да Назарка же и на фронте-то не был, — отвечала печальным, но ровным голосом женщина, глядя на стену, украшенную большим ковром, на котором висели два портрета: сама она в молодости (Зина очень напоминала теперь ее) и Мамед, остроносый, с тонкими юношескими усиками над губой. — В армию его только, как война уже началась, взяли, а до того не служил даже. Он у нас больше в отца своего родного пошел: всё книжки, пробирки, наука... Ну, а в войну начал мотаться с портфелем большим. В наших краях бывал нечасто. Можно сказать, только один раз и заглянул, бедный. На свою голову... Коробов дал ей успокоиться. — Отправили его зимой сюда, к нам, с делами, конечно. Ну и стащил у него кто-то в поезде сапоги, где-то под Оренбургом. Он выскочил из вагона и босой за вором погнался. А зима, холод... Вот он, бедняга, и поморозил ступни. Как сейчас помню, стучится ночью в окошко. Я как увидела его, в глазах потемнело. А он только и просит: «Лечи, мама... Завтра надо подняться». Я его, конечно, в постель сразу, чаем с малиной напоила, как раньше, когда маленьким был. Только где там было ему подняться за одну ночь? Сутки провалялся, бедный, в жару, а назавтра Миша, муж значит, не выдержал: схватил машину — и в госпиталь, в Ташкент. А там у Назара гангрена началась. Он и помер. Врачи говорят, чуть раньше — еще спасли бы. Коробов выждал долгую паузу и лишь потом спросил: — Вещи, документы его вам отдали? Женщина горько усмехнулась: — Какое там добро у него? Мы и не просили ничего. Комсомольский билет только и вернули. — Ну, а служебные документы? Теперь Зурабова с удивлением посмотрела на Коробова. — Нам-то они зачем? Какое мы отношение имеем? — Я спрашиваю, может, вы дома что-то нашли? — Ну что я нашла? Убиралась перед Новым годом, нашла тетрадь его общую. Он туда стихи переписывал, а может, и сам сочинял. Хорошие, душевные такие. А больше — ничего... — Полина Григорьевна, вы вспомните, пожалуйста, может, говорил когда-нибудь Назар, — Коробов решил спросить прямо, — про служебные бумаги? Ну там, допуск, удостоверение личности? — Дело в том (Коробов по запросу уже получил эти сведения), что в госпитале при нем этих, самых важных документов не оказалось. — А муж ваш, Мамед Гусейнович, значит, не видел тоже? Она ответила почему-то шепотом: — Комсомольский билет куда-то пропал. Я его искала недавно. Хотела карточку Назаркину увеличить. Спросила Мишу: «Ты не видал, случайно?» А он как рассердится! Нужен мне, говорит, твой Назарка. Своих забот мало. — Так. Когда же исчез билет? — Совсем недавно. Недели за две до Нового года, когда я убиралась, значит, билет еще был. Коробов поднялся. — Где ваш муж сейчас? — Где же ему быть? У себя на холодильнике, на разъезде. Разъезд находился сразу за городом. Доехать туда можно было минут за двадцать, разумеется, если есть машина. — Что, домой муж не каждый вечер приезжает? Полина Григорьевна насупилась. — Последний раз, считайте, на праздники только и появился. И то — на одну ночь. Продукты, правда, присылает, не жалуемся. А так — дел у него много, говорит. Какие дела — догадаться нетрудно, — и она закончила жестко, будто это не причиняло боли: — Связался он там с одной выдрой, с бухгалтершей. Она сама из Одессы. Я ее видела. Ни рожи, ни кожи. Вся как кошка драная. — Фамилия? — А черт ее упомнит, пропади она пропадом! Да там ее, Фирку эту, весь Салар уже знает, а он и позарился на эту дрянь. Дурень старый. Когда Коробов уже направился к машине, он увидел издали своего связного Зисько. Приземистый красноармеец, быстро перебирая короткими кривоватыми ногами в обмотках, подбежал и доложил, что старший лейтенант Гарамов просит капитана Коробова срочно прийти.
По обычаю Коробов сперва рассказал товарищу о результатах обыска и допроса Полины Григорьевны Зурабовой. — Надо немедленно допросить самого Зурабова, проследить его связи со Скирдюком, — заключил он. — Вот где по-моему что-то скрывается. Гарамов, однако, хитровато улыбался. — Посмотрим, что ты скажешь на это, — и он протянул листки с протоколом допроса повара Климкевича. — Учти только: поворот будет не в ту сторону, куда полагал ты. Все же поначалу Коробову показалось, что ничего существенно нового в показаниях Климкевича нет. Те же рассказы о совместных вечеринках, вымученное признание в том, что однажды Скирдюк недодал ему несколько банок консервов и возместил это деньгами, однако Гарамов умело зацепился за этот факт и заставил-таки Климкевича рассказать подробно обо всех махинациях, совершаемых им совместно с начальником столовой старшиной Скирдюком. И тогда всплыло, что в последнее время Скирдюк «совсем уж бессовестно мухлевал с мясом», как выразился Климкевич. От себя вину повар не без оснований отводил. Начальник склада Скирдюк являлся одновременно и начальником столовой. «Что он мне дал, то я и готовлю», — заявил на допросе Климкевич, однако, будучи далеко не новичком в своем деле, не мог он не обратить внимание на то, что Скирдюк пропускал порой вместо говядины, значившейся у него в накладных, например — мороженую козлятину, стоимость которой в два раза ниже. Курсанты, правда, этого не замечали: им после учений что ни подай, умнут в два счета. Ну, а для того, чтоб дежурный офицер внимание не обратил, был тоже изобретен нехитрый ход: делали так, чтоб обед запаздывал («Вода, проклятая, никак не закипала!»), и дежурный облегченно вздыхал, когда наконец Климкевич сообщал, что можно звать курсантов в столовую. Тут уж было не до тщательных проб. — Климкевичу, конечно, тоже его куш доставался, — Гарамов наклонился над Коробовым и подчеркнул пальцем строку в протоколе: «Скирдюк угрожал мне, что, если доложу о чем начальству, сделает во всем виноватым меня, и я тогда загремлю под трибунал, а так с меня взятки гладки: что со склада получил, то и вари...» — Он и вправду трус, этот повар, иначе так быстро не раскрылся бы, — заключил Гарамов. — Так, так, — произнес Коробов, выслушав Гарамова, — выходит, и в самом деле греб Скирдюк золото лопатой. Где же оно у него? Ну там пара отрезов, голенища, но это же мелочи, а ведь он воровал постоянно... «...нарушений в хранении и расходовании продуктов не установлено за исключением некоторых излишков, а именно: говядины третьего сорта — 3,7 килограмма, сала животного — 1,4 килограмма...» Коробов дважды перечитал акт ревизии, которую уже успел провести Гарамов. — Да! — Гарамов развел руками. — Я сам удивился: почти все у него в ажуре. Правда, излишки имеются, но есть и этому документальное объяснение. — Но ведь воровал Скирдюк. — Тащил, конечно! — Вот потому-то и наводит на размышления этот ажур. А что начальник продчасти Хрисанфов? — Давным-давно все Скирдюку передоверил. Теперь кается. Кто, говорит, мог предположить, что Скирдюк таким негодяем окажется? Но и Хрисанфов просит учесть, что с продуктами на складе все в порядке. — Пьет Хрисанфов? — Дважды из-за этого в звании задерживали. — Может, Скирдюк делился с ним? — Непохоже. В комнате у Хрисанфова кроме койки — ничего. Родных не имеет. Женщины для него не существуют вообще. Может быть, конечно, в матраце, как рассказывается в баснях, мешочек с бриллиантами зашит, но это уже и впрямь — дело прокуратуры, Лев Михайлович. — Гарамов задумался, выпятив губу. — Понимаешь, — продолжал он не сразу, — я тут сам, пока проверял склад, будь он неладен, на одно обстоятельство набрел. У них курсантские батальоны периодически отсутствуют — уходят в поле на три-четыре недели вместе с пехотным полком. Скирдюк на эти батальоны выбирать продукты с базы права не имел. Курсантов в поле кормят пехотинцы, а затем производятся расчеты. Документальные. Часть фондов танкового училища штаб тыла передает пехотному. И все! Ты понял: только перерасчет! Никто не перевозит со склада на склад какие-то там макароны или сахар — в натуре. Однако сам Хрисанфов признался, что несколько раз Скирдюк возвращал пехотинцам именно продукты. — В таком случае, у него на собственном складедолжна была образоваться недостача? — Так оно и случилось... Но уже сутки спустя Скирдюк ее восполнил. — Где же добывал он продукты? Главным образом — мясо и масло? Коробов тоже задумался. — Где их берут? — произнес он, покачивая головой, и поставил на стол несколько банок тушенки. Одну — около Гарамова. Остальное — рядом с собой. — Проведем опыт, Аркадий, как Чапаев со своей картошкой — тактический урок. Итак, ты — Скирдюк, начальник склада. Я — база. Бери у меня еще одну банку. Это продукты на те батальоны, которые Скирдюк не имел права получать. Толкай их теперь, как говорят хапуги, налево. Ну, спрячь эту банку хотя бы к себе в портфель! Вот так. Она исчезла бесследно. Теперь — приходит проверка. Хотя бы — тот же Хрисанфов. Как тебе покрыть недостачу? Включаясь в игру, Гарамов порыскал глазами по столу. Он протянул было руку к банкам, стоящим около Коробова, но тот легонько хлопнул его по пальцам: — Дудки! Это — база, а фонды свои ты уже выбрал давно. Гарамов понял: — Это — если строго по закону. А я по-дружески прошу: выручи, на день-два, пока проверка. А там — верну. И проверяющий — с носом! — Правильно! — Коробов хлопнул его по плечу. — Так же можно обманывать всех до бесконечности. — Нет, Аркадий. Только до того момента, пока не нагрянет одновременно ревизия на склад и на базу. Вот мы и должны установить прежде всего: был ли такой случай? Гарамов поскучнел. — Все это опять не наши заботы, Лева. Ну на кой ляд станем мы влазить в эти бухгалтерские книги, во все эти дебри с расчетами-перерасчетами? Для нас важно, что Скирдюк наверняка воровал. Значит, запутался. Ударился в разгул, ну и докатился до хулиганства, а потом до убийства. Все как на тарелочке. — Так, да не совсем так, Аркадий. На вот, почитай, — и Коробов подал ему протоколы последних допросов Лыкова и Зурабовой. — Допустим, я согласен с тобой. Он мог украсть комсомольский билет Назара Зурабова. Но при чем тут все эти дела с продуктами? При чем тут база? — При том, Аркадий, — произнес, не скрывая торжества Коробов, — что база эта — холодильник на Саларе, где начальником экспедиции никто иной, как Зурабов. Папаша той самой Зинаиды, за которой Скирдюк вдруг начал усиленно ухаживать параллельно с Наилей. — Допустим, — кивнул Гарамов, — но какое отношение к этому имеет чужой комсомольский билет? — Видишь ли, Аркадий, — Коробов наклонился ближе, — я полагаю, что там мог быть не только комсомольский билет, но и другие документы. Младший лейтенант Зурабов был военным представителем спецслужбы. У него был допуск на секретное производство. И этот допуск — тоже исчез. Назар даже в бреду вспоминал о нем. — Да, — согласился наконец Гарамов. — одно убеждает меня, Лева. То, что был этот Назар Зурабов — военпред. — И тут он снова пожал в недоумении плечами. — Но зачем Скирдюку, если он — агент, весь этот шум с ухаживаниями, с убийством Наили? Не вяжется. Нет. — И все-таки — на Салар, на холодильник!
Однако прежде Коробов еще раз вызвал ездового Алиева. Он понял сразу, что этот пожилой красноармеец, пусть и не разбирается в тонкостях, зато и скрывать ничего не станет. Разумеется, у Скирдюка не было необходимости посвящать ездового в свои махинации. Тем не менее и Алиев мог знать о чем-то важном. Вскоре на пороге появился уже знакомый рядовой хозвзвода. Коробов предложил ему сесть и даже табурет пододвинул, но Алиев продолжал стоять, неумело держа руки по швам. — Вы часто ездили со Скирдюком за продуктами? — спросил Коробов. — Конечно! — как бы изумляясь непонятливости капитана, громко ответил Алиев. — Куда еще ехать? База, холодильник... Все время туда-сюда гоняет. Пускай меня не жалко — лошадь жалеть надо, а? — И часто так бывало, чтоб туда-сюда? — спросил Коробов. У пожилого солдата, видно, давно накипело на душе. — Сто раз, наверно, было! — обиженно произнес он. — Водку пьет, потом как дурак прямо станет. Кричит: «Запрягай, грузи, ехать будем! Быстро!» — Ну, а что возили — туда? Алиев теперь уже откровенно усмехнулся над человеком, который, хотя и неизмеримо старше его по званию, но как же все-таки житейски неопытен! — Туда — порожняком едем, только торба в повозке лежит. Овес. Лошадь его кушает. Все. Больше ничего нет. Обратно — что дадут на складе, на холодильнике; на себе таскаем, в повозку кладем, домой едем. — Ну, а не было так, — спросил Коробов, с досадой предчувствуя разочарование: предположения, кажется не подтвердились, — чтобы, скажем, мясо или масло обратно с вашего склада на холодильник возили? — Он заметил, с каким изумлением посмотрел на него Алиев, и счел нужным пояснить: — Бывает же, например, что получили лишнее, или скажем, врач из санчасти забраковал мясо. Мало ли что? — Назад на склад продукты не возят. Оттуда продукты берут, на кухне обед варят, — наставительно и мягко, словно отец — непонятливому подростку, ответил старый солдат. Коробов только вздохнул. Он понимал, что Алиев чистосердечен в своих немудреных показаниях, и потому добиться от него большего вряд ли удастся. — Вы свободны, Алиев, — сказал он. Солдат поднес лодочкой к пилотке заскорузлую ладонь, но вдруг почесал пальцами висок и остановился. — Я так не ездил, — произнес он шепотом, поднял палец и, приблизившись вплотную к Коробову, сообщил: — Скирдык, может, три раза, может, больше, сам грузил что-то, сам ездил туда. Я только запрягал, он сразу говорил: «Иди, отдыхай сегодня». Я спрашивал, зачем так? Он говорил: «Не твое дело...» Почему Скирдык так делал, а? — Алиев совсем уж по-свойски подмигнул Коробову. — А куда же он ездил? — спросил Коробов воспрянув. И опять солдат ответил неопределенно: — Черт его знает! Мы, узбеки, говорим: «Охмок уз оёгидан хорийди». — За дурной головой ногам нет покоя, — перевел Гарамов, который с явным унынием наблюдал за сценой допроса. — Правильно! — Алиев с признательностью взглянул на старшего лейтенанта. — Может, он ездил тогда на... — Гарамова осенило, но слово «холодильник» он не успел произнести, Коробов жестом велел ему остановиться. Алиев не уходил. Он что-то соображал, опершись о дверную раму. — Наверно, обратно на холодильник ездил, — произнес он, обращаясь к Гарамову, и в подтверждение кивнул головой: — Туда. — Ну а почему — не в другое место? — спросил Коробов, бросив укоризненный взгляд на Гарамова: дернуло того подсказывать! — Помню, один раз четверг был, мы на Салар на холодильник ездили, — не спеша начал рассказывать старый солдат, — я бидон пустой на дворе забыл там. Скирдык ругал меня, так ругал, собака! Говорил бидон пропадает. Пятница, вечер как раз был, он сам ехал, куда — не говорил. Утром смотрю: мой бидон на бричке стоит. Понятно теперь, куда Скирдык ездил тогда? — Алиев не скрывал торжества, весьма довольный собственной догадливостью. — Та-ак... — сейчас и Коробов взглянул на Гарамова. Тот кивнул: «Ты прав». — Идите, Алиев. Спасибо вам. Помогли вы следствию. — Ладно, — сказал солдат, после того как вывел коряво под протоколом две буквы: «А» и «В». — Спросить можно? Бабу он зачем убивал? — Вот это как раз мы и хотим узнать, товарищ Алиев, — ответил Коробов. Ездовой снова подмигнул по-свойски: — Сураб-сураб, Маккани топибди, — сказал он, выходя. И Гарамов, хмыкнув, перевел: — Расспрашивая, даже Мекку отыщешь...
За полковником Деминым издавна водилась слава не только умелого, но и удачливого контрразведчика. На его счету было немало славных дел. Еще в тридцатые годы он отыскал умело скрываемое вражеское гнездо в горном кишлаке. На этом деле обучалось мастерству не одно поколение чекистов. Коробову, разумеется, тоже было известно о той, давней истории, однако, воздавая должное искусству своего нынешнего начальника, даже восхищаясь им, Лев Михайлович не мог отвлечься от того, что Демину в том деле, как, впрочем, почти всегда, на редкость везло. Достаточно хотя бы того, что какой-то связной от ишана, возглавлявшего банду, по ошибке обратился именно к Демину, приняв его по описанию за бывшего поручика Недзвецкого. Однажды в минуту, когда полковник был настроен благодушно, Коробов высказался по этому поводу. Демин усмехнулся: «Удача — это неожиданный союз недоразумения и труда», — сказал кто-то из древних. Так вот, товарищ капитан, я от души советую вам придавать большее значение второму составному в этой привлекательной формуле...» Докладывая сейчас полковнику Демину о деле, Коробов и делал главный упор на то, какая работа проделана им и Гарамовым, которого он оставил на месте, поручив ему продолжать расследование и наблюдать за событиями. Слушая, Демин не делал никаких пометок для себя, ничего не переспрашивал. Он обладал выдающейся памятью, считал это необходимым качеством контрразведчика и сердился, если подчиненный заглядывал в записи или в дело, чтобы вспомнить фамилию кого-либо, пусть — третьестепенного свидетеля. «Всех, кто проходит по делу, надо знать, если не как родню свою, то хотя бы как близких соседей», — было одним из непреложных требований, которые предъявлял к контрразведчику Демин. В этом отношении Коробов был в себе уверен. Он рассказывал не только о Наиле или о Скирдюке, но даже о Клаве Суконщиковой так, будто знал всех их с детства. — Ну и какой же вывод делаешь? — спросил Демин, выслушав Коробова. — Жаль, конечно, времени, хотя потратили мы его все-таки не совсем зря, но придется передавать дело военной прокуратуре. Схема известная: хищения, потом — безысходность. Понял, что так или иначе — погибать, а тут примешалось личное, и пьянство тоже сыграло свою роль. — Так, — Демин ненадолго умолк, прикрыв глаза, — а документы умершего военпреда — зачем? Вы нашли их? — Ну, зачем — понятно, — Коробов ощутил, отвечая, все же некоторую неуверенность, — хотел Скирдюк бежать поначалу. Он и сбежал бы, но что-то, очевидно, еще не было подготовлено, тогда он завернул к Наиле, выпил там, вошел в раж, а о дальнейшем я уже докладывал. Ну, а то что умерший был военпредом, да еще химиком — пожалуй, случайность. Мог он быть и летчиком, и певцом из военного ансамбля. Скирдюку это, возможно, было безразлично. — Так полагаешь? — Демин задумался снова. — Вот что, Лев Михайлович, — сказал он, — вспомни, нет ли каких-то, может быть, незначительных на первый взгляд обстоятельств, которые все-таки задевают тебя? Допустим, Гарамов прав, когда утверждает, что снайперский кружок у Тамары, химическая лаборатория у Наили — совпадения. Сейчас и вправду редко кто не имеет отношения к армии, вооружениям, стратегическому сырью. Тут уж каждый хлопкороб — и то на военном производстве. Я не об этом, ты понимаешь. Так что же все-таки еще? Коробов помялся. — Кроме документов военпреда, товарищ полковник, разве что еще одна загадка, но это уже — настоящая. Понимаете, я лично обследовал комнатушку Наили и нигде не нашел ни следа от третьего выстрела, ни третьей гильзы. В теле у нее (медэксперт дал заключение) две раны. А между тем все свидетели показывают в один голос, что выстрелов было три. — Я помню, Лев Михайлович, все, что ты рассказывал мне по этому поводу, — прервал его Демин, — но меня беспокоит еще одно, тоже вроде бы незначительное обстоятельство: дверь вырвали вы, что называется, «с мясом», значит ключ-то должен был в скважине остаться, поскольку Скирдюк заперся изнутри? В крайнем случае, вы должны были обнаружить ключ где-то неподалеку. Но вот же, как ты докладывал сейчас, ключа вы не нашли. О чем это говорит? — О чем, товарищ полковник? — в некотором недоумении переспросил Коробов. — Не будем, как всегда, строить домыслы, — Демин поднялся, — работу надо продолжать. Даю вам еще неделю. Это уже — окончательно. Да, — остановил он Коробова, когда тот, четко повернувшись, уже направился к порогу, — обследовали Скирдюка? — Психически он вполне здоров, как и следовало полагать. — Ладно. О следующих ваших действиях мы уже договорились. — Беремся за Мамеда Гусейновича. — С богом, как говорили предки. Но все-таки имей в виду — третий выстрел... — И еще одно, товарищ полковник. Вот, валялась эта коробка неподалеку от барака. Брошена, судя по всему, недавно. Демин внимательно оглядел «Северную Пальмиру». Он уже был занят чем-то другим, однако сказал: — Зайди к экспертам. Они тебе через пять минут восстановят номер телефона. Вместе с пропавшим ключом это может открыть многое.
Уже не оставалось сомнений в том, что старшину Скирдюка и экспедитора Зурабова связывали не только предполагаемые родственные узы, но главным образом — совместные махинации с мясом и маслом, самыми дефицитными и дорогими продуктами во время войны. Становилось понятным («более-менее», — все же уточнил для себя Коробов) и то, почему Скирдюк сам ищет смерти. Он понимает, что все равно погиб, и потому не хочет, как говорят преступники, «топить» сообщников. Возможно, того же Зурабова, которому он многим обязан. Зурабов, очевидно, спасал его от разоблачения во время нежданных ревизий, а к тому же не исключено, что именно Зурабов выкрал для него у жены документы умершего Назара и, наверное, даже постарался обеспечить Скирдюку побег под именем своего приемного сына. Возраст Скирдюка примерно тот же, что у Назара. Они даже внешне похожи и, не умри Назар Зурабов от гангрены, он прихрамывал бы так же, как Скирдюк. Однако все это снова же — только догадки. Тем паче, что по-прежнему остается неясным главное: почему была убита Наиля Гатиуллина? Уж коль скоро решил Скирдюк бежать под чужим именем, то делать это следовало как можно тише. Единственно разумное предположение — Наиля знала, что ее ненадежный дружок давно обворовывает и без того не очень жирный курсантский котел, а теперь вот решил и вовсе исчезнуть. Она могла разоблачить его, значит, по всем воровским законам, ее следовало убрать. Но могла ли Наиля знать о преступных делах Скирдюка? Неужто он, в минуту мужского благодушия, а может, и впрямь чтоб пробудить, наконец, ее нежность, похвалялся своими барышами? Выходит, весь этот роман с Наилей — всего лишь спектакль, подготовленный Скирдюком и не очень умело исполненный им с использованием таких наивных деталей, как книжонка о любовной драме, разыгравшейся когда-то между пресыщенными людьми на фешенебельной французской вилле? Но выстрелы, выстрелы... К чему они? Ведь Скирдюк был намерен поначалу отравить Наилю, усыпить ее огромной дозой люминала, значит — совершить все безо всякого шума. Впрочем, и здесь существует логическое объяснение. Даже ребенка невозможно заставить что-то выпить насильно. Следовательно, исчерпав все средства, Скирдюк дошел до исступления, тем паче, что был он изрядно пьян, и тогда застрелил Наилю. Уже не владея собой, как говорится в подобных случаях. И вновь прервал себя Коробов. Есть, есть слабое место и в этих его рассуждениях. Для того, чтобы быть посвященной в махинации, Наиля должна была стать сообщницей Скирдюка, неважно — в какой именно роли. В этом случае, по тем же обычаям преступников, и ей причитался свой куш, пусть небольшой. Однако окружающие, та же Клава Суконщикова хотя бы, неизбежно заметила бы признаки этого неожиданного достатка: ну, какую-то тряпку, шляпку, золотую безделушку... Не говоря уже о продуктах. Ничего подобного и в помине не было. Итак, главный вопрос остался по-прежнему невыясненным, а Коробов уходил все дальше в глубь преступления, именуемого в юриспруденции хозяйственным. «Эмка» его между тем подкатила к сложенному из бурых от сырости, выкрошившихся кирпичей зданию, в котором помещалась контора холодильника.
Он ожидал увидеть юлящего дельца, угодливо заискивающего перед следователем, бегающего масляными глазками в надежде найти «подходец» к нему. А может — наглого типа с каменной маской величия на дородном лице, нахала, разыгрывающего оскорбленную добродетель. Труса, который сразу же начинает по-бабьи причитать, сморкаясь в несвежий платок. Мамед Гусейнович Зурабов не походил ни на одну из распространенных разновидностей темного жулья. Едва Коробов назвался, как широкоплечий седеющий брюнет кинулся навстречу ему, чуть ли не по-братски раскрыв объятия. — На один час, всего лишь на один час вы меня опередили, дорогой! — заговорил он с чрезмерной горячностью, как только остались они вдвоем; каким-то людям, мужчине и женщине в заношенных комбинезонах, очевидно, грузчикам, сидевшим прямо на полу, прислонясь к стене, Зурабов резко указал на дверь, и они тут же удалились. — Я уже в Ташкент собрался, вас искать, только не знал, как найти. Не будешь же ходить по улицам спрашивать, где находится секретный военный отдел, да? — Он говорил о появлении Коробова, как о нечаянной радости. — Что же вам помешало, Мамед Гусейнович? — спросил Коробов. Ему неприятен был этот нежданный пыл. — Дела. Что нам всегда мешает? — с той же театральной приподнятостью Зурабов вздохнул. — Понимаете, замучили ревизии. Три дня назад — опять. — Он вдруг перешел на шепот: — У меня же все документы в полном ажуре, клянусь! Причем, только в начале месяца была проверка из Ташкента, и тут — на тебе, налетная ревизия. Опять всё поднимают, перевешивают, пересчитывают... Даже — тару. Ну и, конечно, как чего не хватает — сразу в экспедицию. Кто вывозил, что, когда? — Вы, конечно, не ждали ревизии, Мамед Гусейнович, не предполагаете, чем может быть она вызвана? Зурабов только руки на груди сложил. — В экспедиции всё — в идеале, — произнес он скромно и подал Коробову папку. Коробов однако лишь бегло взглянул на страницы, исписанные химическим карандашом, и отодвинул папку. —Так зачем же понадобился вам особый отдел? Зурабов резко вскочил на сильных коротких ногах, плотно прикрыл дверь, предварительно выглянув в коридор, и, обдавая Коробова горячим табачным дыханием, зашептал: — Я не могу сказать, конечно, что искал именно вас, мы, к сожалению, не были знакомы с вами раньше, но я понимал, клянусь отцовской могилой, понимал, что обязан сообщить про одного человека... Про его сомнительное поведение. А он — военный. Короче говоря, читайте сами. — Зурабов энергичным движением открыл сейф, извлек пакет, достал из него несколько листков и подал Коробову. — Вот, пожалуйста, и обратите, между прочим, внимание, что написано это сразу после Нового года, — и Зурабов умолк, опустив глаза. На листках, аккуратно вырезанных из конторской книги, было написано после не очень правильного наименования особого отдела: «Считаю крайне важным сообщить о подозрительном поведении военнослужащего Скирдюка С. О., находящегося, насколько мне известно, на воинской службе в училище танкистов в должности начальника столовой и одновременно — склада продтоваров. Вышеупомянутый Скирдюк С. О. в течение известного периода регулярно посещал мой дом, где я проживаю со своей второй семьей, в которую входит моя вторая жена, носящая после замужества мою фамилию, а именно — Полина Григорьевна Зурабова, украинка по национальности, уроженка города Баку, моя дочь от этого брака Зинаида Мамедовна, 1923 г. р. и сын Сергей Мамедович, 1927 г. р., обучающийся в ремесленном училище. Находясь в одном из военных лазаретов, вышеупомянутый Скирдюк С. А. познакомился с моей дочерью Зинаидой Зурабовой, которая совместно со своей матерью приезжала проведывать своего сводного брата Назара, рожденного женой от ее первого мужа. Назар Зурабов, носящий также мою фамилию, лечился после обморожения ног. Спустя некоторое время после знакомства, Скирдюк начал появляться в моем доме, имея недвусмысленное намерение, как мы предполагали, жениться на моей дочери Зинаиде, против чего я не возражал до той поры, когда мне стали известны нижеследующие факты, о которых и нахожу своим патриотическим долгом сообщить Вам. Перед встречей Нового года между Скирдюком и моей дочерью было условлено о совместном проведении этого праздника, ввиду чего Зинаида с моего согласия пригласила компанию в составе шести человек, считая себя и Скирдюка парой. Мы с супругой также находились в доме, однако, чтобы не мешать молодежи, сидели тихонько в спальне. В зале играл патефон, пели разные песни, и вдруг возле двенадцати часов, когда людям под Новый год, кажется, больше всего полагается веселиться, стало вдруг тихо, как на кладбище, а потом мы слышим — все уже уходят, а Зиночка наша не более не менее — плачет. Как сделали бы любые папа и мама на нашем месте, так сделали и мы: пошли узнать, что там еще такое случилось? И вот оказывается, что этот самый Скирдюк ни много ни мало — не явился встречать Новый год с любимой, как он сам говорил, девушкой! Он появился, конечно, но в доме уже никого из гостей не осталось. Начал извиняться, объяснять, что его заставили дежурить... Ну, военный есть военный. Кто что может сказать? Мы сели с ним за стол и тут он начал пить — я такого еще в своей жизни не видал: буквально один стакан за вторым. Сперва вроде бы опьянел. Ругался и говорил одно и то же: «Не пойду никуда... Нехай себе провалится!» Потом посмотрел на часы и как будто сразу стал трезвый, подскочил и начал одеваться. Зиночка окончательно на него обиделась и ушла к себе спать, а я все-таки вышел провожать Скирдюка, хотя он мне и говорил, чтоб я сидел на месте. Во-первых, собаки были уже спущены, а во-вторых, я же хорошо видел, что он совсем пьяный и может по дороге упасть в канал или еще что-нибудь такое. Но я все-таки шел сзади незаметно, чтоб он на меня не ругался. И вдруг вижу, что идет он совсем не к казармам, а как раз наоборот — к станции. Хотя было темно, но выпал снег и фигуру я различал хорошо. И вот как раз возле товарного склада к нему навстречу выходит еще один человек. Я, конечно, подойти слишком близко не посмел, все слова, которые они говорили между собой, не слышал, но все-таки понял, что тот человек очень злился на Скирдюка, почему он сегодня от какой-то женщины ушел. Ту женщину называл не по имени, а нецензурным словом и еще добавлял — татарка. Я подумал, что это, наверное, какое-то объяснение между мужчинами: не поделили любовницу или еще что-нибудь такое, и тут этот человек говорит, теперь я услыхал хорошо: «Выбирай: или — ее, или — тебя... И не одного, ты знаешь, кого я имею в виду». Скирдюк начал так оправдываться, что мне показалось — он прямо плачет. Что-то про то, что у него рука не поднимается, а тот обругал его бабой, потом взял и потащил за собой. Больше я ничего не видел и не слышал, но даже этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы вызвать подозрение, о чем и нахожу необходимым довести до сведения соответствующих органов». Следовала подпись с замысловатой закорючкой на конце. Коробов сложил листки. Так вот оно что: появился, наконец, этот, присутствие которого Коробов смутно угадывал с самого начала! Однако следовало продолжить допрос Зурабова. — Что же все-таки вызвало у вас подозрение, Мамед Гусейнович? Зурабов, теперь уже в самом неподдельном изумлении, уставился на Коробова: — Как? Он же, может, всего через какой-то час-два застрелил эту татарочку Нельку. Весь город говорит об этом. — Именно поэтому, Мамед Гусейнович, вы, как единственный человек, который мог пролить свет на преступление, обязаны были сообщить сразу же о том, что вам стало известно. А вы молчали. Почему? — Я же сказал: писал сразу, но только не знал, кому отдавать надо. Держал заявление здесь у себя, в своем сейфе. Чтоб я так жил. — Не надо клясться зря, Мамед Гусейнович. Поведение ваше понятно. Вот оправдать вас только нельзя. Вы боялись обнаружить, что связаны со Скирдюком. Ну — знакомством, хотя, предполагаю, ваши связи более серьезны. Заявление лежало у вас в сейфе на всякий случай: авось следствие доберется и до вас. И, как видите, оно добралось. И потому еще один вопрос, Мамед Гусейнович. Только прошу — по правде. Писали вы сами? Зурабов прижал руки к сердцу в знак предельной искренности. — Мой же почерк! — произнес он с самым простодушным выражением на лице. — Чей еще? — Вы прекрасно понимаете, я — не о почерке. Я о том, кто вам диктовал это заявление? Потому что не ваши это фразы, Мамед Гусейнович. «...Я же хорошо видел, что он совсем пьяный и может по дороге еще упасть в канал или еще что-нибудь такое». Так говорят не на Кавказе, а где-нибудь на юге Украины. Может, в Одессе, а? Зурабов все еще изображал недоумение. — Времени у меня в обрез, Мамед Гусейнович. Прошу понять это. Не то я попросил бы вас написать такое же заявление сейчас вот здесь при мне. — Слушайте, дорогой, по существу все же правильно, так? — В том-то и дело, что здесь — не вся суть. Вы хотите всеми силами отмежеваться от Скирдюка. Он — убийца, у него какие-то темные связи, а знакомы вы с ним лишь постольку, поскольку он заходил к вашей дочери. И все. — Конечно, так! — обрадованно поддержал Зурабов. — Вы все правильно поняли, дорогой. Что еще может быть общего у меня с этим мерзавцем? — Понял я не это, — сухо возразил Коробов, — и не называйте меня, пожалуйста, дорогим. Мы ведем официальный разговор. — Коробов взглянул на часы. Оставалось минут сорок до того часа, когда он обычно докладывал полковнику о ходе следствия. Сегодня было чем обрадовать начальника: усилия потрачены не зря — появился из тьмы некто. Тот, кого, если верить Зурабову, так боялся Скирдюк. Может, отбросить прочь эту паутину жульнических махинаций на холодильнике, которая что ни шаг все больше липнет к тебе, и поискать другие пути к истине? Допросить для начала Скирдюка с учетом обстоятельств, которые открыл, пытаясь, разумеется, спасти свою шкуру, Зурабов. И все же (пусть Гарамов или кто-то другой называет снова это пресловутой коробовской интуицией или еще как-то пренебрежительней!) он чувствовал, что выйти во всеоружии на Скирдюка можно лишь отсюда, из этой унылой конторы, где творились гешефты, к которым, сомнений почти не оставалось, был причастен и старшина Скирдюк. Не исключено, что именно здесь и началось его падение. И Коробов потребовал: — Позовите-ка сюда ...ее.
Несколько минут спустя перед ним предстала еще относительно молодая и не лишенная привлекательности дама — Эсфирь Марковна Нахманович. Была она коротко по-мужски подстрижена и это придавало ее розовому лицу волевое выражение. Белыми наманикюренными пальцами Эсфирь Марковна сжимала дорогую папиросу. «Северная Пальмира», отметил Коробов. — Вы не будете возражать? — спросила она спокойным грудным голосом. Коробов сам поднес ей огонек. — Курение вредит цвету лица,— заметил он при этом. — Надеюсь, вы позвали меня не для того, чтобы читать мораль? — Эсфирь Марковна усмехнулась игриво, но с достоинством. — Конечно же нет, — Коробов посерьезнел, — вы и сами знаете, что во время войны — не до пустой болтовни. А мораль нынче одна у всех: помогать фронту. Как кто может. Эсфирь Марковна понимающе кивнула. — Что же все-таки требуется от меня? — поинтересовалась она сухо. — Прежде всего — ответить: под вашу диктовку писал свое заявление Зурабов? Папироса чуть дрогнула в ее пальцах. Эсфирь Марковна молчала, что-то прикидывая в уме. — Ну, допустим, — ответила она, — но, скажите, что за преступление, если я оказала любезность человеку, не очень грамотному по-русски? Уверяю вас, в доме у него я не бываю и никакого отношения ко всей этой истории с женихом его дочери не имею. Но я видела, что человек хотел сообщить что-то очень важное. Почему же было не помочь ему? А? — Следовательно, вы оказали ему, как говорится, литературную помощь и на этом ваша миссия окончилась? — Пусть будет так, если вам это больше подходит. — И когда же вы продиктовали ему это? Эсфирь Марковна смяла папиросу в пепельнице и оглянулась мельком на дверь, за которой сидел Зурабов. — Точно не помню, у меня достаточно забот и без Зурабова с его женихами, но, конечно же, после Нового года. — Значит уже после того, как вам стало известно об аресте Скирдюка и об убийстве Гатиуллиной? Эсфирь Марковна в некотором раздражении вскинула лицо: — Неужели вы полагаете, что я прислушиваюсь ко всяким сплетням? Никогда не знала я эту Гантулину или как вы еще ее там назвали, и волнует она меня, как прошлогодний снег. У меня, к сожалению, собственных переживаний больше чем достаточно, — впервые в ее голосе прорвались искренние нотки, — папа и мама остались в Одессе. Каждую ночь вижу их, бедных, во сне. Кто знает, есть они еще на свете или нет?.. Коробов терпеливо выждал паузу. — Но о Скирдюке, надеюсь, вам кое-что известно? — Что известно, что? Ровным счетом столько, как обо всех наших клиентах. Пришел, оформил накладные, пропуск и ушел в экспедицию к Зурабову. Зачем он мне может быть нужен еще? — Именно это и интересует меня, Эсфирь Марковна. Скажите, вам никогда не приходилось выручать Скирдюка, если ему, скажем, грозила налетная ревизия? — Чего это ради? Он мне, слава богу, не брат и не сват. — Но будущий зять Зурабову. Зурабов и мог вас попросить об одолжении. Он-то, надеюсь, человек не чужой вам? — На что вы намекаете? — Не надо возмущаться, Эсфирь Марковна. Я не намерен читать вам мораль. На вашу личную жизнь никто не посягает. — Не хватало еще, чтоб кто-то в моем белье копался! Какое отношение моя личная жизнь имеет к войне, как вы все время это повторяете? — Гораздо более прямое, чем вы полагаете, — Коробов пристально посмотрел ей в глаза, но она упорно делала вид, будто не понимает его. — Так что же все-таки вы расскажете о Скирдюке? — Только то, что известен он мне исключительно по нашим деловым отношениям. Согласно выделенных госфондов, ему отпускались регулярно продукты: мясо, жиры, масло растительное, сливочное, маргарин, консервы рыбные, мясные. Отпуск производился, не допуская превышения норм, как квартальных, так и месячных. Но продукты в связи с военным временем поступают на холодильник нерегулярно, поэтому часть фондов могла остаться невыбранной Скирдюком даже в течение длительного времени. Возникало некоторое скопление, и вот его Скирдюк выбирал, когда хотел, по согласованию со своим военным начальством. Я, между прочим, советовала ему, чтоб он выбирал и остаток равномерно, но он просил меня не вмешиваться. В конце концов — это его собственное дело. Я здесь ни при чем. Эсфирь Марковна говорила, будто отчетный доклад с трибуны читала. Она углубилась в подробности бухгалтерских проводок, которые были для Коробова вовсе уж недоступны; начала рассказывать о том, как поступают в случаях, когда, к примеру, масло заменяется равной по калорийности, но гораздо большей по весу массой маргарина, и о других, еще менее понятных Коробову вещах. Он убедился в том, что, впрочем, не вызывало у него сомнений с самого начала: при желании Нахманович могла так запутать учет и отчетность, что воистину черт ногу сломал бы в этих дебрях. — Ладно, Эсфирь Марковна, — вынужден был прервать ее Коробов, — поговорим все-таки о том, что больше интересует меня. Бухгалтерскими книгами вашими займутся те, кто в этом разбирается лучше. Вот пробегите-ка еще раз заявление Зурабова, которое написано под вашу диктовку. — Зачем перегибать, — она сердито сверкнула глазами, — не под диктовку, а с моей помощью. Это его собственные мысли. Я не отвечаю за них. — Эсфирь Марковна! Не станете же вы уверять, что не поняли, в чем суть заявления? Она молчала. — Так все-таки?.. — Дайте, я посмотрю еще раз. — Она пробежала глазами заявление. — Ну что здесь непонятного? У Скирдюка имеются какие-то темные связи. Может он — бандит или еще кто там, не знаю, не знаю, и Зурабову, конечно, обидно за дочь. Поэтому он и решил сообщить про Скирдюка. — Милиции? Прокуратуре? — Это меня не касается. Его дело. Вы меня с ним, я уже просила, не путайте. — Но ведь именно вы, Эсфирь Марковна, подсказали этот ход Зурабову. Да, да! Это вы посоветовали увести дело подальше от органов, которые занимаются хозяйственными преступлениями. Хищением, например. Пусть Скирдюком, так решили вы, займется наше ведомство. Тогда он исчезнет из поля зрения прокуратуры и вместе с ним уйдут и концы некоторых махинаций. — Извиняюсь, гражданин уполномоченный, но все, что вы говорите, еще требует больших доказательств. — Доказательства уже имеются и сейчас. — Я пока что ничего такого от вас не слышала. — Что ж, Эсфирь Марковна, — Коробов решил, что момент настал, — я все время надеялся на вашу совесть. Думал, вы осознаете, что даже здесь, в тылу находясь, надо помогать тем, кто должен будет освободить Одессу. — Политзанятия у нас бывают каждую неделю. — Ладно. Будем разговаривать по-другому, — он развернул пакет и положил на стол «Северную Пальмиру». Конечно же, она могла бы сейчас отказаться, заявить, что пачек таких миллионы (эта принадлежит вовсе не ей), и потребовалась бы длительная графологическая экспертиза, чтоб опровергнуть возражения Эсфирь Марковны, однако Коробов решил рискнуть. Нахманович, однако, смотрела на папиросы совершенно спокойно. Тогда он перевернул коробок. — Номер телефона написан вашим карандашом и вашей рукой, — произнес он тоном, не вызывающим сомнений. — Напомнить вам, чей это номер? Она еще не сдавалась. — У меня поганая привычка делать записи на папиросных коробках. Мало ли что я на них пишу? — Но это, Эсфирь Марковна, номер приемной комитета... — Мы им тоже поставляем продукты. — Нет. Для этих целей номер телефона записан в вашей книжке, а этот вы записали для Зурабова. Вы посоветовали ему связаться с приемной еще до того, как было совершено убийство Гатиуллиной, то есть, когда Скирдюк был вне подозрений. Но вам нужно было, чтоб подобное подозрение возникло. Вам нужно было «утопить» Скирдюка во что бы то ни стало. И «утопить» так, чтобы самим остаться в стороне. Так вот: вы заставили Зурабова сообщить о Скирдюке в приемную. Основания для этого у него появились еще до убийства Гатиуллиной. Вы знали прекрасно об этом, но молчали, как молчите сейчас. Потому что не патриотизм вами двигает, а шкурничество. Спастись самим, а там хоть трава не расти. Не надо возражать, Эсфирь Марковна. Вы знаете: я правду говорю. Но на вашу беду Зурабов все не решался на последний шаг. Он колебался даже после того, как стал свидетелем убийства Гатиуллииой. Единственно, что он сделал — позвонил дежурному по гарнизону. Но не назвался. Хотел по-прежнему оставаться в тени. Его, мол, близко не было. Так он и в заявлении написал. Под вашу диктовку, как вы сами сознались: «Больше я ничего не видел и не слышал». А видел и слышал он все! Что вы скажете теперь? — То, что номер телефона приемной комитета, даже написанный моей рукой, еще ни о чем таком не свидетельствует. — А то, что папиросы эти были найдены рядом с местом преступления и уронили их в ту же ночь? О чем говорит это? — Коробов встал. — Может, позвать сюда Зурабова? К тому, что нам уже известно, он не добавит почти ничего. Но, может, очная ставка заставит вас, Эсфирь Марковна, осознать наконец, что укрываете вы не жулика и даже не бандита, — Коробов шагнул к двери, за которой ждал Зурабов. Тот разумеется жадно ловил каждое долетавшее до него слово, но именно это и нужно было сейчас Коробову. Дверь открывалась внутрь. Коробов резко рванул ее, и Зурабов, который сидел, прислонившись к скважине ухом, едва не упал. — Не сомневаюсь, Зурабов, вы все слышали. Он лепетал что-то невразумительное. — Не надо его сюда, — Нахманович поморщилась. — Что нужно от меня сейчас? — насупившись, спросила она. — Расскажите подробно обо всем, что связывало вас и Зурабова со Скирдюком. Как «деловых людей». Так, кажется, называете вы себя в своем кругу? — Коробов прикрыл дверь. Эсфирь Марковна закурила снова. — Мне бы хотелось узнать, почему вы так уверены, что мы должны были его вытаскивать? — В глазах Эсфири Марковны на миг мелькнуло откровенно женское любопытство. — Ну, ладно. Я понимаю, спрашиваете здесь вы, отвечаю я. — Она вновь помрачнела. — Ну, слушайте. И Коробов, с облегчением убеждаясь, что предположения его верны и значит путь, по которому он движется — правилен, узнал о том, что не так давно на складе у Скирдюка вновь образовалась недостача. Скирдюк примчался на холодильник, умолял на коленях, чтоб дали хоть пару говяжьих туш на время, пока гроза минет. Однако Эсфирь Марковна была непреклонна: они сами были предупреждены своими людьми (об этом Коробов догадался), что вот-вот ревизия нагрянет и на холодильник. Кроме того, сама Эсфирь Марковна (впервые в жизни, как сокрушенно призналась она, и в это можно было поверить), по ошибке выписала проходившему через станцию воинскому эшелону на сто килограммов мяса больше, чем было положено по документам. Эшелон укатил на фронт. Надо было покрыть недостачу. Коробов понимал, что в иную пору она бы сделала это без ущерба для собственного кармана, но тут маячил призрак ревизии, к тому же и Зурабов, очевидно, набросился с упреками: «Выпутывайся, как хочешь, если головы своей на плечах нет. Я вместо тебя за решетку садиться не хочу». И Эсфирь Марковне, как она сама рассказала сейчас, пришлось отправиться на Куйлюк, где в определенные, уже известные ей часы появлялись подпольные «прасолы» — некий «Володя-кореец» и неопределенного происхождения пятидесятилетний курчавый субъект по имени Алик. Денег они не брали («бумажки...»), и Эсфирь Марковна вынуждена была отдать им иностранную золотую монету — дублон («Наверное, лет сто, не меньше, хранилась она в нашем одесском доме...» — заметила она, искренне опечалившись). И вот Скирдюку, который пал к ее ногам, она тоже сказала, что требуется валюта, иначе мяса не добыть. Сказала для того, чтобы он отвязался. И впрямь: откуда золото у армейского старшины, мелкого жулика? Он ушел убитый (Эсфирь Марковна сказала, что ей даже стало жаль его), однако всего лишь день-другой спустя появился страшно возбужденный («Глаза у него блестели как все равно у ненормального. Я даже испугалась») и предъявил десять царских червонцев. Теперь Эсфирь Марковне не оставалось ничего иного, как поехать с ним на Куйлюк. Вечером там появился «прасол» Володя. — Я познакомила их, сказала о Скирдюке, что ему можно доверять, и уехала себе домой. Как они там между собой договорились, я ничего не знаю. — Где же он раздобыл золото? — спросил Коробов. — Понятно, он не сказал вам об этом, но, может, хоть какой-то намек? И за что, за какую услугу получил он эти червонцы? Вы-то отлично знаете, что в вашем мире ничто даром не делается. Эсфирь Марковна только пожала зябко плечами. — Здесь не топят, — сказала она. — Ладно, — разрешил Коробов, — пока идите.
Между тем Гарамов, как они и условились заранее, допрашивал вновь ремесленницу Тамару. Коробов застал их за чаем. Обстановка, видимо, не смущала эту девушку, выглядевшую по военной поре весьма упитанной. Тамара с удовольствием отхлебывала чай из граненого стакана, поддерживая его под донышко пальцами; юное лицо ее сморщилось от желания сдержать смех. Гарамов потешал ее. Он завел длинный анекдот о трусе и утешителе. Коробов слушал, поощряюще улыбаясь, а потом вмешался и уточнил: утешитель все время повторяет трусу, что даже из самого ужасного положения есть всегда два выхода, но вот если уж попадешь к черту в зубы, то тогда, увы, выход — только один... Тамара недоуменно уставилась на Коробова бесцветными глазами, но тут же сообразила, прыснула чаем и покраснела. Ей нравилось общество молодых командиров и она словно забыла, кто они и чем занимаются. Когда Коробов все так же непринужденно, будто продолжая разговор, поинтересовался, не видела ли Тамара у Скирдюка золото, ну, может, монетку какую, она ответила с несомненным чувством собственного достоинства, и это обрадовало обоих офицеров: — За кого вы меня принимаете? Плевать я хотела на все его добро, есть оно там у него или нет! У нас мастер, дядя Муса, говорит: «Главное золото на свете — руки». А у меня, между прочим, уже пятый разряд. — Не обижайся, Тамара, мы же знаем, ты его любила, — сочувственно заметил Гарамов. — Да! — глаза у Тамары на миг затуманились. — Мне и теперь его жалко, если хотите знать. Лучше бы он уж сам себя. Как хотел когда-то... — Вот, вот, — охотно подхватил Гарамов, — ты бы рассказала еще раз об этом капитану. — Да я же говорила вам, — Тамара нахмурилась. — Ну, увидела, что свет у него поздно горит, потом — тень на занавеске. Рука с наганом. Тень же всегда большой кажется. Страшной... — А ты где же была в это время, Тамара? — спросил Коробов. — Я уже рассказывала им, — она снова взглянула на Гарамова, — у себя в общежитии. Окна у нас как раз в тот переулок выходят, где он комнату снимал. Потому мы и познакомились, что соседи. Ну, я не спала тогда как раз. Девчонка одна рассказывала, как в нее лейтенант влюбился. Врала, наверное. Да так громко, длинно... Мне надоело, я к окну подошла и увидела на занавеске: дуло возле лица — вверх-вниз так и ходит. Большое все. Как в кино. Меня так и подкинуло. Побежала к нему, а он и пускать не хотел. Потом открыл все-таки, — она угрюмо умолкла. Коробов дал ей помолчать. — Так Скирдюк что, и вправду хотел застрелиться? — спросил он, погодя. Тамара пожала плечами. — Кто его поймет? Утром я глаза открыла, вижу, он опять балуется. «Хочешь с судьбой поиграть?» — у меня спрашивает. И целится из нагана. Я чуть не в слезы: «Не надо, Степа!» — а он зубы скалит: «Не боись... Тут только всего один патрон в барабане. Остальные я выбросил. Вот, на столе. Можешь пересчитать. Шесть штук», — и в самом деле: прокрутил барабан и дуло к виску приставил, я только подбежать успела, а он уже курок спустил. Вхолостую, слава богу. А потом опять прокрутил — и на меня наводит... — она умолкла. — А ушла ты, — сказал Коробов, — он же мог и без тебя продолжать это занятие? — Конечно, мог бы, — согласилась Тамара, — но мне все-таки спокойней немножко стало: патрон-то у него остался один-единственный. И всё! — она неожиданно опустила глаза и надулась, как ребенок, который в разговоре со старшими проболтался о чем-то, но больше слова об этом не скажет, хоть убейте. — Почему же — только один патрон? Она молчала. И тут Гарамов громко хлопнул ладонью по столу. — Да ты понимаешь, с кем говоришь? Отвечай, когда спрашивают! Это произвело впечатление. Тамара втянула голову в плечи. — Ладно, не сердитесь, я скажу, скажу. Теперь — все равно, — она шмыгнула носом и закончила: — Стащила я эти патроны. Шесть штук. И унесла. — Где они? — быстро спросил Гарамов, делая знак, чтоб Коробов не вмешивался. Все, мол, идет, как надо. С этой девчонкой можно беседовать либо по-свойски, либо вот так — с нажимом. И Тамара в самом деле торопливо призналась: — Нету их теперь, — и тут же спросила убитым голосом. — Мне за этомного присудят? — Ты что: потеряла эти патроны? На помойку их выбросила? — спросил Коробов. Она покачала головой: — Не-е, — и добавила, вздохнув, — выстрелила их. По мишени. В тире. Наша группа уже разошлась, а тут как раз милиционеры подошли на стрельбу. Я им показала патроны, говорю, мне из нагана пострелять хочется. А они меня и раньше в тире видели. Знали, что я в снайперском занимаюсь. Посмеялись, но наган дали. Я и бабахнула шесть подряд. Опозорилась, конечно. «Тройка», «единица», остальные — «за молоком». — Как же ты не поняла: надо было об этом сразу, еще на первом допросе сообщить. — Гарамов места себе не находил от негодования. — Боялась я, — простодушно призналась Тамара. — У нас инструктор на каждом занятии повторяет: не сдашь гильзу стрелянную — головой ответишь. А тут — патроны все-таки. Не гильзы пустые... — Ладно, Тамара, иди, — разрешил Коробов. Она не сразу поверила в избавление. — Нужна будешь — найдем, — уточнил Гарамов. — Ага... — Тамара проворно выскочила за дверь. — Ну что теперь? — спросил Гарамов, явно гордясь тем, что это он навел Коробова на подробность с патронами. Впрочем, сам он еще не до конца понимал, какую службу может это сослужить их следствию. — Вот что, Аркадий, — говорил между тем Коробов, уже затягивая на шинели ремень, — узнай у начальника боепитания в училище, сколько патронов числилось за Скирдюком и не обращался ли он в последнее время с просьбами, чтоб выдали еще. Если у него, как показала Тамара, оставался всего один патрон, многое становится ясным... Я поехал опять в Набережный. Дверь эту, которую мы выдернули, надеюсь, никто из соседей к себе еще не уволок? — Мы же ею вход забили и опечатали. — Ну и лады.
Еще издали разглядел Коробов ладони на две выше дверной ручки круглое отверстие с ровными краями. Он видел эту дыру и прежде, она задела его внимание сразу, но старая тонкая дверь была пробита и во многих других местах, скорее всего — гвоздями: кое-где они еще торчали в своих гнездах, толстые, искривленные, заржавевшие. Это вначале и смутило Коробова. Теперь же он не сомневался в происхождении аккуратной пробоины на уровне груди человека. Он готов был теперь докладывать начальству о деле старшины Скирдюка и о том, как намерен завершить следствие. Хотел тут же выехать в Ташкент, но полковник Демин прервал телефонный разговор и сообщил, что выезжает на место сам.
Скирдюку уже было сообщено о том, что он признан психически здоровым и значит — вменяемым, то есть, выражаясь языком правовым, несет в полном объеме ответственность за свои поступки. Он впервые увидел полковника Демина. Появление здесь такого высокого начальника само по себе произвело на Скирдюка впечатление. Демин, очевидно, учитывал и это обстоятельство тоже. Верный своим правилам, он не только удостоверился по всей форме, кто сейчас перед ним (хотя конвоир Зисько громко доложил с порога: «Арестованный Скирдюк, по вашему приказанию доставленный»), но и сам назвался допрашиваемому. Сделано это было так непринужденно, что Скирдюк по-светски кивнул остриженной головой и едва ли не пробормотал обычное: «Очень приятно...» — Нам известно, Скирдюк, что вы воевали, — сказал Демин, после нескольких вопросов о прошлом Скирдюка. — Какое там воевал... Пару дней в атаку побегал... — Иногда достаточно и одного часа, чтоб сделать на войне свое дело, — возразил Демин. Очевидно он задел струны, глубоко скрытые в душе у каждого мужчины, который находился в тылу, когда другие сражались. — Не успел я свое дело сделать, — раздраженно возразил Скирдюк, — а теперь мне — одна дорога, — он потер колено, давая этим понять, что не годится даже в штрафную. — Воюют по-разному, — продолжал Демин, — вот мы, по-вашему, — он обвел взглядом обоих своих подчиненных, — разве не на войне? Скирдюк скептически усмехнулся. Вряд ли понимал он, к чему клонит этот красивый, чисто выбритый, одетый хоть на парад полковник, и произнес, словно в пику ему: — Оно хорошо воевать, когда пули над головой не свищут. Выражение на его чрезмерно бледном и мятом лице было все то же: терять мне нечего, а потому я могу себе и дерзость позволить. — Воюет, Скирдюк, тот, кто уничтожает врагов. А они и в тылу имеются. — И безо всякого перехода, поднявшись над Скирдюком, полковник спросил: — Золото где вы достали? Монеты царские? Впервые Скирдюк растерялся. Он не выдержал взгляда полковника и отвел глаза. Засуетился, начал по-детски сучить ногами. Пытался еще возражать, не было, мол, никаких монет, ничего он о них не знает, кто мог наклепать про него такое, но Гарамов, перехватив молчаливый приказ полковника, прикрикнул на этот раз весьма кстати: — Отвечайте коротко и ясно, когда старший у вас спрашивает! Думает, без конца возиться мы с ним будем... — Нашел я те гро́ши золотые. Нашел. Еще когда на той стороне был. Вдовица прятала. Она богатенькая была. А я и нашел. И забрал. В полу шинели зашил. Никто и не замечал, — Скирдюк уставился в пол. — Так, так, — произнес размеренно Демин, — а если мы очную ставку вам устроим? — Пожалуйста, — Скирдюк еще бодрился, — я и при ней скажу: все отдал. А за что, вы уже и сами знаете, — при этом он хмуро взглянул на Коробова. — А почему, собственно, «при ней»? — снова спросил в упор Демин. — А при ком же? — теперь Скирдюк каждое слово выговаривал с трудом. Он понял, что попал впросак. — Вот не только об этом, вы обо всем остальном нам наконец расскажите. Пора, Скирдюк! — жестко продолжал Демин. — Вы запираетесь, но мы же можем узнать и сами, — тут полковник показал глазами на Коробова. — Мы можем выяснить все до конца. Не сомневайтесь. Скирдюк смотрел по-прежнему на носки своих сапог. — Покажите-ка ему фотографию, товарищ капитан. Коробов достал из папки снимок, сделанный с двери. Отверстие над ручкой было четко обведено белым. — Это стреляли вы, Скирдюк, — Коробов указал пальцем на белый кружок. — Так? — резко спросил Демин. — Да разве ж можно про такое дознаться? — Скирдюк в замешательстве потопал нечищенными сапогами. — Отверстие от пули, выпущенной из нагана, — продолжал Коробов, — края будто бритвой срезаны, ровненькие! А вот, если надо, еще и показания Тамары Бутузовой. В барабане у вас оставался всего лишь один патрон. Скирдюк исподлобья бросил на Коробова взгляд, в котором мелькнул едва ли не суеверный страх, и вновь опустил остриженную голову. — Не треба, — глухо вздохнул он, — ничего не треба, — и вдруг обратился к Демину: — Только про одно можно мне узнать? Нервным жестом Гарамов выбросил руки. Коробов положил ладонь на плечо ему: — Сиди, Аркадий. — Освободят наши Украину? — Гораздо скорей, чем полагают иные. — Что тут говорить. Лично моя песенка спета, — плечи у Скирдюка вздрогнули, — только не хотелось, чтоб до этого Галю, Миколку там порешили. Они ж ни в чем не повинные. — От вас это зависит сейчас. От того, как скоро узнаем мы все подробности. — Ладно, — обреченно выдохнул Скирдюк, — слухайте и не перебивайте, а то с головой у меня и в самом деле в последнее время паршиво... Как бы там не забыть чего.
ТЕНЬ ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ
Даже в военную пору был в Ташкенте весьма знаменит ресторан «Фергана». Ныне разве что старожилы помнят его, тогда же выделялся он в затемненном центре города желтыми волнистыми занавесями на освещенных изнутри окнах, обрывками бойкой музыки, которая доносилась из-за них, цветными лампочками над узким входом со стертыми кирпичными ступенями. Что ни вечер, тянулись сюда те, у кого были лишние — свободные или случайные — деньги и кто желал истратить их в погоне за удовольствием, нередко — мнимым. Тесно заполняли вытянутый в длину зал и завсегдатаи, и случайные посетители, в большинстве — военные: командиры, только что вышедшие из госпиталей или волею судьбы оказавшиеся на короткое время в обстановке, которая после фронта представлялась им едва ли не воскресшими благословенными мирными временами. Они тратили деньги, полученные по лейтенантским аттестатам, или скромные командировочные легко и бездумно, в отличие от угрюмых надутых дельцов, которые днем вершили темные гешефты, а по вечерам являлись в «Фергану» как в клуб, чтобы подбить и разделить барыши, а заодно, так это у них называлось, — «провести как надо время». Захаживали сюда и воришки, праздновавшие удачную кражу, и вполне порядочные люди — какая-нибудь молодая компания, провожавшая товарища на фронт. Однако официантки в изрядно помятых кокошниках и, конечно же, сам завзалом Григорий Григорьевич, — он еще помнил времена, когда назывался метрдотелем, важный, с гладко зачесанными седыми с желтоватым отливом волосами — наметанным глазом сразу же выделяли наиболее интересных, то есть — денежных посетителей. Был таким образом замечен и некий проезжий старшина в отличной командирской форменной одежде. Тридцатки и сотенные тратил он, правда, без того особого форса, который отличал, к примеру, золотозубых заготовителей сухофруктов и обрюзгших до поры виноделов, но зато — не только не скупясь, но и нередко — по-глупому, не считая деньги. «Как и положено настоящему мужчине», — одобрительно замечал Григорий Григорьевич, не любивший тех, кто, чего доброго, мусоля карандашик, подсчитывает на обрывке газеты свой расход, чтоб официантка, не дай бог, его на какой-то червонец не обсчитала. Вскоре старшину уже называли просто по имени — Степан. Подобная честь оказывалась здесь далеко не каждому даже из тех, кого видели ежевечерне. Немаловажным тут было и то, что Степан был не только клиентом — время от времени он подкидывал в ресторанную кухню, опять же не торгуясь, то пару килограммов масла, то сотню яиц, а то и баранью тушку. Все же, когда в ресторан нагрянул однажды, где-то уже перед самым закрытием, патруль и начал проверять документы у мужчин, Григорий Григорьевич проворно спрятался за портьерами, скрывавшими служебный выход, и, высунув одну лишь голову, произнес громко и строго, обращаясь к Скирдюку, который ринулся к нему за спасением: — Сюда, товарищ военный, посторонним входить не разрешается. Патруль — старший лейтенант и два красноармейца — стоял в прихожей у гардероба. Начальник патруля внимательно изучал командировочные предписания, удостоверения личности, «белые билеты» подслеповатых жуиров и упитанных дельцов, поднося документы поближе к лампочке, которая горела над зеркалом. Скирдюк в тот вечер, как обычно, когда приходил в ресторан, был в коверкотовом кителе без знаков различия на петлицах. Он походил на уволенного по ранению лейтенанта, тем паче, что еще и прихрамывал ко всему, и не вызывал бы подозрений, не будь этой нежданной проверки. Сейчас же ему грозили неприятности, и немалые: младшие командиры, включая старшин, обязаны были находиться после вечерней поверки в казармах, да и, выходя в город, старшина, каким был Скирдюк, должен был запастись увольнительной запиской. У Скирдюка же было лишь постоянное удостоверение, предписывавшее ему после получения продуктов возвращаться в часть не позднее двадцати ноль-ноль. Проверки случались и прежде, однако тогда Скирдюк, не рассчитываясь с официанткой, сразу же проходил через служебный коридор на кухню, а оттуда во двор, темный, заставленный мусорными ящиками и пустыми бочками, и дальше — в неосвещенный переулок. Теперь же, когда Скирдюк с самым непринужденным видом, держа тарелку в руке, направился к кухне, будто бы затем, чтобы попросить пару соленых огурчиков, он наткнулся на ставшего вдруг непреклонным Григория Григорьевича. — В служебные помещения вход воспрещен, — раздельно повторил метр, глядя на Скирдюка так, будто видел его впервые и вовсе не был посредником в сделках с продуктами. — Категорически! Скирдюк вернулся в зал, который быстро пустел, однако еще продолжались танцы под одесский оркестр и громкое пение пятидесятилетней полнотелой Софочки:Что мне делать, как мне быть.
Кто мне ответит?
Как мне парня полюбить
Лучшего на свете?
С того достопамятного вечера, когда и вправду был артельно съеден под смех и анекдоты превосходный горячего копчения усач, Скирдюк начал бывать в доме у Романа Богомольного, так назывался пианист по фамилии. Роман снимал небольшую комнату в районе Маломирабадской со входом прямо из переулка. В первый же свободный день после достопамятного происшествия Скирдюк приехал к Роману утром по собственному почину: он чувствовал себя обязанным перед человеком, выручившим его в трудную минуту, и привез ему изрядный брусок масла, кулек сахару, консервы и, разумеется, спиртное. Роман усмехнулся, однако не отказался от гостинцев. Он заметил все же: — Начальство у тебя, как я понимаю, — сплошь лопухи. — Должность у меня такая, — не без самодовольства откликнулся Скирдюк и поведал кстати байку о приказчике, которого хозяин упрекал в воровстве. — «От глядите, — молвил однажды тот приказчик хозяину в ответ на укоры, — вы дали мне шмат сала и велели отнести в камору. Я отнес. От сала ничуть не убавилось, а пальцы же у меня все-таки жирные стали. Я их и облизал. Кому от того хуже?» — Хитер, мужик! — Роман похлопал Скирдюка по плечу. Они позавтракали, а часа три спустя и пообедали вместе. Скирдюк совсем освоился. — А не скучновато по-мужицки, вдвоем? — спросил он, подмигнув Роману. Тот понял, конечно, намек, но ответил сухо: — Женщин у меня не бывает. Не любитель. А тебе советую, если ты без них не можешь, выбирай такую, от которой хоть польза какая-то. Ну, хоть подштанники она тебе выстирает или носки заштопает. Скирдюк отмахнулся: — А-а... Все они одним миром мазаны. Окромя Галки, конечно, — его клонило к пьяной откровенности. — Не любила она меня, а я за нее и теперь душу отдам. Это точно... — он вздохнул, но закончил жестко: — Через то я и в баб этих не верю. — Ну и дурак, — спокойно возразил Роман. — Забываешь, что женщины — бо́льшая половина человечества, особенно теперь, когда война идет. А во-вторых, сказано не зря: где черт не справится, туда он бабу посылает. — Роман поскучнел. — Ладно... Я прилягу, посплю перед работой. Скирдюк ушел, а неделю спустя примчался к Роману на рассвете, разбудив ревом мотоцикла тихую округу. На складе начались неприятности и, подчиняясь не совсем еще понятному побуждению, похожему на то, из-за которого в минуту опасности вырывается у взрослого человека детский вопль «мамочка!», он кинулся к Роману, сам не зная — зачем? За советом, скорее всего. Не утаивая, поведал он Роману обо всех своих делишках и делах. Начинал он подобно иным, с малого — с кулька муки, фунта мяса, бутылки хлопкового масла, которые удавалось утаить от строевого командира-танкиста, дежурившего по пищеблоку и не шибко разбиравшегося в нормах и раскладках. Случалось, сама обстановка поощряла злоупотребления. Тут уж сказалась слабость старшего лейтенанта Хрисанфова — начальника продовольственной части в училище. Снимая пробу, усевшись за перегородкой за стол, оглядев пахучую снедь: жирные щи, гуляш, а к тому же — кое-что, не входящее в курсантский рацион, к примеру, селедочку под соусом и лучком из личных старшинских запасов, он по-свойски намекал Скирдюку: не найдется ли чего для вдохновения? И Скирдюк, поворчав для виду, подавал «пляшечку», а день-другой спустя, улучив минуту, жаловался на аптекаршу с главной улицы: за литр спирта — кило масла требует теперь, паразитка! По-другому к ней и не суйся. Где ей взять? — Не знаю, не знаю, — мрачно откликался Хрисанфов и напоминал, будто самому старшине это не было известно: — Из курсантского пайка — ни грамма... — Значит, выкручивайся теперь, как хочешь? — произносил с обидой уже в пространство Скирдюк, потому что старший лейтенант Хрисанфов удалялся с непроницаемым выражением на морщинистом лице. К тому же являлся дежурный: настырный и неколебимый капитан или молодой лейтенант, свято преданный уставу, и начинал, тщательно сверяясь с документами, сам перевешивать жиры и крупы, а Скирдюк, холодея, осознавал, как незыблема истина о вьющейся веревочке, потому что знал: недостача у него на складе растет. Пропасть, в которую суждено было ему, как каждому вору, рано или поздно упасть, все углублялась, но остановиться Скирдюк уже не мог: привык к широкой жизни, к сидению в «Фергане»; каждая выпивка требовала опохмела... и все начиналось вновь. — Много у тебя не хватает сейчас? — спросил Роман, уже повязывая галстук и морщась — можно было подумать, из-за того, что накрахмаленный воротничок слишком туг. Скирдюк назвал какие-то приблизительные цифры. — Ну и как же ты намерен выпутываться? — поинтересовался Роман, снова же — весьма равнодушно, так, будто речь шла о ком-то постороннем. Пытаясь сохранить достоинство, Скирдюк еще хорохорился: — Завяжу с гулянками, буду экономить, пускай понемногу... Пианист хмыкнул и поправил узел на галстуке. — Ну, а нагрянет ревизия из штаба? — Тогда одно остается, — ответил, помрачнев Скирдюк, — пулю в лоб. Теперь Роман взглянул на него с уважением. — А духу хватит? — Не беспокойся, — сердито бросил ему Скирдюк. — Что ж, ты заговорил по-мужски. Мне это нравится. Но мужчина должен все-таки поискать прежде выход. Шлепнуть себя никогда не поздно. — Какой там выход? — Скирдюк не скрывал теперь своего отчаяния. — Не знаю, — Роман начал раздражаться, — тебе твоя обстановка известна лучше, ты и ищи. Что я могу тут посоветовать? Я же не хозяйственник... Скирдюк мрачно заключил: — Ладно. Извиняй, что поднял тебя рано. — Он встал, намереваясь покинуть Романа, и тут пианист ухватил его за рукав и усадил на табурет. Он стал собран, заинтересован и от него повеяло такой энергией, что Скирдюк ощутил надежду, еще боясь в нее верить. — С документами ты ничего сделать не можешь? Ну там подчистить, подправить? — Такое лучше и не пробовать: ревизоры в штабе — каждый что твой бес. Насквозь глядят. — Ну, а перетырить? Одолжить продукты где-нибудь на время? Разговор пошел теперь и впрямь деловой. Роман словно переродился, и Скирдюк отвечал ему, почему-то не удивляясь даже: откуда известны музыканту и жаргон и приемы деляческой практики? — Ни на одном складе задарма не выручат. За все надо давать: гроши, а то и — долю. Добренького дяди нигде у меня нема. — Сам виноват, — прервал Роман Скирдюка так, будто только что поймал его на слове, — мог бы у тебя быть не только дядя, но и более близкий родич. Скирдюк уставился на него недоуменно. — Ты все эти байки травишь про госпитального соседа. Как там звали его, который от гангрены помер? — Зурабов... Назар... А что? — А то, что папаша его, если я тебя правильно понял, на холодильнике начальником экспедиции. Значит, весь вывоз у него в руках! — Ну? Я же тут ни при чем! К нему же, к этому Мамеду, все едино ни на какой козе не подъедешь, окромя того, чтоб на лапу дать. — Дуб ты все-таки, Степа, — Роман укоризненно покачал головой, — дочка же у него имеется, сестричка Назаркина? — Есть, а что? Видал я ее не раз. А при чем тут она? — Пижон! — Роман процедил это сквозь зубы. — Ты сделай так, чтоб Зурабов тебя своим зятьком, что ли, будущим считал.

Скирдюк начал догадываться. — Не-е, так нельзя. Зазря девке голову морочить не годится, и потом: вдруг у нее уже и есть какой хлопец? А проверка же у меня на складе будет вот-вот. Чует мое сердце! — Ладно. Зинку имей в виду на будущее, а пока — давай дальше думать. — Роман шагал по комнате и вдруг резко остановился. — Выпуска в училище не предвидится? — Только прошел. Отправили лейтенантиков. — Так, так... А пополнение? — На что тебе знать... это? — Скирдюк даже запнулся. — На то, — жестко ответил Роман, — что в таких случаях можно очень просто документы передернуть. Уехали, скажем, девятнадцатого числа, ты их провел — двадцатым. Значит, лишний день на довольствии находились! Посидишь ночку, перепишешь наряды, подготовишь строевые записки, а ревизия вряд ли до этого докопается сразу. Скирдюк задумался. — А ты парень ушлый, — заключил он, — что, в торговле работал? — При чем здесь моя биография? — Роман поморщился. — Успеем еще до нее добраться. — Ладно, — согласился Скирдюк, — мне ж потому дивно, что ты как насквозь видишь. — И он зашептал, наклонившись к Роману: — Понимаешь, карантин прибыл вчера, пополнение, значит. И вот не пойму, в чем там дело? Наверное, в штабе кто-то напутал: налицо ровно на полсотни человек меньше получается, чем по строевой записке. — Ну! — воскликнул теперь обрадованно Роман, — что ж ты тянешь? Тебе сам господь бог на выручку пришел. — Но откроется же... — Ерунда. Тогда что-нибудь еще придумаем. Главное, никому не докладывать про эту ошибку и получить продукты на лишних полсотни гавриков. — Так и некому ж докладывать. Хрисанфов в командировке. — Тогда давай! — Спасибо, — искренне произнес уже с порога Скирдюк. — Поговорил с тобой — все едино, что воды напился. — Двигай. — Боязно все-таки, Рома. Там же, в штабе, в продотделе, не дурни сидят. — А ревизия накроет тебя, лучше будет? Главное, не фраерись. И про Зину тоже не забывай. — Понял! — уже с порога откликнулся Скирдюк. Впрочем, без вдохновения.
Неделю получал он продукты на полсотню «мертвых душ». И недостачу покрыл, и еще в «заначке» оставалось немало. Снова появился он в «Фергане», и Роман, мельком взглянув на него, кивнул и снова забарабанил по клавишам. Скирдюк помахал в воздухе растопыренной пятерней: порядочек, мол. Он и в самом деле был уверен, что все теперь обошлось. Из училища представили в штаб тыла встречную строевую записку на то количество новобранцев, которые фактически прибыли к ним, штаб, кажется, не заметил разницы в пятьдесят человек, по крайней мере — пока, а там, надеялся с молодым легкомыслием Скирдюк, кривая как-нибудь вывезет. Однако с очередного совещания в штабе тыла Хрисанфов вернулся мрачный сверх всякой меры. Скирдюк по обыкновению накрыл в кладовой стол, но старший лейтенант закусывать не стал, торопливо вытащил из сейфа папки с документами и удалился в свой закуток на складе, где стоял дощатый столик и табурет. Не подпуская к себе никого, то бормоча что-то про себя, то бранясь, сидел Хрисанфов над бумагами и за счетами дотемна, а Скирдюк во все это время места себе не находил, предчувствуя беду. С тяжелым сердцем вынужден он был все же уйти к себе на квартиру, где, он знал, ждет его после дежурства Надя Протопопова, светленькая медсестричка из госпиталя. Поддерживал с ней знакомство, как объяснял себе, от скуки. Надя была разговорчива и любила темы отвлеченные и интимные. В тот вечер, дождавшись наконец Степана, рассуждала она о том, как хорошо людям, которые живут-поживают себе в маленьком тихом городке, выращивают курочек и деток. Толкуя об этом, она то и дело льнула к Скирдюку, прижималась к нему как раз тогда, когда он только брал вилку или стакан, и жидкость расплескивалась по клеенке, а огуречный кружок спрыгивал с тарелки на пол. — Да замолкни ты хоть трохи! — цыкнул на нее Скирдюк и даже по губам хлопнул легонько. Надя надулась и начала собираться домой. — Погодь, — через силу примирительно попросил Скирдюк, когда Надя, посапывая от обиды, направилась к двери. Ему страшно было оставаться одному, будто это недалекое, даже в его глазах, существо могло чем-то помочь. Надя подумала, вздохнула и сняла туфли... Умиротворенная и усталая, Надя спала, уткнувшись в подушку, а Скирдюка не брали ни сон, ни водка, и от стука в оконное стекло он вскинулся так, будто над ухом раздалась автоматная очередь. Ездовой Алиев, сердитый из-за того, что Хрисанфов среди ночи послал его за старшиной, стоял на улице. — Иди! Я за тобой следом, — бросил ему через форточку Скирдюк, но пожилой красноармеец возразил, начисто пренебрегая, как это было свойственно ему, субординацией: — Со мной вместе идти тебе надо, понимаешь или нет? Заснешь, меня опять гонять будут. Думаешь, хорошо мне так, да? Выпроводить Надю на глазах у подчиненного, который в отцы годился, Скирдюк постеснялся. Он только прихлопнул снаружи дверь поплотней и пошел вперед. А ездовой шагал следом, будто вел старшину под конвоем.
Он и предполагать не мог, что Хрисанфов, в недавнем прошлом — смирный бухгалтер «Заготзерна», обрушит на него такой ураган отборной брани. К тому же говорил сейчас Хрисанфов свистящим шепотом, и это придавало его речи зловещую окраску. — Ты еще богу молиться, паразит, станешь, чтоб тебя расстреляли. Пули на такую падлу жалко! Потрошить надо таких как ты! Забыл, мразь, что такое каждый грамм продуктов во время войны! — Да есть же все в наличии у нас, товарищ старший лейтенант, — потерянным голосом старался успокоить начальника Скирдюк, — ну, излишки образовались, это — правда. — Где они у тебя? — разъяренно вопросил Хрисанфов. — Где? Скирдюк забормотал что-то о перевалочной базе, где ему будто бы остались должны два ящика масла, об откормочном пункте, где нагуливает добавочный вес бычок, которого, впрочем, в любой момент можно отправить на бойню... — Заткнись! — страшно, не своим голосом закричал старший лейтенант. — Три дня сроку тебе, — заключил он решительно, — не покроешь перерасход, сам застрелюсь, а тебя, подлеца, под трибунал отдам... Как ни был Скирдюк угнетен неприятностями нынешними и грядущими, жизнь училища шла по заведенному распорядку и, подчинясь ему, он ровно в пять тридцать утра в присутствии дежурного командира отвесил шеф-повару Климкевичу продукты на завтрак и обед. («Чтой-то ты жмешься нынче, Степан, — заметил по-свойскиКлимкевич, — лишней косточки не кинешь...» Но Скирдюк резко оборвал его: «Сам ты встал у меня как кость поперек горла... Все с меня тянут и тянут, а мне откуда взять?»). Затем Скирдюк дал задание курсантскому наряду, съездил сам, выказав редкое рвение, с бричкой в овощехранилище, чтоб указать, из какого именно бурта следует брать картофель сейчас, и лишь часам к девяти, беспокоясь о том, что Надя уйдет, а комнату оставит открытой, примчался к своему жилью. Дверь была приоткрыта и Скирдюк еще издали заметил, встревожившись, что за столом сидит мужчина в очках. Не сразу узнал он Романа. — Я всегда знал, что ты — форменный пижон, — бросил ему, не поворачивая головы, Роман, — уходишь среди ночи и оставляешь в постели кралю. Скажи еще спасибо, что я джентльмен... У Скирдюка отлегло. Он искренне обрадовался пианисту. И не в состоянии был поразмыслить, почему музыкант вдруг появился здесь в поселке, почему, вопреки своему обыкновению, он небрит и щеки его бледнее, чем всегда? Да и как, в конце концов, разыскал Роман его домишко, не имевший даже номера, а обозначенный как участок 71В, к которому относилось десятка полтора таких же хибарок? Впрочем, Скирдюк рассказывал как-то Роману, что проживает он напротив парикмахерской, где работает тетя Рая, тоже одесситка, значит, землячка Романа Богомольного... Он прогнал сомнения, кинулся к Роману вновь как к спасителю. Рассказывал о том, что Хрисанфов сам докопался до этой аферы с карантином, что положение просто отчаянное... Роман слушал, и глаза его за стеклами очков оставались непроницаемыми, а на капризно изогнутых губах блуждала усмешка. Не зная, как истолковать ее, Скирдюк мрачнел все больше. Он умолк и ждал ответа, не спуская с Романа глаз. Пианист долго не произносил ни слова. — Так что же нас все-таки губит, мой друг? — вопросил он в пространство, будто не понимая, что старшине сейчас не до риторики. — Ты скажешь: водка, женщины, — продолжал он все так же бесстрастно, — и будешь неправ. — Роман резко вскочил и навис над Скирдюком. — Ты — ус моржовый, как говорят в Одессе. Я тебе уже объяснял: женщина нужна нам не для того, чтоб согревать постель, как та, которую я у тебя застукал. Скирдюк попытался что-то сказать, не в защиту оскорбленной Нади Протопоповой, конечно, но Роман прикрикнул: — Тихо! Слушай и старайся понять, когда тебе про дело толкуют. С дочкой этого азербайджанца ты познакомился? — Разузнал только про нее, — глухо ответил Скирдюк. — Незамужняя. И ни с кем теперь не бывает. Был у нее какой-то пацан. В армию его, говорят, забрали, а она даже и в военкомат не пришла, чтоб проводить. — Ну? Так что ж ты время теряешь? — Хрисанфов всего три дня дал, — печально сообщил Скирдюк. — Такому орлу, как ты, трех часов достаточно. Главное, в дом к ним попасть, главное, девке этой понравиться, а там все само собой пойдет как по маслу. — Он вдруг переменил тему: — Пожрать у тебя не найдется? Я с вечера пощусь. Лишь когда уселись они друг против друга за колбасой и салом, Скирдюк спросил: — Как же это ты вдруг надумал, а, Рома? Собрался и — ко мне. Роман жевал, не отвечая. — Приехал я утренним поездом, наверное, и в самом деле некстати, — он отрезал себе еще кусок колбасы, — не предупредил; час не для визитов, хозяина дома нет, в кровати женщина... — Почему же? Я не против... — что-то все настораживало Скирдюка. — К другу, я думаю, можно в любое время дня и ночи. Тем более, что я прибыл тихонько, не на мотоцикле, как некоторые военные приезжают к приятелям. Скирдюк почувствовал себя неловко. — Ладно, Рома, — сказал он, — может, ты выпить желаешь? Мне нельзя. На службу опять надо. — Что ж, стопарик опрокинуть не грех. Налей мне за здоровье наследницы Зурабова. Как там зовут ее? — Зина. — Прелестное имя. Так я у тебя здесь отдохну с дороги часок-другой, а ты — служба службой, но и про Зиночку не забывай. Она как раз тот ключик, который тебе нужен сейчас. — Роман снял ботинки и улегся на постель, которую недавно покинула медсестра Протопопова.
Флирт с Зиной Зурабовой и вправду удалось Скирдюку завязать мгновенно. Он приехал на автобазу как раз перед обеденным перерывом, будто бы за свечой для своего мотоцикла. Вел об этом разговор со знакомым слесарем, а сам все следил глазом за крохотным окошечком диспетчерской, где виднелась каштановая головка с кудельками, свисающими согласно моде, по-прежнему, невзирая на гром орудий, диктовавшей женщинам свои законы. Он заметил конечно, что и пухленькое личико оборачивалось в его сторону с любопытством, очевидно, Зина припоминала, где видела она когда-то этого симпатичного военного. Скирдюк получил свечу, чрезмерно прочувствованно и долго тряс руку слесарю, сел на мотоцикл и с оглушительным треском выскочил за ворота, но, отъехав всего лишь шагов на сто, остановился и начал копаться в моторе, делая вид, будто там снова что-то не в порядке. Расчет оказался точен: несколько минут спустя из ворот вышла Зина Зурабова, направляясь на обед. С подчеркнуто равнодушным видом, что весьма Скирдюка обрадовало, просеменила она мимо. Тут же мотор завелся, Скирдюк догнал Зину и, резко притормозив, любезно предложил ей сесть позади него. «Обидно, когда такие ножки по пыли топают... тем более, что мы — давно знакомы». Она, разумеется, сперва отказалась. «Мне всего три шага и совсем в другую сторону, под горку...» Но Скирдюк горячо заверил ее, что и ему надо именно туда. Зина поколебалась и села. — Держитесь крепче! — крикнул не оборачиваясь Скирдюк и включил третью скорость. С того памятного полудня все и началось: поездка в горы, где природа справляла яркую тризну по уходящей осени, поигрывание зиниными пальчиками и кудельками в темном зале кинотеатра, где показывали фронтовую хронику и «Новые похождения Швейка». Дня три спустя папаша Зурабов, узнав, что Зина встречается со старшиной из училища, потребовал: «Пусть в дом приходит. Моя дочь по углам с ухажерами не встречается. Понятно?» «Понятно», — про себя откликнулся весьма довольный Скирдюк. На следующий вечер он уже сидел за овальным столом, застеленным тяжелой скатертью, и уважительно сдавал карты Полине Григорьевне и Мамеду Гусейновичу. Ставили по маленькой. Скирдюк сперва снимал банк, он в итоге все-таки проиграл. — Слушай, — говорил довольный Мамед Гусейнович, — я же тебя давно знаю: каждую неделю на холодильнике вижу, почему раньше у меня в доме не бывал, а? — Упущение, большое мое упущение, Мамед Гусейнович, — отвечал Скирдюк, — сам жалею не знаю как, что не заходил до вас, — он многозначительно поглядывал на Зину, которая подавала ему наманикюренными пальцами чашку с чаем. — Для мужчины главное — понять свою ошибку, — весело парировал Мамед Гусейнович, перехватив этот взгляд, и, когда назавтра Скирдюк, уже во дворе холодильника, угрюмо поздоровался и прошествовал мимо, уставившись в землю, Мамед Гусейнович сам ухватил его за рукав: — Степа! Что-то случилось? — Какая вам разница, — вяло откликнулся Скирдюк. — Меня можешь не бояться. Говори все! Скирдюк все же озирался опасливо. — Пошли! — Зурабов привел его в свой чулан, запер плотно дверь. — Горишь? — спросил он, безошибочно догадываясь чутьем старого дельца, в чем причина скирдюковской печали. — Ладно... — и Скирдюк поведал об афере с неприбывшей полусотней новобранцев. Зурабов слушал, не перебивая. Даже тени осуждения не мелькнуло на его одутловатом лице. Речь шла о делах, вполне, по его разумению, обычных. Все было бы поправимо, будь у Скирдюка «покрышка», то есть — вышестоящий начальник, который с ним в сговоре. Но то была армия, пусть по слабости грешный, но все же неприступный старший лейтенант Хрисанфов, а дальше — военная прокуратура, которую ни разжалобить, ни подкупить. — Сколько я ему, черту лысому, поллитров перетаскал, — поносил Хрисанфова Скирдюк, — но кому про это докажешь? За склад же отвечаю я! Начиналась с точки зрения Зурабова лирика. — Короче! — прервал он нетерпеливо. — Тебе нужна «шпаклевка»?! Так в кругу жуликов называлась примитивная махинация, когда, обеспечившись, разумеется, круговой порукой, можно было перебрасывать, скажем, ящик масла со склада, где только что прошла проверка, на склад, где была недостача и куда ревизоры лишь намеревались нагрянуть. Конечно же, сразу после переучета этот ящик с маслом возвращали на место. — Так, так, — продолжал Зурабов, — ну, допустим, я за одни твои красивые глаза постараюсь, но остальные должны получить «парнос»? И этот термин, бывший в ходу у жулья, Скирдюку был небезызвестен: каждый, участвующий в сделке, имеет право на свою долю. Бескорыстно в деляческом мире никто ничего не совершает, тем паче — не рискует даром. Скирдюк заверил, что вернет продукты с процентом. Минула бы только гроза. — Ладно, — решил Зурабов, — нравишься ты мне, иначе бы я ни за что... Он пообещал хороший куш своему главному бухгалтеру и ближайшей подруге Эсфирь Марковне, получил необходимые документы на вывоз и ограничил Скирдюка жестким сроком. Вскоре, не скрывая радости, Хрисанфов доложил по начальству, что излишки обнаружены у них на складе и уже учтены, тут же прибыл хозяйственник из штаба, убедился, что все в порядке, и вскоре Скирдюк уже смог постепенно возвращать на холодильник продукты, одолженные ему Зурабовым. — Спасибо! — говорил он искрение Эсфирь Марковне, прижав ладони к сердцу. Она, однако, лишь хмыкнула в ответ. Он понимал, конечно: она ждет от него то, что обещано. Теперь Скирдюк и впрямь «завязал» с гулянками, но все же, будучи в Ташкенте, заглянул в «Фергану». Романа на эстраде не было, а когда Скирдюк спросил о пианисте, завзалом Григорий Григорьевич раздраженно ответил нечто неопределенное. Не то — «уволился», не то — «перешел, куда, не знаю». Не знали ничего о своем жильце и старики, хозяева дома на Маломирабадской. «Оставил квартплату и исчез. Мы его даже не видали». И Скирдюк начал забывать о пианисте. Он по-прежнему приворовывал, однако теперь ничего не тратил, а создавал то, что называлось «заначкой» — припрятывал продукты, чтоб покрыть недостачу. Брешь все же образовалась огромная, и Скирдюк с тоской прикидывал, сколько же месяцев придется таскать, чтобы заделать ее! А вдруг — налетная ревизия? Он холодел при мысли об этом и потому еще настойчивей продолжал ухаживать за Зиной Зурабовой. «Один раз Мамед выручил, в другой раз поможет тоже». В дождливый вечер примчался он на своем мотоцикле с горки, где жили Зурабовы, домой и увидел около своего дома темную фигуру в плаще с капюшоном. — Пустишь переночевать?— спросил Роман и шагнул первый в комнату, едва Скирдюк открыл дверь. — Что это с тобою, Рома? — спросил Скирдюк. — Пропадал ты вроде где-то? — Потом, — сквозь зубы откликнулся Роман. Видно было, он страшно утомлен. У него даже руки дрожали, когда он торопливо пил чай и закусывал. Он проспал до следующего вечера и лишь тогда сказал Скирдюку: — Никаких тайн мадридского двора. Просто — шухер небольшой с валютой. Дернуло меня связаться с фраерами, а один — попух и раскололся. Вот и все. Пронесет, — заключил он беспечно, — ты здесь в любом случае ни при чем... Да! Свои дыры ты залатал? Скирдюк рассказал о Зурабове. — Ну вот видишь, — заключил Роман не без удовлетворения, — умных людей слушаться надо. — А толку? — с горечью возразил Скирдюк. — Рассчитываться же с ними треба, да еще — с лихвой. — Выход у тебя один, — Роман продолжил горячим шепотом: — Надо стать у них в доме что называется своим человеком. Замуж за тебя эта Зиночка еще не готова? — Такого не хватало! — Пижон! Тебе же спастись надо, а там — трава не расти! — Парнос ихний за мной остался, — вздохнув, признался Скирдюк. — Бухгалтерше Фирке должен, бумажки она не берет, стерва. Как приду, так и напоминает: «С пустыми карманами люди гешефты не делают...» Роман долго смотрел на него, что-то взвешивая. — На! — вдруг произнес он, решившись, и вытащил откуда-то из-за галстука булавку с зеленоватым ограненным камнем. — Отдай ей и пусть заткнется. — Рома! — Скирдюк не находил слов. — Я отдам тебе, отдам... Счастья мне, свободы не видать, ежели брешу! Я ж теперь братом тебя считаю. Как же только найти мне тебя, ежели что? Пианист остановил его излияния. — Ладно, — сказал он, — время придет — сочтемся. А найти меня так: оставь на почтамте открытку на имя Ко́зел Любови Львовны. Записывать не надо. Запомнишь и так: не Козёл, а Ко́зел. Зовут ее — Любовь, слово тебе дорогое, а папашу ее звали Лев. Лев Козел. Смешно? Вот и запомни. Напиши всего два слова: «Старшина соскучился». Я тебя сам и найду. Недостача у тебя и сейчас, наверное, еще немалая? — Куда ж она денется клятая? — Скирдюк вздохнул. — Выходит, придется опять перетырить? — Как там перетыришь? — Скирдюк безнадежно махнул рукой. — Происходят же, наверное, опять какие-то изменения, как у вас в армии говорят, в личном составе? Ну, как тогда, с карантином. Или что-то похожее. Скирдюк посуровел. — Про такое рассказывать у нас не положено. Роман усмехнулся: — Чудик! Я что, точные сведения требую? На кой они мне? Просто другого выхода у тебя нет. — Он улыбнулся: — Помню, мы с сестрой, когда маленькие были, таскали втихую у матери из банки малиновое варенье. Очень нравилось оно нам. Бывало, начнем, по ложечке, по ложечке, смотришь — полбанки нет. А мама варенье берегла для гостей, или если простудится кто. Всего три банки, помню, было, в разных местах стояли. Одна — дальше всех; за шкафом в спальне. Вот мы ее оттуда и достали, полную, и держали на виду, а початую — в спальне прятали. Мать к столу варенье подаст, мы потом еще пару блюдечек скинем, а добавляем из той, что в спальне. Пока она совсем не опустела. Тогда мы поступили совсем мудро: выкинули пустую банку на помойку. Мама потом голову потеряла: ищет, ищет, себя ругает, куда я эту банку поставила? А про нас и не подумала. Смешно? — Когда про варенье — конечно... — Но ты учти, — жестко продолжил Роман, — я из первых заработанных денег (в детском саду больную музвоспитательницу подменял) купил на базаре точно такую же банку малинового варенья и в шкаф поставил. — Он усмехнулся снова: — Мама нашла ее, попробовала и ахать начала: «Испортилось немного... Переложила я сахара, наверное». — Понял я, понял, Ромочка, зачем ты эту байку рассказал... Скирдюк тяжко задумался. Мысль о новой махинации уже не раз приходила и ему в голову. Курсантские батальоны ушли на учения с пехотой. Маневры были рассчитаны ненадолго, но какой-то требовательный инспектор из высокого штаба остался недоволен взаимодействиями стрелков с танкистами и приказал продлить полевые учения еще на неделю. По строевой же записке, представленной в штаб округа, батальоны эти значились возвратившимися в расположение училища. Следовательно, уже с минувшей субботы полагалось получать на них продовольствие. Скирдюк видел, что возникла возможность на время покрыть недостачу, но не решался на это. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая дело с карантином. Роман словно подталкивал его в спину, как новичка-парашютиста, который сам не решался кинуться в бездну. «От черт с рогами! — думал Скирдюк и с неприязнью, и с восхищением. — Прямо-таки наскрозь глядит». Вслух же он произнес обреченно: — Жизнь моя, Ромочка, про что бы ты тут ни балакал, уже пропащая... Роман молчал. На бледном, поросшем рыжеватой щетиной лице его появилась обида: я, мол, к тебе с полной откровенностью, вещичку подарил — цены ей нет, а ты мне не доверяешь. — Подворачивается тут, правда, один случай, — начал будто бы нехотя Скирдюк и слово за слово рассказал, как ему представлялось, весьма туманно, о застрявших на полевых учениях батальонах. — Так что ж ты чикаешься! — азартно воскликнул, тут же сообразив что к чему, Роман. — Действуй! Хуже все равно не будет. — А откроется снова? Ну, Мамед, может, теперь и задарма выручит, так Фирка же не захочет. Нет. Это — такая зараза... — Меня тогда найдешь, — с некоторым раздражением заключил Роман. — Давай спать! Однако Скирдюк уснуть не мог. Он ворочался с боку на бок, постанывал, кашлял. «Фирке — ювелирные цацки, а этот не иначе — душу потребует...» Он получил продукты на отсутствующие пока батальоны, но отрады это не принесло. Полевые учения должны были вот-вот окончиться, к тому же и Хрисанфов опять что-то учуял; вернувшись из командировки, он только взглянул на стол, накрытый для него Скирдюком (посредине, разумеется, красовалась зеленоватая бутылка), крякнул и ушел в командирский зал, обедать вместе со всеми. Скирдюк кинулся к Зурабову, хотя давно уже понял, что Мамед Гусейнович отнюдь не принимает его заботы так близко к сердцу, как предсказывал Роман. Зина, она и впрямь увлеклась чернявым старшиной не на шутку, тоже просила отца: «Я не знаю, конечно, что там у Степы такое случилось, но он переживает все время. Помоги ему, папочка. Ты же все можешь...» Зурабов сперва отвечал ей неопределенно: «Посмотрим», потом, рассердившись, прикрикнул: «Не суйся в мужские дела!» Сейчас Скирдюк все-таки снова кинулся к Зине. Уткнувшись лицом в ее теплые колени, жаловался он на своего начальника, который пьет безбожно, а ему, Скирдюку, приходится покрывать недостачу. — Не выручит теперь батя — застрелюсь. Одна доро́га... Как ни была Зина обижена на отца еще и за связь его с Эсфирь Марковной, за оскорбленную мать, она отправилась на Салар. Зурабов все же любил дочь. День спустя он сам пригласил Скирдюка на холодильник. Надутая Эсфирь Марковна, всячески изображая, что жертвует собой во имя чужого благополучия, с треском оторвала накладную, не забыв занести нужные цифры в свой личный блокнот, который прятала в сумочке. Скирдюк уже хорошо понял, что она не пропустит часа, когда он должен вернуть товар с хорошим процентом. Однако проверка, которую, как и не зря предчувствовал Скирдюк, устроил-таки Хрисанфов, нашла все продукты, полученные сверх положенной нормы, на складе. Хрисанфов мог отругать Скирдюка лишь за то, что говяжьи туши, которые хранились в погребе, могут заветриться. — На кой черт вывез лишнее? Пусть бы оставалось на холодильнике. — Виноват, — ответил Скирдюк, — да куда ж теперь денешься? Однако именно в эту ночь увез он сам в одиночку на бричке эти туши обратно на Салар. Вот тогда-то и заметил ездовой Алиев, что старшина таскает мясо туда-сюда. И все же он просчитался. Произошло неизбежное. Помощник начальника училища по политчасти, вообще-то сторонившийся хозяйственных забот, сам решил, очевидно, по чьей-то жалобе, проверить продовольственный склад. Произошло это всего лишь сутки спустя. Хрисанфов пригласил замполита, щеголеватого, отвоевавшего свое майора с обожженным лицом на склад. Вид у Хрисанфова был спокойный и самодовольный: у нас все в ажуре, сами убедитесь... Скирдюк же обмер от страха. Судьба все же дала ему опять поблажку: примчался вестовой и доложил, что замполита срочно вызывают на учения в поле, где находились те самые курсантские батальоны; там произошло какое-то «чп». Майор, чертыхнувшись, предупредил, что, как вернется, начнет все сначала. Скирдюк тут же примчался на холодильник и вместе с Зурабовым отправился уламывать Эсфирь Марковну снова. Однако вскоре Мамед Гусейнович забегал глазами и оставил их одних. — Я не позволю тебе ничего вывезти не только на сутки — даже на одну минуту, — непреклонно заявила тогда Эсфирь Марковна, ударяя ребром ладони о стол. — Хватит! Чуть сама из-за тебя не погорела. Нужны мне очень все эти переживания. — Не даром же, Фирочка, — пробормотал Скирдюк. — Фи! Постеснялся бы вспоминать про такую мелочь, жлоб. Слава богу, я не твоя любовница, а то бы я тебе обратно в рожу швырнула эту булавочку. Не стыдно ему вспоминать про нее... — Что тебе нужно, скажи? — едва ли не взмолился Скирдюк. Она ответила жестко, по-мужски, так же как курила — глубоко затягиваясь, выпуская дым клубами: — Нужно то, голяк, чего у тебя нет и никогда не будет: золото. — Много? — спросил Скирдюк, сам не понимая, к чему этот вопрос. Эсфирь Марковна брезгливо передернула плечами: — Какая разница? Можно подумать, тебе только и остается: открыть свой кошелек и отсчитать монету. — Это посмотрим еще, — Скирдюк уже решился. — Говори, сколько надо? Что-то уловила она в его тоне, заставившее поверить. Она достала из сумочки свою смятую тетрадку, заглянула в нее и быстро защелкала на счетах. — Конечно, я понятия не имею, какой сейчас валютный курс и где он вообще есть, — бормотала она, продолжая считать, — но, думаю, монет десять, наверное, хватит. Да, десять. Это не так много, но что с тебя возьмешь? Сомневаюсь, чтоб ты даже это достал. — В понедельник получишь, — Скирдюк ударил кулаком по столу, — но чтоб товар был. Поняла? — он опрометью выскочил из конторы. Эсфирь Марковна услышала, как взревел его мотоцикл, и скептически выпятила накрашенную губу.
Он отвез на почтамт открытку на имя Любови Львовны Козел (не забыл, конечно, это имечко), а следующие сутки провел, словно в горячке. Механически исполнял то, что требовалось по службе. Хрисанфов был по-прежнему беспечен и за обедом даже подмигнул, как бывало, своему старшине: не найдется ли чего? Скирдюк достал бутылку. Сам он не пил. Едва дождавшись нужного часа, выскочил на мотоцикле на пустынное булыжное шоссе. Он оказался первым у окошка, где выдавались письма до востребования, и как только появилась пожилая женщина с отекшим серым лицом, протянул ей свое удостоверение. Очень долго — Скирдюк извелся ожидая — перебирала она конверты, солдатские треугольники, бледно-синие бланки телеграмм, а затем уронила: — Пишут... Он не понял этой привычной в ее устах шутки-утешения и переспросил хрипло: — Кто пишет? — Это вам лучше знать, — ответила она уже раздраженно и позвала: — Кто следующий? Негнущимися пальцами Скирдюк спрятал удостоверение в карман кителя. Он побрел к выходу, не видя никого и бессознательно повторяя вслух: — Как же так? — и вдруг прозрел: — Насмехается он надо мною, падла! И фамилию придумал какую! Козел... Чтоб до самых печенок донять... Кто-то придержал его сзади за локоть, будто хотел опередить в дверях. Он оглянулся и увидел Романа Богомольного.
Минут пятнадцать спустя сидели они в пустынном парке на берегу мутного Салара, на холодной скамье. — А ты, оказывается, парень-жох, — говорил, посмеиваясь, Роман, — смекнул, выходит, что я попросту хохмил с этой Любочкой Козел. Скирдюк все же еще сомневался: — Ты что, случайно пришел сейчас на почтамт? — Клянусь! — Роман постучал пальцем по своей груди. — Интуиция. Такое слово известно тебе? — Да-а, — скептически протянул Скирдюк, — а ушел бы я себе ни с чем, где была бы тогда твоя интуиция? — Ну, если по-серьезному, то отправлял я с почтамта деньги в Коканд. Тетка там у меня с двоюродными сестричками. Тоже — эвакуированные. Школьницы еще. Бедные девочки... И опять послышалось Скирдюку нечто фальшивое. Однако был он настолько поглощен своими нелегкими заботами, что, пренебрегая всем, даже недавней жгучей обидой у окошечка почтамта, рассказал Роману без утайки, что с ним стряслось, и не попросил, а потребовал: — Выручай, коли ты в самом деле товарищ. Роман молчал так долго, что Скирдюк вопросил уже в сердцах: — Ну, так что? Роман резко повернулся к нему. — Слушай, — он смотрел на Скирдюка так, будто впервые увидел его, — за кого ты, собственно, говоря, меня принимаешь? Я что, по-твоему, валютчик какой-то, маклак? — Ты ж сам говорил, что из-за шухера какого-то с валютой прибежал до меня тогда, — несколько растерянно возразил Скирдюк. — Так, так, — в пространство произнес Роман, — выходит, ловишь ты меня на слове... — он вдруг всполошился, вскочил и огляделся. Мужчина в шинели внакидку и его спутница в берете и резиновых ботах прошли мимо, озабоченно обсуждая что-то на ходу. Роман следил за ними напряженным взглядом и молчал, пока они не удалились. — В бога ты веришь? — спросил он тихо, но внятно и наклонился к самому лицу Скирдюка. Поколебавшись, старшина кивнул и даже обозначил пальцами у груди нечто напоминающее крестное знамение. — Нет, Степа, — Роман печально вздохнул, — ни в кого ты не веришь: ни в бога, ни в Карла Маркса. А жаль. Потому что побожишься и тут же забудешь про это! А мне гарантия нужна, гарантия. Ты понимаешь? — На что тебе она, эта твоя гарантия? — Слушай добрых людей, Степа. Потому что вспомнил я все-таки: имеется человечек, который даже золото даст, если потребуется. Скирдюк вскинулся в надежде. — Но не даром же он даст, как ты, наверное, догадываешься! И не в долг, потому что поручиться тебе нечем. Это и значит, что гарантии у тебя — ровным счетом никакой. — А что ж ему надо, тому человеку твоему? — Сиди. Сейчас поймешь, почему я именно про него вспомнил. Эх, держал бы ты в памяти мои дела и заботы, как я — твои... Ну да ладно... Так послушай, что я сообразил. Помнишь, ты часто рассказывал про этого зинкиного братца, который еще в госпитале с тобой лежал? — Помер же он. — И царство ему небесное. Но документы его, ты же говорил, в доме у них остались. Скирдюк начал догадываться. — Не-е, Рома, на такое дело я не пойду! Пусть лучше за ноги повесят — все едино... — Чудак, — Роман зашептал горячо, — разве же я предложил бы тебе что-то уголовное? Все просто как дважды два: фраер этот, у которого, я думаю, золото найдется, посеял где-то по пьянке все свои бумаги; теперь уже вторую неделю прячется, нос боится на улицу показать, тем более, что он — на примете: крутился он на бирже немножко. Это за ним было. Не скрою, конечно, конкуренты, злопыхатели рады бы заложить его с потрохами. Так вот, он только вчера мне говорил (я его только один и проведываю), ничего не пожалеет за документы. Чтоб только из Ташкента выскочить безо всяких. — Так он что ж: за какое-то удостоверение личности даже золотом заплатит? — Скирдюк не скрывал подозрительности. — Да на вокзале у жулья за две бумажные тридцатки хоть черта лысого купишь. — Умница! — презрительно протянул Роман. — А биография? Ее же вместе с ворованными документами не продают? А тут даже я кое-что помню, а ты еще расскажешь мне поподробнее. Я ему и передам. Тогда он — с полной оснасткой будет. Смекаешь? — Нехорошо это все-таки, Рома. — А тибрить у будущих фронтовиков их курсантский паек, пускать его на пьянки и на баб — хорошо? — Роман поднялся. — Как хочешь. Условимся все-таки так: я ничего не говорил, ты ничего не слышал. Гуляй, Степа и смотри: перед трибуналом держись молодцом, — он встал и быстро ушел вверх по песчаной аллее. Скирдюк сидел в оцепенении. Он словно лишился сил, не мог подняться. Лишь потом медленно побрел он к воротам парка. Там, у парикмахерской оставил он свой мотоцикл, когда они с Романом приехали сюда. Пианиста не было видно, хотя Ассакинская, пустынная в этот час, просматривалась до самого верху, до скверика с гипсовым бюстом Куйбышева посредине клумбы с давно увядшим шафраном, от которого теперь оставались лишь ржавые стебли. Скирдюк ожесточенно толкал подошвой пружинящую педаль мотоцикла, который не желал заводиться. Он невольно вспомнил, что и самому ему приходила однажды мысль — скрыться, сбежать куда глаза глядят с документами того же Назара Зурабова — чистого и честного перед богом и людьми. Чем же он, Степан Скирдюк, лучше того неведомого ему человека, который, пусть по своим каким-то причинам, видит выход в подобном же бегстве под тем же чужим именем? Мотор наконец затрещал, и тут из парикмахерской вышел Роман Богомольный и начал, будто не замечая старшину, переходить улицу наперерез ему. Скирдюк притормозил. — Послезавтра, — сказал он, сдерживая рвущийся мотоцикл, — в обед. Слышишь? — На той же скамейке, — бросил будто походя Роман. Он словно обращался не к Скирдюку, а к каким-то девушкам, которые стояли, разговаривая, напротив на крылечке старого особняка; даже рукой помахал им, хотя они не обращали на него внимания, и добавил тоже, будто обращаясь по-свойски к этим же девушкам: — Чтоб все бумаги были до единой. — И ушел, приветливо помахав девушкам, которые недоуменно переглянулись и прыснули смехом. Едва освободившись от дел, Скирдюк принес в дом Зурабовых свой чемодан и коверкотовый китель, купленный еще весной у одного лейтенанта, уезжавшего на фронт. — У вас тут надежней будет, — сказал Скирдюк, — а то я хату свою кидаю на весь день, а жулье шастает — сил нет. Особо большое впечатление поступок этот произвел на Полину Григорьевну. До сих пор, прислушиваясь к материнскому сердцу, поглядывала она на старшину все же несколько недоверчиво: «Знаем таких... Сегодня у него одна, завтра — другая». Но в тот вечер Полина Григорьевна была весьма приветлива и даже затеяла пироги к чаю. Пока она возилась с тестом, Скирдюк сидел с Зиной у нее в комнате. Зина, кажется, ждала от него сегодня признания и, чтобы уйти от этого, а также чтобы как-то естественней можно было заговорить об умершем Зинином брате, Скирдюк, радуясь, что его осенило, попросил: — Зинок! Показала бы ты мне свои фотографии. Расчет был еще и такой: если, что вполне вероятно, Зина уже отыскала документы Назара, она, вспомнив о нем, может вдруг и сама сказать об этом. Не без сожаления Зина отстранилась от Скирдюка, поднялась и выдвинула из комода скрипнувший ящик. Она достала два тяжелых альбома. Скирдюк положил ей на плечо руку, и они принялись рассматривать фотографии. С застенчивым смешком закрывала Зина те, на которых она была снята еще в младенчестве, голенькая, а потом — толстенькая девчушка в пионерском лагере, с горном, прижатым к колену. Фотографии брата пока не попадались, а Скирдюк между тем лихорадочно припоминал, не вырвалось ли у Назара, когда они лежали рядом в госпитале, хоть что-нибудь об этих спрятанных им документах. «Дернуло же меня тогда в ресторане натрепаться про них! — запоздало корил себя Скирдюк. — Нолик или Полик, как уже там не припомню, завел меня. Да и перед дивчиной показаться хотелось»... Но, вспомнив о разговоре в ресторане, он словно поймал какой-то хвостик. Да, да! Был же какой-то намек! Был! Говорил же как-то Назар... Глядел, глядел в потолок, а потом и молвил вроде бы про себя, но Скирдюк слышал: «Неужели же я их в пластинки затолкал? — сказал тогда Назар, и сам себе возразил: — С чего бы вдруг — в пластинки? А может, и так...» Он переворачивал плотные серые страницы. Мелькали лица бесчисленных родственников, конечно же — со стороны Мамеда Гусейновича: усатые дядюшки в черкесках, грузные тетушки в лисьих салопах и бархатных платьях, увешанных ожерельями, юноши с тонкими усиками (пальцы непременно на кинжале), девицы с огромными, как сливы, пугливыми глазами. — А что же это материнских твоих не видать? — осторожно спросил Скирдюк. — У мамкиных житье было совсем другое, да и не встречалась она почти что со своими. Пятнадцать лет было, ушла в Харьков, в прислуги. — И братишки твоего, Назара, тоже не видать, когда он маленьким был. — Папаша не любил эти фотографии. Там Назарка был больше всего с отцом своим родным снят, у которого в доме мама прислугой работала. Отец у него был, кажется, ученый какой-то, что ли. — Зина покосилась: плотно ли прикрыта дверь. — Намного старше мамки. Но все равно он ей нравился. Сама я слышала, как мамка один раз подруге своей про все это рассказывала. Водил мамку в какие-то кружки, на лекции: все мечтал, чтоб она его по уровню догнала. Поженились они законно, ты ничего такого не подумай. И Назарке дали революционное имя — Назарлен. Значит: Навстречу Заре Ленинизма. И, наверное, мамка и вправду стала бы образованной, только что-то случилось с ее первым мужем. Точно не знаю, но в общем осталась она с Назаркой одна, переехала в Среднюю Азию, а была тогда красивая, статная, ну, папаша, значит, на ней и женился, даром, что с ребенком была на руках. Только не мог он все-таки примириться с ее первой любовью. Может, потому даже к Назарке ревновал. Так вышло, что Назарка лет с десяти жил у каких-то его родственников в Харькове, а потом окончил в Москве университет. Я его почти что и не видела, — глаза у Зины затуманились. — Такой хороший парень... И умница — все вокруг говорили. Скирдюк проследил за ее взглядом и снял с тумбочки фотографию в рамке, под стеклом. Назар, в мешковато сидевшем на нем кителе, как-то неловко улыбаясь, смотрел в сторону от аппарата. Волосы у него были растрепаны и вид он имел вообще не воинский. — Увеличить бы не мешало, — как бы в раздумье произнес Скирдюк. — Мамка с другой карточки портрет хочет сделать. С той, что на комсомольском. Ей та больше нравится. Смотри, — Зина повернула рамку обратной стороной и вытащила из-за картонки тоненький комсомольский билет. — А ну, дай, дай, поглядим, — Скирдюк делал вид, что изучает крохотную фотографию. — Может, где еще что-то Назаркино найдется? — спросил он, стараясь оставаться равнодушным. — А что может найтись? — откликнулась Зина. На пухленьком лице ее появилось недоумение. Значит, не находила она никаких документов, и он поспешил ее успокоить: — Да просто — интересно. Я ж его тоже знал... — и тут же произнес хрипло: — В горле все сохнет и сохнет. — Да! — спохватилась Зина. — Мама же просила помочь ей с пирогами к чаю. Ты поскучаешь здесь без меня, ладно? — шепнула она на ухо ему, он попытался удержать ее, но Зина выскользнула и убежала, смеясь. — Я патефон послушаю пока! — крикнул он вслед Зине. — Можно? — Конечно! — удивленно откликнулась она, уже закрывая за собой дверь. Он поставил громкую музыку — какой-то фокстрот, а сам, стараясь действовать неторопливо, хотя руки у него тряслись, начал снимать одну за другой пластинки и перебирать их, вытряхивая из конвертов. На столе выросла расползающаяся стопа, но ни в одном из потертых, а то и порванных пакетов никаких бумаг не было. — Ты что ищешь, Степа? Он вскинулся, как от удара хлыстом. Зина стояла на пороге, уже с минуту, наверное, наблюдая за ним. Скирдюк забормотал что-то о модной песенке «Пожарник». Он же помнит, что они однажды слушали ее с Зиной, а вот сейчас никак эту пластинку не найти. — Нужна она тебе, — пренебрежительно произнесла Зина, — старье! Я их отдельно держу, — она раскрыла дверцу шкафчика, на котором стоял патефон. — Зинуля, доченька! — сладким голосом позвала Полина Григорьевна. — Иди сюда, детка. Сейчас пироги вынимать будем. — Приходи скорей, — сказала Зина, выбегая. — Ага, ага... Я ж только пластинки обратно пособираю, а то неудобно... Пораскидал тут. Скирдюк воровато глянул на дверь, встал на колени и достал из шкафчика целую стопу пластинок. Зашарил пальцами внутри одного пакета, другого и нащупал плотный коленкоровый футлярчик. Дрожащими пальцами вытащил он за краешек гладкую, сложенную пополам бумагу, увидел заполненный машинописным текстом бланк с красной и фиолетовой печатями и тут же услышал приближающиеся шаги. Он затолкал футлярчик за пазуху, где уже лежал комсомольский билет Назара Зурабова, и растерянно вскочил. — Ну и настырный же ты все-таки, Степа, — по-доброму упрекала, стоя в дверях, Зина. — Мы же ждем! На столе глянцевито поблескивал жирной корочкой пирог с капустой — несомненно, гордость хозяйки.
Все-таки Скирдюк на час опоздал, но пианист терпеливо дожидался там, где условились. — Иди прогуляйся, — велел Роман, — встретимся минут через десять возле запертого киоска. Видишь? Роман исчез, а появившись, двинулся навстречу Скирдюку, попросил прикурить и опустил в карман ему горсть тяжелых кругляшек. Он тут же удалился, кивнув так, будто они не были знакомы, и не молвив на прощание ни слова. «И бес с ним...» — подумал Скирдюк, не испытывая, однако, особого облегчения. Все же ему необходимо было утешить себя: «Не обязательно же он — ворог какой-то? Нужна ему, наверное, полная отмазка. Смоется подальше — и конец!» Скирдюк и не заметил, что уже рассуждает так, будто не сомневается, что документы Роман взял именно для себя, а не для какого-то наверняка выдуманного им валютчика. Он примчался на холодильник и, дождавшись, пока Эсфирь Марковна осталась одна, бросил ей прямо в сумку золотые монеты. Он видел их впервые в жизни, но расстался с ними без сожаления. Кончился бы только этот кошмар, преследовавший его днем и ночью: ревизия, недостача, трибунал... Но Эсфирь Марковна не подвела, а Мамед Гусейнович Зурабов, ввиду того, что шофер куда-то запропастился, лично повел полуторку с продуктами в училище. Справившись с делами, выпивали и закусывали у Зурабовых, где Скирдюк и впрямь начинал чувствовать себя как дома. Однако все это испарялось, едва он трезвел. Неплохая девчонка Зина, что кожа негладкая, к тому привыкнуть можно, и все же в жены она не годилась. Жена была одна — Галя, ради которой он родное село когда-то покинул, в Володарку перебрался, не говоря уже о мытарствах в пору ухаживания, о разладе со своими батьками, которые прочили ему в невесты соседскую Фросю, о насмешках односельчан, о тумаках и побоях (что ни вечер поджидали настырного Степана у околицы свирепые, как цепные псы, ревнивые володарские хлопцы). Он все снес и вытерпел бы куда большее, любила бы только его она. А Галя даже сынишке несмышленому, Миколке, внушала, будто шутя, но не умея скрыть неприязнь: — Батько-то у нас — цыган немытый... И водка, и кутежи, и раздражавшая своей болтливостью Надя, — все было главным образом от тоски, от бессилия перед так и не преодоленной холодностью Гали. Сейчас, когда в Володарке хозяйничали немцы, боль эта не утихла, а стала еще острей. Но не поэтому, вовсе уж вопреки своему желанию, вторгся Степан Скирдюк в жизнь Наили Гатиуллиной. Он старался забыть о Романе Богомольном, начал хозяйничать на складе так добросовестно и честно, что повар Климкевич, которому лишнего теперь не доставалось вовсе, ходил надутый и грозился подать рапорт о переводе в караульный взвод. «Там по крайней мере не буду возле котлов маяться в жару...» Не только перед курсантами («Что я там брал? От каждого пайка, если разложить, даже по грамму не придется») чувствовал себя виноватым старшина Степан Онуфриевич Скирдюк. «На что сдались тому клятому Назаркины бумаги?» Он находил те же оправдания: скрыться нужно; черт с ним, пускай даже он — дезертир! Раз сволочь, то может и лучше, если на передовую не попадет. Однако не отпускала мысль: не стоит ли за этим что-либо гораздо худшее? Что именно, об этом не хотелось и догадываться. И все-таки: «Нема дурных, чтоб задарма золото кому-то давали...» Дней десять спустя, когда уже в сумерках возвращался он из части к себе, кто-то вышел из-за обширного ствола голой чинары и тронул Скирдюка за локоть. Даже не оборачиваясь, он догадался: «Ромка... Значит, не для себя он документы взял!» — Только два слова, — тихо произнес пианист и увлек Скирдюка в сторону, к глухой стене станционного склада. — Давай лучше ко мне зайдем, — неуверенно предложил Скирдюк. Непонятная тоска охватила его. — Сюда, сюда, — требовательно произнес Роман, — запомни: ты меня не знаешь, так же как и твоя подружка, которая меня тогда утром видела. Надеюсь, ума у тебя хватило, не говорить ей, кто я есть? — Она и не спрашивала про тебя никогда, — возразил Скирдюк, хотя и не был убежден в этом. Вспомнилось, что и на Протопопову Роман, кажется, произвел впечатление, хотя едва ли удостоил ее хоть словом. Да, да! Она же пожаловалась, встретившись со Скирдюком около рынка: «Передай своим ташкентским друзьям, что надо быть более вежливыми. Ворвался, я в таком беспомощном виде, а он, нахал, даже не извинился. Сидит себе, глаза за очками прячет и ухмыляется как кот. Я сама вынуждена была попросить его, чтоб вышел, пока оденусь... — и тут же с несомненной заинтересованностью: — Он что, со всеми женщинами такой?..» — Гляди! — в голосе Романа появилась угроза. — Бабские языки страшнее пистолетов. Об этом и речь сейчас, — он заглянул за угол склада, убедился, что и там пусто, и повернул Скирдюка к себе лицом. — В общем, Степа, теперь я влип окончательно. — Он зашептал хрипло: — Твоя очередь выручать. Короче: надо было мне какое-то время под чужим именем пожить. Подробности тебе не нужны. Важно, чтоб понял: меня могут попутать, тут одна вдруг встретилась. Я уже и забыл, где, откуда ее знаю, а она, оказывается, помнит, что я — Рома, а не Назар. И всё! — Так выходит... Ты документы для себя брал?! — Язык у Скирдюка заплетался. — Да, да! — сердито прервал Роман. — Догадался наконец, умница! И никогда об этом не вспоминай! Давай — о деле. Зовут ее Нелька — Наиля, значит. Фамилия Гатиуллина. От тебя требуется немногое: познакомиться с ней, адрес я узнал. Набережный поселок, барак 17, квартира 4. У тебя все это получится легко. На Зиночке убедился. — Ей-богу, не могу я больше... На что это все тебе, Рома? — После узнаешь. Я же не требую, чтобы ты мне выкладывал про все свои шахеры-махеры. Сказал: нужно золото, мне этого было достаточно. — Зачем еще эта Нелька тебе? — Слушай и не перебивай. Подобьешь ее на мелкую кражу. Пусть вынесет из лаборатории, где работает, что угодно, хоть лампочек пару. Важно, чтоб ее застукали на проходной. И все. Понял? — Угу. Все понял я, Рома, — Скирдюк дал наконец прорваться раздражению против этого интеллигентика, пижона. Какого черта командует он опять? Ну, дал золото, так не задарма же? Может, он шкуру свою, благодаря тем бумагам, спас! Они в расчете. И Скирдюк, сам от себя того не ожидая, толкнул пианиста в грудь. — Гуляй, Рома! Я тебе ничего не должен. Хватит! Роман вновь бросил быстрый взгляд по сторонам и за лацканы шинели привлек к себе Скирдюка. — Ошибаешься, мальчик, — просвистел он в лицо старшине, — мы с тобой сейчас одной веревочкой связаны. Прочно. Не разорвать. А рыпнешься — пиши завещание. — Не пугай, я пуганый, — все еще храбрился Скирдюк, но Роман зло прервал его: — Хватит! Мне достаточно дунуть чуть-чуть, и прокуратура от тебя мокрого места не оставит. Скирдюк горестно усмехнулся: — Так неужели ж ты, друг, даже и на такую подлость способный? — А ты что — лучше? — раздраженно возразил Роман. — Ты горел, я спасал тебя. Один бог знает, чего это стоило мне. А теперь ты не можешь пустяка для меня сделать — какую-то дуру на время с моего пути убрать. — Убивать ее я должен, что ли? — Скирдюк ухмыльнулся. — Не хохми зря. Никто от тебя ничего такого не требует. Достаточно толкнуть ее на то, чтоб вынесла что-нибудь. Пусть хоть пустяк какой-то: провода моток, банку краски... Охрана у них мощная, застукают. И — достаточно. Пусть хоть на время задержат ее. Хоть на двое суток. Меня и это устроит. Вот и все. А ты сразу в бутылкулезешь. Скирдюк все еще сомневался. — Как же это ваши с ней дорожки скрестились, Рома? — Все-таки, Степа, ты туповат, извини меня, конечно. Зачем тебе это знать? Сделай то, о чем я прошу — и мы в расчете. И помни: осталось только поднести ко мне спичку, и я вспыхну ясным пламенем. Три дня сроку тебе. Я пошел.
Обитателей не было видно. Праздный люд здесь не проживал. Кто отдыхал сейчас, после ночной, кто был на работе в цехах. Он без труда отыскал барак, в котором жила Наиля. Комната ее была заперта на внутренний замок. Он убедился в этом, когда, походя, с силой толкнул дверь. Уже темнело, но свет в окне все не появлялся. Наиля, очевидно, была на работе. План Скирдюк составил нехитрый для того, чтобы познакомиться с Наилей. Тут могла безотказно сработать незамысловатая болтовня, приветливая улыбка, шуточка: «У вас четвертая квартира?» — «Да, а что?» — «Да ничего страшного, не пугайтесь. Приятно, что здесь такая симпатичная хозяечка». — «Чего вы хотите?» — «Скрывать не буду: поговорить с вами хочется. А вообще-то я пришел по этому адресу потому, что мне его в эвакопункте дали, в Ташкенте. Сказали, что здесь моя родня эвакуированная поселилась. Выходит, ошиблись они. (Вздох и опять — улыбка). А я все едино — довольный, ей богу! Так может, пу́стите, побалакаем? Я, между прочим, и захватил кой-чего (выразительный взгляд на портфель...). Трудно сказать, попалась бы на эту удочку Наиля или нет, но, бродя среди мазанок, Скирдюк начал узнавать эти места и вспомнил все-таки, что, оказывается, был уже здесь. Со знакомым летчиком заходили к какой-то Клаве. У нее еще ребеночек маленький был, возможно, от того веселого пилота. Орал пацан как оглашенный, пока они тут водку пили. Как же звали ту соседку? Дай бог памяти... Да, точно — Клава! Скирдюк ткнулся в одну квартиру, в другую, и в самом деле ему указали Клавину дверь. Он постучался и обнаружил именно ту самую Клаву с уже изрядно подросшим Витькой на руках. Соврал с ходу: давно, мол, нравится татарочка, которая рядом проживает. Будь другом, Клавочка, познакомь... И вскоре все они, не исключая хнычущего Витьку, уже сидели в узкой комнате Наили у подоконника, заменявшего стол. Наиля только вернулась со смены, однако визит кареглазого приятного старшины заставил ее забыть об усталости. Она проворно растопила печурку, согрела чайник и затируху — похлебку, заправленную мукой и хлопковым маслом, которую принесла с собой из рабочей столовки. Несколько торжественно добавил к этому Скирдюк и своих, как он выразился, гостинцев: изрядный кусок докторской колбасы, банку говяжьей тушенки, пару французских булок и бутылку красного вина. Наиля оробела, в светлых глазах ее, прикрытых длинными редкими ресницами, появился откровенный испуг. Она, несомненно, почувствовала во всем этом какую-то неправедность, хотя Клава, выбирая минутку, то и дело горячо шептала ей на ухо, что старшина давно издалека влюбился в нее да все не решался прийти. Однако не только вино и нежданно богатое угощение, но и сам Степан, внимательный («А вы вот, Нелечка, попробуйте, я для вас тушенку чуть на ножичке подогрел. Вкусней же, правда?»), веселый (он так и сыпал анекдотами один другого смешней и довел Клаву, раскрасневшуюся от вина и закуски, до икоты), конечно же, тоже понравился ей, отвыкшей от общества мужчин. Витька, верный себе, ожег палец о горячий бок чайника и разорался так, что Клава, шлепая его на ходу, вынуждена была к великому огорчению своему удалиться к себе. На пороге, продолжая корить Витьку, она обернулась, еще раз бросила на старшину заинтересованный взгляд и, вздохнув, ушла. Скирдюк переменил тон. Он погрустнел и, хотя Наиля не проявляла любопытства к его прошлому, начал рассказывать о своей незадавшейся жизни, о своих «батьках», которые до сих пор остаются там, под немцами, там же — и любимая девушка, которая, разумеется, изменила ему и вышла замуж едва ли не за какого-то полицая. Он же, безутешный, все не найдет себе никого по душе. «Чтоб хотелось все сердце открыть. От как все равно с вами теперь...» Наиля откликалась вяло. Она уже не в силах была преодолевать усталость. Глаза у нее слипались, и Скирдюк начал прощаться. Уходя, он «забыл» за плитой кулек с пряниками и конфетами, а на вешалке оставил планшетку с пустыми бланками накладных. Он явился якобы за этой планшеткой на следующий день, едва Наиля вернулась домой. «Вы извините, конечно...» Но она сама тут же отдала ему планшетку и кулек, хотя он совал ей его обратно до той поры, пока конфеты не рассыпались. Смеясь, они начали их подбирать, Скирдюк коснулся будто ненароком легких рассыпавшихся волос Наили и поправил их. Она резко отстранилась. — Не надо, — Наиля мельком бросила взгляд на свое отражение в зеркале, висевшем над постелью, — вы думаете, я не знаю, что у вас девушки покрасивей, чем я. «Порасспрашивала, конечно. Понарассказывали ей проклятые бабы про меня, чего было, чего не было...» Умышленно, разумеется, засиделся он до комендантского часа. — Как же вы теперь будете? — испуганно спросила Наиля. Она выпила вместе с ним немного водки, ей надо было идти в дневную смену, могла отдохнуть подольше, однако, хотя и смеялась шуткам и побасенкам старшины, оставалась по-прежнему неприступна, едва он сделал шаг к сближению. Скирдюк понимал ее опасения. — Да постелите мне хоть на полу, — с наигранной беспечностью произнес он. Пол был земляной. Уложить на нем сейчас, в сырую пору, человека было бы жестоко. Наиля быстро расстелила простыни, взбила подушки и указала на кровать: — Ложитесь. — А вы, Нелечка, что же: сидеть будете всю ночь, на меня глядеть будете? — он глуповато хохотнул. Наиля пожала худенькими плечами. — Зачем так? К подруге пойду. Подруга как я сама будет — маленькая. Вдвоем как раз поместимся. Он чувствовал: это — не игра и не решился настаивать. Наиля ушла. Он лежал и в тусклом свете похожей на грушу лампочки осматривал убогое жилище этой девушки, оказавшейся на пути у него, по причинам, о которых ему и думать-то не хотелось сейчас. Однако так или иначе он искал решения. Знал: окаянный Ромка не отстанет! И тут взгляд Скирдюка упал на две, тоже грушевидные, связанные обрывком провода лампочки, которые висели на гвоздике справа от двери. На табуретке лежала холщовая сумка, с которой Наиля ходила на работу. Какое-то мгновение он колебался, потом быстро вскочил, снял лампочки с гвоздя и сунул их в сумку, под синий халат и матерчатые туфли, которые Наиля, очевидно, надевала в цехе. Погасил свет и закрыл глаза.
Вечером он пришел в поселок пешком, стараясь не привлекать ничье внимание, встал, покуривая, за трансформаторной будкой как раз напротив барака, в котором жила Наиля. Противоречивые чувства как и прежде терзали старшину Степана Скирдюка. Он совершил подлость, из-за которой по строгим законам военного времени эту и без того, как он понимал, не очень счастливую девушку могли даже осудить. «Много ей не дадут, — утешал он себя, — год принудиловки, не больше. Зато арестуют. Оно и довольно, чтоб тот, скаженный, от меня отстал...» Темнело рано, глиняный поселок не освещался, и работницы, опасаясь хулиганов, возвращались все вместе — ватагой. Они прошли, и вскоре замерцали желтоватым светом оконца. У Наили было темно. Скирдюк подождал еще немного, пробормотал заковыристое ругательство, сам не понимая, кому предназначенное, и с некоторым чувством облегчения (дело все же сделано) вышел в переулок. И вдруг столкнулся с Наилей. Деваться было некуда. — Нелечка, — оторопев произнес Скирдюк, — я ж вас жду, жду... Чего это с вами? Она не могла попасть ключом в скважину. — Давайте я... Наиля вошла в комнату, обессиленно опустилась на табурет и закрыла лицо руками. Плечи ее мелко тряслись. Скирдюк присел рядышком, осторожно обнял ее, погладил легкие волосы. — Нельзя так убиваться, Нелечка, чего б там ни случилось у вас. Может, попьем чайку, а? Я как раз и согрею. Он быстро наколол узбекским топориком-тешой щепки, растопил печку, поставил чайник, а на стол — снедь, которая, благо, всегда была у него в портфеле. Нашлась там и бутылка сладкого вина. — Живем, Нелич! — воскликнул он тем приподнятым голосом, в котором все же угадывалась фальшь. — Я тут «доппель-кюммелем» разжился. Еще довоенный. Гляди. Тебе такое пробовать доводилось? — Мне все равно, — бесстрастно откликнулась наконец Наиля, — ничего мне не надо. — Может, закуришь? — Дайте. Она глубоко затянулась несколько раз подряд. Скирдюк возился с чаем, мучительно пытаясь сообразить, что же с ней произошло? То, что ее задержали на проходной, несомненно. Но почему же отпустили? Может, подписку взяли, что явится к следователю? Или поручился за нее кто? Между тем надо было как-то успокоить ее и разговорить, чтоб узнать, что же с ней случилось? Есть Наиля отказывалась, пить вино — тоже, хотя Скирдюк изощрялся как только мог, уламывая ее, даже на одно колено встал перед ней. — Не надо, — Наиля сделала вялое движение рукой, показывая, чтоб он не дурачился. Ей было явно не до того. Он молчал, обескураженный ее непреклонностью, но понимал, что уйти от нее, так и не узнав главного, нельзя. Взгляд его упал на портфель, который он оставил на табурете раскрытым. В темном зеве портфеля белела книжица, которую сунул ему недавно на базаре какой-то человек в потрепанной одежде. Он заметил, как Скирдюк достал «Беломор», и несмело попросил у него закурить. Старшине почему-то стало жаль этого выбитого, очевидно, из жизненной колеи интеллигента с покрытым седоватой щетиной умным лицом, и он отдал ему все, что еще оставалось в пачке: с десяток папирос. — Даром у вас взять не могу. Ни в коем случае! — решительно произнес интеллигент, не то — состарившийся учитель, не то — адвокат, и сунул упирающемуся и смеющемуся Скирдюку небрежно обрезанную старую книжицу. — Вы не обращайте внимания на внешний вид. Прочтите. Не пожалеете. Сентиментально, правда, но классика есть классика! — Законная вещь, — сказал сейчас Скирдюк Наиле, — я начал читать — не оторвешься, ей-богу. Она оставалась все так же равнодушна, однако Скирдюк стал читать. Постепенно Наиля начала поднимать на него насупленный взгляд. Лоб ее был сморщен, лицо подурнело, однако история несчастливой аристократки госпожи Моро и ее юного возлюбленного Эмиля, прелесть тайных свиданий, зов любви, той, что сильнее смерти, тронули и ее, тем более, что читал Скирдюк в самом деле неплохо, невзирая на странное для ее слуха украинское произношение. Он читал допоздна, и Наиля не прерывала его. Только однажды она попросила снова папиросу, а Скирдюк воспользовался этим и сунул в ее пальцы стакан с доппель-кюммелем, густым, сладким и дурманящим. Она выпила залпом и задохнулась. — Закуси, — Скирдюк подал ей конфету. Она отрицательно помотала головой. — Читай, что там дальше было. Он перевернул последнюю страницу и тоже умолк, переживая драму чужой любви. — Ну и ну! — воскликнул он какое-то время спустя, словно бы спохватившись. — Мне ж теперь опять выйти с дома никак нельзя: комендатура сцапает живо. Не отвечая, не глядя на него, Наиля расстилала постель. — Ты к соседке? — спросил он, все еще не надеясь. По-прежнему молча, Наиля щелкнула выключателем. Он не видел ее в потемках, но безошибочно угадывал каждое движение. И когда, раздевшись, Наиля юркнула под одеяло, Скирдюк, волнуясь так, будто происходило с ним это впервые, начал поспешно стаскивать сапоги.
Проснулся он всего лишь часа два спустя. Занимался серый рассвет. Наиля спала, отвернувшись от него, сжавшись в комок, почти упираясь лбом в пупырчатую вымазанную известкой стену. Скирдюк смотрел на ключ, торчавший в дверной скважине. Подняться, одеться, потихоньку выйти и запереть ее снаружи... Ей — в утреннюю смену, она упомянула об этом вчера. Потому и просила не засиживаться, а затем все-таки... Эх, все женщины одинаковы. Хотя... Эта уже в объятиях у него все будто еще боролась с собой. Как Галя всегда. Вот эти обе и впрямь одним миром мазаны. Надо же, чтоб такое совпадение... Он оделся, взялся рукой за ключ, вытащил его из скважины. Наиля была неподвижна по-прежнему. Он знал, что снаружи окно прочно забито гвоздями. Вылезти она не сможет. Будет стучать, звать, по пока обратят внимание, пока придут... Опоздание обеспечено, а за двадцать минут — под суд. Вряд ли простят ей подряд два проступка. Он уже знал (Наиля рассказала все же ему и об этом), что лампочки в ее сумке обнаружили. Какая-то внимательная работница заметила, когда Наиля переодевалась, провод, который Наиля, испугавшись и не понимая, как мог он оказаться вместе с лампочками в ее сумке, стала поспешно заталкивать обратно. — А ну, девка, показывай, что ты там прячешь, — потребовала эта суровая женщина, у которой муж недавно погиб на войне, и сама вытащила связанные проводом лампочки. Ее повели к начальнику лаборатории, где она начала работать недавно. Наиля была в ужасе. Она клялась, что понятия не имеет, как оказались эти лампочки в сумке. Купила их она еще год назад на толчке и держала про запас у себя в комнате на гвоздике, на стенке... Правда, в тот день она убиралась, помнит, стерла пыль с этих проклятых лампочек. Так, может, после этого она, сама не замечая как, сунула их в сумку? Сумка всегда стоит на табуретке, как раз под этими лампочками... Благо, ни в лаборатории, ни на складе таких маломощных лампочек, как эти, не оказалось. Но важней было то, что Наиля была способной лаборанткой. Начальнику, лысому, замученному работой доктору наук, не хотелось лишаться ее. Он покричал на Наилю, хлопнул слабой ладонью по столу, предупредил, что если повторится подобное, пощады ей не будет, и Наиля, сгорая от стыда и обиды еще более жгучей, потому что сама-то она знала, что не повинна ни в чем, а другие в это не верили, провожаемая насмешливым и презрительным взглядом бдительной солдатки, изобличившей ее, ушла в аппаратную. — Бывает, — сказал Скирдюк, узнав наконец о том, что же произошло с Наилей, — мне вот раз сам начальник штаба дал закурить из своего портсигара, — непринужденно продолжал он, — а я, может, растерялся, что начальство со мной вот так запанибрата, а может, одурел на минуту, только засунул тот портсигар к себе в карман. Начальник показывает мне пальцем: обратно отдавай, а я и не пойму, в чем дело, чего это командиры вокруг регочут?.. Слава богу, она его ни в чем не заподозрила. Однако теперь, если он запрёт Наилю у нее в доме, она поймет, конечно, что это он, подлец, и лампочки подложил ей в сумку тоже. Никто иной, как он. Стыдно... Ну да ляд с ней. Больше им в жизни не встречаться. Однако он все стоял по-прежнему с ключом в руке и не уходил из каморки, где, свернувшись под одеялом калачиком, спала Наиля. Он думал снова о том, каким образом могла оказаться эта серенькая женщина на пути у пианиста Романа Богомольного. У человека, который принадлежит к совершенно иному миру, недоступному ей? Впрочем, теперь он уже не Роман и не Богомольный. Он — Назар Зурабов, уволенный по ранению младший лейтенант. Сам же признался, что документы он заполучил для себя. И вновь оказался Скирдюк в неведении и тревоге. Мучило это сейчас его еще больше. Открыть тайну могла только Наиля. Она спала, дорожа, как привыкла, каждой минутой недолгого отдыха. Он еще раз взглянул на нее, вставил ключ обратно в скважину и вышел, стараясь не скрипнуть дверью.
День он провел как в тумане, отвесил Климкевичу овсяную крупу вместо риса, и повар, чувствуя, как неуверен нынче старшина, осмелел и ругнулся. Скирдюк не придал этому значения. Он не уходил к себе, на квартиру, валялся на незастеленном топчане тут же, в кладовой, и к вечеру созрело решение: увести Ромку под любым предлогом на пустынную речную излучину и пристрелить. Он знал простой способ: если стрелять через карман шинели, прижав дуло нагана к боку противника, звук почти не будет слышен. Да! Только так — и сразу избавление для всех, для Нельки — тоже. Ей-то за что страдать. Однако лишний раз убедился старшина Скирдюк, что далеко не лыком шит пианист из ресторана «Фергана».
Убивать Скирдюку уже приходилось. Где-то под Ковелем, когда беспорядочно отступали, неистовый комиссар Рамазанов сколотил из бредущих в одиночку и группами по лесам и болотам военных, не считаясь с чинами, званиями и воинскими специальностями, подобие батальона, приказал занять оборону по топкому берегу речушки Турьи, остановил-таки ненадолго немцев, а затем дважды поднимал своих в отчаянные контратаки. Вот тогда-то, словно во сне, вскакивал вместе со всеми по хриплой команде Рамазанова и Скирдюк, бежал вперед, ничего не видя перед собой, замечая только, как падают и падают товарищи, утыкал штык во что-то мягкое, податливое, стрелял в кого-то, чье лицо вспомнить потом не мог, сколько ни силился. Теперь же он наперед знал, как выглядит тот, кого предстоит убить, видел, едва прикрывал глаза, раздражавшую усмешечку на холеном лице, и оказалось, что в этом случае убивать куда трудней... На усеянный гладкими мелкими камнями берег стекающей с гор речки Роман пошел со Скирдюком не возражая, хотя и был зол из-за того, что Наиля по-прежнему на работе и арест ей не грозит. Скирдюк и не пытался обманывать Романа. Он уже усвоил, что «клятый одессит скрозь стену бачит». Чувствуя себя до крайности жалким и ничтожным, начал Скирдюк плести что-то об упрямстве Наили, о том, что, если бы он даже и запер ее в комнате, она, «скаженная», выбила бы стекла и через окошко вылезла бы, чтоб только попасть вовремя на смену. — Так, так, — кисло заключил Роман, выслушав его, — тебя, мой друг преданный, я выручал с бо́льшим энтуазизмом. Он умышленно произнес неправильно: «с энтуазизмом», и Скирдюк все же ощутил издевку; он крепче сжал рукоятку нагана, который оттягивал ему карман. Роман шел медленно всего в двух шагах впереди и остановился так резко, что Скирдюк едва не натолкнулся на него. — Одного младшего лейтенанта она не вспоминала? — спросил Роман. — Не его самого я имею в виду, а имя. Ты понимаешь, конечно, о ком я спрашиваю? Может, интересовалась, как в таких случаях, если возникло подозрение, поступают? — Ни про что такое даже близко разговору не было, — ответил Скирдюк. — А ты бы сам навел ее на этот разговор, как я тебя учил. Мне же важно: волнует ее или нет, что я под другим именем ей встретился. «Какого беса я тебе подчиняться должен?» — хотелось спросить Скирдюку, но вместо этого он только вздохнул. Вокруг было очень тихо. Обмелевший поток не шумел. Вода на ближнем перекате журчала почти неслышно. Коротко вскрикнул маневровый паровоз. На станции блуждали огоньки: ремонтники и смазчики бродили между составами, осматривая буксы. Ветер донес запах топочной гари, смешанной с ночной сыростью. — Погодь, Рома, — хрипло выдавил из себя Скирдюк, — два слова скажу. «Сейчас», — решился он и тут же ощутил на своем запястье сильные пальцы. Он и предположить не мог, что у пианиста такая железная хватка. — Что это, Степа, с тобой? — вкрадчиво спросил Роман. — Палец на курке держишь? Боишься? Так не бойся: мы же вдвоем. Скирдюк забормотал что-то невразумительное, гоготнул по-дурному. — Привычка у меня, Рома, такая. Был случай, прихватили меня сразу трое блатных в похожем на это месте. Чуть ушел живой. С того часа так и хожу, когда стемнеет. Оно спокойнее. — Угу, — Роман резким движением вывернул ему ладонь, отобрал наган, взвесил его на руке, сунул обратно в кобуру, которая была пристегнута к ремню старшины, щелкнул кнопкой. — Тютя! Кого ты решил на ширмачка прихватить? — Он вдруг, как это водилось у него, приблизился к самому лицу Скирдюка, едва не касаясь его губами, и произнес тихо и внятно: — Меня беречь надо, понимаешь? Беречь, если сам дышать хочешь. И если хочешь, чтоб там, в Володарке, твои дышали. Учти: каждый шаг твой теперь известен. — Кому? — глупо спросил Скирдюк. — Господу богу. Считай, пока что — ему, — ответил хмыкнув Роман. И продолжил размеренно: — В ночь под Новый год (запомнить легко) я буду ждать тебя возле багажного склада в половине пятого, как раз, когда на рабочий поезд собираться начинают. Ты меня поздравишь с 1943-им и сообщишь приятную новость: девчонка крепко спит. — Не пойму я чего-то, Рома. — Конечно. Сейчас ты стал туповат. У тебя только хватает ума, чтоб сообразить, где кусок сала плохо лежит. — Он прошептал прямо в ухо Скирдюку: — Возьмешь снотворного у своей медсестрички. Пусть не пожалеет для любимого. Порошков шесть, не меньше. Как хочешь, но заставь Нельку выпить: обманом, силой — как удастся. Пусть заснет покрепче. — Так она ж может и совсем?.. — Да, — жестко подтвердил Роман, — и моли бога, чтоб случилось именно так! Тогда делу конец. А иначе — мы все... Ты — в первую очередь. И жинка твоя с Миколкой твоим... — Они ж далеко... — пытался возразить отвердевшими губами Скирдюк. — Ничего. У бога рука длинная. И туда достанет. — Неужто всё — через те документы Назаркины? Я так и чуял. — Умнеешь. — Рома! — он почти взмолился. — А потом — отпустишь? — Кому ты нужен. Слизняк! — Роман брезгливо отер пальцы. — Иди, иди. И не оглядывайся. Я не заблужусь. И не испугаюсь один.
Он мог бы еще пожертвовать по крайности собой. Но этот «клятый» даже имя Миколкино знает! Скирдюк еще до войны слышал о жестоких законах, которые царят в среде валютчиков. Никем другим он Романа считать пока не желал, хотя понять не мог, что понадобилось темному дельцу здесь, в поселке? И каким образом может быть связана с долларами и николаевскими червонцами бедная Наиля? «Ляд с ним» — Скирдюк махнул рукой. Новый год — хороший повод, чтоб провести с Наилей всю ночь. А ночь та — длинная. Худо только, что Зина Зурабова уже заручилась его согласием встречать Новый год у нее с ее друзьями. («Лучшие парни и девчонки в поселке. Ты сам убедишься»). Она хотела представить им Степана, своего жениха; не сомневалась, что все уже идет к этому. Скирдюк ей понравился сразу, к тому же и мать, Полина Григорьевна, и даже отец, ревниво относившийся к зининым поклонникам, кажется, благоволил к нему. «Голова у него на плечах есть, — одобрительно говаривал Мамед Гусейнович, — а самое главное — отвоевался уже». В тот роковой день удача в делах сама пошла Скирдюку навстречу: сахар, который Алиев привез на бричке издалека, изрядно отсырел в долгом пути. Можно было сэкономить на выдаче килограмма три — выгода немалая, и Скирдюк вновь начал поневоле набрасывать несбыточные планы: сколотить бы потихоньку запасец продуктов, толкнуть их на черном рынке через барыг и рассчитаться с уже ненавистным Романом. Но сколько времени потребуется для этого? А самое главное — никаким золотом самой высокой пробы от Ромки не откупишься. Это он уже осознал. Последними словами ругал он себя за нерешительность. «Надо было, не долго думая, пулю ему в бок, и точка! Так нет: ждал чего-то, дурень, и дождался, пока он, собака, почуял...» Он сидел один, занавесив плотно окошко, и тут пришло решение, поразившее своей простотой: самого себя покарать надо, тогда сразу всему — конец. Скирдюк положил наган около бутылки, которую открыл давно: однако водка не шла. Поднял наган и поднес к виску. Хмель нынче Скирдюка тоже не брал, и он поежился, ощутив прохладный упор ствола в пульсирующую жилку. Вспомнилось, командиры рассказывали как-то на маневрах за обедом про «дуэль с судьбой». Была когда-то у одичавших от тоски царских офицеров в Кушке такая смертельная забава, а может — и способ разрешения споров. Через силу выпил Скирдюк еще полстакана, оставил в барабане два патрона, остальные высыпал на стол и они скатились в водочную лужицу. Потом, зажмурившись, быстро выцарапал еще один патрон, с остервенением провернул несколько раз барабан и, по-прежнему не в силах открыть глаза, держа револьвер все же на некотором расстоянии от головы, нажал на спуск. Боек, ткнувшись в пустое гнездо, слабо щелкнул. Скирдюк уронил голову, свесил руки; правую оттягивал наган, готовый упасть на пол. Вдруг он вскрикнул сдавленно, как в кошмарном сне: звонко ударило и задребезжало над самым ухом. Он вскочил, затравленно озираясь. Кто-то стучался в окно. Это была Тамара, девчонка-ремесленница из общежития напротив. Попросил он как-то ее, чтоб убралась у него в комнатушке, полы помыла, окно. Она и начала приходить раз-два в неделю. Платил ей то буханкой хлеба, то горстью конфет. Она отказывалась, но потом все же брала. Казалось, симпатизирует она ему, но когда однажды (выпил) попытался обнять ее, вскинулась, что твоя кошка; чуть всю физиономию ему не исцарапала. После этого долго не появлялась, пока сам он не позвал: «Не дуйся, Тома, заходи как-нибудь, а то у меня уже и табуретки до полу поприлипали». Пришла, навела порядок, поворчала на мужскую леность и неаккуратность. Выгребла сор, бутылки. Проветрила одеяло, подушки. Поужинали вместе, но он не посмел прикоснуться к ней. И вот теперь, когда он на грани, почуяла сердцем, прибежала. — Степан Онуфриевич! Что это с вами? — спрашивала в форточку Тамара. — Гуляй, Тома, гуляй, — бросил ей, не приподнимаясь, Скирдюк. — Откройте, Степан Онуфриевич, хоть на минуточку, — не отступала она, — сказать что-то надо. Он посмотрел на наган в своей руке и вдруг понял, что ему страшно оставаться снова наедине с ним.
В новогодний вечер Наиля возвращалась со смены около одиннадцати. Скирдюк загодя пришел к баракам. В бумажнике у него было спрятано шесть белых порошков. Надя вынесла ему их со всхлипываниями. «Я умоляю тебя, принимай по одному, не больше...» «Не мне это, — оборвал ее Скирдюк, — знакомый один просит, безногий. Спать не может по ночам, а доктора гулять его заставляют перед сном. На одной ноге...» Скирдюк бродил вокруг темного осевшего здания, топая ногами по земле, уже затвердевшей от морозца и присыпанной редким снежком. Он беспрестанно курил и прятался за деревьями, хотя ничего предосудительного в том, что человек пришел к своей знакомой, не было. Да и поздний час под Новый год не в счет. Наиля не появлялась, и это усугубляло беспокойство Скирдюка. Он решил твердо, что нынче усыпит ее. «Ничего страшного с ней не станет, — успокаивал он себя. — Ну, проспит сутки, а может — больше. В общем, прогул ей обеспечен. За это, конечно, суд, ну, пострадает, конечно, ни за что, зато Ромка отцепится, век бы его не видать!» Холод пробирал Скирдюка. Он достал четвертинку, зашел за угол и хлебнул из горлышка. Бутылку спрятал в карман, но потом еще несколько раз прикладывался к ней, потому что Наиля все не шла. Мучило и воспоминание о том, что его ждут в большом доме Зурабовых, где давно накрыт стол и Зинка, наверное, извелась, прислушиваясь к каждому шагу в переулке. Когда стрелки на светящемся циферблате сошлись на двенадцати, старшина Скирдюк допил четвертинку, закусил куском колбасы и подумал, что в феврале ему исполнится двадцать восемь. Исполнится ли?.. Светилось окно у Клавы Суконщиковой. То ли встречала Новый год с кем-то из ненадежных дружков, а скорее всего — капризничал Витька. Скирдюк совсем продрог, невзирая на то, что выпил изрядно. Он уже подумывал, не попроситься ли на полчасика к Клаве в квартиру — погреться у печки, когда в конце переулка послышались высокие голоса. Женщины, невидимые в темноте, приближались сюда. Наиля подошла к своей двери и вставила в скважину ключ. Он подождал, пока она зажжет свет. Гибкая тень скользнула по занавеске. Он осторожно постучался в стекло.
Она обрадовалась ему, впервые за все время их недолгого знакомства. Словно не чувствуя усталости после работы, присев на корточки, она быстро наколола щепки, бросила их в топку, зажгла, положила поверх кучу углей, и вскоре конфорки на чугунной плите заалели. Отогревшись, Скирдюк почувствовал, что выпил он, оказывается, изрядно, пока дожидался Наилю на улице. Он болтал без умолку, похвалялся силой и отвагой. «Да я ж того одесского пижона как ту самую гниду...» — Про кого это ты, Степан? — спросила, скосив на него блестящие в отсвете пламени глаза, Наиля. Он спохватился все-таки: — Так... Фраерок тут один ко мне по дороге прицепился. Ты на это внимания не обращай, — он попытался привлечь к себе Наилю, но она выскользнула и попросила: — Больше не пей, Степан. Не надо, понимаешь? Мне даже страшно становится. Он упрямился. — Как это — не выпить? Под Новый год — всухую? Не-е... Мы с тобой, Нелечка, оба-два — души неприкаянные. Сам господь повелел нам, чтобы одна к другой тянулись, значится. Чтоб вместе то есть. Ты и я, — и он запел пронзительно, хотя и чистым голосом куплеты, подхваченные все в том же ресторане «Фергана»:
Налей же рюмку, Роза,
Мне с мороза,
Ведь за столом сегодня —
Ты да я...
Он побрел к дому Зурабовых, сам не понимая зачем. Наверное, потому, что так было решено изначально. В сравнении с карой, которая грозила не только ему, но и Гале с Миколкой, нынешняя обида Зины и впрямь была пустяком. Лишь свернув в знакомый тупичок, присыпанный свежим снежком, на котором четко отпечатывались следы его сапог, догадался Скирдюк, что́ влечет его сюда: последняя надежда, опять — Мамед Гусейнович. Именно он, а не Зина (она, заплаканная, злая, убежала к себе), открыл дверь Скирдюку. — Ну, — сердито спросил он, раздувая заросшие черными волосами ноздри, — зачем стоишь? Раз пришел — заходи уже. Скирдюк (он выпил еще и по пути) пьяненько ухмылялся: — Поставили дежурить по командирской столовой, там же гуляли сегодня. — Набрался ты тоже, я вижу, в этой столовой! Мог бы совсем не приходить. Не нуждаемся. — Ну что ж, когда так. Выходит, надо мне поворачивать оглобли. Конечно, поговорить с вами хотелось опять же... — Со мной говорить не надо! Ты бы перед Зиночкой извинился лучше, если ты такой культурный стал. А то она ждет, ждет его, а он под утро приходит и еще пьяный. Давайте Новый год теперь встречать! Да? — Аа-а... Значится, с Новым счастьем вас, дорогой Мамед Гусейнович. И супругу, конечно, и Зиночку, — Можешь и сам ей это сказать. Ты слышал: заходи в дом, говорят тебе! — свирепо крикнул Мамед Гусейнович. На столе в полумраке тускло поблескивали бутылки с темным вином, горкой возвышался на блюде салат: селедка под «шубой» из свеклы и огурчиков, политых обильно сметаной, была нетронута. Скирдюк присел и увидел прямо перед собой на высоком буфете часы. Была половина третьего. Похмельное безразличие властно пронзила мысль: Ромка будет ждать у товарного склада. Сердито сопя, Зурабов наполнил три бокала. — Доча! Ходи сюда, родная, — позвал он как-то жалобно, по-бабьи. Не сразу появилась Зина. Нос и губы у нее припухли более обычного, но на лице застыло деланное безразличие. — Ты не серчай только, Зинок, — произнес заплетающимся языком Скирдюк, — я там с командирским ужином завозился. — Они, командиры твои, случайно по-татарски не разговаривают? — спросила Зина, храня все то же невозмутимое выражение. — Ты что это, Зинок? Ну, ей-богу. Когда только поспевают бабы плести! — Ладно, — прервал Мамед Гусейнович, — раз уже сидишь с нами — выпьем. — Ну что, Степа, с Новым годом? — Зина обняла пальцами тонкую ножку бокала. — А мамаша что ж? — спросил Скирдюк. — Она тебе мамаша, как я — папаша. Пей! — Зурабов хмыкнул. — С Новым годом вас всех, — Скирдюк поднялся, пошатнувшись. — С наступившим, — холодно откликнулась Зина. — За здоровье общее, значит, и чтоб победа скорей была. — Ты за нее особенно сильно стараешься, — Мамед Гусейнович крякнул и отправил в рот изрядный кусок холодца. — Не хуже прочих! — резко бросил Скирдюк. — Хоть единого фрица, да все ж прибил, наверное. Когда б каждый так, война бы кончилась уже. — На что намекаешь? — Зурабов жевал колбасу. Желваки ходили на его смуглых скулах. — Мне пятьдесят один год. — Папа, Степа! Сегодня же праздник все-таки. — Зина вскочила, забежала Мамеду Гусейновичу за спину, обняла его. Он примирительно похлопал пальцами по ее руке. Скирдюк в какой-то миг пожалел о своей дерзости, но тут же решил с пьяной упрямой беспечностью: «Ну и хрен с ним, со всем!». — Папуля, — сказала Зина, — я у Степана кое-что спросить хочу. — Пусть будет так, — Зурабов тяжело поднялся и хлопнул ладонями по столу. Скирдюк, как ни был пьян, все же вздрогнул: «Чи не дозналась, что я те документы взял?» — Так где же ты все-таки задержался, Степа? — Зина смотрела сквозь него. — Я же сказал и папаше, и тебе: дежурил, — у него отлегло от сердца. — Ах, Степа, Степочка... В голосе ее звучали и сомнение, и жалость. Он уловил это и прильнул к ее теплому плечу. — Погано мне, Зинка. Ой, как погано. Запутался — дальше некуда. — Опять недостача? Ну ладно, не переживай так сильно. Я с папкой поговорю. Он добрый. Только с виду такой строгий. Кавказская натура. — Боюсь, не поможет тут никакой твой папка, Зинок. Наливай. — Хватит тебе, наверное. — Не-е... Тут, тут горит все, — Скирдюк стукнул кулаком в грудь. Он выпил, уронил голову на руки, сперва еще поддерживал ее ладонями, но вскоре лег щекой на скатерть. Зина не тревожила его. Сидела рядом, перебирая пальцами волосы Скирдюка. Видно было, что он борется с тяжким хмельным сном. То и дело поднимал он тяжелый взгляд на часы, на миг в его покрасневших глазах мелькала тревога, но тут же он впадал в забытье вновь. Ненадолго. Снова начинал возить лицом по скатерти, бормотал непонятное, вскрикивал сдавленно, будто чьи-то сильные пальцы сжимали ему горло: — Ну и ...с ним! Катился бы он ко всем... Не пойду никуда! Нет... Зина терпела непристойности, которыми перемежалась больная речь Скирдюка, однако, как она и предвидела, на пороге спальни появился Мамед Гусейнович. — Ты почему безобразничаешь? — вопросил он гневно. — Мой дом тебе пивная, да? — Не надо, папа, — жалобно попросила Зина, — он же не понимает сейчас ничего. — Зато ты хорошо понимаешь! — еще раздраженней вскричал Мамед Гусейнович. — Это же надо: моя дочка сидит, слушает такую грязь! А ну, марш к себе в комнату. — Он же упадет где-то по дороге, папа. — Никто его пока не выгоняет. Мы, слава богу, люди. Пусть ляжет на кушетку, спит себе. Скирдюк поднялся. Он смотрел не на Мамеда Гусейновича, а на часы. Взгляд его был по-прежнему мутен, но произнес он решительно: — Не останусь я. Пойду. Извиняйте, когда что не так. Зина подбежала и взяла его под руку. — Степа! — Тебе что было сказано? — накинулся на нее Мамед Гусейнович. Скирдюк вдруг поклонился, покачнувшись, в пояс. — Прощевайте, — произнес он глухо и вышел.
Начинался четвертый час первого дня 1943-го года. Небо над невидимыми горами было еще не тронуто синевой. Скирдюк прихрамывал более обычного. Он шел к станции, и путь его мог лежать через Набережный поселок, где жила Наиля Гатиуллина. И, снедаемый желанием вывести на чистую воду неверного жениха своей любимой дочери, следовал за ним Мамед Гусейнович Зурабов. Он не знал, в каком именно бараке проживает жалкая соперница, из-за которой тем не менее пролила нынче столько слез его Зина, однако не сомневался, что Скирдюк направляется к ней, и был удивлен, когда, миновав глиняный поселок, старшина, еще более замедлив неровный шаг, словно нехотя, повернул направо — вдоль насыпи к станции.
И в первый день Нового года утренний поезд должен был отправиться в Ташкент как обычно в половине пятого. В небольшом, едва ли шире обычной жилой комнаты, станционном зале сидели на двух скамьях спинами друг к другу мужчины и женщины в телогрейках, в грубой обуви. Почти все они дремали, используя минуты ожидания для отдыха перед трудным днем, хотя слышно было, кое-кто и переговаривался негромко. Обсуждали последние вести с фронтов и радовались, что немцев бьют теперь повсюду. Кто-то внушал своему товарищу: — В инструментальный зайдешь, спросишь Мирагзамова. Запомни: Мир-аг-за-мов. Скажи, что у тебя шестой разряд. Он тебя сразу на самостоятельную работу поставит. Значит, Мирагзамов. В выстуженном зале царил кислый запах карболки, отсыревшей известки, махорочного дыма, хотя никто здесь не курил, опасаясь милиционера, который то ходил вдоль колеи, то заглядывал в зал. Большинство пассажиров топталось на перроне, тоскливо вглядываясь в темноту, где одиноко светился красный глаз светофора, перечеркнутый реденькими нитями лениво сыплющегося снежка. Роман стоял поодаль, прижавшись к глухой стене склада. Там же, где и в прошлый раз. Он молчал, хотя и видел Скирдюка. — С Новым годом, так сказать, Рома, — произнес, упираясь ладонью в холодный кирпич, Скирдюк. — Ты, я вижу, хорошо его начал, — откликнулся Роман, глядя куда-то в глухое небо над станцией. — Ну, что скажешь? — Выпила, — Скирдюк облизал сухие губы и поклялся: — Ей-богу! Все... — Усе, — передразнил Роман украинское произношение Скирдюка и сжал его плечо. — Пошли тогда проведаем девочку. Время до поезда еще есть. — Какая такая нужда? — Скирдюк еще пытался возражать. — И потом — соседи увидеть могут. — Что увидят они? К вольной бабенке два мужика завернули. Да и дрыхнут все, наверное. Роман шел впереди, находя дорогу так уверенно, будто провел здесь всю жизнь. Скирдюк едва поспевал за ним. Дыхание близкой беды коснулось его. Он стал почти трезв. Миновав овраг, они поднялись к поселку. Не доходя до барака, Роман повернулся к Скирдюку: — Шагай, а я посмотрю, что там дальше будет. — А ежели она закрылась? Роман просвистел в самое ухо ему: — Вот ты, сучка, и проболтался! Она что же — воскресла, чтоб дверь за тобой запереть? — Кто его знает? Оно ж действует не тут же, — бормотал Скирдюк. — Пошел вперед, слякоть! — Роман ткнул его в бок. — Или я — сам... Только начну все-таки не с нее, а с тебя. Спотыкаясь, Скирдюк заспешил к двери. Наиля ждала его.
...Старшина Скирдюк откинулся, прислонившись затылком к стене. Он прикрыл глаза. Веки у него вздрагивали. — Что дальше было — говорить тяжко, — произнес он прерывисто. Ему недоставало дыхания. Даже Гарамов проникся на миг сочувствием и подал старшине стакан с водой. Зубы у Скирдюка стучали о край стакана, вода расплескивалась. — Спирт найдется? — спросил Демин. Гарамов взглянул на него в явном изумлении. — Есть немного, товарищ полковник. — Налейте ему. — Не-е, — Скирдюк отрицательно помотал головой. Однако спирт взял, опрокинул решительно в рот и долго не открывал глаза, зажмурившись. Не сразу поднял он тяжелый взгляд и остановил его на Коробове. — Дальше, гражданин капитан, наверное, получше меня уже знают. Когда бы не знали они уже всего — обманывать не буду, — я б и сам про другое не рассказал вам. — Он помолчал и добавил: — Ежели б я думал, как раньше, что Ромка тот клятый — просто себе валютчик или барыга какой. А он выходит — вражина, да еще какая. Спирт, видимо, подействовал, однако не так, как ожидал Демин. Скирдюк вдруг свалился с табурета на колени. — Прошу вас, люди добрые, застрелите, как собаку, только чтоб дома не знали! Кругом виноватый, кругом. Нема мне пощады. — Встать, Скирдюк! —велел Демин. — Мы — не трибунал. Суд решит, как наказать вас. А нас теперь другое интересует. Как была убита Гатиуллина? — Не могу я про это, не могу... — Помогите ему, товарищ капитан, — разрешил Демин. Сейчас, когда следствие завершилось, Коробов и сам чувствовал, что натянут как струна. — Скирдюк, — начал он, подавляя волнение, — вы вошли, как уже рассказывали, один. — Так, — Скирдюк обреченно кивнул. — Вы достали наган. — Не-е... Наган я держал в кармане. Хотел стрелять через шинель, чтоб она не заметила. Она подошла, обняла. А я опять не смог выстрелить. — И тогда вошел, будем называть его так, Роман Богомольный. — Так. — И выстрелил из своего оружия в Гатиуллину. Скирдюк откинул голову так резко, что ударился затылком о стену. — Нет, не так, — произнес он тихо. — Он в меня сперва метил. Оно и лучше было б, только она... Она на него кинулась и, выходит, что меня собой закрыла. Своим телом значит... Все трое приподнялись. — От так! — вскричал Скирдюк. — Видите, я какая падла? Порешить хотел женщину, а она же жизни своей за меня не пожалела! Ухватилась, сердешная, за плечо, я ее поддержал левой рукой, а правой наган достал и — в него, в собаку... Только не попал: Неля на руке так и висела. Пуля моя в дверь ударила, справа от него. А он еще раз жахнул. В меня хотел, конечно, а попал опять в нее. Она вот так, всеми пальцами рану закрывала. Тогда он выскочил. Когда ключ вытащить успел, я и не приметил. Только слышу, повернулся ключ в замке, и дверь, значит, он закрыл с улицы. Мне бы сразу — дверь выбить и за ним, догонять, только я надеялся, Неля еще живая. Понес ее на койку, а она уже и не дышит.

— Почему же вы не подпускали никого к бараку? — спросил Демин. — Растерялся я сильно, гражданин полковник. Себя не помнил. Все казалось, Неля поднимется. Как сон все равно... — он ерошил волосы так, что казалось, вот-вот рвать их начнёт. — Пусть отдохнет, — распорядился Демин и вызвал конвой.
И вновь отправился Коробов к начальнику лаборатории. Он был уже знаком с этим человеком, желтоватый цвет лица которого Коробов отнес за счет дурного влияния химических испарений. Теперь он понял, что человек этот попросту предельно устал. Смены менялись, а он, как выяснилось, зачастую и ночевал в лаборатории на топчане. О Наиле Гатиуллиной начальник отзывался наилучшим образом. Он даже не упомянул при первой беседе о неприятном случае с лампочками, найденными в ее сумке, и Коробов сейчас упрекнул его за это. — Постарайтесь не упускать ни единой подробности, — попросил он, — ни хорошего, ни плохого. Начальник, впрочем, без труда вспомнил, что совсем недавно, буквально на днях явился к нему младший лейтенант, он даже фамилию его хорошо запомнил — Зурабов и предъявил обычные документы военного представителя. Начальник поинтересовался, нет ли у младшего лейтенанта родичей в городе (фамилия Зурабов была у него на слуху), но младший лейтенант усмехнулся и сказал, что на Кавказе Зурабовых тысяч десять, не меньше. — С фамилией мне не очень повезло, — заметил в шутку младший лейтенант, показавшийся начальнику лаборатории человеком симпатичным и интеллигентным. Младший лейтенант должен был получить в лаборатории сведения для головного военного института о результатах давно начатых опытов. Работы эти в лаборатории затянулись и были закончены буквально вчера. — Нет худа без добра, — заметил по этому поводу младший лейтенант. — Представляю, как вас все время теребило начальство! А мне, если бы я вовремя прибыл, наверное, пришлось бы жениться здесь. Девчонки у вас, правда, неплохие, как я погляжу. — Вы еще не всех видели, — в тон ему ответил начальник лаборатории. Он словно чувствовал себя перед этим самоуверенным молодым представителем центра виноватым в том, что так замедлились опыты. — Похоже, вы даже обрадовались тому, что этот Зурабов так опоздал со своим визитом? — спросил Коробов. Самсон Рафаилович (Коробов не сразу запомнил это непривычное имя-отчество) опустил глаза. — У нас, товарищ капитан, не одна-единственная тема, — ответил он тихо, с достоинством, — и все — оборонные, и все — срочные. Штат по сравнению с довоенным урезан наполовину. Пришлось привлечь в качестве лаборантов мало-мальски толковых девчонок из цехов. Работали в три смены. Я вообще не выходил отсюда. Вон, видите, мой топчан? Но наука — дело строгое. С желаниями нашими считаться она не желает. Замочки свои открывает неохотно. Коробов кивнул согласно, взглянув еще раз на желтые веки Самсона Рафаиловича. — На чем же вы расстались с Зурабовым? — спросил он нетерпеливо, потому что это больше всего заботило его сейчас. — Получил он у вас какие-то сведения? Краска поднялась по широкой морщинистой шее Самсона Рафаиловича и постепенно залила все его лицо и даже лысину. — Что вы! — все так же негромко возразил он. — Разве я не понимаю, как следует в подобных случаях вести себя? Правда, я человек сугубо штатский, должность эту я занял только прошлой осенью, как раз в связи с изучаемой проблемой (до этого я двадцать два года проработал в университете, на кафедре неорганической химии). Но меня же неоднократно инструктировали и, кроме того, — сама логика вещей подсказывает... — Самсон Рафаилович, — Коробов вынужден был прервать его, — ответьте, пожалуйста, коротко и ясно: передали вы ему результаты ваших исследований или нет? — Нет, нет! Что вы... — С чем же и почему в таком случае он ушел? Я чувствую, вы чего-то не договариваете. Самсон Рафаилович поднялся и выглянул за дверь своей выгородки. В лаборатории десятка полтора сотрудников, главным образом — женщины ворожили над тиглями, толкли что-то в ступках, записывали показания приборов у муфельных печей и автоклавов. — Скажу, ничего не скрывая, — начал почти шепотом Самсон Рафаилович. — Да, вы правы: я сперва доверился этому младшему лейтенанту. Приятный молодой человек. Напомнил он мне одного из моих аспирантов. Мне, к тому же, звонили перед его приходом. — Откуда? — Руководство, конечно. А что, могло быть иначе? — встревоженно спросил он. — Тот, кто звонил, представился? — Нет. Но я все время забываю, что по инструкции это требуется. — Вы узнали по голосу того, кто звонил? Самсон Рафаилович ответил не сразу. — Мое упущение, — признался он. — Я решил, что это — один из новых товарищей. — Но вы хоть попытались как-то косвенно выяснить, он ли это в действительности? — Я как-то не решился. Он говорил так уверенно: к вам, мол, придет такой-то. Действуйте на основании предъявленных им полномочий и постарайтесь не тянуть долго: представитель и без того задержался по независящим от него причинам. Это теперь, когда вы, товарищ капитан, здесь, я все в каком-то новом, истинном свете увидел. Боже мой! Какая ужасная вещь могла произойти! Какое счастье, что этого не случилось. — Покороче, пожалуйста, — вновь напомнил Коробов и тут же пожалел, потому что начальник лаборатории упомянул снова имя Наили Гатиуллиной. Он уже рассказывал о ней по просьбе Коробова, но все — теми стертыми фразами, которыми излагаются производственные характеристики. Теперь же он вспомнил о более важном: — Бедная девчонка. Хрупкая такая, но трудилась она за двоих; я так сожалел, когда ее вдруг убил какой-то, говорят — любовник или сумасшедший. По-человечески сожалел, разумеется... Я продолжаю, продолжаю. Так вот, этот самый Зурабов ждал меня в коридоре. Но только мы начали с ним говорить о главном — о наших результатах, меня вдруг вызвали к руководству. Дело было не очень важное: хотели перебросить нам смежную тему, я, конечно, отказывался и разговор затянулся, а когда я вернулся к себе, может, через час, то увидел, что эта девочка (в руках у нее была фляга с фракцией) идет по коридору и вдруг останавливается так, как если бы она на стенку наткнулась. И останавливается именно около этого младшего лейтенанта, который стоял спиной ко мне. Я даже испугался, не уронит ли она флягу. Кинулся к ней на помощь и потому услышал, как она повторяет, будто в трансе каком-то: «Роберт! Это же ты — Роберт? Откуда ты взялся здесь?» Как звали его по документам, я забыл, но точно помнил, что имя было какое-то совсем обычное. Не Роберт во всяком случае. Это — точно. Так вот, я вижу, что этот младший лейтенант как-то сжался весь. Тут еще и я подошел, и он тогда начал уверять эту молодую женщину с какой-то излишней горячностью (так, вы знаете, бывает, когда лгут), что она принимает его за другого, что ему не раз приходилось попадать в неловкую ситуацию из-за этого проклятого сходства с кем-то... Она отошла, но все оглядывалась и пожимала плечами. Не буду опять скрывать от вас: я решил, что тут — какие-то амуры, до которых мне дела нет. Бывает же нередко, что всякие там селадоны называют себя при знакомстве с очередной жертвой чужим именем, тем более — таким, как Роберт. И все-таки, верьте не верьте, меня это насторожило. Я велел младшему лейтенанту, чтобы он подождал еще минуту в коридоре, хотя он напомнил мне, что страшно спешит, и все-таки позвонил в спецчасть, просил, чтобы у него еще раз проверили документы. Коммутатор долго не соединял меня, а потом, когда я выглянул в коридор, младшего лейтенанта уже не было. — Кто же ему подписал пропуск? — Не знаю. — Вы сообщили об этом в спецчасть? Вот теперь Самсон Рафаилович окончательно уронил голову. — Вы понимаете: сколько дел, сколько забот... — Подпись вашу он мог где-нибудь увидеть? — Нет, нет. Хотя... В коридоре под стеклом — противопожарная инструкция!.. — Самсон Рафаилович был в отчаянии. — Как я мог так прошляпить? Бить меня за это надо. Бить. Он сокрушался так искрение, что Коробов вынужден был сказать: — Что толку, Самсон Рафаилович, теперь убиваться? Другое требуется от вас. — Да! Говорите, пожалуйста, товарищ капитан. Я все сделаю. Можете не сомневаться. — Вы получите от меня указания, как вести себя с ним. — А вы уверены, что он придет еще? — Вот к этому и надо готовиться. — Не сомневайтесь, теперь я его не упущу, — Самсон Рафаилович грозно потряс маленьким кулаком. — Вот этого как раз и не нужно. Вы встретите и примете младшего лейтенанта Зурабова как ни в чем не бывало. Чтоб он и малейшего подозрения не почувствовал. Вы поняли? — А если он потребует документацию? — Дадите! В запечатанном пакете. Вам придется, несмотря на всю вашу занятость, потрудиться еще пару ночей. Вы поняли меня? И поднявшись за столом, сугубо штатский человек ответил: — Слушаюсь.
Не без причин полагала фашистская разведка, что советская наука располагает новейшими достижениями в области термохимии, устанавливающей зависимость между теплотой реакции и строением молекул тех веществ, которые участвуют в химическом процессе. Германия, имевшая, впрочем, основания едва ли не кичиться своей химией, по-прежнему, как и в первую мировую войну, начиняла тротилом даже ракетные снаряды. Фашистам позарез нужна была горючая смесь, такая же как у «катюш», один залп которых опустошал добрый квадратный километр укрепленной зоны, сжигая и «тигры», и «пантеры», словно спичечные коробки. Именно это, а не престиж заставлял немецкую разведку вновь и вновь предпринимать попытки овладеть секретами термохимии, уже известными советским ученым и технологам. Роберт (никто уже не сомневался в том, что это и есть подлинное его имя) действовал давно и хитро. Он умело запутывал следы, а главное, оставался неизменно в тени. Тут же было поднято дело об ограблении прошлой осенью квартиры видного ленинградского ученого, специалиста по термохимии. Профессор этот находился в длительной командировке в Узбекистане и участвовал в составлении важных технологических расчетов, благодаря которым и определялся оптимальный состав различных горючих смесей. Вор по кличке Почтарь, а по фамилии Гущин — рецидивист, который, как он сказал о себе, «эвакуировался» из захваченного немцами Ростова в Ташкент, будучи задержанным, покаялся сразу же, как только узнал, на какое подлое дело толкнул его Седой. Так назвал себя человек, с которым играли две ночи подряд в карты на квартире у какой-то тети Доры. Люди там менялись, мелькали лица за столом, пары, жавшиеся по углам, а Седой появлялся неизменно, как только банк возрастал. Почтарю тогда везло на диво. Он у Седого снял «три косых». Проспались и пили утром кофе. Почтарь тоже удостоился такой чести. Оставались только вдвоем с Седым. Почтарю стало весело. Седой тоже не горевал. Сыпал прибаутками и анекдотами. — Судьба хмурых не уважает, — снисходительно одобрил Почтарь, — пофартит когда-нибудь и тебе. — А что я проиграл? — спросил Седой и вдруг хмыкнул. Он вытащил из кармана не глядя то ли тридцатку, то ли сотенную, зажег ее о догоравшую свечу и прикурил. — Вот настоящие деньги, если хочешь их видеть! — и Седой поиграл царской золотой монеткой. — При всех режимах держится курс. Доходит?.. Почтарю очень хотелось получить хоть пару монет, но Седой сказал, что на бумажки золото не меняет. Сам же убедился сейчас Почтарь: бумага горит. Почтарь спросил, как же добыть золото и себе, и тогда Седой пообещал навести его на одно верное дело. И навел. Сознался, что он «мужик», то есть на воровском жаргоне — темный делец, и вот один сообщник его «ссучился». Хочет передать прокурору документы, подделанные Седым. За это в военное время — вышка, никак не меньше. Выкрадет Почтарь портфель — получит пять червонцев. И Почтарь забрался ночью в квартиру «к тому фраеру» и вытащил портфель. Как писал перепуганный профессор в своем заявлении, в документах, к счастью, не содержалось ничего секретного. Это были общетеоретические выкладки, которые он, правда, намеревался использовать в своей работе, однако при желании и терпении толковый ученый может составить их за неделю. Самые важные бумаги профессор, как и полагалось, хранил в сейфах спецчасти. Роберт рассчитывал на пресловутую профессорскую рассеянность, но ошибся. В том, что Седой, Роман Богомольный и Роберт — одна личность, Коробов теперь не сомневался. Допросили всё же вновь Почтаря-Гущина, который отбывал свой долгий срок неподалеку. По описанию Почтаря (требовалось умение, чтобы разобраться в его речи: «хавало у Седого нежлобское», «на пианине законно бряцал»...) получалось, что от Романа Богомольного Седого отличала лишь белая прядь, ниспадающая к виску, и рыжеватые усики. Но это мог быть и нехитрый, маскарадный прием, такой же, как частая смена костюмов. И, как ни хитер был вражеский агент, но все же наследил; давно уже занималась им смежная группа. Совсем недавно на оперативном совещании у Демина руководитель ее, пожилой майор, насупившись докладывал, что агент пока не обнаружен. Да, Роберт действовал осторожно и искусно. Он настойчиво искал человека, которого можно завербовать. В его распоряжении был подкуп, шантаж, а если речь шла о женщинах — мужское обаяние. Не исключено, что и Наиля Гатиуллина была как-то связана с ним. Но откуда в таком случае стало известно ей подлинное имя агента? Да и он сам — понаторелый разведчик, не совершил бы подобной глупости: появиться там, где хоть один человек может узнать его под чужим именем — младшего лейтенанта Зурабова? Нет, когда речь о Наиле, за этим скрывается что-то иное. Важней, однако, был вывод, который можно было сделать уже сейчас. Предателей он не нашел. Вербовка не удалась. Это ясно хотя бы по тому, что личное проникновение на объект — самый рискованный и, следовательно, — последний шаг шпиона. Он настойчиво искал пути к осуществлению этого шага, и прежде всего ему необходимы были документы не фальшивые (хотя многие бумаги отлично изготовлялись в Германии), а подлинные, чтобы свести риск к минимуму. И тут судьба, которая бывает порой к врагу благосклонна, послала ему вороватого и болтливого старшину Скирдюка с его историей о военпреде Назаре Зурабове, умершем в ташкентском госпитале. Роберт тут же создал новый вариант, толкнул Скирдюка на преступление, дал ему золото (выручил по-дружески из беды, как верилось Скирдюку) и прочно связал его с собой. Так велика была зависимость от Романа-Роберта, что даже после убийства Наили Скирдюк принял навязанную ему легенду: застрелил, мол, женщину в любовном беспамятстве, в горячке, вызванной ее равнодушием. За это, внушал Роман, полагается лет десять тюрьмы, но ведь уже через год, не больше, нравится это Скирдюку как славянину или нет, немцы победно окончат войну. Придут они и сюда, в Среднюю Азию. И тогда Скирдюк окажется на свободе: тюрьмы понадобятся для других. Скирдюк и чувствовал себя негодяем, и был таковым, и всё же, — Коробов был уверен в этом, — не без омерзения к самому себе подчинялся он Роману. Не видел, как по-другому спасти и собственную шкуру и единственное на свете, что Скирдюку было и впрямь дорого — жену Галю и сынишку Миколку. Однако, когда свершилось ужасное, когда упала Наиля, пытаясь спасти в последний миг его — подлеца, когда воочию встала перед ним неотвратимость расплаты, — открылась и вся глубина пропасти, которую он для себя вырыл. Тогда Скирдюку впервые захотелось умереть. Но и тут оставался он собой — себялюбцем прежде всего: «Пусть расстреляют скорей, чтоб только ничего про Ромку не узнали. Тогда Галя с Миколкой не пострадают...» Вот что удалось сломать в Скирдюке Коробову. Вот на что не жаль было сил. Вот что заставило его сдержаться даже тогда, когда преступник посмел потянуться скрюченными пальцами к его горлу. И напрасно посмеивался вообще-то неплохой товарищ и достаточно расторопный контрразведчик Гарамов (просто у него стиль работы был иной), когда Коробов, начиная очередной допрос, включал репродуктор, будто бы для себя, но и арестованный, разумеется, тоже прислушивался к каждому слову сводки Совинформбюро. — Ты что, Лева, политинформации с ним проводишь? — спрашивал, иронически кривя губы, Гарамов, когда и он начал замечать, как жадно ловит старшина Скирдюк все, что говорится о битве на Волге. — От гад! — выругался однажды, забывшись, Скирдюк. — Выходит, он все брехал! Нет, не пройдет Гитлер за Волгу! Сдохнет, а не пройдет... По лицу Гарамова Коробов видел, что старший лейтенант намерен тут же поймать арестованного на слове, однако он остановил товарища предупреждающим жестом. Был уверен: придет час, и Скирдюк обо всем расскажет сам. Он не ошибся. Скирдюк открыл все, что знал о Романе Богомольном. Однако теперь он должен был сделать и большее. С тем и вошел опять к нему капитан «Смерша» Лев Михайлович Коробов.
Впервые назвал он старшину по имени и на ты. — Степан, обманывать тебя как всегда не стану. Наказание ты заслужил и немалое. И все-таки есть у тебя сейчас возможность искупить свою вину хоть отчасти. Скирдюк стоял перед Коробовым в неловкой позе. За время после ареста он отощал, ремень у него, как полагалось, отняли, и щегольские когда-то галифе сползали к коленям, собираясь пузырями. Он ссутулился, шинель встала на спине горбом. — Садись, Степан, поговорим, — Коробов присел на край железной койки. Скирдюк однако продолжал стоять. — Все, что угодно, — произнес он глухо. — Хочь с моста в воду. — Это ты уже один раз пробовал, — напомнил Коробов. — Ладно. Не попрекайте. Теперь, ежели скажете, я его, гада, своими руками... — И в этом тоже нет нужды, Степан, — Коробов выглянул в коридор, велел конвоиру отойти от двери, а потом усадил Скирдюка рядом с собой. — Не скрою, Степан, кое-кто сомневается, хватит ли у тебя духа. Я сказал, что уверен в тебе, Степан. И исполнишь все, что требуется. — Говорите. — Слушай внимательно.
Вскоре произошел случай, взволновавший всех горожан, не говоря уж об очевидцах. Даже спустя много лет, уже после войны, рассказывали люди, как январским утром на площади около станции лопнула, будто неожиданный выстрел прорезал холодный воздух, — шина у автомобиля «эмки», в которой ехали военные. Пожилой водитель вылез, чертыхаясь, присел на корточки и начал подводить под рессору домкрат. Трое оставались внутри: высокий голубоглазый капитан, конвоир, похожий на подростка, с автоматом наперевес и еще один человек в шинели со споротыми петлицами, судя по всему, опасный преступник, которого куда-то перевозили. День выдался такой студеный, каких в этих краях, пожалуй, еще не бывало. Голые ветви и провода были покрыты инеем, словно мохнатой шерстью. На булыжной мостовой серели неровные наплывы льда. Руки у водителя мерзли, он то и дело отрывал ладони от рычага и дул на озябшие пальцы. К тому же трудно было поднимать домкратом передок автомобиля, в котором сидело трое мужчин. Тогда капитан вылез из машины, позвал за собой автоматчика, а третий, нахохлившийся, мрачный, оставался внутри. Теперь у колеса возились двое: водитель и автоматчик. Они передавали друг другу гаечный ключ, давая возможность товарищу отогреть руки. Капитан был недоволен тем, что дело подвигается так медленно. Он потерял терпение и, когда щупленький автоматчик попытался завернуть упрямую гайку, которая опять скособочилась, подбежал к нему, раздраженно выговаривая, сам ухватил ключ, сделал несколько резких движений им, но вдруг обернулся и закричал угрожающе и зычно: — Стой! Стой, тебе приказано! — и тут же: — Никишин, догнать! Проворный автоматчик кинулся вслед за арестованным, который выскочил из противоположной дверцы автомобиля, и теперь, сильно прихрамывая, что было замечено всеми очевидцами, но, невзирая на хромоту, проворно устремился к слепому зданию багажного сарая. Мимо станции тянулся бесконечный состав с пустыми цистернами. Было понятно, что беглец хочет обогнуть сарай и забраться на тормозную площадку. Всего лишь минут через пять поезд выйдет за город. Там можно спрыгнуть и убежать в степь, которая раскинулась к северу от поселка едва ли не на тысячу километров. Выхватив пистолет, капитан тоже погнался за преступником. Он выстрелил дважды в воздух, но на беглеца это не произвело впечатления. Даже будто подстегнуло его. Широко прыгая, капитан почти настиг преследуемого, но хромовые сапоги его начали разъезжаться на наледи, он едва удержался и закричал автоматчику, что брать нужно только живым. Однако тот, очевидно, не расслышал своего начальника. Он оказался не только быстрее, но и сообразительней всех: пока преступник огибал длинное здание, автоматчик как-то непостижимо ловко, словно юркая обезьянка, взобрался едва ли не по отвесной стене на крышу сарая; беглец выскочил и оказался внизу под ним, но едва кинулся он к поезду, как сверху полоснула по нему автоматная очередь. Промахнуться с пяти метров автоматчик, конечно, не мог. Преступник рухнул. Рядом с ним грохотали бурые цистерны. Минуту спустя подбежал капитан. Потом — еще военные, которые, очевидно, услышали выстрелы. Вскоре кто-то из них подогнал к перрону проезжавший мимо станции грузовичок, в кузове которого стояло несколько связанных веревкой бочек. Беглеца, накрытого плащ-палаткой, подняли и положили в кузов. Там же, прислонившись спиной к бочкам, уселся с виноватым видом автоматчик в своей коротенькой аккуратной телогрейке. Капитан еще раз бросил ему что-то сердитое, залез в кабину к шоферу, и грузовик укатил, оставив на площади кучку мужчин и женщин, потрясенных происшедшим: большинству из них не приходилось видеть, как убивают человека. Они еще долго не расходились. Появлялись новые лица. Им о происшествии рассказывали уже не очевидцы, а те, кто сам только что услышал о том, что произошло на привокзальной площади. Продолжали судачить об этом и в рабочем поезде, и в Ташкенте. А в поселке к вечеру многие уже знали бог весть из каких источников, что убит автоматной очередью не кто иной, как тот самый военный, который под Новый год застрелил на любовной почве татарочку. «Так ему, паразиту, и надо. Давно бы!» — заключали постаревшие до поры работницы, грохоча деревянными подошвами по дороге к проходной, а мужчины, дымя махоркой, добавляли обычное: «Собаке и смерть собачья...»
А вскоре, едва начался рабочий день, к начальнику лаборатории твердо, хотя припадая чуть заметно на левую ногу, вошел уже известный ему по предыдущему визиту младший лейтенант Зурабов... С самоуверенностью военнослужащего, пусть не удостоенного больших званий, но облеченного доверием высокого начальства, он спросил, готова ли наконец документация, которую ему поручено представить в головной военный институт? Самсон Рафаилович, однако, взглянул на младшего лейтенанта весьма хмуро, невзирая на весь его апломб, и прежде всего поинтересовался, как это удалось младшему лейтенанту в прошлый раз выйти без отметки и подписи на пропуске? Младший лейтенант искренне изумился. — Бога побойтесь, как в старину говаривали, Самсон Рафаилович! Вы же сами, по пути на совещание, подписали мне пропуск. Вот так, — и младший лейтенант изобразил, как прижимают бумажку к стене и пишут на ней. — Допустим, — Самсон Рафаилович потер лоб, — ну, а сегодня вы заходили в спецчасть? Младший лейтенант возмутился. — Простите меня, но это уже не бдительность, а придирки, чтоб не сказать хуже. В самом деле: я, можно сказать, грех на душу беру, буду перед начальством оправдывать вас (вы же работы по теме затянули безбожно), а вы вместо признательности начинаете донимать меня пустяковыми вопросами. Это вы заказывали мне сегодня пропуск или какой-то другой человек? И учтите, через сутки я должен быть в центре, иначе голову снимут и не только с меня одного. — Что вы кипятитесь! — Самсон Рафаилович поднял трубку и назвал номер. — Пакет для военпреда готов? — спросил он, послушал кого-то и вдруг взмолился: — Я прошу вас, я. Это личная просьба, вы понимаете меня? Ну да: все сроки нарушены. Не получалось у нас. Это долго объяснять, почему. Но теперь-то хоть не задерживайте! Самсону Рафаиловичу, очевидно, возражали, и он заговорил еще горячей: — Я же вас знаю: вы сейчас начнете собирать визы... Главный технолог все равно полагается на меня. Вы поняли? Что значит — нельзя? — вдруг вскинулся он. — Война идет! Неужели об этом напоминать надо? На фронте не собирают подписи, не перестраховываются. Там проявляют инициативу. Откуда знаю о фронте я? От знакомого дяди. Вас это устраивает? — Он положил трубку и некоторое время сидел молча, сжимая лысый череп ладонями. Потом поднял из-под тяжелых век взгляд на младшего лейтенанта, как бы решая про себя: можно ли довериться такому? — Я пойду на нарушение, — произнес он обреченно, но решительно. — Спецчасть от своих порядков не отступится. А вы, я понимаю, больше ждать не можете. — Какое там ждать? — военпред вcкинулcя. — Через четыре часа спецрейс. Меня сам командующий в свой самолет берет. — Тише. Вы можете добиться у начальства, чтобы вас прислали снова в Узбекистан? — Мне не надо ничего добиваться. Через две недели, не позднее, меня сами погонят сюда с заключением о правильности ваших выкладок. — Хорошо. Объясните им там что-нибудь о том, почему вам выдали не первый экземпляр. Ну, скажите, кто-то случайно пролил чернила, или еще что-нибудь такое. Я дам вам сейчас копию. На свой страх и риск. — Самсон Рафаилович теснее затянул тесемки на папке и с некоторой торжественностью передал ее младшему лейтенанту. Тот однако развязал папку и небрежно, даже как-то скептически поджимая губы, полистал бумаги. — Ой, боюсь я, придется мне скоро опять посетить вашу богоспасаемую лабораторию. — Ничего, — иронически утешил Самсон Рафаилович, — у нас тут все-таки немножко поспокойней, чем где-нибудь на фронте, а? — он подмахнул на пропуске свою подпись и подал младшему лейтенанту мягкую ладонь.
Одна-единственная дорога вела в большой город. Булыжное неровное шоссе достигало Ташкента и встречалось с улицей, уходившей к вокзалу, забитому разношерстным людом военной поры, к сумятице на площади и неразберихе на перроне. Но оттуда все же отправлялись поезда, пусть без расписаний, но и билета, чтоб сесть в вагон, тоже не требовалось. Там можно было мгновенно раствориться в толпе, а потом — исчезнуть. Но было на пути роковое место — шлагбаум на шоссе. Дорога здесь врезалась в холм, справа и слева спускались крутые откосы, впереди — переезд, перекрытый сейчас горбатой жердью. Опущен шлагбаум был давно, перед ним собралась длинная очередь — автомашины, повозки, арбы с огромными колесами. Мотоциклист нетерпеливо, когда с помощью уговоров, когда — брани, пробрался сквозь скопление почти к самой колее. На ней, вызывающе равнодушно попыхивая паром, стоял старый паровоз «Овечка». Он, кажется, не был намерен двинуться ни вперед, ни назад. Мотоциклист, нервничая, слез со своей машины и подошел вплотную к паровозу; он что-то крикнул машинисту, чумазому парню в черной от угольной пыли ушанке, но тот, все так же безразлично поглядывая на голые, покрытые инеем ветви, протянувшиеся над шоссе, не удостоил его и взглядом. Тогда мотоциклист сам вышел на шпалы, увидел опущенный семафор и, чертыхаясь, вернулся назад. В деревянной будке, наконец, задребезжал телефон, появилась пожилая женщина в тулупе, с флажком в руке, машинист нырнул вглубь паровоза, из-под колес покатились клубы серого пара, паровозик пронзительно вскрикнул и с трудом, будто колеса успели примерзнуть к рельсам, тронулся с места. И тут же оживилось все: заурчали моторы, вскинулись понукаемые лошади; женщина повертела рычаг, и, едва жердь поднялась, застоявшийся транспорт ринулся к Ташкенту. Однако мотоциклист никак не мог запустить двигатель. Мимо него проехали, свирепо ругаясь, потому что он занял часть дороги, почти все, и тут он наконец перестал мучить рычаг, заглянул в мотор и сплюнул в сердцах: пока он уходил к шлагбауму, чья-то умелая рука вытащила из гнезда запальную свечу. Вещь эта была, разумеется, дефицитна, безвестный воришка мог получить за нее пару червонцев на толкучке, деньги не бог весть какие: судя по всему, мотоциклист готов был сейчас уплатить за свечу гораздо больше. Он и кинулся с сотенной бумажкой в руке к первой же машине, показавшейся со стороны Чирчика. Водитель, молодой, с выпуклыми веселыми глазами, с непринужденностью, свойственной южанам, вступил в беседу, замысловато обругал жуликов которые «тащат, собаки, на каждом шагу, а ты только подумай, что́ он там взял? На лепешку ему не хватит, а человек из-за него мучиться должен». Запасной свечи у словоохотливого шофера, однако, не оказалось. «Извини, конечно, но даже у нас, в «Заготзерне», с запчастями теперь не дай бог как тяжело...» Он дал газ и хотел уехать, но тут мотоциклист, с виду — демобилизованный командир, на петличках его сохранился след от кубика, просто-таки взмолился: не подкинет ли шофер его на своей «эмке» до Ташкента? Водитель вдруг утратил всю свою приветливость и хмуро сообщил, что возить «левых пассажиров» ему решительно запрещено, что местом своим он рисковать не намерен («Считай, кроме карточки, я три кило пшеницы в неделю имею...»), но мотоциклист, заискивающе поглядывая на шофера, посулил, что отблагодарит его по высшему классу. Он уже отволок свой мотоцикл поближе к будке, небрежно приткнул его к насыпи, достал из багажника портфель и кинулся к «эмке». Всю дорогу шофер молчал, зло орудуя баранкой. За переездом, в начале Пушкинской, он съехал к обочине и остановился, по-прежнему не глядя на нежеланного пассажира, который в очередной раз беспокойно взглянул на свои часы. — Кировские? — взгляд водителя наконец оттаял. Пассажир хмыкнул. Презрительная гримаса мелькнула на его холеном лице. — Скажешь, «кировские»... «Омега»! — он вдруг оживился, торопливо, хотя и со вздохом, снял часы и протянул водителю. — Держи. На память. Ты — человек. Выпуклые глаза водителя блеснули удивленно и благодарно. Однако он отгородился ладонью от часов. — Ты что? Ну, подвез тебя. Разве можно за это? Дашь красную — и хватит. — Возьми, возьми. Я все равно на фронт скоро поеду. Опять. Жив буду, без часов не останусь. Держи. — Много даешь... — Не болтай лишнего! Довези до места — и все. — А далеко ехать? На вокзал? — водитель уже любовался часами с темным циферблатом. — Нет. На Маломирабадскую. — Ого! — водитель вздохнул, почесал в затылке и включил зажигание.
— Держите трофей, товарищ старший лейтенант, — Никишин подал Гарамову запальную свечу. Фарфоровая оболочка ее была тепловата. — Спасибо, — Гарамов усмехнулся и добавил: — Жалко, не слыхал ты, как он крыл тебя! — Зато я ему спасибо сказать обязан: я же все гадал, с какого боку к мотоциклу подобраться, а он тут сам соскочил и побежал к шлагбауму. — Понятно. Остальное было — делом техники. Так? А что капитан, давно у себя? — И товарищ полковник тоже здесь. Вас ожидают. — Порядок! Могу и тебе на ходу свой трофей показать, — Гарамов вытащил часы, вместе с Никишиным поцокал языком, на них глядя, и заключил с откровенным сожалением: — Придется приобщить к вещественным доказательствам. А часики, между прочим, лучшая швейцарская фирма, — вздохнул и шагнул в кабинет к Коробову.
Полковник Демин поднялся во весь свой немалый рост, сцепил над головой пальцы и с удовольствием потянулся. — Засиделись мы, братцы. Но не зря, не зря. Поздравлять не стану, но лабораторную часть вы, кажется, завершили. Да, забыл спросить: дела для передачи в прокуратуру готовы? — Так точно, товарищ полковник, — ответил Коробов, вставая. — Сиди, сиди, Лев Михайлович. Это я, чтоб размяться, — полковник, наклонив голову, шагал по тесной комнате: два шага — и у стены. — Выписка из дела Скирдюка — гражданской прокуратуре, чтоб приобщила к делу Зурабова и Нахманович. Я не сомневаюсь, товарищ полковник: золото, полученное от Скирдюка, она взяла себе. Все эти «прасолы с Куйлюка» — легенда. — Пусть уж этим следователи занимаются, Лев Михайлович. Да, кстати, надо предупредить, чтобы военный прокурор вел дело Скирдюка параллельно с гражданской прокуратурой. Ну там, совместные очные ставки Скирдюка с Зурабовым и прочими... — полковник остановился у окна. — Вот так и топают они все по одной дорожке, — заключил он. — Хапуга иной еще и патриотом себя считает, со слезой поет про журавлей, которые ему привет с родины несут. Он же уверен: не предал эту родину. Ну, взял себе и сожрал то, что полагалось другим. Подумаешь... А открывает ворота врагу. Не будь тот же Скирдюк жуликом, не поставь он себя вне закона, разве подловил бы его Роберт? — полковник вернулся к столу. — Я почти уверен, Лев Михайлович, что это и есть тот самый Роберт Замдлер, которого наши в Саратове упустили. Проверь в архиве. Чтоб к допросу подготовиться, после того как решим взять его. А как там Скирдюк? Вопрос был обращен к Гарамову. — Сожалеет, товарищ полковник, что у Никишина автомат холостыми заряжен был, — ответил тот. — Нет. Помирать ему пока не время. Но подыграл он нам и в самом деле неплохо. А? Обратили вы внимание, с какой уверенностью пришел назавтра Роберт в лабораторию? Все свидетели, казалось ему, были убраны: Наилю он застрелил собственноручно, Скирдюк погиб, пытаясь бежать. Бежать! Это ты отлично нашел, Лев Михайлович! Тот, кто бежит из-под стражи, наверняка не выдал сообщников. — Скирдюк за всеми тянулся, товарищ полковник. — Гарамов позволил все же себе некоторую вольность и указал на Коробова: — Вон, Лев Михайлович у нас сыграл, как народный артист! — В нашем деле и без этого нельзя, — серьезно заметил Демин, — вы знаете: обстановка требует, и спляшешь, и на гитаре побренчишь. — На этот раз обошлось без музыки, товарищ полковник. — Коробов улыбнулся, понимающе переглянувшись с Деминым. Оба вспомнили одно недавнее дело с дезертирами. Коробову пришлось тогда трое суток развлекать в поезде некую теплую компанию, изображая душу общества. Однако тут же Демин посерьезнел снова. — Не будем зарекаться, Лев Михайлович. Кто знает, что нам еще предстоит, прежде чем весь клубок распутаем. Пока что вытащили вы важную нить. Посмотрим, что тянется за ней. — Может, меня на Маломирабадскую пошлете? — спросил все же Коробов. — В лицо-то Роберт только одного Гарамова знает. — Коробов и себе позволил снова пошутить: — Аркадий у нас — парень-хват. Это же надо: какие часы отхватил! Покажи-ка еще раз. Демин, однако, достал перочинный ножик и попытался снять крышку. — Приварена напрочь, — заключил он, — обыкновенная штамповка. Надули тебя, Аркадий. — Не может быть, — самолюбие Гарамова и впрямь было задето, — разве стал бы он носить на руке штамповку? — Вот для таких, как ты, и нацепил! У него этих штамповок, почитай, чемодан. Ладно, не огорчайся, Аркадий. В любом случае тебе пришлось бы сыграть простака. — Коробов приложил часы к уху. — А идут вроде бы неплохо. — Сколько на них? — спросил Демин. — Семнадцать тридцать. — Так. Значит, пока — отдыхать всем. На Маломирабадской будет по-прежнему дежурить группа Мансурова. Думаю, у нашего «пианиста» не один час уйдет на то, чтобы снять на пленку копии с расчетов. — Самсон Рафаилович клянет его на чем свет стоит. Сколько времени, говорит, потерял дорогого на то, чтобы заполнить эти бумаги. И не просто чушью, а научно-правдоподобной! Легче, говорит, настоящее открытие сделать, — Коробов вспомнил замученного работой начальника лаборатории и искренне пожалел его. — Спасибо ему, но не обнаружится ли подвох? Возможно, Замдлер и в самом деле имел какое-то отношение к науке? — Ну уж, если даже Аркадий несчастную штамповку от «Омеги» не отличил! А там экспертиза посложней требуется, — Коробов доставил все же себе удовольствие — поддеть походя Гарамова. — Самсон Рафаилович сказал, проверить можно только экспериментально, в лаборатории. Значит, выход у Роберта один: снять фотокопии, чтоб передать их своим, а пакет сжечь. Этим он, я полагаю, и занимается сейчас. — А потом он должен вывести нас на своего резидента. Об этом мы уже толковали и с вами, и с Мансуровым. — Еще одно неясно, товарищ полковник, — заметил Гарамов, — женщина эта, убитая... Откуда знала она Роберта. Предположим — любовная связь, но он же не назвался бы подлинным своим именем? Демин и сам задумался. — Жизнь нам ответит, — заключил он. — Когда-нибудь... Пока важно другое: Наиля Гатиуллина встала у него поперек пути. Всегда находятся люди, которые загораживают дорогу врагу. Вот даже — медсестричка эта. Протопопова... Вы приобщили, Лев Михайлович, к делу ее письмо? — Передала мне целый роман, — Коробов полистал объемистую тетрадку. — «...Тревожная мысль будоражит меня снова и снова, и побуждает взяться опять за перо. Этот красивый мужчина, который так неожиданно и по-хозяйски вошел тогда на рассвете в комнату к Степану Онуфриевичу... Едва заслышав шаги его, я укрылась с головой. От стыда и от страха — тоже. Нет сомнений: он принял меня за Скирдюка. И вот теперь всплыли в памяти какие-то странные речи, которые он произнес в тот роковой час. Он говорил что-то о том, что ему надо укрыться дня на два и что теперь настала очередь Скирдюка. «Платить золотой дружбой за золото». И как раз вскоре после этого Скирдюк вынудил меня дать ему шесть порошков люминала». И так далее, — Коробов вложил тетрадь в папку. — Самое главное: и она спохватилась! Понятно, почему долго молчала. Какой женщине охота сознаваться, что ее застали у мужчины? Однако и Протопопова даже через свой стыд перешагнула, когда почувствовала, что происходит что-то неладное. — А Зурабов молчал, хотя он знал больше всех, — произнес, выпятив губу, Гарамов. — Он же один был неподалеку, когда произошло убийство. Правда, позвонил в комендатуру, но и то — из шкурных побуждений. — Я же говорил: одного поля ягоды — что шпион, что хапуга, — Демин надел шинель. — Отдыхайте, — повторил он, — сапоги разрешается снять. Они остались вдвоем. — Что-то мы не слушали, Лева, сегодня, как там на фронте? — Пытаются немцы из Котельной к Калачу пробраться, только клещи наши, кажется, крепкие. — Коробов уже лежал, с удовольствием вытянув во всю длину ноги. — Гад же этот, Роберт, внушал Скирдюку: через полгода немцы в Ташкенте будут. А вышло, зажали их, да еще как! Слышь, Аркадий, — произнес он погодя, — проходили мы когда-то в училище такую тему: взаимодействие родов войск. Про всех там упоминали, даже про начальника клуба, не говоря уже о танкистах. Какая у кого роль на войне, а вот про наш род — ни слова... — Спим, Лева, — откликнулся с раскладушки Гарамов. — Как поют по радио: «Нынче у нас передышка, завтра вернемся к боям», — помолчал и добавил: — Беру на вооружение твой урок.
* * *
Года три спустя, уже после войны, оказался Коробов в Поволжье. Дела были окончены, оставалось еще время до поезда, он бродил по крутым улицам старинного города, по набережной и тут вспомнилось дело Скирдюка. Теперь оно представлялось давним, однако встревожила всплывшая вновь загадка: каким образом, откуда могла знать немецкого агента простенькая работница? Тогда в 43-м, в напряжении и горячке будней «Смерша», выяснить это не сумели. Посылали, правда, особое поручение приволжским коллегам, но у тех, очевидно, были заботы поважней: ответ получили о том, что в списках учащихся нефтяного техникума Роберта Замдлера не оказалось. Впрочем, знакомство могло состояться и на стороне, где угодно. Важно, что Наиля узнала Роберта и раскрыла его подлинное имя. На том и остановились. И все же, повинуясь неясному для него побуждению, отправился сейчас Лев Михайлович Коробов в нефтяной техникум. Он прошел гулкими пустыми коридорами (пора была каникулярная) и заглянул, сам еще не зная зачем, в актовый зал. Здесь вдоль одной из стен расположился своеобразный музей этого скромного учебного заведения: витрины с документами и книгами, фотоснимки, кубки за спортивные победы, вымпелы, грамоты и прочие свидетельства негромкой славы. Как случалось с ним не однажды, шел он повинуясь едва уловимому внутреннему приказу, и словно сами собой попались на глаза альбомы: «Наши достижения в спорте», «Научная работа», «Труд и песня». Он полистал один, другой. Не очень внимательно, но вдруг показалось, мелькнуло что-то знакомое. Вгляделся и увидел Наилю рядом с пианистом в роговых очках. Еще раз всмотрелся и убедился: точно — Замдлер! Как сообщала подпись, это под его аккомпанемент исполняла лирическую песенку учащаяся третьего курса Наиля Гатиуллина. Хрупкая большеротая девушка со смутной тревогой в светлых глазах. — Я возьму эту фотографию, — не то попросил Коробов, не то поставил в известность сопровождавшего его парня из комсомольского комитета. Тот, спасаясь от неловкости, помассировал затылок, бритый едва ли не до самой макушки, потоптался тощими ногами, торчащими из широких кирзовых голенищ. — Знакомая? — он по-свойски, но как-то неловко указал глазами на Наилю. Коробов кивнул. — Где же вы с ней могли встречаться? — в раздумье произнес парень. — Она же еще перед войной окончила техникум и уехала куда-то по назначению. — В Ташкент. — А-а... Туда от нас, бывает, направляют тоже. Она там в войну работала? Героиня тыла, как говорится. — Можно сказать и так, — не сразу откликнулся Коробов.
В. Вальдман Н. Мильштейн Нулевая версия Повести



Пройденный лабиринт
Арслан проснулся с каким-то неосознанным, радостным чувством. Он немного полежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к возне Рано на кухне. Затем сладко потянулся и резко вскочил с постели, подошел к кроватке, в которой безмятежно спал Шухрат, поправил одеяло. Лишь после зарядки и холодного душа, когда сел бриться, он вспомнил причину своего хорошего настроения: на столе лежала телеграмма — «Прилетаю двадцать четвертого зпт рейс 186 Николай». Друзья не виделись больше года, обменялись за это время двумя праздничными открытками. Как это у Константина Симонова: «Увидеться — это бы здорово, а писем он не любил». Туйчиев вообще трудно сходился с людьми. Николай называл его сфинксом, Арслан отшучивался: «Главное — это познать не людей, а самого себя». И действительно, стремление к самоанализу, желание постоянно видеть себя с высоты своего второго «я» было присуще ему, и эта раздвоенность иногда его тяготила. Вот и с Сосниным он подружился не сразу, а только проучившись с ним в юридическом институте почти два года. Арслан, в отличие от Николая, который еще со школьной скамьи мечтал о следственной работе, долго колебался: пойти ли по стопам отца — стать геологом или поступать на юридический? Но уже на первом курсе института он понял, что геолог в нем умер, так и не успев родиться. Туйчиев зачитывался защитительными речами Карабчевского, Плевако, Александрова и твердо решил стать адвокатом. Его восхищала стройность, образность, глубокий психологизм и всесокрушающая логика русских юристов, каждое выступление которых было не просто речью защитника, а являло собой подлинное произведение искусства. Собственно, и его дружба с Николаем началась со спора, чья деятельность более важна для людей — следователя или адвоката. Арслан пытался доказать — адвоката. А Николай упорно утверждал, что государство больше нуждается в защите от преступности вообще, чем в защите адвокатом конкретного преступника. Помнится, итоги дискуссии подвел Левка Пименов, маленький курносый «очкарик», ходячая юридическая энциклопедия. Он безапелляционно заявил: «Юристы всякие важны, юристы всякие нужны». — Завтрак готов! — позвала жена. — Доброе утро, папа! — Шухрат уже сидел за столом и, увидев, что Рано отвернулась, пытался начать завтрак с варенья. — Доброе утро. Арслан отодвинул вазочку с вареньем, и сын стал нехотя ковыряться в рисовой каше. — Когда прилетает Николай? — спросила Рано. — В половине первого, — улыбнулся Арслан.— Товарищ старший следователь, сотрудник уголовного розыска Соснин прибыл для оказания вам помощи. — Весьма рад, товарищ капитан, — улыбнулся Туйчиев. — Скажите, а это правда, что Шерлок Холмс ваш дальний родственник и что в течение суток вы раскрываете любое преступление, даже умышленное убийство? — Почти. Нужно только подключить к расследованию оперативно-следственный тандем: Туйчиев — Соснин. Друзья рассмеялись. — Знаешь, Арслан, — Соснин подсел к Туйчиеву, — а ведь здорово получилось, что мы опять вместе! — Получилось-то здорово... — Арслан потер кончиками пальцев переносицу. Жест этот, давно знакомый Николаю, означал, что друг о чем-то серьезно задумался. — Но боюсь, что втянул тебя, Коля, в авантюру. Дело, которое нам с тобой придется вести, не очень радует. Хотя расследование по нему ведется почти месяц, сдвигов никаких.
* * *
Прошло шесть дней, как Туйчиеву передали новое дело. Все это время усилия Арслана и Николая были направлены на установление личности убитого. О поисках преступника пока и мечтать не приходилось. «Скорей бы расколоть этот орешек, — говорил удрученный Соснин. — А там будет легче...» В поселок приехали утром. Расположенный километрах в восьмидесяти от города, он раскинулся в живописной долине, рядом с небольшой быстрой речкой. Аккуратные свежевыкрашенные домики горняков вытянулись по обеим сторонам широкой, уходящей на юг дороги. Справа, там где кончалась цепочка домов, вздыбились терриконы, еще правее — железнодорожная станция, от которой днем и ночью шли составы с антрацитом. В отделении милиции Туйчиева, Соснина и судмедэксперта Гиндина встретил невысокий смуглый лейтенант. — Акбаров, — представился он. — Я в курсе. Прошу садиться. Прежде всего нужно было уточнить уже известные факты. Лицо убитого мужчины, обнаруженного месяц назад, сильно разложилось. В карманах — никаких документов. По заключению судебно-медицинской экспертизы, примерный возраст убитого 25-30 лет. Смерть последовала от ножевых ударов, повредивших сердце, легкие, аорту, печень. Всего на теле 12 ножевых ран. Двое жителей поселка опознали в убитом Ивана Пушканова, который около месяца назад исчез из дома. Работникам поселковой милиции фамилия Пушканова говорила о многом. Отец его несколько раз привлекался к уголовной ответственности, старший брат отбывает наказание за квартирную кражу, а самого Ивана дважды судили за хулиганство. Возвратившись последний раз из заключения, Пушканов пошел работать на шахту. Но уже вскоре вокруг него образовалась небольшая группа молодых ребят, которых он спаивал и вовлекал в карточную игру. Вообще, карты были его стихией: он мог играть при любых обстоятельствах. Играл он только «под интерес» и всегда мошенничал. Случалось, его за это били, но Иван с картами не расставался. У Пушканова была сожительница, некая Екатерина Осокина, связанная, по имевшимся сведениям, с преступной средой. Пушканов и Осокина между собой не ладили, частые скандалы нередко переходили в драку. Надо сказать, отец Ивана всегда был на стороне Осокиной. — Вообще, Пушканов со своим прошлым может вписаться в это дело, — сказал Арслан Николаю, когда поздно вечером они возвращались из милиции. — Во-первых, его исчезновение, во-вторых, жестокий способ убийства. Скорее всего, убийство совершил человек определенной категории... — Добавь к этому: ни отец Пушканова, ни Осокина не заявили о его исчезновении, хотя времени прошло более чем достаточно. Между прочим, вызывающее поведение Осокиной на допросе наводит на мысль, что она знает что-то другое... — Знает, но не говорит. Пока не говорит. Я ее вызвал на завтра. Попробуем еще один вариант.И вот Осокина снова перед Туйчиевым. Как и на предыдущем допросе, она все отрицает. — Посудите сами — к чему он мне? Хорошего от него с гулькин нос видела. — Осокина, высокая светловолосая женщина с правильными чертами лица, улыбается. — Пропади он пропадом! — Она берет со стола сигарету, прикуривает и лишь после этого, спохватившись, спрашивает разрешения. — Пожалуйста. — Туйчиев пододвигает ей пепельницу. — Скажите, Екатерина Алексеевна, вы угрожали Пушканову? — Я? — Искреннее удивление свидетельницы — красноречивый ответ на вопрос следователя. — Никогда. — Вот показания вашей соседки Куренцовой, — Туйчиев перелистал дело, нашел нужную страницу. — «8 марта Осокина и Пушканов сильно поругались. Осокина пригрозила Ивану, что ему недолго осталось измываться над ней». Теперь слушайте внимательно: находят убитым человека, которому вы угрожали, и, естественно, можно предположить, что вы причастны к убийству. — Нет! — громко выпалила Осокина. — Неправда. Я расскажу, как было. Через несколько дней после ухода Ивана мне передали, что он находится в городской больнице. — Осокина дрожащими пальцами смяла окурок. — Я поехала в город, но в больнице его не оказалось. Что тут можно подумать? Разумеется, только одно: Иван уехал «на дело». Поэтому я никому ничего не говорила и в милицию не заявляла... После ухода Осокиной в кабинет вошел Соснин. — Появился новый штрих, Арслан Курбанович. Туйчиев вопросительно поднял брови. — Утром прибежал ко мне Павлухин. Ну этот, рыжий такой, помощник машиниста. Вчера после допроса он пришел домой, сел ужинать и вдруг его осенило. «Никакой это не Пушканов, — говорит, — Пономарев это, Славка, плотник с шахты!» — Проверил? — Пономарев действительно исчез из поселка. И знаешь когда? В день обнаружения трупа. Но это не все, держись крепче. Пономарев одинок, жил на квартире у Северцева, который тоже вскоре уехал в туманные дали. — Чертовщина какая-то... — Арслан потер переносицу. — Не многовато ли — трое в один день? Кстати, откуда Павлухин знает Пономарева? — Они соседи. — Сколько лет Северцеву? — Намек понял. Нет, убит не он. Ему за сорок. — Но зато он может быть тем, кого мы ищем...
* * *
Крупные капли дождя зашелестели по листве. Разрывая тишину, царящую в этом укромном уголке парка, грянул гром. Где-то вдали послышались голоса убегающих от дождя. Виктор привлек к себе Светлану и тихо запел: — Там идут проливные дожди, их мелодия с детства знакома... — Ну что, так и будем здесь стоять, пока не промокнем? — спросила девушка. — Ага! Ты хочешь бежать? Но как только мы выйдем — мгновенно промокнем! А впрочем, я давно мечтал совершить подвиг в твою честь. Все, кто еще не спрятался от дождя, наконец увидят это! — Виктор подхватил на руки Светлану и бегом направился к главной аллее. — Сумасшедший! — только и успела воскликнуть Светлана. Выбежав на аллею, Виктор опустил Светлану на землю и стал целовать ее мокрое лицо. Так и стояли они под проливным дождем, не замечая ничего вокруг. Вновь раздались раскаты грома. Виктор и Светлана, как бы опомнившись, взялись за руки и побежали. Слева показалась танцплощадка, вся в рябых лужах. Гром продолжал греметь, и казалось, ливню не будет конца. — Идея! — Виктор увлек за собой Светлану на танцплощадку. — Сейчас мы будем танцевать под аккомпанемент Зевса-громовержца. Вход разрешается только влюбленным! Виктор и Светлана поднялись в оркестровую раковину. Теперь над головой у них была крыша, хотя и бесполезная — больше промокнуть уже было невозможно. — Итак, танцуем! — Ты серьезно? — Конечно! Вообще, я сейчас серьезен, как никогда. Маэстро, музыку! Напевая модную мелодию, Виктор и Светлана стали танцевать. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Сразу стало ослепительно светло. Выглянуло солнце, заиграло разноцветными огнями на листьях. — Вот и все, — вздохнул Виктор, глядя, как причесывает мокрые волосы Светлана. — Я тебя люблю. Очень... — Виктор, милый, что с тобой? — Ничего. Только я все время хочу, чтобы мы были вместе. Вместе! Понимаешь? — Ну ведь мы решили, что поженимся. Потерпи до осени. Осенью должны достроить дом, в котором Виктору выделена квартира. — Да, да, конечно, — негромко отозвался он. Светлана и Виктор знали друг друга с давних пор. Впервые они встретились в детдоме, когда им было по десять лет. Собственно, Светлана в этом детдоме была уже давно: целых четыре зимы миновало. Мать ее умерла, едва дочке исполнился год, Светлана ее совсем не помнила. Да и об отце память сохранила лишь отдельные черточки, которые воображение слило в единый образ, такой дорогой и близкий. Светлана помнила, как отец, придя с работы, брал ее на руки. У него были большие и сильные руки труженика. Они всегда казались ей громадными, но так хорошо, ласково умели гладить головку маленькой дочки. Помнила она и взгляд отца, задумчивый и печальный, особенно когда он смотрел на нее. Уже спустя много лет, став взрослой, Светлана поняла, что отец сильно тосковал по матери. Он так и не привел в дом другой женщины. В июле 1941-го отец ушел на фронт, оставив дочь на попечение своей тетки. Через две недели, когда баба Паша гуляла с девочкой около дома, осколок мины попал старой женщине в голову, и она медленно опустилась на землю, бережно прижимая к себе ребенка... Потом были теплушки, станции, полустанки, разрывы бомб и наконец детдом в одном из южных городов страны. Училась Светлана хорошо, семилетку окончила с отличием, ее послали продолжать учебу в строительный техникум. Работу строителя она совмещала потом с учебой на вечернем отделении института. В прошлом году получила диплом инженера-строителя. Ее перевели на работу в трест. Работа была связана с командировками: приходилось выезжать на объекты, которые трест строил в области. Во время одной из командировок в маленькой гостинице шахтерского поселка Светлана случайно встретилась с Виктором. Оба обрадовались — тем более, что в детдоме они были очень дружны. Виктор попал в детдом уже после войны. Отец его в сорок втором погиб под Севастополем. Мать была очень болезненной. Тяготы и лишения военных лет, гибель мужа окончательно подорвали ее здоровье. Вскоре после окончания войны она слегла и уже не поднялась. Виктор едва узнал в стройной девушке с овальным лицом и большими карими глазами этого угловатого полу-подростка, с которым расстался, уезжая из детдома. Оказалось, что они уже несколько лет живут в одном городе. Сначала о себе рассказала Светлана, а потом настала очередь Виктора. — Ну что мне сказать... Все очень просто. Окончил техникум, работаю на фабрике... Встречи становились все чаще, все необходимей для каждого из них, и вскоре молодые люди объяснились. — Витя, — прервала затянувшееся молчание Светлана. — Меня посылают в командировку. В тот самый шахтерский поселок, где мы с тобой встретились. — Я буду скучать, — ответил он. — Позвони мне оттуда. Ладно? — Я лучше напишу. Как ни говори — целых пять дней! — Пя-я-ть дне-е-е-й... — растягивая слова, вздохнул Виктор. К общежитию, где жила Светлана, шли пешком. Потом долго прощались: очень не хотелось расставаться. Один за другим в окнах гасли огни. Лишь когда почернело последнее окно, Светлана стала подниматься по ступенькам к входным дверям. Виктор долго смотрел ей вслед.* * *
Утром пришло сообщение, что за преступление, совершенное в г. Андижане, Пушканов осужден на 5 лет лишения свободы и отправлен в колонию. Значит, убит не Пушканов, а кто-то другой... До обеда параллельно в двух кабинетах Туйчиев и Соснин продолжали допрашивать жителей поселка, в основном соседей Северцева и Пономарева. Пономарев приехал в поселок около года назад, с полмесяца не работал, жил у Киреевых. Потом устроился на шахту плотником и переехал на квартиру к своему бригадиру Северцеву. Очень часто по субботам Пономарев уезжал поездом в город и возвращался лишь в воскресенье вечером. Зачем и к кому он ездил — никто не знал. В квартире, где жил Северцев и Пономарев, было всегда тихо. Однако примерно за месяц до исчезновения Пономарева, проходя вечером мимо окон их дома, соседка Федорчук слышала крики и громкие голоса. Слов она не разобрала, так как была открыта только форточка. Дней пять спустя, Федорчук вторично слышала шум в квартире Северцева, но причины скандалов так и остались неизвестными. Туйчиев закончил допрос очередного свидетеля и хотел вызвать следующего, когда в комнату быстро вошел Соснин. — Есть новость, Арслан Курбанович. Хасанова, соседка Северцева, сообщила, что он вскоре после исчезновения Пономарева продал некой Завалишиной кое-что из одежды. Завалишина здесь, с вещами. — Пригласи ее сюда. Вошла маленькая женщина лет тридцати с испуганными глазами. Сильно волнуясь, она сбивчиво рассказала, что, соблазнившись небольшой ценой, действительно купила у Северцева этот костюм, пальто, туфли и сапоги. — Для кого вы купили? — Для мужа, конечно. Ей было непонятно, почему покупками заинтересовались следственные органы, и она время от времени повторяла: — Если нужно, возьмите, жалко, что ли... Соснин успокоил Завалишину: никто не собирается отбирать у нее вещи, их необходимо лишь оставить на несколько дней. Кстати, не видела ли она эту одежду на Северцеве? Нет, не видела, так как вообще его не знала и впервые встретилась с ним во время покупки. Судя по тому, каким высоким и крупным мужчиной был Северцев, она сомневается, чтобы вещи принадлежали ему. Пономарев? Нет, такого она не знает. — Вещички-то, кажется, не с его плеча, — сказал Николай Арслану, когда Завалишина ушла. — Может быть... — ...они принадлежали Пономареву? — продолжил его мысль Туйчиев. — Это ты хотел сказать? Возможно. Проверим. Снова беседы, расспросы. Наконец удача: двое жителей поселка опознали пальто и костюм — одежду, в которой ходил Пономарев. Начальник отдела кадров шахтоуправления, немолодая, седоватая женщина в очках, курила одну папиросу за другой. Она рассказала, что последний раз Пономарев вышел на работу двадцать первого апреля и с тех пор не появлялся. Северцев, работавший около полутора лет плотником, уволился шестнадцатого мая и выехал в неизвестном направлении. В течение получасовой беседы кадровик выкурила такое число папирос, что Туйчиев и Соснин, сами заядлые курильщики, едва не задохнулись от дыма. — Не женщина, а паровоз, — заметил Соснин, когда они вышли из кабинета. Начальник отдела кадров неожиданно их догнала. — Я вспомнила! На Пономарева в бухгалтерии есть исполнительный лист. В биографии Пономарева это был еще один штрих, и его тоже надо было немедленно использовать. Зашли в бухгалтерию. Действительно, с Пономарева взыскивались по исполнительному листу алименты на содержание двух детей. Алименты переводились жене Пономарева в город Челябинск. Соснин записал адрес, надо было проверить, не знала ли что-нибудь о нем жена. Кроме того, она могла сообщить об известных ей связях бывшего мужа... — Вся надежда пока на вас, Михаил Макарович, — шутливо обратился Туйчиев к Гиндину — одному из опытнейших экспертов республики. Михаил Макарович, невысокий располневший старик с седой курчавой шевелюрой и маленькими голубыми глазами, хитро блестевшими из-под стекол старомодного пенсне, был настоящим фанатиком своего дела, горячо и беззаветно влюбленным в нелегкий труд судебного медика. — Будем надеяться, — ответил Гиндин. — Надежда — удел живых... Они пришли на кладбище, когда солнце уже лежало на линии горизонта. Но раскаленный за день воздух был еще горяч. Кроме Туйчиева, Соснина и Гиндина здесь находились лейтенант Акбаров и двое понятых. Не теряя времени, приступили к делу. Решение назначить повторную экспертизу пришло сразу после того, как Туйчиев изучил все материалы. Прежде всего, было необходимо ответить на ряд вопросов, которые не были поставлены перед первой экспертизой. Арслан надеялся также более точно определить время смерти и возраст убитого, хотя последние два обстоятельства и совпадали со временем исчезновения Пономарева и его возрастом. Наконец, поскольку не исключалось, что убитый мог быть не Пономаревым, следовало снять отпечатки пальцев и на основании дактилоскопической формулы проверить, не было ли у убитого прежних судимостей, и таким образом установить его личность. Одновременно наметили восстановить лицо убитого по методу профессора Герасимова. Вернувшись с кладбища, Туйчиев и Соснин решили зайти в отделение милиции, еще раз просмотреть протоколы, обсудить результаты опроса жителей поселка. — Итак, — начал Арслан, — после исчезновения Пономарева Северцев сразу не уехал, но зато стоило обнаружить труп, как он тут же снялся с места... Допустим, что Северцев не причастен к убийству и его отъезд — случайное совпадение. Но тогда почему он не заявил об исчезновении своего квартиранта? А продажа вещей Пономарева задолго до обнаружения убитого? Ведь прежде чем пойти на такой шаг, надо быть уверенным, что Пономарев больше не появится. Эта уверенность могла возникнуть лишь в одном случае: если он знал, что Пономарев мертв... Да, Северцев сразу не уехал... Он или невиновен, или наоборот — был твердо уверен, что убитый не будет обнаружен... — Николай подумал и предположил: — Могла возникнуть убежденность в безнаказанности — слишком надежно был спрятан труп, и нашли его совершенно случайно. Ну а почвой для убийства мог стать один из скандалов... — И все-таки в этой версии есть один изъян: непонятно, как Северцев не побоялся продать вещи Пономарева. Ведь этим он дал неопровержимые улики против самого себя! Николай пожал плечами. — Пока ясно одно, — на фоне того, что мы знаем, Северцев выглядит весьма зловеще. Что же касается продажи вещей — пути человеческие неисповедимы...* * *
Далеко идут камыши. Ровной желтоватой полосой тянутся они над обрывистым берегом широкой реки. Виднеется несколько ив, высунувших из камыша свои зеленые грустные головы. Словно гигантская рожь, колышется это море метелок. Однообразно стелется оно, рябая поверхность плещет и переливается. Высоко в небе реет ястреб, плавно очерчивая замысловатые круги. Справа на лысинке, по которой проходит узкая тропа, мелькнула фигура на лошади и тут же пропала в зеленоватых волнах. Левее дрожит тонкая струйка дыма — наверное, в той стороне селение. Недалеко от берега время от времени взлетают из камыша белыми хлопьями птицы и опять падают вниз: крылатые рыболовы охотятся на озере. Туйчиев и Соснин приехали сюда вчера в конце дня. Выйдя из машины, они еще с полкилометра шли пешком, прежде чем достигли одинокой охотничьей сторожки. Долго и безуспешно стучали в закрытую дверь — никто не отзывался. — Вот это номер, — нахмурился Николай. — Как бы не пришлось нам ночевать в камышах. Он снова настойчиво постучал — теперь уже в небольшое резное окошко. — Ничего, авось кто-нибудь придет, — отозвался Туйчиев и сел на ступеньку. — Подождем. Ждать пришлось долго. Уже совсем стемнело, когда друзья неожиданно услышали глухое рычание. Они, как по команде, вскочили и обернулись. Большущий пес стоял метрах в десяти от крыльца и скалил зубы на пришельцев. — Но-но, не очень, я сам умею рычать, — бросил ему Соснин. — Скажи лучше, где твой хозяин? Собака вдруг сменила гнев на милость и приветливо завиляла хвостом. Она была настолько неопределенной масти, что ее нельзя было назвать даже дворнягой. — Ваша собака, конечно, не охотничья? — спросил Николай у высокого широкоплечего мужчины с густой курчавой бородой, который появился так же неожиданно, как и его пес, и в котором Николай безошибочно угадал хозяина. — А это уж от охотника зависит, — ответил бородач, медленно поднимаясь по громко заскрипевшим ступенькам. — Кто такие будете? Приехавшие протянули охотничьи удостоверения. Бегло взглянув на них, он без особой радости бросил: — Ну, раз приехали, заходите. Рекс, пошел на место! Друзья взяли ружья и рюкзаки и вошли в дом вслед за бородачом, который шел впереди и не предупредил, что сразу за дверью в сенях стоит ведро. Николай, который не подозревал о наличии преграды, смело шагнул по темному коридорчику вслед за хозяином и тут же растянулся на полу. Арслан улыбнулся и полез в карман за спичками, но егерь уже зажег большую керосиновую лампу. В просторной по-спартански обставленной комнате (железная кровать, стол, несколько стульев) было чисто и пахло мятой. Слева, вдоль стены, наверх шла узенькая крутая лестница без перил. Все трое поднялись на второй этаж, и хозяин сказал: — Здесь и располагайтесь. Друзья осмотрелись: две кровати, две раскладушки, в углу — спальные мешки, маленький столик, плетеные стулья и невесть откуда попавшее сюда кресло-качалка с ободранной спинкой. Постояв немного, хозяин молча спустился вниз. Арслан и Николай умылись и стали готовиться к ужину. На столе появились буженина, сыр, колбаса, пирог с яйцами, бутылка коньяка. — Ну как тебе егерь? — спросил Николай. Арслан неопределенно пожал плечами. — Я пойду, приглашу его. Вскоре Николай вернулся вместе с хозяином. — За знакомство! — Туйчиев протянул егерю бумажный стаканчик. Тот залпом выпил и, взяв кусочек хлеба, стал медленно жевать. — Да вы не стесняйтесь. — Соснин пододвинул закуску. — Меня зовут Николай, его Арслан, а вас как величать? — Василий Феофилыч, — ответил он, мрачно глядя в тарелку с колбасой. Теперь друзья внимательнее разглядели хозяина. Это был мужчина лет сорока пяти, с широченными покатыми плечами и, будто вырубленными из гранита, крупными чертами лица. Глаза закрывали густо сросшиеся брови. В его могучей фигуре, тяжелых кулаках сквозила нечеловеческая сила. «Великолепная натура для скульптора», — подумал Арслан. — Приехали на кабана, слыхали, что водятся они в этих местах, — объяснил Николай. — Не подскажете, где кабанья лежка? — Можно. После второго бумажного стаканчика егерь стал немного разговорчивей. — Ходят здесь два секача. Одинцы. Они беседовали долго. Около десяти часов хозяин встал. — Пора спать. Подъем в четыре утра. — Он ушел вместе с Рексом вниз. — Спать, спать! Завтра будет видно, — ответил Туйчиев на немой вопрос Соснина. Без десяти четыре их разбудил егерь. Едва они вышли из домика — прозвучали первые раскаты грома. Пошел дождь, через несколько минут он обратился в ливень. Подул сильный ветер. Охотники долго шли по узкой тропе, пока не спустились к саю, в котором предполагалась кабанья лежка. Ветер немного утих, но дождь лил по-прежнему. Рекс убежал далеко вперед, за ним вразвалку, не оглядываясь, шел егерь. Шагах в десяти от него — Соснин. Замыкал шествие Туйчиев. Одежда у Арслана местами намокла, прилипла к телу и сковывала движения. Сбегавшая за ворот с козырька фуражки струйка вызывала невольную дрожь. На какое-то мгновение Арслан пожалел, что пошел на охоту. Зато Николай шел с сияющим видом и снисходительно посматривал на то и дело отстававшего товарища. — Ну, что, двинем в камыши или вернемся домой? — спросил егерь, насмешливо оглядев Туйчиева. — Что вы! — испугался Николай, чувствуя, что Арслан может сыграть отбой всей этой затее. — Конечно, двинем дальше! — Он с надеждой посмотрел другу в глаза. Они разделились: Туйчиев пошел вместе с Василием Феофиловичем, а Соснин метров на десять принял вправо — впереди него бежал Рекс. Несколько раз охотникам попадались натоптанные кабанами небольшие полянки. Здесь же было много пересекающихся тропинок. По одной из них и повел Василий Феофилович Арслана. — Стойте! — вдруг крикнул Николай. Они остановились, прислушались. Доносился какой-то шорох и временами вздрагивали и тряслись метелки. — Кабан, — шепотом произнес егерь, сбрасывая с плеча ружье. Туйчиев последовал его примеру. И здесь Рекс показал себя. С неимоверной быстротой он стал продираться сквозь камыш и вскоре догнал кабана. Раздался ожесточенный лай, затем послышались визг и глухое хрюканье. — Скорей, уйдет! — крикнул егерь Туйчиеву. — Обходи слева! Зверь был где-то здесь, всего в нескольких шагах, но увидеть его мешал камыш. Наконец справа раздался выстрел. Это стрелял Соснин. Неожиданно Арслан заметил кабана — выстрелил, но промахнулся. Более точным оказался залп егеря... Добычу пришлось оставить — слишком была тяжелой, чтобы тащить через камыши на руках. Вернулись, но Василий Феофилович не торопился. Только к вечеру он оседлал лошадь и привез кабана к сторожке. К тому времени друзья успели не только переодеться во все сухое, но и отдохнуть. Они стояли возле дома и наблюдали, как около костра егерь разделывал тушу. — Здорово орудует ножом, — шепнул Соснин Арслану. — Чувствуется школа... Кавардак получился отменный. Хозяина дома, по-видимому, смутила лишь одна деталь: початая бутылка коньяка стояла на тумбочке, но оба гостя сами не пили и ему не предлагали. Ужинали молча. Когда со стола все убрали, а посуду вымыли, Туйчиев начал нелегкий разговор. — Вы извините, Василий Феофилович, что сразу не предупредили: мы не только ради охоты приехали. Нам нужно серьезно поговорить с вами. Егерь долго молчал после того, как Арслан сказал, что он следователь и занимается делом об убийстве в поселке, откуда он, Василий Феофилович Северцев, не так давно уехал. На мрачном лице егеря легли новые тени. Он встал, подошел к окну и, повернувшись спиной к сидевшим, едва слышно процедил: — Нашли все-таки... — Между прочим, это было не слишком сложно, — сказал Николай. Рекс, как бы чувствуя, что хозяину угрожает опасность, подбежал к егерю и лег у его ног. — Садитесь и давайте спокойно побеседуем. — Арслан достал бланк протокола допроса. Василий Феофилович сел на край табуретки, собака перебежала вслед за ним. — В убитом опознан Пономарев Вячеслав Тимофеевич. Он последнее время проживал у вас на квартире, не так ли? Северцев молча кивнул. — Расскажите, что вам известно об этом человеке. Долго ли он жил у вас? — Человек как человек, считай полгода занимал комнату. Вот и все. — Все? — в голосе Арслана звучали насмешливые нотки. — Когда вы произнесли «Нашли все-таки», вы тоже имели в виду только то, что сказали? Пауза была долгой и тягостной. — Почему вы уехали из поселка? — Надоело мне там. — Ваш отъезд был довольно стремительным. Стоило обнаружить убитого — и через два дня вы уезжаете... Это что, случайное совпадение? — Не знаю, уехал и все. — Вы переписываетесь с кем-нибудь из поселка? — Нет. — Тогда откуда вы знаете о смерти Пономарева? — Сами ведь только что сказали. — Северцев не мог скрыть изумления. — Да, но вы отнеслись к этому сообщению как к давно известному факту. — Слыхал, когда уезжал, что человека нашли мертвого. — Почему вы решили, что убит Пономарев? — Но вы тоже решили. — Нам стало известно об этом всего несколько дней назад. Но вы-то знали почти два месяца! Чувствуете разницу?.. И второе: вы продали вещи Пономарева, значит были уверены, что он к вам уже не вернется. Отмалчиваться, как видите, не в ваших интересах. Кажется, в последнее время ваши отношения с Пономаревым не отличались особой дружелюбностью? Убедившись, что окольными вопросами от Северцева ничего не добьешься, Арслан вывалил перед ним, как из мешка, сразу все улики. Расчет оказался правильным. Северцев после очередной паузы, подперев голову руками, заговорил. — В недобрый час свела меня судьба со Славкой... Дернула нелегкая взять квартиранта. А все одиночество, тоска, хоть на стену лезь... Думал, все же человек, вместе работаем, слово живое скажешь — все легче. А вот как обернулось... — Северцев задумчиво провел рукой по бороде. — Поначалу ничего, мирно жили. Потом завертелось: часто выпивал он, придет — лыка не вяжет, свалится куда попало и дрыхнет. Я ему сказал: «Не будь свиньей!» Он обиделся, несколько дней не разговаривал. Как-то вечером подсел ко мне, все о дочке расспрашивал, — потерялась она во время войны. Куда я только ни обращался, как в воду канула. Да разве найдешь — страна-то вон какая. Я и в поселок подался из-за того, что показалось, будто девушка одна уж больно на нее смахивает. Жила через два дома от меня. Присмотрелся — нет, не она... Северцев налил в стакан квасу, жадно выпил. — Славка и говорит: есть у меня приятель, работает там, где розыском пропавших занимаются, могу подсобить. Мы, говорит, частный сыск сделаем, только деньга нужна. Фирма с гарантией. Поверил, дурак, ему, деньги дал, он по субботам все в город ездил, к другу. «Идут дела, не дрейфь, старик, найдем дочку». Почитай, три месяца за нос водил, как слепого кутенка. Понял наконец: врет все. Однажды, в апреле было, пошел я вечером на станцию: получил телеграмму от фронтового друга — буду, мол, проездом. Встретил, погутарили с ним, вспомнили, как под Будапештом с того света вернулись. Проводил его. А Славка не отстает, рядом маячит — он этим же поездом из города прибыл, тепленький. Давай, говорит, выпьем, Феофилыч. Я отказался и пошел по железнодорожному пути в сторону поселка, он за мной увязался. Когда деньги отдашь, спрашиваю, которые обманом выманул? Да ты что, отвечает, шарики потерял? Деньги все на поиск ушли. И чего ты так убиваешься за дочкой, вон у меня двое их, так ведь одно разорение — алименты плачу. Хочешь, я тебе своих отпрысков отдам — и в расчете. Ну, я тут не выдержал, припечатал ему в поганую рожу и пошел дальше, а он лежать остался. Утром проснулся, нет его. И здесь меня страх взял: вдруг я его прикончил, силой-то бог не обидел. Побежал на то место — никого и ничего. Через месяц по поселку слух: на станции человека мертвого нашли. Ну, я вещи его продал и подался сюда, на старое место. Не знаю, может, и виновен... — Нож был у вас? — тихо спросил Соснин. — Такими игрушками не балуюсь...* * *
Кадырханов любил эти вечерние часы, когда наконец переставал трезвонить телефон, да и сотрудники уже не так часто входили в кабинет. Можно было спокойно обозреть прошедший день со всеми его происшествиями. А за день их случалось немало. Бывали, конечно, и крупные происшествия, но последнее время больше беспокоили маленькие ЧП. Вот сегодня, например, пришел один гражданин, очень взволнованный, и говорит: «Куда это милиция смотрит, никакого порядка!» Оказывается, на улице, где расположен райотдел милиции, днем не выключают уличное освещение. Вот тебе и чрезвычайное происшествие! Вспомнив этот случай, Кадырханов невольно усмехнулся: неплохой урок по охране народного достояния! Чаще всего Кадырханов занимался вечерами разбором поступившей за день почты. Долгие годы работы в милиции приучили его внимательно относиться к любым сообщениям. Сколько раз бывало, что незначительный на первый взгляд факт при тщательной проверке приводил к раскрытию тяжких преступлений. Но не только с профессиональной точки зрения относился Кадырханов к письмам граждан. Читая их, он чувствовал биение пульса района во всем многообразии жизненных ситуаций. О чем только не писали люди! С горестями и радостями обращались они в милицию, потому что верили ей. Это людское тепло согревало, придавало силы, делало особенно значительным нелегкий милицейский труд. Сегодня внимание Кадырханова привлекло одно письмо, в котором сообщалось, что заведующий магазином № 17 Азизбеков живет явно не по средствам. «Жена Азизбекова, — писали в письме его соседи, — хвастается, что магазин ее мужа — «золотое дно». Наверное, это на самом деле так. Азизбеков работает один, имея четырех иждивенцев. Часто покупает ценные вещи. В квартире Азизбековых без конца пьют, гуляют...» Отодвинув письмо, Кадырханов потянулся к телефонной трубке. — Рустам Каримович? Еще не ушел? Зайди, пожалуйста, посоветоваться надо. Через несколько минут в кабинет начальника милиции вошел невысокий седоватый начальник ОБХСС Хафизов. — Познакомься, пожалуйста, с этим письмом. Кадырханов протянул майору синий конверт и, выждав, пока тот ознакомится с содержанием письма, спросил: — У вас что-нибудь имеется на этого Азизбекова? — Нет, это первая ласточка. Внезапная инвентаризация, проведенная на следующий день в магазине № 17, выявила крупную недостачу. Азизбеков объяснить причину ее образования не мог. Не могли объяснить и другие работники магазина. Некоторая надежда забрезжила лишь после беседы с практиканткой Лолой Каршиевой. Она рассказала, что накануне инвентаризации случайно услышала часть разговора Азизбекова с продавцом Ковалевым. Речь шла о деньгах, которые Азизбеков должен сегодня кому-то передать. Возникло предположение: Азизбеков изъял деньги из выручки магазина для закупки «левого» товара, после его реализации деньги должны быть возвращены в кассу магазина. В свою очередь, не исключалось, что часть этого товара еще не реализована, ведь операция, по словам Лолы, могла быть проведена только в конце вчерашнего дня. Как бы то ни было, проверить эту версию следовало немедленно, поэтому тотчас же приступили к обыску в магазине. Результаты обыска превзошли самые смелые ожидания работников ОБХСС. В подсобном помещении магазина был обнаружен тайник, из которого извлекли сто хозяйственных сумок. Вторично проверили документацию. Обнаруженные сумки производства кожгалантерейной фабрики № 2 в приходе магазина не значились. Итак, все становилось на свои места. Допрос Азизбекова подходил к концу. Заискивающе глядя в глаза следователю, Азизбеков торопливо, захлебываясь, вновь и вновь повторял, что это первый случай, когда он закупил «левый товар», и что тех, кто продал ему сумки, он совершенно не знает. — Давайте, Азизбеков, подведем некоторые итоги. — Следователь встал и подошел к Азизбекову, который тотчас же поднялся, но следователь жестом показал на стул, и тот снова сел. — Я просто поближе к вам, Азизбеков. Вы ведь говорили, что никогда не были так откровенны, как сегодня. Не так ли? — Совершенно верно. Азизбеков сидел на самом краешке стула, во всей его позе чувствовалась настороженность. — Не могу понять, Азизбеков, как это ваш сотрудник Ковалев знает, что сумки в магазин привез Семен Ильич, а вы этого не знаете. — Правильно, Семен Ильич звать его, такой маленький, щупленький старичок, — оживился Азизбеков. — И как это у меня из головы вылетело! — сокрушенно развел он руками. — Напрасно удивляетесь, — усмехнулся следователь. — Это все плоды вашей откровенности. — Нет, нет. Я действительно запамятовал. Всего раз его видел. Встретился с ним случайно во дворе промтоварной торгово-закупочной базы. Ни фамилии, ни места его работы не знаю. Вроде бы товаровед он по специальности. Подошел ко мне и предлагает партию хозяйственных сумок по заниженной стоимости, всего шестьдесят процентов, только деньги, говорит, сразу на кон. Я сказал ему, что подумаю и ответ сообщу в конце дня. Вот так и купили мы эти сумки, будь они прокляты... Было ясно, что Азизбеков больше ничего не скажет. Надо искать Семена Ильича, если только эта личность реальная. Одновременно следовало назначить ревизию цеха фабрики № 2, маркировка которой имелась на изъятых в магазине сумках. Но здесь следователь допустил ошибку. Увлекшись поисками товароведа Семена Ильича, он назначил ревизию лишь спустя три недели. Эта запоздалая проверка никаких результатов не дала. Более успешными были поиски Семена Ильича. Им оказался некий Шнайдер — товаровед одного из торговых предприятий города. По внешнему виду он был похож на человека, описанного Азизбековым и Ковалевым. Но опознать Шнайдера они не смогли. Сам Шнайдер категорически отрицал какие бы то ни было операции по поставке хозяйственных сумок без документов. Попытки изобличить Азизбекова, Ковалева и Шнайдера с помощью противоречий в их показаниях успеха не принесли. Ничего нового не могли сказать и свидетели. Следствие зашло в тупик.* * *
— Михаил Макарович, здравствуйте, Туйчиев вас беспокоит. Как там наши дела? — Здравствуйте, Арслан Курбанович, — Гиндин говорил как всегда, чуть растягивая слова. — Испекли вам пирожок, можете забрать. В заключении повторной судебно-медицинской экспертизы указывалось: «Смерть наступила от множества колоторезанных повреждений, которые носили прижизненный характер и были нанесены одним ножом. Возраст убитого — 25-28 лет. Давность наступления смерти — в пределах полутора-двух месяцев с момента обнаружения трупа». — Ну, что нового, уголовный розыск? — спросил Туйчиев у Соснина, вернувшись в свой кабинет от судебных медиков. — Есть сообщение: на основании данных дактилоскопической формулы убитый по уголовной регистрации не значится. Выяснилось также, что Пономарев Вячеслав Петрович судимости не имел. Пока все. Арслан протянул Николаю заключение судебно-медицинской экспертизы, а сам стал внимательно читать полученный из Челябинска ответ. Жена Пономарева рассказала сотрудникам челябинской милиции, что уже более двух месяцев не получала денег по исполнительному листу и ничего не знает о том, где находится ее бывший муж. В сообщении указывался и адрес матери Пономарева, которая проживает в Брянской области. По этому адресу сразу же направили запрос. Обедали в маленьком уютном кафе, расположенном в двух кварталах от прокуратуры. Арслан молча водил вилкой по тарелке с бифштексом, Николай катал хлебный шарик, бросая рассеянные взгляды по сторонам. Угнетало отсутствие ясного плана дальнейшего расследования. Да и как проверить правдивость показаний Северцева?.. В кабинет вернулись молча. Сразу же вошла Таня — она принесла только что полученное заключение экспертизы, восстановившей лицо убитого по методу профессора Герасимова. Результаты ее были ошеломляющие: удлиненный овал лица и широко поставленные глаза молодого мужчины не имели даже отдаленного сходства с фотоснимком Пономарева. — Вот так сюрприз... — только и смог сказать Арслан.* * *
Телеграмма из Брянска: «Пономарева Анна Митрофановна получила 16 июня письмо сына Пономарева Вячеслава Петровича тчк Обратный адрес Челябинск Параллельная 19 тчк Письмо выслали ваш адрес тчк»Из протокола допроса Пономаревой Елены Дмитриевны.
Вопрос. Объясните, гражданка Пономарева, почему вы при первом допросе сказали, что не знаете, где находится ваш бывший муж? Ответ. Мой бывший муж приехал в Челябинск в конце апреля месяца и стал меня уговаривать снова жить вместе. Я, говорит, одумался, решил вернуться к тебе, надоела бродячая жизнь. Я сначала не хотела, потом согласилась — ведь дети, двое их у меня. Хоть какой, а все же отец им. Обрадовались они очень, особенно младшая. Побыл несколько дней дома, потом собрался и уехал со строительной бригадой в колхоз, чтобы заработать, в городе пока устраиваться не хотел. Перед отъездом сказал: если кто будет спрашивать обо мне, скажи — ничего не знаешь, где я и что со мной, потом объясню, зачем это нужно. Когда я первый раз получила повестку, испугалась — наверное, Слава что-то натворил. Только стала склеиваться семья — и снова все прахом. Вот я и солгала... Но мужа и в самом деле тогда не было в городе — работал в колхозе.Показания Пономарева В. П.
...После того как Северцев меня ударил, я упал и потерял сознание. Очнулся — никого вокруг. Пошел на станцию, сел в зале ожидания, домой идти боялся — прибьет еще чего доброго. Деньги-то, которые взял унего, я прогулял, а сумма не маленькая — шестьсот пятьдесят рублей, где их взять? Вышел на перрон, пассажирский стоит, ну я, не думая больше ни о чем, сел в него, проехал зайцем до Сызрани, там пересел на Челябинск. Когда приехал домой, предупредил жену, чтобы никому ни слова: боялся Северцева, он знал, что я из Челябинска, еще в суд обратится...Так, описав зигзаг, ниточка следствия вернулась на исходный рубеж и оборвалась. «Пономарев был жив и не собирался умирать. Северцев говорил правду, и вообще все стало просто и ясно. Для Северцева с самого начала было ясно, что убит Пономарев. Но я-то!.. Сам себе одел шоры на глаза и с упорством мула лез в одном направлении. Одна версия — это не версия. Знал прекрасно эту прописную истину и все-таки попал в плен собственной однобокости. Какое вы имели право, дорогой Арслан Курбанович, игнорировать другие возможные варианты? Никакого. Может быть, утешиться тем, что одна версия исключена, значит какое-то движение вперед было? Хорошенькое утешение! Интересно, что скажет на этот довод прокурор области, который вызвал его на одиннадцать часов утра для доклада? Но хватит себя четвертовать. Нужно хорошенько подумать — с чего начать...» Сейчас уже не вызывало сомнений: убитым мог оказаться кто-нибудь из приезжих. Это подтверждали и полученные сведения: все мужчины от 20 до 30 лет, выбывшие из поселка в марте и апреле, живы и находятся в различных городах страны. Кто он — этот приезжий? Отстал от поезда или случайно попал в поселок?.. Вот в каком направлении необходимо вести поиск! Кроме того, нужно срочно размножить и разослать по всей стране фотоснимок убитого. Может быть, его давно ищут как пропавшего без вести...
* * *
В небольшом уютном дворике Акбаровых было чисто и прохладно. Туйчиев и Соснин пили кокчай. Дильбар, жена Акбарова, угощала их горячими, только что из тандыра, лепешками. Хозяин священнодействовал у казана, в котором варилась шурпа. Лейтенант Пулат Акбаров встретил приехавших утром друзей, как старых знакомых. Прямо из поселкового отделения милиции они втроем пошли на радиоузел и договорились о передаче объявления. Без помощи жителей поселка продолжать розыски было просто невозможно. Поддавшись настойчивым уговорам Пулата, друзья направились к нему домой. Обед еще не был закончен, когда по репродуктору стали передавать объявление. Арслан внимательно вслушивался в текст, еще раз придирчиво проверяя, не забыто ли что-нибудь. После радиообращения к жителям поселка в отделение милиции пришли четыре человека. Двое из них рассказали, что видели в конце апреля вечером на станции какого-то подозрительного мужчину с рюкзаком за плечами, причем, когда на следующий день возвращались обратно, мужчины уже не было, но на этом месте остался его рюкзак. В рюкзаке ничего не оказалось — его выбросили. По фотографии, на которой была восстановленная внешность убитого, мужчина с рюкзаком не опознан. Проверить сейчас, имел ли этот человек отношение к преступлению, было практически невозможно. Третий житель поселка, Розанов, рассказал, что как-то в начале апреля на станции была стычка между отставшим от поезда гражданином и буфетчиком Усмановым. Этот гражданин, изрядно подвыпивший, зашел неуверенным шагом в буфет и потребовал, чтобы ему налили кружку пива. Он уверял, что пришлет деньги по почте, когда доберется домой. Буфетчик отказал. Тогда посетитель смахнул со стойки три стакана — они разлетелись вдребезги. Усманов выволок строптивого клиента из буфета и дал ему хороший подзатыльник. После этого гражданин уселся в конце перрона на скамейке и просидел там, пока не стемнело. Уехал ли он в тот вечер — Розанов не знал и больше его не видел. Буфетчик Усманов полностью подтвердил показания Розанова. Кроме того, он добавил, что пьяный гражданин назвался Малагиным или Маландиным, работником областного управления сельского хозяйства. Поздно вечером в милицию пришел шахтер Гарифуллин, слегка прихрамывающий молодой мужчина лет двадцати семи. Пятого мая он возвращался со станции домой, шел медленно, опираясь на костыль: за две недели до этого сломал ногу, и нога еще была в гипсе. Когда Гарифуллин обогнул здание железнодорожной станции, его внимание привлекла группа мужчин. Их было четверо, собственно говоря, сначала двое, потом подошли остальные. Внезапно те двое, что подошли, набросились на стоявших. Вернее, на одного из них, потому что второго сразу оттолкнули. Гарифуллин хотел закричать, но потом передумал и поспешно заковылял к ближайшему дому, чтобы кого-нибудь позвать. До дома оставалось шагов пятнадцать, когда мимо Гарифуллина промчались двое. По его зову выбежали два брата Рахимбековых, но на месте драки уже никого не было. — В армии я служил во внутренней охране, — сказал Гарифуллин. — Был у нас в колонии один забияка, режим часто нарушал. Так вот один из двоих, что пробежали мимо меня, мой старый знакомый. Фамилии его не помню, но кличка у него была... На языке вертится, а не вспомню... A-а, вспомнил: «Ржавый».* * *
«Долгов Петр Никанорович, кличка «Ржавый», 1935 г. рождения, уроженец г. Караганды, ранее дважды судим: в 1953 г. по ст. 74 ч. II УК РСФСР, в 1960 году по ст. 125 ч. I УК УзССР, наказание отбыл полностью. После освобождения проживал в различных районах Узбекистана...» Эти сведения были получены лишь вчера, но уже сегодня Соснин установил, что Долгов живет в городе и работает слесарем на ремонтном заводе. — Скажите, Долгов, вам не приходилось выезжать в мае месяце за пределы города? Настороженный взгляд все время ощупывает Туйчиева и Соснина. Высокий худой мужчина с рыжеватой шевелюрой и большими ушами, чуть наклонив голову на бок, внимательно вслушивается в вопросы и интонацию следователя, беззвучно шевелит губами, как бы повторяя вопрос для себя, затем долго молчит. Туйчиеву выдержки не занимать, он не торопит допрашиваемого. Пусть думает. — Нет, никуда не ездил, — наконец решительно выдыхает Долгов. Однако на лице Арслана невозможно что-либо прочесть. Он просто задает вопросы, с безразличным видом заносит ответы в протокол. — Вспомните хорошенько, Долгов. Может быть, вы забыли. Молчание. Допрос идет уже давно. Соснин нетерпеливо барабанит пальцами по краю столика, но Арслан не обращает на него никакого внимания. Кажется, он и Долгова не особенно слушает, занятый какими-то своими мыслями. Наконец он едва заметно кивает Николаю, тот встает и через минуту входит с двумя мужчинами, которых сажают рядом с Долговым. Вызвали Гарифуллина. Он оглядел сидящих и показал на Долгова. — Вот этот. — Спасибо. Подпишите протокол. Все свободны. Долгов в замешательстве: он не понимает, в связи с чем внезапно появился сержант, которого он хорошо помнит по колонии, и что вообще известно следователю. Взгляд Долгова падает на конверт, который вертит в руках Туйчиев. На конверте надпись: «Старшему следователю тов. Туйчиеву (лично)». Из конверта на стол падает фотоснимок железнодорожной станции шахтерского поселка. А вот краешек другой фотографии — какой-то мужчина, похожий на Долгова... Неужели его в тот раз сфотографировали? — Был я в поселке, — неожиданно говорит Долгов. — Ну и что из этого? — Здесь вопросы задаю я, — мягко парирует Туйчиев. — Какого числа вы были в поселке? — Пятого мая. — С кем? — С Мишкой Захаровым. Работали с ним вместе, месяца два как он уехал. — Куда? — Точно не знаю, кажется, на Украину. — Кто еще был с вами в поселке? — Больше никого не было. — Что вы там делали? — Гуляли... шахту осматривали, интересно там. — Бросьте, Долгов. Неужели вы не понимаете всю серьезность вашего положения? Что вы делали в туалетной? — Известно, что... — Я имею в виду нападение, которое вы совершили с Захаровым. — Ничего не знаю, гражданин следователь. Вы меня с кем-то путаете. — Слушайте, Долгов: человек, на которого вы напали, обнаружен мертвым. Узнаете? — Туйчиев протянул ему фотографию убитого. Дрожащей рукой Долгов взял фотографию. Он весь как-то съежился, стал меньше ростом, на лбу выступила испарина. — Не может быть... — Долгов отложил фотографию, закрыл ладонью глаза и откинулся на спинку стула. — Не может быть... Мы ведь только... — Это тот человек, на которого вы напали? — Тот. — Расскажите все с самого начала. И Долгов заговорил. Они с Захаровым приехали в поселок утром, пробыли здесь целый день. Часов в восемь вечера, когда шли на станцию, чтобы вернуться, встретили около туалетной незнакомого мужчину. Он стал их оскорблять и набросился с кулаками. Защищаясь, они ударили его несколько раз и убежали. — Мужчина был один? — Да, один. — Вы лжете, Долгов. Во-первых, вы сами набросились на него, а во-вторых, он был не один. Вот показания Гарифуллина, все произошло на его глазах. Кто был с ним? — Не знаю. — На теле убитого двенадцать ножевых ран. Кто его убил — вы или Захаров? Долговым овладел страх. Он вскочил со стула и истерически закричал: — Не шейте мне мокрое дело, не убивал я его! — Спокойнее, Долгов, вы не на сцене. Будете говорить правду или нет? — Хорошо, — тихо сказал Долгов, опускаясь на стул. — Я все скажу. Водички можно? Арслан протянул ему стакан с водой. — Четвертого мая пришел ко мне домой Захаров. Дело есть, говорит, можно заработать. Что за дело, спрашиваю. Так, ерунда, отвечает, навешать надо одному пижону, чтобы на чужих жен не заглядывался, гонорар царский — по зелененькой на брата. Я сдуру и согласился. Наутро сели в поезд и через два часа были в поселке. Захаров сказал мне: тот человек, которого надо избить — молодой, он будет идти вместе с тем, кто нас нанял. Мы должны были напасть якобы на обоих, а бить только молодого. В девятом часу вечера мы покинули буфет и пошли вдоль железнодорожной линии. Все было как договорились. Я увидел двух мужчин, которые стояли неподалеку. Один из них молодой, другой — лет пятидесяти, с большой лысиной. Захаров кивнул: тот, что слева. Сам он оттолкнул в сторону лысого, а я несколько раз ударил молодого. Захаров его тоже ударил, но ножей у нас, упаси бог, не было. Парень тот упал, и тогда к нему подскочил лысый. «Бегите! — кричит. — Встретимся, где условились!» Ну мы и побежали, а он остался около парня... — Долгов на минуту умолк и перевел дыхание. — Так вот. Уехали мы в этот же вечер на попутном товарняке в город. Утром на работе встретил Захарова, он дал мне пятьдесят рублей. Все. — Кто были эти двое? — Верите, никогда их раньше не видел. И после не видел. Одно знаю, не убивал я его... — Значит, того мужчину, который вас нанял, знал только Захаров? — Да. Но Мишка ничего о нем не говорил, а вскоре и сам укатил... — Похоже на правду, а? — обратился Соснин к Туйчиеву, когда милиционер увел Долгова. — Очень похоже, — ответил Арслан. — Если все, что он здесь сказал, — правда, то это уже победа. Ну, Коля, теперь дело за тобой. Захаров — вот кто у нас на очереди. Да, кстати, как там с проверкой показаний буфетчика? — Нашел я этого человека. Малагин Юрий Леонидович. Когда я представился и попросил рассказать о его похождениях, он очень смутился. Все извинялся за свое поведение в буфете, за бумажник хватался, хотел штраф уплатить. Уверял, что больше такого позора не допустит. — Жив, значит, — улыбнулся Арслан. К вечеру стал известен адрес Захарова. А ночью поезд увозил Туйчиева, Соснина и Долгова на Украину.Поначалу Захаров, молодой прыщавый парень, категорически отрицал свое участие в нападении на человека в шахтерском поселке. Но после того, как Туйчиев показал ему фотоснимок убитого и провел очную ставку с Долговым, он признался в этом. Его знакомый, Назаров, который работает на галантерейной фабрике, попросил Захарова проучить одного хлыща — дескать, тот не дает проходу его жене. Назаров посоветовал найти еще кого-нибудь и посулил деньги. — На деньги я и позарился, — вздохнул Захаров. — Никогда бы на убийство не пошел, мне что, жить надоело? Мы с Петькой драпали — только пятки сверкали. Постойте, ведь он же остался около того парня! Идиот я набитый! Я все понял. Это он, Назаров, убил его! — Ну положим, вы тоже приложили руки к убийству. Без вас двоих он бы наверняка не решился. Так что поняли вы поздно.
Охранника кожно-галантерейной фабрики Назарова задержали утром, когда он шел на работу. Через полчаса он сидел в кабинете Туйчиева. Невысокого роста, грузный, лет пятидесяти. Правильные черты лица портили следы оспы. Назаров вел себя вызывающе, кричал, что пожалуется прокурору. Но как только Туйчиев спросил, где он был пятого мая, Назаров сразу утих. Все же он довольно уверенно ответил: в этот день, насколько ему помнится, был дома. А где он еще мог быть? Конечно, дома, в кругу, так сказать, семьи. — Мне придется освежить вашу память, Назаров. Пятого мая вы были в поселке. Напомнить, что вы там делали, или сами расскажете? Допрос был тяжелым. Как заставить Назарова, который всячески изворачивался, назвать убитого? Ведь до сих пор не известно — кто убит. Назаров, конечно, не придает этому значения, отрицая лишь факт убийства. — Напрасно отказываетесь, Назаров, что были в поселке в этот день, — Туйчиев протянул ему фотоснимки Долгова и Захарова. — Ведь вы там встретили этих людей. Не так ли? Назаров долго изучал фотографии, выигрывая время. Наконец проговорил: — Как же я забыл! Был я пятого мая в поселке, а эти двое бандитов еще напали на нас и избили. — Нельзя ли подробнее, с кем вы были и где на вас напали? — Ну как же, приехал я в поселок поездом, знакомые у меня там, вышел на перрон и встретил начальника цеха нашей фабрики Виктора Самсонова, пошли мы с ним, разговариваем, и тут на нас напали эти негодяи... — Это Самсонов? — Туйчиев показал Назарову фотоснимок убитого. Настала решающая минута. — Он, — после длительной паузы произнес Назаров. Николай поднялся со стула и быстро вышел. — Скажите, Назаров, сколько лет вашей жене? — неожиданно спросил Туйчиев. Назаров опешил: настолько несуразным показался ему вопрос. — Моей? — переспросил он, — сорок девять. — И давно добивался ее благосклонности Самсонов, который был в два раза моложе ее? — Не понимаю. — Опять пробел в памяти? Назаров убедился, наконец, что дальше изворачиваться бесполезно, и во всем признался. Да, это он убил Самсонова. — Прошу занести в протокол, — вытирая дрожащей рукой пот на лбу, сдавленно произнес Назаров. — Я признался сам. Туйчиев внимательно посмотрел на него. — По-вашему, это явка с повинной? За что вы убили Самсонова? — Ничего плохого к парню я не имел... Это все Потапов... Окрутил меня, сволочь, — заревел Назаров. — Скажите, суд учтет, что у меня диабет?
* * *
Потапов относился к той немногочисленной категории людей, чье извращенное представление об истинных жизненных ценностях прямо связывалось с жаждой наживы. Добывать деньги любыми способами — таков был его сознательный жизненный принцип. Сейчас Потапов уже не мог бы ответить, когда это началось. Вот он, двенадцатилетний мальчишка, слушает рассказы отца, мелкого служащего у нэпмана, о том, как наживается его хозяин. Отец буквально захлебывался от восторга, выкладывая подробности о махинациях фирмы «Геликон. Пуговицы и гребешки». По выходным дням, выпив, он становился особенно словоохотливым и начинал воспитывать сына. — Деньги, они, милый мой, сила, — поучал отец. — Вот ты гляди на меня. Где у меня деньги? Нету. Значит, я кто? Нуль... Влечение отца к деньгам, его постоянные наставления глубоко запали в душу подростка, но первая попытка разбогатеть кончилась для Сашки печально. Целковый, вытащенный из старой бабкиной сумки, пришлось вернуть. А отец, расписывая ему ремнем место пониже спины, приговаривал: «Богатым стать захотел!.. Это, милый мой, хорошо, только голова здесь нужна. Надо ловкость ума иметь, а не рук». Урок, преподанный отцом, впрок не пошел. Сашка твердо считал, что ловкость рук тоже нужна. И в дальнейшем довольно успешно сочетал оба способа. Пять лет заключения, к сожалению, не исправили Сашку. Он жадно впитывал в себя рассказы о ловких дельцах, о различных аферах и по-прежнему мечтал, как он сам выражался, «о процветании собственной фирмы». Выйдя из колонии Александром Павловичем, он стал гораздо осмотрительнее и осторожнее. Устроился на работу в одну из московских артелей, выпускающих шерстяные кофточки, тщательно подобрал «нужных» людей. По его предложению, на каждом изделии экономили пятнадцать граммов шерсти и из остатков изготовляли новые кофточки, которые реализовались через ларьки. Дело процветало, но перед самой войной засыпался один из заведующих ларьков и потянул за собой всех. Суд приговорил Потапова к десяти годам лишения свободы. Этот срок он отсидел полностью — постарел, полысел, лишился многих зубов, но неистребимая жажда наживы продолжала в нем клокотать. Хитрый, бессовестный, изворотливый, он избрал своим девизом осторожность. Темные дельцы, всевозможные комбинаторы, охотники до народного добра отдавали должное умению Потапова выходить сухим из всяких передряг и охотно имели с ним дело. Он прекрасно знал их слабые места и быстро подчинял своей воле. Его боялись. Кто-то распустил слух, что Потапов в гневе прибил одного из своих компаньонов, и никто не хотел оказаться в подобной роли. Решимость идти на риск, точный расчет в махинациях создали вокруг Потапова ореол некой исключительности и превосходства. Он презирал прожигателей жизни и всем своим поведением старался не привлекать к себе внимания. Он скромно одевался, не посещал рестораны, не обставлял квартиру новейшей мебелью, обращая доходы от темных дел в золото. Не давая себе увлекаться, он выработал твердое правило: подолгу на одном месте не засиживаться. Действуя подобным образом, он в течение многих лет избегал разоблачений. «Дело» на кожгалантерейной фабрике Потапов считал своей лебединой песней, решив после этой комбинации «завязать». Когда, наконец, в достатке было сырье и налажены связи с некоторыми торгующими организациями, в автомобильной аварии погиб начальник цеха Аскаров. Его смерть спутала все карты. На должность, которую занимал Аскаров, назначили Самсонова — человека, Потапову совершенно не известного. Самсонов был неплохой специалист, хотя техникум закончил не так давно. Скромный, выдержанный, он со всей серьезностью начал вникать в производство. Потапов внимательно присматривался к Самсонову, изучал его. Он искал в нем те человеческие слабости, на которых обычно умел играть. Но время шло, а дело не продвигалось. Самсонов избегал контактов. А когда он наотрез отказался участвовать в махинациях и заявил, что сообщит куда следует, Потапов решил его «убрать» — конечно, не своими, а чужими руками.Перед Туйчиевым сидел опытный противник. Осторожно нащупывая лазейки, он старался не переступить определенных границ и говорил только об известных фактах. Он категорически отрицал свое участие в убийстве, несмотря на то, что Назаров упорно утверждал: Потапов — организатор преступления. Очная ставка с Назаровым не поколебала показаний Потапова. Он продолжал настаивать на том, что охранник фабрики почему-то на него клевещет. Заставить Потапова сознаться могли только новые, неопровержимые доказательства. В целом ясной картине преступления все же было несколько белых пятен. Прежде всего, оставалось не известным, как Виктор оказался в поселке. В первых числах мая здесь находилась Светлана, но она Виктора не вызывала. Родственников и друзей в поселке у него не было. Кто же мог его вызвать? Очевидно, тот, кто замыслил убийство... Итак, кто и как? На квартире, где жил Виктор, телефона не было. По междугородной телефонной станции фабрику из поселка не вызывали. Оставалось одно: либо письмо, либо телеграмма — от имени Светланы. Но Виктор вызывался на определенный день, письмо могло задержаться и сорвать своевременность его приезда. Значит, телеграмма... Начальник почты, молодая женщина, с нескрываемым интересом следила за Николаем, который быстро просматривал тексты отправленных телеграмм. Еще бы! Было до жуткости интересно: работник милиции, прямо на ее глазах, раскрывает какое-то преступление. — Полина Сергеевна, прочтите, пожалуйста, эту телеграмму. — «Самсонову, — медленно стала читать она, — срочно приезжай вечером жду гостинице Светлана». — Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, кто из жителей поселка отправлял эту телеграмму. — Да что тут вспоминать — один приезжий. Я ведь почему запомнила: подпись видите — «Светлана», а отправитель мужчина. Еще переспросила его — правильно ли имя, а он говорит, что правильно и что выполняет просьбу знакомой. По внешности, описанной Полиной Сергеевной, отправителем телеграммы был не кто иной как Потапов. Затем начальнику почты показали ряд фотоснимков, и она уверенно выбрала из них фото Потапова. Наконец представила заключение экспертиза: текст телеграммы выполнен Потаповым. Собранные доказательства свидетельствовали и о том, что Потапов был не только организатором убийства, но и организатором преступной группы расхитителей. В доме Потапова провели обыск. Нашли коробку с золотыми монетами царской чеканки достоинством в пять и десять рублей. Так постепенно, шаг за шагом, следствие приближалось к концу. И вот сегодня Потапову будет дан решающий бой... Как и на предыдущих допросах, Потапов держался спокойно и был предупредительно вежлив. Он уже не разыгрывал из себя невинную жертву — слишком очевидны были собранные доказательства, но по-прежнему утверждал, что он лишь рядовой исполнитель преступной воли Аскарова. — Я вызвал вас, Потапов, чтобы последний раз предоставить возможность дать чистосердечные показания. — Но я давно заявил: я полностью признаю свою вину как участника хищений... — А убийства Самсонова? — Насчет убийства ничего не знаю. — В таком случае ознакомьтесь с показаниями начальника почты. — Здесь явное недоразумение, гражданин следователь, она меня с кем-то спутала. Я никогда в жизни не был в этом поселке. Я даже не знаю, где он находится. — Вот заключение экспертизы. Она подтверждает, что текст телеграммы написан вами. Когда Потапов дрожащей рукой положил на стол заключение экспертизы, Туйчиев сказал: — А сейчас начальника почты мы пригласим для очной ставки. — Не надо, — глухо ответил Потапов. — Почему же? — Хочу дать правдивые показания, гражданин следователь. Может быть, зачтется... — Потапов, схватившись руками за голову, вдруг запричитал: — Не досмотрел, ох, не досмотрел! Все, казалось, продумал! Все!.. Успокоившись, Потапов стал подробно рассказывать о своей жизни. Перед Туйчиевым предстал отвратительный образ прожженного жулика, стяжателя, готового во имя наживы на любое преступление. Оказывается, когда Потапов решил убрать Самсонова, он узнал, что у нового начальника цеха есть невеста, которая нередко выезжает в командировки. Осуществить убийство он поручил своему старому дружку по местам заключения Назарову. Выезд Светланы в шахтерский поселок Потапов немедленно использовал. Но не желая посвящать Назарова во все детали задуманного убийства, вызов Самсонова в поселок Потапов взял на себя. — Тут я и просчитался, — закончил свой рассказ Потапов и закрыл лицо руками. — Да, Потапов, просчитались, — подвел итог Туйчиев. — Но не с телеграммой, а намного раньше — когда избрали для себя скользкий путь преступлений. Сколько хороших людей вы погубили, сколько нанесли душевных ран!.. Вы никогда не задумывались над этим, Потапов?
* * *
Звонок. — Папа, к тебе! — кричит Шухрат из коридора. Арслан вышел из комнаты и увидел в дверях Северцева, из-за плеча которого выглядывала Светлана. — Вы уж извините, Арслан Курбанович, за незваный визит, но, помнится, ко мне в хозяйство однажды тоже приехали гости, которых я не приглашал. Решил отомстить. — Проходите пожалуйста, проходите! Знакомься, Рано, — обратился Арслан к жене. — Северцев Василий Феофилович, а это его дочь — Светлана. Пока хозяйка хлопотала, накрывая на стол, Арслан расспрашивал егеря о житье-бытье. Вскоре пришел Соснин. За столом было шумно. Арслан весело рассказывал женщинам детали памятной охоты. — Доспехи Николая были как у крестоносца. Но самое печальное заключалось в другом: он чуть-чуть в меня не выстрелил! Спасибо Рексу: собака вспомнила, что я кормил ее колбасой, и вцепилась Коле в штанину. Так был спасен ваш покорный слуга. Шухрат зачарованно смотрел на отца, он все принимал за чистую монету. Северцев тихо смеялся, Светлана улыбалась. Она сильно похудела за последнее время, сказывалось пережитое: смерть Виктора и встреча с отцом. Соснин не спускал глаз с девушки, но заговорить с ней не решался. — Спасибо вам за все, — сказал на прощанье Северцев. — Дочка со мной едет, отпуск у нее. Обязательно приезжайте. Бродит у нас один кабанчик в камышах, я его пока не трогаю. — Приедем, — ответил Николай, неохотно отпуская теплую ладонь Светланы. — Непременно приедем.
Нулевая версия
Как всегда, в обеденное время в ресторане «Стрела», расположенном на привокзальной площади, было многолюдно. Мягко оттеснив швейцара, Басов подошел к зеркалу, причесал пятерней слипшиеся волосы и вошел в зал. Ошарашенный такой бесцеремонностью, швейцар не успел вымолвить ни слова. С трудом отыскав свободное место в углу громадного неуютного зала, Басов безуспешно пытался привлечь к себе внимание официанток. Поняв тщетность своих попыток, он тихо ругнулся и, стараясь не смотреть на аппетитно чавкающего толстяка-соседа, углубился в изучение меню. Он ничего не ел около двух суток. Острое чувство голода уже притупилось, лишь изредка посасывало под ложечкой. Наконец его заметили. Подошла официантка, молодая блондинка с высоким замысловатым шиньоном. — Слушаю, — равнодушно бросила она, глядя куда-то в сторону. — Два салата, два рассольника, биточки и триста грамм. — Вас двое? — Нет, я один. Просто проголодался. — Водка отпускается по сто граммов на посетителя, — тем же безразличным тоном изрекла официантка. — Может, с учетом моей персоны вы сделаете исключение? Официантка критически оглядела помятый пиджак посетителя и сомнительной чистоты рубашку. Однако что-то в его взгляде заставило изменить первоначальное мнение о клиенте. Этот, пожалуй, из тех, кто щедро бросает на стол чаевые. Движения ее стали быстрыми, и вскоре заказанные блюда вместе с запотевшим графинчиком стояли перед ним. Басов принялся хлебать из судка горячую жидкость и, только покончив с одной порцией рассольника, налил в фужер водку и выпил. Сидевший напротив толстяк подозвал официантку, рассчитался и ушел. — Простите, как ваше имя? — спросил Басов официантку, когда та принесла биточки. — Нина. — У меня к вам дело, Ниночка. Я здесь проездом. В родных пенатах был, отца провожал, так сказать, в последний путь. Чудак старик был, земля ему пухом, часы коллекционировал всю жизнь. Вот я и получил часовое наследство, а на что они мне? Да и в дороге издержался, боюсь, до дома не дотяну. Может, есть желающие среди подружек? — Он вынул из кармана коробочку. — Новые, золотые, фирма с гарантией. На базар идти неудобно, и поезд через час уходит. За полцены отдам: восемьдесят вместо ста шестидесяти. — Басов достал из другого кармана брошку и вложил в передник официантки. — Каждый труд должен быть оплачен. Нина обещала узнать и минут через десять вернулась. — Давайте еще. Вскоре она принесла деньги, которые он взял не считая. Если он хочет продать еще, сказала официантка, то пусть обратится к метрдотелю, вон он стоит у буфетной стойки. Басов расплатился по счету, оставив пять рублей «на мороженое», и встал из-за стола. Хотел подойти к метрдотелю, но передумал и медленно направился к выходу.* * *
— Опять ты стучишь? Хоть бы в воскресенье отдохнуть от этой трескотни. Голова разламывается. Валя обиженно поджала губы, и, хлопнув дверью, ушла в другую комнату. «Эти родители к старости становятся невозможными...» Полина Ивановна ничего не ответила, она лишь посмотрела на дочь поверх очков, проводила ее долгим взглядом, и ее пальцы снова забегали по клавишам. Полина Ивановна любила свою дочь самозабвенно и страстно, боготворила ее, с радостной готовностью выполняла ее любые прихоти. Сама Полина Ивановна оправдывала это тем, что у девочки было тяжелое детство. Валя выросла без отца — он погиб в последние дни войны. Росла она хилым и слабым ребенком. Часто болела. Не успевала оправиться от кори, как тут же сваливалась от скарлатины, а воспалением легких она переболела несколько раз. Жить было нелегко, и Полина Ивановна нередко оставалась вечерами на работе: печатала, пока не деревенели пальцы. Потом сумела приобрести старенькую машинку и стала брать работу на дом. Печатала ночами, чтобы иметь возможность одеть Валю не хуже, чем другие одевают своих детей, да и накормить соответственно ее слабому здоровью. И даже тогда, когда Валя окрепла и перестала болеть, Полина Ивановна продолжала водить ее по врачам и не верила им, что у Вали нет никаких воспалительных процессов, ни сердечной болезни, ни прочих скрытых недомоганий. Она была убеждена, что у Вали порок сердца, поэтому всю домашнюю работу выполняла только сама. Годам к шестнадцати Валя превратилась в хрупкую, но очень красивую, всегда модно одетую девушку. Училась она плохо, но это мало беспокоило Полину Ивановну, которая считала, что главным является здоровье и подрывать его чрезмерной учебой нельзя. Едва окончив школу, Валя пылко влюбилась. Полине Ивановне она лишь сказала, что он студент и зовут его Стасиком. А через месяц заявила: — Выхожу замуж! Полина Ивановна попробовала было возразить, что Валя еще очень молода и раньше надо подумать об институте, но дочь была непреклонна. В конце концов Полине Ивановне пришлось дать согласие. Брак Вали и Стасика оказался недолговечным. Поклонники теперь менялись с калейдоскопической быстротой. Полина Ивановна с горечью наблюдала все это, не решаясь читать нравоучения, к которым дочь в последнее время стала совершенно нетерпимой. Одно утешало: Валя поступила в институт иностранных языков и почти не пропускала занятий. Очередным поклонником Вали стал Костя. Познакомилась Валя с ним при вполне рыцарских обстоятельствах. Это было зимой. Она возвращалась вечером от подруги, и вдруг из-за угла выскочили три подростка, преградили путь. Тот, что казался постарше, выразительным жестом показал, что Валя должна снять с себя шубу. Валя растерялась и не заметила, как подошел рослый плечистый парень. Он ударил одного из грабителей в челюсть, тот упал, а двое других бросились бежать. — Надеюсь, они не успели причинить неприятностей, — участливо осведомился он у Вали. — Благодарю вас, — только и смогла ответить она. — Если позволите, я вас провожу. — Не ожидая ответа, он протянул Вале руку и представился: — Костя. Так завязалось их знакомство. Скоро Валя поняла, что Костя искренне и горячо любит ее. Ей он тоже нравился, особенно потому, что не был похож на всех предыдущих поклонников. О себе Костя почти ничего не рассказывал, вообще он не любил много говорить и, казалось, был всегда погружен в собственные мысли. Когда же он в свойственной ему сдержанной манере предложил Вале выйти за него замуж, Валя ответила, что замужем уже была и эта перспектива пока не представляет для нее интереса. Спустя несколько дней Костя вновь повторил свое предложение, но опять получил такой же ответ. Постоянство и продолжительность времени, в течение которого Валя встречалась с Костей, очень беспокоили Полину Ивановну. — Это у тебя серьезно с ним, Валюша? — спросила она однажды. — С кем, мамочка? — удивленно подняла брови Валя. — Да с Костей с этим. Валя рассмеялась и, подойдя к матери, обняла ее. — Не волнуйся, мама. В ближайшие десять лет я буду только с тобой. С меня хватит пока Стасика. Ответ дочери не успокоил Полину Ивановну — она продолжала терзаться тяжелыми раздумьями. Ее материнское сердце чувствовало, что с Костей у Вали что-то серьезное.* * *
Светлана уже ждала его. Когда она, улыбнувшись, пошла навстречу, Соснин с трудом сдержался, чтобы не расцеловать ее. — Ну, должница, сегодня ты будешь платить мне по векселям! За что? За все несостоявшиеся по твоей вине встречи. — Я готова. Куда надо идти? — Целиком полагаюсь на экспромт, по дороге что-нибудь придумаем. Они ели шашлык в летнем ресторане, запивая его сухим вином, кушали мороженое в сквере, потом смотрели какой-то фильм-детектив с закрученным до невозможности сюжетом. Светлана каждые пять минут спрашивала: кто из них убийца? Соснин, чуточку снисходительно, с высоты своей профессии, объяснял ей, что к чему, а убийца — вон тот высокий, с усиками, коммерсант. — А я думала, что врач, — удивлялась Светлана. — Это от недостатка интуиции... Сзади них стали шикать. В конце концов убийцей оказался все-таки врач и, когда они вышли на улицу, она стала подшучивать над Сосниным. Тот оправдывался, говорил, что это немыслимо и что врачу незачем было становиться убийцей, но потом махнул рукой и расхохотался. «Надули, черти. Подложу этот орешек Туйчиеву, пусть попробует разгрызть». Они еще долго гуляли, болтая о пустяках. Соснин никогда еще не видел ее такой веселой и, как ему показалось, чуточку счастливой. Николай даже боялся подумать, что, может быть, он является причиной той милой улыбки, которая так часто сегодня появляется на лице девушки. Возвращались через парк. Внезапно пошел дождь, они забежали под раскидистый каштан около танцплощадки. Николай осторожно обнял Светлану. Она вздрогнула, посмотрела на него и вдруг разрыдалась. Соснин напрасно пытался успокоить девушку и узнать причину неожиданных слез. — Прости... — Она решительно вышла на дорожку. — Провожать не надо. Он долго смотрел ей вслед, пока она не скрылась в сумерках за густой пеленой дождя. Потом поежился от попавших ему за ворот капель и медленно побрел домой.* * *
— Ты сегодня просто неотразима. — Костя налил ей в бокал вина, улыбнулся. — Я даже горжусь, что сижу рядом с тобой, на тебя обращают внимание. Во времена своего замужества она часто приходила сюда со Стасиком. Вале нравилось здесь все: большой зал с тяжелыми старинными люстрами, нарядная публика, седоголовый метрдотель с манерами герцога, оркестр, исполнявший популярные мелодии. Но после развода она здесь не была. Те молодые люди, с которыми она встречалась, в лучшем случае предлагали ей выбор между кафе «Мороженое» и кино. Костя, конечно, был настоящим мужчиной, он делал ей подарки, хотя в ресторан пригласил впервые. — Ты даже не знаешь, как много значишь для меня и сколько я могу сделать хорошего, если ты будешь рядом. Пью за тебя! Костя поднял рюмку и медленно выпил. Валя улыбнулась, но улыбка тут же сползла с ее лица: к их столику подошел молодой блондин в белой нейлоновой рубашке и черных брюках. — Разрешите пригласить вашу даму? — вежливо обратился он к Косте. Валя с надеждой посмотрела на своего спутника, полагая, что он откажет. Но Костя лишь неопределенно хмыкнул. Блондин расценил этот звук как согласие и, мягко взяв Валю под руку, пошел с ней к небольшому пятачку, где уже танцевали пары. — Не видал тебя целую эпоху! Ну, как живешь-можешь? — спросил блондин и, не дожидаясь ответа, задал еще вопрос: — Где ты подцепила такого представительного пижона? Кто он? — Это тебя не касается. — Валя резко отпрянула от него и остановилась. — Я был вчера у тебя, но не застал. Послушай, глупенькая, я ведь любил тебя и, что самое смешное, продолжаю любить. Неужели ты все забыла? — Мне нечего забывать, — зло ответила она. — Ничего интересного не было, одна голая физиология... — Ты взбалмошная дура... Прости, сорвалось. — Хватит, — сказала Валя. Он подвел ее к столику, за которым сидел Костя, вежливо поблагодарил и ушел. — Знакомый? — осведомился Костя. — Муж... бывший, — равнодушно ответила Валя. — Налей мне вина. Костя с интересом взглянул на Стасика. Он сидел в дальнем углу зала. Его сосед по столику, молодой парень, с важным видом дымил трубкой. Потом Костя еще несколько раз бросал взгляды на Стасика, отмечая про себя, что бывший Валин супруг изрядно наливается спиртным. Сосед Стасика по-прежнему не выпускал трубку изо рта. Примерно через час Стасик подчеркнуто твердой походкой прошел мимо них к выходу. И сразу же в зале послышался шум. У столика, который только что покинул Стасик, стояли милиционер и пожилой посетитель — он что-то взволнованно объяснял милиционеру. Когда Костя рассчитывался с официанткой, он услышал за спиной возмущенный женский голос: — Подумай только, вон тот с трубкой прямо здесь, за столиком, снял часы с какого-то парня. Тот даже не почувствовал. Хорошо, что мужчина заметил...* * *
Чувство раздражения, возникшее вчера, когда ему с Николаем поручили расследование дела об исчезновении Валентины Смолиной, не проходило. Арслан пытался успокоить себя, но безуспешно. Нет, это не было обидой. Просто его захлестнула неудовлетворенность. Все отчетливей стало казаться, что ты просто-напросто неудачник... Сейчас, возвращаясь с Николаем в город, Арслан попытался привести в порядок события последних дней, разобраться в них, обрести душевное равновесие. «Собственно говоря, ничего страшного не произошло. Чего же я раскипятился? Наверное, потому, что никак не разделаемся с кражей в военторге. Сколько раз казалось, что сели на хвост преступникам, но увы! Правда, сейчас кое-что наметилось. Оказывается, накануне кражи получили партию командирских часов — они тоже исчезли. Остались коробочки от часов, с паспортами. А это уже кое-что...» Арслан притушил окурок, откинулся на спинку сидения и закрыл глаза. «И где эту Валю искать, куда она могла запропаститься? Может быть, уехала с кем-нибудь? Почему бы и нет... Мать против, а тут любовь... Под маркой поездки в дом отдыха собрала она вещи и махнула с любимым... В этом, по крайней мере, больше смысла, чем в версии о самоубийстве. Правда, если верить матери, этот Стасик хотел бы снова сойтись с Валей. Он приходил к ним в последний вечер и был особенно настойчив, а узнав, что Валя уезжает в дом отдыха, сказал, что обязательно проводит ее... Провожал он ее или нет?.. Да-а, Стасиком придется заняться...» Машину тряхнуло, Арслан открыл глаза. Оказывается, проезжали железнодорожное полотно. Арслан вытянул занемевшие ноги. «С Валей этой все пока путано-перепутано. Во-первых, почему она приехала в дом отдыха на день позже? Во-вторых, почему была без вещей, хотя мать утверждает, что дочь взяла с собой чемодан? В-третьих, кто этот парень, который, по словам отдыхающих, искал ее в день приезда? В-четвертых, почему... Впрочем, не хватит ли этих «почему?» И кто даст на них убедительные ответы?..»* * *
Поздним осенним вечером пассажирский поезд Москва-Харьков остановился на пустынном разъезде. С подножки второго вагона ловко спрыгнул высокий мужчина в плаще. Обогнув одинокую будку стрелочника, он вышел на едва заметную тропинку и быстро зашагал вдоль редкой лесопосадки. Мужчина шел уверенно: он вырос в этих местах. Последний раз он был здесь более пяти лет назад. Много воды утекло с тех пор, а степь не менялась; она встретила его своим неповторимым запахом и безграничным раздольем, которые всегда чудодейственно снимали тяжесть с души. Начал накрапывать дождь, когда он вошел в хутор и остановился у крайней хаты дядьки Нестора. Старая яблоня, которая росла во дворе, все так же свешивала свои ветви на дорогу. Немало яблок уносили они отсюда во время дерзких мальчишеских набегов. А однажды дядька Нестор одной рукой поймал сразу двоих — его и Ваську Горобца, а второй рукой надрал им уши... Мужчина усмехнулся и потрогал ухо. Яблоки уже давно не его профиль. Он равнодушно посмотрел на спелые плоды и пошел дальше. Вот и клуб, куда он частенько ходил на танцы. К клубу примыкал магазин — здесь ребята угощали девчат лимонадом... Внезапно он остановился, еще боясь признаться себе — почему. Проходя мимо дома дядьки Нестора, он поскользнулся и, чтобы не упасть, ухватился за железную стойку ограды. Пальцы ощутили холодок металла. Это была обыкновенная металлическая трубка. «Трубка... Клуб... Магазин...» Мысль молниеносно соединила эти звенья в единую цепь. Внутренний голос запротестовал: «Не надо. До дома, где тебя ждет мать, триста метров. К нему ты шел долго, с твердым намерением «завязать», начать новую жизнь. Неужели сейчас сорвешься?..» Но какая-то сила уже заставила его вернуться, вырвать довольно глубоко загнанную в землю железную трубку. Подойдя к зданию клуба, он огляделся: вокруг не было ни души. Заткнув железную трубку за пояс, он ловко вскарабкался по телеграфному столбу. Протянув ногу, почувствовал карниз крыши. Осторожно пошел по крыше и влез через слуховое окно на чердак. Прошло минут двадцать, прежде чем удалось с помощью железной трубки пробить отверстие в потолке. Прыгать вниз он не хотел, чтобы не шуметь. Огляделся по сторонам, зажег спичку и увидел тянувшуюся по чердаку веревку. Выдернул ее, привязал один конец к балке, а второй конец опустил в пролом. Спустившись вниз, он несколько минут отдыхал на каком-то мешке. Потом чиркнул спичкой и, увидев на ящике керосиновую лампу, зажег ее. Как и в большинстве сельских магазинов, здесь было два отдела: промтоварный и продуктовый. Внезапно ему захотелось есть. Он открыл ножом банку консервов, отрезал кусок хлеба. Затем вытер носовым платком два стакана и налил в один из них водку, в другой — лимонад. Утолив голод, он направился в промтоварный отдел, нашел пустой мешок и начал складывать в него вещи. Когда мешок наполнился, он открыл три бутылки водки, тщательно облил пол и, взобравшись наверх, вышел через слуховое окно на крышу. Бросил на землю мешок и спрыгнул сам. Он постоял с полминуты, глядя в сторону родительского дома и пытаясь разглядеть во тьме его очертания. Потом махнул рукой, взвалил на плечи мешок и пошел к разъезду. Было около трех часов ночи, он прибавил шаг, чтобы успеть на львовский поезд. В четыре часа был уже на разъезде. Когда пришел поезд, он сел в него не сразу, а подождал, пока тот тронется. Вскочил на ходу в последний вагон, доехал зайцем доЗапорожья, там купил билет до Москвы и через сутки вышел на перрон Киевского вокзала.* * *
Когда Соснину и Туйчиеву стало известно, что у задержанного в ресторане Акопова были изъяты часы как раз из числа украденных в военторге, они решили, что само счастье привалило к ним. Наконец выплыл на поверхность предмет, визитную карточку к которому оставили преступники. Акопов сознался, что действительно снял эти часы у сильно подвыпившего парня. Больше он ничего сказать не мог. Арслан и Николай с нетерпением ждали: о краже часов должен заявить потерпевший. Но потерпевший молчал и своим молчанием обезоруживал следствие. Возможно, он по каким-то соображениям не хотел, чтобы узнали о его пребывании в ресторане, да еще в нетрезвом состоянии. Так бывало нередко. А возможно, сам причастен к военторговской краже. Тут уж он, несомненно, не будет афишировать себя. Ясно одно: таинственный посетитель ресторана должен быть установлен и найден. Первые проблески наметились, когда из беседы с одним из оркестрантов ресторана, ударником Бурманом, стало известно имя и род занятий потерпевшего: Станислав, студент... Это было очень и очень мало, ведь среди многих тысяч студентов города Станиславов оказалось несколько сотен. Начался кропотливый и тщательный поиск. Ежедневно Арслан и Николай вместе с помощниками просматривали личные дела студентов, показывали фотоснимки каждого Станислава официантке, Бурману и Акопову. Подгоняемые желанием скорее «выйти» на этого ускользающего от них Станислава, Соснин и Туйчиев не щадили ни себя, ни работников вузов. Скорей, скорей... Казалось, еще одно усилие — они найдут потерпевшего и наконец раскроется тайна военторговской кражи. Один за другим «отпадали» институты и, наконец, остался университет. Десять факультетов, более семи тысяч студентов... Там, среди них, Станислав. ...Станислав Козецкий, студент пятого курса исторического факультета. Да, это он. У него в тот вечер в ресторане украл часы Акопов. Но как тесен мир! Станислав Козецкий, возможный участник воровской шайки, и Стасик, бывший муж непонятно исчезнувшей Вали, оказались одним лицом... Стасика Козецкого Соснин и Арслан стали разыскивать еще раньше, с того момента, как пропала Валя. Ведь никто иной как Стасик искал встречи с Валей, хотел проводить ее в дом отдыха, но почему-то не проводил... Зато он побывал в доме отдыха, искал Валю; отдыхающие сразу узнали на фотоснимке того самого парня, который спрашивал Валентину Смолину. Правда, пока не известно, видел ли он ее тогда, но зато уже неделю Стасик не появляется ни дома, ни в университете. — Тебе не кажется странным, что он так долго где-то пропадает? — обратился Соснин к Арслану. — Кажется, но только не странным, а примечательным. — Арслан потер переносицу. — Стасик пропал сразу же после исчезновения Вали. Я вижу в этом не случайное совпадение, а преднамеренность. — Странно... Почему об исчезновении Стасика никто не сообщил в милицию? — Это могли бы сделать родители, но они в отъезде. — Хорошо. Давай подумаем, почему Стасику понадобилось вдруг исчезнуть, зачем? — Соснин встал и зашагал по кабинету. — Я думаю, единственно потому, что Стасик, во-первых, причастен к магазинной краже. Во-вторых, встретив Валю в доме отдыха, он пытался уговорить ее сойтись с ним... Возможно даже угрожал, намекая на своих друзей по краже. А когда Валя категорически отвергла притязания, он решил от нее избавиться. — Ты хочешь сказать — убил? — Ва́ли же нет! — несколько запальчиво ответил Николай. — Да и Стасик исчез после всех событий. — Итак, средоточие наших поисков — Стасик, — подвел итоги Арслан.* * *
Ухватившись руками за прибрежный куст, Махмудка подтянулся и тут же почувствовал острую боль в правой ноге. Незаметный в густой траве осколок бутылки вонзился в ногу. Махмудка чуть слышно охнул и скатился вниз. Тотчас же с противоположного берега застрекотала трещотка. Видно, «пулеметчик» стрелял так просто, на шум. Колька, «гранатометчик» из отряда Махмуда, швырнул на тот берег водяную бомбу. Командир, морщась от боли, строго посмотрел на Кольку. — Приказ был открывать огонь? — Не-е, — растерянно моргая белесыми ресницами, ответил Колька. — Почему тогда дисциплину нарушаешь? — Так они ж стреляют в нас. — Стреля-я-ют, — передразнил его Махмудка. — Пусть себе стреляют. Мы здесь для их огня недосягаемы, а боеприпасы беречь надо. Понял? Пока Таня обрабатывала ранку на ноге, Махмудка мучительно искал выход из создавшегося положения. Да, на этот раз Файзи, несомненно, перехитрил его. Где бы ни появился Махмудка со своим отрядом, чтобы переправиться на тот берег, везде ждала засада. Что делать? Не перебираться же вплавь, когда такая ледяная вода, того и гляди судорогой сведет ноги и унесет на камни... Махмудка тяжело вздохнул. — Что, больно? — участливо спросила Таня. — Ни капельки не больно... — хмуро отозвался Махмудка. — Сейчас пойдем к Красным камням. Только не все. Здесь останутся четверо: Пулат, Умар, Вася и Учкун. — Обращаясь теперь к четверке, Махмудка продолжал: — Вы будете делать попытки перейти через этот мостик. И тот, что у чайханы. Пусть думают, что мы здесь все. Ясно? А теперь пошли. Соблюдая предосторожность, отряд двинулся к Красным камням. Во главе отряда рядом с командиром шла Таня. Минут через пятнадцать достигли Красных камней. Командир приказал всем залечь и послал Кольку в разведку. Колька вскоре вернулся и, тяжело дыша, доложил: — Там... на берегу... голоса... — Какие голоса? Ты толком можешь объяснить? — Могу, — перевел дыхание Колька. — На том берегу кто-то есть. Громко говорят. Кажется, женщина, да и мужчина, вроде... Под прикрытием густых прибрежных кустов разведчики стали приближаться к переправе. Временами они останавливались и прислушивались. — Вечно этому Кольке что-нибудь чудится, — усмехнулся Махмудка. В этот момент Таня молча потянула его за руку и показала на противоположный берег. Метрах в пятидесяти от них, почти рядом с бревном, бегал какой-то парень. Он то приближался к самому краю берега, то, будто чего-то испугавшись, стремительно бежал прочь, суетился, вглядывался в воду, снова начинал метаться из стороны в сторону. — Чокнутый какой-то, — выразительно покрутив пальцем около виска, шепнула Таня. Махмудка утвердительно кивнул головой, продолжая наблюдать за незнакомцем. — Вроде, отдыхающий, — наконец проговорил он. Парень еще раз подскочил к краю берега и вдруг стремительно бросился бежать. Выждав несколько минут, ребята подошли к бревну. Быстро перебрались на тот берег, осмотрелись. Вокруг никого не было. Теперь можно позвать остальных и переправляться всем отрядом. — Махмуд, а Махмуд, глянь-ка, чего я нашла. — Таня протянула ему небольшую зеленого цвета дамскую сумочку. — Красивая, правда? Но Махмуд даже не посмотрел. — Прекратить разговоры! Маскировку нарушаешь... Таня обиженно поджала губы. В расположение отряда Файзи ребята ворвались так неожиданно и стремительно, что им не оказали никакого сопротивления. Это была настоящая победа.* * *
— Итак, вы утверждаете, что эти часы принадлежат вам? — начал Туйчиев допрос Станислава Козецкого. — Да, это мои часы. — Где и когда вы их приобрели? Козецкий был заметно взволнован, похрустывал суставами пальцев и вздрагивал каждый раз, когда раздавался телефонный звонок. — Приобрел я их совершенно случайно... Разрешите? — Козецкий достал сигареты. Туйчиев кивнул. — Возвращался я дней двадцать назад от приятеля, остановил такси. Водитель попался разговорчивый. Когда подъезжали к дому, я спросил, который час. А он в ответ: «Что, друг, на часы не хватает?» — «Хватает, — отвечаю, — только никак хороших не найду, вот такие бы достать, как у тебя». Еще в дороге заметил я у него на руке красивые часы. «Нравятся?» — «Спрашиваешь!» — «Могу продать». Короче, столковались мы с ним за 50 рублей. — Где у вас украли часы? — Собственно, я не уверен, что их украли. Возможно, потерял. В тот вечер, извините, я хватил изрядно. Вышел из ресторана, а дальше ничего не помню. — Личные неурядицы? Бывает, — понимающе улыбнулся Туйчиев. Стасик обрадовался этому проявлению мужской солидарности и немного успокоился. — Смогли бы вы узнать водителя, который продал вам часы? — Смогу, — с готовностью ответил Стасик. — Хотя у него довольно заурядная внешность. Как у вас говорят, он без особых примет. — Номера машины вы случайно не запомнили? — Увы, единственное, что могу сообщить вам, — машина серого цвета и, судя по надписи на капоте, принадлежит второму таксомоторному парку. — Тогда мы попросим помочь нам. Кстати, тогда в ресторане вы были один? — Как перст. — И никого из знакомых не видели? Козецкий насторожился. Он полагал, что допрос уже закончен, но, оказывается, предстоит продолжение... Зачем? — Я встретил там одну свою знакомую, но она не имеет никакого отношения к пропаже часов. — Кто она? — Женщина, — криво усмехнулся Стасик. — Так сказать, главная женщина Козецкого. — Он помолчал немного. — Моя бывшая жена. — Вы разговаривали с ней? — Я не понимаю, в какой связи... — удивленно вскинул брови Стасик. — Прошу вас отвечать, — тихо сказал Туйчиев. — Это важно. — Мы танцевали, но ни о чем не говорили. — С кем была ваша бывшая жена в ресторане? — С каким-то парнем. — Вы его знаете? — Никогда раньше не встречал. — А потом? Потом видели? — Нет. Валю он тоже больше не видел. И не хочет видеть. Почему? Да потому, что она жестокая, неблагодарная, разбила ему жизнь... Стасика прорвало. Долго сдерживаемая горечь хлынула наружу. Да, он любил Валю и продолжает любить, доказательством служат его неоднократные попытки примириться с ней. А она платила ему за все нескрываемым презрением. Да и впрямь — кто он? Студент, который далеко не всегда получает стипендию и с нетерпением ждет субботы, когда папа кинет ему пятерку на кино. Что он мог дать ей, этой гадкой маленькой хищнице, материальные запросы который, в отличие от духовных, не имели предела. — Простите, я, кажется, отвлекся... — вдруг смутился Стасик. — Нет, нет, рассказывайте. — И все-таки, несмотря на то зло, которое она мне причинила, я вернулся бы к ней. Но, по-видимому, уже поздно... — Поздно? — с нескрываемым интересом переспросил Туйчиев. — Почему? Стасик рассказал: когда ему стало известно, что Валя уехала в дом отдыха, он, не раздумывая, помчался к ней. Однако в доме отдыха ее не оказалось. При возвращении, на станции, у него случился приступ аппендицита. В районной больнице, куда Стасик сразу же попал, ему сделали операцию. Он провалялся в больнице восемь дней и лишь вчера приехал домой. — А Валя, — уныло закончил Стасик, — Валя, конечно, обманула Полину Ивановну... Уехала куда-нибудь с тем парнем, из ресторана...* * *
После загадочного исчезновения Вали из дома отдыха жизнь для Полины Ивановны потеряла всякий смысл. Она продолжала выполнять то, что делала раньше, но теперь все шло по инерции. Она уже не плакала, хотя особенно трудно ей бывало по вечерам. Казалось, вот сейчас щелкнет замок, в комнату с шумом войдет Валя и весело произнесет: «Мамуля, привет! Есть хочу, умираю». Но день проходил за днем, никаких известий не было, и каждый прошедший день все дальше и дальше отодвигал теплившуюся надежду. Несмотря ни на что, Полина Ивановна верила: все разрешится благополучно, Валя отыщется. И вообще вся эта история с исчезновением дочери казалась ей нелепостью. Она верила и ждала, ждала, как могут ждать только матери. Сегодня на нее нахлынуло какое-то непонятное беспокойство. Чувство это все нарастало, она ловила себя на том, что машинально читает текст, не вникая в его содержание, допускает ошибки, чего с ней раньше не бывало. Наконец она не выдержала и, сославшись на плохое самочувствие, отпросилась. Войдя в подъезд, она по привычке открыла почтовый ящик и достала газеты. Поднимаясь по лестнице, развернула их и вдруг почувствовала, что теряет сознание. Среди газет лежало письмо от Вали. «Доченька, доченька, — шептали ее губы. — Я знала...» Дрожащими пальцами Полина Ивановна вскрыла конверт, прочитала первую фразу и почувствовала, что ноги стали ватными, в висках застучало. Опустившись прямо на ступеньки, она стала жадно читать письмо. Глаза пробегали строчку за строчкой, но мозг почти не фиксировал содержания, сверлила лишь одна радостная мысль: «Жива, жива!»* * *
Николай поднял руку — серая, с клеточками, «Волга» остановилась. Подбегая к машине, Соснин мысленно отметил про себя: «Номер тот самый — 37-62. Все правильно». Нагнувшись к боковому стеклу, он спросил у водителя: — До сквера не подбросите? — Вообще-то на заправку я еду... — Может, все же довезете? Это недалеко, я тороплюсь... — Ладно, садитесь, — махнул рукой шофер. Машина мягко тронулась и стала набирать скорость. «Будем считать, что операция началась», — подумал Николай. Тогда Туйчиев и Соснин не поверили Козецкому: слишком уж маловероятным показалось его объяснение. Да и как сразу поверить в такое странное алиби — операция аппендицита! Как только Стасика припирали неопровержимыми фактами, он тут же находил оригинальное продолжение, свидетельствующее о его невиновности. Что особенно удивляло и настораживало — это та легкость, с которой он мгновенно подтверждал факты не в свою пользу. Трудно было проникнуться доверием к Козецкому, но и не верить полностью тоже было нельзя. Окончательное решение могла дать только проверка всех сомнительных показаний. Прежде всего решили проверить «аппендицитную историю». Козецкий действительно поступил в районную больницу седьмого в 13 часов 35 минут с диагнозом острый аппендицит. В два часа дня он уже был на операционном столе. Операция прошла успешно. Пятнадцатого его выписали. Скупые строчки истории болезни полностью подтвердили показания Козецкого. Значит, алиби. Почему же отдыхающие утверждали, что видели его именно в день приезда Смолиной, то есть восьмого? А дело, как это не раз бывало у Туйчиева и Соснина, заключалось в том, что все эти люди добросовестно заблуждались. Они искренне хотели помочь следствию, но в их сознании произошло некоторое смещение во времени. Кроме администрации дома отдыха, никто не знал, что Валя приехала не седьмого — в день начала смены, а только на следующий день. В сутолоке первого дня, который не столько день отдыха, сколько устройства, в память врезалось лишь то, что какой-то молодой человек спрашивал Валентину Смолину. Кто такая Смолина — никто, конечно, не знал, но раз ее спрашивают да еще утверждают, что она именно сегодня должна прибыть, значит это первый день смены, день приезда всех отдыхающих. Теперь оставался таксист. «Надо довольствоваться тем, — шутил Николай, — что во втором таксомоторном парке только тысяча четыреста семьдесят восемь машин, а за каждой закреплено не более двух водителей». Снова листают друзья личные дела. Всего две тысячи девятьсот пятьдесят шесть дел водителей такси. По теории вероятности искомое дело может оказаться первым или сто пятым, а может... и последним. Туйчиеву и Соснину усердно помогал Стасик. Собственно, он здесь главное лицо, если только говорил правду. Наконец нашли. По счету оно было тысяча девятьсот шестнадцатым — личное дело Петра Пряхина, водителя автомашины с государственным номером 37-62. Нет, утверждал Стасик, он не ошибся. У него вообще хорошая память на лица, только он не всегда может дать их четкое описание. Пряхин именно тот водитель, у которого он купил часы. — Будем брать? — спрашивает Арслан, устало откидываясь на спинку стула. — Пожалуй, другого решения быть не может. — Николай улыбается, не в силах скрыть своего удовлетворения итогами поисков. — Только знаешь что? — Соснин встает, в глазах у него Арслан видит знакомую хитринку. Она появляется, когда у Николая возникает какая-нибудь смелая оперативная комбинация. — Взять его мы всегда успеем, считай он у нас в кармане. А вот если Пряхин сам даст улику, например, в виде командирских часов, то это, надеюсь, не вызовет у тебя серьёзных возражений? — Что ты предлагаешь? — Повторить действия Козецкого. — Идея неплохая, — задумчиво произнес Арслан. — Не спугнуть бы только. — Мы ничего не теряем. Удастся операция — отлично, не получится — сразу возьмем. Тут только небольшая оттяжка во времени. Завтра как раз его смена. Ну как? Решено? — Давай! — махнул рукой Арслан. — Кто пойдет? — В исполнении автора, — широко улыбнулся Соснин. ...«Ну что ж, пора и за работу», — подумал Николай и, поднеся к глазам руку с часами, зло выругался: — У черт! Еще с гарантией называется! Водитель искоса посмотрел на него. — Третьи часы меняю! Ведь за два месяца, за два... Гарантия!.. Да с такими часами все нервы себе испортишь. — Николай снял часы, зажал их в кулак и стал отчаянно трясти. Периодически он подносил их к уху, а потом с еще большей яростью встряхивал и стучал пальцем по стеклу. — Нет, я их уже изучил. Раз остановились, то все. Завтра опять нести. Дьявольщина... — Часы надо уметь выбирать, — подал голос водитель. — Вот меня, к примеру, не проведешь. Да и марка значение имеет. — Марка!.. Да я этих марок перебрал, будь-будь. — Уметь надо, — твердил свое водитель. — Вот у меня, — он поднял руку над рулем, показывая часы, — так по ним куранты бьют. Николай почувствовал, как маленькие молоточки застучали в висках, сердце учащенно заколотилось: на руке у водителя были командирские часы. Николай с завистью сказал: — Везет же людям. Слышь, а где купил такие? — Где купил, там их нет, — усмехнулся водитель. — Такие часы не залеживаются. Если по совести — по блату за полтинник купил. — А-а, — разочарованно вздохнул Соснин. — Хочешь продам? — вдруг неожиданно предложил водитель. — Я еще достану, а тебя жаль, мучаешься. Николай прямо задохнулся от счастья, чем еще больше расположил водителя. — За сколько продашь? — Как — за сколько, за свою цену, — великодушно ответил водитель. Взяв в руки часы, Николай незаметно для водителя посмотрел их номер — он специально запомнил все номера часов, похищенных в военторге. Увидев знакомую цифру, Соснин облегченно вздохнул. — Ну вот и приехали, сквер, — сказал водитель. Машина остановилась, но Соснин не торопился выходить. — Понимаете, Пряхин, я спутал. Мне надо не к скверу, а в управление милиции. От удивления у Пряхина отвисла нижняя челюсть. — Откуда вы меня... Зачем в милицию?.. — Ближе познакомиться. Встреча будет достойная, гарантирую. Почти два месяца готовились. Все будут вам очень рады. — Какая встреча?.. — не мог прийти в себя Пряхин. В это время открыл дверцу Туйчиев и молча сел на заднее сидение, чем поверг Пряхина в еще большее замешательство. — Поехали, Пряхин, — твердо произнес Туйчиев. — Капитан Соснин покажет дорогу, если не знаете.* * *
— Где же она, где? — настойчиво повторяла Полина Ивановна, обращаясь к Соснину. — Она жива, правда? — В ее голосе звучали мольба и тревога. — Надо полагать, раз письмо прислала, — ободряюще ответил Соснин. — Но почему ее нет в доме отдыха? — Почему? Честно говоря, не знаю, постараемся разобраться. Главное — выдержка. — Увидев, как задрожали у Полины Ивановны губы, он подошел к ней и добавил: — Давайте подождем еще немного, думаю, что в ближайшие дни картина прояснится. Кстати, Полина Ивановна, о каком это Косте пишет Валя в письме. Вы знаете его? — Нет, — сокрушенно пожала плечами женщина. — Я видела его лишь издали, из окна, и всего несколько раз. Он ухаживал за дочкой, но она меня с ним не знакомила... Вообще после замужества Валя стала замкнутой, — попыталась она оправдать дочь. — А его фамилия или место работы? — Валя ничего мне не говорила об этом. — М-да, не густо, — улыбнулся Соснин. — Между прочим, — спохватилась Полина Ивановна, — в последний вечер, перед отъездом в дом отдыха, Валя ходила с ним в ресторан, но в какой, не знаю, — виновато закончила она. — Ну ничего, разберемся. Проводив Полину Ивановну до двери, Соснин вернулся и углубился в чтение Валиного письма. «Мамуля, родная, здравствуй! Вот я и отдыхаю. Здесь чудесно. Разноцветные коттеджи для отдыхающих недалеко от речки. Вода в ней холодная-холодная, горная, а сама речка быстрая. Здесь вечером особенно красиво. А какой воздух! Нет, описывать я не мастер. Короче говоря, мне хорошо. Одно мучает меня, непутевая я у тебя. Никак не устрою свою жизнь. И почему это на моем пути парни один кретинистей другого попадаются? Не хотела я, правда, говорить, дома все умалчивала, а здесь, вдали от тебя, раскисла. Ведь я совсем не такая уж боевая, как это кажется многим. Хочется мне хорошего, но почему-то не получается. Вот и Костя, вроде бы ничего парень, а на поверку — подлец. Все они похожи на Стасика: смотрят на меня как на свою собственность. Ох! Не будет у меня от них жизни, не будет! А вообще-то все это чепуха, плевать я на всех хотела. Мамочка, милая! Пожалуйста, не расстраивайся, это я так, от неустойчивости нервной системы. Ты же знаешь свою дочь. Просто нахлынуло на меня что-то, а с кем поделиться, как не с тобой? Все в порядке. Не волнуйся. Крепко, крепко тебя целую. Твоя Валя». Николай несколько раз прочитал Валино письмо, пытаясь найти в нем другой, затаенный смысл, который приоткроет завесу над ее внезапным и непонятным исчезновением. Наконец, отложив письмо в сторону, Николай вышел из-за стола и, как это всегда бывало с ним в минуты раздумий, слегка наклонил набок голову, словно прислушиваясь к собственным мыслям, и, заложив за спину руки, начал мерно вышагивать по кабинету. Временами он подходил к столу, останавливался, быстро находил в деле нужный документ, пробегал его глазами и снова начинал свой «марш раздумий». Николай не хотел огорчать Полину Ивановну своими сомнениями по поводу письма. Он сразу обратил внимание на почтовый штемпель места отправления. Письмо значилось отправленным из дома отдыха, но дата говорила о том, что Валя послала письмо... уже после своего исчезновения! «Прямо мистика какая-то... — Николай задумчиво провел рукой по волосам, закрыл глаза. — Валя исчезает из дома отдыха и одновременно продолжает оставаться там... Зачем это ей столь непонятным образом исчезать, а затем мистифицировать мать почтовым посланием? Нет, тут что-то не так... Может быть, вся эта история кому-то понадобилась? Валю заставляют написать письмо, отправляют его из дома отдыха... Для чего? Создать видимость, что Валя находится именно здесь, а не в другом месте... Но чтобы согласиться с таким утверждением, надо решить, кому и зачем это понадобилось. И, наконец, выяснить, где прячут Валю. Короче, речь должна идти о похищении. Значит, похищение... Но позвольте: похитить дочь, чтобы получить от матери выкуп. В отношении Полины Ивановны это просто смехотворно... Значит, похищение отпадает, отъезд из дома отдыха — тоже: Валя написала бы матери об этом, не стала бы обманывать... Что же тогда? Убийство?.. А как быть с письмом? Оно-то ведь свидетельствует, что Валя после исчезновения была жива... Текст письма написан Валей, это категорически подтвердила Полина Ивановна. Ну, назначим экспертизу для объективности, а дальше что?» Николай сел за стол, положил перед собой конверт и письмо Вали, в который раз стал их изучать. Взгляд его медленно переходил с конверта на письмо, выхватывая отдельные строчки, и снова останавливался на почтовом штемпеле. «Как же это я сразу не заметил! Адрес на конверте и письмо написаны разными чернилами! Постой, постой... Да и почерк вроде бы разный...»* * *
Обыск, проведенный на квартире Пряхина, был не напрасным: за исключением пятнадцати штук часов и двух мужских костюмов, работники милиции обнаружили почти все вещи, похищенные из магазина. Изобличенный неопровержимыми уликами, Пряхин заговорил: — Месяца четыре назад я выехал во вторую смену. День выдался неудачный, одно слово — понедельник: пассажиры попадались какие-то короткометражные — 30-40 копеек на счетчике, не больше. Разозлился, плана мне не видать, как собственной спины. Подъехал к скверу на стоянку. Стою, часов семь вечера уже. Подходит парень, спрашивает: «Скучаешь?» — «Отдыхаю», — говорю. «Как насчет заработать, не против?» — «А кто против?» — «Поехали». Прокатались мы целый вечер, он мне три красненьких бросил на сиденье. «Завтра жди здесь, в шесть». С тех пор часто я возил Василия, фамилии его не знаю. Понимал, конечно, что здесь нечисто, но... Рассчитывался он уж больно по-королевски. Короче, влип я, как индейка в борщ... Однажды, в конце прошлого месяца, Василий сказал, чтобы на следующий день я подъехал к кирпичному заводу. Что ж, отправился на окраину города. Василий уже ждал там с мешком. «Ты, — говорит, — имеешь шанс откусить с моего ва-банка. Шмотки спрячешь?» Я, в общем, согласился, отвез мешок к себе. Дал он мне шесть штук часов. «Поосторожней, — говорит, — с продажей, они меченые». Решил я тогда на базар их не нести, в скупочный тоже, а продать пассажирам. Все продал, последние остались... Вы и приобрели, — горько усмехнувшись, закончил Пряхин. Невысокий, узкоплечий, Пряхин чем-то напоминал ребенка. Говорил он медленно, нараспев, не сводя глаз со следователя и время от времени заискивающе улыбаясь. — А непосредственное участие в кражах вы принимали? — Что вы! — в глазах Пряхина промелькнул неподдельный испуг. — Я разве решусь на такое... — Где живет ваш Василий? — Никогда не подвозил его к дому, — виновато ответил Пряхин. — Думаю, живет он в районе улицы Октябрьской, несколько раз его там высаживал. Да, наверняка где-то там, — добавил, подумав, шофер. — Как он выглядит? — спросил Соснин. — Высокий, глаза темные, светлый волос, на переносице шрам... Одевается хорошо. Вроде, все. — Когда вы последний раз видели его? — задал вопрос Соснин, записывая что-то в блокнот. — В прошлую среду. Он сказал, чтобы я через неделю, в следующую среду, подъехал в семь вечера к летнему кафе «Фиалка». — Когда? — сдерживая волнение, спросил Соснин. — Сегодня? — Выходит, сегодня. — Что ж, Пряхин, — Туйчиев встал с дивана и подошел к водителю. — У вас появилась возможность заработать, на этот раз честно, смягчающее обстоятельство, которое суд учтет при вынесении приговора. ...Был день большого футбола. Лавина болельщиков запрудила улицы. Перед самым стадионом поток людей разбивался на мелкие ручейки, обтекая вереницы стоящих автомашин, и снова стекался в единое русло у центрального входа. Пряхину, заядлому болельщику, сейчас, конечно, было не до игры. Он, не поворачивая головы, сидел за рулем машины, вперив взгляд в спидометр. Тягостное ожидание сковывало тело, страх перед предстоящей встречей был настолько велик, что его подташнивало. Клиент опаздывал: десять минут восьмого, а его еще нет. Подошла молодая женщина с ребенком. — Вы свободны? — Занят, — буркнул Пряхин, обычно вежливый с пассажирами. «Тик-так, тик-так» — отсчитывал копейки включенный счетчик таксометра. Четверть восьмого. «Они где-то здесь и все время следят за мной...» Пряхин поежился. Он никогда не предполагал, что минуты такие длинные. Наконец долгожданный клиент появился. Пряхин посмотрел в зеркальце. Василий влез в машину, сел на заднее сиденье и захлопнул за собой дверцу. «Сейчас скажет: «Привет, Петро!» — мелькнуло в голове. — Привет, Петро! — Здрасьте, — вымученно улыбнулся водитель. — Куда прикажете? — Давай к скверу. Машина мягко тронулась с места. «Почему не задерживают машину, чего тянут?» — лихорадочно думал Пряхин, чувствуя, что нервное напряжение достигло предела. «Атакуют хозяева поля, — доносился из приемника голос комментатора. — Вот мяч навешивается на вратарскую площадку... Ну, кто будет бить?...» Огибая сквер, Пряхин чуть не наехал на зазевавшегося мальчишку. Он резко затормозил, глянул в зеркальце и увидел внимательные, изучающие глаза пассажира: Василий настороженно присматривался к Пряхину. — Останови, — внезапно сказал Василий, когда они подъехали к гастроному на Пушкинской. — Я за сигаретами. Водитель проводил глазами высокую фигуру Василия, входившего в магазин, и оглянулся: какая из стоящих за ним машин — милицейская?.. Когда у стадиона мужчина сел в такси Пряхина, Николай, не выпуская из виду пряхинскую «Волгу», двинулся вслед за ней. Неожиданная остановка насторожила Соснина. — Будем брать? — спросил сидевший рядом лейтенант Сафаров. — Подождем, — ответил Соснин, увидев, что пассажир Пряхина неторопливо направляется к гастроному. — Сейчас вернется. «Острая контратака гостей по левому краю. Удар. Еще удар! И красиво задуманная комбинация завершается голом в ворота хозяев поля», — печально говорит комментатор. — Проиграли, — уныло констатирует Сафаров. — Отыграться не успеем. Время кончается. «Время... — подумал Соснин. — Прошло три минуты, а он еще не вышел из магазина.» — Пошли! — бросил он, выскакивая из машины, Сафарову и еще двум сотрудникам. В магазине было всего шесть покупателей — шесть женщин... «Неужели ушел?» — обожгла мысль. — Скажите, — обратился Николай к молоденькой продавщице. — Здесь только что был мужчина, высокий, в плаще. Не видели? — Он сказал, что ему срочно нужен директор и прошел сюда, — кивнула девушка на дверь, закрытую занавеской. Миновав подсобное помещение, работники милиции очутились в крошечном дворике. Вот и маленький флигель с табличкой «Директор». Взлетев по ступенькам на крыльцо, Соснин рванул на себя дверь. В уютном директорском кабинете царил полумрак, мерно жужжал вентилятор. Никого. В дворике оказалась еще одна дверь — она выходила на другую улицу. — Вот куда он ушел! — сказал Сафаров. — Но дверь заперта! Ключ торчит снаружи... Наконец они выбили дверь, но пряхинского пассажира так и не нашли. Обогнув угол дома и подбежав к служебной машине, Соснин по радио доложил, что преступник скрылся.* * *
Друзья молча шли по длинному коридору прокуратуры. Только что в кабинете начальника следственного отдела Алимова состоялся нелегкий разговор. Соснин сам понимал, что допустил непростительный промах, и от сознания собственной вины ему было еще тяжелей. Арслан, сурово встретивший Николая после провалившейся операции, две минуты назад выгораживал его перед Алимовым, доказывал, что корни неудачи — в недостатке времени на разработку операции. — Надо было брать сразу, — сказал подполковник. — А вдруг бы он вывел на место, где хранится краденое? — возразил Арслан. — Разве это маловажно — поимка с поличным? Ведь при задержании Пряхина этот прием себя оправдал. — Идите и попытайтесь исправить положение, — закончил Алимов. — Всё, вы свободны. «Резковат Алимов, — подумал Арслан, выходя из его кабинета. — Что поделаешь, он прав...» — Может, заскочим ко мне, — предложил Арслан Николаю. — Моя Рано грозилась, что приготовит пельмени. — Не хочется что-то. — Поехали, время есть. Ведь нас поставили на «ждите». Фотографии пряхинского пассажира, сделанные в момент, когда он садился в такси, были в тот же день размножены и разосланы во все райотделы милиции. На оперативном совещании решили принять срочные меры к установлению местожительства Василия. Участковый инспектор, в ведение которого входила улица Октябрьская, где мог жить Василий, не сказал ничего утешительного: лейтенант Файзиев недавно окончил милицейскую школу, работал всего полтора месяца и еще не успел хорошо изучить свой участок. — Не помню такого, — сказал он, виновато моргая. — Жаль, нет Хасаншина. Он тут всех знал. Файзиев рассказал, что старший лейтенант Хасаншин работал на этом участке семь лет, но сейчас ушел на пенсию и, кажется, уехал из города. Пришлось искать Хасаншина. Оказалось, что он живет в Куйбышевской области. Послали ему по фототелеграфу снимки и попросили вспомнить, не видел ли он в своем районе этого человека. Ответ был быстрым и лаконичным: «Проезд Краснодонский, 6». Выяснилось, что по этому адресу проживает Буров Василий Константинович. — Как можно таких людей, как Хасаншин, отпускать на пенсию! Это же золотой фонд, — укоризненно покачал головой Соснин, когда машина подъехала к дому номер шесть на Краснодонской. Калитка была открытой. У водопроводной колонки, посреди тенистого, увитого виноградником двора, стирала белье грузная пожилая женщина. — Вы Кислякова Елена Ивановна? — спросил Соснин. — Да. Туйчиев представился, протянул ей удостоверение, а затем фотоснимок. — Это ваш квартирант? Кислякова вытерла мокрые руки о передник, взяла фотоснимок. — Мой. Господи, что случилось? — взволнованно прошептала она. — Он дома? — Нет. Как вчера утром ушел, не возвращался. Хозяйка провела их в конец двора — в комнату Бурова. Комната была большой и светлой. Стол, три стула, диван-кровать. Единственным украшением ее был дорогой современный радиоприемник на тонких ножках. На радиоприемнике — шахматная доска с расставленными фигурами, здесь же — сборник шахматных этюдов. На стене — полка с книгами. Сафаров нашел в шкафу костюм с маркировкой военторга и командирские часы — четыре штуки. Их номера свидетельствовали: они похищены в том же магазине. Николай долго возился с небольшим чемоданом, который снял со шкафа, пытаясь его открыть без ключа. Наконец это ему удалось. В чемодане оказались аккуратно уложенные дамские вещи. На дне чемодана лежал паспорт. Раскрыв его, Соснин едва удержался от возгласа: с фотографии на него смотрела Валентина Смолина.* * *
Борька Трапезников жил рядом со школой. Этим, наверное, объяснялись его частые опоздания на уроки. Вот и сейчас — половина девятого, а Борька еще дома. Схватив в одну руку портфель, а в другую — недоеденный бутерброд, он вылетел на улицу. Борька уже огибал школьное здание, когда его окликнули. Он обернулся и увидел в подъезде соседнего дома дядю Васю, квартиранта маминой сестры, тети Лены. — Борис, здравствуй. Дело есть, — сказал дядя Вася. — Я из командировки, дома еще не был. За это время ко мне должны были прийти. Ну, в общем, ты уже большой, знакомая одна. Не хочу встречаться с ней. Слетай-ка к тете Лене и осторожненько узнай: не спрашивал ли кто меня? — Дядя Вася помолчал. — Никому ни гу-гу, что я здесь. Понял? Аллюром туда и обратно. До дома тети Лены Борька добежал мигом. У калитки отдышался, потом толкнул ее ногой. Во дворе никого. — Теть Лена! — негромко крикнул он. — Это ты, Боря? — Елена Ивановна вышла на крыльцо. — Заходи. — Не, я на минутку. Скажите, к дяде Васе никто не приходил? — Да кто же к нему придет? — удивленно спросила Елена Ивановна. — Никого не было. А тебе зачем? — Так, нужно. Ладно, я пошел. Борька спешил и не заметил, как в окне мелькнуло чье-то лицо. — Ну как? — весело спросил дядя Вася. — Никто не приходил. — Спасибо. Заходи как-нибудь в субботу, на рыбалку двинем. Борька подпрыгнул от восторга. — Я червей накопаю. Он хотел спросить, который час, но не успел. Резко скрипнув тормозами, у подъезда остановилась голубая «Волга». Из нее быстро вышли двое мужчин. Они подошли с двух сторон к дяде Васе, и один из них что-то шепнул ему. Дядя Вася побледнел и направился с ними к машине. У распахнутой дверцы он обернулся, прощально помахал Борьке рукой. — Извини, что из-за меня ты опоздал в школу...* * *
В кабинет через широко распахнутое окно вливался неумолчный гомон школьного двора. Как всегда, на перемене тенистый двор был заполнен учениками. Лишь немногие стояли на месте, большинство на хоккейных скоростях носилось из одного конца в другой. Арслан улыбнулся и отошел от окна. Три дня назад, когда он и Соснин впервые пришли сюда, их встретили настороженно. Директор школы, грузный лысеющий мужчина с орденской планкой на пиджаке и пустым правым рукавом, заправленным в карман, холодно выслушал просьбу Туйчиева. За три года, что Хакимов директорствовал, в школе не было ни одного ЧП, бог миловал. И вот на тебе! Хакимов не мог даже представить, что кто-то из его учеников причастен к уголовному делу. Он пытался выяснить, в чем именно подозревают их. Но Туйчиев мягко и в то же время настойчиво, без каких-либо подробностей, изложил цель визита: следствию необходимы образцы почерков учащихся 5-6 классов. Забрав с собой 96 тетрадей с контрольными работами, Туйчиев и Соснин уехали в город. Визит в школу пришлось нанести после того, как было установлено, что адрес на письме Валентины Смолиной выполнен другим почерком. По заключению эксперта, почерк принадлежит ученику 5-6 класса. Письмо отправлялось из почтового отделения, расположенного вблизи дома отдыха, поэтому возникло предположение: надпись на конверте мог сделать один из учащихся ближайшей школы. Сегодня Туйчиев и Соснин снова приехали в школу. Соснин сидел на диване и с безразличным видом листал газетную подшивку, нарочито медленно переворачивая страницы. «Волнуется», — подумал Арслан и тут же заметил, что сам накручивает на палец длинный стебель, свисающий из цветочного горшка. Он аккуратно расправил нежное растение. Вошли Ерошина, преподавательница русского языка, и мальчишка в красном галстуке, в котором Арслан узнал шалуна, ходившего на руках по школьному двору. — Познакомьтесь, Махмуд Назаров. — Ерошина подвела смутившегося Махмуда к Туйчиеву. — Здравствуй, Махмуд. — Туйчиев по-взрослому пожал руку мальчику. — Меня зовут Арслан Курбанович, а это Николай Семенович, мой товарищ по работе. Садись. Махмуд вопросительно посмотрел на учительницу. Ерошина ободряюще кивнула ему, и он сел на краешек стула. — Дело в том, что мы следователи и хотели бы, чтобы ты нам помог. Махмуд от удивления чуть не упал со стула. Перед ним были настоящие, живые следователи, о которых он столько читал! — Скажи, Махмуд, ты в последнее время отправлял куда-нибудь письма? — Письма? Не, не отправлял. — Подумай хорошенько. Может, забыл? Конверт не подписывал? — Конверт? — встрепенулся Махмуд. — Да, подписывал. Так ведь письмо было чужое. — Это? — Туйчиев протянул ему конверт. — Да. — Ну и отлично. Расскажи-ка теперь все по порядку. ...На следующий день после игры в войну он разыскал Таню в школьной библиотеке. Девочка заметила его, однако не подала виду: вчерашняя обида еще не прошла. — Ладно тебе. — Махмуд положил ладонь на раскрытую книгу, которую читала Таня. — Хватит дуться. Что за сумку ты нашла вчера? Таня нахмурилась, но не выдержала, улыбнулась и переспросила: — Сумку? — Тише можно? — возмутилась девочка в очках, сидевшая рядом с Таней. Махмуд и Таня вышли во двор. — Знаешь, Махмудка, в сумочке было письмо, и я его прочла. Не удержалась. Мальчик презрительно хмыкнул. — Только конверт порвался. Зацепился за что-то в сумочке и порвался... Вот. — Таня открыла портфель и вынула письмо. — Я купила конверт, сегодня отправлю. — Дай сюда. Сам отправлю. Стыдно читать чужие письма, да и хозяйку сумочки надо найти... Таких фамилий в поселке нет. Из дома отдыха, наверное. Соснин перебил рассказ мальчика. — Когда же ты отправил письмо? — Да в тот же день. — А где сумочка? — У Тани. Вызвали Таню, и через полчаса она принесла зеленую сумочку. — Там зубная паста, мыло и зубная щетка. Да еще четыре рубля сорок семь копеек... Мы потом с Махмудкой ходили в дом отдыха, хотели найти, чья сумочка. — Никто не признал ее, — добавил Махмуд. Арслан встал и подошел к Махмуду. Тот тотчас же вскочил со стула. — Товарищ командир, — серьезно произнес Туйчиев, — приказываю построить отряд. Надо выполнить очень важное задание. Махмуд засиял от гордости и побежал собирать ребят. Вскоре отряд, разместившись в кузове совхозного грузовика, двинулся в путь к Красным камням. — Так где, ты говоришь, стоял тот парень? — Вон там. Только он не стоял, а бегал взад и вперед, — Махмуд показал, как бегал парень. — Я видела, он подбегал и глядел в воду... — добавила Таня. — Вы узнаете того человека, если вам покажут? — спросил Туйчиев. — Узнаем! — в один голос ответили Таня и Махмуд. — Посмотрите-ка, не этот? — Арслан протянул ребятам фотоснимок Стасика. Ребята долго рассматривали фото и сказали, что это не тот человек. — Значит, сумочку ты нашла на том берегу? Таня кивнула, перешла через бревно и показала корягу, на которой висела сумочка.* * *
Николай не скрывал своего недовольства. Вот уже битый час он доказывал никчемность и даже вредность этой затеи, но Туйчиев был неумолим. Он твердо решил, что выведет Бурова на место, где спрятаны похищенные вещи, и сделает это без конвоя. — И надо же подумать, — возмущался Соснин, — все это только потому, что Буров, видите ли, стесняется знакомых! Вдруг встретятся по пути! Да как ты не понимаешь, что Буров относится к людям, которым вообще неведомо стеснение! — Соснин шагал и шагал по кабинету, в волнении размахивая руками. — Он просто издевается над тобой. Неужели это не ясно? — Как раз очень даже ясно. Но вопрос, Коля, стоит гораздо острее, глубже и принципиальнее. — Арслан защелкал зажигалкой, пытаясь прикурить. — К сожалению, ты видишь в Бурове только преступника... — Он совершил столько преступлений! Буров непоправим. Убедившись, что прикурить от зажигалки так и не удастся, Арслан попросил у Николая спички. Прикурив и сделав несколько глубоких затяжек, он продолжал: — Ты прекрасно знаешь, что у любого человека, в том числе и у преступника, есть и хорошее и плохое... — Как же, отлично знаю, — усмехнулся Соснин. — Только у человека, вставшего на путь преступлений, хорошее запрятано, очень глубоко запрятано, а на поверхности одни лишь отрицательные черты, только плохое. — Да где ты разглядел хорошее у Бурова, где? — удивленно пожал плечами Соснин. — Ты становишься ремесленником, квалифицированным, правда, но все же ремесленником. — А ты в облаках витаешь, теории филантропические создаешь. Ну, о каком доверии может пойти речь? Я имею в виду следователя и обвиняемого. Ведь любой обвиняемый считает тебя своим заклятым врагом! — А знаешь, почему? Да потому, что исстари так повелось: преступник скрывается, заметает следы, следователь же распутывает, а суд потом наказывает. — Что же, разве не в этом правда жизни? — Только частично, Коля. Важно, чтобы преступникпонял: следователь ловил его не только для того, чтобы в суд передать. Когда преступник поймет, что ему прежде всего хотят помочь разобраться в ошибках, встать на правильный путь, тогда он не будет считать следователя врагом. — А как же практически? — усаживаясь напротив, спросил Соснин. — Практически — примеров много. Хотя, сам знаешь, как это сложно. Вроде бы как отделение сетчатки глаза, ювелирная работа. Даже еще сложней. Рецепта готового нет. Надо ведь оперировать душу человека, а без взаимного доверия успеха не добиться. — Ты полагаешь, что у тебя с Буровым достигнуто такое доверие? — Нет, не достигнуто. Он ведь тоже не лыком шит. Я убеждал его самому выдать все украденные вещи — очиститься от скверных преступлений, честно отбыть наказание и начать новую жизнь. Он, разумеется, ко всему отнесся недоверчиво. Решил проверить: действительно ли мы хотим ему хорошего или это просто тактический ход. Поэтому и заявил, что с конвоем не пойдет. Дескать, раз верите — докажите. — Ты уверен, что он не сбежит? — Кто, кроме самого Бурова, может дать гарантии? — развел руками Арслан. — Но иначе я не могу. Не вижу смысла тогда в нашей работе. Ловишь, стараешься, а он отбудет наказание и снова за старое... Я ведь не льщу себя надеждой, что тот же Буров или другой сразу исправится. Пусть это только семена, но бросить их в душу преступника первыми должны мы, следователи, работники милиции, потому что самый передний край борьбы проходит у нас. Иначе мы ничем не будем отличаться от обычной собаки-ищейки, которая тоже идет по следу, ищет и находит. — Черт с тобой, криминалист-экспериментатор, — миролюбиво согласился Соснин. — Вместе отвечать будем.* * *
«Да, с чемоданом получилось страшно глупо. Так нелепо попасться! Если бы не этот чемодан, в жизни не удалось бы им ничего узнать...» Эти мысли не давали Василию покоя. Он гнал их, пытался думать о чем-то другом. И когда, казалось, он наконец отвлекался от тяжелых раздумий, неожиданно опять врывались обстоятельства с этим злополучным чемоданом... В эти минуты лицо Бурова перекашивала злоба — бессильная и от этого особенно яростная. Он терзался, вскакивал с места, беспрерывно курил. Болела голова, слегка подташнивало. Буров вновь и вновь перебирал в уме события последних дней, пытаясь ответить на мучавшие его вопросы, выяснить, когда и в чем он ошибся. Конечно, заложил его шофер. В этом Василий почти не сомневался. Предчувствие надвигающейся опасности не обмануло его. Вспоминая, как он ловко провел работников милиции и ускользнул от них, Буров довольно улыбнулся. Это он проделал на уровне, ушел элегантно... «Шофер, сволочь, не нужно было с ним связываться... — Василий зло сплюнул. — Наверное, раскис сразу, как только взяли. Сам влип и меня заложил. Слюнтяй... — Буров опять сплюнул. — Интересно, как все-таки на него вышли? Эти мальчики-следопыты, видать, дело знают. С подходом, — усмехнулся Василий. — Особенно этот, Туйчиев. Все на доверие упирает. Доверие...» Буров до сих пор не мог понять, как решился Туйчиев идти с ним без конвоя через весь город, в парк, где он спрятал золотые часы. Когда на допросе Туйчиев спокойно внушал Бурову, что в его же интересах выдать все похищенное, Василий воспринял это с недоверием. — Почему вы, гражданин следователь, печетесь обо мне? Мне кажется, у вас достаточно доказательств. Вон сколько вещдоков у меня на квартире взяли. Специально оставил! — Буров явно издевался, но Туйчиев по-прежнему был невозмутим. — Я уже объяснял вам, Буров, что вы неправы. Напрасно вы прикидываетесь конченым человеком. — Прикидываюсь? Значит, вы думаете... — Да, Буров. Именно это мы и думаем. Поэтому предлагаем добровольно выдать похищенные вещи. — Гражданин следователь, у вас есть еще другие дела? — неожиданно задал вопрос Буров. — Времени вашего жалко. Вот вы меня хотите на путь истинный направить, столько времени тратите. А сейчас кто-нибудь другой к кому-то в карман лезет. Лучше поспешите, может быть, успеете схватить. — Схватим, Буров, всех схватим. Вы вот себя каким ловким считали. Схватили же. Но не это главное, Буров. Схватить не резон. Рано или поздно все попадаются. Главное — убедить таких, как вы, что идете не той дорогой. На это мы не пожалеем времени, можете не сомневаться!.. Не думайте, что это громкие фразы. На это действительно не стоило бы тратить времени. Туйчиев говорил горячо и взволнованно. Буров смотрел на него удивленно. Нечто подобное он слышал и раньше, но было это не так сердечно и душевно. Туйчиев, похоже, действительно смотрел на него как на человека, а не как на вора. Но Буров не хотел сдаваться, он попытался отбросить сомнения. — Знаете, гражданин следователь, а вы меня, можно сказать, убедили. Есть у меня в одном месте часишки золотые, штук восемь, кажется. — Буров говорил с безразличным видом. — Впрочем, я и место могу назвать: парк-озеро. Только без меня не найдете. Готов прогуляться с вами или с капитаном Сосниным. Можно и втроем, компания вполне подходящая, но только без официального, так сказать, сопровождения. Без конвоя. У меня в городе немало знакомых, того и гляди встретятся. Не хотелось бы огорчать их печальным зрелищем. — Буров притворно вздохнул и испытующе посмотрел на Туйчиева. — Я предлагаю потому, что вы говорили о доверии, — добавил он с улыбкой. Когда же на следующий день Бурова вызвали из камеры предварительного заключения и Туйчиев с Сосниным без конвоя поехали с ним в парк-озеро, он был потрясен, но слово сдержал и показал тайник. «Почему же Туйчиев поверил мне, ведь я мог убежать? Нет, убегать от них я бы не стал... Но они же не знали этого! Неужели действительно верят мне?.. А тут еще чемодан... Влип я с ним, ох как влип! Но как рассказать правду?.. Нет, нет... Нельзя!»* * *
Получив словесное описание парня, которого дети видели у Красных камней, Туйчиев и Соснин направились в дом отдыха. Но дирекция дома отдыха ничем помочь не могла: отдыхающие предыдущей смены уже разъехались. — Обидно, черт возьми, на каких-то два дня опоздали! Никогда не унывающий Николай рассмеялся. — Судя по твоей реплике, нас могут принять за необязательных людей. Назначили встречу таинственному незнакомцу, а сами изволили опоздать, да еще на целых два дня. Хотя на мой непросвещенный взгляд — мы нигде не задерживались. Я склонен во всем винить только его: при желании он мог и пораньше дать о себе знать и, как минимум, сообщить свою фамилию. — Да перестанешь ты, наконец, балагурить. И что это привело тебя в такой восторг? Не перспектива ли поисков этого парня? — Именно. Угадал. Ну как не порадоваться? В предыдущую смену в доме отдыха находилось всего сто тридцать восемь мужчин в возрасте до тридцати лет, и среди них — он. Да для нас это детские игрушки, мы же с тобой привыкли к ты-ся-чам! — Николай с особым удовольствием произнес это слово. Соснин был прав. После того как им пришлось перебрать тысячи людей в поисках одного, сто тридцать восемь человек казались ничтожно малой цифрой. Тем не менее понадобилось несколько дней, чтобы установить всех отдыхающих и заполучить их фотографии.* * *
Тело Смолиной было найдено далеко вниз по течению реки, у спокойной излучины. Равнина утихомирила здесь бурлящий горный поток, а берега, густо заросшие камышом и травой, скрывали водную гладь. Это тихое и спокойное место всегда привлекало внимание рыболовов и охотников, они и обнаружили тело девушки. — Пожалуй, картина проясняется, — произнес Арслан, складывая в портфель протокол осмотра и план местности. — Чего уж яснее, — подтвердил Соснин. — Сначала ее оглушили ударом сзади, а потом бросили в воду. — Очень уж странное орудие... — задумчиво произнес Арслан. — Ты о чем? — Да я вот все думаю, чем ее ударили? Ты обратил внимание: три почти одинаковых отверстия на затылке. Что бы это могло быть? Просто не представляю себе этот предмет. — Что и говорить, загадка, — согласился Соснин. — Потом учти — чтобы нанести удар, преступник должен был находиться рядом с ней, а это значит... — Это значит, — подхватил Соснин, — он как-то незаметно сумел взять этот загадочный предмет. Ты это хотел сказать? — Почти, если не считать одного. Поскольку удар нанесен сзади, преступник мог и подкрасться. Она могла его не видеть. — Не думаю, это маловероятно. — Николай вынул из кармана смятую пачку сигарет. — У тебя есть что-нибудь курить? — Продолжая прерванный разговор после нескольких глубоких затяжек, он произнес: — М-да, теперь можно подвести некоторые итоги. — Главный итог — предметность данного этапа расследования. — Вот-вот. Это я и хотел сказать. Версии о самоубийстве и побеге с любимым бесповоротно отпадают. — Если придерживаться нашего плана расследования, это вторая и третья версии. — Значит, остается первая версия: убийство. И тут возникают извечные вопросы: кем, по каким мотивам, при каких обстоятельствах? И еще много разных «как» и «почему».* * *
— Прошу слова! — громко сказал Соснин и постучал вилкой по тарелке с холодцом. — Я предлагаю тост за то, чтобы через много лет, когда маленький Шухрат вырастет, профессия его папы стала ненужной. Наш Арслан вынужден будет стать руководителем хорового кружка районного дома культуры. — Ура! — восхитился лейтенант Сафаров. — Держите меня, я его сейчас побью: он намекает на то, что у меня нет слуха! — Туйчиев пытался подняться, но жена его удержала. Виновник торжества Шухрат, которому сегодня исполнилось шесть лет, совсем не обращал внимания на взрослых — он вплотную занялся изучением подарков. — Ну как жизнь, Василий Феофилович? — подсаживаясь к Северцеву, спросил Туйчиев. — Спасибо, Арслан Курбанович. Все в норме. Вот только Светлана отца не жалует, приезжает редко. — Он посмотрел с укором на дочь. — Боюсь, опять придется идти к вам за помощью, чтобы повлияли на нее. «Одни глаза остались», — подумал Арслан, глядя на Светлану. Она чуть заметно улыбнулась, думая о чем-то своем. Вера Павловна, мать Николая, украдкой бросала на Светлану грустные взгляды. Кто-то включил магнитофон, и Туйчиев пригласил девушку танцевать. Когда танец кончился, он отвел Светлану к отцу и, увидев, что Соснин вышел на балкон, направился за ним. — Думаешь? — спросил он у Николая. — Это хорошо. Может, что-нибудь надумаешь. Скоро ты женишься, наконец. Хоть мать пожалей. — Ничего не получается у меня. Полное отсутствие взаимопонимания. — Что-то стряслось? Ведь еще недавно все было хорошо, — удивился Арслан. — Непонятная она: то вся открывается, идет навстречу, то вдруг замкнется — не подступись... — Соснин помолчал. — В последний раз совсем непонятно вела себя. Расплакалась и убежала под проливным дождем... Безо всякой причины... — Странный ты, Коля. Надеюсь, для тебя не секрет, что она любила Виктора Самсонова. Соснин кивнул. — Почему же ты этого не учитываешь? Представь себе: девушка любит парня, а его убивают. Потом за ней начинает ухаживать капитан Соснин, который расследовал дело об убийстве Самсонова. Неужели ты не понимаешь, что, как только Света видит тебя, она вспоминает его? Хотя, насколько я могу судить, ты далеко не безразличен ей. Но здесь нужна осторожность, мягкость, такт. Очень сложные у нее сейчас переживания... — Арслан, Коля! — донесся из комнаты голос Рано. — Идите, чай остывает. Николай искренне пожал руку Арслана. — Ты прав. Я действительно думал только о себе... Спасибо. Ну ладно, нас зовут...* * *
До чего же странно переплелись нити следствия этих двух дел! Порой Николаю начинало казаться, что не они с Арсланом руководят ходом расследования, а кто-то неизвестный экспериментирует над ними, периодически отвлекая то от одного, то от другого дела, умело подсовывая чрезвычайно важные улики. Ищут Козецкого, обладателя краденных в военторге часов, а им оказывается Стасик — муж пропавшей Смолиной, которого тоже разыскивают, подозревая в причастности к исчезновению Вали. А теперь с этим чемоданом. Именно тогда, когда они наконец «вышли» на несомненного участника магазинных краж, в его квартире обнаруживают чемодан с вещами Смолиной... Поневоле от каждого нового обстоятельства будешь ждать какого-нибудь сюрприза. Все эти соображения Соснин высказал Туйчиеву. В ответ Арслан засмеялся, утверждая, что Николай твердо встал на путь мистики и ему противопоказано заниматься расследованием. Арслан подшучивал над другом, но вместе с тем сам терялся в многочисленных догадках. Сколько раз он пытался привести в стройную систему добытые доказательства, но все попытки рушились, как карточный домик. Не хватало каких-то деталей, но как и где их добыть — все еще было неясно. Пока очевидно одно: в объяснениях Василия Бурова далеко не все можно признать правильным. Особенно настораживало то, что в целом он давал правдивые показания. Василий Буров относился к той категории людей, которые не дают доказательств против себя добровольно. Решительный и смелый, с острым умом, Буров быстро оценивал обстановку и молниеносно принимал решение. Его натуре претило мелкое отпирательство от очевидных фактов. Он понял, что следствию известно о его участии в военторговской краже, и не стал выкручиваться, а прямо рассказал обо всем. Когда же настал черед объяснить, как очутился у него чемодан Смолиной, Буров несколько замешкался, но быстро овладел собой. — Я украл его. От Арслана не ускользнуло это мимолетное замешательство, однако выяснить что-нибудь еще не удавалось. Снова и снова Арслан возвращался к чемодану, но Буров лишь усмехался и отвечал односложно. — Так при каких обстоятельствах, Буров, вы украли чемодан? — Раз желаете — могу и повторить, — сверкнув улыбкой, произнес Буров. — Чемодан я украл на автовокзале у одной девушки. — У какой девушки? — Очень сожалею, — вздохнул Буров, — но как это поется: «Я имени ее не знаю». Понимаете, я торопился. В подобной ситуации всегда попадаешь в цейтнот, поэтому на личные контакты не хватает времени. — Не паясничайте, Буров, вы отлично знаете, что меня интересует, — строго сказал Туйчиев и задал очередной вопрос. Но Буров решительно не испытывал желания сообщить подробности истории с чемоданом. Арслан решил прервать допрос. «Странно, что Буров не знает содержимого чемодана, — размышлял Арслан. — Более того — он даже не пытался его открыть. Если Буров действительно украл чемодан, то наверняка не для того, чтобы только принести домой. Сам он объясняет: «Успел бы, куда торопиться!» Верно ли? Но, с другой стороны, нет оснований не верить Бурову — ведь об остальных вещах, обнаруженных у него, он говорил правду... Не потому ли, — продолжал рассуждать Арслан, — он так тщательно уходит от прямого ответа, что причастен к исчезновению Смолиной? Но в этом предположении тоже далеко не все ясно. Если чемодан оказался у Бурова в результате исчезновения Вали, то почему она все же появилась в доме отдыха? Значит, чемодан пропал у нее до приезда в дом отдыха. Но где именно? Пропажа в пути исключалась: пассажиры автобуса, в котором ехала Валя, были еще раньше установлены и допрошены, никто из них чемодана у Вали не видел. Выходит, он пропал до отъезда, еще в городе... Это вообще не укладывалось ни в какие рамки. Лишиться чемодана в городе и не вернуться домой, затем на сутки опоздать в дом отдыха...» Размышления прервал приход Соснина. По деланно-небрежному тону, каким Николай осведомился о делах, Туйчиев безошибочно определил, что он принес важные новости. — Давай, давай, выкладывай, — нетерпеливо проговорил Арслан. Николай улыбнулся и, вынув из папки листок, положил его на стол перед другом. «Василий Константинович Буров, он же Басов Константин Васильевич, 1943 года рождения, судим...», — быстро стал читать вслух Туйчиев. Потом, оторвавшись от сообщения, вопросительно посмотрел на Николая, как бы спрашивая: «Ну и что дальше?» — Слабо, очень слабо, — шутливо заметил Николай. — Я был лучшего мнения о вашей сообразительности. — Подсев к другу, он уже серьезно продолжил: — Понимаешь, как это получилось? Как мы планировали, я послал на Бурова запрос. Получаю этот ответ, ну-ка, думаю, что ты за птица, гражданин Буров. Читаю, и вдруг в голове промелькнуло: Буров Василий — Басов Константин... Валя и Костя... Чемодан Вали у Кости — у Бурова, значит... Я, конечно, не теряя времени, беру фото Бурова и к Козецкому. Давай, говорю, смотри внимательно и вспоминай, не с ним ли Валя в тот вечер была в ресторане. А он только глянул на фото — так сразу: «Он самый!» — Молодчина ты, Николай! Говорят, счастливые люди в рубашке рождаются, а ты, наверное, сразу в милицейской форме! — Ну уж скажешь, — смущенно отмахнулся Николай. — Теперь можно и некоторые выводы делать, да и история с чемоданом в ином свете представляется. Буров-Басов и не думал его красть. Воровать вещи у любимой девушки, по меньшей мере, смешно. — Арслан вдруг резко повернулся к Николаю. — А не с ним ли провела тот день Валя? — Ты полагаешь, что в дом отдыха Смолина опоздала из-за Кости. И чемодан... — ...и чемодан, — подхватил Арслан, — почему-то остался у Басова. — Но тогда его причастность к исчезновению Смолиной становится весьма и весьма вероятной. — Может быть, не к исчезновению, а к убийству... — Не забывай, что «мокрые» дела Басову не свойственны. У нашего клиента довольно узкая специализация: кражи государственного имущества. — А что, если примешалась любовь? С ней шутки плохи. Она, как тебе известно, многих заставляла менять профессию. Думаю, Басов не исключение. Впрочем, не будем гадать. Быть может, сам Басов внесет ясность. Басов вошел в кабинет, не скрывая удивления. Только что его допрашивали — прошло немногим более часа, и вновь допрос. — Что, гражданин следователь, забыли что-то выяснить? Всегда к вашим услугам, — шутливо проговорил он, усаживаясь на предложенный стул. — Нет, не забыл, — сухо ответил Туйчиев. — У Бурова на сегодня мы выяснили все, что нас интересовало. А вот для Басова имеется несколько вопросов. Басов слегка изменился в лице, но, быстро овладев собой, весело проговорил: — Буров и Басов одно лицо. Знают они одинаково. — Ну уж нет, — вмешался Соснин. — Буров Смолину Валю не знает, Басов же с ней перед отъездом в дом отдыха был в ресторане. Разве не так? Басов ничего не ответил. — Вот что, Басов, — нарушил молчание Арслан. — Давайте-ка все начистоту. Я сейчас вам изложу ряд фактов, попробуйте сами дать им оценку. — Хорошо, — сдержанно ответил Басов. — Итак, факт первый. Константин Басов некоторое время встречается с Валентиной Смолиной. Факт второй. Накануне отъезда Вали в дом отдыха она с Костей посещает ресторан. Факт третий. Валя внезапно исчезает, поиски ее безрезультатны. Факт четвертый. На квартире у Кости обнаруживают чемодан Смолиной, который она взяла с собой в дом отдыха. Факт пятый. Вскоре обнаруживают Валю убитой со следами насильственной смерти. Наконец, последний факт. Костя отрицает знакомство с Валей и заявляет, что чемодан украл на автовокзале. Так как же попал Валин чемодан к Басову? Кстати, можете взглянуть на фотоснимок. Это Валя Смолина, после убийства... Дрожащей рукой взял Басов фотокарточку и стал внимательно рассматривать. — Чего вы хотите, — хрипло спросил он. — Услышать правдивые показания. — Я ее убил! — выкрикнул вдруг Костя. — Понятно? Я! Больше ничего не скажу, вы следователи, вот и разбирайтесь!* * *
Арслан медленно поднимался по крутым лестничным ступенькам. Он поймал себя на мысли, что старается оттянуть предстоящий неприятный разговор. Уже неделю в городе гастролировал Большой театр Союза ССР, и Рано просила достать билеты. Первые два дня Туйчиев просто забывал об этом — лавина маленьких и больших дел обрушивалась на него, как только он переступал порог кабинета. Наконец на третий день он подошел к Бекетову, который всегда распределял билеты, и умоляюще показал ему два пальца. Вадим Петрович так посмотрел на Арслана, как будто тот просил билеты на Марс, и красноречиво провел ребром ладони по горлу. Присутствовавший при этой мимической сцене Соснин тут же исчез. Он появился лишь через час, вошел с безразличным видом и небрежно бросил на стол два драгоценных билета на «Севильского цирюльника». Сегодня они должны были идти в театр. Туйчиев посмотрел на часы. Двадцать минут одиннадцатого. Он полез в карман за ключами, потом передумал и неуверенно нажал кнопку звонка. — Добрый вечер, — виновато произнес он. — Ты пришел? Я не ждала сегодня, — уклоняясь от поцелуя, сказала Рано. — И вообще — разве тебе нужна семья? Нет, нет, не оправдывайся. Тебе никто не нужен — ни жена, ни сын. Ты прекрасно можешь обойтись без такой обузы. Арслан молчал, не зная, что ответить. Рано по-своему права. Он не припомнит, когда они последний раз были в кино. Но и он не виноват... — Я так больше не могу... Шухрат совсем от рук отбился, сегодня подрался в детсаду... Так дальше продолжаться не может. Это было невыносимо. Арслан знал, что так будет всегда, будут новые дела, и они опять полностью захватят его. Собственно, он иначе и не мыслит — только полная отдача в работе. Но и семья требует внимания. Как же быть? — Извини, Рано. Что-нибудь придумаю... Я еще достану билеты, хорошо? Мы обязательно сходим в театр! Рано больше ничего не сказала. Она ушла в спальню. Арслан постоял еще немного, бросил взгляд на висевший на стуле новый черный костюм, взял со стола билеты. «Шестой ряд, партер, хорошие места», — вздохнул он и пошел на кухню. Он почувствовал облегчение от того, что неприятный разговор уже состоялся. А завтра острота пройдет... «В конце концов, я должен найти свободное время, — думал он, уплетая макароны с мясом. — Обязательно послушаем оперу. «Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро здесь, Фигаро там...» Случайно, не следователей имел в виду Россини?..»* * *
Басов замкнулся. Угрюмый и неразговорчивый, он совсем не походил на того Костю, который на допросах держал себя непринужденно и даже весело. Теперь он требовал лишь быстрейшего окончания расследования и передачи дела в суд. — Зря вызываете, гражданин следователь, нового сообщить не могу, — сразу заявил Басов, войдя в кабинет. — С чего это вы, Басов, взяли, что меня интересует новое, — ответил Туйчиев, жестом показывая на стул. — Я хотел поговорить с вами как раз о старом, вернее, уточнить некоторые моменты. — Чего уточнять? Я полностью сознался и в кражах, и в убийстве... — Кстати, об убийстве. Никак не пойму, с чего вы решили стать современным Отелло? — Не вижу никакой связи между мной и Отелло. — Напрасно. Вы, как и он, убили любимую. Только способы разные. — Что-о?! — выдохнул взбешенный Басов. — Моя любовь никого, даже вас, гражданин следователь, не касается! — Верно, Басов, — миролюбиво согласился Туйчиев. — Я это так, мимоходом заметил. Хотя очень рад вашему признанию, что вы любили Смолину. Басов сжал кулаки, весь напрягся, но Туйчиев так же миролюбиво продолжал: — Сейчас меня интересует другое... — Он закурил и предложил сигарету Басову. Некоторое время оба молчали. Басов сосредоточенно рассматривал кончик горящей сигареты, а Туйчиев листал дело. — Так вот, давайте уточним дату последней кражи, — прервал молчание Туйчиев. — А что уточнять? В протоколах все есть, там и дата. — Тем не менее, пожалуйста, ответьте. Сельмаг вы брали девятого. Не так ли? Точнее, в ночь на девятое. — Допустим. — А если без допусков? — Девятого. — А теперь посмотрите карту. — Арслан придвинул к Басову карту области и стал показывать карандашом. — Вот здесь расположен сельмаг, а вот дом отдыха «Красные камни». — Карандаш сначала очертил один кружок, потом другой и соединил их линией. — Даже по прямой здесь около трехсот километров. К тому же, чтобы попасть в дом отдыха, надо сначала вернуться в город. Неужели не ясно, Басов? — Туйчиев откинулся на спинку стула. — Не убивали вы Валю. Хотя бы потому, что преступления совершаются во времени и в пространстве. Пространство же, в данном случае расстояние, таково, что по времени вы не успевали. Совершив кражу в сельмаге, вы не могли попасть к утру в «Красные камни». Валя же убита утром девятого. — Меня не интересуют ваши расчеты, понимаете, не интересуют! — раздраженно проговорил Басов. — Я еще раз заявляю: Смолину убил я. Чего еще надо? — Нужна правда, Басов, только правда, — жестко ответил Туйчиев. — Это и есть правда. Кто станет брать на себя убийство! — зло усмехнулся Костя. — В данном случае так поступили вы, хотя мне не совсем понятны причины. Вы считаете, что раз сознались, следствию больше ничего не надо. Слишком устарели ваши понятия, Басов. — Понятия у меня слишком самые современные. Как ни крутите, а раз я признался — все, конец. Вам ведь во что бы то ни стало нужно раскрыть преступление. Вот я и помогаю вам. Короче, я убил — и все тут. — Ложь это, Басов. Вы не могли убить Валю. Понимаете? Не могли. Потому что любили ее. Басов отвернулся к окну. — Вы вот утверждаете, — продолжал Туйчиев, — что убили Смолину с целью ограбления. Тем самым вы пытаетесь объяснить, как ее чемодан попал к вам. Однако в этом объяснении есть существенный изъян. Басов быстро взглянул на Арслана и снова отвернулся. Туйчиев сделал небольшую паузу. — Валя была убита в доме отдыха, туда она приехала без чемодана. Значит, лишилась она чемодана, по крайней мере, за сутки до смерти. Я сказал «по крайней мере» потому, что чемодана у нее не стало еще раньше. Думаю, в тот момент, когда она была у вас на квартире. — Не была она у меня! Не была! — выкрикнул Костя. — Была, Басов, была, — спокойно ответил Туйчиев. — Ваша квартирная хозяйка ее видела. Если хотите, можете ознакомиться с ее показаниями. — Не надо, — глухо ответил Басов. — Хорошо, я расскажу... ...В тот день он приехал на вокзал, чтобы проводить Валю, уезжавшую отдыхать. У него не было никакого определенного плана, просто решил перед отъездом откровенно с ней поговорить. Но когда Костя увидел ее у вагона — худенькую, в плаще и косынке, с чемоданом, который она неуклюже держала обеими руками, — он решил, что Валя никуда не поедет. Валя сразу не поняла, что ей предлагают остаться, потом эта перспектива показалась ей романтичной — похоже на сцену из фильма: мокрый от дождя перрон, красивый и влюбленный Костя, гудки тепловозов на дальних путях... «Подумаешь. Поеду завтра», — подумала Валя и согласилась. Костя взял у нее чемодан. Они вышли на привокзальную площадь, сели в такси и через десять минут подъехали к его дому. Это был самый счастливый день его жизни. И самый несчастный. Весь вечер они болтали о всяких пустяках, потом Костя жарил котлеты и Валя восторгалась кулинарными способностями хозяина. Несколько раз он порывался начать разговор, но никак не мог решиться. «Размазня, тряпка», — ругал он себя. Валя осталась у него. Утром, когда она проснулась, Костя стоял у окна и курил. Он обернулся и, увидев, что Валя не спит, подошел к ней. — Ты чего такой пасмурный? — улыбнулась она и погладила его руку. — С кем связалась, знаешь? Вор я. Понимаешь, вор! — неожиданно с надрывом выкрикнул Костя. Ему стало легче, а лицо Вали сразу посерело. — Валюша, дорогая, не бойся. Я был им, но сейчас с этим покончено. Завязал. Только люби меня. Мы будем вместе, начнем новую жизнь. Костя попытался взять ее руку, но Валя в страхе отодвинулась от него и молча начала одеваться. Костя смотрел на нее и думал, что вот сейчас уходит из его жизни самое дорогое, самое главное... Валя оделась, схватила сумочку и, забыв про чемодан, выбежала из комнаты...* * *
В фотографии, присланной из Хорезма, на которой был изображен некто Дьяков, дети опознали «того самого парня». На фоне установленных фактов фигура Дьякова начинала приобретать зловещие очертания, хотя возможные мотивы убийства оставались неясными. Ограбление исключалось: сумочка осталась нетронутой. Тогда, может быть, месть? Но откуда мог знать Смолину Дьяков, который жил совсем в другом городе? Валя же никогда в Хорезме не бывала, это подтвердила ее мать. Причастен ли Дьяков к смерти Смолиной? Этот главный вопрос ждал своего разрешения, и предстоящий допрос должен был приоткрыть завесу над таинственным исчезновением Вали. Туйчиев и Соснин с нетерпением ждали, когда наконец Дьяков будет доставлен в их распоряжение. Из обрывков фраз, которые Дьяков уловил, когда его в Хорезме вызывали в милицию, он понял, что интересуются его пребыванием в доме отдыха, и решил ни в чем не признаваться. Войдя в кабинет, не снимая соломенной шляпы, Дьяков развалился на стуле. Это был высокий молодой человек с большими ушами и тонкими губами. Губы непрерывно шевелились — как у человека, который начинает учиться читать про себя. Соснин слегка усмехнулся и, не говоря ни слова, молча стал изучать парня. Заметив это, Дьяков осмотрел свою одежду, нет ли в ней каких-либо неполадок. Ничего не обнаружив, он не выдержал и спросил: — Что вы на меня так смотрите? — Я жду, когда вы как следует сядете, — ответил Соснин. Дьяков поспешно принял нормальную позу. Николай продолжал молчать. — Ну а теперь?.. — спросил Дьяков. — А теперь я жду, когда вы снимете шляпу. Мы ведь в комнате, — сказал Соснин. Дьяков снова смутился, быстро снял шляпу и положил ее на стол поверх бумаг. — Уберите шляпу, — спокойно предложил Соснин. Дьяков окончательно растерялся, начал бессвязно извиняться, от его показной беспечности не осталось и следа. Соснин попытался подавить в себе возникшую неприязнь к Дьякову. Он хорошо знал, что в расследовании прежде всего нужны беспристрастность и объективность. Но что поделаешь. Человек, даже если он и облечен высокими полномочиями, остается человеком... Николай на протяжении всего допроса старался быть максимально объективным и вежливым, последовательно выяснял обстоятельства, интересующие следствие. Дьяков уклонялся от откровенного разговора. По его словам, в доме отдыха никаких особенных событий с ним не произошло. Что касается исчезновения девушки, то он только слышал об этом, кто она такая — ему не известно. Он даже не помнит ее в лицо, ведь она пропала в самом начале смены. Рассказывая подробно о каждом из двенадцати дней своего отдыха в «Красных камнях», Дьяков ни разу не упомянул о том, что ходил к речке — к тому месту, где раньше был мост. Соснин решил воскресить в памяти Дьякова этот эпизод, но допрашиваемый проявил поразительную забывчивость. Он не мог вспомнить это место даже по фотоснимку. Убедившись, что Дьяков ничего не скажет и, более того, вообще категорически отрицает сам факт посещения переправы, Соснин был вынужден провести опознание Дьякова. При соблюдении необходимых формальностей, дети уверенно указали на Дьякова: у речки был именно этот парень. — Как видите, Дьяков, — Николай отодвинул протоколы только что проведенного опознания, — дальнейшее отрицание очевидных фактов лишь неблагоприятно характеризует вас. Дьяков был подавлен. Бледный и растерянный, сидел он перед Сосниным, нервно комкая в руках носовой платок, которым ежеминутно вытирал пот. — Должен вам прямо сказать, — продолжал Соснин, — что ваше поведение на берегу речки более чем удивительно. А в сочетании с криком женщины, который слышали дети, к тому же и дамская сумочка... — Нет, нет! Я не виноват. Я ничего плохого не сделал, — Дьяков закрыл лицо руками. — Я... Я ничего не мог поделать... Поверьте, прошу вас... Соснин протянул Дьякову стакан с водой. — Выпейте. Отбивая зубами дробь о край стакана, Дьяков отпил несколько глотков и поставил стакан на стол. — Рассказывайте, — властно нарушил молчание Николай. — Да, да... Я сейчас, — с готовностью отозвался Дьяков. — Я, честное слово, не виноват, я не мог ей ничем помочь... Никогда раньше я не видел эту девушку... Я собрался пойти в поселок, в магазин. Чтобы сократить путь, решил перейти речку... Подхожу, значит, к берегу, а с той стороны в это же время подошла девушка. Только ступила она на бревно — и сразу навзничь, стала падать в речку... Наверное, оступилась... А там, у берега, из реки сваи торчат, так она о сваю головой ударилась... И тут же ее подхватил поток. Только и успела вскрикнуть... Я хотел ее спасти, но растерялся, да и опасно было... — Увидев недоверие на лице Соснина, Дьяков заискивающе добавил: — Я рассказал все как было. Честное слово. Эта девушка... Не дав ему договорить, Соснин быстро вынул из конверта фотоснимок Смолиной. — Это она? — Она, — тихо ответил Дьяков и опустил голову.* * *
Алимов внимательно слушал Арслана — он докладывал результаты расследования дела «Об исчезновении Валентины Смолиной». Изредка Алимов задавал вопросы, уточнял отдельные детали. Соснин был здесь же, он сидел у окна. Перед ним время от времени вставали отдельные этапы поискового марафона. Когда Туйчиев заговорил о Дьякове, он вспомнил его допрос. Как дрожал этот тип за свою шкуру! Уже выходя из кабинета, Дьяков заискивающе спросил: — Скажите, пожалуйста, мне ничего не будет? Там ведь было глубоко... И камни... Соснин пристально посмотрел на него. — Да, помощь вы не оказали... К сожалению, в такой ситуации уголовный закон ответственности не предусматривает. На лице Дьякова промелькнула радость, он даже улыбнулся, но улыбка получилась какая-то вымученная, жалкая. — Как мы ни прикидывали, — донесся до Соснина голос друга, — так и не смогли представить себе орудие, которым были нанесены раны. Помог Дьяков. Для проверки его показаний мы вновь выехали на место. У берега недалеко от коряги, где была найдена сумочка, над водой выступает свая. На ее торце оказались три до конца не вбитых гвоздя. Раньше здесь был небольшой мост, его разобрали, хотели строить другой. На эту сваю с торчащими гвоздями мы сначала не обратили внимания. — Значит, Дьяков говорил правду? — спросил Алимов, делая у себя какую-то отметку. — И его причастность к смерти Смолиной полностью исключается? — Совершенно верно, — ответил Туйчиев. — Теперь мы можем точно нарисовать картину гибели Смолиной. Приехав в дом отдыха без вещей, чемодан-то ведь остался на квартире у Басова, Валя решила пойти в магазин. Об этом свидетельствует содержимое сумочки. В ней лежали нераспечатанная пачка мыла «Ленинград» и тюбик «Помарина». Да и продавщица подтвердила. Ей показали фото Вали, и она сказала, что хорошо помнит эту девушку. В тот день она была первой покупательницей в магазине. Валя была убеждена, — продолжал Туйчиев, — что Басов привезет ей чемодан. Поэтому никому ничего не говорила и решила временно обзавестись предметами первой необходимости. Возвращаясь из магазина, она решила сократить путь. И вот — у самого берега речки поскользнулась. Сумочка зацепилась за корягу, а сама Смолина ударилась о сваю и потеряла сознание... В это время на противоположном берегу находился Дьяков. Его-то и видели дети, когда он метался в растерянности, но так и не решился помочь. — Убийство, стало быть, полностью отпадает? — спросил Алимов. — Да, — полностью. — По плану расследования, насколько я помню, вы выдвинули три версии. Они не подтвердились. Так что же оказалось в результате? — Несчастный случай, — ответил Соснин. — Нулевая версия.* * *
«Здравствуйте, Арслан Курбанович и Николай Семенович! Вас наверняка удивит это послание из мест не столь отдаленных. Получить письмо от заключенного — радость небольшая, но я пишу потому, что хорошо помню наши «встречи» и хочу продолжить начатый, но незавершенный разговор. Вот уже полгода, как я отбываю срок. Все это время я ворошу прошлое, перелистываю страницы своей живописной биографии и стараюсь понять: почему вы оба мне понравились? Нельзя сказать, что мне не попадались хорошие люди, но так относилась ко мне, пожалуй, лишь мать. Когда я узнал о смерти Вали, сначала не верилось, настолько нелепой казалась мысль, что я ее больше никогда не увижу. А тут еще на меня пало подозрение. Получалось, что я убил любимую девушку из-за какого-то паршивого чемодана. Мне вдруг все стало безразлично, и я взял убийство на себя, задал вам шараду. Хорошо запомнил нашу прогулку в парк. Признаться, не думал, что вы пойдете на это, уж больно риск большой. Но вы пошли. Потом понял: меня проверяли на прочность, осталось ли во мне что-нибудь человеческое. Стоит ли сейчас ворошить прошлое и рассказывать, как я «дошел до жизни такой»? Главное не в этом. Я не хочу оглядываться. Грязь свою я смою трудом здесь, в колонии, и потом на воле. Вам большое спасибо за веру в людей. Если сочтете возможным ответить мне, буду рад. А как освобожусь, обязательно встречусь с вами, но уже на равных. Желаю всего наилучшего. Костя.
Р. S. Прочитал свою писанину, нескладно как-то получилось. Хотелось сказать многое, но не вышло. Исправлять и переписывать не стал, здесь все как есть. С уважением. Басов».
В. Вальдман, Н. Мильштейн По делу обвиняется... Повесть

Глава первая
Неожиданно начал моросить дождь. Мария Никифоровна, не покидая пункта наблюдения, вынула из сумки складной зонтик, с которым не расставалась во все времена года, раскрыла его и посмотрела на часы. «Скоро. Сейчас начнут выходить, только бы Лёня не увидел». — Она ниже опустила зонт, прикрыла им лицо. Хотя Мария Никифоровна напряженно ждала ее выхода, а может именно потому, что ждала, она вздрогнула при появлении Иры, которая шла в группе молодых людей, оживленно разговаривая и задорно смеясь. «Ишь, без свиты мужской не может», — неприязненно подумала Фастова. Между тем Ира со спутниками приближались, и Мария Никифоровна еще ниже опустила зонтик, но тут же сообразила, что Ира может и не увидеть ее, высоко подняла зонт над головой и сделала несколько шагов навстречу. Ира перестала улыбаться, остановилась и стала торопливо прощаться с попутчиками. В этот момент к ним подошла Фастова и, бросив холодное: «Здравствуйте», — отозвала Ирину. «Судя по решительному виду и закушенной губе, приготовила мне хорошую экзекуцию, — тоскливо думала Ира, молча шагая за Лёниной матерью. — Ох, и невезучая же я». Ира и вправду считала себя неудачницей. Когда она заканчивала девятый класс, скоропостижно от инфаркта умерла мама, а вскоре отец привел в дом другую женщину. К Ире относились хорошо, не обижали, но ей стало казаться, что она в гостях, время визита заканчивается и надо уходить домой, а адрес дома неизвестен. Ее заветной мечтой было побыстрее окончить школу и стать самостоятельной. Накануне выпускных экзаменов она влюбилась с той пылкостью, какая свойственна лишь тем, кому семнадцать. Ира сама испугалась чувства: до сих пор все было иначе. Хорошенькая, компанейская, жизнерадостная, она не могла пожаловаться на невнимание сверстников. Но увлечения проходили быстро, ограничивались редкими прогулками по городу и торопливыми поцелуями в темном подъезде. С Виктором — он был на несколько лет старше — ей стало интересно и надежно. Оба с нетерпением ждали конца учебного года. Вопрос их дальнейшей жизни решился сам собой. Получив аттестат зрелости, Ира по инерции подала документы в институт и на первом же вступительном экзамене с треском провалилась. Это не очень огорчило ее: решила, что поступит на следующий год. Когда забирала документы, ей предложили поработать в институте лаборанткой и поступать на заочное отделение. Это давало ей независимость от отчего дома. Она перешла жить к Виктору, который работал начальником участка стройуправления и недавно получил однокомнатную квартиру в центре города. Заявление в ЗАГС они не подали. Виктор не проявил инициативы, а Ира считала неудобным напоминать: им и так хорошо. Виктор приходил поздно, устало улыбался, они ужинали, затем она мыла посуду, а он клевал носом перед голубым экраном — образцово-показательное семейство. Потом наступила эра комфорта: Виктор сам отремонтировал квартиру, и вскоре та заблистала. Он хорошо зарабатывал и старался, чтобы квартира была обставлена роскошно. Ира всячески поощряла в нем это. Гнездышко стало уютным, по вечерам не хотелось никуда уходить, изредка к ним приходили гости, а чаще всего они читали вслух, не очень рьяно спорили о прочитанном. Виктор научил ее играть в шахматы, она пристрастилась к игре и довольно быстро превзошла учителя. Нет, что не говори, это была чудесная пора. Потом начался кошмарный сон наяву: Виктор запил. Большой и добрый, он становился страшным во хмелю, смотрел на нее тупо голубыми глазами, что-то бессвязно мычал, размазывая слезы по лицу, валился в грязных туфлях на диван и засыпал. Утром хмурый, пряча глаза, выдавливал: «Здрасьте», — и уходил на работу, а вечером все повторялось. Особенно ужасным было пьяное желание близости с ней. Попытки серьезно поговорить, увещевания, визиты к врачам, мольбы — все оказалось бесполезным.
И однажды, когда пьяный Виктор толкнул ее, беременную, и она чуть не упала, Ира решила: хватит! Наутро она молча подала завтрак, а после его ухода собрала чемодан и поехала к отцу. Он искренне обрадовался: «Молодец, дочура, вернулась». Мачеха скользнула взглядом по ее животу, учтиво улыбнулась: «Располагайтесь, ваша комната свободна». Но Ира переоценила себя, когда думала, что сможет жить под одной крышей с отцом, который был поглощен единственной целью — угодить молодой жене, с издевательски вежливой Лилией Андреевной. Незадолго до родов Ира переехала, ко всеобщему облегчению, в пустовавшую секцию мачехи. От чувства, которое она питала к Виктору, не осталось и следа, и, когда родился Славик, в свидетельстве о рождении сына она написала отчество по имени своего отца — Петрович. Прошло два года. Она познакомилась с Леней, они полюбили друг друга, однако имелось одно обстоятельство, которое могло помешать их счастью. Ира поняла это, когда познакомилась с Лёниной мамой. Обостренное чутье любящей женщины безошибочно подсказало ей: отсюда исходит опасность, — и беспокойство за их будущее уже не покидало ее. Как-то Леня проговорился: Мария Никифоровна считает Иру беспутной и никогда не согласится на их брак. Леня, конечно, не пойдет на открытый конфликт с матерью, он слишком мягок для этого — значит, это предстоит сделать Ире. Разговор должен был состояться рано или поздно. Иражелала его и боялась. Хотелось поскорее развязать, а не выйдет, так и разрубить узлы в этом своеобразном треугольнике — мать, единственный сын, любимая сыном и любящая его женщина... ...Некоторое время они шли молча. Дождь перестал, женщины отряхнули зонтики и спрятали их. — Куда мы идем? — спросила наконец Ира. — Туда, где меньше людей, в парк. — Вы полагаете, люди могут помешать нам? — в голосе Иры звучала ирония. — Не хотелось бы, чтобы нас видели вместе, — отрезала Фастова. «Ничего, сейчас ты услышишь, кто ты и что ты, — подумала Мария Никифоровна. — Я тебя навсегда отважу». Они вошли в парк, свернули на боковую аллею, и здесь Фастова начала атаку. — Мне хочется надеяться, у вас хватит ума понять: женщина вашего образа жизни и поведения, — она сделала ударение на последних словах, — никогда, понимаете, никогда не станет женой моего сына! А раз так, оставьте его в покое. — Предложите это Лёне, — спокойно посоветовала Ира. Выстрел в десятку. С Леней Мария Никифоровна говорила многократно и безуспешно. Последний разговор состоялся накануне. — Зачем тебе нужна жена с чужим ребенком? — возмущалась Мария Никифоровна. — Ведь она, наверное, даже не знает, кто его отец. И ты, такой интеллигентный мальчик, хочешь сам погубить свою жизнь. Опомнись. — Я люблю ее, мама. Почему ты не хочешь меня понять? Спроси у Иры — она тебе скажет то же... И вот сейчас Ира адресует ее к сыну. Они сговорились и решили свести ее в могилу. Обида захлестнула Марию Никифоровну, она с трудом сдержала себя и с достоинством продолжала: — В отличие от вас Леонид считается с матерью. Вы должны прекратить травмировать его своими назойливыми притязаниями. Я поставила перед собой цель — оградить его от вашего влияния, и добьюсь ее, чего бы мне это ни стоило. — Вы хотите навязать сыну свою волю и в своей слепой любви не замечаете, как усложняете ему жизнь. Я, разумеется, не подхожу вам — вас шокирует мое прошлое: ведь я не захотела жить с пьяницей. Но я имею право на жизнь, на любовь... — Живите, любите, но только не моего сына, — надменно прервала ее Фастова. — Мы сейчас реже видимся с ним, благодаря вашему воздействию... — Услышав это, Фастова просветлела: наконец ее мальчик внял голосу разума. — Но не торопитесь торжествовать, — продолжала Ира. — Мы все равно будем вместе, а вас прошу, по-хорошему, по-доброму прошу: не мешайте. — Вы лучше займитесь воспитанием ребенка, чтобы он не пошел по пути своих родителей. — Этим мы займемся с вашим сыном. Мария Никифоровна задохнулась от гнева. — Только через мой труп... Слышите, вы... через мой труп. — Ну что ж, это тоже вариант, — криво улыбнулась Ира.
Потом Леня уже не мог точно вспомнить, когда появилось это щемящее чувство тревоги. Может быть, когда он подходил к дому и, привычно подняв голову, не увидел на балконе поджидавшую его мать. Тогда он успокоил себя: «Наверное, потушила свет и стоит у окна». Закрытая дверь угрюмо смотрела зеленым глазком и не открывалась на звонки. Он достал ключ и, чувствуя, как учащенно бьется сердце, вошел — теперь уже он не сомневался, — в пустую квартиру. «В кино ушла с тетей Надей на последний сеанс, ведь давно грозилась. Сейчас одиннадцать — скоро подойдет». Он немного успокоился, переоделся и пошел на кухню — обеда не было. «Мама не приходила с работы, — обожгла его мысль. Леня заметался по квартире, не зная, что предпринять. — Просто ушла? Чтобы меня проучить? Значит, ушла. Куда? Не куда, а к кому, — поправил он себя. — Ясно. Владимир Григорьевич. Да, теперь, кажется, вопросов нет». Леня поморщился. С Владимиром Григорьевичем Крюковым, давним другом Марии Никифоровны, у него были сложные отношения. Он понимал: это несправедливо, ведь Владимир Григорьевич — неплохой человек и любит маму, но, как ни странно, именно чувство Крюкова к матери, его преданность ожесточали сына, и он не всегда мог скрыть неприязнь к нему. Делить маму он ни с кем не собирался. Правда, уже достаточно давно он вышел из-под ее влияния, когда она контролировала каждый его шаг, давала советы на все случаи жизни. Первая брешь безоговорочного повиновения маме была пробита в день окончания школы. Тогда собрались у Лени, мама сама предложила: хотела быть в курсе происходящего. В веселом гаме, который стоял в квартире, глядя на довольное лицо сына, Мария Никифоровна счастливо улыбалась, с необычной для ее возраста легкостью бегала из комнаты в кухню и обратно, следила, не пустуют ли тарелки гостей. — С дороги, с дороги! — весело покрикивала она, неся блюдо с фруктами, и вдруг обомлела: Леня курил на балконе. — Что это значит? — заикаясь, обратилась она к сыну. — Это? — переспросил Леня, показывая на сигарету. — Это, мамочка, значит, что мы уже зрелые, о чем нам и выдали аттестат. — Но, увидев слезы в ее глазах, погасил сигарету, обнял за плечи: — Ну всё, всё, дурак я. Институт ему выбрала мать. Он хотел, как и его друг Алишер, стать журналистом или, по крайней мере, поступить на филологический. Но Мария Никифоровна считала такие специальности неперспективными, — надо идти в технический вуз. Отказывая себе во всем, она наняла двух репетиторов — математика и физика. Леня не посмел тогда ослушаться. Он прошел по конкурсу, но к учебе относился как к тяжкому бремени. На третий курс его перевели условно: он имел два «хвоста» за летнюю сессию. «После того как окончу инженерно-технический для мамы, поступлю на филологический — для себя», — твердо решил он. Последнее время обстановка в доме накалилась: сын открыто восстал, как только мать решила пресечь его встречи с Ирой. — Я не видела в жизни ничего радостного, — сокрушалась Мария Никифоровна. — Я пожертвовала всем ради тебя. Зачем? Чтобы эта распутная... — она не договаривала: начинала плакать... — Вот уйду к Владимиру Григорьевичу, он давно просит меня... — Ты могла бы обойтись без оскорблений в адрес Иры, она тебе ничего плохого не сделала, — защищался Леня. — Не могу понять, почему Ира мне не пара. Или ты за брак по расчету? — Да, не удивляйся, я и в самом деле за брак по расчету, тем более что под расчетом понимаю не что иное, как здравый смысл. — А любовь? — пожал плечами Леня. — О какой любви ты говоришь? — возмущенный голос матери сорвался на крик. — Да ты просто внушил себе... Пройдет немного времени, и ты уже будешь стыдиться своего заблуждения. Эта женщина околдовала тебя. Ведь ей все равно за кого, лишь бы выйти замуж. Она просто притворяется, поверь, ведь я женщина, а ты, конечно, слишком юн, чтобы отличить настоящее чувство от притворства. Я должна, я просто обязана открыть тебе глаза. Кончалось тем, что Марии Никифоровне становилось жаль себя, и, обиженно понурив голову, она направлялась в свою комнату, бросая на пути: — Да, да, уйду. Вот придешь однажды, а мамы нет. Посмотрим тогда, чем кончится твоя желанная свобода... Возможно, сегодня она осуществила угрозу и ушла. Несмотря на позднее время, Леня решил отправиться к Крюкову. Но, выйдя на улицу, остановился в раздумье. Визит показался ему нелепым: сейчас около двенадцати, неудобно беспокоить. Он несколько минут потоптался на месте и все-таки решительно направился к дому Крюкова. Леня долго и безуспешно звонил. Никого. Когда вернулся, дома все было по-прежнему. Усталый от волнения, он тяжело опустился на диван, закурил в комнате, что раньше позволял себе крайне редко. «Теперь все равно», — вяло подумал он и поискал глазами пепельницу. Она оказалась на столе. Рядом лежала стопка белой бумаги и спички. Несколько обуглившихся бумажных клочков виднелось на дне пепельницы. Леня осторожно извлек один из них — ему показалось, что там что-то написано. Прочитать удалось немногое: «...должаться не...» и «...кто-то должен ...ти навсегда». Фастову обнаружила работница парка во время уборки территории. Потерпевшая лежала в бессознательном состоянии у живой изгороди. Рядом валялась открытая дамская сумка, в которой, кроме обычных предметов женской косметики, находилось сорок семь рублей. Фастову немедленно доставили в «неотложку», где врачи констатировали сотрясение мозга второй степени. Когда Мария Никифоровна пришла в себя, она ничего вразумительного объяснить не смогла. Из ее краткого рассказа явствовало, что на работе у нее заболела голова и она решила пройтись по парку. Дойдя до конца аллеи, она почувствовала, что ее сильно толкнули и ударили сзади по голове, больше ничего не помнит. Нападавшего она не видела, деньги в сохранности, часы и кольца при ней. Вообще она считает происшествие нелепым случаем, и ей даже неловко, что такими пустяками занимается милиция, у которой есть более важные дела, а претензий у нее никаких и ни к кому нет. — Понимаешь, поговорил с ней, — рассказывал Соснин Арслану Туйчиеву, — а чувство у меня появилось, вроде она что-то недоговаривает, вроде очень сильно боится чего-то. Дело-то глухое: ни свидетелей, ни следов. Да и Фастова эта, кажется, не хочет дальнейшего расследования. — Дело не в этом, хочет она этого или не хочет. На человека совершено нападение, значит надо найти негодяя. Походи там вокруг, место бойкое, может, найдешь кого, кто что-нибудь видел. — Все правильно, — вздохнул Соснин. — Только когда все остальное делать? На сегодня вызвал свидетелей по делу ограбления магазина, обещал в третий микрорайон заглянуть — помочь там надо участковому, пацаны распоясались. — А ты ножками, ножками, — проворчал Туйчиев. — Я займусь окружением Фастовой. Николай развел руками: дескать, ничего не могу добавить к такой исчерпывающей программе действий. Первым делом решили побеседовать с сыном Фастовой. Когда Леню спросили, что он думает по поводу случившегося с матерью, он лишь глубоко вздохнул и пожал плечами. — Понятия не имею. Может, хотели ограбить? — высказал он предположение. — Что-нибудь исчезло? — поинтересовался Соснин. — Да вроде нет. — Вроде или нет? — Ничего не пропало. — Были у вашей матери недоброжелатели? Леня рассмеялся. — Это исключено. Мама — не та женщина. Ее могли обижать, она — никого и никогда. — Значит, мысль о мести тоже исключается? Ну а такой вариант — она встретила в парке знакомого человека, а разговор получился неприятный. Возможно? — Вполне, — согласился Леня. — Вот вы и назовите, пожалуйста, знакомых матери, — предложил Туйчиев. — Ну, Вера Афанасьевна, соседка. С ней мама очень дружна. Еще Надежда Сергеевна есть на работе, она в плановом работает. — Леня задумался. — Ну и Владимир Григорьевич Крюков. От Туйчиева не ускользнуло, что, произнося последнее имя, юноша поморщился. — Это кто? Тоже сослуживец? — спросил Арслан. — Бывший. — Нельзя ли подробнее? — Он много лет ухаживал за матерью, они дружат. — А почему не поженились? — Не знаю, из-за меня, наверное. Он раньше с мамой работал. Но потом она настояла, и он перешел в другую организацию. Если честно — несимпатичен он мне. — И частый гость Крюков у вас? — спросил Туйчиев. — По моему, даже слишком. — Да-а, — улыбнулся Арслан, — не очень вы жалуете маминого друга. — Я предупреждал, это субъективно. — Скажите, только сначала подумайте хорошенько, не произошло ли за последнее время в жизни вашей семьи что-нибудь, ну, такое... нестандартное? — Пожалуй, в театре, — после непродолжительной паузы не совсем твердо произнес молодой человек. — Итак, в театре?.. — быстро подхватил Николай. — Да, три дня назад мы с мамой пошли в театр, на премьеру, да еще товарищ мой со своей сестрой... Билеты достали с трудом. Ну, в антракте мне показалось... Да... там еще я встретил Владимира Григорьевича, он не с нами был, а отдельно. Так вот, — сбивчиво продолжал Леня, — мне показалось... Короче, с мамой случился обморок... «Скорую» пришлось вызывать... Представляете, в театре... Леня задумался, ему вспомнился тот вечер в театре. ... — А театр действительно начинается с вешалки, — сказал Леня и поискал глазами Милу. Прозвенел второй звонок. — Как бы он и не закончился ею. Они стояли с матерью в конце длинной очереди в гардероб. — Не волнуйся, — с трудом скрывая беспокойство, Мария Никифоровна украдкой глянула на часы. — Пять минут осталось. Не могут же они начать, пока мы все здесь? — Они всё могут, — подключился коммуникабельный худощавый старичок с огромным кадыком на тощей шее. — Третью ночь у меня под окнами отбойным молотком орудуют — телефон прокладывают, а что людям спать надо — это их не касается! — И вы пришли сюда вздремнуть? — вежливо осведомился Леня. Он терпеть не мог, когда посторонние встревали в разговор. Старичок обиженно засопел, отвернулся и стих. — А ты у меня сегодня красавица. — Леня поправил матери воротник. — На тебя обращают внимание. Мать прыснула и погрозила ему пальцем. — Я и вправду слишком нарядная. Ты только посмотри, в чем в театр пришли: брюки, свитера, куртки. А я полдня в парикмахерской, а остальную половину — дома у зеркала провела. — Ну и умница. Пусть все знают, какая у меня мама. Эй, сюда! — он махнул рукой, увидев в зеркале напротив густую шевелюру. К ним проталкивались Алишер и Мила. — Добрый вечер, Мария Никифоровна. Знакомьтесь, это моя сестра, Мила, — представил Алишер, — правда, всего лишь двоюродная, но все-таки, лучше, чем никакая. — Заметив, как Мария Никифоровна недоуменно переводит взгляд с Милы на него, Алишер рассмеялся: — Так ведь во мне половина крови славянская, а она, — он кивнул в сторону Милы, — как раз и приходится мне двоюродной сестрой по этой, материнской, половине. — Давайте ваши вещи, наш студент из группы подрабатывает на вешалке в другом отсеке. С третьим звонком они вошли в зал. — Театр уж полон, но ложи не блещут, потому что мало декольте и много шарфов на шеях, — начал громко «импровизировать» Алишер, но Мила дернула его за рукав. — Тише, неудобно. — Вы знаете, Милочка, он не может тише, — засмеялась Мария Никифоровна. «Кажется, понравилась», — обрадовался Леня. — Нет, ты погляди, — удивился Алишер, — весь городской бомонд собрался, а я, как назло, забыл лорнет дома. — А места у нас, извини-подвинься, руководящие. Это ты каким образом раздобыл? — спросил Леня у Алишера, не обратив внимания на шутку. Тот гордо выпятил грудь — знай наших! Напыжился, хотел что-то изречь, но в этот момент погас свет и поднялся занавес. В антракте Леня пошел за мороженым. Возвращаясь в зал, столкнулся лицом к лицу с Крюковым, это было неожиданно, он пробормотал что-то невнятное и хотел пройти мимо, но Владимир Григорьевич остановил его. — Мама здесь? Леня кивнул. Его покоробило, он считал себя монополистом на имя «мама» применительно к Марии Никифоровне. — Где вы сидите? — В шестом. — Ого. А я на приставном, в следующем антракте подойду. Домой вместе? — он с надеждой посмотрел на молодого человека. — Конечно, — смягчился Леня. — Ну, я побежал, а то мороженое тает... Он не успел отдать мороженое, — почувствовал на себе чей-то взгляд, оглянулся и побледнел: сбоку, из девятого ряда на него, не мигая, смотрела Ирина в черном вечернем платье, такой красивой он еще ее не видел. Мария Никифоровна, улыбаясь, повернула голову вслед за сыном и вдруг стала, медленно оседая, сползать с кресла на ковровую дорожку, где уже растекалась лужица от мороженого... — Сердце? — прервал его воспоминания Туйчиев, вторично задавая вопрос. — Не похоже, померещилось мне — плохо ей стало после того, как женщину одну она увидела. Та сзади сидела... А может, показалось... — Вы знаете эту женщину? — Никогда раньше не встречал. Я тогда у мамы допытывался: не из-за нее ли плохо тебе стало. Так она раскричалась на меня, выдумываю, мол, все. А вот это, — Леня вытащил из кармана записную книжку, осторожно вынул из нее два клочка обгоревшей бумаги, — я нашел в тот день, когда мама не вернулась домой. В пепельнице. Арслан с интересом осмотрел клочки бумаги. — Вы нам их оставьте, — сказал, прощаясь, Туйчиев. — Если еще вспомните что-либо, прошу сразу к нам. Оставшись вдвоем, Соснин и Туйчиев принялись внимательно изучать обгоревшие клочки бумаги. — Видимо, смысл такой: «продолжаться не может», «кто-то должен уйти навсегда», а остальное мы вряд ли узнаем. — Соснин аккуратно сложил обрывки в конверт. — Ты ничего не чувствуешь? Чем пахнет? — Нет, а что? — Ну как же, пахнет незаурядом, — улыбнулся Николай.
Из дневника Лени Фастова
Кроме пространства и времени в мире есть еще одна постоянная категория — старушки, бессменно несущие вахту у входа в подъезд Ириного дома. Такое впечатление, что они прибиты гвоздями к скамейке. От их липких взглядов меня каждый раз бросает в дрожь. Они считают нас разведенными супругами, говорила мне Ира. — А у нас дядя в гостях, — обрадовал меня с порога Славик. — Он мне танк подарил. А ты что принес? Слава находится в том счастливом возрасте, когда можно от всех требовать подарки. Интересно, что за дядя? — Кто там, Славик? — в коридоре появилась Ирина. Мне она показалась заплаканной. — Это ты, ну заходи, — с горькой усмешкой пригласила она. «Посмотрим, что ты сейчас запоешь» — прочитал я подтекст. А, вот в чем дело. Все ясно. Угораздило меня прийти именно сейчас. Но уходить глупо. Я здороваюсь и осторожно сажусь на край дивана. Глаза у Ирины просохли, и ее, кажется, начинает забавлять ситуация. Соломинку мне кидает Славик, протягивая танк. Я обрадованно углубляюсь в изучение его конструкции и начинаю нервически крутить башню. Мальчуган с опаской смотрит на игрушку и на всякий случай кладет ручку на гусеницу, — этим взрослым нельзя доверять ничего серьезного. — Присаживайтесь к столу, молодой человек. Позвольте... Где я вас видел? Пардон... Но мне кажется... Ну конечно! Вы же мой воспреемник. Вам это старорежимное слово не режет слух? А я вот на огонек к бывшей супружнице забрел. Все-таки, знаете, тянет иногда, хотя стыдно признаться. Да и малыша захотелось увидеть. А что! Ничто человеческое нам не чуждо! Слава, подойди! — Он потрепал мальчика по голове. — Иди погуляй, сынок. Покажи Сане свой танк, — сказала Ирина. — Вы всё боитесь, Ирина Петровна. Напрасно беспокоитесь... Знаете, — обратился он ко мне, когда Слава убежал, — у нас уговор: мальчик не должен знать, что я его отец, а я не должен знать, сколько стоит воспитание ребенка. Вы меня осуждаете? Я вижу, но не спешите. Аморальность, как и любая иная категория духовной жизни, — вещь условная. А может быть, высшая мораль в том и состоит, чтобы сын не знал, какой у него забулдыга отец? Вот видите, вы, кажется, начинаете соглашаться со мной. — Он налил себе водки. — Будете? Нет. Брезгуете? Воля ваша. Мне больше останется. — Он выпил и встал из-за стола. — Впрочем, хватит. Пора и честь знать. Всех благ. Не буду мешать. — Он ухмыльнулся, приложил палец к шляпе и вышел. Воцарилось долгое молчание. Ира убирала со стола посуду и не смотрела в мою сторону. — Что ему здесь надо? Выпить не на что? — сдерживая внезапно охватившее меня раздражение, спросил я. Но Ира тоже была на пределе, и мой вопрос переполнил чашу. — Все вы одним миром... Глаза бы мои на тебя не смотрели, — сорвалась она с цепи. — И ты, маменькин юбочник. «Мамочка сказала! Мамуле нужно!» — передразнивая меня, кричала она. Ее била истерика. — А обо мне ты подумал?! Что мне нужно, ты знаешь? Да ты во сто раз хуже Виктора! Он по крайней мере не рисуется, уж какой есть. — Да ты в своем уме? Ты что несешь? — возмутился я. — А что? От любви устанешь — к мамочке бежишь, она покормит, погладит. Потом снова ретивое взыграет... — Хватит! Мама тысячу раз права, когда говорит о тебе! Довольно. Сыт по горло. Прощай! — Я пулей вылетаю на лестничную площадку. Долго не могу прийти в себя. Меня бьет озноб. Но все к лучшему. Конец закономерен и неизбежен. Я не люблю эту истеричку и не желаю ее видеть...В лохмотьях сердце,
А в этом сердце призрак счастья...—
— Агнесса Львовна? Добрый день, капитан Соснин из управления внутренних дел беспокоит. — Слушаю вас, товарищ капитан, — отозвалась телефонная трубка энергичным голосом. — Вы сможете принять меня по делу? — Видите ли, сегодня у нас генеральная в шестнадцать, принимаем новый спектакль... У вас что-нибудь, связанное с билетами? — Вот именно. — Ваша принадлежность к столь авторитетному ведомству не позволяет мне откладывать встречу, — она подчеркнула два последних слова. — К вашим услугам до обеда. Но боюсь, что ничем не смогу помочь. — Я оптимист. Тогда через пятнадцать минут, если не возражаете. «Вот еще один стрелок за билетами, — подумала Ривкина и нахмурилась. — Зря надеется». ...С недавних пор жизнь Агнессы Львовны стала невыносимой: знакомых в городе оказалось значительно больше, чем она предполагала. Они звонили домой, начиная с восхода солнца и до полуночи, а ее рабочий телефон охрип от бесконечных звонков и теперь уже жалобно попискивал, когда кто-нибудь набирал номер директора драматического театра. Конечно, в глубине души она была по-настоящему счастлива, что удалось создать спектакль, взбудораживший не только заядлых театралов, но и тех скептиков, которые уготовили сцене роль отмирающей музы. Однако ее мучила необходимость отказывать многим. «К сожалению, пока не могу», «До конца месяца ни одного билета», «Театр-то маленький», — оправдывалась она. Театральный бум дошел до того, что Агнесса Львовна отказала старому актеру Чеплакову, занятому в этом спектакле в проходной роли, когда тот попросил билет для гостившей у него родственницы. Вечером она рассказала об этом мужу. Михаил Аркадьевич поддержал ее. — Правильно сделала. Ты его вывела из равновесия. А поскольку маленьких ролей нет, а есть маленькие актеры, он теперь будет плохо играть и испортит весь спектакль. Публика перестанет валить в театр, и Чеплаков, наконец, сможет спокойно приобрести в кассе билет родственнице. — Ты шутишь, а Чеплаков со мной здоровается сквозь зубы, и вообще я со многими нарушила дипломатические отношения. — Ты должна утешаться тем, что бывают ситуации похуже твоей. — Например? — Например, у директора Большого театра СССР. Там все спектакли идут при полном аншлаге. К счастью, вашему театру это в обозримый период не грозит, — успокоил он. Агнесса Львовна возмущенно посмотрела на супруга, но тот как ни в чем не бывало добавил: — Кстати, о билетах, я обещал два Самсоновым. Надеюсь, мне ты не откажешь? — И не надейтесь, Михаил Аркадьевич. Но билеты, конечно, пришлось дать и Чеплакову, и Самсоновым. ...Николай медленно пробирался по узкому коридору мимо артистических уборных, когда на него вдруг пахнуло юностью. Он отчетливо, со стороны увидел себя — угловатого, худого девятиклассника, стоящего на авансцене актового зала в плохо подогнанном фраке. «А судьи кто?» Да, неплохой, кажется, был Чацкий. Во всяком случае, хлопали громко. Может, надо было идти в театральный, а то начальство давно уже ему не рукоплещет. Все больше с плохо замаскированным ехидством осведомляется: «Ну, как там у тебя с Фастовой? Есть концы?» Он оглянулся на себя в висевшее на стене зеркало: на него смотрел хмурый блондин, конечно уж не романтический герой, а скорее периферийный актер без ангажемента. Соснин вздохнул и постучался в дверь с табличкой «Директор». — Значит, вы мне не оставляете никаких надежд? — спросил Соснин после того, как посидел несколько минут в кресле, разговаривая с Агнессой Львовной о всяких пустяках. Ривкина развела руками: — Я вас предупреждала. Ничем не могу... — Жаль. Ну что ж, попытаемся компенсировать пробел в театральном образовании, разумеется, с вашей помощью. Вы мне ответите на несколько вопросов, а остальное я дорисую за счет богатой фантазии. Агнесса Львовна поняла, наконец, что посетитель пришел не за билетами, и стала еще сдержаннее. — Извольте. Что вас интересует? Кроме сюжета, разумеется. — Видите ли, вообще меня интересуют все зрители, которые были на спектакле двенадцатого, но поскольку эта задача нереальная... Разрешите план театра. Вот после семи рядов у вас здесь проход. Человек, который нас интересует, сидел где-то в районе девятого или десятого ряда, причем, по всей вероятности, по центру, примерно с 12 по 20 место... — С какого? — оживилась Ривкина. — Ну, не знаю, как с десятым, а с девятым вам крупно повезло. — Простите, не понял? — тихо переспросил Соснин, хотя уже осознал, что в дело начинает вмешиваться Его Величество Случай и могут замаячить варианты, причем самые непредсказуемые. — Я говорю, что места... — Агнесса Львовна заглянула в блокнот, — да, с тринадцатого по восемнадцатое в девятом ряду, распределены следующим образом: одно актеру Чеплакову для его родственницы, два Самсонову — это начальник мужа, видите, я откровенна, и два полковнику Шагалову из штаба округа. Знаете, приходится оставлять иногда небольшой резерв. — Вы не в курсе, они были в театре, все эти товарищи? — Разумеется. Впрочем, не в курсе. Может, и не были... — Она нажала кнопку диктофона[37]. — Верочка, пригласите Чеплакова, он на репетиции. Сейчас узнаем, а пока поведем поиск дальше. — Агнесса Львовна сняла трубку. — Михаил Аркадьевич, это я. Твое начальство на месте? Какой у него номер? Нет, не мне. — Она записала и, закрыв ладонью трубку, повернулась к Соснину. — Вы будете говорить? Николай отрицательно покачал головой, давая понять, что это не телефонный разговор и взял протянутый ему листок с телефоном Самсонова. — Вызывали, Агнесса Львовна? — в дверях стоял высокий пожилой мужчина с узкими плечами и аккуратно зачесанными набок остатками шевелюры. — Проходите, Василий Никодимыч. Как вашей сестре спектакль показался? Соснину начало нравиться, что за него работают, он поудобнее вжался в кресло и начал с интересом изучать висевшие на стене афиши. — Спасибо. Очень. Однако при сем, — замялся старый артист, — говорит, что конец не оправдан. Психологически... ...«Поехать к Самсонову или вызвать его на утро в управление?» Николай посмотрел на часы: половина восьмого. На всякий случай набрал номер приемной, но никто не ответил. «Да, поздно уже. А может, поехать к нему домой?» Он взял телефонную книжку и нашел адрес: проспект Космонавтов, 13. Дверь открыл хозяин, высокий респектабельный мужчина с начальственным налетом на лице. Он даже не спросил у Соснина, кто он и откуда, просто пригласил в большую гостиную. — Проходите, пожалуйста. Садитесь. Чай? Кофе? Вы и есть толкач из Караганды? — Соснин даже растерялся. — Я так и думал. Боюсь, что ничем не смогу... Лимиты все вышли. Пейте, — он налил чай в маленькую фарфоровую пиалу и подвинул гостю вазу с фруктами. — Спасибо, — поблагодарил Николай, прихлебывая чай и улыбаясь: ему уже второй раз сегодня вежливо намекали, что не смогут помочь. Первый раз это сделала Ривкина. — К счастью, я не толкач и посему не теряю надежды на вашу помощь. Я в некотором роде, Мирон Павлович, милиционер. — Он показал удостоверение. — И хотя толкачи тоже бывают в поле нашего внимания, особенно когда они не в ту сторону толкают, сегодня меня интересует более прозаический вопрос: как, например, вы проводите свой досуг, ходите ли в кино, театр, на концерты? Самсонов расхохотался: — Смешно с толкачом получилось. Ну, теперь ясно: социологическое исследование, — понимающе кивнул он. — Но при чем здесь милиция? Пейте еще. — Благодарю. Вам Михаил Аркадьевич Ривкин билеты в театр приносил на двенадцатое? — В театр? Ах, да, конечно, на двенадцатое, но мы не пошли: у Муси разыгралась мигрень. Я должен был там обязательно присутствовать? — Разумеется, нет. А что стало с билетами? — С билетами? Действительно, что с ними стало? — спросил у себя хозяин. — Мы их отдали отпрыску, — вспомнил Самсонов, — он с товарищем пошел, потом хвалил очень, понравилось ему. — Ваш сын? Вы позволите задать ему пару вопросов? — Конечно. Вла-дик! — позвал Самсонов. Самсонов-младший, высокий, белокурый парень лет шестнадцати, очень похожий на отца, бросил мимолетный взгляд на Соснина, кивнул и развалился в кресле. — Мое чадо. Сядь нормально. Не самый лучший представитель своего поколения, но пока еще слушается. Владик, это товарищ Соснин из милиции. — Скажите, Владик, вы были в театре двенадцатого октября? Юноша вместо ответа стал изучать носки ботинок. — Я, собственно... да, был, — наконец ответил Владик и покосился на отца. «Чего он заерзал? Боится? Кого? Меня или отца?» — подумал Николай. — С кем вы были? — решил уточнить Николай. — Собственно, как вам сказать... Это что, имеет значение? С товарищем. — Как его фамилия? Владик скривился и опять надолго замолк. — Отвечай! — срываясь на фальцет, рубанул ребром ладони по столу отец. — Не был я, папа, в театре. — Стервец какой! А? — обратился хозяин к Соснину. — Ведь содержание рассказывал. «Понравилось»... — передразнил он сына. — Нет, я тебя проучу. Вот капитан уйдет, и ты свое схлопочешь. Выкладывай, куда дел билеты? — Я их отдал, ну, продал то есть, потом пошли в парк с Саней Никитиным. — И на вырученные деньги купили сухое вино? Недоросль! — разошелся отец. Молчание сына весьма красноречиво свидетельствовало о том, что папа не всегда ошибается, как было с Сосниным, которого он принял за толкача. — Кому вы продали билеты? Вспомните, Владик, это важно, — попросил Соснин. — Девушке одной. Такая, — юноша с опаской посмотрел на упрямое лицо отца, — накрашенная сильно, с красивой фигурой. И стройная такая, знаете, как балерина. — Ишь ты, знаток женских линий выискался. Ну, ничего, ты свое получишь, — опять пообещал Самсонов-старший. Соснин бросил на него недовольный взгляд и вновь обратился к Владику. — Спортсменка, может, девушка? — Точно, — обрадовался Самсонов-младший. — Спортсменка. Сумка у нее такая, с кольцами олимпийскими. И еще деревяшки торчали из сумки, — лихорадочно вспоминал Владик. Его, по-видимому, не вдохновляла перспектива остаться наедине с отцом, и он старался задержать Соснина. Но сколько он ни хмурил лоб, напрягая память, никаких подробностей больше вспомнить не мог. — Какие деревяшки? Ракетки, может? — помогал ему Николай. Но Владик отрицательно покачал головой. Он с тоской смотрел теперь на собиравшегося уходить капитана. — Вот мой телефон, если что-нибудь вспомнишь, позвони, — попросил на прощание Николай.
Из дневника Лени Фастова
Мама уехала вчера в командировку, и Алишер засиделся у меня допоздна. — Остаюсь ночевать у тебя, — объявил он. Я хоть и обрадовался, но не подал виду. — Боишься по ночам ходить? Тебя, наверное, девушки провожают. Вот ключ. Постель возьми в сундуке. Алишер ворчит, что порядочные хозяева так с гостями не обращаются, но я уверяю его, что система самообслуживания теперь широко используется и гостями. Он выходит в другую комнату и что-то долго не возвращается. — Ты что там застрял?! — кричу я ему. — Уж не прихлопнуло ли тебя крышкой сундука? В ответ слышится ворчание: — Такие сундуки только зарывать на необитаемом острове с кладом. Прямо-таки музей старины. А сумка, сумка... Не иначе «времен Очакова и покоренья Крыма»... — Это все бабушкино, — поясняю я ему, а в ответ слышится звук детского рожка. Я смеюсь: это была моя любимая игрушка, и бабушка спрятала ее в свой сундук, впрочем, как и мои распашонки. Наконец, Алишер возвращается с постельным бельем, и мы укладываемся. — О чем молчишь, Спиноза? — спрашивает Алишер. — Кинь сигарету. Половина второго ночи. Кривой ятаган месяца заглядывает в комнату через открытую балконную дверь. Алишер развалился на широкой тахте, я, как и положено хозяину, приткнулся в противоположном углу на раскладушке. Спать не хочется. — Не мешай спать! — Я швыряю в сторону тахты комнатную туфлю. Снаряд, по-видимому, попадает в цель, потому что Алишер надолго затихает. Копит желчь. Интересно, когда и в виде чего он ее на меня выльет? Проходит минут десять. — Дай сигарету, ирод, — голосом профессионального попрошайки стонет Алишер.Мужчины курят по ночам,
Когда бессонницу почуют.
Не надо доверять врачам:
Они совсем не то врачуют.
Ночных раздумий трибунал,
Глухие ножевые стычки...
Когда бессилен люминал,
Рукой нашаривают спички...
Глава вторая
Арслан Туйчиев стал замечать за собой повышенную раздражительность. Особенно часто она появлялась, когда начальство приглашало его для доклада по какому-нибудь делу. Почему-то начинало казаться, что тем самым ставится под сомнение его добросовестность. Практически «гладких» дел у него не было уже давно, потому и вызовы были не так уж редки. Он не подвергался разносам со стороны руководства, с ним не было того, что называлось «стоять на ковре», он считался следователем вдумчивым и опытным. Может быть, поэтому он так болезненно и воспринимал замечания. Как-то он поделился этим с Сосниным. Недолго думая, Николай решительно изрек: — Ответ не может быть однозначным. Здесь по крайней мере две причины. Первая, — он загнул палец, — ты внутренне перерос свою должность, тебе пора самому становиться начальником и давать ценные указания. Вторая, — он загнул еще один палец, — ты патологически добросовестен, и поэтому малейший промах выводит тебя из душевного равновесия. Арслан с удивлением посмотрел на друга. Может, он шутит? Но Соснин был на редкость серьезен. Первым желанием Туйчиева было возразить, но он сдержался, а поразмыслив, пришел к выводу, что Николай в чем-то прав. «Уверенность в правильности своих выводов, — решил Арслан, — действительно проистекает от накопленного опыта. Чем больше опыт, тем уверенней чувствуешь себя даже в сложных ситуациях. Видимо, не случайно пожилые люди не терпят возражений. Но мне в старики записываться вроде бы еще и рано. Так что надо держать себя в руках». И все же, когда его вызвал полковник Азимов и дал ознакомиться с письмом сослуживцев Фастовой, Туйчиев с трудом погасил вспыхнувшее раздражение. Конечно, упреки в адрес милиции, содержащиеся в письме, в общем былисправедливы... «...Средь бела дня в центре города, — писали коллеги Фастовой, — совершается преступление: жестоко избивают человека, но преступника никак не могут найти. Что же, теперь и на улицу выходить днем опасно? — вопрошали авторы письма и заканчивали его требованием: — Каждый должен честно и добросовестно выполнять свои обязанности. Долг работников милиции — обеспечить надлежащий общественный порядок. Преступник должен быть изобличен и наказан». — Что скажете? — задал вопрос Азимов, когда Арслан, прочитав письмо, положил его на стол перед ним. — Все правильно, товарищ полковник. Азимов выжидающе посмотрел на Арслана, и тот понял его взгляд как предложение дать объяснение. — Преступник действительно не установлен, и выхода на него пока нет у нас. Учитывая, что находившиеся при Фастовой ценности не тронуты, мы предположили месть. Но с чьей стороны? — Арслан развел руками, давая понять, что ответа этот вопрос еще не имеет. — Соснин в настоящее время занят разработкой «театральной» версии, но, к сожалению, ощутимых результатов пока нет. — Вы, стало быть, не исключаете наличие связи между обмороком Фастовой в театре и случившимся в парке? — Приходился проверять, особенно, если исходить из факта мести. Если честно, то я сам не очень склонен видеть здесь связь, но Соснин просто уверовал в это. Раз так — проверим все. — Так, так, — Азимов забарабанил костяшками пальцев по столу. — В таком случае вам все равно придется вести раздельный поиск по театру и по парку. — Я занимаюсь парком, — пояснил Арслан. — Ну и как? — Пока удалось выявить, что в это время из парка выходила Мартынова Ирина. — Кто это? — Она встречалась с сыном Фастовой. Насколько я понимаю, дело не ограничивалось только встречами... — Вы сказали — встречалась, — перебил Азимов, — а теперь? — В том-то и дело, что теперь у них размолвка. Мартынова раньше была замужем, от первого брака у нее ребенок. Фастова категорически была против нее, считала ее недостойной быть избранницей сына. — Вот как. Это уже интересно, — Азимов опять забарабанил по столу. — И были между ними конфликты? — Судя по всему, да, поэтому, когда удалось установить, что Мартынова в это время была в парке, мы, естественно, предположили, что это не случайно. — Что объяснила Мартынова? — Говорит, услышала, что в универмаге дают импортную парфюмерию, и не удержалась, — усмехнулся Арслан, — ушла с работы. А «засек» ее заведующий кафедрой, где она работает лаборанткой. Он проходил мимо парка и видел, как оттуда выходила Мартынова. — Она была с покупками? — В том-то и дело, что без покупок. Говорит, не досталось. Но это не всё: оказывается, в это время в универмаге никакую импортную парфюмерию не продавали. — А почему она оказалась в парке? — Мартынова заявила, что в парке она не была. Просто прошла вдоль ограды. Там, если помните, вдоль улицы два входа. Вот она вошла в один из них, что рядом с универмагом, и вышла через другой. В глубь же парка, по ее словам, она не заходила. — Что еще есть по Мартыновой? — Пока ничего. Одного не могу понять: если она была в парке с Фастовой, то зачем? Неужели они не могли выбрать для разговора другое место и время? — Что ж, работайте дальше. Проверьте окружение Фастовой, коль скоро мы исключаем ограбление. Возможно, потерпевшая потому и не хочет помочь нам, что это был кто-то из близких. Вначале драма, а финал — преступление. Сейчас для Фастовой сказать правду — это вроде совершить предательство. Она, видимо, так считает. Поэтому — ее окружение и еще раз окружение. Основной упор на это и на характер взаимоотношений, вплоть до мельчайших подробностей. Ох, уж эти людские драмы. Пожалуй, нет ничего сложнее для расследования, чем разбираться в них. — Ясно, товарищ полковник.Из дневника Лени Фастова
— Я решила вплотную заняться твоей женитьбой, — сказала однажды вечером мама. — Мне надоело ухаживать за тобой, пусть жена мучится. Надо хоть немножко пожалеть свою маму. Я понимаю, что она форсирует события из-за боязни, что я женюсь на Ире, но не подаю вида и вместо этого путем простого арифметического подсчета пытаюсь доказать, что после женитьбы хлопот у нее прибавится по меньшей мере вдвое (я + жена), а потом и втрое (я + жена + ребенок). Но безуспешно. — Есть две девушки, — игнорирует мои доводы мама. — Одна, как мне сказали, весьма миловидная, окончила инженерный, вторая, очень пикантная, заканчивает химфак. Начнем с инженера. — Начнем, — не очень бодро поддержал я. — Только это, как при поступлении в институт, конкурс: на одно вакантное место жены — две кандидатуры. А что если они обе мне понравятся и я буду стоять между ними, как буриданов осел, не зная, кого выбрать, состарюсь, и опять ничего не получится? Мама неумолимо гнет свою линию. — Завтра она с матерью придет к нам, якобы по делу. Только ее мама просила, чтобы я тебе ничего не говорила о том, что эта девушка... Ну, в общем, ты понимаешь. Сама девушка не знает цели посещения. — А ее мама знает, что я знаю о том, что эта девушка ничего не знает? — попытался выяснить я. — Перестань болтать глупости. Лучше тщательно побрейся утром и надень костюм. А может быть, действительно в знакомствах такого рода есть смысл? В конце концов, в них меньше неприличия, чем в случайном уличном знакомстве. С уст моих вот-вот сорвутся обидные для мамы слова: «Хватит того, что ты выбрала мне вуз». У О. Генри есть рассказ «Дороги, которые мы выбираем», но ко мне больше подходит название «Дороги, которые за нас выбирают». Доколе можно терпеть? Не пора ли мужчиною стать? От перспективы знакомства мне было не по себе. Ночью я ворочался, стараясь представить претендентку. Почему-то я видел ее в оранжевом, с распущенными волосами. Утром после завтрака я завалился на диван с томиком Чехова, с помощью коего пытался познать прекрасную половину человечества. Поняв, что натянуть костюм на меня не удастся, мама решила компенсировать его отсутствие идеальным порядком в квартире. Половина четвертого. Звонок. Я сижу в спальне, на стуле, как пришитый. Мама открывает дверь. «Здравствуйте». «Здравствуйте. А вот и мы». Смех обоюдный. Проходят в гостиную, садятся. «У вас одна комната?» «Что вы! — обижается мама. — У нас две, как же одна. Идемте, покажу». Они входят. Я оборачиваюсь и в первый момент не понимаю, собственно, кто из них мать, а кто — дочь: они различаются только ростом, а лет им примерно одинаково. — Познакомься, — тихо говорит мама. Я смело встаю и иду навстречу той из них, которая более плотоядно смотрит на меня. Она жмет мою руку ладонью полутяжеловеса и говорит: — А я вас где-то видела. Я загадочно улыбаюсь, предоставляя ей возможность вспомнить, где мы могли увидеться, будучи уверен, что никогда ничего подобного не встречал. Мама невпопад отвечает на вопросы дорогих гостей. Та мама и «она» часто окидывают свою жертву взглядами, стараются раскусить, что скрывается под моей заурядной внешностью. Когда-то, в школьные годы, мне хорошо удавался нервный тик. Пробую, не забыл ли: правая половина лица неподвижна, как маска, левая вздрагивает, рраз — рраз — главное, добиться ритмичности. Тщетные потуги: несмотря на тик, мне улыбаются. Очевидно, в своем стремлении заполучить мужа она не остановится перед тиком. Беседа крутится вокруг актуальной темы — реконструкции города. Гостьи проявляют поразительную осведомленность о всех переулках и новых районах. Наверное, в поисках жениха им приходится много колесить. Вскоре я открываю дверь на лестничную площадку и, не дожидаясь прощальных слов, первый говорю «до свидания» в нарушение всех существующих этикетов, чем привожу себя в неописуемый восторг. Хорошее настроение обеспечено на неделю вперед: вариант со второй кандидатурой, химичкой, автоматически отпадает. Мама ходит по квартире, прячет остатки конфет в буфет и ворчит, что ее принимают за дуру. «Свобода вас примет радостно у входа», — мурлычу я себе под нос и устраиваюсь поудобнее у телевизора: сегодня киевские динамовцы расправляются с очередной жертвой.Владик позвонил Соснину только через день. — Булавы! Я вспомнил! — радостно закричал он. — В сумке были булавы! — Ах ты умница моя, — похвалил его Соснин. — Ты откуда звонишь? — Я из автомата, переменка у нас сейчас. И потом последний урок. — Значит, так, я звоню отцу на работу, прошу откомандировать тебя в мое распоряжение на сегодня. Встречаемся у школы через час. Сидя за рулем «Запорожца», Соснин перебирал возможные варианты. «Гимнастика. Художественная. В спортивной с булавами не работают. Ну и что дальше? Сколько времени уйдет на знакомство с сотнями девочек, которые занимаются этим видом? Жуть. А если подойти с другого бока. Почему она в театр со спортивной сумкой заявилась? Мода? Нет, не похоже: тяжело таскать. Экспромт? Ведь билетов не было, шла на авось. Значит... нет, ничего не значит. Но почему? Можно принять за рабочий вариант, что она живет далеко от театра, иначе сумка осталась бы дома. Идем дальше: далеко от театра — слишком растяжимое понятие. Поконкретнее нельзя? Попробуем. Но возле театра всего... да, одна школа, куда я и еду на встречу с Владиком. Прокол. Владик должен знать эту девочку, если она учится в одной школе с ним. Не обязательно, товарищ капитан. Она учится в другой школе, а тренируется здесь: там у них нет секции. И тогда Самсонов-младший может ее не знать. Ну, как? Выстроили. Неплохо. Остается проверить». Он подъехал к школьному фасаду и вышел из машины. Навстречу ему бежал Владик. — Мы едем на операцию? — заговорщически спросил он. — Пока нет: первый этап операции проводится на месте, — в тон ему ответил Соснин. — Пойдем в школу. Там они узнали у преподавателя физкультуры, что при школе работает секция художественной гимнастики и сегодня, через сорок минут, должна начаться тренировка. Николай присел на низенькую скамеечку, которая тянулась вдоль коридора. Рядом сел Владик, он без конца ерзал, вставал, снова садился. Минут через двадцать он изумленно посмотрел в конец коридора, потом на Соснина. — Николай Семенович! Вот она идет, — восхитился Самсонов-младший. — Как вам удалось? — Это больше твоя заслуга, Владик, — ответил Соснин, вставая и направляясь к девушке. Нина Ананьина — так звали девушку — поначалу решила, что парень, у которого она купила два билета, подозревается в спекуляции, поэтому решительно заявила: — Билеты у этого молодого человека, — она кивнула в сторону Самсонова, — я купила по своей цене. Соснин улыбнулся: — Я не сомневался в этом. Важно, что именно у него вы купили два билета, и в этой связи есть несколько вопросов, Нина. Но сначала давайте попрощаемся с Владиком, его дома ждут. Втроем они вышли из школы. Владик насупился: он обиделся на Соснина. В самый интересный момент тот просто выпроводил его. А ведь капитан сам признал, что он оказал неоценимую услугу. Хмуро буркнув: «Пока», он быстро завернул за угол школы. — Первый вопрос, — начал Соснин, — кому предназначался второй билет? — Маме. Когда мне, возвращаясь с тренировки, случайно повезло и я купила два билета на премьеру, я тотчас позвонила ей, чтобы она приехала. Я ждала ее у театра, и вошли мы со звонком. — Скажите, Нина, произошло ли какое-нибудь событие во время антракта? — Плохо стало одной женщине. Она сидела впереди нас, — уточнила девушка. — Мама потом говорила, что знает эту женщину. — Знает? — встрепенулся Соснин. — Откуда? — Я не поинтересовалась, — виновато улыбнулась Нина. — Если это так важно, давайте сейчас поедем к нам, — предложила она. — Только я у тренера отпрошусь. Лариса Игнатьевна Ананьина, мать Нины, вначале очень удивилась визиту Соснина и даже была несколько испугана, что не ускользнуло от внимания Николая. Да, она знает Марию Никифоровну Фастову. Они раньше вместе работали. Отношения у них были обычные, но потом испортились. Она считает Фастову виновницей того, что с нее по суду удержали пятьдесят рублей. Она допустила обычную счетную ошибку, но Фастова сумела повернуть дело иначе. Короче, обвинили во всем ее, Ананьину. А она считает, что больше виновата Фастова, как старшая по должности. Если бы она, Фастова, своевременно обратила на ошибку внимание, то ничего не было бы. Какие чувства она испытывает к Фастовой? Самые неприязненные, и это она никогда не скрывала. Правда, уже более двух лет они не виделись: Ананьину уволили, а Фастова перешла на другую работу. — Лариса Игнатьевна, не кажется ли вам, что обморок Фастовой был вызван тем, что она увидела вас? Ананьина рассмеялась: — О, вы не знаете Фастову. Это очень волевая женщина. Я в этом убедилась. По такой причине с ней никаких обмороков не будет. Да и не на меня она смотрела, а на рядом сидящую женщину. ...Рядом с Ананьиной сидела сестра актера Чеплакова — Юдина. Последняя заявила, что видела Фастову впервые и вообще в городе она недавно...
— Ну, как дела, действительный член театрального общества? Мир кулис тебе ничего не прояснил? — Туйчиев насмешливо посмотрел на озабоченного друга. — Если бы я был директором — знаешь, есть такая рубрика в «Литературке», — я бы пригласил тебя на амплуа... — Арслан критически осмотрел Соснина. — Нет, пожалуй, на сцену тебе поздновато, сиди в будке суфлером и подсказывай текст. Хотя усилия, затраченные Сосниным на поиск неизвестной женщины, которая, по словам Лени, явилась причиной обморока Фастовой в театре, завершились успешно, но следствию это, увы, не помогло. Более того, Туйчиев считал, что в итоге театральный поиск завел их в тупик. По сути дела, оборвалась единственная ниточка, которая в какой-то степени могла считаться мостиком к происшедшему. Правда, прямой связи между женщиной в театре и случившимся в парке с Фастовой не прослеживалось. Но при некотором воображении вырисовывалась определенная версия, которой с самого начала придерживался Соснин. — Понимаешь, — горячо убеждал друга Николай, — Фастову с этой незнакомкой в прошлом что-то связывало. — Что? — охлаждал его встречным вопросом Арслан. — «Что?» «Что»?.. Пока не знаю. — Весьма убедительно, товарищ капитан, — усмехнулся Туйчиев. — Пожалуйста, продолжайте. Еще немного, и вы меня заставите поверить в безукоризненность вашей гипотезы. — И вот они совершенно случайно, — не обращая внимания на язвительную реплику Арслана, развивал свою мысль Соснин, — встречаются в театре. У Фастовой нервишки послабее оказались — и она сразу в обморок, а женщина эта выяснила, где Фастова живет и работает... — И Фастова, чтобы помочь ей оглушить себя, специально уходит с работы и идет в парк, — насмешливо перебил его Арслан. — Обморок в театре не случаен, — не обращая внимания на насмешку, продолжал Николай. — И то, что обморок в театре непосредственно предшествует нападению на Фастову, тоже не случайно. — У тебя есть доказательства, что кто-то конкретный был в парке с Фастовой? — в упор спросил Арслан. Соснин промолчал. — Сын Фастовой опознал и Юдину и Ананьину, но по театру, а в парке его не было. К тому же согласись, что обе они отпадают. Юдина и Фастова вообще не знакомы. Что касается Ананьиной, то даже при твоем богатом воображении трудно допустить мысль, что она спустя несколько лет решила свести с Фастовой счеты, да еще таким образом. В конце концов эту возможность она имела раньше, когда чувство обиды было особенно остро. Тем более невероятно, чтобы она прибегла к этому сейчас. Кстати, в период конфликта с Ананьиной Фастова при встрече с ней в обморок не падала. — Кто же был с Фастовой в парке? Женщина? Мартынова? Или... — задумчиво, словно рассуждая вслух, произнес Соснин. — Вот, вот, — перебил Арслан, — именно «или». Что у тебя есть на Мартынову? Тебе все хочется подвести женщину. Но, по всей вероятности, придется смириться с мыслью, что у нас не классический случай, когда говорят: «Ищите женщину». — А обрывки письма? — неожиданно без всякой связи, будто сам себя, спросил Соснин. — Они тоже к делу не относятся? — Фастова сама сказала потом, что сжигала старые письма. Мне думается, здесь все ясно. Я вижу, ты слушаешь меня без особого энтузиазма. Так ясно или нет? — Если не считать, что она сжигает письмо, написанное ею. Кому оно адресовано — неплохо бы узнать. — Я тоже бы не прочь, — вздохнул Туйчиев. — Все здесь не так уж просто, как пытается представить Фастова. Видимо, у нее есть на то веские причины, и нам, Коля, придется нелегко. — Уже нелегко. — Я ведь тебя кочегарил неспроста, — улыбнулся Арслан, — у тебя в такие моменты дельные мысли появляются. — Ну уж там дельные, — смущенно забормотал Соснин. — Вообще никаких мыслей нет. — Значит, вопрос о женщине в театре, — подчеркнул Арслан, — с повестки дня снимается. А вот Мартыновой следует заняться вплотную. Надо установить, правду она говорит или нет. Это за тобой. А я побеседую с сослуживцами, соседями. Да и с Крюковым надо поговорить. Как-никак, а близкий Фастовой человек. Не исключено, что он кой-какие подробности высветит. — Я уже звонил в его контору, вызвал на четырнадцать. — Отлично. Ну что? Разбежались? — Арслан взял со стола папку и, кивнув Соснину, вышел.
Виктор с трудом разлепил глаза и со стоном приподнялся на локоть. Голова раскалывалась. Четверть одиннадцатого. Он встал на ватные ноги, шатаясь, побрел в ванную, долго стоял под колючим ледяным душем... Нет, старик Гете был прав, когда утверждал, что человечество достигло бы невероятных успехов, будь оно более трезвым. Если что-то и может заставить его бросить пить, то только эти утренние часы, когда организм так жестоко мстит за вчерашнюю эйфорию. Он вылез из-под душа и, не вытираясь, оставляя мокрые следы на полу, подошел к серванту. В баре было пусто. Как же так? Ведь... Неужели он и эту бутылку оприходовал? Да, конечно, вон она пустая валяется под стулом. Не оставить на похмелье! Кретин! Что теперь? Что? Позвонить Любови Степановне? Она с радостью выложит. Сколько он ей должен: сто шестьдесят? Еще сорок рублей и — прощай сервант. Она тогда согласилась за двести забрать, внимательно ощупала, ящики все выдвигала. А что там щупать — цены ему нет. Красавец такой, из красного дерева, теперь таких не делают... Так и поладили: «Я вам буду по пятерке давать и записывать, а когда до суммы дойдет — заберу. Вам же удобно, возвращать не надо». У-у, холера, надо деньги ей отдать. Ведь больше ничего не осталось, все прахом пошло с домашнего аукциона. Она добренькая, кресла откупила в прошлом году по четвертаку, письменный стол — за полсотни. Он же сам ей и перетаскивал — благо недалече, на одной площадке живет. Как ворона над умирающим, ждет, когда коньки откинет, чтобы начать клевать. Нет, лучше продам... А что если продать... Гете?.. Ну и отлично, где Гете? На полке. Букинист его тоже хорошо встречает. Еще бы! Такую библиотеку перетаскал ему. А мне она ни к чему: я впитал всю мудрость книг, все их прочел и сдал, как пустые бутылки. Виктор оглядел полупустую комнату с ободранными обоями, узенькой кушеткой, на которой даже нельзя было вытянуть ноги и приходилось спать калачиком, с двумя табуретами, хромоногим столом и сервантом — единственной ценностью, которая ему уже почти не принадлежала. Когда-то знакомые ахали от восторга при виде квартиры. Хорошо, что Ира не видит засиженную мухами лампочку, которая свисает на замотанном изоляцией шнуре. Впрочем, смешно. Какое имеет значение, что раньше здесь висела хрустальная люстра? В сущности, с нее и началось. В тот день он принес люстру домой, увидел радость Иры и вдруг почувствовал, что незаметно для себя превратился в махрового мещанина, что его засосало стяжательское болото. Не сумев справиться с приступом внезапно нахлынувшей тоски, он уже через пять минут смертельно разругался из-за какого-то пустяка с Ирой, оглушительно хлопнул дверью и ушел к товарищу. Там Виктор впервые в жизни напился до чертиков и домой в этот вечер уже не вернулся. На следующий день он клялся, целовал Ире руки, просил прощения. Но через неделю ссора с тем же «успокаивающим» винным исходом повторилась. И пошло с тех пор. Месяца через два Виктор вдруг обнаружил, что после работы его уже тянет только к друзьям. Угрызений совести он теперь не испытывал и домой возвращался обычно поздно и нетрезвый. Так, убегая от одной беды, он прибежал к другой. Но сейчас уже все позади, ему хорошо. Только бы хлебнуть, и станет хорошо. Скорей. Виктор дрожащими руками натянул брюки, рубашку, схватил двухтомник Гете и вышел на улицу. На двери букинистического магазина висела табличка: «Переучет». Он выругался и огляделся по сторонам. — Девушка, купите Гете по дешевке, — обратился он к проходившей мимо молодой женщине. Та испуганно шарахнулась от него и ускорила шаг. Улица была пустынной и не таила в себе ничего утешительного. Неужели так трудно появиться какому-нибудь кредитоспособному знакомому? Правда, когда он сможет отдать долг, сказать трудно. Ему вдруг пришла в голову мысль: если он еще беспокоится о возврате долга, значит не все потеряно. В самом деле, чувство стыда пока не улетучилось. Остатки чувства собственного достоинства, горько усмехнулся он. Интересно, как долго оно сохранится? Говорят, это явление преходящее. Наверняка недалек тот день, когда ему станет безразлично, глубоко безразлично то, что пока тоненькой ниточкой связывает с порядочными людьми. Ну и пускай. По крайней мере станет легче. Осталось совсем немного, он опустится на дно и перестанет мучиться угрызениями совести. Центр тяжести переместится в сторону кредиторов, теперь уже они, как в том старом анекдоте, будут волноваться, как получить с него когда-то данное взаймы... «Но удача все-таки есть», — подумал Виктор, увидев идущего по другой стороне улицы Алишера. — Послушай, Алишер, ты слышал, что сказал о тебе Соломон? — Интересно, — улыбнулся Алишер. — Он сказал: «Худший из всех виденных мною под солнцем недугов — богатства, сберегаемые во вред их хозяину». — Ну, это не про меня, — разочарованно хмыкнул Алишер. — Сей недуг даже близко ко мне не подходит. — Друг мой, богатство — понятие относительное. Ведь сегодня день студентов. Ты стипендию получил? — A-а, я догадался, ты забыл дома чековую книжку и неохота возвращаться. Кстати, ты так и не объяснил мне, почему стал пить. Виктор серьезно посмотрел на него и спросил: — Ты что же, действительно решил разобраться в этом? — Конечно! — искренне ответил Алишер. — Только откровенно. — Идет, — со злой усмешкой сказал Виктор и спросил: — Ты знаешь, чего я больше всего боюсь? — Алишер ничего не ответил, и Виктор продолжал: — Я одного боюсь на этом свете, что меня, такого горячо мной любимого, не станет — и удивляюсь, как можно бояться еще чего-нибудь: жены, начальства, долгов, неуважения. Я физически ощущаю этот страх, он погоняет меня, как осла, своей плетью: «Ну же, вперед, скотина! Быстрей к пропасти! Сейчас я тебя скину туда!» И вот однажды я почувствовал, очень явственно, что схожу с ума от ужаса. Тогда я купил бутылку и выпил ее. Наступило успокоение — оказывается, есть на свете панацея от бед. Потому и пью... — М-да, занятная философия, — саркастически произнес Алишер. — Ты это серьезно?.. — Ну как, дашь? — уклонился от ответа Виктор. — Опять пить? — Ты не бойся, я верну сполна... Да и не на выпивку это, — Виктор отвел глаза. — Книгу одну нашел. Давно за ней гоняюсь: однотомник Гете. — Точно не на выпивку, интеллектуал? — Точно, — криво ухмыльнулся Виктор, по-прежнему не глядя на Алишера. — Сколько? — спросил тот. — Червонец... можешь? — Ого! Внушительный удар по бюджету. Ладно, держи. Если мне не хватит до стипендии, придется дотянуть на чувстве юмора.
Здание, где работала Фастова, поразило Арслана своими коридорами. Длинные, узкие и темные, они напоминали туннели. Здесь находилось множество учреждений, и ему пришлось немало побродить, прежде чем он с трудом отыскал кабинет начальника. Но войдя в приемную, Туйчиев понял: поговорить спокойно не удастся. Здесь стоял гул, беспрерывно звонил телефон, в кабинет и обратно шли и шли люди. Арслан решил действовать через секретаря, миловидную девушку лет девятнадцати, которая умело и быстро направляла поток посетителей. Улучив момент, когда она положила телефонную трубку, Туйчиев негромко представился и добавил: — Без вашей помощи мне не обойтись, нужно какое-нибудь помещение, хочу побеседовать с некоторыми товарищами. — Я провожу вас, — она с интересом окинула его взглядом. Они окунулись в темноту коридора и долго шли сначала вверх по узкой витой лестнице, затем снова вниз, по пути Арслан узнал, что девушку зовут Гулей и она учится на вечернем отделении юрфака. В кабинете было тихо и уютно. Арслан сел у края длинного стола. — Гуленька, у вас в плановом работает Надежда Сергеевна. — Девушка утвердительно кивнула. — Пригласите ее. — Сейчас. Если кто-нибудь еще вам понадобится, звоните мне по внутреннему — 3-23. — Спасибо, коллега. Надежда Сергеевна, седоватая располневшая женщина, не на шутку разволновалась, и Туйчиеву пришлось ее успокаивать. — Не беспокойтесь, пожалуйста. Я только хотел поговорить о Фастовой. Вы, кажется, с ней дружны? — А, вы про Машу. Меня, знаете, потрясла случившаяся с ней беда. — Расскажите о ней подробнее, о ее жизни, круге знакомых. — Вся жизнь Маши умещается в одном слове: Леня. Она ничего не видела и не знала, кроме сына. А ведь она женщина интересная и могла бы устроить свою судьбу, но Маша считала: отчим никогда не станет отцом. Тут трудно возражать. Однако, мое мнение, — уточнила Надежда Сергеевна, — Леня вряд ли достоин такого самопожертвования. — Почему? — поинтересовался Туйчиев. — Он плохо относился к матери? — Да нет, мать он любил, относился к ней уважительно, но последнее время стал своевольничать. Взрослым себя почувствовал. — В двадцать лет, пожалуй, это допустимо, — осторожно возразил Арслан. — Все равно мать лучше знает, что нужно ребенку. — Например? — Например, как устроить его жизнь. Она такие партии ему подыскивала, но он и слушать не хотел. Я, говорит, жену себе сам найду, в девках не засижусь. И нашел: спутался с какой-то, старше него и с ребенком. — Вы имеете в виду Иру Мартынову? Надежда Сергеевна кивнула. — Вот вы говорили, — Арслан сделал пометку в блокноте и продолжил, — у Фастовой были знакомые, хотевшие связать с ней свою судьбу. Не Крюкова ли вы имели в виду? — А что же Крюков? Владимир Григорьевич — мужчина видный, положительный. Раньше у нас работал. К Маше относился очень внимательно. Вообще-то он вспыльчивый, но с Машей — кроткий. Она рассказывала: последнее время мрачный ходил, настойчивый стал — давай, мол, определим наши отношения. Но она опять-таки из-за Лени отказала ему. — Скажите, Надежда Сергеевна, Фастова не рассказывала вам о знакомой, которую она встретила в театре? — Нет. Она последние дни ходила как в воду опущенная... — После посещения театра? — Пожалуй, — не очень уверенно произнесла Надежда Сергеевна. — Да, вот еще, накануне всего этого деньги она попросила — триста рублей. Но я не смогла ей одолжить. — Не говорила, зачем ей деньги? — Нет. — Спасибо. Я вас больше не задерживаю. Один за другим проходили перед Арсланом сослуживцы Фастовой, но ничего нового они сообщить не могли. Все дружно сходились на одном: врагов у Марии Никифоровны не было. — Спасибо, Гуленька, — сказал Туйчиев, когда в четыре часа девушка зашла в кабинет. — Я заканчиваю. — Как? — удивилась Гуля. — А Эмму Васильевну вы не вызываете? — Эмму Васильевну? — в свою очередь удивился Арслан. — А как ее фамилия? — Аванесова. — В моем списке ее нет, — еще раз посмотрел в блокнот Туйчиев. — Так ведь она из другого отдела, но вы с ней обязательно поговорите. — Зачем? Она дружила с Фастовой? — Нет. Вы меня за сплетницу не посчитайте, но Аванесова — наше информбюро. Сначала она все узнает о нас, потом рассказывает нам, и мы узнаем о себе. — Раз так, давайте сюда ваше информбюро, — улыбнулся Туйчиев. Маленькая, очень подвижная Аванесова не вошла, а влетела в кабинет. — Добрый день, Арслан Курбанович. — Не дожидаясь ответа, села напротив. — Слушаю вас. — Мы просим вас, Эмма Васильевна, помочь нам разобраться в одном деле. «Откуда она знает меня по имени? Ведь я называл всем только фамилию», — удивился он. — Насчет Фастовой? — Совершенно верно. Скажите, вы не заметили в последние дни чего-нибудь необычного или странного в поведении Марии Никифоровны? Аванесова на мгновение задумалась, наклонила голову, будто прислушиваясь к собственным мыслям. — Было! — Вот как. Что же именно? — В канун того самого дня, вы знаете какого, — заговорщически произнесла она, — после обеда проходила я по коридору. Разумеется, по делам, — уточнила Аванесова. Арслан кивнул, давая понять, что иного он и не предполагал.

— Так, вот, иду по коридору и слышу: две женщины разговаривают. Один голос сразу узнала — Фастова, а другой — незнакомый. Незнакомка говорит: «Я еще с вами по-божески». А Маша ей: «Тише». Я зашла в бухгалтерию, потом выхожу. Незнакомый голос говорит: «Значит, договорились, я буду ждать завтра», — и они разошлись. — Вы лицо этой женщины не запомнили? — Я даже не смогла установить ее возраст. Родную мать не узнаешь в нашем склепе-коридоре. Это ужасно. Но это не все. Назавтра, часа в три, смотрю: Маша выходит из управления, с ней Крюков. Он у нас раньше работал, и у него с Фастовой давний интим, — конфиденциально сообщила Эмма Васильевна. — Интересно, думаю я, куда они могут идти в рабочее время? И что вы думаете? Они себе преспокойно заходят в парк, как будто воскресенье, а не разгар рабочего дня. «Время совпадает, — мелькнуло у Туйчиева. — Значит... Крюков?» — Интересно, — как бы ни к кому не обращаясь, спросил Арслан, — долго ли они гуляли в разгар рабочего дня? Расчет оказался верным. Аванесова моментально отреагировала. — Не знаю, как она, а вот Крюков минут через десять-пятнадцать выбежал из парка взволнованный, сел в машину — она стояла у входа в управление — и уехал. — Ну а Фастова? — Я это случайно видела, мимоходом, сами понимаете — у меня куча дел, и я не имела возможности ждать, пока она выйдет из парка. — Разумеется. Спасибо вам за информацию. — К размышлению, полагаю. — Именно, — улыбаясь ответил Туйчиев и протянул ей для подписи протокол допроса. — Будьте добры, вот здесь и здесь. — Сделайте милость. — Она расписалась и уже у двери обернулась: — Передайте привет Рано Шариповне. — Как, вы и жену мою знаете? — изумился Арслан. — И сына вашего — Шухрата. Чудный мальчик. «Нет, она явно работает не по профилю», — подумал Туйчиев. Сведения, полученные от Аванесовой, позволяли наметить два направления, две версии: одна из них — незнакомка, вторая — Крюков. Чем-то таинственным веяло от женщины. Видимо, прав Николай, думал Туйчиев, между случившимся в театре и парке связь органическая. Но она, эта связь, пока бездоказательна. А промежуточный этап, когда Фастова в коридоре беседовала с женщиной, тоже примечателен. Наверно, не случайно, что эпизод по времени вписывается в события, где присутствует незнакомка. Сначала она появилась в театре, затем на следующий день на работе у Фастовой... Так, но одно ли это лицо, опять задавал себе вопрос Арслан. Ведь Аванесова опознать ее не может. Если бы не этот проклятый темный коридор, можно не сомневаться: Эмма Васильевна уж свое не упустила бы... Что ж, надо довольствоваться тем, что есть. А что есть? Женщина, которую никто не знает. Никто не знает... Неужели же совсем никто?.. Вся надежда на Николая. Короче говоря, шерше ля фам, как говорят французы, товарищ капитан... Ну а Крюков? Что он делал в парке? Почему выскочил оттуда как ошпаренный? Что произошло между ними? Может, сцена ревности?
Из дневника Лени Фастова
Всем абитуриентам Парнаса хорошо знаком трепет, с которым начинающие берут белый конверт со штемпелем редакции. Открывают его обычно небрежным движением, но это чисто внешнее, обманчивое безразличие. Лучше всего состояние конвертодержателя определить по пульсу — 140 ударов в минуту. Обнюхиваю конверт со всех сторон и решительно вспарываю ему живот. Из нутра вываливается листок. Первая половина таких писем обычно настраивает нас на оптимистический лад, но как раз это обстоятельство и настораживает: смеется тот, кто не плачет последним. Я, слава богу, хорошо усвоил эту аксиому, ибо уже получил несколько подобных посланий, и поэтому не читаю вступительные строки, а сразу начинаю с конца, где это, ага: «...к сожалению, не может быть опубликован». Теперь можно спокойно прочитать и начало, там, по словам сотрудника редакции, «есть довольно оригинальный подход к решению темы» и даже «сочный язык», однако этого недостаточно для публикации, так как «сюжет уже встречался» (где именно, не указывается) и вообще «все это получилось несмешно». Памятуя слова поэта, что «графоманы — это гении без талантов», я стараюсь не падать духом: быть гением, хотя и без таланта, уже немало. В дверях стоит Алишер. — Знаешь, — говорит он, — я случайно присутствовал при совершении таинства: в процессе чтения твое лицо вытянулось, и ты стал до жути похож на одного очень известного писателя, фамилию которого я никак не могу вспомнить. Я осаждаю[38] Алишера и читаю ему отвергнутый юмористический рассказ. Он хохочет до упаду. — Разве смешно? — удивляюсь я. — Да. — А почему редактору не смешно? — Чудак, это и смешно. — Как? А остальное... А весь рассказ? — Остальное смешно лишь постольку, поскольку заставило редактора прийти к мысли, что рассказ не смешной. — Но все-таки он смешной? — Еще бы, особенно если дать в качестве эпиграфа ответ, полученный тобой из редакции. И вообще, не отчаивайся, — успокаивает Алишер. — У пишущей братии гораздо больше уходит времени на проталкивание своих произведений, чем на их написание... Я, разумеется, говорю о начинающих, а не об известных. Впрочем, известным писателем сейчас стать совершенно невозможно. Подсчитано, что даже, читая в течение 50 лет по 12 часов в день, человек прочтет всего 20 тысяч книг — меньше половины фонда обычной районной библиотеки. А где гарантия, что твоя книга не находится в другой половине, которую он так и не успел прочесть. Мы долго молчим, думая каждый о своем. — Ты красиво лажанул Виктора в «Снежке», — говорит он, — но согласиться с тобой не могу. Алкоголь — это не средство наслаждения. Алишер садится на своего конька. Еще первокурсником он принял участие в проводимом кафедрой философии социологическом исследовании, связанном в том числе и с изучением истоков алкоголизма. Целую неделю он пропадал в наркологической клинике, интервьюировал постояльцев медвытрезвителя. У Алишера появились подозрительные знакомые, один из них, Костя Матюгин, написал безграмотное и нелепое заявление на имя начальника милиции: «После выпитого мною алкаголя я впал в литаргический сон и за дальнейшие свои действия ответственности не нису». Все это я вспомнил сейчас, но упоминание о Викторе почему-то меня разозлило, и я прервал Алишера: — Ты знаешь, я не ханжа. Но мне омерзительны пьяницы. Пьяница — скот, недочеловек, позор общества, его смердящий нарост. Мне иногда становится страшно: метастазы алкоголизма порой проникают в самую суть жизни, и тогда жизнь становится последним кругом данного[39] ада. Чего мы ждем с нашей гуманностью, все чаще переходящей во всепрощение? Что пьяницы выродятся? Станут хорошо работать? Бросят пить? Хулиганить? Перестанут давать неполноценное потомство? У-то-пи-я! — У тебя есть программа действий? — заинтересовался будущий социолог. — Изволь. Нужны жесткие меры изоляции деградирующих в пьянстве элементов от общества. Зараза не должна расползаться. Человеку должно быть запрещено законом становиться идолопоклонником Бахуса: пьянство — правовая, а не только моральная категория! — Знаешь, довольно неплохо у тебя получилось, — говорит Алишер. — Я готов подписаться под всем, что ты сказал. Но почему же появляются пьяницы? Среди них, заметь, немало неглупых людей. Они не могут не видеть, в какую пропасть их тащит алкоголь. И все равно пьют! Где же сила интеллекта? Почему у них не срабатывает, наконец, инстинкт самосохранения?..Николай ценил в людях обязательность и пунктуальность. Он любил говорить, что необязательность одного человека приводит в силу диалектической взаимосвязи к необязательности других людей и тогда уже ни о каком порядке речи быть не может. Более того, он считал, что необязательные люди более склонны к правонарушениям, ибо в определенный момент начинают считать, что требование закона не обязательно для них. Вот, почему, когда кто-либо из вызванных Сосниным не являлся вовремя, это сразу приводило его в плохое расположение духа. — Я вас просил, — раздраженно выговаривал Соснин в телефонную трубку, — к четырнадцати часам обеспечить явку вашего сотрудника Крюкова. Сейчас, — он посмотрел на часы, — четырнадцать тридцать пять, но его нет. — Ой, я передала, не знаю, почему он не пришел. Я через завотделом передала, — оправдывался девичий голосок. — Я сейчас узнаю... Вы подождете? — Разумеется. Прошло несколько минут. — Вы знаете, оказывается, он второй день не выходит на работу. Видимо, заболел. — Что значит «видимо»? — Раз не пришел, значит, заболел. — Что же, его никто не навещал? — А у нас этим страхделегат занимается, она сейчас в отпуске. — Ладно, дайте адрес Крюкова. «Придется к нему вместо страхделегата сходить», — подумал он. Записав адрес, Николай решил, что навестит Крюкова завтра с утра, но, когда вошел Туйчиев и рассказал ему о беседе с Аванесовой, Николай загорелся. — Знаешь, я, пожалуй, сейчас к нему съезжу. Больно уж любопытные вещи ты о нем рассказываешь. — Не я, а Аванесова, — уточнил Туйчиев. — Все равно, ждать нечего. Время почему-то никогда не было нашим союзником. Постоянно приходится играть на опережение. — Давай, давай. Езжай, все равно тебя не остановишь. Но если он плохо себя чувствует, то не терзай человека. Пусть сначала поправится. Крюков жил недалеко от центра в старом доме. Собственно, дома в точном смысле и не существовало, а был двор, в котором находилась масса квартир. Вход в каждую из них огорожен заборчиком, и непременной принадлежностью являлся хоть кустик зелени, неизвестно каким чудом произраставший среди кирпичных дорожек и асфальта. По опыту Николай знал: в таких дворах искать нужную квартиру по номеру — занятие малоперспективное, поэтому сразу позвонил в ближайшую дверь. Ему повезло: он попал на соседку Крюкова, старушку лет семидесяти, но очень бодрую и словоохотливую. — Здравствуйте, — обратился к ней Соснин, — не подскажете, где Крюков Владимир Григорьевич проживает? — Да здесь и проживает, — старушка махнула рукой в сторону соседнего палисадника, но, когда Николай поблагодарил и направился к выходу, она его остановила: — Только дома нет его. А вы кем ему будете, может, что передать? — Я с работы его, мамаша. — Что, и на работе Володи нет? — удивилась старушка. — Он ведь дома не ночевал, — пояснила она, увидев недоумение Соснина. Николай понял, что дальше скрывать истинную цель своего визита не имеет смысла. — Не с работы я, мамаша, а из уголовного розыска, из милиции, в общем. При этих словах старушка всплеснула руками и даже присела от удивления. — Что же с ним сделали, с Владимиром Григорьевичем? — Да ничего с ним не случилось, — успокоил ее Соснин. — Просто поговорить мне с ним надо. Так вы говорите, дома не ночевал? — Не ночевал, — подтвердила она. — Как приехал на машине часа в четыре, минут пять побыл и опять уехал. Больше и не был. — А что, у Крюкова машина есть? — Да, недавно купил. — Гараж у него где? — Гаража нет. Вон там закуток, видите? — она показала в глубь двора, где виднелась кладовка. — Там и держит. Только брезентом накрывает. — Значит, говорите, на машине уехал? — опять спросил Соснин. — А машина у него какая? — Легковая. — Я понимаю, легковая, — рассмеялся Николай. — Про марку я спрашиваю. — Да откуда же мне марку знать. Зеленая она. Вот погодите, сейчас я внука позову. Рустам! — крикнула она, открыв дверь. — Сюда иди. Вышел мальчик лет одиннадцати и вопросительно посмотрел на бабушку. — Послушай, Рустам, — обратился к нему Соснин, — ты не знаешь, какая машина у вашего соседа дяди Володи? — «Жигули», — мгновенно ответил Рустам. — «Люкс»? — попробовал уточнить Соснин. Мальчик отрицательно замотал головой: — Не, ноль-первая. — Молодец! — похвалил Николай. — Разбираешься. Ну а номер какой? Номера Рустам не знал. Не знали его и другие соседи. Все говорили, что машину Крюков приобрел недавно и она зеленого цвета. «Что же получается, — думал Соснин, — неужели Крюков? А как же женщина? А может, женщины? Прав Арслан, когда говорил, что возможно перед ними не одна, а две женщины. Одна в театре, другая на работе. Нет, пока я не располагаю фактами, но все равно уверен: женщина одна. А как же Крюков? Может, Крюков плюс незнакомка против Фастовой? Почему незнакомка, а если это Мартынова? Чушь! Ерунда! Станет он блокироваться с кем-то, да еще с Мартыновой, против любимого человека. Любимого — это верно, но ведь Фастова отвергает его любовь. А сын говорил — любит... Парень мог и ошибиться... Ну и пусть любит. Даже если так, то это не исключает ее нежелания сойтись с ним. Сын-то против, а сына она боготворит... Да не это все важно. Как установить, была ли с кем-то Фастова в парке после того, как рассталась с Крюковым, или они были все вместе. Подожди, подожди... Кто они? Если не Крюков, то по логике событий некто появился после его ухода... Тьфу ты! Опять некто. Не некто, а конкретно Мартынова... Значит, Крюков ушел. Нет, не ушел, а выбежал и, наверно, взбешенный — он же заводится с пол-оборота. Это все говорят. Итак, он выбегает из парка, а следом появляется женщина... И в театре была женщина... Может, театральная дама потом очутилась в парке? Что ей там делать? Откуда она узнала, что Фастова будет в это время в парке?.. Крюков? Почему он скрылся? И сразу после парка. Выходит, он. Из-за ревности?.. А может, все-таки Мартынова? То, что она примерно в это время выходила из парка, по существу, ни о чем не говорит...Кто же?..» Николай никак не мог выстроить мало-мальски стройную схему случившегося. По-прежнему все крутилось вокруг Крюкова и Мартыновой. Он даже не мог сказать, что у него две версии, потому что на каждую падала тень от другой. И задача теперь становилась явно не легкой: необходимо было как можно быстрее решить вопрос с Мартыновой и разыскать Крюкова. Его исчезновение пока можно было объяснить лишь причастностью к тому, что произошло с Фастовой в парке.
Глава третья
— Послушай, дон Леонардо, мне вовсе не улыбается перспектива стать твоим родственником. — Алишер идет немного впереди Лени, размахивая своим видавшим виды портфелем. — Родство, как и кредит, портит отношения. А Милка бродит по дому чернее тучи и вчера чуть не утопила меня в стиральной машине. — Успокойся. Узы родства тебе не грозят. Пока, во всяком случае. — Думаешь, не грозят? Ну и хорошо. — Алишер вдруг остановился как вкопанный и даже поставил портфель на землю. — Это же чудо, колокольчик... — кивнул он в сторону троллейбусной остановки, на которой стояла девушка в голубом платье. — Пошли. — Не тяни меня. Мы поедем троллейбусом. Дом, в который они идут, находится за углом, а уехать отсюда можно только в противоположную сторону. Но спорить с Алишером бесполезно. Леня это хорошо знает, поэтому ждет, пока тот насытится зрелищем юной красавицы. — Не пяль на нее глаза так нахально, по крайней мере, — дергает Леня его за рукав. — Ханжа. В музеях произведениями искусства любуются за деньги, а ты хочешь лишить меня права изучать одно из них бесплатно. Подходит троллейбус, но девушка не садится в него. — Она ждет принца, — шепчет Алишер. — Подождем немного, я хочу увидеть этого счастливчика. Наконец появляется счастливчик — высокий сутуловатый парень с большими ушами. — Подумать только, кому досталась, — разочарован Алишер. Они о чем-то оживленно разговаривают. Девушка кивает в сторону ребят и парень направляется к ним. Неужели она пожаловалась на двух бесцеремонно разглядывавших ее нахалов? — ...И вот в харьковском полуфинале, — громко говорит Алишер, — я во втором раунде провожу серию — два прямых и аперкот левой, он падает и не хочет вставать. — Простите, как проехать на Садовую? — вежливо перебивает его счастливчик. — Четвертая остановка, — так же вежливо отвечает Леня. Алишер смеется в сторону. Вскоре они подходят к дому. Поднимаются на третий этаж. Долго звонят — но никто не открывает: Гарика, бывшего Лёниного одноклассника, нет дома. Алишер и Леня огорчены. Гарик недавно вернулся из Каракумов и обещал показать интересные снимки — он кинооператор, а заодно и прекрасный фотограф... — Жаль, он, наверное, поехал к жене, — печально изрек Алишер и смотрит краем глаза на Леню. Леня задыхается от негодования. — Ты что, спятил? К какой жене? — К своей, естественно. Гарик слишком порядочен, чтобы думать о чужих женах, ведь медовый месяц еще не кончился. — Когда он успел? Кто она? — Представь себе, все произошло по лучшим современным стандартам: вчера познакомился, сегодня женился. Она — студентка медучилища, мечтает стать стоматологом. Кстати, у нее — хорошенькая подружка, и Гарик пытается меня охмурить, ему хочется, чтобы я тоже полетел на семейный жертвенник и сгорел на нем дотла. Без остатка. Ему, видите ли, одному пропадать обидно. Не хочет сам взбираться на эшафот, за компанию погибать веселее. Леня кивает. Странная штука — брак. Он похож на осажденную крепость. Те, кто находятся снаружи, штурмуют ее и стремятся ворваться туда, а те, кто находится там, стремятся вырваться из нее. Кто это сказал: и в браке и в безбрачии есть свои недостатки, но из этих двух состояний предпочтительнее то, которое еще возможно исправить. На обратном пути их застиг ливень. Они долго стояли под коротким козырьком газетного киоска у троллейбусной остановки. — Алишер, это ты?! — кричит кто-то с другой стороны улицы, и Леня узнает в приближающейся к ним насквозь промокшей фигуре Виктора. — Поздравляю тебя с успешным завершением научного эксперимента, — улыбается Виктор и сует Алишеру в нагрудный карман какую-то бумажку. — Признайся, ты уже не рассчитывал когда-либо получить свои миллионы? — Тут он оборачивается в сторону Лени и издает свое традиционное: — Позвольте, я вас где-то видел, молодой человек... Ах, да, вспомнил. Леня, кивнув Алишеру, бежит к подошедшему троллейбусу.— Тебе только кажется, что ты все знаешь, — начал с порога Соснин, входя в кабинет. — А между тем, у тебя есть большие пробелы. Вот, например, сколько у нас в городе зеленых «Жигулей» модели 2101? Молчишь? То-то. Сие известно только ГАИ. Агзамов из учета и регистрации аж закряхтел, когда я ему наш запрос принес. Разворчался старик: что это всем зеленые «Жигули» понадобились? Только, говорит, от одного запроса такого по столкновению отделались, так там хоть две последние цифры были. Ну я его утешил: у нас все чисто — цифр никаких. Так сколько у нас в городе таких машин? — повторил Соснин свой вопрос. — Молчишь? Не отмолчишься, я тебя все равно обрадую. Сто тридцать семь, ни больше ни меньше. А вот какой из этих машин управляет Крюков — ни статистика, ни даже ГАИ не знают. Это узнать должны мы, — сокрушенно вздохнул Николай. — Насколько я понимаю, эта задача стоит конкретно перед капитаном милиции Сосниным? — И тоже капитаном милиции, но Туйчиевым. Так будет точнее. А то мне, честно говоря, надоело вечно искать иголку в стоге сена. Список владельцев прилагаю. — Он положил перед Арсланом несколько отпечатанных на машинке листов. — Крюков в нем не значится. — Предлагаю просить в помощь Манукяна. — Идея! — оживился Николай. — Он везучий. Помнишь, как в деле Самохина? Давай, давай, к начальству. Попросим, поплачемся — не откажут. Перспектива розыска одной машины из ста тридцати семи была не из приятных, но Манукяну всегда нравилось работать вместе с Туйчиевым и Сосниным: у них было чему поучиться. Прежде всего Манукян осведомился, почему не воспользовались алфавитной картотекой ГАИ, по которой можно сразу выйти на машину Крюкова. — Просто карточки на Крюкова нет, — пояснил Николай. — Вот и получается: машину он купил, зарегистрировал, а карточки нет. — Может, по небрежности ее куда-то затолкали в другое место? — предположил Арслан. — А может, Крюков по доверенности пользуется машиной? — высказал свое предположение Манукян. — Знаете, — улыбнулся Соснин, — как в том старом анекдоте: и ты прав, и ты прав, поэтому надо искать... — И ты тоже прав, — перебил Арслан, и все засмеялись. Поиск отнимал много времени и сил у всех, но повезло опять Манукяну. На второй день он разрезал свой список из сорока пяти машин так, что каждая машина и адрес были отдельно, затем стал их группировать по методу, известному и понятному лишь ему. Потом он взял одну пачку, сказав: «Это на сегодня» — и уже в 11 часов вышел на Хакимова — владельца зеленых «Жигулей» № 78-15, который несказанно удивился визиту Манукяна. — Ко мне уже приходили ваши товарищи. Я им все объяснил. — Что вы им объяснили? Кто приходил? — в свою очередь изумился Манукян. — Из милиции, машину искали, а я ее продал. Вот это и объяснил. — А почему машина за вами числится, если вы ее продали? — Видите, в чем дело. Машину я купил недавно, месяц тому назад, но решил продать по некоторым обстоятельствам, — Хакимов несколько замялся, видимо, не желая уточнять обстоятельства. — А сделать это можно только через год. Так я машину фактически продал, но официально покупатель пока ею пользуется по доверенности. — А кому продали? — быстро спросил Манукян. — Знакомому своему — Владимиру Григорьевичу Крюкову. При этих словах Манукян чуть не подпрыгнул. Быстро попрощавшись с Хакимовым, он помчался в управление. Услышав его рассказ, Соснин хлопнул ладонью по лбу и воскликнул: — Все ясно! Когда Агзамов говорил мне про расшифровку зеленых «Жигулей», у которых известны две последние цифры, то это была она... Вот к чему приводит узкая специализация в милиции, — глубокомысленно заметил он и от души рассмеялся. — Издержки, так сказать, нашего производства. Арслан и Манукян непонимающе смотрели на него, наконец Туйчиев не выдержал и сердито проговорил: — Может, ты нам скажешь, в чем дело. — Да в том и дело, что одну машину разные службы искали. Короче говоря, наш клиент ударил другую машину, — объяснил Николай. — Его задержали уже, наверное. Сейчас узнаем. — Он подошел к телефону и набрал номер. Машину Крюкова, а с ней и его самого, действительно уже разыскали на станции техобслуживания в поселке Черновка в двадцати километрах от города. Там машину в срочном порядке ремонтировали. Крюков выглядел подавленным и растерянным. Попросив разрешение закурить, он уже не выпускал сигареты изо рта, прикуривая одну от другой. — Я понимаю, — начал он, заикаясь, — допустил непоправимую ошибку. До сих пор не могу понять, почему я так поступил. Вероятно, инстинкт самосохранения оказался сильнее интеллекта. — Крюков, казалось, не отвечает на вопросы, а рассуждает вслух. — Когда зацепил правым крылом «Победу», то вместо того, чтобы на тормоз нажать, в растерянности дал газу. Машина рванула, я еще больше растерялся и тут еще какую-то машину задел. Мне бы остановиться, — он горько вздохнул, — а тут шальная мысль: если машину быстро отремонтирую, то никто не узнает. Глупо, конечно. Я заскочил домой, взял деньги и в Черновку, на станцию техобслуживания. Там у меня ребята знакомые... Страшная нелепость... А все потому, что задумался, личные, понимаете ли, неприятности, расстроен был чрезвычайно. — Что же привело вас в такое удрученное состояние? — поинтересовался Туйчиев. — А-а! — Крюков махнул рукой. — Чисто личное. — Сейчас все ваше личное приобрело общественный интерес. — Конечно, конечно. Понимаю вас. — Крюков глубоко затянулся. — Как всегда, наше личное связывается с женщиной, любимой, разумеется, — он горько усмехнулся. — Давайте по порядку, — предложил Арслан, видя, как Крюков никак не может перейти к существу вопроса. — В этот день вы приехали к Марии Никифоровне Фастовой. Что потом? — Ввв-аа-м ууу-же изве-вес-стно? — от удивления Крюков опять начал заикаться. — Продолжайте, — спокойно потребовал Арслан. — Да, да. Сейчас. Все так неожиданно... — Он сделал несколько глубоких затяжек и прикурил новую сигарету. — В последнее время наши отношения с Машей, простите, с Фастовой, дали трещину. И все из-за сына, из-за ее патологической любви к нему. Именно патологической, — обрадовавшись удачно подобранной характеристике, повторил Крюков. — Не знаю, что толкнуло меня в тот день поехать к ней на работу, но я отпросился и около трех часов поехал к Маше. — Он задумался. «Лучше бы я совсем не ездил к ней». Горькие складки прочертили уголки его рта, и он опять задумался. На этот раз молчание затянулось. — Я вас слушаю, — обратился к нему Туйчиев. — Да, да. Простите, — спохватился Крюков. — Машу я встретил выходящей из управления. Мне показалось, она расстроена и торопится. Она спросила, зачем я пришел, я ответил: поговорить надо. Говори, сказала она, если не долго, я очень занята. Она поминутно смотрела на часы. Мы пересекли улицу и вошли в парк. Я стал говорить ей, что так дальше не может продолжаться, сын уже взрослый и с ней совсем не считается... Короче, все, что у меня накипело. Она возмутилась, потребовала оставить ее в покое, она никому не позволит касаться ее сына. В это время в конце аллеи и показалась какая-то женщина, она шла нам навстречу. Видимо, увидев нас, женщина остановилась, а Маша вдруг резко бросила мне: «Прощай!» — и направилась к ней. В первое мгновение я ничего не понял, хотел остановить Машу, но она отмахнулась. Не знаю, почему я побежал к выходу, но вскоре остановился и вернулся. Маша уже подошла к этой женщине, и они разговаривали. Я опять побежал к выходу... — При этих словах Арслан подошел к сейфу, открыл его и вынул пакет из черной бумаги. — ...Выбежал, сел в машину и... вот тут со мной и случилось это, — сокрушенно закончил Крюков. — Вам знакома женщина, с которой встретилась в парке Фастова? — Нет. Я видел ее впервые. — Могли бы вы ее узнать? — Пожалуй, да. — В голосе Крюкова не было уверенности. Арслан вынул из черного пакета пачку фотографий и рассыпал веером перед Крюковым. Тот тщательно стал рассматривать каждое фото. На одном он задержал взгляд, отложил его в сторону, потом снова взял в руки и стал рассматривать снимок на расстоянии вытянутой руки. — Она, — негромко произнес Крюков и протянул фото Туйчиеву. Это была фотография Юдиной.
Теперь, когда мама в больнице, он обычно ужинает в маленьком кафе, которое обнаружил не так давно довольно далеко от дома. Ему нравится гордое холостяцкое одиночество в углу небольшого уютного зала за почти детским столиком, на котором сейчас стоят дежурные сосиски без гарнира — фирменное блюдо — и горячий кофе. По нелепой привычке он сначала, обжигаясь, пьет кофе, а потом уже медленно жует густо смазанные горчицей остывшие сосиски. Но даже в этой странной последовательности приема пищи есть своя прелесть. Свои прелести и у молоденькой официантки Капы, но Леня уже несколько дней равнодушен как к абстрактному понятию «женщина», так и к любым конкретным его проявлениям. Капа не подозревает этого и ведет длительную осаду его столика, пуская в ход как тактическое оружие (улыбка, нежный взгляд), так и стратегическое (низкое декольте и мини-юбка). Но вообще ее симпатия бескорыстна: однажды она — случай в официантской практике беспрецедентный — взяла с него на двадцать шесть копеек меньше. Домой идти совсем не хочется. Он показывает Капе мизинец, и она приносит ему одну чашку кофе: чайная ложечка в середине чашки стоит почти вертикально. Случайные посетители, наверное, принимают этот напиток за шоколад. Не все догадываются, что кофе нацедили со дна стоящего на кухне никелированного чана, а это значит, что кафе скоро закрывается. В других заведениях гасят половину лампочек, предупреждая о закрытии, а здесь свой способ, с помощью которого намекают о необходимости убираться восвояси. Ну что ж, способ довольно оригинальный — должны же кафе отличаться друг от друга чем-нибудь, кроме названия. Леня кивает Капе, рассчитывается и идет к выходу. За крайним столиком сидят три юнца. На предложение Капы закругляться они довольно дружно высовывают языки и грохочут. При этом и без того невыразительные рожицы приобретают совсем глуповатый вид. Повинуясь какому-то безотчетному чувству, Леня осторожно берет самого долговязого из них за ухо. — Но-но, потише, у меня самого сестра-дружинница, — угрожает юнец. — Что вы делаете, креста на вас нет, — говорит им Леня. — Как нет? — хором отвечают они и расстегивают рубашки. На давно не мытых шеях поблескивают красивые позолоченные крестики. От неожиданности он отпускает ухо «крестоносца». — Вы где их взяли, на Голгофе? — Нет, купили у фарцовщика, — отвечает долговязый. — А что, на этой Голгофе тоже есть? — Есть, — говорит Леня, — но очень большие и без цепочки. — Большие шею оттягивают, — уверенно бросает маленький прыщавый брюнет, и они удаляются. Леня вышел вслед за ними. «Они правы: зачем им идти за большим крестом на Голгофу, когда можно с маленьким пойти даже на лекцию по атеизму, — думает он. — Короткие юбки можно оправдать модой, нехваткой материала, наконец, просто наличием красивых ног, но кресты на шеях — это уже кредо». В подъезде он вынимает из почтового ящика газеты и медленно бредет к себе наверх, просматривая их на ходу. Тираж трехпроцентного займа. Надо проверить. Как ни странно, но любовь к прогулкам уживается с мечтой об автомобиле. Он открывает дверь и, не снимая плаща, идет к сундуку, на дне которого хранятся их облигации. Долго и безуспешно ищет их. «Может быть, мама положила в другое место? — мелькнуло у него. — Ладно. Завтра спрошу, а пока могу чувствовать себя потенциальным обладателем машины».
Дождь начался ночью и лил не переставая. Небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, и не было ни малейшего намека на то, что «небесная канцелярия» объявит перерыв. Николай, который не любил дождя, сник. Да еще этот случай с Юдиной. Так опростоволоситься. Как маленькие дети! Ведь вышли на нее довольно быстро, хоть и не без труда, и тут же отказались от версии, чтобы спустя столько времени вновь вернуться к ней. Сейчас уже нет сомнений: и в театре, и в парке была Юдина, она же приходила на работу к Фастовой. Странным, непонятным являлось другое: Фастова упорно не хотела «узнавать» Юдину. Когда Марию Никифоровну спросили, с какой женщиной она разговаривала в парке, Фастова ответила, что к ней подошла незнакомая женщина и спросила, где расположена дирекция. Тогда Арслан не согласился с предложением Николая свести Фастову с Мартыновой. Соснин рассчитывал, что это поможет выяснить, была ли Мартынова в парке с Фастовой. Но Арслан решительно воспротивился, считал такой шаг неэтичным по отношению к потерпевшей. Николай долго убеждал его, что самым гуманным в любом уголовном деле является установление истины, а в данном случае очная ставка может помочь достигнуть цели и не противоречит закону. — Правильно, — соглашался Арслан, — но ты не учитываешь конкретные обстоятельства... — Конкретные обстоятельства, — перебил его Соснин, — в том, что Фастова пока по неизвестным нам причинам не желает быть до конца искренней. Можно только гадать, насколько правдива и Мартынова... — Вот именно, — кивнул Туйчиев. — Неужели ты не понимаешь, что характер взаимоотношений Фастовой и Мартыновой таков, что лучше их вместе не сводить. Фастова ее не приемлет. И к тому же сейчас больна, встреча с Мартыновой может привести к сильному нервному потрясению... Ты этого хочешь? — Я правды хочу. — Не будет правды все равно, если они не захотят, чего же ты добьешься? Ты лучше подумай, как выяснить причины такого поведения Фастовой... Почему Фастова упорствует даже в том, что очевидно? Неясным оставалось и случившееся с ней в парке. И вот теперь, кажется, забрезжила надежда. Разговор с Юдиной должен приоткрыть завесу, ответить на интересующие следствие вопросы. Юдина в кабинете Туйчиева несколько раз начинала плакать и сетовать на свою несчастную жизнь, то замыкалась, заявляя: пусть с ней делают что хотят, но она больше слова не скажет. Когда первая волна слез и причитаний закончилась, Туйчиев начал задавать вопросы. — Скажите, Юдина, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Фастовой? — Это которая, Фастова? — непонимающе переспросила она, но видя, как Туйчиев молчит и всем своим видом дает понять, что хитрость ее шита белыми нитками, сама уточнила: — Не та ли, что в театре, про которую раньше спрашивали? Если эта, то я уже говорила: не знаю ее, — и она вновь запричитала: — Это как получается? Где справедливость искать? Если судимая я, так мне и веры нет? Хотите упечь?! Давайте, давайте, но только больше ничего не скажу! — А за что вас упечь? — спокойно спросил Арслан. — Разве за вами есть грехи? — Ничего не числится, потому и обидно, — сразу успокоившись, размазывая по щекам слезы, ответила Юдина. — Давайте, Юдина, договоримся сразу. Вас никто ни в чем не обвиняет и прежние судимости ни при чем. Нам нужно выяснить ряд моментов, в которых вы принимали участие. Скажу без обиняков: мы располагаем достоверными доказательствами двух ваших встреч с Фастовой. Один раз вы беседовали с ней в коридоре управления, где она работает... — Арслан сделал небольшую паузу и неожиданно самым будничным тоном спросил: — Кстати, вы помните как одна женщина дважды прошла в это время мимо и Фастова просила, чтобы вы говорили потише? — Помню... — вырвалось у Юдиной, она тотчас спохватилась, но поздно: Туйчиев уверенно наращивал темп. — Прекрасно. Вы, конечно, помните мужчину, с которым в парке была Фастова и который ушел, когда вы стали к ним подходить. Юдина опустила голову, помолчала, нервно сжимая пальцы. — Скажу всю правду. Только прошу сохранить в тайне: Фастова умоляла об этом. С Марией Никифоровной нас свел случай — познакомились в ателье, платья шили. Разговорились. О детях. Она посетовала: мол, сына женить надо, а пары подходящей нет. Ну я и предложила ей свои услуги. — Юдина замялась, потом продолжала. — Конечно, со стороны странным кажется, но ничего не поделаешь; у каждого свой кусок хлеба. Я делаю людям добро, и меня благодарят. — И как, на жизнь хватает? — спросил молчавший до сих пор Соснин. — Как вам сказать, по-разному. Но лучше так, чем жить, как раньше. — А как раньше? — поинтересовался Николай. — Будто вы не знаете, — усмехнулась она. — Трижды ведь судили. — За что? — спокойно продолжал задавать вопросы Николай. — Так ведь и это знаете. За мошенничество. Людей обманывала. А теперь всё честно, за труд получаю... — И сколько платила вам Фастова? — перебил ее Арслан, вводя разговор в прежнее русло. — Платила! — возмутилась Юдина. — В том-то и дело, что ничего не заплатила. Потому и требовала у нее, приходила к ней. — А как прикажете понимать ваши слова, сказанные Фастовой, что ей хуже будет и так далее? — Да пугала просто, — простодушно ответила она, — грозила, что если она мне не заплатит, то я все сыну расскажу. Потому, наверно, когда она в театр с сыном пришла и меня увидела, то плохо ей стало. Думала, я сейчас сыну при ней все и выложу, — ухмыльнулась Юдина. — Непонятно мне, за что она должна была платить вам. Сын-то не женился. — Как за что? За труды. Я такие партии ему находила! А что он не женился — моей вины нет. — Та-а-к, — протянул Арслан. — Стало быть, Фастова вам не заплатила. Что же вы тогда решили? — Я ей назначила время, срок последний дала. Когда к ней на работу приходила. Договорились: на следующий день она в три часа в парк придет и рассчитается со мной. — Рассчиталась? — Нет, не рассчиталась. Стала там всякие разности говорить: денег сейчас у нее нет, поизрасходовалась и... — И тогда вы ударили ее по голове? Чем? — быстро подойдя к Юдиной, резко спросил Соснин. Юдина отшатнулась, потом вскочила со стула, замахала руками, словно отгоняя от себя эти слова. На лице ее отразился неподдельный ужас, и она бессвязно стала выкрикивать: — Что вы? Что вы? Да я в жизни... Никогда не было со мной... Руку на человека... Никогда! Она устало опустилась на стул, разрыдалась и долго не могла прийти в себя. Тем временем Соснин, оставив Юдину на попечение Арслана, вышел и поехал в больницу, чтобы по горячим следам признания Юдиной побеседовать с Фастовой. Мария Никифоровна поправлялась, врачи намеревались на днях выписать ее под амбулаторное наблюдение. Однако настроение у нее продолжало оставаться подавленным, и Соснина она встретила, как обычно, не очень дружелюбно. — Мария Никифоровна, — начал Соснин, — видимо, уже пора поставить все точки над i. Небезызвестная вам Юдина, — не обращая внимания на ее удивление такому началу, продолжал он, — чистосердечно во всем призналась. Соснин сделал паузу, наблюдая, какое впечатление произведут на Фастову его слова, но она закрыла глаза, повернула голову к стене и замерла. Не обращая внимания на это, Николай в упор спросил: — Это правда, что Юдина за определенную плату должна была помочь вам в подборе невесты для сына? Фастова быстро повернула голову к Соснину, в глазах ее стояли слезы. Вздохнув, она кивнула головой. — Так! — Соснин внутренне торжествовал. — И когда вы там, в парке, не рассчитались с ней, она нанесла вам удар? Не так ли? — Это не она, — с трудом выдавила из себя Фастова, и слезы заструились по ее щекам. — А кто? Никого же больше не было! — Не знаю. Ударили сзади, но не она...
— Мамуля, ты как? — Леня присел на край кровати. Скрывая волнение, посмотрел на запавшие щеки, туго забинтованный лоб Марии Никифоровны, погладил безвольно свисавшую руку. — Я-то хорошо. Ты вот как? Голодный ходишь? — И ничего подобного, я ухоженный. Тетя Надя вчера пришла — на неделю борща наварила, пельменей штук двести налепила. — Он стал выгружать из сумки баночки и пакетики. — Так что не беспокойся. — Что это? — Бульон, котлеты. Ты только ешь и выздоравливай скорей. Что врачи говорят? — Скоро поправлюсь, — слабо улыбнулась мать. — Я, знаешь, о чем подумала? Может, переедем в Самарканд? Владимира Григорьевича туда приглашают, коттедж дают. А, сынок? — С чего вдруг тебе в голову взбрело переезжать? — удивился Леня. — А Владимир Григорьевич, твой любимый, по-видимому, не только тебя туда приглашает, — и, заметив испуг в глазах матери, продолжал: — Да, да, не удивляйся, я вчера вечером в городе его встретил, с такой павой шел — хоть куда, так мило беседовали. Улыбалась она — наверняка, тоже в Самарканд звал. Авось кто-нибудь из вас двух клюнет.

Мария Никифоровна закрыла глаза. «Господи, — думала она, — почему они вырастают такими жестокими? В древнем Карфагене, когда-то я читала, детей приносили в жертву Молоху. А сейчас мы всю свою жизнь приносим в жертву этим жестоким и бессердечным маленьким божкам и что получаем взамен? Черную неблагодарность. Он не считается ни с моим теперешним состоянием, ни с тем, что по его вине у меня нет будущего. Неужели ему приносит радость причинять мне страдания?» Леня сделал вид, будто не заметил реакции Марии Никифоровны на его слова, и, помолчав, спросил: — Кстати, ты не знаешь, куда запропастились облигации? Надо проверить. Она молчала и едва заметно шевелила потрескавшимися от жары губами. — Мам! Ты слышишь? — Что? Ах, облигации... Где им быть? На месте они. — Не нашел я их в сундуке, может, ты их переложила? — Никуда я ничего не перекладывала, — раздраженно и зло ответила мать. — Ты никогда ничего не умел находить в квартире. Даже свои вещи. — Понимаешь, мы выиграли. Пятьсот! — торжествующе сообщил сын. — Выиграли и хорошо, — равнодушно произнесла Мария Никифоровна. — Никуда этот выигрыш не денется. — Я просто думал, что тебе будет интересно... — Да оставь ты меня в покое с этими облигациями! — выкрикнула мать. — Дай мне отдохнуть. — Она отвернулась от сына. Леня, обиженно попрощавшись, ушел.
Эмму Васильевну уже несколько дней не покидало щемящее чувство неудовлетворенности. Она тщательно перебирала в памяти события последних дней, но истоки этого чувства прятались надежно. Ей удалось лишь определить, когда оно началось. Ну, конечно, после беседы со следователем Туйчиевым. Аванесова удивилась: она была убеждена, что сообщила следователю все. «Неужели упустила? — мучительно размышляла она. — Нет, рассказала все. Что могло интересовать следователя? — задавала она себе вопрос. — Разумеется, образ жизни Фастовой, с кем и в каких она отношениях. Все это я выложила, в том числе разговор Фастовой с незнакомой женщиной в коридоре... Да за такие сведения... — она не нашла сразу подходящей оценки, — это же ключ, именно ключ к замку преступления, — довольная найденным сравнением, она улыбнулась. — Значит, всё? Конечно! Почему же тогда постоянно кажется, что я не довела дело до конца?» Озарение пришло внезапно и сильно огорчило ее: «Склероз, старческий склероз», — сокрушалась она. Теперь она вспомнила: это было в день отчетно-выборного профсоюзного собрания. «Эх, — корила себя Эмма Васильевна, — не могла я раньше взяться за протокол собрания. Давно бы все встало на место». Когда дежурный позвонил Туйчиеву и сказал, что его хочет срочно видеть гражданка Аванесова, Арслан невольно поморщился: «Наверняка сообщит новые данные о моей биографии». Аванесова вызывала у Арслана смешанное чувство. Он понимал: она искренне хочет помочь следствию, но вместе с тем ему претило ее всезнайство, желание проникнуть в душу и сердце каждого человека, попавшего в поле зрения, знать о нем все до мельчайших подробностей. — Здравствуйте, здравствуйте, Эмма Васильевна, — тем не менее приветливо встретил Арслан вошедшую в кабинет Аванесову. — Прошу вас, — он жестом указал на стул. — Чем обязан? — Видите ли, Арслан Курбанович, после нашего разговора, там, у нас в конторе, — решила на всякий случай уточнить она, — мне показалось, что я сообщила не все. Так оно и есть. Буквально сорок минут назад, — Аванесова посмотрела на часы, — я решила оформить протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания, взяла отчет ревизионной комиссии и сразу вспомнила. Ведь Фастова — председатель ревизионной комиссии, — торжествующе заключила она. Туйчиев недоуменно смотрел на Аванесову: какая связь между профсоюзной деятельностью Фастовой и приходом Аванесовой? — Двенадцатого у нас было профсоюзное собрание. Отчетно-выборное, — уточнила Аванесова. — Мне, как председателю месткома, сами понимаете, пришлось побегать, организовывая все. Уже скоро четыре — а собрание как раз на четыре назначено, — а я Фастову забыла спросить, готов ли у нее отчет. Я к ней, а ее на месте нет. Спрашиваю девочек: где Мария Никифоровна? Они отвечают: к ней какая-то женщина пришла, они и вышли. Я, конечно, на поиски Фастовой бросилась. И где, вы думаете, я ее разыскала? Под лестницей, ведущей на второй этаж. И заметьте, совершенно случайно: стала подниматься по лестнице и слышу внизу голос Фастовой. Очень взволнованно она говорила. Как услышала я ее голос, сразу вниз. Смотрю, она с женщиной какой-то стоит. — И, предупреждая возможный вопрос Туйчиева, уточнила: — Женщина одета прилично, полная, в возрасте, волосы совсем седые, в очках... Короче, я всегда смогу узнать ее. Когда подходила к ним, слышала последние слова Фастовой: «Как вы могли! Это больше чем жестокость!..» Я окликнула ее. Увидев меня, она растерялась и, не простившись с женщиной, пошла по коридору. Я догнала ее и спросила про отчет. Фастова ответила: готов, но она плохо себя чувствует, и пусть его прочтет Халима Балтабаевна, ее зам в ревизионной комиссии... Туйчиев понимал: факт, сообщенный Аванесовой, в том виде, как он есть, вряд ли можно сразу увязать с делом Фастовой. Мало ли, в конце концов, какие встречи могли быть у Фастовой. Но два момента настораживали: во-первых, разговор с незнакомой женщиной состоялся за несколько дней до случившегося с Фастовой в парке; во-вторых, взволнованность Фастовой и ее слова о жестокости. «По словам Аванесовой, Фастова так и сказала: «Это больше чем жестокость», — думал Арслан. — Значит, ее собеседница повинна в каких-то серьезных неприятностях, случившихся у Фастовой. А через несколько дней Фастову находят в парке с телесными повреждениями, что можно рассматривать и как финал ее взаимоотношений с этой женщиной. Как же тогда с той женщиной, которая посетила Фастову за день до происшествия? По всему это была Юдина, но Аванесова твердо заявила: хотя ту она опознать не может — как-никак было темно, — женщины разные. В коридоре была высокая и худая, а эта низенькая и полная. Итак, уже две женщины, и обе ведут с Фастовой таинственные разговоры... Высокая и худая, конечно, Юдина... Может, прямо спросить Фастову, с кем она двенадцатого разговаривала под лестницей? Нет, вряд ли скажет. Ведь она категорически отрицает очевидный факт разговора с некоей женщиной в коридоре. И здесь тоже будет отрицать, и что кроется за таким поведением? Если это обычные встречи со знакомыми, вряд ли Фастова станет отрицать все. Значит, либо встречи необычные, либо знакомые необычны, либо и то и другое сразу. Что дальше?.. Искать. Николай вел поиск «коридорной», ну а мне придется заняться «лестничной». Как говорит Соснин, «доказыванию подлежит всё».
Глава четвертая
Леня удивился приходу Иры. Он не без основания полагал, что между ними все кончено. Так хотела мама, а теперь он считал себя обязанным следовать ее советам, тем более они начинали совпадать с его желанием. Разговор не клеился, чувствовалась натянутость. — Ты должен уходить? — спросила она, увидев, как Леня украдкой взглянул на часы. — С чего ты взяла? — возразил Леня (он опаздывал на встречу с Милой). — Не юли, я вижу. — Она подошла к нему, обняла за плечи. — Только честно — ты не рад мне? — И видя, как замялся Леня, отошла. — Нет... отчего же, наоборот... — несвязно пробормотал он. — Не ври, тебе не идет. А я... — голос ее дрогнул. — Ты для меня... — Ты что? — Леня направился к ней, но она предупреждающе вытянула руку: — Не надо. Дай сигарету. Ира сделала несколько затяжек и вновь обрела свой обычный игриво-кокетливый тон. — А меня Малик Касымович вызывал. Провел душеспасительную беседу о нравственности, и мне кажется, что я уже исправляюсь. Спасибо твоей маме. — При чем тут мама? — рассердился Леня. — А при том: она пришла к декану жаловаться, что у него работает развратная особа Мартынова, которая сбивает с пути праведного ее высокоморального сыночка. — Глупости и чушь! — растерялся он. — Нет, мой милый, так все и было. — Ну, а ты? — Леня понял, что она говорит правду. — Что я? Я сказала: это касается только нас обоих. Разве не так? — Леня молчал. Тогда она усмехнулась и добавила: — Я ошиблась, только меня. Теперь я убедилась: у тебя кто-то есть... Мама подобрала по своему вкусу? — Послушай, может, не будем, — миролюбиво предложил он и снова посмотрел на часы. — Хорошо, — согласилась Ира, — но только запомни: ни с кем у тебя счастья не будет. Твое счастье — это я. — Она помолчала. — Смотри только, не опоздай... — Всё? — оборвал Леня. — Нет, не всё. Я пришла совсем по другому поводу. В тот день, когда с твоей мамой... ну, в общем, случилось... я ее видела. — Как? — поразился он. — Где? И ты молчала! — После «приятного» разговора с деканом чувствую — не могу сидеть на кафедре. Плюнула на все и пошла в парк. Села на нашу скамейку, вспоминаю... короче, лирика, — оборвала она себя. — Вдруг слышу на аллее голоса. Женские. Но не вижу за деревьями. Показалось, голос твоей матери. Прислушалась. Точно. Голос такой у нее просительный: «Дайте спокойно жить», а у той, другой, жесткие нотки пробиваются: «Предупреждаю, будет хуже»... Кинулась я к ним, выбежала на аллею, надо помочь, думаю, твоей маме. А Мария Никифоровна увидела меня и... — Ира закрыла ладонью глаза и замолчала. — Дальше... — потребовал он. — Дальше? Обругала она меня, назвала шпионкой и ударила по лицу, — закончила Ира, закусив губу. «Ведь это то самое место, где ее обнаружили, я еще тогда отметил: ирония какая, у нашей скамейки», — подумал Леня. — Ну, а та женщина, какая она? — Ничего не знаю, не видела ее, меня обида захлестнула, убежала я сразу. — Надеюсь, ты не откажешься повторить все это в милиции? — Как хочешь, — безразлично махнула рукой Ира.Туйчиев сознавал: поиск женщины, которая разговаривала с Фастовой в день профсоюзного собрания под лестничной клеткой, вряд ли будет успешным. Но, верный своему правилу отрабатывать все до конца, Арслан принялся за розыск. Пришлось снова ехать на работу к Фастовой — искать, кто из ее сослуживцев видел, как Мария Никифоровна в день отчетно-выборного профсоюзного собрания разговаривала с незнакомкой. Не исключалось, что эта женщина и раньше приходила к Фастовой. «Седая, полная, невысокая. Конечно, заходила к нам в отдел в тот день, — сказала счетовод Шоира. Девушка недавно окончила школу и сидела в одном кабинете с Фастовой. — Мне ее лицо знакомо, где-то видела ее раньше, но где — не припомню». Единственное, что удалось достоверно установить Арслану, — Фастову эта женщина до того не знала. Войдя в отдел, женщина спросила у Фастовой: «Где я могу видеть Фастову Марию Никифоровну?». Данное обстоятельство делало встречу женщины с Фастовой еще более странной и загадочной. Правда, после того как удалось выяснить, что в парке была Юдина, надобность в установлении этой женщины практически отпадала. Однако Арслан все же решил спросить о ней саму Фастову: теперь, казалось, у Фастовой нет причин отрицать факт встречи с ней двенадцатого. Но как только Туйчиев задал об этом вопрос Марии Никифоровне, в ее поведении сразу появилась так хорошо знакомая ему враждебность и она категорически заявила, что ничего подобного никогда не было. И такое отрицание очевидного факта тоже настораживало и требовало объяснения. Соснин к подозрениям Арслана отнесся скептически, считая, что теперь надо думать, как «расколоть» Юдину, а не выяснять женские тайны, связывающие Фастову и «лестничную» незнакомку, так как совершенно ясно, что к делу это не относится. Не согласиться с этим Арслан не мог, но в глубине души не оставлял надежды проникнуть в эту тайну: его не покидало предчувствие связи между всеми этими событиями и случившимся с Фастовой. Туйчиев уже и не рассчитывал найти эту женщину, когда неожиданно к нему пришла Аванесова и прямо с порога обрушила на него град вопросов: — Искали? Нашли? Что она сказала? — и, не дождавшись ответа, торжествующе произнесла: — Я нашла. — Она устало опустилась на стул. — Можете записать: Нестеренко Любовь Степановна. Инспектор районо, — уточнила она. Из рассказа Аванесовой Туйчиев понял, что она случайно увидела в районо, куда пришла по поводу устройства внучки в музыкальную школу, эту женщину. Собственно, увидела ее в коридоре и уже неотступно следовала за ней, пока та не вошла в кабинет с табличкой «Инспектор». Выждав несколько минут, Аванесова открыла дверь и увидела женщину за письменным столом. Тогда она в приемной заведующего выяснила ее фамилию. ...Нестеренко, маленькая, полная женщина, сильно волновалась. Видимо, от волнения у нее потели руки, и она ежеминутно вытирала их носовым платком. На Туйчиева смотрела настороженно и при каждом его вопросе сжималась, становилась от этого еще меньше. — Знаете ли вы Фастову Марию Никифоровну? — Нет, — поспешно ответила Нестеренко. — Зачем же вы двенадцатого числа приходили к ней на работу? — Никуда я не ходила и ничего не знаю. — Но вас видели там. — Не была я, меня с кем-то путают. Не добившись ничего от Нестеренко, Арслан решил провести очные ставки между ней и сотрудниками отдела, с которыми она разговаривала, разыскивая Фастову. Как только Шоира увидела Нестеренко, она радостно закричала: — Вспомнила! Вспомнила! Вы ведь в районо работаете? — обратилась Шоира к Нестеренко и, повернувшись к Туйчиеву, объяснила: — Когда я училась в десятом классе, нас, несколько девочек, директор послал в районо помочь перенести архив, и там я ее видела. А двенадцатого она пришла к нам и спрашивала меня, где сидит Фастова. Несмотря на утверждение четверых сотрудников, что именно Нестеренко искала Фастову и потом они вместе вышли, а Аванесова видела их разговаривавшими под лестницей, Нестеренко категорически отрицала все. Отрицание и Нестеренко и Фастовой несомненного факта встречи и разговора, самого по себе, возможно, ничем не примечательного и вполне обыденного, делало совершенно непонятным характер их взаимоотношений. То, что их связывает какая-то тайна, Арслан не сомневался. Не ясно было, какой поступок Нестеренко, до этого не знавшей Фастову, представил опасность, угрозу благополучию Марии Никифоровны, ведь при встрече Фастова так и сказала, что Нестеренко поступила с ней жестоко. «Что же сделала Нестеренко? — напряженно думал Арслан. — И вообще имеет ли она отношение к случившемуся с Фастовой?.. Может быть, она была в парке после Юдиной? Крюков в парке видел только Юдину, присутствие которой Фастова отрицает. «Коридорная» женщина — Юдина, стало быть, отпадает, а вот «лестничная» — Нестеренко, не исключено, и была той женщиной в парке, которую видела Мартынова. Эх, если бы Мартынова опознала Нестеренко, тогда, пожалуй, все прояснилось бы...» Ира Мартынова не смогла опознать Нестеренко и заявила, что в парке была не она. — Понимаете, — объяснила она, — я не могу описать ту женщину, которая была с Фастовой в парке, но эта женщина, которую вы мне показали, — другая. Это точно. Ошибка была очевидна. Соснин понял это сразу, но было уже поздно. И теперь он мучился от мысли, что все испортил из-за поспешности, желания как можно быстрее закрепить полученные данные и выйти, как он любил говорить, на оперативный простор решающих доказательств. Их как раз и не видно. Все вернулось на круги своя, сказал ему Арслан, оценив обстановку. Тактический просчет Соснина заключался в том, что он навязал Фастовой версию, выдвинутую Юдиной. Тогда, в больнице, от него не укрылись вздох облегчения Фастовой и то, как радостно засияли ее глаза, а лицо не выражало тревоги. Она безоговорочно приняла показания Юдиной. — Мне только лишь сказать, что Юдина не отрицает знакомства с ней, и она вынуждена была бы заговорить. Тут голым отрицанием не отделаешься. А потом намекнуть, только намекнуть о кой-каких обязательствах перед Юдиной, и все было бы в порядке. А я так оплошал, — уже в который раз казнил себя Николай. — Слушай, ты кончишь самоедством заниматься? Ну, допустил ошибку, — Арслан пытался успокоить друга. — Давай лучше подумаем, чем мы сейчас располагаем... — Чем? Ничем! — перебил его Соснин. — И все по моей милости. — Хватит! — рассердился Арслан. — Работать надо. Я не согласен с тобой, что у нас нет доказательств. — Ты же сам сказал, что все возвернулось на круги своя. — Не прав я, значит. Погорячился. Да сядешь ты, наконец?! Мельтешишь перед глазами. Тоже мне — лев в клетке. — Арслан встал, подошел к Соснину, описывавшему замысловатые фигуры по кабинету, и насильно усадил его. — Вот так. А теперь слушай. Ты говоришь: Фастова с готовностью приняла показания Юдиной... Что из этого следует? Во-первых, она подтвердила факт знакомства с Юдиной, который категорически отрицала. Во-вторых, Юдина сказала неправду о характере взаимоотношений с Фастовой... — Но это в одинаковой мере устраивает обе стороны, — подхватил Соснин, уловив направление мысли друга. — Совершенно верно. Значит, есть еще одно обстоятельство. — Они хотят что-то скрыть? — задумчиво спросил Соснин. — Я думаю, в этом и состоит разгадка. Иначе зачем Фастовой покрывать Юдину, нанесшую ей телесные повреждения. — Ты полагаешь, что удар нанесла она? — Когда разговаривают двое, а одного после этого находят с раной на голове, то нетрудно догадаться, кто нанес удар. — Логично, но, — Соснин удрученно вздохнул, — пока бездоказательно. И все же никак не пойму: если удар нанесла Юдина, то почему Фастова скрывает это? Зазвонил телефон, Николай поднял трубку. — Капитан Соснин слушает. А он у меня. Хорошо,пропустите. — Дежурный звонил. Фастов Леня пришел и тебя спрашивает. Леня не сразу решился прийти сюда. То, что произошло, потрясло его, но он полагал, что случившееся не выходит за рамки интересов его семьи. Беспокоить кого-нибудь по этому поводу он считал неудобным. Но после долгих раздумий все же пошел к Туйчиеву, продолжая испытывать чувство неловкости. Как все нерешительные люди, он обрадовался, что Туйчиева нет на месте: ведь он выполнил намеченное, а раз отсутствует Туйчиев, он не виноват. Но дежурный не дал ему уйти и позвонил Соснину. ...Преодолевая робость и смущение, Леня постучал. — Входите, входите, — раздался знакомый голос. Леня вошел и остановился у дверей, забыв даже поздороваться. — Здравствуйте и проходите, — Николай жестом показал на стул. — Здравствуйте, — только теперь поздоровался Леня. — Я ненадолго. — Сколько потребуется, — приветливо улыбнулся Арслан. — У вас что-нибудь случилось? — сразу поинтересовался он. — Да. То есть нет... В общем, я посоветоваться пришел. Если можно. — Конечно, можно. Слушаем вас. — У нас дома... облигации пропали. — Что? Облигации? — недоуменно переспросил Соснин. — Какие облигации? — Трехпроцентные, их еще золотым займом называют, — пояснил Леня. — Вот что, Леня, вы уж нам понятней объясните, — предложил Арслан, — а то пока связь с делом не улавливается. — Я понимаю, к делу не относится... Я просто посоветоваться, — застеснялся Леня. «И зачем я только пришел. Голову людям морочу!» Но Туйчиев дружелюбно положил ему руку на плечо и ободряюще сказал: — Давай! Рассказывай. — Не знаю даже, как правильно назвать — наследство или подарок. Бабушка покойная оставила двадцать пять штук облигаций трехпроцентных и дала наказ: когда жениться буду, мне их отдать. Так и лежали они в старой сумке в бабушкином сундуке. Сундук, не знаю почему, на висячий замок запирался. Такой порядок еще бабушка завела. От кого запирался сундук — до сих пор понять не могу. Ключ к нему лежал в комоде на виду, и, кому нужно было, тот брал его и отпирал. Я не раз предлагал матери снять замок, но она говорила: пусть будет, как при бабушке. Так вот, чтобы каждый раз в сундук не лазить, я номера облигаций переписал себе в записную книжку. — Леня вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку, полистал, открыл на нужной странице и в таком виде положил на стол перед Сосниным. — Как только в газете появляется таблица очередного тиража, я проверяю по своим записям. В этот раз, — продолжал Леня, — я тоже так проверял. И вдруг даже не поверил: сколько лет ничего, а тут выигрыш. И представьте — сразу по двум облигациям. И какой! Пятьсот рублей! Пятьсот двадцать, — уточнил Леня. — Думаю, надо достать облигации и завтра маме показать. Положительные эмоции ей не помешают. Взял, значит, я ключ, открыл сундук, а сумка пуста: облигаций нет. Всю квартиру обшарил, но не нашел. — А вы у матери спрашивали? Может, она их перепрятала? — В том-то и дело, спрашивал. Конечно, я не стал ей говорить про пропажу, а то она разволнуется. Поэтому так осторожно спрашиваю ее, где облигации лежат, — таблицу напечатали, проверить надо. А она раздраженно отвечает: где лежали, там и лежат. Не стал я больше ничего говорить. Куда они могли деться, ума не приложу. — Кроме облигаций в доме ничего не пропало? — спросил Соснин. — Может, кража в квартире? — Что вы? — изумился Леня. — Какая кража, все в целости и сохранности. — Коли так, наверное, мать их куда-то в другое место положила, а сейчас запамятовала. Придет домой, вспомнит и получите свой выигрыш, — заключил Соснин. — Вы говорите, таблица вчера напечатана? — обратился к Лене Туйчиев. — Да, вчера. — Тогда выплата выигрышей начинается только сегодня, — уже ни к кому не обращаясь, проговорил Арслан. — Надо попробовать... Когда Леня ушел, Соснин спросил друга, что он задумал, неужели решил заниматься этими облигациями. И, получив утвердительный ответ, сердито заметил: — Они там друг от друга в сундук облигации прячут на замок, вот пусть и разбираются. — Ты же сам не так давно утверждал: доказательству подлежит все, касающееся Фастовой? Забыл? Вспомни женщину в театре. — Но там же совсем другое дело. — Нет, Коля, я не могу с тобой согласиться. Обстоятельства, действительно, были иные, но если говорить о характере связи, то практически различий нет. Я сейчас свяжусь с управлением сберкасс. Важно успеть. — Дело хозяйское, — Николай махнул рукой. — Только до этого уточни свою мысль, которую ты высказал до прихода Фастова. — Что ты имеешь в виду? — Считаешь, что удар Фастовой нанесла Юдина? — Судя по всему — так, — задумчиво произнес Арслан. — Тогда почему она нанесла удар сзади? Что же они, разговаривали спиной друг к другу? — Механизм образования раны позволяет заключить, что нападавший находился несколько сбоку. — Слабо, очень слабо, — поморщился Соснин. — У тебя есть альтернатива? — Увы, нет, — угрюмо буркнул Николай.
Он набрал номер. Долго вслушивался в длинные гудки. Наконец в трубке послышался знакомый голос: — Слушаю. — Здравствуй. Ты почему не пришла вчера? Это что, входит в разработанный план моего обольщения? — Нет, это был экспромт. В какую-то минуту меня осенило, и я поняла бесцельность, если хочешь, вредность наших встреч... — Ты читала газету сегодня? — Леня не нашел в себе сил опровергать сказанное и просто сменил тему. — Нет. — В девять вечера ожидается звездный дождь, ты должна прийти в плаще. — Право, не знаю, смогу ли. — Чудачка! Ведь звезды с неба не каждый день падают. Я захвачу мешок. Представляешь, полный мешок звезд из созвездия Гончих Псов? Жду в девять у курантов... Зябко поеживаясь от вечерней прохлады, он стоял у телефонной будки. Мила, как всегда, опаздывала. Что за причуды прекрасной половины человеческого рода? Надеются, что их больше будут любить, если они придут позже? Типично женская логика. Двадцать минут десятого. Как у Маяковского: «Приду в четыре», сказала Мария. «Восемь. Девять. Десять». Точность — вежливость королей, но не влюбленных. Влюбленных? Смешно. Мила совсем не похожа на влюбленную. Слишком серьезна и рассудительна. Или рассудочна? В ее больших глазах он часто читал вопрос, но ему неясно: хочет ли она спросить о чем-то или, вглядываясь в него, сама пытается прочесть ответ. «Глупости, это я рассудочен и не похож на влюбленного. А почему? Ведь она мне понравилась. Не ври, хоть самому себе не ври. Я тогда шел от Иры и познакомился с ней. От Иры...» Мысль об Ире, как бумеранг, возвращается к нему, хотя он дал зарок не думать о ней. Тяжелая, но сладкая ноша, которую он тщетно пытается скинуть. Она все время с ним, эта женщина, вобравшая в себя всего его без остатка, открытый нерв, к которому больно прикоснуться. Ничего, он его вырвет и обретет покой. В этом ему поможет эта красивая, стройная девушка, которая, наконец, подходит из темноты. — Салют, Милочка, все хорошеешь?.. — Добрый вечер. Между прочим, молодой человек должен идти навстречу девушке, а не стоять и смотреть, как она к нему приближается. — Извини, — оправдывался Леня. — Я уже забыл, как должен вести себя уже не очень молодой человек при виде еще совсем молодой девушки. — Что мы будем делать сегодня? — деловито спросила Мила. Он каждый раз ждал этого вопроса, и тем не менее Мила всегда заставала его врасплох. Странно, но Леня никогда не мог предложить путной программы; первое время надеялся на импровизацию, однако вскоре понял: у него мало фантазии. Ему просто приятно бродить с Милой по городу: на нее обращали внимание, но ей вряд ли была интересна такая прогулка. С недавних пор он поймал себя на мысли, что встречается с ней по инерции, — в самом деле, нельзя же прощаться и не назначать время следующей встречи. Зачем он морочит голову этой хорошенькой девушке? Только потому, что ему льстит идти с ней рядом? — Может, в кино? — неуверенно произнес Леня. — Уже поздно. — Тогда в кафе? Они зашли в уютное кафе в центре сквера, сели за столик. Леня понимал, что молчать глупо, неприлично, но ничего не мог с собой поделать, маленькими глотками пил пепси-колу и изредка упрашивал ее попробовать шоколад, к которому Мила так и не притронулась. — Где же твой звездный дождь? — В ее голосе чувствовался укор. — Представление, как я понимаю, отменяется? Они шли по городу, который после могучего дневного ритма мирно дремал. Звенящая тишина позднего вечера убаюкивала. Он ничего не ответил, привлек ее к себе, поцеловал. — Ты что, извиняешься передо мной? — Она на какую-то долю секунды прижалась к нему. — Как повинность отбываешь... «Наверно, она права», — мелькнуло у него. Домой, когда они расстались, идти не хотелось. Слова Милы тяжелым камнем лежали на сердце. Глубоко задумавшись, он медленно брел по быстро пустеющим улицам. Впоследствии он так и не мог объяснить себе, почему вдруг оказался у дома Иры. «Зайти? — подумал Леня, присаживаясь на скамейку у дома. — Но что сказать? Как все объяснить?» Минут пятнадцать просидел он на скамейке, борясь с желанием зайти. Тщетно пытался рассмотреть, что там, за плотными портьерами, где горел свет в ее комнате. Когда же, набравшись решимости, он встал и направился к подъезду, свет в комнате погас. «Конечно, уже поздно», — подумал Леня и даже обрадовался этому: он не чувствовал себя готовым к встрече.
Почему он так ухватился за пропавшие облигации? Опыт подсказывал: между такими разнородными явлениями, как исчезновение облигаций из квартиры Фастовой, и тем, что случилось с ней в парке, скорее всего нет и не может быть ничего общего, связующего. И все же, когда Леня пришел и рассказал о пропаже, у Арслана появилось пока неосознанное и необъяснимое предчувствие наступления важных событий. Николай, смеясь, говорил: это от отчаяния. В общем, он не так уж далек от истины. За время расследования было от чего прийти в отчаяние. Практически следствие оставалось на тех же позициях, что и полмесяца назад, когда приняли дело. Кто мог бы подумать, что оно окажется таким сложным. Все в нем теперь необычно. И поведение потерпевшей, и обстоятельства самого преступления. Даже версию выдвинуть трудно. Ограбление исключалось: у Фастовой ничего не пропало. Месть ничем не подтверждалась. Да и способ отмщения, если взять на вооружение эту версию, более чем странный. Как-то Соснин обронил предложение о «нулевой» версии, как тогда, в деле Басова-Бурова, но, поразмыслив, они решительно отказались от нее. Характер повреждений исключал несчастный случай, да и Фастова утверждала, что ее сзади ударили по голове. Но чем объяснить полное отрицание ею очевидных фактов и нежелание помочь следствию? Таинственность была во всем. Вероятно, поэтому Туйчиев интуитивно связал воедино оба события. Именно таинственность объединяла пропажу облигаций и случившееся в парке. Спустя несколько часов после ухода Лени, к несказанному удивлению Фастова, Туйчиев решил еще раз с ним побеседовать. — Давайте уточним, — предложил Арслан, — когда в последний раз вы видели облигации на своем месте. — Около полутора месяцев, — ответил Леня и пояснил: — Тиражи трехпроцентного займа бывают, сами знаете, через полтора месяца. Так вот, в прошлый раз мама сама решила проверить и достала облигации из сундука. Я хотел взять записную книжку, но мама отказалась, сказала, что так надежней. — Значит, в промежутке между двумя тиражами вы облигаций не видели? — Я не видел, но уверен: они лежали на месте. — Откуда такая убежденность? — поинтересовался Туйчиев. — Просто никто, кроме нас с мамой, не знал ни о существовании этих облигаций, ни, тем более, где они находятся. Да и сундук, как я уже говорил, закрывается на замок, — привел Леня последний и решающий довод. — Замок-то замок, но ключ же лежал на виду. Вспомните, Леня, может быть, в это время кто-то посещал вас и хоть ненадолго оставался в квартире? — Нет, не было такого, — ответил Леня и неожиданно замолк. «Алишер!.. Он еще тогда в сундуке белье постельное брал и на бабушкину сумку обратил внимание, — внезапно обожгла его мысль, но он тотчас отогнал ее. — Чушь! Глупость!» — Вспомнили? — спросил с надеждой Туйчиев, по-своему расценив паузу. — Нет, — ответил Леня. Туйчиев продолжал задавать вопросы, пытаясь нащупать хоть какую-нибудь ниточку, ведущую к облигациям, но тщетно. Исчезновение облигаций пока было такой же тайной, как и случившееся в парке. Оставалось надеяться и ждать. Арслан понимал, что предъявление облигаций, на которые выпал выигрыш, может произойти в любом населенном пункте и вовсе не обязательно в их городе. Недаром это ценные бумаги на предъявителя. Кто их предъявит, тот и получит выигрыш. Если они все же похищены, хоть и неясно как, то вряд ли похититель рискнет получать по ним выигрыш здесь, в городе... Все должно было решиться в ближайшие дни, если только похититель не воспользуется правом получить выигрыш, когда все успокоится. Но хорошо ли ориентированы работники сберкасс? Проявят ли они необходимую бдительность и выдержку? Все эти вопросы не давали покоя Арслану. Николай не связывал воедино эти эпизоды и решил, как он заявил, заняться делом. Будучи убежденным в причастности Юдиной к избиению Фастовой, Николай считал необходимым в первую очередь выяснить мотив. — Надо проследить весь жизненный путь Юдиной и Фастовой, — твердил он. — Хватит для выяснения двух жизней одной твоей? — спрашивал не без иронии Арслан. — Срок расследования, установленный законом, кстати, гораздо короче. — Все равно, пока альтернативы нет, — упрямствовал Соснин. Пожалуй, впервые за многие годы совместной работы так разошлись они во мнении. Каждый из них понимал известную шаткость собственной позиции, но не мог найти убедительные доводы своей правоты. Линия Соснина, правда, представлялась более предпочтительной, ибо предполагала активные действия. Арслан же решил ждать: если что-то и решится, то в самое ближайшее время. С нарастающим нетерпением ждал Туйчиев звонка из управления сберкасс. И все равно, когда ему, наконец, позвонили и сообщили, что в сберкассе, которая расположена у цирка, предъявлена облигация с выигрышем в пятьсот рублей, он не сразу поверил в удачу. Каково же было его удивление, когда получателем выигрыша оказалась не кто иная, как Нестеренко. Воистину в этом деле все переплелось фантастически! ...Нестеренко сидела на самом краю стула, сжав в руках носовой платок, и ежеминутно бросала на Туйчиева испуганные взгляды. — Скажите, Любовь Степановна, откуда у вас облигация, по которой вы получили выигрыш? Узнав, что речь пойдет о выигрыше, Нестеренко несколько успокоилась, глубже села на стул, еще раз вытерла вспотевшие руки и положила платок в сумку. — Простите, я не совсем поняла вас. Облигации трехпроцентного займа, как вам известно, покупают в сберкассе, что я и сделала. — В голосе ее скользили недоумение и обида. — Порядок приобретения мне известен, — улыбнулся Арслан, — неизвестно лишь, как была приобретена вами именно эта облигация. — Он сделал паузу. — Облигация, принадлежащая вашей знакомой Фастовой Марии Никифоровне. Услышав фамилию Фастовой, Нестеренко вздрогнула, вынула из сумки платок и стала вытирать моментально вспотевшие от волнения руки. — Не знаю я Фастову, не знаю, — забормотала она, — ведь говорила, не знаю... — Тем более непонятно, как попала ее облигация к вам, — усмехнулся Арслан и спросил: — Кстати, а где остальные облигации? — Какие остальные? — Фастовой, разумеется. — Нет у меня никаких облигаций Фастовой, — энергично запротестовала Нестеренко. — Это мои, собственные... — всхлипнула она. — На какую сумму? — спокойно спросил Туйчиев. — Восемьсот двадцать, теперь восемьсот десять, — продолжая всхлипывать, уточнила она, кивнув на лежащую перед Арсланом десятирублевую облигацию, по которой она получила выигрыш. На квартире у Нестеренко действительно оказалось облигаций на восемьсот десять рублей — тридцать штук двадцатирублевого достоинства и двадцать одна десятирублевого. Туйчиев сверил номера: десятирублевые облигации принадлежали Фастовой. «Но почему двадцать одна, а где же еще четыре? — думал Арслан. — Ведь было у Фастовой двадцать пять облигаций. Странно, нет и той облигации, на которую выпал двадцатирублевый выигрыш». — Любовь Степановна, — обратился к Нестеренко Туйчиев, — еще четырех облигаций не хватает. Десятирублевых, — пояснил он. — Вот все мои облигации, — Нестеренко протянула к ним руку, — по одной покупала, мои они, — она опять стала всхлипывать. — Не знаю, что вы от меня хотите, не знаю... Рассказывая обо всем Соснину, Арслан сокрушался: — Кто бы мог предположить, что все обернется новой загадкой? Когда узнал, что выигравшую облигацию предъявила Нестеренко, решил: всё, вышли на финишную прямую. Не тут-то было. — Все равно это удача, — убеждал друга Николай. — Нестеренко ведь одна из таинственных женщин, от которой полностью открещивается Фастова. И именно у нее оказываются облигации. Нет, что ни говори, это здорово. Ты был прав. Облигации непосредственно связаны со случившимся в парке. — Но где же тогда еще четыре облигации? Да и как вообще попали они к Нестеренко? — Видимо, их отдала ей сама Фастова, — задумчиво произнес Соснин. — У кого же тогда недостающие облигации? — Спроси что-нибудь полегче, — рассмеялся Николай. — Придется ждать. Возможно, обладатель облигации придет за выигрышем. Знаешь, — оживился он. — Я не удивлюсь, если им окажется Юдина. — Думаю, их всех что-то связывает. Только что?
После нескольких дождливых дней небо, наконец, очистилось от туч и выглянуло солнце. Не имея летней силы, оно не могло быстро высушить намокшие от дождя скамейки. Леня долго бродил по скверу, выбирая место посуше, но так и не нашел. Тогда он купил в киоске газеты, постелил их на скамейку вблизи ограды и сел. Он любил посидеть в одиночестве в сквере и наблюдать за снующими по улице людьми, определяя про себя их профессию и дело. Обзор отличный: прямо через дорогу отделение связи, рядом сберкасса и продовольственный магазин, чуть поодаль кафе. Сегодня он ушел с последней пары. Теормех не его стихия. Да и профессия инженера не прельщала. Он неудержимо тянулся к литературе, искусству, но переубедить тогда маму не сумел. Чем дальше, тем большие трудности испытывал он в учебе, но мама оставалась непреклонной. С горем пополам тянул он лямку студента-технаря. И вообще с мамой последнее время ему было нелегко. Взять хотя бы Иру. Как ни пытался он вырвать ее из сердца, ничего не получилось. Не помогли и «инъекции» в лице Милы. Хорошая она девушка. Очень. Но его неудержимо влекла к себе Ира. — Сидел он, дум великих полн, — внезапно услышал голос Алишера и обернулся. — Привет. — Алишер протянул ему руку. — Ты почему не в институте? — Теормех, — в голосе Лени столько тоски, что Алишер рассмеялся. — Ясненько. Я и забыл: тебя больше интересует вопросы не теоретической, а практической механики. Так сказать, движение людей. — А ты гуляешь? — в свою очередь спросил Леня. — Творческий день, — торжественно произнес Алишер и добавил: — По расписанию. — Понятно. Значит, вытворяешь. Что именно? — Пока нахожусь в стадии обдумывания, а на первый случай предлагаю зайти в «Снежок» и съесть по килограмму пломбира. — Ого! Опять гонорар! — Увы! Этим меня не балуют. — Быстро кончились твои первые радости. — Не говори. Но есть нечто большее, чем гонорар. — Леня вопросительно посмотрел на него. — Да, да. Не удивляйся. Я говорю о вере в людей. — Это оплачивается? — Представь себе. Да еще с процентами... — Видимо на тебя плохо действует творческий день, — покачал головой Леня. — Придется сообщить в деканат, пока ты не натворил такого. — Зря не веришь, — перебил его Алишер. — Короче, сиди и мечтай. Я сейчас. «Куда это он? — подумал Леня, провожая взглядом быстро пересекающего улицу Алишера, но вспыхнул зеленый глазок светофора, и поток стремительно двинувшихся машин закрыл Алишера, а когда улица опустела, его уже не было. — Наверно, в магазин зашел», — решил Леня. Он продолжал наблюдать. Вот старушка вышла из переговорного пункта, остановилась в раздумье. Весь ее вид говорил, что она забыла сказать главное. Она постояла у дверей почты, махнула рукой и медленно побрела по улице. Из магазина вышла женщина в черном халате, в руках у нее были пакеты. «Работница почты, — определил Леня, — сегодня, видимо, ее очередь идти за продуктами для обеда». Он посмотрел на часы: действительно, было уже полпервого. «Что-то Алишер задерживается», — мелькнуло у него, и он решил пойти ему навстречу. В это время у сберкассы остановился «Запорожец». Из него вышел Соснин и направился в сберкассу. «Работники милиции в рабочее время занимаются личными делами», — усмехнулся Леня. Он уже пересек часть улицы и вышел на тротуар, почти поровнявшись с «Запорожцем». Дверь сберкассы открылась. Вышел Алишер, следом за ним Соснин. «Значит он не в магазин, а в сберкассу ходил, — удивился Леня. — Но почему они вместе с Сосниным?» Соснин между тем подошел к машине, открыл дверцу, приглашая Алишера занять место. — Алишер! — вырвалось у Лени. — Ты куда? Что случилось? В ответ Алишер криво усмехнулся: — Пломбир отменяется, — и показал на Соснина: дескать, он знает, спроси его. Но Соснин уже увидел Леню. — И вы здесь? Интересно. Ждем вас к 15 часам. Он сел вместе с Алишером в машину. Затарахтел двигатель, и старенький «Запорожец» тронулся с места. А Леня, ошеломленный, ничего не понимая, продолжал стоять у обочины...
— ...Итак, вы не отрицаете, что ночевали у Фастова и в сундуке, когда брали постель, видели старую сумку? Алишер утвердительно кивнул головой. — Что в ней было? — продолжал задавать вопросы Туйчиев. — Этого я не знаю. Я только обратил внимание, что сумка очень старая. Таких теперь не выпускают. Но я ее не открывал. — Хорошо. Я помогу вам вспомнить, — предложил Арслан. Алишер недоуменно посмотрел на него. — Среди прочего в ней были облигации трехпроцентного займа. Двадцать пять штук. — Вы... вы... подозреваете меня? — голос Алишера от волнения срывался. Арслан между тем вынул из сейфа и положил на стол перед Алишером облигацию. Показывая на нее, сказал: — Это одна из них. По которой вы недавно хотели получить выигрыш, — уточнил он. — Где остальные? В ответ Алишер вдруг стал безудержно смеяться. Арслан с Николаем переглянулись, у каждого в глазах был вопрос: что это с ним, не нервный ли припадок? Успокоившись, Алишер заговорил: — Простите меня, пожалуйста. Но все было так неожиданно и страшно, — признался он. — У меня нет никаких других облигаций, да и не может быть. А эта, — он показал на облигацию, лежавшую на столе, — попала ко мне случайно. Ее дал мне Виктор, возвращая долг... — Какой Виктор? — не дал ему договорить Николай. — Трегубов Виктор. Интереснейший типаж, кстати. Я изучал причины, приведшие его к пьянству. По линии социологического эксперимента, — пояснил Алишер. — Когда он дал вам облигацию? — Пожалуй, дней десять прошло. — Вам известен адрес Трегубова? Где его можно найти? — О, это очень просто, — улыбнулся Алишер. — Его обычное место пребывания, впрочем, как и других алкоголиков, в парке у биллиардной.
Медленно пробираясь сквозь непроходимые заросли джунглей, по колено в болотной жиже, оставляя на острых сучьях неведомых растений клочья одежды, плохо различая сквозь залитые кровью и по́том глаза окружающее, он тщетно пытался отдалить смертный миг, но ягуар настиг его и положил на плечо свою тяжелую мягкую лапу. Он закричал в ужасе и проснулся. Потный от страха, Виктор вскочил на ноги и не сразу понял, где находится. Бледный свет зарешеченной лампочки струился с высокого потолка. Лязгнула массивная железная дверь, и в проеме появился немолодой приземистый сержант с седоватыми усами. — Зачем шумишь? — укоризненно покачал головой сержант. В его голосе звучал мягкий восточный акцент. — Ночью спать надо. — Он сочувственно посмотрел на узника и вышел из камеры. Трегубов сел, крепко обхватив руками раскалывавшуюся от боли голову. «Сама по себе тюрьма не так уж страшна, — пытаясь иронизировать, подумал он. — Та же гостиница, только с решетками на окнах. Страшно другое: выпить здесь не дадут, это точно... Идеальное место для ликвидации скверных привычек», — горько усмехнулся Виктор. Как ему плохо сейчас — кто бы знал. Ну и пусть. Чем хуже, тем лучше! Через этот круг дантова ада надо суметь пройти. Тогда появится шанс выкарабкаться. Стоит потерпеть, если конечно, не свихнешься от «сухого закона». Вот сейчас выпить сто грамм, не больше, и можно начинать эксперимент по завязыванию. Сначала выпить, потом начать... Выпить... Нет, хватит. Видит бог: он никогда не поднимал руку на человека... И вот... А вообще все логично. ...Тогда в парке, очнувшись от тяжелого забытья, он увидел над собой широкие, уходившие ввысь стволы деревьев; сквозь их желтеющую, но еще густую листву с трудом пробивались вниз косые солнечные лучи. Сколько же он проспал здесь, на земле, как последний подонок? Всю ночь, и, судя по солнцу, еще полдня! Если бы еще пару лет назад ему кто-нибудь сказал, что это может произойти с ним, он бы плюнул в лицо сказавшему. Он с большим трудом поднялся. Земля, как палуба во время шторма, уходила из-под ног куда-то в сторону, и, чтобы не упасть, он успел ухватиться за спинку скамейки. За узкой, посыпанной красным песком дорожкой он увидел Иру и двух женщин, одна из них почему-то на Иру кричала. Он испугался, что Ира увидит его в таком виде, и спрятался за живую изгородь. Но женщина внезапно влепила Ире пощечину, и тогда, забыв про стыд, он, шатаясь, бросился на помощь. Но Ирина уже убегала от обидчицы. А та, видел Виктор, совершенно неожиданно с яростью и как-то истерично набросилась на свою собеседницу, замахнулась на нее сумкой. Вторая женщина испуганно закрылась рукой. Сумка, ударившись об эту преграду, упала на землю. Защищавшаяся женщина в следующую секунду пустилась наутек. Большая черная сумка была раскрыта, и Трегубов увидел пачку облигаций. Стоявшая к нему спиной женщина наклонилась за сумкой, и тогда он ударил ее по голове. Он у-да-рил! Хотя мог поклясться, что за секунду до этого ни о чем не помышлял. Но облигации, он успел заметить, были «золотого займа». «Деньги!» — молнией сверкнула мысль. Деньги, которых у него нет, а голова разрывалась от боли, перед глазами ходили разноцветные круги, и хотелось только одного — глотка спиртного. Да, да. Конечно, это не он, а какая-то потусторонняя сила заставила его мгновенно наклониться, схватить валявшийся на земле, неизвестно откуда взявшийся здесь увесистый обломок кирпича, подняла его руку и опустила на голову женщины, а другая рука потянулась к облигациям... И пропил-то он всего ничего, а остальное отдал соседке Нестеренко, в погашение долга... Он попробует начать все сызнова, он попробует. Представь себе, что ты умер сегодня, а то время, которое начнется завтра, выиграно по лотерее. Этот бесценный дар судьбы, уговаривал он себя, ты можешь использовать по назначению — прожить как человек. Легко сказать! Где взять силы на это! Выпить... Надо обязательно выпить...
— Вон твой папа приходящий идет, — громко, как все глуховатые, крикнула самая старая и самая маленькая из нанизанных на скамейку старушек. Славик оглянулся, вскочил, наступил ногой на только что построенный дворец и опрометью бросился навстречу Лёне, обнял за ноги, прижался. — Не надо подарков, только приходи чаще, — тихо сказал он, когда Леня подхватил его на руки и поднял над головой. — А я вообще больше не уйду, — успокоил он малыша. — Мама дома? — Ага. Я все спрашивал про тебя, она говорила, что скоро придешь. Так со Славиком на руках он и поднялся на третий этаж. — Вот и мы, — обрадованно прокричал мальчик матери, когда она открыла дверь. — Теперь все в сборе. Поцелуйтесь! Мишкин папа всегда целует Мишкину маму, когда приходит, я видел. — Здравствуйте, — голос Лени дрогнул, он стоял на пороге, не решаясь войти. — Тут не до поцелуев, не знаю, пустят ли меня в дом. Ира безулыбчиво смотрела на него. — Входите уж, раз пришли, только ноги вытирайте, — я полы мыла. Проходите на кухню, сейчас ужинать будем. Ужинали молча. Славик, чувствуя напряжение, ел без капризов: недолго схлопотать от мамы, когда она такая... — Ты посиди возле меня, — попросил он. Леня взял детский стульчик, поставил у кровати, сел. — Сказку, — потребовал Славик. — В некотором царстве, в некотором государстве жил был худой свинопас, — он поправил одеяло и продолжал. — Этот свинопас без памяти полюбил принцессу... — Они потом поженятся, я знаю, — сонно перебил его мальчик. — Другую. Пока Леня пытался восстановить в провалах памяти оскудевший запас детских впечатлений, Слава заснул. Он поднялся и вышел из спальни. Ира сидела в столовой на диване и вязала. Он полистал журнал и сел в кресло. — Ну что, прекрасный принц, — начала она атаку. — Пришел пригласить меня на свадьбу? — Я устал и хочу мира, — тихо ответил он. — Мира хотят все, но не все могут жить в мире. — Она шла в наступление без оглядки. — Как здоровье Марии Никифоровны? — Спасибо, она уже дома. — И отпустила тебя ко мне? Или ты ушел тайком? Только правду. — Она знает, где я. Но дело не... — Я не верю тебе, — перебила его Ира. Она бросила вязать, встала. — Но ты прав: дело не в этом, а в том, что до пенсии ты будешь соразмерять каждый шаг с ее желаниями. — Она заслуживает этого. — Все матери заслуживают, однако... — Она не моя мать, — невесело объявил Леня. Ира села на диван, недоверчиво скривила губы. — Моя мать отказалась от своего сына, когда ему было девятнадцать дней. Мария Никифоровна усыновила меня, отдала всю жизнь неродному ребенку, сотворила из него кумира... Ее нельзя винить. И вот в один прекрасный день появляется мать мальчика, Юдина, ты видела ее мельком в парке... нет, не предъявляет свои права, а просто шантажирует разоблачением, требует деньги за сохранение тайны. — Позволь, но как она узнала твой адрес? Насколько мне известно, такие сведения держат в тайне. — Конечно. Но Юдина сумела разжалобить инспектора районо, сказала, что только одним глазом посмотрит на меня и уйдет. Та сдуру и выдала ей информацию. Потом испугалась, побежала к маме на работу предупредить. Ну а мама, конечно, была готова на всё. Правда, сначала она решила мне написать письмо — рассказать правду, но не смогла, порвала его, взяла облигации и пошла на встречу с Юдиной. — И Юдина ударила ее и завладела ими? — Нет, не совсем так, — замялся Леня. — Облигации попали к Трегубову. — К кому? — побелела Ира. — Так это он... — Да. В общем, вся эта история уже позади. Главное, мама поправилась, скоро выходит на работу, — он помолчал немного. — И самое главное, что я здесь.

В. Вальдман, Н. Мильштейн Следствием установлено... Повесть

Из сводки происшествий за 16 января: «... В 12 часов 50 минут в здании педагогического института в момент, когда в комнате хозчасти включили в сеть магнитофон, произошел взрыв. Находившиеся здесь комендант учебного корпуса Рогов и начальник снабжения Митин получили тяжкие, а инженер Умаров — легкие телесные повреждения...»
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Осень в этом году пришла необычно рано. По городу загуляли пронизывающие ветры; словно помогая дворникам, они добросовестно сметали с асфальта к обочинам желтые листья. Частые дожди, свежая прохлада воздуха ощущались настоящим чудом после изнурительного зноя. Город сразу стал красивее; вечерами громады домов, будто любуясь собой, заглядывали окнами в мокрые зеркала тротуаров. Вот и сегодня с утра шел дождь. Из распахнувшихся настежь дверей школы высыпала веселая ватага старшеклассников. Славка и Жанна пересекли уютный сквер и очутились у недавно построенного оригинального здания-кристалла — нового музея искусств. — Зайдем? — спросил вдруг Славка. — Неудобно как-то, живу недалеко, учусь рядом и ни разу не был. Голову на отсечение — ты тоже. — Можно, — без особого энтузиазма ответила Жанна, не уточняя. — Только ненадолго: у меня много дел еще. — В музеи не ходят «ненадолго». Встреча с прекрасным не терпит суеты, как сказал классик, — назидательно проговорил Славка. — Поэтому будем исходить из того, что тебя завтра не спросят. Или, как худший вариант, схлопочешь тройку. На «трояк» можно ответить и не готовясь. — Ладно, уговорил, — махнула рукой Жанна, и Славка направился к кассе... Они любовались этюдом Левитана, когда за их спиной раздался голос: — Юность приобщается к бессмертным творениям. Похвально. Ребята оглянулись. На них приветливо смотрел высокий парень с фигурой спортсмена. — Извините. Не помешал? Рянский, Александр, — представился он. Познакомились. — Искусство возникло как протест против преходящего характера жизни человека, как реакция на его смертность, — начал вдруг объяснять Рянский. — Вспомните наскальные рисунки древних. Стремление запечатлеть мамонта, бизона, жену, охоту вызывалось именно тем, что мамонты и жены не вечны. Как видите, мотивы, которыми руководствовались наши далекие предки, весьма скромны — оставить после себя память. Но сегодня, — Рянский горестно посмотрел на Жанну, — искусство превратилось в выпущенного из бутылки джинна, грозящего уничтожить мир. — Уничтожить? — удивленно переспросила Жанна, поймавшая себя вдруг на том, что ей нравится этот светловолосый молодой человек. — Увы! — вздохнул Рянский. — Вы не читали о новых методах обучения живописи во сне? Гипнотизеры выпускают легионы Рафаэлей и Рубенсов. Период обучения — два месяца для тех, кто вообще не умел держать кисть, и четыре сеанса для имеющих навыки. Эксперты не в состоянии отличить настоящего Микельанджело от нарисованных этими людьми копий. Через несколько десятилетий, когда все закончат эти курсы, на земле будет минимум два миллиарда гениальных художников. Некому будет сеять хлеб, и тогда наступит конец. — Жуткая перспектива, — согласился Славка. — Ты как думаешь, Жанна? — О, мне уже страшно, — съежилась Жанна. Все рассмеялись. Они еще долго бродили по музею. Рянский много и интересно говорил о живописи, о художниках. Как-то получилось само собой, что вышли из музея вместе. Славка опаздывал на тренировку и вскоре убежал. — Симпатичный парень, — кивнул в его сторону Александр. — Из него должно получиться нечто. Ваши одноклассницы, конечно, от него без ума? — Не все, — ответила Жанна. — Ну, о присутствующих не говорят. Когда они подошли к дому Брискиных, Жанна неожиданно для себя пригласила Александра зайти. — А удобно ли? — тактично осведомился он. — Предка нет, — ответила Жанна и, преодолевая смущение, добавила: — Зато есть исходный материал для коктейля и довольно свежие записи. Просторная квартира Брискиных была изысканно обставлена. В гостиной Рянский подошел к маленькой картине, долго и внимательно рассматривал ее. Потом отошел назад, склонив голову набок. — Неужели подлинник? — изумился он. — Невероятно. — Да, — небрежно бросила Жанна, достававшая из серванта узкие хрустальные фужеры. — Вы мне поможете? А я пока включу магнитофон, подберу записи. Рянский засучил рукава и стал колдовать над бутылками. На журнальном столике появились фрукты. — Коктейль готов! — торжественно провозгласил Александр. — Он носит нежное имя «Мэри», но после двух фужеров укладывает наповал. — Так что осторожнее, Жанночка! Вы рискуете, впустив в дом незнакомого мужчину. — По-настоящему опасные мужчины не пугают, а действуют. — Ого! Один ноль в вашу пользу, — Рянский улыбнулся краешком губ. Потом сразу стал серьезным, уставился в дно бокала. — Вы знаете, у меня сегодня особенный день, — не поднимая глаз, сказал он. — Встал утром с каким-то томительным ожиданием чего-то необычного и весь день ощущаю — что-то должно произойти. А потом еще бабушка. Я вас обязательно познакомлю — редкий экземпляр. Говорит мне: «Алекс, ты приснился мне больным: тебя ждут большие перемены». Теперь я понимаю, что она имела в виду. — Он пристально посмотрел на девушку. Жанна зарделась, стала бесцельно передвигать фужеры. — А кто у вас есть, кроме бабушки? — нарушила она затянувшееся молчание. — Никого. Бабушка меня вскормила. Ей восемьдесят шесть, и я ее боготворю. У нее один недостаток — она вся в прошлом. — С каких пор память о прошлом стала недостатком? — возразила Жанна. — По-моему, она заставляет по-новому взглянуть на настоящее, правильно оценить его. Кушайте, Саша, — она подвинула тарелку с фруктами гостю. — Спасибо, — Рянский отпил из бокала. — К сожалению, не могу согласиться с хозяйкой, как того требует этикет. Вы видели югославский фильм «Не оглядывайся, сынок»? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Впрочем, видеть его не обязательно. Панацея от всех бед — в названии. Идти по жизни, не оглядываясь назад, — единственно правильная стратегия. Начнешь оборачиваться — безнадежно отстанешь и никогда не будешь счастлив. — Кем вы работаете, Саша? — А вы кем хотите стать? — вопросом на вопрос ответил он. — Я еще не решила, но все больше склоняюсь к археологии. — Какое совпадение! Почти. По образованию я историк. Но увы! Должность моя весьма скромная. Более того, она наверняка шокирует обывателя. Позвольте представиться — гид экскурсионного бюро путешествий. Мне нравится моя работа, хотя, конечно, я стремился к науке. Но вся история укладывается в трех словах: люди рождаются, страдают и умирают. Когда я понял это, то сменил профессию. Сейчас мне приходится много ездить — новые города, новые люди, впечатления. Главное — я свободен. — Очень боюсь не найти себя в жизни, — призналась Жанна. — Англичане говорят: «Если ты не можешь делать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь». Я не согласна. Это ужасно, не найти свою, единственную точку... — Не знаю, не знаю. В жизни немало приятных точек, уверяю вас, — Рянский встал. — Не смею больше надоедать. Я провел незабываемые минуты, Жанночка. — Он поцеловал ей руку. Девушка вспыхнула. — Хочу снова увидеть вас. Можно? Жанна обрадованно улыбнулась.* * *
Магнитофонная запись допроса свидетеля вахтера Гуриной К. Н.: — ...Значит, 13 января в утро, аккурат около восьми, мы с Дмитриевой на дежурство заступили в вестибюле. Чай поставили, дома не успели попить. Попили, значит. В десятом часу Феня — это Дмитриева, напарница моя, — пошла свет гасить по зданию. У нас строго с электричеством. Тут как раз и подошел этот. Вот, говорит, подарок студентке вашей от брата из Риги. Сделайте милость, передайте, а то не нашел я ее, а у меня время в обрез. И был таков. Я фамилию записала, чтоб не забыть ненароком и — под стекло себе. Сверток в ноги поставила. Искала до конца смены эту девушку. Потом диспетчеру фамилию сказала, без толку всё — не нашли. Вечером сдала сверток сменщице. Так и передавали мы его дружка дружке. А шестнадцатого утром, как заступила я снова, надоел он мне, да и боязно, пропадет еще, я Михал Иванычу, коменданту, говорю, забери его от греха подальше в склад. А он отвечает: «Неизвестно чего там внутри». Надорвали край бумаги. Что за штуковина, спрашиваю. Комендант и объяснил: это, Никитична, патефон такой современный, без пластинок играет. Я его, говорит, ни в коем разе не возьму, потому как он может неисправный, а мне потом отвечать. Как чуял горемычный... Потом к обеду передумал, давай проверю — ежели исправный — возьму. Унес. А минут через десять — как бабахнет! Страхи какие, сохрани господи... — Клавдия Никитична, вы запомнили этого человека? Какой он из себя, сколько лет? — Обыкновенно какой. Длинный, лицо круглое. Не наш студент — это точно. Своих я наперечет знаю. Годов сколько ему — не ведаю. Сейчас не поймешь их. Вон у соседки внук, шестнадцать ему, а до головы на цыпочках не дотянешься. Кулаки, как гири двухпудовки. Одним словом, как это — аскетлерат... — Ну, а одет он как был? Пожалуйста, Клавдия Никитична, это очень важно. Раз вы своих студентов помните, значит память у вас хорошая. — Шапка меховая, такая рыжая и большая, на уши налазит. Пальто вроде с воротником каракулевым.... Все, ничего больше не упомню. Да, вот еще что, боты на нем были теплые, наследил он на полу. Я еще пристыдила, а он извинился. Вежливый...* * *
Распрощавшись со Славкой и Димкой, Колька Хрулев медленно брел домой. На душе было гадко. Не доходя до дому, сел на уличную скамейку и тяжело вздохнул. «Три дня, конечно, как-нибудь протяну, — безрадостно думал Колька, — завтра литературы нет, постараюсь не попадаться на глаза Елене. Послезавтра литература — шестой урок. А потом? Потом всё. «Хрулев, — спросит Елена, — вы что, в течение двух дней не могли увидеть никого из своих родителей? Придется вам помочь», — под хихиканье девчонок, ехидно добавит она. И тут уж, как пить дать, через Светку передаст записку». Колька зло сплюнул и закурил. «Вообще все устроено несправедливо. В школе одни обязанности. Должен учиться, да еще хорошо, не имеешь права пропускать уроки. Надо быть вежливым, не курить... А прав — никаких. Ну подумаешь, раз пять не был на математике и два раза на химии. На́ тебе! Давай родителей. А отец снова налакается и начнет куражиться». Колька глубоко затянулся, бросил окурок, встал и, шаркая, как старик, ногами, поплелся домой. Сколько Колька помнил себя — отец пил. Когда первый раз он увидел подвыпившего отца, его разобрало любопытство и он спросил: — Мам, а ма, почему папа шатается? Отец все чаще приходил домой пьяным, и Колька уже ничего не спрашивал у матери, он прятался, потому что папа становился чужим и страшным. С тех пор в Колькиной душе прочно поселился страх. Степан Кондратьевич справедливо считал, что сына надо приучать к порядку с малолетства, но воспитательные порывы его обычно проявлялись, когда он был нетрезв. — Где Колька? Почему, подлец, уроки не делает? — спохватывался он вдруг. — Играет он во дворе, — испуганно отвечала Ксения Ивановна, старавшаяся, чтобы сын в такие минуты не попадался отцу на глаза. — Да и уроки сделал. — Проверю... — Степан Кондратьевич выходил на балкон и грозно кричал: — Колька! Домой! Услышав зов отца, Колька стремглав летел домой, он хорошо знал: малейшее промедление чревато неприятностями. Но ничего не помогало. Лучшее, чего можно было ждать — это долгие, маловразумительные и грубые нотации. А чаще всего отец уже ждал его с ремнем в руках. Ксения Ивановна пыталась защищать сына, вырывала ремень, но Степан Кондратьевич резко отталкивал ее, гневно кричал: — Прочь, заступница! Ишь, избаловала мальчишку! Потом Колька лежал у себя на кровати, горько всхлипывая, и отпихивал мать, пришедшую утешать. Знакомясь с кем-нибудь из сверстников, Колька прежде всего выяснял: — Тебя наказывают дома? — и, если получал утвердительный ответ, уточнял: — Бьют? — Ему почему-то хотелось, чтобы всех наказывали и били, как его. Учился он неважно. Пропускал занятия, часто опаздывал в школу. Самое скучное для Кольки было делать уроки. Когда он садился за стол, его охватывало тяжкое уныние, особенно из-за математики, и он старался делать только что-нибудь другое, более интересное. Кольку очень тянуло к ребятам сильным и независимым. А Славку Лазарева он просто боготворил. Еще с тех пор, как Славку в пятом классе прикрепили к отстающему Хрулеву, Колька неотступно следовал за ним и охотно участвовал в его проделках. Многие учителя даже поговаривали в учительской между собой, что Хрулев — это тень Лазарева. Славка охотно давал ему списывать домашние задания — это позволяло Кольке небезуспешно балансировать на грани между середнячком и отстающим. В свою очередь, Колька платил своему «наставнику» искренней преданностью. Особенно хорошо Хрулев чувствовал себя, когда они со Славкой и Димой стали приходить к Саше. Здесь все было интересно: и разговоры на взрослые темы, и разные вещицы и, главное, Рянский обращался с ним как с равным. Как раз сегодня Саша пригласил их послушать новые записи, но радость померкла, когда Колька вспомнил, что родителей вызывают в школу. Он снял с газовой плиты кастрюлю, плеснул прямо из нее в тарелку супу и стал вяло есть, продолжая мучительно искать выход. Но перед ним все время разворачивалась одна и та же картина: Елена Павловна листает журнал и показывает отцу Колькины «достижения». «Ну зачем я убегал с математики? — моя тарелку, он вспомнил, сколько пропущено, и скривился, как от зубной боли. — Что делать? Что же делать? — Колька, не замечая, давно уже ожесточенно тер сухую тарелку. — А если, если...» Колька мигом собрался и помчался к Димке Осокину. Тот как всегда возился с транзистором. — Ты чего, к Саше? — удивился он. — Так ведь рано. Мы на семь договорились. — Не-е, Дима, я к тебе. Помоги. Ты же знаешь, Елена моих вызывает, за математику. Представляешь, чем пахнет? — Колька поднял указательный палец и выразительно цокнул. — Да я чем помогу? — вскинул голову Димка. — Журнал припрячем... Ну, на время... Тогда Елене показывать нечего будет, и сколько было пропусков уже никто не узнает, — убеждал Колька. — Да ты что? — Димка растерялся от такого предложения. — Понимаешь, я бы сам увел, но на меня же сразу подумают. Елена сходу заявит: «Это дело рук Хрулева, — подражая голосу учительницы, произнес он, — только ему выгодно исчезновение журнала». А на тебя никто не подумает, понял? Димка молчал. — Слушай, Димка. Можешь ты хоть раз в жизни сделать что-нибудь стоящее? Для товарища... Или вечно за своими транзисторами от всего сторониться будешь? Димка молчал. — Эх ты, трус! — бросил Хрулев, направляясь к двери. — Подожди... — сдавленно произнес Димка. Он вдруг обрел невесть откуда взявшуюся решимость поступить так, чтобы ребята изменили наконец нелестное мнение о нем. — Надо подумать, как это лучше сделать...* * *
Шутливо-официальный тон, каким встретил его Арслан, едва он переступил порог, не оставил у Соснина ни малейших сомнений, что за веселостью Туйчиева скрывается серьезная озабоченность. Таков уж был Арслан. Принимаясь за расследование очередного дела, он испытывал волнение, не покидавшее его до конца следствия, волнение, вызванное опасением, что вдруг не удастся разоблачить преступника. Он почти физически ощущал страдания потерпевших и потому рассматривал нераскрытое преступление как предательство тех, кто верил ему, надеялся на него. Туйчиеву уже давно не давали легких дел: должность старшего следователя обязывала ко многому. И Николай вполне его понимал и даже завидовал, будучи уверенным, что все это обостряет профессиональное чутье. Себя же Соснин порой с досадой считал просто толстокожим. — Входите, входите, товарищ капитан, — пошел навстречу другу Туйчиев. — Не стесняйтесь. — Коль вы, товарищ старший следователь, не стесняетесь тревожить по пустякам уголовный розыск, я тоже стесняться не буду и расположусь поудобней, — в тон ему ответил Николай, усаживаясь. — И когда только вы без нас научитесь работать! Не успеете дело получить, а уже требуете кого-нибудь в помощь. — Не кого-нибудь, а капитана Соснина. Ведь стоит преступнику узнать, что вы участвуете в расследовании, моментально приходит с повинной. — Ну-ну, — отмахнулся Николай, — я скромный — не надо похвал. Лучше выкладывайте ваши делишки. — О, уверяю, таких дел ты еще не расследовал. Я серьезно. — Ну и что же? — махнул рукой Соснин. — Каждое преступление по-своему специфично и даже оригинально. В этом, пожалуй, и кроется интерес к их раскручиванию. — Тогда это, — Арслан показал на тоненькую папку, лежавшую перед ним, — тебе явно придется по вкусу. Уверен, как только начну тебя с ним знакомить — не оторвешься... — он сделал небольшую паузу, — от расследования. Тем более, что вам, капитан, просто начальство не позволит этого сделать. — Ладно, ладно, давай дело. — Собственно, здесь... — Туйчиев раскрыл папку, перелистав все ее содержимое — несколько бумаг, вздохнул: — ...пока минимум информации. Если не возражаете, я лучше все расскажу. — Только с чувством, а то усну. — На работе спать не полагается. Это во-первых. А во-вторых, чтобы вы не дремали, я сразу всколыхну вас... взрывом. Итак, около часу дня, при включении принесенного в качестве подарка некой Хаматдиновой — студентке пединститута — магнитофона, последний взорвался, в результате три человека получили телесные повреждения. При осмотре никаких следов взрывчатого вещества обнаружено не было, поэтому основное внимание уделялось изъятию с места происшествия остатков магнитофона и других предметов, которые могли быть вмонтированы в него. Удалось обнаружить несколько осколков металла размером 1,5-2 мм, остатки провода сечением 1 мм и обрывок магнитной ленты. — Это все? — Не совсем. Хаматдинова в списках студентов не значится. Зато магнитофон проходит по учету как украденный в числе других вещей 17 октября прошлого года из квартиры Рустамовых. — Кем? — быстро спросил Николай. — Это-то вам и предстоит выяснить, дорогой капитан. — Понятно. Стало быть вор и покушавшийся — одно лицо? — Это тоже надо выяснить, ибо не исключено, что взрыв — дело рук того, кто приобрел магнитофон у вора. — Против кого же направлялся взрыв? — в голосе Николая звучали нетерпеливые нотки. — И это вам предстоит выяснить, капитан. Наступила пауза. — Прошу высказаться, коллега, а то вы что-то много и многозначительно молчите. — Молчу потому, что не привык распутывать преступление, неизвестно против кого направленное. Адресат ведь отсутствует. — Ну, не скажите, — возразил Туйчиев. — Немного фантазии, и мы будем иметь минимум пять адресатов, которые никогда не будут обижаться за то, что подарок до них не дошел. Прежде всего мы знаем, что подарок предназначался девушке. — Туйчиев взял из дела листок: — «Хаматдинова Люция, из Риги». Знаем, что ее нет в списках студентов. Но это еще ничего не значит. — Она могла поступать в институт и не поступить, — подхватил Николай, — а ее «благодетелю» сей факт неизвестен. Надо, стало быть, искать среди абитуриентов. — Горячо, горячо. Кстати вот тебе одна версия. Кажется, я вас раскочегарил, капитан. Вы стали говорить не очень глупые вещи. Поиск каналов, по которым могла идти утечка взрывчатки, — тоже чем не гипотеза? Ну и, наконец, магнитофон. Был же у него после кражи владелец, с которым я почему-то очень хочу поближе познакомиться...* * *
Теперь Димка был полон решимости, хотя далась она ему нелегко. Он поможет Кольке убрать на время классный журнал. Конечно, страшновато. Но Димка убеждал себя в необходимости хоть когда-нибудь выйти из постоянно ощущаемого состояния приниженности. Ему страстно хотелось бросить всем вызов, заставить удивляться и отплатить, да, да, отплатить за нанесенные ему обиды. Несколько охлаждало то, что, кроме Кольки, никто и знать не будет о Димкиной удали. Но удержится ли он сам? Нет, не сможет. Расскажет Славке, да и Жанне (вот когда она посмотрит на него другими глазами и уже не осмелится называть его «Шкилетиком») и, конечно же, Саше, который наверняка не будет теперь подшучивать над ним... По мнению Кольки, «операция по изъятию классного журнала» прошла на высоком техническом уровне. Ее осуществление они наметили на перерыв между пятым и шестым уроками. Пятым была химия, в конце его все обычно шумно окружали Веру Николаевну и на журнал внимания никто не обращал. Этим и решили воспользоваться. Хрулев на всякий случай встал у двери, обеспечивая себе сектор обзора, готовый при необходимости подать Димке сигнал тревоги. Димка, расстегнув свой портфель, не спеша подошел к столу, потолкался среди ребят и быстро сунул в раскрытый портфель журнал. Потом медленно подошел к двери, и тут они вместе с Колькой стремглав вылетели в коридор. Димка застегнул портфель. Все произошло мгновенно, и первым их желанием было тотчас убраться из школы, но Димка правильно рассудил, что отсутствие и их, и журнала на шестом уроке может быть истолковано не в их пользу. Они вернулись в класс и чинно уселись на свои места. Хотя исчезновение журнала на шестом уроке и не вызвало особой тревоги (кто-то высказал предположение, что его взяла завуч для подведения итогов — четверть подходила к концу), Димка сидел, как на иголках. Едва учитель начинал двигаться по классу, как Димка съеживался, ему казалось — вот сейчас подойдет и скажет: «Осокин, откройте свой портфель». Колька сидел безмерно счастливый — теперь журнал у них, и он сумел пока отвести от себя опасность наказания. А там будь что будет... Временами он заговорщически подмигивал Осокину: «Молодчина, Димка!» После уроков они вышли из школы по обыкновению втроем. Димка уже успокоился. Он шел с высоко поднятой головой, нижняя губа надменно выпячена, лицо сияло гордостью. Славка поразился: — Ты чего напыжился, как индюк? Осокин в ответ лишь загадочно улыбнулся. — Давай покажем? — Колька дотронулся до Димкиного портфеля. Ребята остановились. Димка с готовностью открыл портфель и торжествующе показал Славке содержимое. — Журнал?! — изумился Славка. — Ага! — ухмыльнулся Колька. — Кто же это его?.. — Я, — скромно признался Димка, чем поверг Славку в еще большее удивление. — Он, он, — подтвердил Колька, отдавая дань восхищения Димке. — Димка? — недоверчиво переспросил Славка. — А зачем? — Кольке надо пропуски прикрыть, — сверкнув улыбкой, пояснил Димка. — Здорово! — оживился Славка. — Теперь Елене наверняка нагоняй будет. Ну, ты, Димка, даешь! — одобряюще похлопал он приятеля по плечу. — Это что, — пренебрежительно отозвался Димка. Сейчас он чувствовал себя героем. — Мелочи жизни. Не такой уж Осокин ущербный, как некоторые думают, — почти с вызовом произнес он. Славка вскинул на него глаза: таким видеть Димку ему не приходилось, он решил остудить его пыл: — Не задавайся, не задавайся. Можно подумать — подвиг Геракла совершил. Тогда не забывай, Шкилет, тебе еще одиннадцать осталось, — насмешливо бросил он. Димка просто задохнулся от обиды и выпалил: — Можно и одиннадцать, можно... Да я... я... и не то могу... — оборвав на полуслове, он внезапно быстро зашагал вперед...* * *
— Располагайтесь. Я не при галстуке, извините. Рад видеть у себя молодых людей, даже если они следователи. Он усадил гостей, сел в кресло, поджал ноги и совсем утонул в нем — маленький седой человечек в ярком халате. Видны были лишь громадные хорошо вылепленные уши да поразительно длинные пальцы, искусству которых когда-то рукоплескал мир. — Меня уже давно посещают только ровесники. Между тем, трагедия старости не в близости смерти, а в потере связи с молодым поколением... Так чем могу? Простите, кажется, задавать вопросы — прерогатива вашего ведомства? — Мы к вам с просьбой, Илья Евгеньевич, — Туйчиев вынул из портфеля портативный магнитофон, осторожно поставил его на угол заваленного нотами столика. — Послушайте, пожалуйста. — Все? — удивился старый профессор, когда после нескольких музыкальных тактов магнитофон вдруг умолк. — Увы, — вздохнул Соснин. — Повторить? — Сделайте милость. — Илья Евгеньевич наклонил голову набок, снова прослушал запись. Потом еще два раза. — Стоп! Хватит. — Он забарабанил пальцами по креслу. — Итак, что это по-вашему? Ах, пардон, — спохватился хозяин. — Опять я начинаю задавать вопросы. Профессиональная болезнь педагога. Сегодня ведь я сдаю экзамен, не так ли? Туйчиев кивнул. — Извольте. Это вторая часть симфонии № 45 фа-диез-минор Гайдна. — Блестяще! — восхитился Соснин. — Если бы еще... Как насчет исполнителей? — Это сложнее, — старый профессор задумался. — Пожалуй, несколько самонадеянно, ибо в записи есть дефект, но, по всей вероятности, Большой симфонический оркестр Берлинского радио. Симфония записана на пластинку, у нас ее продавали. Да, могущественная и безбрежная музыка! Вот чем следует наслаждаться, вот что надо впитывать в себя. Ее называют «Прощальной симфонией». А исполняют при свечах. В последней части симфонии музыканты один за другим гасят свечи на пюпитре и тихо удаляются; заканчивает симфонию дуэт скрипок. — Вот это профессионализм! — снова поразился Соснин. — Нам бы так, а? — Давайте погадаем вместе, Илья Евгеньевич, — сказал Туйчиев. — Что можно сказать о человеке, которому нравится это произведение? — Только одно: это человек высокой музыкальной культуры. — Интеллигент? — Упаси бог, — возразил профессор. — Здесь можно впасть в ошибку. Знаете, кто любимый композитор у вахтера нашей консерватории? Глюк! Кстати, мой тоже, — тихо добавил он. — Сейчас будем пить кофе. Мне привезли из Бразилии. — Спасибо большое, вы нам очень помогли. Мы резервируем за собой право прийти к вам в следующий раз. Просто так. Без дела. На кофе. Извините, сейчас никак не можем. Садясь в машину, Арслан, усмехнувшись, спросил: — Как ты считаешь, мы с тобой обладаем высокой музыкальной культурой? — А что? Если не тот уровень, освободят от этого дела? — Не думаю, — рассмеялся Арслан. — Придется, видимо, повышать. — Вот, вот, — заворчал Соснин, — еще музыкантом я не был. Кажется, все уже искать приходилось: и преступников, и свидетелей, и ножи, и топоры, а теперь вот симфониями заниматься буду. Фа-диез-минор. — Он откинулся на спинку сидения и отвернулся. — Искать придется не симфонию, а пластинку, — уточнил Туйчиев. — Ну да, ясно, дефект, — буркнул Николай. — А сколько у нас в городе вообще пластинок имеется, об этом ты подумал? — Думаю, много. Но ты же любишь масштаб. — Это точно, — рассмеялся Соснин. — Ловишь на слабостях? — Если честно, то без тебя мне пришлось бы туго... — Ладно уж, — смущенный признанием друга, перебил его Николай.* * *
Димка чувствовал необходимость сказать что-то очень важное, всего несколько слов — их надо только найти — и все будет хорошо: но насмешливые взгляды, которые Жанна время от времени бросала на него, лишали Димку остатков уверенности. С каждым шагом он все больше боялся начать разговор и, как все робкие люди, пытался уверить себя, что он это непременно сделает потом, позже или еще лучше — завтра. Когда час назад они случайно встретились в сквере и Жанна приветливо поздоровалась и предложила побродить, он подумал, что ослышался, настолько неожиданно прозвучало для него приглашение. Сердце учащенно застучало где-то у горла: сколько раз он видел себя рядом с Жанной, хотя понимал, что воображение заводит его слишком далеко. Разве может он понравиться ей? Высокий, худой и нескладный, с редкими рыжеватыми волосами, в очках, толстые стекла которых делали его взгляд каким-то приниженным. А уши? Недаром когда-то его звали «Лопух». Вообще, если объявить конкурс на количество прозвищ, то первое место ему обеспечено. Его рыжие кудри воодушевляли дворовых ребят на сочинение двустиший. Когда, еще в шестом классе, он увлекся монтированием транзисторных приемников, то сразу стал «Локатором». В седьмом классе он вынужден был надеть очки и превратился в «Очкарика». Потом последовательно становился «Антенной», просто «Длинным», «Дохлым», «Дохликом» (так называли его девочки) и, наконец, «Шкилетом». Это последнее прозвище так прикипело к нему, что он и не заметил, как стал отзываться на него. Постепенно Димка научился жить воображением: здесь был простор необъятный, никто не мешал ловкому, смелому Дмитрию Осокину совершать самые невероятные подвиги. Как-то еще в третьем классе Димка рассказывал Толику Кириллову о немецкой овчарке Дике. Вместе с Диком Димка творил чудеса: спасал девушку от бандитов, находил по следу воров, обокравших соседей. Толик слушал эти басни с открытым ртом и восторгался. Но вскоре Толик поделился услышанным с Димкиным соседом — Колей Хрулевым, и Димка сразу стал «Мюнхгаузеном». Новое прозвище настолько его уязвило, что он пожаловался маме. — За что же они тебя так прозвали? — возмутилась Варвара Степановна, не чаявшая души в сыне. — Не знаю, — соврал Димка. Видя, что мать собирается в школу, он пытался ее остановить, чувствовал — ребята правы, но Варвара Степановна рвалась в бой за своего Димочку. Так возник первый конфликт с классом. И хотя со временем забылось все, Димка держался теперь в стороне от ребят. Он мечтал скорее вырасти, не понимая еще толком, что это изменит, но верил: вот тогда-то он заявит о себе и относиться к нему будут совсем иначе. Он был счастлив, когда увлекся радиоделом и достиг первых успехов — вмонтированный в словарь английского языка транзистор действительно заставил ребят по-новому взглянуть на Шкилета. И когда Славка Лазарев, кумир класса, вынул из кармана портсигар и спросил, не сможет ли он вмонтировать в него транзистор, Димка с радостью согласился попробовать, рассчитывая в будущем на Славкино покровительство. Он начал курить, ведь сигареты — непременный атрибут мужчины. Состоялся серьезный разговор, вернее длинный монолог Осокина-старшего, Димка слушал молча. Николай Петрович никогда не наказывал его, но хуже любого наказания были для Димки частые нравоучения отца. Осокин никогда не спрашивал мнения сына и не считался с ним. Но, несмотря на безупречную логичность доводов, Николай Петрович, как правило, не достигал желаемой цели, ибо совершенно не понимал, да и не хотел понимать, что на душе у сына. Он просто изрекал истины в последней инстанции. Это ожесточало Димку. Положение усугубляла Варвара Степановна, принимавшая обычно сторону отпрыска. И теперь, когда он стал курить, она тайком от мужа давала Димке деньги на хорошие сигареты: а то будет курить всякую дешевую дрянь — вконец испортит здоровье... После демонстрации отметить праздник собрались у Рянского. Димка не мог объяснить себе, почему именно в этот праздничный вечер он вдруг увидел Жанну совсем по-иному. Ту самую Жанну, с которой проучился в одном классе восемь лет и которую никогда не выделял. Димка даже испугался внезапно нахлынувшего чувства. Рянский весь вечер не отходил от Жанны, нашептывал ей видимо что-то очень смешное, отчего Жанна громко смеялась. Потом Рянский произнес тост за прекрасную половину человечества, в присутствии представительницы которой отдельные юноши учащенно дышат, и при этом многозначительно посмотрел на Осокина. Димка побледнел и уже весь вечер старался даже не глядеть в сторону девушки. Жанна ничего не замечала: она открыто восхищалась Сашей. Димка поймал себя на том, что в нем растет неприязнь к этому красивому парню, который ему ничего плохого не сделал. Он чувствовал себя неуютно в компании, где все чем-то выделялись: Славик — умом, Рянский — умением взять от жизни как можно больше. Даже Колька Хрулев со своей бесшабашностью и полным отсутствием идеалов был выше его... Когда они подошли к дому Брискиных, Димка неожиданно для себя, срываясь на фальцет, сказал: — Жан... это... Знаешь что? Давай дружить? Он побоялся посмотреть на нее, зачем-то снял очки и стал их протирать, близоруко щуря глаза. «Как я, наверное, нелепо выгляжу», — с ужасом думал Димка. Жанна улыбнулась. — «Что дружба? Легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделья иль покровительства позор». Что произошло дальше, он плохо помнил. Кажется она засмеялась! Правда, очень тихо, но от этого смеха Димка стал меньше ростом. — Шкилетик, милый, да ты в своем уме? Ты всерьез веришь в возможность дружбы между парнем и девушкой? Это было невыносимо — он продолжал оставаться для нее «Шкилетом». Обида захлестнула его. — Ты думаешь, что нужна этому Саше? — выкрикнул он. — Ему приданое твое нужно! Ну, ничего, вы еще узнаете меня! Жанна перестала смеяться, повернулась к Димке спиной и, выразительно покрутив указательным пальцем у виска, вошла в дом.* * *
В этот вечер его сразил страшный недуг — одиночество. Оно было во всем: в редких прохожих, которые спешили домой, в пустынной и бесконечной улице, по которой он долго и бесцельно бродил, в только что состоявшемся телефонном разговоре. «Нам некуда больше спешить, нам некого больше любить», — горько усмехнулся Алексей и поежился. Год выдался нелегкий — частые загородные рейсы изматывали. Отдыхать он не успевал; оставив машину на автобазе и наскоро умывшись, мчался домой: надо было писать курсовые и контрольные работы, садиться за учебники. Уже поздно ночью валился на тахту. Утром нахальный будильник поднимал его с постели, начинался новый день, как две капли воды похожий на вчерашний. В воскресенье Алексей занимался дома целый день и уставал еще больше, чем в рабочие дни. Все это стерло грани между днем и ночью, не давало возможности отвлечься от дела, отдохнуть и почувствовать ту сладкую усталость, которая знакома хорошо поработавшим людям. В этих трудных буднях было лишь одно преимущество: он почти не думал о Люсе. Они познакомились два года назад. Студенты пединститута собирали хлопок на полях нового целинного совхоза. Сюда же из города приехали несколько водителей, которые сели за штурвалы уборочных комбайнов. Вечером у здания школы Алексей увидел Люсю и вдруг сразу понял, что сама судьба привела его сюда, за двести пятьдесят километров от города. Люсе та поспешность, с которой он подошел к ней и затеял разговор, показалась сперва бесцеремонностью. Но позже ее заинтересовал этот невысокий паренек с крупными чертами лица, большими рабочими руками и мягким своеобразным характером. — Как вы совмещаете работу водителя с учебой, да еще на физмате? — спросила она как-то у Алексея. — А я, Люция, сплю пять часов в сутки, — улыбнулся он в ответ. — Называйте меня лучше Люсей. Кстати, Леша, вы почему выбрали математический? — Кажется, Кант сказал, что в каждом знании столько истины, сколько математики. А я неравнодушен к истине. — Ну и напрасно, — лукаво блеснула глазами Люся. — Путь к истине лежит не через математику. Он гораздо проще: надо лишь исчерпать все заблуждения и тогда можете до нее дотронуться. — Но при такой стратегии может не хватить жизни, — возразил Алексей. — В одном институте, оказывается, учимся, а я вас никогда не видел. — Так вы же заочник. Вечерами он уходил в сырой туман, весело хлюпал сапогами по лужам и смеялся, когда капля дождя ненароком попадала ему за ворот. Он огибал хлопковое поле и шел к молодому саду. Сад спал, накинув на себя покрывало тумана, и только иногда листья перешептывались, тихо советуясь между собой, чтобы не нарушить царящий вокруг покой. Люся приходила обычно раньше его, она медленно шла ему навстречу. Он ругал себя за это, но ничего не мог поделать: страда была в разгаре, хотя сбора в дождь не было, водители участвовали в перевозках урожая. И он опаздывал опять. Позже, когда они вернулись в город, встречи стали реже, но с каждым новым свиданием Алексей чувствовал, как эта девушка все более прочно входит в его жизнь, заполняет ее. И вдруг все оборвалось. Люся явно стала избегать его, потом просто сказала, что не хочет встречаться. Он не видел ее уже несколько месяцев. И вот сегодня, бродя бесцельно по улицам, неожиданно оказался у ее дома. Света в окнах не было. «Ну и что? Это еще не значит, что ее нет дома. Может, зайти? Нет, лучше позвоню». Алексей зашел в телефонную будку, набрал номер и услышал родной до боли голос. Он не сразу ответил. — Алло, — тихо повторила Люся, и ему почудилось — она догадывается, кто ей звонит. — Звонит мужчина женщине. Хочет пригласить ее на фильм «Мужчина и женщина». Принято? Здравствуй, Люся. — Здравствуй, Леша. Как дела? Сессию сдал? — Ну так как быть с билетами, которые я держу? — не отвечая на вопрос, спросил он. — Спасибо. Я не могу. Вот он, этот холодок, который уже почти год исходит от нее. Вежливый, но безразличный голос Люси подействовал на него удручающе. — Значит отменяется, — не то вопросительно, не то утвердительно произнес он. — Ладно. До свидания. Алексей еще долго держал трубку, потом осторожно повесил ее.* * *
— Какая-то поразительная способность находить слабости в позиции противника. — Арслан положил своего короля и встал. — Если бы ты так же хорошо работал, как играешь в шахматы, мы бы давно финишировали. Николай довольно хмыкнул, аккуратно сложил фигуры и захлопнул доску. — А знаешь ли ты, в чем слабость твоей позиции? — Николай уселся поудобнее, не дожидаясь ответа Арслана, стал перечислять: — Во-первых, Хаматдинова не значится ни в числе абитуриентов этого года, ни среди обучающихся. Стало быть, пока неизвестно, кому адресована посылка. Во-вторых, нигде не зарегистрировано исчезновение взрывчатки и потому неизвестно, кто мог воспользоваться ею. В-третьих... — В-третьих, — перебил его Арслан, — вполне достаточно во-первых и во-вторых. — Пожалуй, — безрадостно улыбнулся Соснин. — Понимаешь, Коля, мучает меня одна мысль. Ты помнишь вахтера консерватории, о котором рассказывал Илья Евгеньевич? Интересно, он грамотно пишет или делает ошибки? — Не вижу связи... Постой! Ты хочешь сказать, что вахтер Гурина неправильно записала фамилию. — Именно. — И тогда мы, мягко говоря, едем «не в ту степь». Ее образовательный ценз, судя по протоколу допроса, три класса церковноприходской школы... Хаматдинова... Хайнутдинова... Хуснитдинова... — медленно чеканил Соснин. — Да, ты, брат, кажется, прав, здесь есть поле для деятельности. — Только после обеда. Я зол от голода, а злые не могут быть объективными. Они пошли в кафе, сели за столик. Соснин взял меню, покачал головой. — Фамилия шеф-повара сейчас отобьет у тебя аппетит, — прочел по слогам: — Ха-рат-ди-нов. — Ты дашь спокойно поесть? — нахмурился Туйчиев. — Конечно, дам, — пообещал Николай и пододвинул к себе тарелку с борщом. — Но спокойно ты сможешь есть только тогда, когда мы отгадаем фамилию. Как ты смотришь на Хасандинову? Туйчиев чуть не поперхнулся и угрожающе поднял ложку. Когда они доедали бифштекс, Николай вспомнил, что фамилия их управдома Хайрутдинов. — Хаймардинова, Хакиметдинова... — неожиданно вступил в игру Арслан. — Теперь я вижу, что ты сыт, — обрадовался Николай. Почти весь следующий день ушел на поиски студенток, фамилии которых были хоть в какой-то степени созвучны с Хаматдиновой. Таких в институте оказалось двадцать семь, правда, имя было другое. Девять старшекурсниц накануне приехали с практики и пятерых из них удалось найти в общежитии. Расспросы, проверки, снова беседы со студентками... Туйчиеву порой казалось, что он стоит у бесконечного, быстро движущегося мимо него конвейера, на котором сидят девушки, самые разные девушки. Важно было совместить выполнение двух совершенно несовместимых задач: не пойти по ложному следу и не потерять драгоценное время... — Послушай, Коля, — обратился Арслан к вошедшему на следующее утро в кабинет Соснину. — Давай продолжим нашу вчерашнюю игру, а? — Мне нечем больше играть, кончились козыри, — развел руками Николай. — Мы вроде все возможные фамилии на «X» перебрали, — Соснин тяжело опустился на стул. — Умница. Правильно. Перебрали. — Арслан покрутил в руке коробок, вынул три спички и... выложил на столе букву «К». — Кроме созвучных фамилий, есть еще созвучные буквы, с которых эти фамилии начинаются. Для наших фамилий такой начальной и созвучной буквой будет «К». Давай прокрутим этот вариант. — Лады. — Соснин сразу оценил идею друга, потер ладони, встал. — Пойду начинать второй раунд. Часа через два он тихо вошел в кабинет, молча сел на краешек стула, лениво протянул Туйчиеву папку. — Кажется, приехали, — потирая воспаленные от бессонницы веки, вяло сказал Николай. — «Калетдинова Люция, студентка четвертого курса», — вслух прочел Арслан и углубился в личное дело. Спустя некоторое время он поднял голову. — А почему, собственно, ты остановился на ней? Из-за имени? — Не только. Вспомнил: «подарок» ко дню рождения принесли 13 января, и в автобиографии тоже 13 января. Но главное в другом. Я провел психологический опыт с вахтершей, продиктовал ей фамилию по слогам. Это победа, Арслан Курбанович. — Он вынул из кармана листок бумаги, на котором были нацарапаны неумелой рукой кривые, расползавшиеся в разные стороны буквы: «Хаметдинова», «Хамадинова». — Думаю, если ей еще десять раз продиктовать фамилию, то в каждом случае она будет писать по-разному. — Значит, мы на верном пути?* * *
Славка Лазарев, любимец класса и признанный его вожак, доставлял немало беспокойства учителям своими выходками. Отличник, спортсмен, остроумный, начитанный, Славка выделялся среди сверстников. Учился Славка легко. Читать и писать он научился в шесть лет и в первом классе был на голову выше многих учеников. Поэтому на многих уроках он просто скучал. Поскольку Славка учился хорошо, он никогда не внушал беспокойства учителям. На него всё меньше и меньше обращали внимания, основной упор делался на отстающих. И Славкина энергия искала выхода в проказах. Поначалу этому не придавали серьезного значения: как-никак лучший ученик. Да к тому же в шалостях его был юмор, который вызывал улыбки у многих учителей. Отец Славки, научный сотрудник, имел свою стройную систему воспитания. Прежде всего он был категорически против наказания. — Видишь ли, Маша, — говорил он жене, расхаживая по комнате, — любое наказание — это расправа. Да, расправа, — видя протестующий жест жены, категорично повторял он. — Разве, наказывая ребенка, мы думаем о его исправлении? Отнюдь. Мы просто даем выход своему раздражению. Мать Славки тоже была против наказания, но, по ее мнению, мальчик должен чувствовать отцовскую руку. Правда, она ясно не представляла себе, в каких формах это должно проявляться, но ведь должен же быть мужчина в доме? Однако Михаил Александрович был непреклонен: больше самостоятельности, поменьше мелочной опеки. — Пойми, — не раз говорил он жене, — самое страшное это переломить характер Славика. Сделать это чрезвычайно просто и легко. Представь себе: мы заставляем его делать то, чего он не хочет. Он выполнит наши требования, но кем он вырастет? Безвольным, бесхребетным. Хорошо ли это? Жена соглашалась — нехорошо. Да и Славик не давал повода подавлять его желания, ограничивать его самостоятельность. С некоторым оттенком гордости мать любила говорить, что не бывает в школе. Славка рос предоставленным самому себе. Еженедельно отец или мать с удовлетворением (ведь одни пятерки) расписывались в его дневнике, заменяя столь необходимые мальчишке задушевные беседы просмотром, как говорил Михаил Александрович, его «школьных документов и показателей». Между тем отношения Славки с классным руководителем Еленой Павловной постепенно обострялись. — Я категорически запрещаю писать сочинения шариковыми ручками. Буду ставить двойки, — заявила Елена Павловна в начале учебного года. — Почему? — послышались голоса. — Потому что нельзя, — отрезала Елена Павловна. — Но... — попробовал объяснить Славка. — Без всяких «но», Лазарев, — оборвала его Елена Павловна. — Последнее время вы всё встречаете в штыки. Извольте подчиняться. На следующий день Елена Павловна обнаружила на своем столе вырезку из газеты, где было помещено разъяснение, что ученикам всех классов разрешается писать шариковыми ручками. — Кто положил газету? — показывая на вырезку, спросила она. — И что этим хотели сказать? — Я, Елена Павловна, — Славка встал из-за парты. — А сказать хотел то, что вы мне не дали сказать вчера. — Прекрасно, Лазарев. Мы еще вернемся к этому в другой обстановке, — ледяным тоном произнесла Елена Павловна. Это был явный намек, что Славке придется держать ответ за свой поступок перед дирекцией. Но когда Елена Павловна рассказала об инциденте завучу, требуя наказания Славки, Нина Васильевна ее не поддержала. — В самом деле, Елена Павловна, а почему нельзя шариковыми ручками? — мягко спросила она. — Потому, что паста растекается и мне трудно читать их работы. — Но надо было так и объяснить ребятам. — А разве недостаточно того, что я сказала. По-вашему, учитель каждый свой поступок должен объяснять ученикам? Может быть, прикажете еще резолюцию их получать? — Елена Павловна не скрывала иронии. — Нет, я так не думаю. Однако не могу понять вашего пренебрежения к мнению учеников, кстати, уже далеко не детей. Не кажется ли вам, Елена Павловна, что вы... — Нина Васильевна сделала паузу, подбирая слова, — будучи знающим литератором, несколько прямолинейны в отношениях с учениками, ко всем подходите с одной меркой, требуете беспрекословного подчинения и послушания, не считаясь с их желаниями и интересами? Ведь как будто ваш предмет особенно располагает к душевности, к тонкости... — Кажется, я не первый год в школе, — обиженно поджала губы Елена Павловна. — Верно, — вздохнула Нина Васильевна, — но все же я буду просить вас подходить внимательнее к каждому ученику. Отношения Славки с Еленой Павловной окончательно испортились после того, как она поставила ему единицу за сочинение по «Преступлению и наказанию». Нет, в сочинении не было ошибок, с точки зрения грамотности и стиля оно, как и предыдущие работы Славки, было безупречным. Но Лазарев посмел, она так и сказала потом при разборе в классе, не согласиться с официальной, это слово Елена Павловна произнесла с особым ударением, точкой зрения. Славка же продолжал стоять на своем. — Я имею полное право высказывать свой взгляд на творчество любого писателя, — категорически заявил он. Нина Васильевна снова настойчиво пыталась убедить учительницу, что она не совсем права. — Разве у нас, у взрослых, не почитается как достоинство способность отстаивать свои убеждения, не менять их по первому требованию? — говорила она Елене Павловне. — Это обычное мальчишеское упрямство. — Ну почему же упрямство? Потому что его точка зрения не совпадает с вашей или моей? — С общепринятой... — Помилуйте, Елена Павловна, о Достоевском и виднейшие ученые до сих пор спорят. — Пусть себе спорят. Есть стабильный учебник, методические разработки наконец... — Хорошо, — не выдержала и перебила ее Нина Васильевна, — тогда давайте искать способ изменить его взгляд, а не обрушиваться на Лазарева только потому, что он посмел «свое суждение иметь». Елена Павловна оставалась непреклонной и по-прежнему видела в Славкином поступке лишь злой умысел.* * *
В институте Калетдиновой не оказалось: начались зимние каникулы. Хозяйка сообщила, что квартирантка взяла чемодан и уехала, кажется, к родителям в райцентр, километрах в тридцати от города. В личном деле оказался и адрес родителей. Наутро друзья уже подъезжали к старому дому. Их встретил пожилой мужчина. Вошли во двор, по которому металось в поисках пищи множество кур. Громадный волкодав рвался с цепи, отчаянно лая на незнакомцев. — Зуфар Анварович, нам нужно поговорить с вашей дочерью, — после того как они представились, сказал Туйчиев. — А ее нет дома. — Где же она? — громко спросил Соснин, стараясь перекричать пса. — Не знаю. Вообще-то обещалась на каникулы приехать. Да, видно, задержалась. Случилось что? — забеспокоился хозяин. — Может быть, жена знает? — не отвечая на вопрос, спросил Туйчиев. — Халида в прошлом году умерла, — тихо ответил Зуфар Анварович. — Извините. Мы не знали... Вашей дочери в городе нет. Где, по-вашему, она может сейчас находиться? — Ой, не иначе произошло с ней что? — снова заволновался хозяин. — Пока оснований для беспокойства нет. Просто она нам очень нужна. Так куда она могла поехать? — Ума не приложу, — Калетдинов потер подбородок, — может, к племяннику в Ригу. Это сестры моей сын, — пояснил он. — Летом собиралась, да не вышло, может, сейчас туда поехала? Вот и адрес у меня. Они переписывались. Вообще она у меня самостоятельная. С родителями не считается. После смерти матери совсем отбилась от рук, — пожаловался он. — Больше вроде некуда ей ехать. Хотя, кто ее знает?.. — задумчиво произнес Калетдинов. К обеду Туйчиев и Соснин вернулись в город. Полученные от отца Калетдиновой сведения не только не внесли ясность в вопрос о том, где она находится, но и заставили по-новому взглянуть на зловещий подарок. Он ведь передавался от брата из Риги. Что это? Случайное совпадение или подлинное положение вещей? Возможно, передававший магнитофон сказал Гуриной первое, что пришло ему в голову. Но, с другой стороны, так тщательно продумав все детали, преступник вряд ли действовал необдуманно. Значит, он знал о наличии у Калетдиновой двоюродного брата в Риге. Кто же он, знающий такие подробности ее биографии? А может быть, это действительно дело рук брата? И хотя пока неясно, зачем это ему понадобилось, исключить полностью такое предположение оснований не имелось. Да и отец говорил о нем явно не очень дружелюбно, будто чего-то не договаривал. Сомнения, сомнения и еще раз сомнения... Разрешить их в известной мере могла поездка в Ригу. И на следующий день Туйчиев вылетел туда.ГЛАВА ВТОРАЯ
Дверь кабинета завуча приоткрылась и в нее просунулась вихрастая голова Славки. — Нина Васильевна, вы меня вызывали? Не поднимая головы от классного журнала, завуч кивнула. — Заходите, Лазарев. Садитесь, — строго произнесла она. Славка уселся на краешек стула, дальний от стола, и выжидающе посмотрел на Нину Васильевну. Завуч отодвинула от себя журналы, сняла очки, и тут Славка впервые обратил внимание, какие у Нины Васильевны добрые глаза. Ему вдруг стало как-то не по себе, охватило чувство неловкости: сколько беспокойства причиняет он этой седоватой некрасивой женщине, которая к нему всегда хорошо относилась и которую он уважал за ум и знания. — Расскажите, Лазарев, что за инцидент произошел у вас на уроке литературы? — Нина Васильевна, очень прошу, не надо меня на «вы» называть. — Хорошо, Слава. Слушаю тебя. — Честное слово, я ни в чем не виноват. — Славка заговорил быстро, а выражение его лица было таким, что тот, кто не знал его, поверил бы сразу. Но Нина Васильевна слушала его, подперев рукой подбородок, и весь ее вид ясно свидетельствовал — ей хорошо известно, что последует за Славкиным «честным словом». — Понимаете, это все проклятый генетический код, доставшийся мне от предков, — он показал рукой на грудь, призывая посмотреть и убедиться: именно там и заключен этот код. — Я бессилен что-либо изменить. На литературе я выполнял лишь заложенную во мне программу, — сокрушенно развел он руками. — Ох, Слава, Слава... — укоризненно покачала она головой. — Нет, Нина Васильевна, правда. Я даже пытаюсь расшифровать его, надо же управлять собой, но пока безуспешно, — закончил он и подчеркнуто виновато опустил голову. Славка нравился Нине Васильевне. Новое ЧП с Лазаревым ее искренне расстроило: Елена Павловна пожаловалась, что Лазарев в присутствии всего класса нагрубил ей, и требовала принять, наконец, самые строгие меры. — Понимаете, Нина Васильевна, просто я поблагодарил Елену Павловну, — снова начал Славка. — В общем, я встал и сказал: «Елена Павловна, большое вам спасибо за замечательную нотацию, которую вы нам сейчас прочитали. Теперь нам хочется жить и учиться еще лучше!» Нина Васильевна внимательно и строго посмотрела на юношу и тихо спросила: — Тебе не стыдно паясничать, Слава? Интеллект — это ведь прежде всего такт, чувство меры, скромность, наконец. И от того, что она не распекала его, не кричала, не грозила, а просто, по-матерински, обратилась к нему, Славке снова стало не по себе. Он смущенно опустил голову. — Я извинюсь, Нина Васильевна... в присутствии всего класса... — он поднял глаза и Нина Васильевна увидела в них искреннее раскаяние.* * *
Остроносый парень с бледным строгим лицом вопросительно смотрел на стоявшего в двери Туйчиева. — Вы случайно не ошиблись дверью? — насмешливо спросил он. — Да вроде нет. Ведь ваша фамилия Галеев? — Арслан протянул удостоверение. — У меня к вам несколько вопросов, Рашид. — Проходите, пожалуйста, — пожал плечами Галеев. Да, он ждет Люцию, она написала, что приедет на каникулы, после того как он пригласил ее в Ригу. Рашид долго, но безуспешно бродил по комнате в поисках письма Калетдиновой. Познакомились только в прошлом году, когда он две недели гостил у родственников. Подружились. Знает ли он дату ее рождения? Конечно, 13 января. Нет, в этом году не ездил к ней. (Впрочем, этот вопрос Туйчиев задал для формы: сборщик завода ВЭФ Галеев 13 января находился на работе, такую справку дали ему в отделе кадров). Никто из знакомых не ездил в город, где живет Люция, и никакогоподарка для нее он никому не передавал. Впрочем, подарок ко дню ее рождения он подготовил и вручит его Люции, как только она приедет. Рашид вынул из письменного стола оригинальный кулон с янтарем неправильной формы. Есть ли у него магнитофон? Разумеется. Вот он. Записи разные, в основном, хоровое пение. Гайдн? Нет, этот композитор вне сферы его интересов. В день их знакомства никакого мужчины с Люцией не было.* * *
Рянский жил с бабушкой неподалеку от центра города. Родители его умерли. Высокая, не по-стариковски стройная Елизавета Георгиевна, которой минуло уже восемьдесят шесть, никогда не болела и лишь в последнее время стала сдавать. В семнадцать лет Лиза Каневская, дочь полковника, вышла в Петербурге замуж за немолодого тайного советника Рянского. Летом одиннадцатого муж умер и она осталась с маленьким сыном Сергеем. После революции особняк на Фурштадтской пришлось оставить. Из окна флигелька, где они теперь ютились, виднелись серые громады домов Петрограда, еле угадывавшиеся, занесенные сугробами трамвайные пути и проторенная тропа — на барахолку. С каждым днем все дальше уходило прошлое. Дрова в буржуйке почернели от сырости — не горят. Окуталась едкой гарью уходящая в окошко коленчатая труба. В комнате холодно. Женщина с искаженным гримасой лицом варит воблу. Сергей сидит на корточках перед печкой, щурится на огонь, зябко молчит и слушает простуженный, но еще богатый модуляциями голос: — Ах, разве я так жила. Ты помнишь, Серж! У нас были серые в яблоках лошади, ложа бенуара в Мариинском, дача в Крыму. У меня были меха, изумительные фамильные драгоценности — вот вся шкатулка была полна. А теперь — видишь, серьги, вот все, что мне осталось. Это я спрятала и храню, не говори никому. Ах, мальчик мой, как жестока и бесчеловечна жизнь! Театральным жестом, словно ароматный кусочек батиста, она подносит к глазам пропахшее посудой полотенце. Сергей молча вскидывает на мать темные глаза. Шипят и плюются дрова. Воняет вобла. — Тебе нравится слушать маму? Я верю, верю — бог снова пошлет нам счастье и достаток. И у моего мальчика будет все, что он захочет, шоколадные раковинки, меренги. Мы каждый день будем ходить с тобой в синема. Ты достоин совсем другого детства... Он рос угрюмым, молчаливым, глубоко уязвленным контрастом между недавним прошлым и трудными послереволюционными годами. Часто менял работу: был истопником, табельщиком в порту, экспедитором. Переехал сначала в Белоруссию, потом на Кавказ и наконец осел в Средней Азии, где женился перед самой войной. Елизавета Георгиевна приехала к нему погостить, да так и осталась... Саша был поздним и единственным ребенком. К моменту его рождения Сергей Васильевич запил. Он почти не интересовался сыном. Зоя Алексеевна — робкая, застенчивая женщина — преображалась, когда муж приходил пьяным, становилась резкой и злой. Свекровь оправдывала Сергея: «Жизнь у него не сложилась, Зоинька. Он ведь дворянин». «Плевать я хотела на его дворянство! У Саши рахит, ему усиленное питание нужно, а он все пропивает!» В пять лет Саша понимал многое из того, что происходит в доме. В восемь его уже начали тяготить назойливо-ласковая мать и редкие встречи с отцом — неприятным и чужим. Отец продолжал пить, и все, что «добывал» на экспедиторской службе, шло неведомо куда. Под гневным хмельком он часто колотил себя в грудь и визгливо кричал жене: — Я, сударыня, задыхаюсь от вашей жизни! У меня душа с запросами. Мать ежедневно жаловалась Саше, что она «страдалица», а «твой отец мерзавец, он хочет нас бросить». И каждый раз в такие минуты мальчик вырывался из материнских объятий и убегал на улицу. Однако и ребят сторонился. Елизавета Георгиевна стала единственным человеком, к которому его тянуло. Своими рассказами о прошлом, о той, другой жизни — «жизни-мечте», она целиком завладела внутренним миром ребенка. Как-то отец услышал один из ее рассказов. В тот день он был трезв, но закричал на Елизавету Георгиевну, как в пьяном угаре: — Прекратите, маман! Я запрещаю! Хватит того, что вы меня искалечили своими баснями, — и, вытолкнув сына в другую комнату, захлопнул дверь. Саша продолжал внимательно слушать бабку. Слушал и запоминал. Учился он хорошо и без особого труда поступил после школы на исторический факультет, но работать по специальности не стал, так как не мог удовлетвориться, как он говаривал, «сухим окладом». Частые поездки с туристическими группами в качестве гида позволяли ему проводить некоторые спекулятивные операции, «работал» он аккуратно, не зарывался...Брискин и Саша сидели в гостиной. — Буду с вами предельно откровенен. Мне импонируют люди вашего склада. Не скрою, отдать Жанну за вас — значит быть спокойным, — Брискин дружелюбно похлопал Александра по плечу. — Насколько вообще может быть спокоен отец, отпуская в жизнь единственную дочь. Курите. — Он протянул ему пачку «Филипп Моррис». — Конечно, она должна учиться, диплом нужен, хотя, — добавил он, улыбаясь, — работать по специальности не обязательно. — Знаете, Аркадий Евсеевич, я остро ощущал одиночество в последние годы, а сейчас благоговею перед Жанной не только за прекрасное чувство, которое она подарила мне, но и за то, что перестал быть никому не нужным. — Э-э, батенька, — погрозил пальцем хозяин. — Вот здесь позвольте вам не поверить. — Брискин лукаво сощурился. — Только глупцы думают, что одиночество — это отсутствие любимой, друзей. Глубокое заблуждение! Одиночество — это отсутствие денег. Саша рассмеялся: — Божье — богу, кесарево — кесарю, а что людям? Деньги. — Вот именно, батенька мой. — Брискин понюхал свисавший из вазы цветок. — Программное изречение. Жанна! — позвал он. — Мы голодны, лапушка. Скоро ты? — Сейчас! — пообещала дочь из столовой. Через несколько минут она пригласила мужчин к столу. — Мы сначала к рукомойнику, — сказал отец. В белоснежной, выложенной итальянским кафелем ванной, подавая Рянскому полотенце, он снова подмигнул: — Из того обстоятельства, что все в руках человеческих, следует только одно — их нужно чаще мыть... — Вы любите музыку, Саша? — спросил Брискин, когда они после ужина расположились в уютных кожаных креслах. — Разумеется, — ответил Саша, прихлебывая из крошечной фарфоровой чашечки кофе с коньяком. — Я обожаю музыку. Родители хотели видеть меня певцом и с трех лет водили в оперу. Когда мне стукнуло пять, мы с мамой слушали «Онегина». Помните, там есть сцена, когда Ларины варят варенье? Я вскочил тогда и закричал на весь зал: «А почему дым не идет из кастрюли?» После этого моя карьера певца рухнула и было решено, что я стану физиком... Сыграй гостю, дочка. — Пожалуйста, — попросил Рянский. — Что вы, Саша, — замахала руками Жанна. — Я ненавижу музыку. Папуля на протяжении шести лет держал учительницу и с ее помощью пытался вдолбить в меня веру в мой музыкальный гений. Он и сейчас приходит в восторг от моей игры, хотя единственная вещь, которую я могу играть до конца, полонез Огинского. — Вы знаете, что эта баловница говорит, когда все-таки удается усадить ее за рояль? — расплылся довольно Брискин: — «Ну чему ты радуешься, неужели тебя не ужасает, во сколько этот полонез тебе обошелся?»
* * *
Докладывая полковнику Азимову результаты командировки в Ригу, Арслан все огорчительнее осознавал, что следствие по делу о взрыве, по сути, не вышло за пределы нулевого цикла. Адресат зловещего «подарка» по-прежнему оставался неизвестен, не говоря уже об «отправителе». И как бы подтверждая невеселые мысли Арслана, Азимов спросил: — Так можем ли мы, наконец, утверждать, что получателем магнитофона являлась Калетдинова? — И да, и нет, — пришлось признать Туйчиеву. — А точнее? — Пока более конкретные утверждения преждевременны, — развел руками Арслан, — хотя, если субъективно, — он сделал паузу, — то это она... — Хорошо, — нахмурился Азимов, — а на чем базируется ваше субъективное мнение? Интуиция тоже на фактах произрастает. — Верно, — улыбнулся Арслан, — кое-что есть, конечно. Азимов выжидающе посмотрел на Туйчиева и тот продолжил. — Мы проверили все возможные... — он на миг задумался и тотчас поправился, — почти все возможные вариации фамилии, исходя из записи вахтера. Лишь один из вариантов подошел — Калетдинова. К тому же совпадают имя, день рождения. Наконец, когда мы попросили вахтера на слух припомнить фамилию, которую назвал неизвестный, вручая магнитофон, она остановилась именно на этой. Кстати, Гурина вспомнила, правда, с опозданием, — усмехнулся Арслан: — оказывается, передававший «подарок» сказал, что Калетдинова выпускница. Так вот, ни на одном из факультетов на четвертом курсе нет и в помине других студенток с такими именами. — Это все? — Нет. Мне представляется загадочным исчезновение студентки Калетдиновой. Ее нет в институте, — Арслан стал загибать пальцы, — нет на квартире, нет в родительском доме, нет у брата в Риге, хотя она собиралась к нему на каникулы. И мы с Сосниным не можем не задать себе вопроса: где же она? Вольно или невольно, Махмуд Насырович, мы связываем воедино все эти обстоятельства. Ведь что получается? — Арслан оживился. — Цель «подарка» очевидна: избавиться от кого-то из студенток четвертого курса пединститута. Но, в силу ряда причин, желаемый преступником результат не достигнут. Поставим теперь на место неизвестного получателя Калетдинову Люцию, что, как вы могли убедиться, достаточно вероятно. Что же тогда выходит? Ее убийство с помощью заряженного взрывчаткой магнитофона не удалось, но именно она, и никто иной из выпускниц, исчезает. Согласитесь, предположение, что преступник сумел все-таки достигнуть поставленной цели, но иным, к сожалению, пока не известным путем, звучит вполне убедительно. — Пожалуй... — задумчиво произнес Азимов. — Постойте, постойте, что-то знакомая фамилия... — Уже не слушая Арслана, он раскрыл одну из лежащих на столе папок и стал быстро перебирать бумаги. Наконец удовлетворенно откинулся на спинку стула. — Чудеса, Арслан Курбанович! — В голосе полковника чувствовалась радость. Туйчиев удивленно вскинул глаза. — Как раз перед вашим приходом я просматривал списки «свежих» уголовных дел. И вот, пожалуйста, — он ткнул пальцем в бумаги. — «Нанесение тяжких телесных повреждений Калетдиновой Люции». Расследование ведет Журавлев. Сейчас пригласим его с делом, — он начал набирать номер телефона, — возможно, все станет на свое место. Ознакомление с материалами дела, которое принес капитан Журавлев, дало немного. Потерпевшей по нему была действительно Калетдинова Люция, студентка пединститута. Калетдинову обнаружили 18 января в районе колхоза «Победа» в бессознательном состоянии. В затылочной части имелось повреждение, нанесенное каким-то тупым орудием. Осмотром места происшествия было установлено, что небольшую поляну, на которой лежала Калетдинова, окружал кустарник, и сюда с магистральной дороги вели следы протектора, отпечатавшиеся на выпавшем накануне снегу. Неподалеку от дороги группа тополей. На крайнем из них, на высоте около двух метров, кусок коры содран. Орудие, которым нанесли повреждение потерпевшей, обнаружить не удалось. Данные осмотра позволяли предположить, что Калетдинова была доставлена на поляну грузовой автомашиной, вероятнее всего, самосвалом марки ЗИЛ-555. — Что Калетдинова? — обратился к Журавлеву Азимов. — Пока по-прежнему ничего не помнит, да и врачи не разрешают еще беседу с ней. — Амнезия, — вздохнул Арслан. — Значит, на потерпевшую пока надежды нет. Не расскажет она нам, с кем ехала и что произошло... — Ограбление, судя по материалам дела, — перебил его Соснин. — Она ехала в райцентр, к отцу на каникулы. С ней, вероятно, был чемодан. — Не исключена и имитация ограбления, если учитывать, что посылка со взрывчаткой до нее не дошла, — негромко заметил Арслан. — Вы правы, Арслан Курбанович, — согласился с ним Азимов. — Все это как будто действительно наталкивает на мысль о едином исполнителе. И, может быть, ускорив расследование ограбления, мы скорее выйдем на него. — Я должен принять второе дело к производству и расследовать взрыв и ограбление параллельно? — спросил Туйчиев. Азимов кивнул и обратился к Соснину: — Что известно о ближайшем окружении Калетдиновой? Нет ли здесь зацепки? — Квартирная хозяйка Калетдиновой рассказала, что одно время она встречалась с неким Алексеем. Иногда он звонил ей, но уже несколько месяцев как не приходит и не звонит. — Это уже интересно, — оживился Азимов. — Выяснили, кто это? — К сожалению, пока все попытки безрезультатны, — сокрушенно развел руками Соснин. — Этот знакомый заслуживает самого пристального внимания, его поиск необходимо ускорить, — решительно потребовал полковник. — Ясно, — Соснин встал. — Нужно найти автомашину, — словно рассуждая вслух, задумчиво произнес Арслан. Азимов утвердительно кивнул. — Дорога ведет через райцентр, куда следовала Калетдинова, к гравийному карьеру, — продолжал Туйчиев, — поэтому поток машин здесь и зимой приличный. Надо установить и проверить все автомашины, следовавшие как туда, так и обратно. — Работенка!.. — пробормотал Журавлев. — Сущий пустяк, — с усмешкой отозвался Арслан. — Каких-нибудь три-четыре сотни машин. Николай только вздохнул.* * *
Начали с проверки путевых листов на трех автобазах. Работа была адова, отнимала, как говорил Николай, все сутки и еще отхватывала от следующих. Через три дня отобрали три с половиной сотни машин, которые в тот день находились на трассе автовокзал — карьер. Сто сорок из них двигались в противоположную сторону, но Туйчиев не исключал, что водители этих машин могли видеть девушку, стоящую на обочине или едущую в машине им навстречу. К работе подключили нескольких оперативных работников, но повезло, кажется, только лейтенанту Манукяну.Манукян медленно подошел к очередному самосвалу, влез в кабину, сел и на мгновение отключился, уснул... секунд на тридцать. «Э-э, нет, так не пойдет. На сегодня хватит». Перед тем, как спрыгнуть на землю, он встал на подножку, осветил фонарем открытую дверцу и заметил едва проступавшую засохшую бурую полоску. «Скорее всего краска, а может и нет?» Усталость сразу улетучилась... К концу следующего дня на стол Гуйчиева легло заключение эксперта: на дверце самосвала, который был закреплен за водителем Шульгиным, обнаружены следы крови человека...
— Работали на карьере восемнадцатого января? — Туйчиев окинул взглядом сидевшего напротив высокого широкоплечего водителя с крупными чертами лица. — Да кто упомнит, гоняют каждый день на другое место, — после долгой паузы ответил Шульгин. И, помолчав, добавил: — Заработать как следует не дадут. — Ну, а все-таки, припомните, Шульгин, куда выезжали восемнадцатого? Шульгин пожал плечами. — Нет, не помню. — Восемнадцатого вы сделали шесть рейсов с гравием. Вот путевые листы. — Следователь протянул их шоферу. Однако Шульгин не взял документы, а лишь бросил на них мимолетный взгляд. — Вам, значит, виднее. Раз там написано, должно быть, ездил, — Шульгин вытащил из кармана платок, вытер вспотевшие ладони. — Пассажиров по дороге брали? — Какие там пассажиры! Я не таксист, — нахмурился шофер. — Машина грязная: цемент, гравий, кто в нее полезет пачкаться? — Кстати, о грязи, давайте выйдем на минутку. Туйчиев вместе с водителем вышли во двор, подошли к машине. — Не подскажете, отчего могло образоваться это? — Арслан кивнул на бурую полоску, как бы стекавшую с дверцы. Шульгин посмотрел на нее косо, как перед этим на путевые листы, поджал губы. — Кто его знает... Солидол, должно быть. Когда они вернулись в кабинет, Туйчиев сел, пододвинул к себе бумаги. — Это не солидол, а следы крови, Шульгин. Может, объясните, откуда в кабине кровь? Водитель молчал. Туйчиев не торопил его с ответом, делая записи в блокноте. Он вспомнил недавний спор с Николаем. Тот утверждал, что люди раскрываются не в разговоре. — Самое красноречивое, на что способен человек — это молчание, — заявил тогда Соснин. — Покажи мне молчаливого человека, и я скажу тебе, о чем он молчит. Арслан не соглашался с этим парадоксом, доказывал, что молчание — цитадель для хитрых и глупцов. — А я тебе говорю, — настаивал Соснин, — что умный и глупый молчат по-разному. И о разном. Туйчиев съехидничал: — Ты, например, не молчишь даже тогда, когда тебе нечего сказать. «Пусть попробует на зуб этого молчальника, — подумал Арслан, — и поведает мне, о чем он молчит». — Ну, так что? — поднимая голову, обратился он к Шульгину через минуту. — Мясо я брал в магазине, должно быть, тогда и запачкал. — Не подходит, Шульгин. Это кровь человека. Понимаете? — Следователь подвинул ему заключение эксперта. — Познакомьтесь. На этот раз шофер взял заключение в руки, долго читал его, беззвучно шевеля губами. — Мы будем вынуждены задержать вас, — после тщетных попыток получить ответ сказал Туйчиев.
— Вы следователь Туйчиев? — взволнованной скороговоркой выпалила молодая женщина, когда Туйчиев открывал дверь кабинета Соснина, где решил поработать сегодня. — Слушаю вас. Садитесь. — Я Шульгина. Прибежала к мужу на работу, мне сказали, он у вас. Очень прошу, отпустите его, он уже все осознал. В ее голосе сквозила мольба, на ресницах повисли слезы. — Да вы успокойтесь. Так что же осознал ваш супруг? — недоумевал Туйчиев. — Выпивает он иногда. На работе никогда капли в рот не возьмет. — Шульгина вытерла платком глаза и продолжала: — А тут приехал в прошлую субботу днем домой и сразу к буфету, бутылку взял. Выпил — и в машину. Я за ним, влезла на подножку, не пущу, говорю, и стала тянуть из кабины. Ну, и... покарябалась. Вот. — Она показала след длинной, от кисти до локтя, царапины. — А он что? — Как кровь увидал, сразу протрезвел. Испугался, значит, извиняться стал. Я простила, и вы, пожалуйста, не привлекайте. Поклялся он. Дочь у нас, Сашенька, три года ей... — закончила она, застенчиво улыбаясь сквозь слезы.
А Манукян, когда узнал об этом, только вздохнул, припомнив две бессонные ночи в автопарке. — Не грустить, радоваться надо, товарищ лейтенант, — заметил ему Соснин. — Хороший парень оказался. — Да я ничего. Дело привычное, — опять вздохнул лейтенант.
* * *
— Завтра к нам в школу должен приехать заведующий ГорОНО, — торжественно объявила в начале урока Елена Павловна. — К нам едет ревизор, — вполголоса, но достаточно слышно, произнес Славка, и в классе послышались смешки. — Лазарев! — нервно одернула его Елена Павловна. — Помолчи. Вне всяких сомнений, он будет присутствовать на уроках и, конечно же, в выпускных классах. Поэтому я предлагаю вам, — требовательно закончила она тираду, — сделать нужные выводы. — Елена Павловна, можно спросить? — опять не удержался Славка и не стал дожидаться разрешения: — А кто заведующий по специальности? — Историк, — не понимая еще к чему клонит Славка, ответила Елена Павловна. — Тогда его нужно пригласить на урок истории и все будет в порядке. Он ведь химии или физики не знает, — довольный своим предложением, подытожил под одобрительный гул класса Славка. — К вашему сведению, Лазарев, он прекрасно знает все школьные предметы. — Но так ведь не бывает, Елена Павловна, — не унимался Славка, — всезнаек нет... Мы вот еще учимся — и то не все толком знаем. Один — одно, другой — другое... — Хватит, Лазарев, — резко оборвала Елена Павловна. — Не будем устраивать дискуссии по этому вопросу. Итак, начнем урок... Елена Павловна не ошиблась: когда на следующий день в школу приехал заведующий ГорОНО, он тут же изъявил желание посетить урок в 10 «Б». Наталья Федоровна, учительница физики, работавшая в школе третий год, не могла скрыть волнения, несмотря на ободряющие взгляды директора школы и самого заведующего ГорОНО. Славка не сомневался, что его вызовут. Так было всегда: ведь гостям принято показывать лучшее. В голову пришла прямо-таки шальная мысль: проверить, нет скорее даже доказать Елене Павловне свою правоту. — Лазарев, пожалуйста, — услышал он свою фамилию и направился к доске, полный решимости, на ходу обдумывая, как это лучше сделать. Как обычно, Славка был готов к ответу и начал очень хорошо, но вскоре... — Интерференция присуща волновым процессам любой природы, — уверенно говорил Славка, — а для того, чтобы наблюдать интерференцию, волны должны быть когерентны, т. е. иметь одинаковые частоты и неизменную разность фаз. Для того, чтобы ее наблюдать, можно воспользоваться весьма простым прибором, состоящим из двух резиновых и стеклянных трубок... При этих словах на лице Натальи Федоровны появился ужас: Лазарев говорил не по теме. Собственно, он должен был рассказать об интерференции света, но упомянутый им прибор предназначался для наблюдения интерференции звука. Наталья Федоровна растерялась, бросила беспомощный взгляд в сторону директора, потом перевела его на Лазарева, но тот продолжал отвечать как ни в чем не бывало, все так же перемежая две темы. — ...Французский ученый Френель придумал целый ряд приборов для наблюдения интерференции и с их помощью доказал, что каждая точка сферы, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн... «Боже мой! Но это же принцип Гюйгенса», — с отчаянием думала учительница, не решаясь в присутствии начальства перебить и поправить Славку. В нарушение всех методических требований Наталья Федоровна даже не объявила отметку, она просто не знала, что ему поставить. На это, кстати, после урока обратили ее внимание присутствовавшие, но в целом урок оценили хорошо, особенно выделив при этом ответ Лазарева. Потом, в одиночестве наплакавшись в учительской, она решила поговорить со Славкой и поставить ему двойку. Однако ее удивила улыбка, с которой этот Лазарев воспринял известие о двойке. — Извините меня, пожалуйста, Наталья Федоровна. Я совсем не хотел причинять вам неприятности... Просто я доказал Елене Павловне, что она неправа, — спокойно объяснил Славка. Узнав обо всем этом, Елена Павловна возмутилась. — Ничего удивительного! — выговаривала она в сердцах завучу. — Безнаказанность Лазарева не могла не привести к подобному инциденту. Он, видите ли, решил проверить и доказать!.. — Во-первых, Елена Павловна, — с трудом сохраняя спокойствие, ответила Нина Васильевна, — Лазарев наказан: он получил двойку. И конечно, вы правы в том, что следует парня вообще приструнить... Однако не кажется ли вам, что поступок Лазарева, в известной мере, спровоцирован вами? — Мною?! — задохнулась от гнева Елена Павловна. — Но ведь вы заявили в классе, что наш завгороно знает все, — усмехнулась Нина Васильевна. — Я много лет работала с ним в школе, где он директорствовал, и испытываю к нему чувство искреннего уважения за человечность, большие организаторские способности и глубокие знания; но, увы, не всего, — подчеркнула она. — Да и сами вы отлично понимаете, подобных людей нет и не может быть. Так что вы неправильно ориентировали класс и, если хотите, проявили неуважение к ребятам, да и к самому Андрею Михайловичу. Во всяком случае, он первый вряд ли бы вас одобрил. Елена Павловна слушала, плотно сжав губы, всем видом выказывая свое несогласие. «Боже, — глядя на Елену Павловну, думала Нина Васильевна, — почему мне так трудно с ней разговаривать? Неужели она не понимает, что нельзя огульно подходить ко всем ученикам?.. Поведение Лазарева, конечно, нуждается в корректировке. Но сегодняшнее происшествие — еще не самое худшее, что может случиться при таком подходе... А когда ей говоришь, она страшно обижается. Идти на обострение? Но ведь этот человек отдал школе много лет... Тогда промолчать? Нет! Только не это! Просто надо помягче...» — и сказала вслух: — Понимаете, Елена Павловна, нельзя в классе быть администратором...* * *
Все подступы к установлению личности покушавшегося на жизнь Калетдиновой и ограбившего ее, казалось, полностью перекрыты. Потерпевшую пока допросить не удалось и, по-видимому, врачи не скоро разрешат беседу с ней. И хотя Арслан успокаивал себя, что исключение каждого нового лица, попавшего в поле зрения, — а такие были, — тоже продвижение вперед, легче от этого не становилось. Николай сетовал: знать бы конечное число, от которого можно вычитать каждую проверенную версию, тогда... Правда, что «тогда», он тоже не знал, просто чувствовал себя взбирающимся на крутую гору, высота которой увеличивается пропорционально пройденному пути. И все же Туйчиев и Соснин решили не оставлять без внимания ни одного водителя грузовика, который мог проезжать в тот день в сторону райцентра. — Вот увидишь, — уверял Николай друга, — по закону пакости тот, кто нам нужен, окажется последним в списке. Если он вообще есть. — Тогда может начнем с конца? — насмешливо предложил Арслан. — Бесполезно, — махнул рукой Соснин. — Не имеет значения, как ни крути список, — он последний. У меня всегда так, — вздохнул он. — Ладно, — согласился Арслан, — пусть хоть последний. Я согласен! Утром Туйчиев и Соснин приехали на автобазу и сразу зашли к директору Борисенко. Тот говорил по телефону, но, увидев вошедших, встал, приветственно кивнул и, не прекращая разговора, показал рукой на стулья. — А я вам еще раз повторяю, заступаться за него нечего. Хватит, понянчились. Нам воры и прогульщики не нужны. Всё. — Он повесил трубку. — Опять к вам, Андрей Герасимович. Надоели, наверное, — Арслан развел руками. — Служба. — Ничего, ничего. Рад помочь, чем могу. — О ком это вы так лестно отзывались по телефону? — Есть у нас один разгильдяй, вернее, был, увольняю его. Бражников. Машину гравия продал. Мы уже сообщили об этом в милицию. Арслан заглянул в списки, нашел фамилию Бражникова и спросил: — Он здесь сейчас? — Кажется. Сейчас узнаю. Вы извините, с вашего разрешения, я поеду. Дела. — Борисенко встал. — Располагайтесь в моем кабинете. Если Бражников здесь, его пришлют. До свидания. Вскоре в кабинет вошел приземистый парень с изрытым оспой лицом и длинными не по росту руками. — Бражников. Вызывали? — Садитесь, Бражников. Давно занимаетесь операциями с гравием? — спросил Арслан. — Какими-такими операциями?! Чего это вы?.. Он долго распространялся по поводу несправедливого к себе отношения начальства. Конечно, у директора есть любимчики, которым все можно, а его — чуть что — сразу за ворота. Бражникову дали вдоволь выговориться, а потом перешли к существу. На все вопросы тот отвечал уверенно и даже несколько нагловато. Да, восемнадцатого января он совершил один рейс за гравием, хотя должен был сделать две ходки. А все из-за этой проклятой машины. Машина, в кабине которой сидела женщина в красном пальто, по дороге ему не попадалась. Сам он пассажиров тоже не брал. Его отпустили, но... Бражников явно не договаривает, ничего конкретного, конечно, но в его нагловатой усмешке чувствовался вызов. И когда перед уходом он с деланной наивностью спросил, неужели за одну машину гравия его будут судить, Арслан уже не сомневался, что Бражниковым придется заняться всерьез.* * *
Прораб Лоскутов, маленький, кругленький, в телогрейке, в брезентовых рукавицах, как колобок, подкатился к газику и, казалось, не удивился приезду таких гостей. Красное лицо, изборожденное морщинами, как географическая карта сетью дорог, отечные мешки под глазами и склеротические жилки не оставляли сомнения в его давней и близкой дружбе с алкоголем. Небольшие, глубоко посаженные глазки хитро бегали. — К нему, пожалуй, — обратился Арслан к Соснину, выходя из машины, — с зажженной сигаретой близко подходить нельзя. Проспиртован до основания. Здороваясь с Лоскутовым, Туйчиев понял, что, несмотря на утро, прораб уже под хмельком. — Мы с вами, Лоскутов, побеседовать хотели, но, видно, не выйдет здесь. К нам поедем, там в себя придете, тогда и потолкуем, — обратился к нему Арслан. — Обижаете, гражданин начальник, обижаете, — оскорбился прораб. — Я аккурат в норме. И зачем пожаловали — знаю. А что зашибаю малость, так степь ведь кругом. У нас сто рублей не деньги, сто километров не расстояние, сто градусов не крепость. А я выпил только сорок. Вот и суди — в норме я или нет. — Данилыч дело говорит, — вмешался в разговор стоявший неподалеку экскаваторщик. — Он, если не выпьет, то из него и слова не вытянешь. А сейчас — нормально. Зашли в вагончик. — Ну что ж, Данилыч, раз знаете, зачем мы пожаловали, давайте начистоту и потолкуем, — начал разговор Туйчиев, располагаясь на скамейке у грубо сколоченного стола. — Сколько ходок восемнадцатого января сделал Бражников? — Можно и начистоту, — согласился Данилыч. — Ежели вы о Бражникове, то он не одну, а две машины увез. Я тебе сейчас всю эту арифметику нарисую. — Данилыч полез за пазуху, достал оттуда замусоленный блокнотик и, отодвинув его от глаз на вытянутую руку, стал листать, приговаривая: — Ишь ты, одну! У меня, мил-человек, все записано. Вот гляди. Бражников восемнадцатого января еще одну машину взял? Взял. А рассчитаться не пришлось. Да вслед за ним, не успел он погрузиться, еще машина пришла; Алексей, фамилию не знаю, машина № 66-00, приехал, тоже погрузил. А после обеда опять он же приехал. Вот тебе и вся арифметика. — Так сколько же раз Бражников приезжал в карьер? — Известно, сколько, два. И Лешка в тот день две левых машины повез.— Подобьем итог, — предложил Арслан, когда друзья вернулись в управление. — Бражников скрыл, что дважды ездил в интересующем нас направлении. Почему? Что толкнуло его на это? Что-то не нравится он мне. — Странное дело, — усмехнулся Соснин, — у меня он тоже не вызывает положительных эмоций. Уж не он ли тот, кто нам нужен?.. Кстати, а как насчет Алексея, 66-00? Это уже шестой «неучтенный» водитель. Вообще, ведь равно вероятными являются предположения об ограблении Калетдиновой кем-то из водителей, так сказать, официально в тот день проезжавшими, либо кем-нибудь из «леваков». — Что же ты предлагаешь? У тебя, может быть, есть план, как выявить всех этих «леваков»? — нетерпеливо перебил его Арслан. — План? — задумчиво переспросил Соснин. — А какой тут может быть план? Просто, понимаешь, вдруг сомнения напали: вот крутимся мы, вертимся, ну, еще пятьдесят, даже пусть еще сто водителей проверим, а тот окажется вовсе и не среди них. Будет он себе ходить и посмеиваться над нами, простофилями. Вот и думаю я: может, мы что не так делаем? Арслан встал из-за стола, подошел к Соснину и, положив ему на плечо руку, улыбнулся: — Напрасно, Николай, комплексуешь. Ну подумай сам, что еще в такой ситуации можно предпринять? Давай-ка лучше вперед без страха и сомнения. Друзья принялись за разработку плана дальнейших действий на следующий день. — Прежде всего следует окончательно разобраться с Бражниковым. Тебе, Николай, придется проявить оперативное искусство: надо, не привлекая внимания, получить отпечатки следов протектора его автомашины. Если экспертиза подтвердит их идентичность со следами, изъятыми при осмотре, то Бражникова мы, как говорят строители, «привяжем к местности». Только смотри, Коля, чтобы, кроме двух понятых, никто не знал о получении экспериментальных следов. Если это не Бражников, то как бы не спугнуть. Что касается мифического пока Алексея, то его я возьму на себя. С утра в ГАИ побываю, узнаю, куда приписана машина 66-00.
В ГАИ Туйчиеву сообщили, что интересующая его автомашина принадлежит той же автобазе, что и машина Бражникова. Что ж, это упрощало дело. Правда, намного ли? Узнав на автобазе, что машину 66-00 обслуживает водитель Самохин Алексей, находящийся сейчас в командировке, Арслан решил пока начать с изучения путевых листов Бражникова. — Почему вы даете мне только с десятого января? Я ведь просил вас путевые листы с начала месяца, — спросил он у бухгалтера. — А машина до десятого января на ремонте была. — И долго? — Десять дней. Туйчиев углубился в знакомство с личными делами водителей третьей автоколонны, которые восемнадцатого января проезжали мимо автовокзала порожняком, направляясь в сторону райцентра. На автобазе он пробыл до вечера. «Нужно узнать, — решил Арслан, придя на следующее утро к себе в кабинет, — не приехал ли из командировки Самохин. Зря я вчера его фотокарточку не взял. Надо показать квартирной хозяйке Калетдиновой. Вдруг это тот самый Алексей? Да, непростительная оплошность. Короче, Бражников Бражниковым, но увлекаться нельзя, да и Самохина пока еще сбрасывать со счетов не следует». Когда диспетчер автобазы сообщил, что Самохин прибыл и сейчас находится в диспетчерской, Арслан попросил направить его к нему к трем часам дня, предполагая, что до этого времени они с Сосниным будут заняты Бражниковым. Не успел Арслан положить трубку, как раздался звонок. Он услышал радостный голос Соснина: — Арслан, есть! Я из научно-технического отдела. Только что получил заключение экспертизы: следы на месте обнаружения Калетдиновой оставлены автомашиной Бражникова.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Как обычно, на большой перемене в учительской было людно и шумно. Петр Семенович, учитель физкультуры, стоя в дверях, поискал глазами и, увидев сидящую у окна Елену Павловну, быстро направился к ней. — Елена Павловна, у вас сейчас урок в 10 «Б»? Учительница кивнула. — Мне нужны Лазарев и Хрулев. Елена Павловна вопросительно посмотрела на него. — В час дня начинаются районные соревнования по баскетболу, а Хрулев и Лазарев в школьной команде, — пояснил физкультурник и, предупреждая возможное возражение, добавил: — Директор в курсе. Просьба была самой обычной в школе, и Елена Павловна не усмотрела в ней ничего особенного и сейчас. Тем более поразила ее реакция Лазарева, когда она объявила, что его и Хрулева ждут в спортзале. — Простите, Елена Павловна, но мне не хотелось бы пропускать уроки. Класс замер, а Колька, который, конечно, мигом собрался и ждал у дверей, растерянно захлопал глазами. Отказаться на законном основании уйти с уроков! Это было выше его понимания. В первое мгновение опешила и Елена Павловна. Такого за ее многолетнюю практику еще не бывало. — Вы не хотите участвовать в соревнованиях, Лазарев? — сухо спросила она. — Хочу, — сдержанно ответил Славка. — Но не могу нарушать Устав школы. — В таком случае, Лазарев, вам придется объяснить это директору, ибо я выполняю его распоряжение, — Елена Павловна с трудом сдерживала раздражение. Услышав, что с уроков их отпускают по указанию директора, Колька раскрыл дверь. Однако он поторопился — Славка не трогался с места. В классе поднялся легкий гул. Ребята всегда были за Славку, но сейчас они его просто не понимали. — Да брось ты, Славка... — Плохо, что ли, пойти на игру? — Характеристику испортят... Однако Лазарев был непреклонен. — Я прямо сейчас должен идти к директору? — деловито спросил он и, получив утвердительный ответ, вышел из класса. За ним устремился Колька, который так ничего пока и не понял. Лазарев постучал в дверь директорского кабинета и, получив разрешение, решительно вошел, жестом велев Хрулеву оставаться в коридоре. — В чем дело, Лазарев? — удивился директор. — Почему вы не на занятиях? — Меня послала к вам Елена Павловна. За то, что я не пошел на соревнования. Решимость Славки тут же начала улетучиваться и он пожалел о затеянном, но когда директор школы в упор сказал ему, что он не дорожит честью школы, Славка срывающимся голосом возразил: — Это неправда... Мне дорога честь школы, но почему надо нарушать?.. — Что нарушать? — Всё!.. Всё, чему нас учат!.. — Славка уже не мог сдерживаться. Какая-то непонятная обида захлестнула его. Педагогический опыт мгновенно подсказал директору, что сейчас, как никогда, важно не перегнуть палку. И хотя его первым побуждением было немедленно пресечь наивные Славкины излияния, именно в этот момент ему стало ясно: случай необычный, выходящий за рамки простого мальчишеского непослушания. — Успокойся, Слава, и садись, — Владимир Сергеевич вышел из-за стола, подошел к Славке, надавил ему рукой плечо, усаживая, и сел рядом. — Слушаю тебя, — миролюбиво улыбнулся директор. — Все учителя нам говорят, что Устав школы — закон нашей жизни. — Директор согласно кивнул. — Но ведь Устав запрещает во время уроков участвовать в соревнованиях! — почти выкрикнул Славка. — Вот я и не пошел. — Он махнул рукой и, вдруг понизив голос, нерешительно добавил: — Но если вы скажете, я пойду... — Иди на урок, Слава. — Директор встал, тотчас вскочил со стула и Славка. Он явно ожидал чего-то другого и теперь растерялся окончательно. — Иди на урок, Слава, — тихо повторил директор. — На урок? — обрадованно переспросил Славка и выбежал из кабинета. К удивлению ребят и Елены Павловны, Лазарев и Хрулев вернулись в класс. После уроков Елена Павловна стремительно вошла в кабинет директора. Здесь же была и Нина Васильевна. — Что же это получается, Владимир Сергеевич? — Елена Павловна не скрывала обиды. — Значит, теперь авторитет учителя не существует? — Ну, ладно я. А ваш, директорский авторитет где? Не развалим ли мы так школу? — Присаживайтесь, Елена Павловна, — дружелюбно предложил директор. — Мы как раз по поводу Лазарева сейчас беседовали с Ниной Васильевной. Вы ведь по этому вопросу, не так ли? Так вот, как это ни печально сознавать, но именно ученик преподнес нам весьма поучительный урок... — Ни во что не ставить учителя? — вспыхнула, перебив директора, Елена Павловна. — Вы не совсем правы, — вмешалась Нина Васильевна. — Думается, именно с позиций педагогических, воспитательных Владимир Сергеевич поступил правильно. — В самом деле, Елена Павловна, как бы вы поступили, встав перед дилеммой: авторитет учителя или авторитет закона. Ведь именно так стоял вопрос! — увидев протестующий жест Елены Павловны, настойчиво подтвердил директор. — Понимаете, когда Лазарев сказал мне, что пойдет на игру, если я ему прикажу, мне стало ясно: вот этого-то я и не могу сделать. Не имею морального права. Ибо тем самым, хотел я того или нет, фактически показал бы ему, всем, и ребятам и педагогам: соблюдать Устав школы можно не всегда, он обязателен не для всех. И такое, увы, случалось не раз. Мы сами виноваты, что создалась такая ситуация, и я приношу вам, Елена Павловна, свои искренние извинения. Где надо, буду добиваться, чтобы подобное не повторялось. Если же, в виде исключения, возникнет крайняя необходимость отрывать ребят от занятий, то, прежде чем распорядиться, мы с вами обязаны разъяснить им положение, как взрослым. Понимаете?* * *
— Ольга Дмитриевна? Здравствуйте. Вас беспокоит следователь Туйчиев. — Боже! Что стряслось? — Не волнуйтесь. Ничего страшного. Если сможете, зайдите с сыном ко мне часа в четыре, — Туйчиев назвал адрес. ...После того как магнитофон похитили из квартиры Рустамовых, милиция искала его везде: на базарах и в комиссионных магазинах, в скупочных пунктах и мастерских по ремонту (а вдруг сломался, и вор отнес его чинить?). Но безуспешно — магнитофон нигде не всплывал. И вот теперь, спустя несколько месяцев после кражи, Николай предложил повторить поиск, как он выразился, «на бис». «Он хоть и голландский, но поломаться может», — настаивал Соснин. Арслан не возражал, хотя мало верил в успех этого предприятия...Утром в кабинет Туйчиева влетел Манукян. — С днем рождения тебя, дорогой. Сколько сегодня стукнуло? — крепко пожав руку Арслану, лейтенант протянул ему длинную узкую коробку. — Извини, подарок с нагрузкой. — Спасибо, — хмуро бросил Арслан, рассеянно глядя на галстуки. — Откровенно говоря, я ждал от тебя другого подарка. — Чем богаты... — невозмутимо отпарировал Манукян. — Дареному коню в зубы не смотрят. — Ладно, черт с тобой, приходи вечером. — Вот это мужской разговор! — довольный Манукян сел и занялся изучением собственных ногтей. — А здесь что? — Туйчиев развернул сложенный вчетверо листок, который лежал на галстуках. — Я же говорил тебе. Нагрузка. Это была квитанция на ремонт магнитофона «Филиппс» № 713428, принятого мастерской от Лялина В. Т. — Молодец! Нашел! — обрадовался Арслан и погрозил ему кулаком. — Вот это подарок. Ты начинаешь входить в форму, Манукян. Так держать!
Ровно в четыре Лялины явились. Высокая молодящаяся дама в модной импортной шубе с красивым, но сильно располневшим лицом заметно нервничала. Ее сын, худенький паренек лет пятнадцати, с нескрываемым интересом смотрел на следователя большими серыми глазами. — Садитесь, пожалуйста, — Туйчиев достал бланк протокола допроса. — Может быть, мальчика можно оградить? Я сама в состоянии ответить на все интересующие вас вопросы. В его возрасте это такая психическая травма, — Лялина поправила прическу. — Я хотела взять с собой супруга, но он в командировке в Москве. Ведь он замдиректора завода, вы знаете? — Мама! — умоляюще произнес сын. — К сожалению, оградить от вопросов вашего сына нельзя. Обещаю, что никаких психических травм он не получит. Но сначала вопрос к вам. У вас был магнитофон? — Почему был? — обиделась Ольга Дмитриевна. — У нас есть магнитофон. — Давно купили? — Месяца два назад, кажется. — А до этого у вас не было магнитофона? Лялина замялась. Она зачем-то открыла сумочку, порылась в ней, закрыла снова, посмотрела в окно. — Можно мне?.. — начал Лялин-младший, но мать перебила его: — Подожди. Я сама. Конечно, у нас и раньше имелся магнитофон. — Какой марки? — Право, не знаю. — «Филиппс», — подсказал сын. — Где вы приобрели его? — В комиссионном, около вокзала. Там наш знакомый работает, Брискин. — Вы его ремонтировали? — Да, вроде... — Это квитанция на ремонт вашего магнитофона? — Туйчиев протянул Лялиной квитанцию. — Наверное. — Ну а теперь расскажите, где он сейчас? — Мы его продали. — Ольга Дмитриевна посмотрела на следователя и отвернулась. — Этот, теперешний, купили, а тот продали. — Кому? — Совершенно посторонним людям, я их не знаю. — За сколько? — Не помню сейчас, кажется... — Мама! — громко перебил Венька. — Зачем ты так. Никому мы его не продавали, я сейчас все расскажу...
В тот ветреный декабрьский день Венька, забрав из мастерской магнитофон, ленивобрел по скверу. Когда первые капли дождя упали на землю, он забежал в телефонную будку. Через мгновение ливень уже хозяйничал на улице. «Конец света, — подумал Венька, — и, кажется, надолго». Он повесил магнитофон на крюк под аппаратом, порылся в кармане. Двухкопеечной не оказалось, пришлось опустить гривенник. — Капитолина Андреевна? Здравствуйте. Это Веня. Наташа дома? — Здравствуй, — ответила Наташкина мать. — Ее нет. — Извините. Я попозже позвоню. Дверь будки медленно открылась, и рядом с Венькой очутился высокий парень в синей куртке. Он добродушно улыбнулся Веньке, загородив собой дверь. — Подожди, абитуриент. Сначала помолись: сейчас буду бить, — весело предупредил он и сочувственно добавил: — Ничего не попишешь, так надо. — Да ты что? Пусти... Сердце у Веньки застучало быстро и глухо; предательски выдавая испуг, задрожало левое веко. — Ладно, — внезапно сменил гнев на милость парень. — Обойдемся без мордобоя. Не правда ли? — он снял с крюка магнитофон. Затем стянул с себя куртку, задев локтем Венькин нос, завернул магнитофон. Зажатый в угол, Венька не шевелился, только тяжело дышал. Парень молниеносно разобрал трубку, вынул мембрану. — В случае нападения звоните «02», — посоветовал он Веньке и исчез в потоках ливня, который уже переходил в снег.
— ...Я очень жалею, что Веня рассказал вам все. Теперь его затаскают по судам, а я буду жить в страхе, что ему отомстят. — На глазах Лялиной показались подкрашенные тушью слезы. — Никаких претензий мы не имеем. Прошу занести в протокол. — Ваша позиция вредит не только вам, Ольга Дмитриевна, — в голосе следователя зазвучали жесткие нотки. — Она постоянно травмирует вашего сына, чего вы так боитесь. — Он помолчал немного и добавил: — Но главное даже не это — с помощью вашего магнитофона совершено тяжкое преступление. Лялина побелела. — Да, да. И кто знает, заяви вы об ограблении, может, ничего бы и не случилось. Отсюда и наши претензии к вам, — подчеркнул Туйчиев. — Веня, ты помнишь, какие записи были на магнитофоне? — Поп-музыка, несколько шлягеров. Две, нет, кажется, три песни Высоцкого. Пожалуй, всё. — А как насчет классики? Веня недоуменно улыбнулся: — Это же и есть классика.
* * *
— Расскажите, Бражников, подробно, что вы делали восемнадцатого января? Вопрос, заданный Туйчиевым, вызвал у Бражникова удивление. — Да я же говорил. — Ничего, повторите еще раз. — Утром за гравием поехал на карьер, по дороге машина закапризничала, часа полтора провозился, пока чинил, потом взял гравий и отвез по месту назначения, куда и было занаряжено. — Сколько ходок сделали? — Одну, больше не успел. Говорю же, машина сломалась. — В котором часу вы выехали? — спросил Соснин. — В девять. — Где сломалась машина? — Недалеко от автобазы, километрах в трех. — Значит, вы проезжали мимо автовокзала после десяти часов? — Да. — Пассажиров брали? — Нет. — Вспомните, Бражников, может быть, все-таки брали? — Не брал я никаких пассажиров. — Бражников нервно смял окурок и бросил его в пепельницу. — Не понимаю, чего вы от меня хотите? — Приходилось ли вам в последние десять дней по каким-либо причинам сворачивать в сторону от дороги? — Нет, не приходилось. Зачем мне сворачивать? — Кто, кроме вас, мог ездить на вашей машине? — На моей машине? Что вы, никто не мог. — Послушайте, Бражников, ложь еще никому не помогала. Зачем вы ездили в колхоз «Победа»? — В жизни не был там, — угрюмо сказал Бражников. — К сожалению, факты говорят обратное. — Там и гравия никакого нет — для чего мне туда лезть? Я же говорю, гравий на карьере брал, больше нигде не был. — Дело гораздо серьезнее, чем кража гравия. Совершено ограбление, и на месте происшествия обнаружены следы протектора. Вашей машины. Шофер посерел, лежащие на коленях руки задрожали. — Будете говорить правду, Бражников? — Туйчиев не повышал голоса. Но именно это спокойствие следователя больше всего испугало Бражникова. — Непричастен я к этому, — наконец с трудом выдавил он. — Как же ваша машина оказалась в стороне от дороги, на полях колхоза «Победа»? — Стойте, да ведь... — начал шофер и запнулся. Помолчав, он посмотрел на Туйчиева и, встретив прямой, немигающий взгляд, махнул рукой. — Хорошо, я скажу, только я не виноват... Ведь как получилось. Машина у меня старая, часто ломается, а тут еще покрышки совсем лысые. Я начальнику колонны плешь проел, а с него как с гуся вода — нет пока, и весь сказ. Ну, сам на поиски пошел... Водички можно? — судорожно глотнув, Бражников продолжал: — И восемнадцатого, нет, кажись, девятнадцатого января повезло: пришел раненько на автобазу, захожу за гаечным ключом в мастерскую, смотрю, в углу стоят совсем еще хорошие покрышки. Ну, я их оприходовал... снял вроде, ну, украл. Да, видно, правду говорят, что краденое на пользу не идет. Так это на них, товарищ следователь, кто-то в то место и ездил. Потом, видать, снял, а я, дурак взял. Честное слово. — Не слыхали, искал кто-нибудь после эти покрышки? — Я еще удивлялся, что так гладко сошло. Виноват, конечно, но, упаси боже: к такому делу, про которое вы сказали, касательства не имею. Зазвонил телефон. Говорил начальник ГАИ Камалов. — На окраине города обнаружена оставленная водителем автомашина ЗИЛ-555 с замерзшим радиатором. Номер машины 66-00, как раз та, которой вы интересовались. Машина у нас. Нужна ли наша помощь в выяснении личности водителя? — Спасибо, Джамал Низамович, он нам уже известен. Увидев настороженный взгляд Бражникова, внимательно прислушивающегося к разговору, Туйчиев опустил трубку на рычаг. — Пока все, Бражников. Мы проверим ваши показания. Бражников понурясь вышел. — Ну что? — обратился Соснин к Арслану. — Звонил Камалов. Говорит, что Самохин бросил свою машину, ее нашли недалеко от кольцевой дороги. — Вот как? — удивился Соснин. — И, понимаешь, бросил именно после того, как я вызвал его к себе на три. Что скажешь? Не странно ли? — Ну, в нашем деле чем больше странности, тем больше ясности. Что предпримем? — Давай так. Едем на автобазу. Ты проверяешь показания Бражникова, а я займусь Самохиным. Идет? Соснин молча подошел к вешалке и стал надевать пальто.Всю дорогу на автобазу Арслана не покидало чувство безотчетной тревоги. Арслан уже отругал себя, что не сразу вызвал Самохина после его возвращения, хотя и понимал, что вряд ли это могло предотвратить случившееся, если Самохина испугал вызов. Не «брать» же его сразу, без веских оснований. Приехав на автобазу, Туйчиев тут же взял в отделе кадров личное дело Самохина и попросил вызвать к нему линейного диспетчера. Быстро пробежал скупые биографические данные: Самохин Алексей Федорович, 38 лет, ранее трижды судим... Арслан еще раз прочел, когда и за что судим Самохин, и подумал, что хорошо бы посмотреть его фото. Почему-то оно не приклеено к листку по учету кадров, как это положено. Туйчиев полистал личное дело, но фотокарточки не нашел. Тогда он вынул из конверта, приклеенного к внутренней стороне обложки, трудовую книжку, но едва раскрыл ее, как оттуда выпала маленькая фотокарточка. Через два часа фотография Самохина была размножена и разослана во все райотделы. Розыск начался.
* * *
— Хочешь покататься? — Славка вопросительно посмотрел на Жанну. — У нас еще есть время. Жанна нерешительно пожала плечами, но Славка уже небрежным взмахом руки остановил такси. — Давай, шеф, по проспекту, а дальше — на твое усмотрение, — пропуская вперед девушку, бросил Славка. Жанна молча смотрела в окно, любуясь неузнаваемо преобразившимся за последние годы городом. Проспект был широким и величественным. Высокие здания казались легкими, ажурными, плывущими над городом. — Красиво, правда? — Славка пристально посмотрел на Жанну. — Я совершил в своей жизни один опрометчивый поступок. Какого чёрта я потащил тебя тогда в музей? Жанна усмехнулась: — Значит, судьба. — Знаешь, почему я все-таки хожу с тобой к Саше? Меня больше всего интересует методика очаровывания девушек, которой Алекс владеет в совершенстве. Учусь у него, хочу обезопасить себя от неудачи, если когда-нибудь влюблюсь... во второй раз. Они еще покатались, потом вышли из машины неподалеку от дома Рянского. — Заходите, друзья, — обрадовался Саша. В руках у него была грелка. — Садитесь. Я сейчас: бабушка болеет. — Он ушел в другую комнату. Жанна уже не первый раз бывала в доме Рянских. И ее всегда восхищала трогательная забота, которую проявлял Александр к Елизавете Георгиевне. — Кто там? — донесся из-за приоткрытой двери голос бабушки. — Это ко мне, бабуля, ребята пришли. Саша вышел из спальни, закрыл дверь. — О чем дискутируете? — осведомился он. — Пытаюсь доказать Жанне, что человек должен быть хорошим, — пояснил Славка. — Не очень определенно. Растяжимое понятие. А так ли это нужно — быть хорошим? И для кого? Для других или для себя? — прищурился Рянский. — А разве здесь есть противоречие? Не знаю точно, буду ли я хорошим, но одно знаю: надо и работать, и относиться к людям добросовестно. — Салага! Добросовестны, как правило, лишь ограниченные люди. Ограниченность они вынуждены компенсировать добросовестным отношением. К чему? Цитирую тебя: «К работе и людям». Талантливым, а к таковым я, безусловно, причисляю тебя, просто не остается времени на такие мелочи. Извини, но это удел посредственностей. Талантливый сразу решает любую проблему и рубит гордиев узел. «Он чудный, — восторженно думала Жанна. — Я, кажется, теряю голову. Ну и пусть... Мне никогда еще не было так хорошо, так уверенно...» Как бы почувствовав, что Жанна думает о нем, Александр улыбнулся ей. — Хватит философствовать. Эстетика выше этики. Давайте лучше выпьем. — Он налил коньяк в крошечные рюмки. — Алкоголь в разумных дозах. Блоковские пьяницы с глазами кроликов и с лозунгом «истина в вине» на устах — вот мудрецы. — Может быть все пьяницы — мудрецы, но, уверяю тебя, не все мудрецы пьяницы. Иначе не было бы цивилизации, плодами которой, как я погляжу, ты неплохо пользуешься, — возразил Славка. Александр рассмеялся и налил снова. — Ты задумывался когда-нибудь о том, что лежит в основе жизни, является ее движущей силой? Не знаешь. Ну, хорошо, я подскажу. В основе жизни лежат компромиссы. Прежде всего, мы сами — я, ты — продукт компромисса. — Рянский подбросил яблоко, ловко поймал его и положил в вазу. — Будучи ребенком ты идешь на компромисс, жертвуя беспечным детством ради аттестата зрелости, затем в юности жертвуешь чудесными ночами, созданными для любви, в обмен на зубрежку, стипендию, диплом. Потом мы всю жизнь уступаем начальнику, жене. Наконец на финише к нам приходит старая с косой и заключает с нами самый главный компромисс: мы уступаем ей суетную жизнь и получаем взамен вечный покой и блаженство небытия. Потом цикл повторяется. — Ну и что отсюда следует? — А следует, дорогой мой, читать Вознесенского: «Ракетодромами гремя, дождями атомными рея, плевало время на меня, плюю на время!» Ведь смерти все равно, с каким итогом я приду к ней, она всем платит одну цену. Значит не умирать, а жить надо красиво. — Правильно! — вырвалось у Жанны. — Жить надо красиво! Славка вскочил, неожиданно для самого себя налил в рюмку коньяк, залпом выпил. — А это какая такая красивая жизнь? — с вызовом спросил он. — О! — Рянский многозначительно поднял указательный палец. — Это жизнь, не знающая неудовлетворенных желаний. — Любых? Значит, мы по-разному смотрим на жизнь. — А как думает мой пылкий оппонент? — Ничего я не думаю. Просто чувствую, что вы оба в чем-то очень неправы. Саша и Жанна в ответ переглянулись. Рянский, насмешливо хмыкнув, предложил: — Выпьем кофе? — Нет, мне пора, я, пожалуй, пойду, — сказал Славка. Его не удерживали.* * *
Когда они подъехали поздно вечером к дому Туйчиева, Николай предложил: — А что если завтра махнуть в горы? На лоно природы? — Какие горы! — замахал руками Арслан. — Вечно ты со своими экспромтами лезешь. Я выспаться хочу в выходной... В половине восьмого утра в квартире Туйчиевых раздался телефонный звонок. Рано подошла к телефону. — Рано, доброе утро! Глава семьи еще спит? — Здравствуй, Коля. Что-нибудь случилось? — Да. Вы едете в горы, — весело зазвучал голос Соснина. — Разве ты не знаешь? Играй подъем, через пятнадцать минут мы со Светой будем у вас. — В горы? Сейчас? —удивилась Рано. — Первый раз слышу. Но Николай уже положил трубку. При слове «горы» Шухрат молниеносно спрыгнул с кровати и подбежал к матери. — Мам! Я с вами, я с вами, — жалобно заныл он. — Подожди, — строго сказала Рано и пошла будить мужа. — Вставай, Арслан. Ты, оказывается, обещал Коле, что мы поедем сегодня в горы. А мне ничего не сказал. Арслан открыл глаза и улыбнулся: «Ну и тип этот Соснин». Через час старенький «Запорожец» Соснина с уложенными на багажнике лыжами мчался по загородной трассе. Когда они вышли из машины, справа открылась величественная панорама заснеженных гор, вершины которых уходили в синее небо. Несмотря на ослепительное солнце, слегка пощипывало щеки морозцем. Здесь, в излюбленном месте отдыха горожан, было уже шумно и многолюдно. — Какая прелесть! — сказала Светлана. — А я еще не хотел ехать, — вздохнул Николай, помогая девушке закрепить лыжи. — Спасибо Арслану. Все засмеялись, а Туйчиев бросил в него снежок. Вскоре они разделились: Соснин и Рано — более опытные лыжники — поехали по подвесной дороге вверх. Арслан, Светлана и Шухрат остались внизу. Светлана, в кокетливой вязаной шапочке, щегольского покроя спортивной куртке, была хороша. «Что-то затягивается у них на неопределенный срок с Колей», — подумал Арслан. — Не отставай, сынок, — крикнул он увязшему в снегу Шухрату и спросил: — Как дела, Света? Давно тебя не видел. — Спасибо, Арслан Курбанович, хорошо. — На всех фронтах хорошо? — попытался уточнить Туйчиев. — Смотрите, вот они! — вскрикнула девушка, не отвечая на вопрос, и показала заиндевевшей варежкой вверх. Арслан поднял голову: левее их, с крутогора, на бешеной скорости пронесся Соснин, а вслед за ним Рано. — Во дают! — восторженно закричал Шухрат и помахал рукой. Соснин мастерски затормозил на полном ходу, взметнув облачко снега, и стал ждать Рано. Собрались вместе, и Арслан с Николаем, пообещав вскоре вернуться, медленно пошли по равнине. — А что, неплохо! — задумчиво проговорил Туйчиев. — То-то! — отозвался Соснин. — А еще сопротивлялся... Как с Самохиным? — Не знаю, — отозвался Арслан. — Если Бражников говорит правду, то получается следующая картина: грабитель, совершив преступление, уехал. Затем он меняет покрышки на машине. Бражников похищает их и ставит на свою машину, навлекая тем самым на себя подозрение в совершении преступления. — Арслан остановился, подхватил комочек снега и положил в рот. В самом деле, дефицитные покрышки не могли же просто валяться на территории автобазы, и, следовательно, кому-то принадлежали. Но поскольку пропажа этих покрышек никого не обеспокоила, оставалось только предположить, что их владелец и есть преступник, которому невыгодно заявлять о краже. Более того, она вполне устраивала преступника, уводя следствие по ложному пути. — Стало быть, ты утверждаешь, что Самохин причастен и к ограблению, и к взрыву? — Соснин в ожидании ответа нетерпеливо барабанил пальцами по лыжной палке. — Не утверждаю, а не исключаю, — поправил Арслан. — Как же не утверждаешь! А кто вчера говорил: как только найдем Самохина, все встанет на свои места. — Ну, говорил, говорил, — отмахнулся Арслан. — Сам посуди. 13 января некто передает «подарок» для Калетдиновой, «подарок», несущий смерть. Но, в силу обстоятельств, не зависящих от дарителя, цель не достигнута, и тогда, спустя несколько дней, на Калетдинову совершается нападение... — Чтобы ограбить? — возразил Николай и остановился. — Конечно, нет, чтобы убрать. Сила удара говорит как раз за то, что ее хотели убить, а не ограбить. А вещи... вещи были взяты, чтобы навести на мысль об ограблении. — Нет! Не то, — решительно возразил Соснин. — Они не знакомы друг с другом, вот ведь что главное! — в голосе Соснина послышались торжествующие нотки, этот довод представился ему наиболее убедительным опровержением. — Она села в его машину случайно. — Почему? — спросил Арслан. — Да потому, что зная его, если между ними что-то произошло, она подозревала бы о его намерениях. — Ну, это не обязательно! Он же наверняка их скрывал. И потом, пока ведь нам не удалось установить, кто этот таинственный второй Алексей. Может, это и есть Самохин? — Может быть, — согласился Николай. — Но ведь есть еще вещи совсем необъяснимые. — Например? — Например, судьба самого магнитофона. Вот смотри. — Соснин остановился быстро и начертил концом лыжной палки схему. — Вот, так сказать, путешествие магнитофона во времени и пространстве. 17 октября магнитофон был похищен в числе других вещей из квартиры Рустамовых, — Николай перечеркнул один кружок и продолжал: — Несколько дней спустя магнитофон этот оказался у Брискина, который перепродал его любительнице импортных вещичек Лялиной. — Соснин зачеркнул два следующих кружочка. — 22 декабря неизвестные ребята ограбили сына Лялиной и отняли у него магнитофон. Потом... — Николай задумчиво покрутил в руках палку и, пропустив два кружочка, обозначил третий буквой «П». — Пединститут. А вот где блуждал наш неутомимый путешественник с 22 декабря по 13 января, пока не известно. Арслан слушал внимательно, не перебивая. — Надеюсь, Арслан Курбанович, вам все понятно? Арслан вопросительно посмотрел на него. — Непонятно, — вздохнул Соснин. — И мне тоже. Как у Самохина мог оказаться магнитофон, который в конце декабря неизвестные мальчишки отняли у Лялина? Какая между ними связь? Что это: организованная рецидивистом Самохиным преступная группа? Чертовщина какая-то. Прямо черная и белая магия, — невесело рассмеялся он и махнул рукой. Арслан кивнул. — Да, загадки... У тебя есть предложения? — Что здесь можно предложить? Если бы я был начальством, то предложил бы, — голос Соснина зазвучал нарочито официально: — Максимально активизировать проведение оперативно-следственных мероприятий по установлению и задержанию Самохина, а также мальчишек-грабителей. — А в качестве подчиненного? — улыбнулся Арслан. — То же самое... — Так что мы, наконец, пришли к одному знаменателю? — Похоже на то, — признал Соснин. Друзья так увлеклись, что не заметили, как подъехали Рано, Света и Шухрат. Нападение было неожиданным и поэтому увенчалось полным успехом. Повалив Николая, Света затолкала ему снег за воротник. Рано, натирая снежком нос мужу, приговаривала: — Будете еще говорить о работе? Будете? Арслан и Николай подняли руки, сдаваясь на милость победителей. Возвращались, когда солнце уже сидело на вершине горы. Усталый, но довольный Шухрат дремал на руках у отца.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Явите божескую милость, товарищ капитан, перекиньте на другой участок, — жаловался Манукян. — Я уже виток вокруг нашей старушки-планеты накатал на этих чертовых троллейбусах. По ночам снится, что меня в компостер засовывают. Между прочим, вы знаете, что творится в часы пик? Запросто могут придавить при исполнении, рискуете оголить уголовный розыск... — Не паясничай, — нахмурился Николай. — Давай, катайся дальше. И Манукян продолжал троллейбусные поездки с Венькой Лялиным — искали грабителей, которые в тот день вскочили с магнитофоном в троллейбус у остановки «Горбольница». Самое трудное заключалось в том, что, во-первых, они могли не обязательно сесть в «свой» троллейбус, во-вторых, Венька не заметил даже номера маршрута, а здесь останавливались четыре троллейбуса, которые шли в разные концы города. Вот и приходилось ездить по всем направлениям. Сегодня Манукяну попался счастливый билет — «555483». Лейтенант улыбнулся сидевшей напротив девушке в очках. Интересно, если поцеловать ее, очки будут мешать? Наверное, будут... Так какова же вероятность встречи? Очень просто: в числителе — количество троллейбусов, умноженное на число остановок. Ну, а в знаменателе? Эти паршивцы. Да, на такие шансы можно ловить, только имея в руках счастливый билет... Он вздохнул. Венька стоял у кабины водителя, изредка бросая рассеянный взгляд на Манукяна.* * *
Перед Туйчиевым сидел Брискин. Немолодой полный мужчина, с холеным лицом, густой седой шевелюрой, в модных очках. Внезапная проверка расположенного у вокзала комиссионного магазина выявила семь незарегистрированных вещей, в том числе три каракулевых манто и два импортных транзистора. После проведенной вскоре очной ставки с Лялиной Брискин заговорил. — Вы знаете, гражданин следователь, я в своем роде рекордсмен: уже много лет не попадался. У меня свой метод — я не у всех беру и не всё беру. О, далеко не всё! — Брискин приветливо смотрел на следователя сквозь толстые стекла очков. — Суровый урок прошлого, когда меня взяли, извините, с французскими комбинациями, пошел на пользу. — Брискин снял очки, тщательно протер их платком. — Когда я вышел последний раз из колонии, решил — завяжу. Нет, нет, это не оправдание. Можете даже не заносить в протокол. Тем более, что не завязал. Стал брать только ценные вещи. Вы себе не представляете, — доверительно сказал он, — как хлопотно пристроить надежно вещь и не оставить за собой шлейфа. — Вы отвлекаетесь, Брискин. — Простите, но я должен постепенно настроиться. Такая вот индивидуальность, иначе я вам нагорожу чушь. Правда требует настроя, ведь мне ее, как вы понимаете, не часто приходится говорить. А теперь все равно. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. — Вот-вот, — Арслан улыбнулся одними глазами. — И что мне помешало завязать? Ни за что не угадаете. Виной всему конкретная историческая личность — Филипп Македонский. Туйчиев недоуменно посмотрел на Брискина. — Отец великого завоевателя, — пояснил Брискин и вздохнул. — Вычитал я в молодости в книге одной, что Филипп Македонский говорил: «Никакую крепость, в которую есть тропинка для осла, нагруженного золотом, нельзя считать неприступной». Увы, я не исключение. Дочь только жаль. Но сознаю — сам виноват. Хотелось украсить ее жизнь, и вот... — Да, подумать вам об этом придется, — сказал Туйчиев. — Но вернемся к делу. Так значит, человек, принесший магнитофон, вам хорошо знаком? — Насколько хорошо может быть знаком человек, который несколько раз приносил мне различные вещи по божеской цене и никогда не называл себя. — Почему он приносил вещи именно вам? — Его привел мой хороший знакомый, фамилия которого вам уже ничего не скажет. Он умер три года назад. Грудная жаба. Но помочь следствию — мой долг. Тем более, что этот долг будет оплачен. Признание — это же смягчающее вину обстоятельство?.. В детстве я неплохо рисовал. Разрешите листок бумаги. Как я понимаю, этот тип вас интересует больше, чем я. Брискин быстро набросал на бумаге что-то и протянул Туйчиеву. Довольно симпатичный молодой мужчина, с несколько удлиненным лицом. Внизу каллиграфическим почерком было записано: «Невысокий, светловолосый, глаза карие. Особые приметы — на левой щеке большая родинка». Арслан чуть не подскочил на стуле. — Ну, что ж, Брискин, на сегодня, пожалуй, хватит, — Арслан нажал кнопку. Подойдя к двери, Брискин обернулся и обронил: — Между прочим, я как-то несколько раз видел его в районе клуба хлопкозавода. Туйчиев еще раз внимательно посмотрел на рисунок. Он уже не сомневался: с листа на него смотрело лицо Самохина.* * *
Это была ошибка. Он не должен был входить в этот дом. Ведь он шел не на задержание, а на разведку, поскольку до сих пор не было известно, где скрывается Самохин, и памятуя брошенное Брискиным «в районе хлопкозавода», он уже несколько дней бродил здесь один, стараясь не привлечь внимания. Но понял свой просчет слишком поздно. Еще не успев закрыть за собой наружную дверь, он получил сокрушительный удар в челюсть. Очнулся на полу, в очень узкой и темной комнате без окон. С трудом встал, держась рукой за раскалывающуюся от боли голову. В ушах звенело. Их было двое. Самохин с интересом рассматривал Соснина и вертел в руках его пистолет. Второй, жилистый и сутулый, сидел на табуретке у стола, уставленного бутылками. — Из-за меня влип, бедолага, — издевательски сочувственно произнес Самохин. — Ну, ничего, не ты первый. А я лучше думал о вашей службе. Повидаться захотелось? — он сощурился. — Что ж, давай погутарим. Слово тебе даю. Последнее слово, — зловеще добавил он. Сутулый загоготал. — Ну, ты даешь! — Я тоже лучше думал о тебе, Самохин, — сказал Соснин. — Неужели ты думал, что я приду один? Дом окружен, и самое лучшее для тебя — отдать оружие и не брать на душу еще один грех. И так хватает. Ни один мускул не дрогнул на лице Самохина. Не поворачивая головы, он бросил сутулому: — Ну-ка, глянь вокруг. Сдается мне, на пушку лягавый берет. Да поаккуратней, без шума. Тихо скрипнув дверью, сутулый вышел. Соснин нагнулся, стал зашнуровывать ботинок. — Марафет наводишь? — подошел к нему Самохин. Молниеносно перехватив лодыжку Самохина, Николай резко рванул ее влево. Подхватив выроненный пистолет, Соснин попятился к окну. Дверь открылась. Вошел сутулый. — Заливает он, Леха. Кончай разговоры, уходить надо... — Руки на стену! — зло прошептал Николай сутулому. Тот, увидев направленный в грудь пистолет, послушно вытянул вдоль облупленной стены длинные руки с черными ногтями. На полу тихо стонал Самохин.— Ну как? Будем начинать? — Давай, раз тебе так не терпится, герой, — улыбнулся Туйчиев. Ввели Самохина. Он внимательно осмотрел кабинет, бросил мимолетный взгляд на Туйчиева, сел и стал тщательно изучать свои ладони. — Почему вы бросили свою машину, Самохин? — начал допрос Туйчиев. Самохин поднял голову. — Испугался я. — Это вы-то испугались? После того, как меня чуть не укокошили? — усмехнулся Николай и невольно тронул скулу. — Вызова вашего испугался. — Нельзя ли яснее? — Почему же нельзя, — с готовностью отозвался Самохин. — Тут ведь как получилось? Последние дни на автобазе слухи разные ходили: дескать, водителя какого-то за левый гравий милиция ищет. Ну, я, как услыхал такое, мигом развернулся. Почему, спросите? Да ведь грешен: машину гравия и я раз налево пустил. — Самохин горестно вздохнул. — Судимый же я! — с надрывом произнес он, ударив себя в грудь. — Поэтому и дал деру, — Самохин помолчал немного, ожидая новых вопросов, но, поняв, что Соснин и Туйчиев ждут его дальнейших объяснений, сокрушенно закончил: — Глупо, конечно. Машину загубил, всех переполошил. Одним словом, лукавый попутал... — Так сколько машин гравия вы всего продали? — Я же сказал, одну всего, — Самохин явно был доволен, что речь идет только о гравии. — Хорошо, — Соснин подошел к Самохину. — А теперь расскажите, как брали квартиру Рустамовых? Самохин вскинул голову и встретил внимательный и, как ему показалось, насмешливый взгляд Соснина, словно говорящий, что им все известно, но интересно услышать, что еще придумает Самохин. Тот хрипло переспросил, стараясь выиграть время: — Что еще за квартира? — Комсомольская, четырнадцать, — уточнил Туйчиев. — Не знаю, о чем говорите, — злобно ответил Самохин. — Как же не знаете? — Самохин снова встретился со взглядом Соснина. — Там еще магнитофон импортный был, комиссионщик взял его потом у вас. Вспомнили? — Отдохнуть бы мне... — Хорошо, — согласился вдруг Туйчиев. — Поговорим об этом завтра. — Почему ты отправил его? — Соснин с трудом сдерживал раздражение. — Что за поблажки этому типу? — Никаких поблажек, — спокойно возразил Туйчиев. — Самохин, конечно же, заготовил какое-то объяснение на любой случай. А мы его и слушать не стали. Понимаешь, мы провели сейчас нужную, очень нужную разведку боем, вселили в Самохина сомнения, показав, что нам о нем немало известно. А теперь — готовиться к настоящему бою, завтрашнему допросу.
* * *
Арслан рано вышел из дома. Сначала он хотел пройтись пешком, но, увидев, что к остановке подошел почти пустой автобус, изменил намерения. Он сел и закрыл глаза. Как всегда перед сложным допросом расслабился, чтобы потом, у себя в кабинете, собраться, сконцентрировать в единое целое ум, волю, выдержку и энергию. Ему вспомнились почему-то слова любимого студентами профессора криминалистики Фишмана. Лекции тот читал в своеобразной манере: расхаживая по аудитории, профессор неторопливо, словно рассуждая вслух, а не обращаясь к студентам, говорил: «— Допрос преступника... Одно из многочисленных, но, пожалуй, самых ответственнейших и сложнейших следственных действий. Если хотите, это поединок двух мировоззрений, столкновение двух полярных идеологий. Да, да. Это сражение, и следователь не вправе его проиграть, хотя, почти никогда не обладая к моменту первого допроса полной информацией, находится в менее выгодном положении. Защищаясь, преступник может прибегать практически к любым уловкам, ухищрениям, подлости, лицемерию. А вы, мои дорогие коллеги, — внезапно остановившись, обращался профессор к аудитории, — вправе в этом сражении использовать исключительно законные методы расследования. Да, да. Только и только в рамках закона. Что? Опять неравенство? — задавал он себе вопрос. — Безусловно. И единственно, чем можно его компенсировать — это высокой профессиональной подготовкой. Да, да. Именно это ваше основное оружие, мои уважаемые коллеги». Арслан отчетливо видел трудность предстоящего допроса: надо было построить его так, чтобы сам Самохин восполнил бреши в материале, имеющемся у следствия. А оно, к сожалению, располагало минимумом необходимых доказательств. Прежде всего обращал на себя внимание факт категорического отрицания «левых» ходок восемнадцатого января; затем были следы протектора на месте обнаружения Калетдиновой и странная метаморфоза с покрышками на автомашине Самохина; наконец, его побег, — и на этом улики кончались. Правда, была еще интуиция, профессиональная интуиция, подсказывающая, что именно на этом человеке замыкается круг с ограблением Калетдиновой и, возможно, со взрывом, хотя последнее все более казалось проблематичным. Но никаких иллюзий Арслан не питал, прекрасно понимая, что интуиция хороша лишь как вспомогательное средство. Нужны только доказательства, и искать их придется в ходе допроса Самохина. — Итак, Самохин, начнем с того, что вы внезапно бросили свою машину. Расскажите подробно, что толкнуло вас на этот шаг, чем он был вызван. — Я же вчера говорил. Испугался. У вас же записано. — Давайте уточним, — предложил Туйчиев, — сколько раз и когда вы возили гравий для продажи? — Говорил же, один раз, гражданин следователь, в декабре. Число точно не помню. — Ложь, Самохин. Следствие располагает данными, что вы и в этом месяце возили «левый» гравий. Какого же числа были вы на карьере? Туйчиеву показалось, что Самохин едва заметно вздрогнул. — Не был я там. И тут произошло нечто невероятное. Туйчиев, нарушая вдруг тщательно разработанный план допроса, начал задавать бессмысленные, по мнению Николая, не относящиеся к делу вопросы. — Ну, что ж, а теперь расскажите, как вы совершили наезд? — спокойно спросил Арслан. Удар был неожиданный и совсем не с той стороны, с которой можно было ожидать. Самохин широко раскрытыми глазами смотрел на Туйчиева. — Наезд? Какой наезд? Что вы, гражданин следователь, я знать не знаю и ведать не ведаю ни о каком наезде. Николай встал за спину Самохина и стал делать Арслану знаки: дескать, что все это значит? Но Арслан продолжал, не обращая на него никакого внимания: — Наезд, который вы совершили на девочку восемнадцатого января около Янгикургана примерно в половине одиннадцатого утра. — Ничего такого не было! — срывающимся голосом выкрикивал Самохин. — Неправда это! «Арслан совсем с ума сошел! — разозлился Соснин. — Какой еще Янгикурган, это же совсем в другой стороне». — Спокойнее, Самохин. Вы сбили девочку и на большой скорости, не останавливаясь, скрылись. Свидетели происшествия запомнили номер машины 66-00. Сами посудите, откуда бы мы его иначе взяли? Мы лишь ждали, пока вы вернетесь из рейса. — Как я мог наезд совершить около Янгикургана, если там вообще не был в тот день? — А где вы были? — быстро спросил Николай, вдруг ухватив суть тактического хода Туйчиева. — Как, где? На карьер ездил, — автоматически ответил Самохин и осекся. — Вы же только что говорили, что не были там восемнадцатого. Где же правда? Самохин понуро опустил голову. — Был я там, гравий возил. — В котором часу? — Точное время запамятовал, но до обеда был. — Сколько ходок сделали? — Одну. — Гравий возили, конечно, по документации? — усмехнулся Соснин. — Чего уж там, «левый», — махнул рукой Самохин. — То, что гравий возили в тот день, мы знаем. Только было это во второй половине дня. Утром же, между половиной одиннадцатого и одиннадцатью, вы были в районе Янгикургана, где и совершили наезд. — Не был я вообще там в это время! — Самохин судорожно провел рукой по лицу. — А где же вы были в это время? — Туйчиев настойчиво повторил вопрос. — Ну, где? И кто подтвердит это? — Григорьев... — отрывисто произнес Самохин и тут же испуганно замолчал. Но было уже поздно. — Кто это Григорьев и что он подтвердит? — с трудом скрывая охватившее его нетерпение, спросил Арслан. — Шофер наш, 67-32 его машина. Встретил я его как раз в это время, — Самохин на миг замолчал, но, вдруг оживившись, добавил: — Не доезжая автовокзала. Когда Самохина увели, Соснин улыбнулся. — А я не сразу понял, почему ты решил «обвинить» его в наезде. — Знаешь, Николай, в какой-то момент я почувствовал, что наш план допроса дал трещину: Самохин уходит, как вода между пальцами. Я вдруг понял, что дальше признания факта перевозки «левого» гравия с карьера он не пойдет. А это признание недорого стоит, мы без того знали, что он там был. Для нас важно было установить другое: кто, когда и где видел Самохина до того, как он приехал на карьер. Ну, я и решил сымпровизировать. — А вообще, здорово получилось! — сказал Соснин. — Сам того не ведая, Самохин дал нам существенное доказательство. Надо не забыть, в случае успеха, поблагодарить его за это. Как думаешь? — Ты, кажется, зря празднуешь победу, — вдруг как-то сник Туйчиев, — Самохин же ясно сказал, что встретился с Григорьевым, не доезжая автовокзала. Значит, в кабине у него не могло быть Калетдиновой. Самохин тертый калач, вряд ли он признается в чем-либо, не будучи уверен, что это ему ничем не грозит. Посмотрим, — задумчиво протянул он, резко встал и подошел к Соснину. — Ну, что, сразу будем вызывать Григорьева или на завтра отложим? — Только сразу.* * *
Девушка в очках вышла через остановку, и Манукян с сожалением проводил ее взглядом. Они доехали до конечной и пересекли площадь. У газетного киоска встали в очередь. — Ты, что ли, крайний? — спросил у Веньки кто-то сзади. От этого голоса Венька похолодел, как тогда, в телефонной будке. Но теперь он отважился поднять глаза. Да, сомнений быть не может. Боясь оглянуться, Венька украдкой посмотрел на стоящего сбоку лейтенанта так, что тот все понял. — Не крайний, а последний, — поправил Манукян, отвечая за Веньку. — Чему вас только в школе учат! Ты за газетами? — в свою очередь спросил он у высокого рыжеватого парня. — Нет, за сигаретами, — удивился рыжий. — А что? — Зачем в очереди стоять? У меня есть, — похлопал по карману Манукян. — Пойдем, пойдем, времени в обрез, — он протянул ошарашенному парню удостоверение...«Что-то нащупал Женя, — подумал Соснин, глядя на нарочито медленно приближавшегося к нему Манукяна. — А здорово он похудел, прямо вешалка ходячая». — Велика беда — похудел, ты на себя глянь. Талант у парня. Но все-таки неприятный осадок от такой прозорливости остается. Соснин поежился. — Ну, пошла телепатия. Выкладывай, с чем пришел? — Не с чем, а с кем, — скромно уточнил лейтенант и приоткрыл дверь, впуская в кабинет Димку Осокина.
* * *
Оторвавшись от вязания, Клавдия Никитична Гурина посмотрела на входную дверь и обомлела: прямо на нее шел он. Сердце у нее бешено заколотилось, спицы выпали из рук, но она даже не заметила этого. Мысли лихорадочно сменяли одна другую, но все они сводились к одному вопросу: что делать? «Господи боже мой, точно — он... И пакет опять у него в руках... Кажется, такой же... Что будет-то? Быстро сообщить, да кому? В милицию позвонить, что ли? Пока проканителюсь со звонком, он и уйдет...» И Клавдия Никитична решила проследить, куда пойдет этот парень, где оставит он теперь свой «подарок». К ее немалому удивлению, парень не проявлял и тени беспокойства — он деловито шагал по коридору. Подойдя к двери с табличкой «Методисты заочного отделения», уверенно открыл ее и вошел. Клавдия Никитична несколько минут покрутилась около двери и, наконец решившись, приоткрыла ее. Она увидела, как парень что-то шепчет на ухо Гале Тумановой, самой молоденькой из методисток и очень хорошенькой, а та улыбается. — Ну что, Галочка, договорились? — спросил парень. — Посмотрим на ваше поведение, — кокетливо ответила та. — Тогда договорились. Хорошее поведение гарантирую. Значит, на той неделе? — полувопросительно подытожил он. — Побежал я, счастливо. Туманова кивнула ему и склонилась над стопкой контрольных работ. — Слышь, Галина, что это за парень сейчас к тебе подходил? — Клавдия Никитична без церемоний подсела к столу. — Заочник наш. — А ты фамилию его знаешь и все прочее? — продолжала допытываться Клавдия Никитична. Туманова удивленно вскинула голову: — Чего вам, тетя Клава, дался этот парень? — Зря спрашивать не стану, стало быть надо, — решительно потребовала Клавдия Никитична. — Пожалуйста, — Туманова язвительно скривила губы, — если вам так надо, могу сказать. — Ты, милая, лучше сама на листочке напиши, — после случая с Калетдиновой Гурина уже не доверяла себе. Пожав плечами, Туманова взяла листок бумаги. Написав, прочла вслух: — Левшин Алексей, четвертый курс, физмат. — Протянув листок Гуриной, она не удержалась и съехидничала: — Будут еще вопросы? — Будут, — уверенно пообещала ей Клавдия Никитична, пряча листок. — Только опосля и не от меня. Галочка ошеломленно глядела ей вслед.— ...Левшин Алексей Трофимович, студент-заочник, холост, работает водителем СМУ «Взрывпрома». Короче, познакомься сам с установочными данными, — Соснин протянул Арслану справку. — Т-а-а-к, — протянул Туйчиев, прочитав документ. — Интересно, а? — обратился он к Николаю. — Ты имеешь в виду место работы? — Вот именно! — подчеркнул Туйчиев. — Прямо или косвенно, это мы еще уточним, но доступ к взрывчатке он, видимо, имел. При нашей бедности — это уже ниточка. — Только бы не оборвалась, — вздохнул Соснин.
* * *
У двери палаты лечащий врач остановилась и еще раз повторила: — Значит, недолго и очень осторожно. Ей ни в коем случае нельзя волноваться. — Не беспокойтесь, Рахима Хакимовна, по первому вашему требованию прервем беседу, — заверил Соснин. Девушка открыла глаза, рассеянно посмотрела на пришедших. Спустя минуту глаза ее пояснели, зажглись, впустили в травмированный мозг сложный и беспокойный мир. — Мы из милиции. Как вы себя чувствуете, Люция? — спросил Соснин. — Спасибо. Сейчас лучше, — девушка помолчала и попросила: — Зовите меня Люсей. — Почему? — не понял Туйчиев. — Так все меня зовут, я привыкла к этому имени. — Прекрасно, — подхватил Соснин. — Люся так Люся. Имя вполне подходящее. Больная слабо улыбнулась. — Скажите, Люся, в чемоданчике были какие-нибудь ценности? — начал Туйчиев. — Нет, — покачала головой Люся. — Мы так и думали, — кивнул Соснин. — Припомните, пожалуйста, о чем вы говорили в дороге с шофером? Калетдинова напряглась, пытаясь вспомнить, но по всему было видно, что это ей не удается. На лице девушки отразилась досада. Врач многозначительно кашлянула. — Вы любите музыку, Люся? — спросил Туйчиев, меняя тему. — Очень. — А какая вам нравится больше — классическая или легкая? — Знаете, та и другая, но классическая мне ближе. — Ходили на концерты? Соснин понял замысел друга: исподволь подойти к магнитофонной записи и ее владельцу. — Старалась не пропустить ни одного. Правда, не всегда получалось. Знаете, — оживилась она, — мы ходили даже на отчетные концерты в консерваторию. — Кто мы? — поинтересовался Арслан. — Я и... — Люся запнулась, но тут же добавила: — девочки из группы. — Только ли девочки? — шутливо вставил Соснин. — Мальчики к классике равнодушны... — Люся побледнела. — Вам нехорошо? — донесся до нее голос врача. — Нет, нет. Просто очень ярко светит солнце. Пожалуйста, задерните штору... Туйчиев вопросительно посмотрел на врача. Та кивнула, разрешая продолжать беседу. — А кто ваш любимый композитор? — возвратился снова к теме о музыке Арслан. — Как вам сказать? Каждый хорош чем-то своим. — Ну, а например, магнитофонные записи, диски с классической музыкой вы собирали, отдавая предпочтение каким-то определенным композиторам? Калетдинова удивленно вскинула брови: — Я этим не занималась... Любила слушать музыку, но не коллекционировать, — пояснила она, почему-то в прошедшем времени, отчего даже мужчинам стало не по себе. — У меня и магнитофона нет. — А проигрыватель? — Тоже нет. — И все же, Люся, я повторяю свой вопрос: кому-то вы отдаете особое предпочтение? — Туйчиев настойчиво шел к поставленной цели. Врач недоумевала: «И чего это они о музыке да о музыке? Можно подумать, они не следователи, а музыканты. Девушку ограбили, чуть не убили — так вот и выясняйте. Как будто, если она назовет любимого композитора, то сразу поймают грабителя! Чудеса да и только». — Пожалуй, Гайдн, — подумав, ответила Калетдинова. — Прекрасно! — согласился Николай. — А что вам нравится у Гайдна? — Мне? — переспросила она, — «Прощальная симфония». —Грусть отразилась в ее зеленых глазах, она закрыла их, отвернулась и всхлипнула. Это обеспокоило врача, она торопливо подошла к кровати, взяла руку Калетдиновой, прощупывая пульс. Девушка открыла глаза. Они были полны слез. Туйчиев и Соснин уже не сомневались, что избрали правильный путь беседы. Где-то здесь, совсем рядом, лежит разгадка этой истории с симфонией Гайдна, записанной на пленке взорвавшегося магнитофона. Но врач была неумолима. Напрасно Соснин шептал врачу, что ему очень нужно задать хотя бы еще два вопроса. Рахима Хакимовна решительно направилась к двери; Туйчиев и Соснин вынуждены были последовать за ней, да и ясно было, что девушку больше травмировать нельзя. Однако уже от дверей Туйчиев вдруг вернулся, подошел к кровати больной и, показывая на средний палец левой руки, спросил: — У вас здесь было колечко? — Семейная реликвия, досталась от бабушки... Очень красивое, — вздохнула Люся и разгладила след от кольца на пальце. — Где же оно? — Не знаю, — Люся показала на голову и вяло улыбнулась. — Арслан Курбанович! — нетерпеливо позвала Туйчиева врач. — Иду, иду, — отозвался он и приветливо махнул девушке рукой. — Спасибо. Поправляйтесь, мы еще увидимся.* * *
— Значит, Левшин, вы признали, что магнитофон передан вами. И знакомство с Калетдиновой вы не отрицаете, — еще раз уточнил Соснин. — Разумеется. — Расскажите о ваших отношениях, — попросил Арслан. Левшин надолго замолчал. — Это были хорошие отношения, — наконец произнес он и грустно улыбнулся. — Мы встречались около двух лет, — он снова умолк. — Я слушаю вас, Левшин, продолжайте. — Все не так просто. Где-то с полгода назад нашей дружбе пришел конец. — По чьей инициативе? — Не по моей. — Она стала встречаться с другим? — Не знаю. Когда же Левшин, мягко улыбнувшись, признался, что при необходимости он мог бы раздобыть у себя на работе немного взрывчатки, это уже совершенно обескуражило Соснина. «Что за странный тип! — напряженно размышлял Николай. — С какой легкостью свидетельствует против себя. — Неужели он не понимает всю серьезность своего положения? Надо же! А главное, у него есть далеко не абстрактное основание мстить Калетдиновой: ведь его отвергли. Неужто он так хитер и дальновиден, что правдиво рассказывает нам отдельные детали, не сознаваясь в главном, понимая, что мы ничем больше против него не располагаем? В кошки-мышки играет с нами! Если его простодушие наигранное, то это — гениальный актер. Ну, а если?.. Тогда остается одно: он говорит правду. Был, выходит, некий незнакомец, попросивший его выполнить небольшую просьбу, тем более, что Левшин сказал ему о своем знакомстве с Калетдиновой. В самом деле — почему не мог Левшин быть таким промежуточным звеном в преступном замысле гражданина «Икс», если только тот вообще существует? Оказал любезность, ничего не зная и ни о чем не ведая. Хорошо. Пусть так. А если все же месть? Мало ли расставаний бывает у юношей и девушек? Что ж, убивать за это? Чепуха. Тогда какой же мотив, каковы побудительные причины? Пусто... Выходит, должно было совершиться безмотивное убийство — но столь тщательно подготовленное?! Абсурд... Ладно, продолжим по порядку. Во-вторых... Во-вторых, Левшин ведь продолжает посещать институт. Супермен какой-то? Ведь при таких условиях возможность оставаться неразоблаченным у него равна нулю. Или его, как Раскольникова, тянет на место преступления?.. Ну, вот, я уже и до достоевщины дошел. Значит... Значит, Левшин в этом деле лицо случайное, на его месте мог оказаться любой другой студент, к которому «Икс» обратился бы с подобной просьбой. Самохина он не опознал, стало быть...» — Скажите, Левшин, а не кажется ли вам странным, что незнакомец обратился именно к вам, — прервав слишком затянувшуюся паузу, продолжил допрос Соснин. — Разве он сам не мог передать адресату свой подарок? — Конечно, — согласился Левшин, — только знаете, он очень спешил. Билет мне показывал на самолет и машина его ждала, такси. Соснин внимательно следил за выражением лица Левшина, но каждая его черточка излучала правдивость.* * *
Несмотря на всю очевидность совершенного, ребята отрицали факт ограбления Лялина. Магнитофон отсутствовал — и это вселяло в них уверенность. Их наивный расчет строился на количественном соотношении доказательств: их трое, а Лялин один. Значит правда на их стороне и поверить должны им. И Славка, и Колька не раз внутренне порывались рассказать все следователю и сбросить тяжкий груз, давивший душу все это время, но их удерживало от этого шага мальчишеское понимание товарищества, и они упорно ни в чем не хотели признаваться. Димка же решил твердо: ни слова. Их молчание серьезно задерживало расследование по взрыву. Туйчиеву и Соснину важно было выяснить дальнейшую судьбу магнитофона — в чьи руки он попал потом. Только проследив до конца путь этого злополучного прибора, можно было выйти на преступника. Сами мальчишки исключались: вахтер Гурина никого из ребят не опознала, связей с Калетдиновой у них никаких не было. Необходимо было срочно выйти из этого тупика. И помочь выйти им. Арслан собрал ребят вместе, посадил перед собой. Мальчишки упорно смотрели по сторонам, изучая стены кабинета. — Давайте, наконец, говорить как мужчины, — негромко предложил Туйчиев. Ребята удивленно уставились на следователя, а Колька Хрулев спросил: — А это как? — На равных, — разъяснил Арслан. Колька заерзал на стуле. Димка Осокин продолжал оставаться безучастным и сидел, понурив голову, а Славка Лазарев недоверчиво заявил: — Не получится, — и, усмехнувшись, добавил: — мы же дети. — Получится, — уверенно произнес Арслан, — да и какие вы дети, если вот-вот школу кончаете. И в истории с магнитофоном вели себя не по-детски, а? Так вот, мне очень хотелось бы, чтобы сейчас, в этот момент, вы успешно сдали самый важный экзамен — на человеческую зрелость. Арслан поднялся из-за стола, взял стул и подсел к ребятам. — Слушайте, — решительно сказал он. — До сих пор мы не знакомили вас с сутью дела. А теперь вынуждены. Так вот, слушайте и решайте сами. 13 января в пединститут пришел молодой человек. Сославшись на занятость, он попросил вахтера передать небольшую посылку одной студентке. В посылке был магнитофон. — От взгляда Туйчиева не укрылось, как при этих словах вздрогнул Димка, Колька крутнул головой, а Славка еще больше вжался в стул. — Это был тот самый магнитофон, который ты, Осокин, вырвал у Лялина. Студентку, к счастью, не нашли, она уехала на каникулы, и поэтому решили временно сдать его на хранение. Но когда магнитофон включили... — Арслан нарочно сделал паузу, внимательно следя за выражением лиц ребят, — раздался взрыв. Изменившись в лице, Славка Лазарев вперил в Туйчиева острый взгляд. — Есть у-убитые? — срывающимся от волнения голосом спросил он. — К счастью, нет. Но могли быть и, в первую очередь, студентка Калетдинова, почти ваша ровесница. А вы своим нелепым молчанием, по сути, помогаете убийце, скрываете — кому и зачем вы дали отнятый у Лялина магнитофон. Корчите из себя героев, великомучеников, а на деле... Короче, оценку себе попробуйте дать сами. Общее молчание длилось недолго. — Димка! — решительно потребовал Лазарев. — Расскажи! И Дима заговорил. Быстро, словно торопясь освободиться от гнетущей тяжести.* * *
Григорьев, немолодой, лысоватый водитель, долго и обстоятельно вспоминал, куда он ездил в тот день и кто из знакомых шоферов попадался ему на пути. Наконец он назвал Самохина. Где он его встретил? Возвращался в город и около автовокзала навстречу ему и попался Самохин. — Сколько, примерно, километров вы проехали от автовокзала, прежде чем встретили Самохина? — спросил Николай. — Так ведь я его встретил, не доезжая автовокзала, — пожал плечами Григорьев. — Не ошибаетесь? — Точно. Там у меня машина забарахлила. Чихала, чихала и остановилась. Ну, думаю, бензопровод опять засорился. Вылез я из кабины, и в этот момент как раз мимо Самохин проезжал. Он еще притормозил, спросил, не нужно ли помочь. Друзья переглянулись, с трудом сдерживая охватившее их волнение. Если Григорьев не ошибается, это может означать только одно: к моменту его встречи с Самохиным тот уже миновал автовокзал, ведь их машины двигались навстречу друг другу. Вот она, решающая минута! Арслан задает Григорьеву вопрос, от ответа на который так много зависело: — Был ли у Самохина в кабине пассажир? — Женщина была какая-то. В красном пальто, — уточнил Григорьев. — Вы хорошо рассмотрели ее? Сможете узнать? Григорьев неопределенно пожал плечами: — Если увижу, возможно, и узнаю. Точно сказать не могу. Соснин разложил на столе веером около десятка фотографий женщин. Григорьев внимательно вглядывался в каждую из них, но на одной задержал взор и, после недолгого колебания, протянул Николаю фото Калетдиновой: — Вот эта. Точно. Да, это была удача, настоящая удача! И как ни парадоксально, никто иной, как сам преступник вложил в руки следователя оружие против себя...— Итак, Самохин, январскую «операцию» с гравием вы теперь признаете? Самохин даже не сделал попытки заглянуть в протянутую ему Туйчиевым бумагу. — Ну да ладно, ваша взяла. — Самохин изобразил на лице глубокое уныние. — Раскололи. — Вот и хорошо, что признались, — Арслан не скрывал удовлетворения: Самохин явно был слишком рад, надеясь, что на истории с гравием все закончится. — Так. Давайте теперь запишем ваше признание в протокол. Взяв ручку, Арслан склонился над протоколом, но внезапно поднял голову, будто что-то вспомнив. — Чуть не забыл! Вы оказались правы, Самохин. Григорьев действительно подтвердил, что встретил вас восемнадцатого. Значит, в Янгикургане в это время вы не были, наезд совершил кто-то другой. Ну, ничего, найдем его. — Туйчиев выдержал небольшую паузу, глядя на повеселевшее лицо Самохина. — Да, кстати... Почему ваши покрышки оказались на машине Бражникова? Самохин провел ладонью по лицу, на миг прикрыл глаза. Затем, глядя куда-то мимо Арслана, устало ответил: — Эх, семь бед — один ответ. Продал я их, гражданин следователь. Продал Бражникову. У меня еще мои старые были не так уж плохи, вот и решил немного подзаработать. — Когда это было? — В конце сентября, кажется, или в начале октября, но, скорее всего, в сентябре... Да вы, гражданин следователь, сами, наверное, точнее знаете. Вы ведь все знаете, — с явной издевкой ухмыльнулся Самохин. — Вы правы, знаем. Только не продавали вы их Бражникову. Просто подкинули ему, зная, что ему нужны покрышки. Сделали же вы это девятнадцатого января, Самохин. А теперь расскажите, почему вы так поступили? — голос Туйчиева звучал спокойно, но твердо. Самохин ничего не ответил. — Может, вы объясните, почему это сделали именно девятнадцатого января, а не раньше или позже? — Не знаю. Самохин избрал хорошо знакомую им тактику рецидивиста: там, где он считал, что может сказать что-либо в свою защиту, он говорил. Если же вопрос ему не нравился, Самохин молчал или, в лучшем случае, отвечал односложное «не знаю». — Придется вам помочь. Вы прибегли к этому трюку, чтобы отвести от себя подозрение и бросить тень на Бражникова. Вот они, следы протектора вашей автомашины, — Арслан протянул Самохину фотоснимки. — Ну, как, припоминаете? Взглянув на фотоснимки, Самохин резко изменился в лице и тут же вскинулся: — Откуда же видно, что это следы именно моей машины? — Из заключений экспертов, Самохин. Так кто был с вами в машине? — Никого никуда не возил. — А вот Григорьев даже сумел ее опознать, — настойчиво и ровно продолжал Туйчиев. — Вот она, посмотрите. — Арслан вынул из ящика стола и придвинул к Самохину фотокарточку Калетдиновой. — Узнаете свою пассажирку? Самохин, пытаясь прийти в себя, долго рассматривал фото, затем ознакомился с показаниями Григорьева... Только после этого он произнес: — A-а, вспомнил, в самом деле, около автовокзала подобрал одну, студентку, кажется, — просила очень. На каникулы, сказала, едет. — У нее были вещи? — Чемоданчик был. В общем, довез я ее до райцентра, там она и вышла. — Опять, Самохин, лжете. Не довезли вы ее до райцентра. Я напомню, как это было. И Туйчиев, не торопясь, будто присутствовал при этом, стал говорить о том, как Самохин завез Калетдинову в сторону от дороги с целью ограбления, как она сопротивлялась и он ударил ее монтировкой по голове. — Вот протокол. Потерпевшая опознала вас по фотографии. Дальше будете рассказывать сами и не забудьте про дорогое кольцо. Самохин молчал. — Что же молчите, Самохин? Мне продолжать? Помолчав еще несколько минут, Самохин прерывающимся голосом выдавил: — Хватит. Да, я все сделал, я...
* * *
...Вырвав у Лялина магнитофон, Осокин почувствовал себя настоящим героем. Он снисходительно посмотрел на Славку и Кольку, которые таращили на него глаза. Первым пришел в себя Хрулев. Он стал оценивающе рассматривать магнитофон. — Хорошая машина, — прицокнул он языком. Димка горделиво выпрямился: «Знай наших!» — Зачем это ты?.. — отчужденно спросил его Лазарев. — А что? — задиристо ответил Димка. Его уже несло, он не мог остановиться и упивался тем, что сумел ошеломить ребят своим поступком, доказать свою значительность. Никто из них не осмелился на такой шаг, а вот он, «Шкилет», открыто продемонстрировал свою смелость. И хотя на душе было не совсем хорошо, особенно от Славкиного вопроса, но Димка решил не поддаваться этому чувству. — Мы тоже любим хорошие магнитофончики, — процедил он сквозь зубы. — Может, съездим к Саше, он сегодня дома? — предложил он и, видя, что Славка продолжает молчать, вызывающе спросил: — Или, может, в милицию сообщить хотите? Тогда валяйте... — Я товарищей не выдаю, — зло оборвал его Славка. — Поехали к Рянскому! Они не ошиблись: Александр был дома. Поздно ночью он прилетел из Ленинграда, куда сопровождал туристов, и поэтому сегодня на работу не пошел. — Ну, племя молодое и знакомое, не искрошились ли ваши молочные зубки о гранит науки? — встретил он ребят. — Новые записи есть? — деловито осведомился Димка. — Чего? — удивился Рянский. — Записи хорошие, говорю, есть? А то надо проверить один аппарат. — С этими словами Димка торжественно поставил на стол магнитофон, который до этого держал за спиной. Саша удивленно посмотрел на ребят и отрывисто спросил: — Это чей «Филиппс»? — Наш, — небрежно бросил Димка. — То есть как ваш? — не понял Рянский. — Да Димкин он, — поспешно вставил Хрулев. — А-а, — понимающе протянул Рянский, — тетя из Америки прислала племянничку. — Какая тетя? — не понял Колька. — Димка сейчас одного теленка в телефонной будке зажал... — И он на память оставил мне магнитофон, — стараясь сохранить солидность, закончил Осокин. Рянский на мгновение онемел и вопросительно посмотрел на Лазарева, тот утвердительно кивнул. Зло сощурив глаза, Рянский подошел к Димке, схватив его за подбородок, запрокинул ему голову и брезгливо протянул: — Ты давно был на приеме у психиатра? Колька хихикнул. — Кретины! — продолжал греметь Рянский. — Любишь хорошие вещички, грабишь средь бела дня и с награбленным идешь ко мне? Подвести меня хочешь? — Да я... Что ты, Саша, я просто думал... — оправдывался Димка, но Рянский не слушал его. — Бери свой магнитофон и убирайся! А когда за тобой придет милиция... — Зачем милиция... — испуганно забормотал совсем растерявшийся Димка. — Это они тебе сами объяснят, а пока — гуд бай, бесстрашный грабитель. Кстати, попробуй сообразить, хотя это и трудно для тебя, что пользоваться этим магнитофоном, а тем более прийти с ним домой в ближайшие десять лет не совсем безопасно. — С этими словами он подтолкнул Димку к двери. Страх обуял Димку. — Саша, Саша... — только и бормотал он. — Иди, иди, — властно приказал тот. — Что делать? — взмолился Димка. — Помоги, пожалуйста, я же первый раз... Больше никогда... — Ясно сказано, — отмахнулся от него Рянский, — бери магнитофон и топай домой, не заставляй ждать представителей власти. Димка был опустошен и раздавлен. Поступок, смелостью и дерзостью которого он только что так гордился, оказывается, чреват неприятными последствиями. Страх перед наказанием, отчужденность товарищей надвинулись на него черной тучей. Слезы отчаяния брызнули из глаз, он с мольбой и надеждой посмотрел на друзей. Закусив губу, Лазарев за все это время не проронил ни одного слова. Поступок друга потряс его, но Димку, такого беспомощного, плачущего, ему было сейчас искренне жаль. — Ему надо помочь, Саша, — глухо проговорил он. — Ладно, — смилостивился вдруг Рянский. — Только в силу моих добрых чувств к вам. Оставьте аппарат. И забудьте, что он существовал...— И вы оставили его у Рянского? А потом, потом видели вы когда-нибудь этот магнитофон у него? — выслушав Димкину исповедь, спросил Туйчиев. — Никогда! — в один голос ответили ребята. — Хорошо. — Туйчиев встал. — Мы вам верим. Но отвечать перед законом придется. Ребята подавленно молчали. Туйчиев был серьезен и даже невесел, но в голосе его прозвучала ободряющая интонация: — Мы вам верим, — повторил он. — Это я о будущем...
* * *
Допрос шел уже давно. Временами Рянский становился наивно-простодушным, эдаким рубахой-парнем. Охотно, с ненужными подробностями рассказывал о знакомых девушках, чувствовалось, что он гордится своим успехом у них. На эту сторону его жизни Туйчиев и Соснин обратили внимание сразу, во время обыска. Один из уголков комнаты Рянского оказался завешанным фотографиями и открытками женщин. И в самом центре, среди десятка женских лиц, улыбалась с фотографии Жанна. На чувства к ней он делал особый упор и даже сетовал на то, что свадьбу придется отложить до окончания ею школы. Но чем дальше продолжался допрос, тем внимательнее и хитрее он становился, стараясь предугадать следующий ход следователя. — Вы забыли, Рянский, рассказать еще об одной вашей знакомой, — прервал его любовные излияния Туйчиев. — Вполне возможно, — широко улыбнулся Рянский, — ведь их было немало. — Он вздохнул и «смущенно» потупил взор. — Да, но эта знакомая совсем недавняя. — Недавняя, говорите? — Рянский развел руками: — Простите, не знаю о ком речь. — А Калетдинова? — быстро спросил Соснин. Легкая тень испуга, не ускользнувшая от Арслана и Николая, пробежала по лицу Рянского, но он тотчас же небрежно бросил: — О, это ничтожный эпизод. Мимолетное знакомство. — Так ли? — спросил Туйчиев, и под его пристальным взглядом Рянскому стало не по себе. Когда же Соснин, обращаясь вовсе не к нему, а к Туйчиеву, высказал твердую уверенность, что он сейчас все вспомнит и напоминать ему не придется, Рянский понял, что связь с Калетдиновой скрыть не удастся. Он стал лихорадочно обдумывать, как ее лучше преподнести. Но в это время Туйчиев положил перед ним фото Калетдиновой, повернув его обратной стороной, где ее рукой было написано: «Родному Шурику от безгранично любящей Люси». — Вы понимаете, что покушались на убийство двух человек? — Туйчиев сделал ударение на последних словах. — Один из них — ваш будущий ребенок. Второй — мать ребенка. — Что-о?! Это чудовищная инсинуация! — ощетинился Рянский. — Бросьте, Рянский. Вы остановили у института Левшина, который, кстати, вас опознал, и попросили передать магнитофон Калетдиновой. Вот, ознакомьтесь, — Туйчиев протянул Рянскому заключение эксперта. — Экспертиза пришла к выводу, что запись на обрывке магнитофонной ленты произведена с обнаруженной у вас при обыске пластинки — «Прощальная симфония» Гайдна. На пластинке щербинка есть. Рянский внимательно прочел заключение, вытер ладонью выступивший на лбу пот. — А вот еще одно заключение эксперта. Магнитофон был перевязан бельевой веревкой, остатки которой также найдены у вас дома. — Люся жива, я знаю. Она ведь жива? Я любил ее. — Рянский уронил голову на грудь, замер. — Она жива, — подтвердил Арслан. — Но это, так сказать, не ваша заслуга. Что касается любви к ней, то, согласитесь, — несколько необычна форма ее проявления. Ваша цель действительно — женитьба на Жанне Брискиной. Точнее — на ее приданом. — Но и тут вы просчитались, Рянский, — усмехнулся Соснин. — Брискин арестован. Вам ясно?.. — Что, что такое? Не понимаю.... — К вашему делу это прямого отношения не имеет, но, думается, что это небесполезно вам знать. Рянский растерянно зашарил по столу руками. — Вы шли к своей цели путем, который казался вам простейшим, — продолжал Туйчиев. — Убрать с дороги человека, который мешал осуществлению плана. — Туйчиев сделал паузу и продолжал: — Люся Калетдинова — вот единственная преграда на пути к желанному результату. Ведь она беременна, ждет ребенка, вашего ребенка, Рянский. Вы просили, умоляли, чтобы она избавилась от будущего ребенка, наконец, угрожали ей, но безуспешно. И тогда у вас зреет чудовищный замысел. Вы покупаете у некоего Хамраева, геолога, с которым познакомились во время туристической поездки, два детонатора и патрон аммонита. Можете ознакомиться с его показаниями, — Арслан протянул Рянскому протокол допроса. — К тому времени у вас уже был магнитофон, похищенный ребятами и ловко присвоенный вами. Магнитофон, хозяин которого, по вашему мнению, уже никогда не отыщется. Остальное — дело техники. Вы вмонтировали взрывчатку и детонаторы в магнитофон. Вот начерченная вашей рукой схема взрывного устройства из книги «Взрывное дело», забытая вами в этой же книге. «Арслан выходит на финишную прямую, — подумал Соснин. — Что остается Рянскому? Наверное, попытаться выставить себя чуть ли не «жертвой домогательств» Калетдиновой. До чего же это все противно! Омерзительная личность... Во имя обогащения — пойти на убийство! И откуда у этого Рянского, молодого еще человека, такая вот сложившаяся стяжательская психология, которую верно уловил Арслан?»После того, как Рянского увели, они еще долго спорили в кабинете Туйчиева. — Нет, ты мне объясни, — горячился Соснин, — откуда у этого парня, который родился в наше время, который само слово «капитализм» узнал из учебника, откуда в его сознании пережитки прошлого? — Не сбрасывай со счета его ближайшее родственное окружение. Ты же сам беседовал с бабкой Рянского. «Последняя могиканша», — так окрестил ее Соснин. Вот уж кто был воинствующим носителем старых взглядов! — Да-a, — задумчиво протянул Николай. — Как часто все же некоторые отмахиваются, а подчас и иронизируют по поводу буржуазного влияния. А оно не всегда и не обязательно с запада. Ведь Рянский — ярчайший тому пример. — Верно, — согласился Арслан. — То, что совершил Рянский, имеет в основе комплекс причин, но решающая все же... — ...Семья, — закончил его мысль Николай и, вынув записную книжку, быстро нашел нужную страницу. — Вот послушай... — Кто на сей раз? — с улыбкой спросил Арслан. — Макаренко, — не обращая внимания на чуть иронический тон друга, быстро ответил Соснин и прочел: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — люди. Из них на первом плане — родители...» — Мы, к сожалению, — задумчиво произнес Туйчиев, — имеем дело уже с результатами дурного примера, дурного воспитания. Перевоспитывать куда труднее. Да и всегда ли это удается? — Ну, дружище, не будь таким пессимистом. Один бандит и один подлец, убийца изолированы. Свое дело мы в данном случае сделали неплохо, а?
* * *
Вчерашний педсовет был бурным. Обсуждению подлежал поступок десятиклассников. Такого на памяти Владимира Сергеевича за долгие годы директорства не бывало. И сейчас, направляясь еще затемно на работу, он мысленно вновь и вновь перебирал происшедшее. Готовя педсовет, директор мучительно искал ответа на основной вопрос: что, как и где просмотрела школа. Ему понравился тот нелицеприятный разговор, который состоялся. Хотя, конечно, и были попытки свалить все на извечные объективные причины: перегруженность школьной программы, классов, занятость учителей и родителей. «Семья и школа, — думал Владимир Сергеевич, — да, конечно, — это основные компоненты, существенно влияющие на формирование личности. Но почему из них нередко выпадает сама личность? Для нее не оказывается места в этой схеме. Так уж повелось, что ответственность за недостатки в воспитании некоторые родители целиком возлагают на школу, а мы — на родителей. И ведь все прекрасно понимают: нужен единый фронт. Но почему-то далеко не всегда так получается. Вон как разошлась мать Лазарева, — вспомнил он. — «Это вы, вы испортили мне сына!» — в гневе кричала она. А Осокина широко открытыми от удивления глазами смотрела на сына и все твердила: «Он же такой тихий, никого не обижал. Как же так?..» Пожалуй, ответ на этот вопрос дала Нина Васильевна. Молодец, хорошо выступила. Умно. — В силу ряда причин Дима Осокин оказался не столько преступником, сколько жертвой. Ребята поэнергичней его просто третировали. Так он сперва стал тихоней, и так потом сорвался... Видели ли мы это? Увы! Не снимая ответственности со всех нас, я все же основной упрек адресую Елене Павловне. Ведь вы, Елена Павловна, второй год являетесь классным руководителем нынешнего 10 «Б» и не имели права не замечать этой затянувшейся болезни. — Поведение и успеваемость Осокина не вызывали у меня тревоги, — бросила реплику Елена Павловна. — Вот, вот, — подхватила завуч, — в этом и кроется главная опасность вашего педагогического кредо: тревогу внушает лишь двоечник и поэтому надо как можно быстрее перетащить его на спасительную тройку, а... — Но это же основной показатель нашей работы! — недоуменно перебил ее кто-то из учителей. — Верно. Основной, но не единственный, — отпарировала Нина Васильевна. — И вы прекрасно знаете — не может быть обучения, которое дает только сумму знаний. А разве человек — тоже не основной наш «показатель»? Я имею в виду нравственное воспитание, нравственное развитие. Но если учитель не видит ученика, его внутренний мир только потому, что тот не отстающий, можно ли всерьез говорить о каком-либо воспитании? А в случае с Осокиным получилось именно так. Он, пожалуй, больше других жаждал самовыражения и самоутверждения. Способствовала ли этому вся атмосфера в классном коллективе? Нет. И вот, начав с кражи классного журнала, Осокин кончил ограблением. Разве нам с вами не известно, что дурные поступки являются часто прямым результатом неудовлетворенности собой? Поймите, я не оправдываю самих ребят, но мы, взрослые, где были? Вот где лежит наш общий и, прежде всего, ваш, как куратора, Елена Павловна, просчет. — А Лазарев? Я же сигнализировала!.. — Что касается Лазарева, то здесь иная крайность. Уж он-то всегда был в поле нашего зрения, но как однобоко! Мы захваливали его за успехи в учебе и спорте, журили за шалости и проделки, а в общем пытались втиснуть его незаурядную натуру в прокрустово ложе мелочной регламентации... — Совершенно верно, Нина Васильевна, — поддержал ее директор. — Прошу извинить, что перебил, но не могу в этой связи не привести слова Менделеева о том, что регламентация каждого шага убивает развитие в учениках самостоятельности, а это, при известных характерах и условиях, приводит к уродствам... Стало примораживать и, зябко поежившись, Владимир Сергеевич чуть прибавил шаг. «Как часто недостает нам, учителям, чуткости, мудрой справедливости, и как дорого это обходится в итоге. Я за дидактику непринужденную, даже веселую и ни в коем случае не навязчивую, чтобы ученик потом сам пришел и сказал мне, учителю, что я прав. Это не отменяет ни моей твердости, ни принципиальности, но облегчает наше с учеником взаимопонимание. В целом он как директор доволен ходом педсовета. Обсуждение было принципиальным, говорили о том, что наболело. Но не покидало чувство горечи, неудовлетворенности: ведь просмотрели, упустили они этих ребят. Может быть, потому, что в школе очень много учеников и за всеми не уследишь, упустишь то, что сейчас принято называть внутренним отходом учащегося от школы, его стремление к самоутверждению вне рамок школы?.. Да, много, очень много учеников у нас. Но за каждого из них мы в ответе, ни один не должен оставаться для учителя вещью в себе. Где-то он читал, что школа — стартовая площадка, с которой начинается путь личности по земной орбите, а учителя — это ответственные специалисты, осуществляющие запуск. От них зависит и точность прицела, и тщательность запуска. Верное сравнение. Но главное, пожалуй, в том, чтобы запуск на орбиту жизни мы производили с учетом индивидуальности, особенностей каждого. Это исключит срывы. Если ты — учитель, должен, обязан найти для этого и время, и силы. С такими мыслями Владимир Сергеевич вошел в подъезд еще безлюдной школы.Иван Василенко ЗОЛОТАЯ ЖИЛА Записки следователя

ЧУВСТВО МАТЕРИНСТВА

«Милая мамочка! Пишет тебе Наташа. Я думаю, не забыли еще ту дерзкую девчонку… Спасибо за все, за напутствия и ласку, материнское сердце, теплоту души…» Начальник женской колонии Александра Ивановна Федоренко прочитала письмо несколько раз и задумалась. Перед ней всплыли события недавних лет… …Наташа росла без отца. Ей было шесть лет, когда его не стало. Ушел на войну и не вернулся. Жестокая война забрала родителей не только у нее, но и у тысяч других таких же детей. Потеря отца — горькая и невозвратимая. Наташа очень его любила. Каждый день встречала с работы. Выбежит за село, сядет у дороги, под одиноким дубом, и ждет. Отец работал трактористом. Увидев его, Наташа бежала навстречу, расставляя ручонки. — Ага, поймала, папочка! Игнатьич дорогой! (Так его величали все в селе). Он подхватывал ее своими огрубевшими, пахнувшими керосином руками, усаживал на свои широкие плечи и нес домой. — Ох балуешь ты ее, — часто говорила Виктория, его жена. — Ничего… Пока я жив, пусть резвится. Не ровен час, уйду воевать, будет вспоминать, — отшучивался. Мобилизовали Игнатьича на фронт неожиданно, ночью, когда дочь спала. На второй день она вышла как обычно за село встречать отца. Но он так и не появился. Возвратилась домой с заплаканными глазами, а увидев мать, вовсе разрыдалась. — Игнатьич ушел воевать, — сухо ответила мать. Но Наташа не сразу поверила этому. Она продолжала ходить к дубу. То место под широким ветвистым деревом стало для нее вторым домом. Что случится — она туда. — Папочка, миленький, как я буду жить без тебя? — звала она, вглядываясь в глухую, темную даль. В самом деле, жизнь у Наташи не сложилась. Получив похоронку, Виктория показала ее Наташе. Вместе плакали и долго переживали утрату. — Что сделаешь — война, — успокаивала Виктория дочь. — Вон сколько пришло похоронок другим. Но Наташа не соглашалась с такими словами. Она не могла смириться с тяжелой утратой. Слушая мать, отгоняла от себя печальные мысли. — Может, пропал без вести — еще вернется, — утешала себя. Время шло. Окончилась война. Отец не вернулся. Наташа притихла и уединилась. Все свободное время просиживала дома, закрывшись в своей комнате, подолгу всматриваясь в портрет отца, который повесила над своей кроватью. — Доченька, ну чего ты так побиваешься, — успокаивала ее мать, — пойди на улицу, поиграй с детьми. Тебе легче будет… Так прошел год. Трудный и напряженный. Наташа все чаще и чаще стала замечать в их доме Зиновия Яковлевича, заготовителя сельпо. С первых же дней она невзлюбила его. Со слов его дочери Лиды, с которой училась в одном классе, узнала, что Зиновий Яковлевич оставил их, что он часто пьянствует с кем попало. Поэтому при появлении его в доме Наташа сразу же убегала. Шла к своему дубу отвести душу. «Хочет заменить мне отца? Своих детей оставил и лезет в чужую семью! Не бывать этому никогда!» — думала. Как-то вечером она пришла домой раньше обычного (не состоялся кружок радиолюбителей). В доме было весело. Мать и Зиновий Яковлевич, уже выпив, громко смеялись, сидели за столом обнявшись. На столе — недопитая бутылка водки и закуска. Первое, что увидела, была колбаса, нарезанная тоненькими кружочками. Захотела есть. Не попросила. Сдержалась. Оставив книги, выскочила из дома. Пошла к своему дубу, наплакалась, а затем вернулась домой. В окнах уже было темно. Не зажигая огня, стала раздеваться. К ней подошла мать, обняла за плечи и ласково сказала: — Ну чего ты, дочка, избегаешь Зиновия Яковлевича? Даже не поздоровалась с ним. — А зачем он мне, и тебе тоже? — Ошибаешься, дочка, он хороший, но несчастный человек. — Хороший?! Своих детей покинул. Какой же он отец! Алкоголик! Эх, мама, мама! А что если папа вернется? — Успокойся. Из могилы еще никто не вставал. А что касается Зиновия Яковлевича, ты мне свои штучки брось. Ты не знаешь его жизни. Есть такая поговорка: «Когда в доме нет тепла — мужья убегают!» Вот и он ушел из-за этого. — Тепла? Пить ему не разрешали, вот и убег! — крикнула дочь. — Лучше поешь, там картошка в мундирах… — А колбасу всю сожрали? — не выдержала Наташа. — Какую колбасу? — буркнула Виктория. — Какую, какую! Я видела! Вот что, мама, прошу тебя, не пускай ты его сюда, иначе я убегу из дому! Совсем! — высказала свое решение. — Не убежишь! Сама не проживешь, пропадешь! — крикнула мать. До утра Наташа не сомкнула глаз. Что только не передумала за ночь. Утром собралась и ушла к соседке. Там как раз завтракали. Наталия Викторовна (тоже вдова — муж погиб на войне, осталось трое детей) пригласила за стол. Наташа отказалась, но ее усадили силой. Еду поделили поровну по ломтику сала, по кусочку хлеба, по кусочку сахара. Наташа это запомнила на всю жизнь… Уже позже, через несколько дней, она спросила Наталию Викторовну, жалко ли ей своих детей. — А как же, конечно, жалко, — ответила соседка. — Ведь родные, кровь моя. — А моя мама не такая, как вы, — глубоко вздохнула. — Почему же? Сердце матери — всегда с детьми. А матери все одинаковы, — попыталась заступиться за мать Наталия Викторовна, хотя все знала об их семье. — Вчера был хахаль! — Кто-кто? — переспросила соседка. — Будто не знаете? — стала злиться девочка.. — Он ведь человек. Семейная жизнь у него не получилась. Что здесь страшного? Мама твоя еще молодая, — продолжала мягко. — А вы? Наталия Викторовна не ответила, и Наташа после долгой паузы заговорила с возмущением: — Говорите, человек? Как-то принес колбасу. Вы думаете, они дали мне хоть кусочек? — Значит, колбаса не мамина, — попыталась переубедить Наташу. — У меня был день рождения. Вы думаете, мне подарили что-нибудь? — резко промолвила и отвернулась, чтобы не показать слезы, которые вот-вот готовы были брызнуть из глаз. — Смотрите, у меня платье вовсе прохудилось, — вздохнула, показывая поношенное, порванное платье, — а ему мать рубашку преподнесла. За какие заслуги? — Может, он дал матери деньги на рубашку? …Разговор был долгим. Но слова, сказанные Наталией Викторовной, так и не смогли убедить девочку в правоте ее матери. — Сними платьице, я заштопаю, — вдруг предложила Наталия Викторовна. Наташа махнула рукой. — Не надо. Я сама. Понимаете… Обидно все же… Я ведь ее дочь. А кто он? Совершенно чужой человек… Все последующие дни дочь не появлялась на глаза матери. Приходила домой поздно. Знала: после очередной пьянки мать засыпала мертвецки. Наташа палочкой открывала внутренний крючок, на цыпочках шла в свою комнату. Ставила будильник на половину шестого и клала его под подушку. Как только начинали выгонять скот в стадо, она вставала, брала портфель с книгами и уходила из дому. Сначала шла к речке, умывалась, потом к соседке… Теперь мать почти не заботилась о ней. Ей было некогда. Встречи и проводы Зиновия стали для нее главной заботой. Однажды в субботний вечер Зиновий почему-то к ней не пришел. Виктория заволновалась, вышла на улицу. В это время мимо дома проходила Наташа. Виктория подошла к ней, схватила за руку и потащила во двор. — Дочка, поговорить надо, — сказала строго. — Пожениться решили? — вспыхнула та. — Что отцу скажешь, когда вернется? — Доченька, ну послушай меня, — вытирая пересохшие губы, оправдывалась мать, — жизнь идет. Я не хочу быть в одиночестве. Страшно! — Одиночество? А я? Почему ты считаешь себя одинокой? Я же с тобой… Пока… — Пойми, Наташа, — умоляюще говорила, — войди в мое положение. Дочь, не дослушав ее, убежала. Вернулась домой ночью. В доме огня не было. Зашла тихо и стала пробираться к себе в комнату. — Погоди, милая, — сказал Зиновий Яковлевич, придерживая дверь. Тут отозвалась мать: — Послушай, Наташа. Ну как ты живешь? Кому нужны твои фокусы? — Всыпать бы тебе под первое число, — закричал Зиновий. — А ты не ори! Я не твоя дочь! Можешь на своих орать, которых бросил! — Ах ты гнида! — Не хочу я тебя! Не хочу! — закричала Наташа. — Ух ты! Я ей не нужен! Так ты мне тоже! — Зиновий шагнул к девочке и больно ударил ее по щеке. Наташа не устояла на ногах, упала на пол. Затем вскочила, схватила со стола недопитую бутылку водки и швырнула ее в сторону Зиновия. Но тот увернулся, и бутылка угодила в трюмо. С грохотом посыпались стекла. Наташа, увидев замешательство матери и Зиновия, прыгнула на подоконник, выбила оконную раму и убежала… Нашла на лугу копну сена, присела возле нее и горько проплакала до утра. Пока было тепло, ночевала где попало. На сеновале, под стогом сена, под курятником. А позже на вокзале. Мать с ног сбилась — искала ее всюду. С того вечера Зиновий как в воду канул. Виктория искала и его. Наступили холода, и Наташа решила ехать к бабушке Ефросинии Марковне, матери отца. Прибыла туда ночью. Бабушка ее сразу не узнала; такая она была грязная, худая и оборванная. — Боже мой! Ты, что ли, внученька?! — охнула старушка, всплеснув руками. — Откель ты? Как мать? — Нет у меня больше матери! — Померла?! — вскрикнула с болью бабушка. — Замуж вышла. Может, и вы меня выгоните, как собаку? — Свят, свят на тебя! — встревожилась Ефросиния Марковна. — Что ты такое говоришь? Почти до утра они не спали. Ефросиния Марковна слушала неторопливый рассказ внучки, которая всхлипывала и глотала горькие слезы. Спала внучка целый день, Ефросиния Марковна переживала, думала, как ей помочь. Сходила в школу. А вечером подсела к ней на кровать и, когда Наташа проснулась, сказала, что договорилась с директором о приеме ее в школу. — Не хочу в школу! Надоело! — махнула рукой Наташа. — Перезимую у вас и уеду. Но бабушка и слушать ее не хотела. — Что ты говоришь! Куда? Чего ты в других местах не видела? Поживешь здесь. Дом есть, хозяйство… А умру я — все тебе останется… Так и обосновалась у бабушки. Ефросиния Марковна жила бедно. Небольшой огородик, старая коза и пятеро кур — вот и все хозяйство. Пенсия маленькая, приходилось летом идти в колхоз подрабатывать. Дом уже старый, переживший не один десяток лет. В нем жил еще ее дед, затем муж и дети. Семья была большая, но жили дружно. Потом война унесла с собой сначала мужа Степана, а затем троих сыновей… Наташа пошла в шестой класс. Училась вначале с охотой, но затем посыпались двойки, начала пропускать уроки. Ефросинию Марковну вызвали в школу. — Что-то неладно с девочкой, — однажды сказал классный руководитель Николай Иванович, — учится на двойки. Ведет себя дерзко, подружилась с уличными парнями. Повлияйте на нее. Однажды в сырую погоду Наташа, подняв воротник, ежась от резкого ветра, шла из школы. На ее пути неожиданно встали парни. Один из них, ничего не говоря, вырвал сумку с книгами, а второй очистил карманы, отобрав у нее тридцать копеек. Наташа возмутилась. — Как вам не стыдно, кого грабите? — Грабеж среди белого дня, — улыбнулся первый парень, по кличке Шкворень, как он затем представился ей. — Ах, ох, мы пошутили, — ответил второй парень, старший на вид, по имени Павел. — Знаем, ты живешь у бабушки Ефросинии, — продолжал Павел. — Ни с кем не дружишь. И тебе не скучно здесь, в чужом городе? — С кем тут дружить? С вами? — нерешительно и боязно спросила. — Так… вы… — Что, плохие парни? — перебил ее Шкворень. — Мы передовой авангард. Будем дружить! Ответила не сразу. Думала о себе. В самом-то деле, она здесь одинокая. Не с кем даже поговорить. Бабушка старенькая, плохо слышит. Дочь соседки — Тамара, еще маленькая. А тут парни… Может, и вправду подружиться? Парни вроде бы ничего. Павел чернявый, высокий, немного сутуловатый, с чуть заметным пушком на верхней губе. Шкворень — низенький, мешковатый, с овальным лицом и красными щеками. — Чего молчишь? Вот моя рука, — повторил свое предложение Павел. — Наташа, — представилась, но руки не подала. — Хорошее имя, — улыбнулся Шкворень. — Наташа Ростова! — Значит, познакомились, — обрадовался Павел. — С нами не пропадешь. В тот же вечер для скрепления дружбы парни угостили Наташу вином, которое пили прямо из бутылки. Она вначале отказывалась, но потом выпила. Парни тут же подарили ей шерстяную кофточку. — Бери, бери. Будут деньги — отдашь, тебе же холодно, — убеждал Павел. При второй встрече Шкворень от себя лично дал Наташе новые туфли. Белые, очень красивые. — Ой, мальчики! Как вас и благодарить, — сияла. — Ведь это впервые в моей жизни! Она не спрашивала у парней, откуда у них эти вещи. Хотя знала: они нигде не работали. Сидели на шее у родителей. А дальше пошло, повело. Перестала учить уроки. Только из школы — сумку в угол, и из дому. Возвращалась поздно. Ефросиния Марковна пыталась вызвать Наташу на откровенность, но та и слушать не хотела. — Бабуля, оставь меня в покое. Я уже не маленькая, — сердилась. Когда в доме появились чужие вещи, Ефросиния Марковна в всерьез забеспокоилась. — Откуда они у тебя? — спросила, вся дрожа. — Не волнуйся, бабуля. Я взяла напрокат. В каникулы поработаю — деньги верну. — Чует мое сердце — неладно с тобой. Совсем от рук отбилась, — с тревогой промолвила Ефросиния Марковна. — Я уже взрослая. Учусь жить… А когда Ефросинию Марковну вызвали в школу и рассказали про внучку, старушка окончательно пала духом. Возвратясь домой, хотела поговорить сней, но та нагрубила и убежала из дому. Ефросиния Марковна — к соседям: просила остановить, вырвать девочку из-под дурного влияния, но было уже поздно. Наташу, Павла и Шкворня задержали в магазине, куда они проникли с тем, чтобы совершить кражу. Судили. Павла и Шкворня направили в колонию строгого режима (судимость у них была уже вторая), а ее — в детскую воспитательную колонию. Через два года выпустили на свободу. Ехала в поезде. Познакомилась с Николаем, тоже следовавшим из заключения. Ехал он в Запорожье, хотя у него не было ни родственников, ни знакомых — круглый сирота. — Поедем в Павлоград, к бабушке, поживем, дом у нее большой, — предложила ему. Он согласился. Наташа не боялась, что в этом городе осталась о ней дурная слава. Она решила доказать всем, что может честно трудиться и жить. Но вышло не так, как хотелось. Бабушка умерла, хозяйство растащили, а дом еле-еле стоял: покосился, вот-вот рухнет. Все же остановились в нем — больше некуда было ехать. С помощью колхоза, соседей подремонтировали его и поженились. Решено было забыть прошлое, взяться за ум и начать новую жизнь. Наташа поступила на трикотажную фабрику, а Николай устроился кочегаром. Жизнь вроде бы наладилась. Но это было только внешне. Николай продержался всего один месяц, оставил работу. Завелись у него дружки. Все началось с выпивок, игры в карты. Появились долги дружкам, платить было нечем. Зарплата у нее маленькая. Дома начались ссоры. И Николай с дружками взялись за старое, стали воровать. Наташа начала упрекать мужа, но тот ее избил. Дальнейшая жизнь их пошла под откос. Николай заставлял Наташу продавать ворованные вещи. Позже и она бросила работу… Шайка с каждым днем все больше наглела. Вечером, когда люди ехали с работы, шли на «дело». Вытаскивали кошельки и передавали Наташе. Кто мог подумать, что молодая, модно одетая женщина — карманщица? Она была вне подозрения. Но всему приходит конец. Первой попалась Наташа, прямо на горячем. После передачи Николаем кошелька ее схватили за руку. Она бросила на пол кошелек, но это ее не спасло. Пассажиры выволокли ее на улицу, позвали милицию. На допросах она вела себя замкнуто. На вопросы следователя не отвечала. Все взяла на себя, не выдав своих дружков. Ее судили одну. Осудили на три года, и вот опять колония… На беседу к Александре Ивановне ее доставили ровно через неделю. Разговор был долгим и серьезным. Уже когда прощались, Наташа спросила: — У вас дети есть? Александра Ивановна, улыбаясь, ответила: — Трое. Две девочки и мальчик. — Вы хорошая мать. Завидую я вам, — сказала грустно. — А у меня нет матери. — Как же, а Виктория Ильинична? — Нет у меня матери, — помрачнела, — и бабушки тоже. Я одна-одинешенька на всем белом свете… После этой встречи Александра Ивановна убедилась, что Наташу можно исправить. Убеждением и материнской лаской. В один из дней Александра Ивановна привела на работу своих девочек. Побыв с ними и увидев отношение матери к детям, Наташа расплакалась. Она очень любила детей, хотела иметь ребенка, но Николай был против, и она вынуждена была сделать аборт. После этой встречи она все чаще и чаще стала задумываться над своей судьбой. — Отбудешь срок, поедешь к мужу? — как-то спросила Александра Ивановна. К мужу? Не нужен он ей такой. Ведь это он толкнул ее на преступление. Рукавом вытерла набежавшие слезы. — Пожалела зря их. Когда посадили меня, даже передачки не принес. Почему у нас еще есть такие люди? — уже плачущим голосом спросила воспитательницу. — Возьми себя в руки и докажи всем, что ты еще не пропащая. Возвращаясь в камеру, сразу ложилась в постель, но долго не спала. Все думала. Ее напарница Любка не любила глухой тишины, приставала к ней с расспросами. — Ну как, скоро завяжешь? — ехидно спрашивала. — Эх, и дурочка же ты! Что ты понимаешь? — не выдерживала. — Ну что у нас за жизнь? Там свобода, а здесь… камера, распущенные женщины и баланда. — Ого! Пропаганда? Понимаю, ты наседка! — вспыхнула Любка. — Что ты петраешь! Заглохни. Ты же босячка, жизни не понимаешь! В камере воцарилась тишина. Задумалась. О свободе. Думала ли об этом Любка? Нет, конечно. Та сразу же уснула и захрапела. На очередную беседу Наташа уже пришла сама, без вызова. — Ну как настроение? — спросила ее Александра Ивановна. — Тяжело мне. Вся измучилась… Тоска заела… А вы? Кто вас заставил здесь работать? Я бы не выдержала. У вас дом, семья, а вы засиживаетесь здесь допоздна. — Мой долг такой. Назначили — пошла. И не жалею. Трудно с людьми, но и горжусь своей работой. Сколько людей, уйдя отсюда, встали на верный путь и сейчас трудятся честно и благородно. Разве это не благодарность за мой труд? Смотри, сколько писем я получила от тех, кто был здесь. На, почитай, — и положила перед Наташей пачку писем. Наташа взяла одно из стопки, вытащила из конверта и стала читать: «…Уважаемая Александра Ивановна, здравствуйте! Пишет вам бывшая подопечная Зайлова Света. Может, уже и забыли. У Вас там их сколько. Так обещание свое я сдержала. Спасибо, что Вы помогли мне…» — Это ерунда, — махнула рукой Наташа. — Агитация… — Ошибаешься, девочка! Это написано от души, честно. Ты читай дальше. — Это вам нужно, чтобы на меня повлиять, зарплату за то получаете. — Дело не в деньгах. — Не верю я в счастье, — крикнула Наташа. — Счастье, любовь. Вот здесь стоят они у меня, жгут душу, — и прижала руку к сердцу. — Есть мудрое изречение: человек рожден для счастья, как птица для полета. — А вы мужа любите? Александра Ивановна улыбнулась и мягко сказала: — Люблю. А ты своего Николая любишь? Наташа опустила голову и тихо сказала: — За что его любить? Он у меня отобрал все: молодость и жизнь! На что надеяться, все уже погибло! — Нечего отчаиваться. Вся жизнь еще впереди. Зависит от тебя. Душа-то у тебя хорошая. — Душа? — переспросила Наташа. — Может, и хорошая, но пользы от этого… Вечером, когда улеглась спать, в голове шумело и все перепуталось. Всплывали непонятные мысли, и на них, словно морские волны, наплывали другие. Она вспомнила свой дуб. Как он там без нее? Как ни пыталась представить лицо отца, так и не смогла. И тут-то испугалась. Забыла, забыла дорогие черты его. Что же это? Она вскочила с кровати, прошлась между коек. Села у окна, За ним еле-еле пробивался серебристый свет. Там свобода. Как она хочет туда. И Наташа зарыдала. Проснулась Любка. — Чего ты скулишь? Дрыхнуть не даешь. — Молчи, босячка. — Эх ты, жила! Хочешь стать чистенькой? Не отмоешься! Наколочки свои не снимешь, в паспорте штампик не выковырнешь и не вытравишь. Дважды судимая! Кому ты нужна, кроме Николая? Брось свои фортели и ложись спать! Одинаково свое воровство не бросишь! — Последние слова подчеркнула особо, со злобой и ненавистью. — Нет, брошу, вот увидишь! — Не ври! Это здесь все говорят: «завяжу». А там? До первого случая… Выйдешь, бац — и денежки! Бац, бац — чемоданчик. Живи, ни заботы, ни труда. Рестораны, шпана, кофеинчик. А ты запела — свобода, небо. Чепуха все это! Без денежек и небо серое, и ромашка завянет! — Догнивай в этой дыре, а я не хочу! Утром Наташа на работу не пошла, попросилась на прием к начальнику колонии. Была осунувшаяся, но глаза светились надеждой и радостью. — Что с тобой? — Я хочу свободы… Хочу туда, на воздух, к людям! Помогите мне! Я здесь погибну! Нет у меня больше терпения, — опустилась на колени, подняла голову и умоляюще, благоговейно, плачущим голосом произнесла: — Мамочка! Вы добрая, ласковая, помогите мне! Александра Ивановна подошла к Наташе, стала гладить по голове, как обычно гладила своих детей, и тихо сказала: — Встань. Наташа встала и, взяв руки Александры Ивановны, поцеловала их. — Мамочка моя, мамочка! Ома поверила Наташе. Это была настоящая, честная, откровенная душевная исповедь человека, перешагнувшего старое, прошлое и устремившегося в новую жизнь. По представлению руководства колонии Наташу освободили досрочно. «…Вы и только Вы, — продолжала читать письмо Александра Ивановна, — выжгли у меня затаенную злобу к людям, спасли меня от последнего падения. Не обижайтесь на меня. Возврата к прошлому никогда не будет. Чувствую, что влилась в жизнь и доказала всем, что могу жить честно. Нашла себе верного друга, у нас родилась дочка. Живем счастливо и радостно. Благодаря Вам, конечно. Целую Вас, моя родная мамочка! Наташа».
ГОРЕЧЬ ОШИБКИ

Василий Козарец и Вера Шмыга жили в Днепропетровске на одной улице, дом к дому. Когда они были еще совсем маленькими, родители вместе относили их в ясли, затем отводили в садик. А подросли — их вместе отправили в школу. Сидели они за одной партой. И, как это бывает, вместе учили уроки, проводили свободное время. Он — голубоглазый, курчавый, она — щупленькая, тоненькая, как соломинка, с большими темно-карими глазами. Василий — задира, с мальчиками не мирил. Доставалось от него и Вере: то бантик из косички выдернет, то чернильницу опрокинет, то портфель с книгами спрячет. В конце уроков они мирились и домой возвращались веселыми, будто ничего и не произошло. Время шло быстро, шли годы, а с ними исчезла и шалость. Так они и повзрослели, стали серьезными, дружба между ними укрепилась. Вместе встречали и провожали тихие весенние ночи… О том, что Козарец ухаживал за Шмыгой, знали многие. Правда, не всем это понравилось. Однажды кто-то пустил слух, будто к Вере приезжал из Днепродзержинска какой-то парень чуть ли не свататься. Но Василий этой стряпне не верил. Он знал — Вера любит его, и только его одного. Окончив десятый класс, они решили поступить в Днепропетровский горный институт. К экзаменам готовились вместе. Их мечта — стать геологами… Экспедиции, поиски, открытия — таковы были их совместные планы. В тот роковой июньский вечер они ходили в кино, а после — бродили в парке. Ночь была тихая и светлая. Огромная луна, словно призрак, ходила за ними. Вера любовалась красотой парка, раскинувшегося на склонах могучей реки, мечтала о том, как они окончат институт, поженятся и вместе, вот так, взявшись за руки, войдут в большую жизнь. Возвратились домой в полночь. Их улица уже опустела, погасли в окнах огни, лишь фонари сторожили тротуары, бросая на землю желтоватые круги. Остановились у куста сирени. Где-то рядом в саду пел соловей, пищали летучие мыши, кружась над светильниками фонарей, из балки доносились запахи полыни и настоянного разнотравья. — Поцелуй меня на прощание, — попросила девушка. — Отчего на прощание? — вспыхнул парень. — Ты что, уже уходишь? Такая ночь, давай постоим! — Пора. — Смотри, какое небо — звездное и глубокое, послушаем соловья, — продолжал Василий, — слышишь, как он заливается. Они замолчали, прислушались к трелям соловьиной песни. На проходной завода сторож пробил час. — Пора, Вася, — спохватилась Вера. — Поздно. Мама заругает. Но уходить ей не хотелось, и она, подняв голову, стала смотреть в голубую даль неба, и так жадно, будто прощалась с ним навсегда. — Как красиво! Как прекрасна жизнь, — промолвила она. — И как хочется жить, долго-долго! Вон, видишь, звезда упала — человек умер. Так говорят. И чья это звезда? Горела, горела и уж нет. Почему? Где же бессмертие? — Ты чего это вдруг загрустила? — оборвал ее Василий. — К чему эти звезды? Они каждую ночь падают. Таков закон природы. — Василий заглянул в ее глаза и отшатнулся. — Плачешь? Из-за чего эти слезы?! — Так не хочется с тобой расставаться, — промолвила Вера и прильнула к Василию. — Поцелуй меня на прощание! Он обнял ее, поцеловал и словно растаял в глухой ночи. Утром Василия разбудили работники милиции. — В чем дело? — удивился он. — Одевайся, пойдем с нами, — скомандовал ему лейтенант. — Поторапливайся. Отца и матери дома не было, ушли на работу. В соседней комнате спала его сестренка Зоя, которая от шума в доме проснулась и выскочила на порог. — Объясните, что случилось? — продолжал недоумевать. — Знаешь, парень, не прикидывайся, убил дивчину и еще огинаешься, — ответил ему старшина. — Я убил? Да вы что, товарищ старшина, очумели? — Ну хватит, хватит. Одевайся побыстрее! В разговор вмешалась Зоя: — Оставьте его. Ему нужно к экзаменам готовиться! — Какие экзамены? — оборвал ее старшина. — Лучше приготовь ему другую одежду и еду. Зоя заплакала, кинулась к брату. — Вася, что ты натворил? Скажи! Тот в недоумении пожал плечами: — Ничего не понимаю. — Не пущу, — вдруг закричала Зоя, обхватив брата за ноги. — Не пущу! Когда вышли на улицу, Василий заметил толпу людей у куста сирени, в том месте, где он прощался с Верой. У него застучало в висках, закружилась голова. «Значит, стряслось что-то страшное…» Увидев работников милиции и Василия, толпа людей зашумела. В их глазах он прочитал негодование и злобу. «Что же произошло?» — спрашивал себя. В это время к нему подбежали двоюродные братья Веры. — Подлец! Что ты наделал? — кинулись они к нему. В толпе заголосила женщина. Василий окончательно растерялся, съежившись, опустил низко голову. Его втолкнули в машину, и она тронулась. Через маленькое оконце увидел, как ему вслед махали кулаками братья. Уже в машине лейтенант рассказал ему, как утром дворник обнаружила труп девушки и заявила в милицию, сказав, что это — дело его рук. — Ты вчера проводил Веру? — спросил его следователь. — Проводил. — В котором часу? — В полночь. — Ну вот, все понятно. Выбрал время, изнасиловал и удушил. — Что? Я? Да как вы смеете такое говорить? — возмутился Василий. — Ишь ты, еще и прикидывается! — вмешался Шарин, начальник уголовного розыска. — Лучше признавайся. Василий растерялся. А на него наседали со всех сторон. — Ты ее убил… ты! И больше никто! Экспертизой установлено, — продолжал Шарин. — Смерть Веры наступила в полночь. Были вы вместе. Здесь все ясно, как божий день… Как Василий ни возражал, как ни доказывал — его задержали, предъявив тяжкое обвинение в убийстве. А позже в письменном объяснении он написал: «Выходит, я ее убил, больше некому, я ведь уходил последним. Вы спрашиваете подробности. Не могу вспомнить. Был пьян». …Лязгнули с грохотом массивные, кованые железом двери тюрьмы, Козарец очутился в камере. Через несколько дней в тюрьму к нему приехал тот же следователь, который допрашивал его в милиции. Усевшись за столом в следственной камере, Чуня открыл папку, вытащил подшитое в твердую обложку дело. — Слушай, какое заключение дали эксперты. А заключение, построенное на науке, — неопровержимое доказательство. Послушай, — и стал читать: — Обнаруженная на одежде потерпевшей кровь относится к первой группе. — У тебя какая группа? — спросил Василия. — Не знаю, — сдвинул тот плечами. — Так вот, дорогой, нам известно, что ты имеешь первую группу, — продолжал следователь. — Значит, ты виновен. Это раз. Как доказано той же экспертизой, смерть Шмыги наступила около часу ночи, то есть когда ты был с ней. Вас вместе видели люди. Так? Так. Кто еще, кроме тебя, там был? — Никого, — ответил Василий. — Значит, работа твоя. — Я не мог ее убить. Я любил ее. — Так все улики против тебя. Василий задумался. Он стал перебирать в памяти мельчайшие подробности последней ночи. — Неужели повлиял бокал пива, выпитый в парке? — стал сомневаться он. — Да, да, я забыл, в крови Веры обнаружен алкоголь, — перехватил его мысли следователь. — Выходит, вы… — Бокал на двоих… пива выпили… От жажды, — тихо промолвил. — Ну вот все и выяснилось, — заторопился следователь. И стал составлять протокол. Обвиняемый подписал его, не читая. Вернулся он в камеру в подавленном настроении, что называется, разбитым и расстроенным. Улегся на койку, задумался. «Неужели это я спьяна? Любить ее и… Как же это вышло? — И тут же возразил себе: — Нет, нет, не мог я этого сделать! Почему же меня обвиняют в убийстве? Почему?.. Может, так нужно?» И снова, в который раз, вспоминал: в тот вечер Вера, как никогда, была веселой. Много шутила, смеялась. А под конец, когда они прощались, вдруг заплакала. Да, она плакала, он видел слезы на ее щеках. «Что за черт?! Неужели я возвратился и…» Голова стала тяжелой и чужой. Он прижался к холодной стенке. Нет, надо что-то делать, с кем-то посоветоваться. А что если обратиться к прокурору? Он где-то когда-то слышал или читал, что в подобных случаях нужно написать письмо прокурору, выложить все на бумаге, пусть приедет и разберется. Но вместо прокурора приехал тот же следователь. Он вызвал обвиняемого и недовольным, раздраженным тоном спросил: — Что это за фокусы? То признал, то отказываешься. Как же понять? — Как-как? А вот так, я ее не убивал. — Не убивал, значит? А кто же? — спросил Чуня. — Ищите, она мне не враг. Я ее любил. — Трус ты, вот кто! — махнул рукой Чуня и, не попрощавшись, вышел. Через два дня Чуня появился снова: — Будешь признаваться? Из-за тебя я в отпуск не иду. Чего ты тянешь? Василий попытался убедить следователя в своей непричастности к убийству. — Ловко! А куда прикажешь деть вот эти материалы? — потрясал томом Чуня. — Вишь, сколько написано. Послушай, что говорят свидетели. «Я видела, как Василий и Вера стояли у куста сирени. Время было около часу ночи. Больше я никого не видела». — Слышишь? Это дворник сказала. Наклонив голову, Василий молчал. А Чуня продолжал читать: «Группа крови Василия Козарца относится к первой…» После этого Чуня отыскал фото убитой и сказал: — Вот, посмотри на свою возлюбленную, что ты с ней сделал. — Не надо! Уберите! — вскочил Василий и заплакал. — Пишите, может, и я… И снова следователь составил такой же краткий протокол. В нем не было одной детали, ни мотива убийства, ни обстоятельств, ни улик. …Дальше был суд. Дело рассматривала судья Самофалова. В суде Василий виновным себя не признал. Судей это не насторожило. Они формально вникли в суть дела: выслушали показания свидетелей, огласили заключение судебно-медицинских экспертов. И вот последнее слово подсудимого. Василий встал. Он был бледный и еле держался на ногах. — …Вроде я ее не убивал, — начал он тихо, еле шевеля губами. — Не мог я это сделать! — Здесь он остановился, ухватился рукой за горло, словно ему не хватало воздуха. — А может… не помню… — наконец выдавил из себя последние слова. Суд удалился на совещание. Василия увели. Публика не расходилась. В совещательной комнате судья и два народных заседателя должны были окончательно решить судьбу дела, судьбу молодого человека. — Никаких личных счетов между ними не было, — заявила народный заседатель Анна Винец, работница фабрики имени Володарского. — За что же он убил ее? Судья подняла на нее уставшие глаза и с возмущением сказала: — За что, за что? Мало ли какие причины бывают. Убийство доказано… — Я сомневаюсь, — продолжала Винец. — Какое может быть сомнение? — оборвала ее судья. — Показания свидетелей — их видели вместе накануне убийства, заключения экспертов: трупа крови на одежде убитой, признание самого виновного. Разве этого мало?! — Какое же то признание — слезы, — не отступала Анна. Да, сомнения возникли только у одного заседателя — Анны Винец. Ее больше всех волновала судьба молодого, не видевшего жизни парня. И свои возражения она изложила письменно. Сказанное Анной нисколько не насторожило судью. Был подписан приговор… Василий слушал его, держась руками за барьер. Лицо у него было серое, с желтизной, губы без единой кровинки, глаза потухшие, безжизненные, словно у покойника. Снова камера, томительные дни ожидания самого страшного… На любой стук он вздрагивал и бежал от двери. «Все! Конец? За мной?» — шептали пересохшие губы. Так продолжалось две недели. За это время он сильно похудел, его молодая кожа стала мешковатой, а по лицу поползли морщинки: около глаз, рядом с губами. В одну из ночей его разбудил странный стук. Он вскочил и стал одеваться. «Неужели это предчувствие смерти? — яростно забились мысли. — Умереть? Почему я должен умереть? Что я сделал?» И ему захотелось жить, захотелось так сильно, что он даже закрыл глаза, а затем постучал в дверь и позвал надзирателя… …Верховный Суд Украинской ССР, проверяя дело Козарца в кассационной инстанции, усомнился в его виновности в убийстве, приговор отменил и вернул дело на дополнительное расследование. Следствие по делу поручили вести другому следователю, — опытному Тоцкому. Он тщательно изучил дело, повторно осмотрел место происшествия, разобрался с обстановкой. Впечатление от прочитанных бумаг и осмотра было ошеломляющим. Он сразу не смог этого объяснить. Сколько работает, у него такого случая не было. Ему просто не верилось. «А может, я ошибаюсь? — вдруг пришло ему в голову. — Делаю преждевременные выводы? Почему Василий ведет себя так смирно? Если бы на меня обрушилось такое горе, я засыпал бы жалобами все инстанции. Чего же он молчит? Может, он и в самом деле виновен, но для окончательного вывода в деле не хватает неоспоримых улик? А может, он с отклонением? Нарушена психика? Нужно проверить». Открыл страницу, к которой была подшита «Явка с повинной». Стал читать ее. Разве это показания? Они куцые и пронизаны сплошными противоречиями. «А что говорит приговор? Так же краток. Не убедителен. Судом тоже допущена ошибка». Просматривая еще раз фотоснимки, приложенные к протоколу осмотра места происшествия, Тоцкий обратил внимание на пятнышко, которое четко запечатлелось на шее Веры. «Что это? Дефект фотографирования?» Нашел пленку. Через лупу пятнышко просвечивалось довольно ярко. И вдруг Тоцкого осенила мысль: кулон! Действительно, там, где был кулон, светлело не загоревшее на солнце пятно. Есть ли в деле какие-либо данные о кулоне? Следователь их не нашел. Куда же делся кулон? Почему его не заметили при осмотре места происшествия? Тоцкий тут же вызвал понятых. Они подтвердили, что при осмотре трупа Веры кулона не было. После изучения дела Тоцкий решил встретиться с «убийцей». В «дежурку» тюрьмы он пришел ровно в девять. Оформив вызов Василия Козарца, направился в следственную камеру, обстановка которой ему давно знакома: деревянный стол, две табуретки, привинченные к полу, железная чернильница, вмонтированная в крышку стола, и единственное окошко под самым потолком. Оттуда еле пробивался слабый дневной свет, укладываясь ровными кубиками на противоположной глухой стене. Тоцкий сел, закурил. Еще раз, словно попал сюда впервые, оглядел стены, цементный пол. Сколько раз он бывал здесь, в этой камере под номером пять… Допрашивал, проводил очные ставки, просто беседовал с людьми, убеждая их не попадать сюда больше… Василия привели через пять минут. Тоцкий сразу узнал его, хотя видел первый раз. Сняв шапку, Василий тихо поздоровался и, не садясь, потупив голову, застыл у стенки. — Садитесь, — предложил ему Тоцкий. Тот сел. Его глаза настороженно забегали по сторонам, а затем уставились на стол, где лежало его разбухшее от бумаг дело. Он по-прежнему молчал. После короткой паузы Тоцкий представился. — Хорошо, может, это к лучшему, — неуверенно произнес Василий. Начался допрос. Тоцкий всегда допрашивал не спеша. Четко и грамотно ставил вопросы, мягко говорил, интересуясь всем, создавая таким образом рабочую, не напряженную обстановку. Этим он и достигал многого. — Я не виновен, — взволнованно сказал Василий и заплакал. — Я ее любил… Тоцкий слушал эти горькие слова, присматривался к Василию, взвешивал сказанное, анализировал, еще и еще раз убеждался в своей правоте. Парень действительно не виновен. — Я не мог это сделать, — повторял Василий. — Руки не поднялись бы! — Зачем же вы признались? — остановил его следователь. — Признался?! В то время мне было безразлично. Жизнь без нее не имела никакого смысла. Веры не стало, и я не хотел жить. Думал, не вынесу такого горя. — Василий замолчал, вытер рукавами слезы и отвернулся. — У Веры был кулон? — неожиданно спросил Тоцкий. — Да, я и забыл. Это старый дукат на серебряной цепочке. — А в тот день? — Был. Я хорошо запомнил. Допрос продолжался долго. Василий вел себя настороженно, сдержанно. Если следователь задавал ему сложные вопросы, отмалчивался, опустив голову, шаркая по полу ботинками. Тоцкий понимал: боится, чтобы снова не наговорить на себя лишнего. За время допроса следователь окончательно пришел к выводу: Василий — жертва горькой ошибки, допущенной следователем и судом. «Что же осталось в деле? — думал после допроса следователь. — Видели люди, как Василий провожал Веру! Ну и что же? Это не значит, что он должен был ее убить. Заключение экспертизы? Первая группа крови не только у Василия. Сколько людей на белом свете с такой группой. След обуви у куста? Ясное дело — стояли вместе. А какой же мотив? Убить любимую девушку? Так просто, ни за что? Нет, так не бывает. И основное: куда делся кулон? Василий взял себе? Исключено! Значит, его похитил преступник!» Чтобы окончательно убедиться в своих предположениях, Тоцкий сделал обыск на квартире Козарца. Злополучного кулона там не нашел. Зашел к Шмыгам. Мать Веры — Екатерина Ивановна встретила следователя с заплаканными глазами. Она была угнетена и подавлена. На ее широком добродушном лице лежала печать пережитого горя. А припухшие, красные веки, опущенные углы рта указывали на долгие бессонные ночи. Некогда красивое лицо — все в глубоких морщинах, желтое и поблекшее. В волосах густая седина. Говорила тихо, с трудом выговаривая каждое слово. Да, потеря для нее большая, не стало единственной дочери, и это горе убило ее окончательно. — Был ли у Веры кулон? — спросил наконец следователь. Ответила сразу, не задумываясь: — Как же, как же — был. Это ей покойная бабушка подарила. — Почему же вы об этом не заявили сразу следователю? — Куда там, такое горе, что стоит кулон, когда Веры нет, — ответила сквозь слезы. — Следователь не интересовался им. — Вспомните, Екатерина Ивановна, в тот вечер Вера одевала кулон? — Да, Вера всегда носила его и даже на ночь не снимала. Заплакала совсем по-детски, судорожно всхлипывая и вздрагивая. Тоцкий ушел. Он был глубоко взволнован этой встречей и поклялся себе, что обязательно найдет убийцу. На второй день он попросился на прием к областному прокурору. Прежде чем выслушать его, тот пригласил и прокурора Сметюха, надзиравшего за делом с момента его заведения. — Василий не виновен, — заявил Тоцкий. — Его нужно немедленно освободить из-под стражи. Сидевшему напротив него Сметюху явно не понравилось такое смелое заявление. — Я на этом деле зубы проел! Просидел столько в тюрьме — и не виновен. Ну, знаете! Он ведь признался. Показание дворника сомнений не вызывает. Заключение экспертиз — тоже. Тоцкий его не перебивал, не хотел вступать в спор. Слушал и ждал, какими аргументами будет оперировать прокурор, обвиняя Василия в совершенном преступлении. Но прокурор никаких новых данных не привел, все это было известно и Тоцкому. Когда прокурор высказал все и сел, следователь спросил его: — А кулон, исчезнувший у погибшей, где он? — Кулон? Какой еще кулон? Откуда он взялся? — всполошился Сметюх. Тогда следователь не спеша рассказал все. В кабинете наступила пауза, короткая, но напряженная. Нарушил ее Тоцкий. — Признание, Виктор Николаевич, — обратился он к Сметюху, — фикция! Я уже вынес постановление о его освобождении, вот оно! Тоцкий раскрыл папку и положил на стол отпечатанный на машинке документ. — Да вы что, убийцу на свободу? — не выдержал Сметюх. — А люди что скажут? — Объясним, — спокойно ответил следователь. Областной прокурор нахмурил брови. Затем, откинувшись на спинку стула, прищурив глаза, стал всматриваться в Тоцкого. Он его знал давно и верил ему. Сколько тот провел серьезных дел. Был всегда объективен и ни одной ошибки не допустил. — Убедительно, — наконец тихо произнес. — Немедленно освободите Василия Козарца! Перед освобождением Василия Тоцкий решил с ним встретиться. Их свидание состоялось в той же камере. Со дня их первой встречи Василий еще больше осунулся, согнулся. После приглашения сесть он некоторое время постоял, а затем опустился на краешек табуретки и с полуоткрытым ртом ловил каждое слово следователя. — Сегодня я вас освобождаю, — объявил ему Тоцкий. Василий вскочил. — Меня? А убийцу нашли? — Пока нет, — угрюмо ответил следователь. — Но обязательно найдем. — Нет? — уставился на следователя Василий. — Тогда я отсюда не уйду. Как я покажусь на люди? — Вы же не виновны и сами об этом знаете. — Это вы говорите и я знаю. А люди? Они же были на суде, слушали. И вдруг такое. Кто поверит? — Поверят, — успокоил его Тоцкий. — Вот, ознакомьтесь с документами и распишитесь, — положил на колени Василия постановление о его освобождении. …Шли дни. Тоцкий работал неустанно, и его надежды оправдались. Наконец-то он получил из Орла долгожданный ответ на свой запрос. В нем сообщалось, что там задержан особо опасный рецидивист, некий Грайдук, он же Корейко, он же Моргачев, сбежавший из мест заключения. Появляясь нелегально в городах, он вечерами нападал на женщин, душил их, насиловал. Следователь незамедлительно выехал в Орел. При задержании Грайдука у него был изъят кулон, похищенный у Веры. Через месяц Грайдука этапировали в Днепропетровск. Грайдук точно указал место, где им было совершено убийство Веры Шмыги и пояснил: — …Я шел по улице, время было позднее, около куста сирени увидел двоих — парня и девушку — и решил… Подошел ближе и притаился в палисаднике. Вскорости парень, попрощавшись, ушел, я вышел из-за куста, схватил ее сзади… Кулон-дукат с серебряной цепочкой опознала Екатерина Ивановна. Вскоре подлинный убийца предстал перед судом и был осужден.
ИСЧЕЗ ЧЕЛОВЕК

Накануне Октябрьских праздников Сергей Оленко — столяр Старнинского леспромхоза — женился на Стефе Горегляд. Сыграли свадьбу по всем правилам и поселились в доме леспромхоза. Для Стефы это был второй брак. Первый муж, от которого у Стефы росла дочь Валентина, погиб в автомобильной катастрофе. Через год после второго замужества Стефа родила еще одну дочь — Ольгу, а еще через год — сына Иванка. Имели огород, хозяйство. Незадолго до женского праздника Сергей явился домой поздно. Разбудил Стефу. — Нам нужно срочно отсюда уехать. Я встретил очень плохого человека, он с Волыни, из моего села… — Как это уехать? У нас ведь хозяйство, трое детей, ты в своем уме? — возразила Стефа. — Если не хочешь, оставайся. Без тебя дорогу найду, — раздраженно выпалил Сергей. Они рассорились. Весь праздник не разговаривали, Сергей нервничал, пересмотрел все письма, подготовил документы. Подал заявление на расчет. Прошло две недели, и он, не попрощавшись с семьей, рано утром уехал. Целый месяц от него не было вестей, и вдруг явился ночью. Вместе просидели со Стефой до утра… На сборы ушло два дня, и вскоре они оказались в поселке Макаровском Днепропетровской области. Наняли квартиру, затем купили времянку — две крохотные комнатушки, тесные, холодные. Сергей решил строиться. Обратился в правление колхоза, и ему выписали кирпич, цемент и лес. Ко всем детям Сергей относился одинаково, и они любили его. В течение года дом был построен. Оставалось выполнить внутреннюю отделку. …Утром второго сентября Стефа прибежала к дежурному райотдела милиции и заявила, что накануне вечером к ним во двор пришли трое мужчин, вызвали мужа, и все ушли. До сих пор он не возвратился… …Розыском Оленко занялись следователь прокуратуры и работники отдела уголовного розыска. Спустя два дня дело зашло в тупик. Прокурор района Панкратов позвонил мне домой ночью (я в то время работал начальником следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области) и попросил срочной помощи. — Может, Оленко уехал к родственникам и никакого убийства не произошло? — спросил я прокурора. — Чует мое сердце, дело серьезное, — настаивал тот. Утром следующего дня я с сотрудником областного отдела уголовного розыска Смагой выехал на место. Смагу мне выделили по моей просьбе. Я знал его давно как опытного работника, с ним мы распутали не одно дело. Средних лет, худощавый, высокий, подтянутый, аккуратно одетый, он всегда привлекал к себе внимание. В райотделе милиции мы застали прокурора Панкратова — коренастого голубоглазого брюнета лет пятидесяти; следователя Скопцова — молодого, стройного, с добродушным лицом; начальника милиции Бодулина, атлетического сложения мужчину, а также оперативников. У всех были озабоченные лица. Следствие без трупа — самое сложное дело. Мне уже не раз приходилось заниматься подобными делами, и я знал, что здесь нужна в первую очередь высокая организованность всего состава милиции, прокуратуры и местной общественности. — Никаких нитей пока нет, бродим в потемках, — сказал мне прокурор. — Жену допрашивали? — поинтересовался я. Панкратов переглянулся с Бодулиным: — Да, твердит одно и то же: забрали мужчины и увели. — Кстати, так сказала и ее старшая дочь, — дополнил Бодулин. — Вот еще что непонятно, — продолжал прокурор, попыхивая потухшей трубкой. — Дочь все время плачет. Почему? Ведь отец-то ей не родной. — В этом и загадка, — подчеркнул следователь Скопцов. Помолчали. Смага прошелся по кабинету, остановился у окна. Всходило солнце. Его лучи проникали в кабинет, отражаясь от пола и ажурных занавесок. — Ориентировку в другие районы области дали? — спросил он. — Отписали сразу, — ответил Бодулин. — А по месту рождения и прежнего проживания? — Разумеется. Но ниоткуда нет ответа, — махнул рукой прокурор. Бегло ознакомившись с материалами дела, я решил начать с заявительницы, чтобы самому убедиться в истинности события. Через час передо мной сидела молодая, щуплая, курносая, большеглазая женщина. Ее узенькие плечи то и дело вздрагивали. Нечесаные волосы вздымались от легкого сквозняка. Я подождал, пока она выплачется, а затем попросил: — Опишите внешность мужчин, с которыми ушел муж. Стефа медленно подняла голову и сдвинула плечами. Я поймал ее взгляд. Глаза были серые, потускневшие, неискренние. Мой взгляд, по-видимому, не понравился ей, она отвернулась и буркнула: — Я же говорила. Не запомнила в темноте. «Темнит», — подумал я и решил проверить ее показания. Вечером мы поехали к ней домой. Во дворе было пусто. С левой стороны от дороги стояла времянка, напротив — огромный, в шесть комнат, кирпичный дом. Стефы дома не оказалось. Нашли ее у соседки. Предложили показать место, где стояли те мужчины. Она указала. Это место было у забора и хорошо освещалось уличным фонарем. Стало ясно. Никаких мужчин не было. Если бы они приходили, то их приметы она бы запомнила. «Стефа — убийца», — чуть было не сделал я окончательный вывод. Однако спешить не следовало. «Если она убила его, то куда зарыла труп? И могла ли вообще такая щупленькая женщина вынести его из дома сама? Вряд ли. Но это не значит, что она не могла его убить. Возможно, здесь замешан другой человек, сообщник. Кто же он? Знакомый, родственник, чужой? Местный исключается. Трудно поверить. За короткое время жизни в Макаровском вряд ли она могла найти таких людей. А может, ей помогала дочь? Нет. Ребенок не посмеет. Юная душа на это не способна». Не придя ни к какому выводу, я решил на следующий день поговорить со старшей дочерью Оленко — Валентиной. Но перед этим, вечером, вызвал к себе ее классного руководителя, чтобы разузнать о Валентине как можно больше. — Скажите, заметили ли вы какие-либо изменения в поведении Валентины после исчезновения ее отчима? — спросил я. Александра Ивановна смутилась, на ее щеках появился румянец. Я понимал ее состояние. Она первый раз у следователя. Это бывает с каждым. — Да. В тот день Валя в школу опоздала, явилась на последний урок, — ответила учительница. — На мой вопрос, что случилось, почему так поздно? — ответила: «Мама заболела». А на следующий день сказала, что к ним вечером пришли три дяди и увели отчима. Тут какая-то загадка, не правда ли? Я промолчал. — В последнее время Валя уроков не учила, на занятиях была невнимательна. — А с матерью говорили? — поинтересовался я. — Конечно. Вызывали в школу. Она заявила, что дочери сейчас не до учебы. — А какие были отношения у Валентины с отчимом? — Отчимом? Не подумала бы! Мы все считали его родным отцом, — удивилась учительница. — В школе он бывал. Интересовался учебой девочки. На наш взгляд, он был неплохим человеком и отцом. Когда Александра Ивановна ушла, я пригласил к себе Смагу. — Что нового? — Обошли все дворы и опросили соседей Оленко. Они указали на существенное обстоятельство. В конце августа они видели во дворе Оленко неизвестного мужчину, причем тот приходил, когда дома была одна Стефа. — Может, любовник? — предположил я. — Вопрос резонный, но пока это только предположения. По словам соседей, он был значительно старше Стефы, невысокий, коренастый, рыжеволосый. Одет в костюм серого цвета. Судя по поведению, Стефа и тот мужчина давно знакомы. Увидев его, Стефа хотела спрятаться в дом, но мужчина схватил ее за руку, и в дом они зашли вместе. Находился он там более двух часов. Вышел из дома один, Стефа не провожала. — А что оперативники? У них новости есть? — Пока нет, — хмуро произнес Смага. — Я лично считаю — этот тип приезжий. Прошел еще один день напряженной работы. Все уже разошлись, а я и Смага сидели над планом. Начальная стадия следствия — основа основ. Малейшее упущение или незначительная ошибка могли повлиять на исход дела. Поэтому мы продумывали новые версии, анализировали крупицы добытых улик, предполагали, по-деловому спорили. Когда вышли на улицу, уже совсем стемнело. Со всех сторон веяло осенней прохладой. Всходила луна. Она казалась огромным шаром, скачущим по горизонту. Ее красноватый свет бродил по крышам домов, отражался от укатанной грунтовой дороги, отсвечивал дорожкой в лужах недавно прошедшего дождя. Шли молча. Каждый думал о своем. Завтра предстоит трудный день. В кабинет Валя зашла в сопровождении Александры Ивановны. Я пригласил их сесть. Валя села около меня, учительница — напротив. Чтобы расположить Валю к себе, я не сразу начал допрос, а спросил, как она учится в школе, трудно ли ей заниматься, есть ли нужные книги, помогает ли матери по хозяйству. Валя вела себя замкнуто, на вопросы отвечала не сразу, долго думала. В процессе беседы я изучал ее. Это была худенькая, хрупкая девочка, с болезненным желтоватым лицом, с серыми глазами, полными слез. Тени под глазами говорили о проведенных без сна ночах. Мне стало жаль ее. И я все тянул и тянул с вопросами, касающимися дела. Когда она немного успокоилась, спросил: — Где же твой папа? Спросил спокойно и вежливо. Валя опустила голову и тихо промолвила: — Пришли дяди и увели его, мама тоже видела… Потом она замолчала, нахмурилась и на заданные мной другие вопросы отвечала одно и то же. Когда я предложил ей рассказать подробно, кто они, эти дяди, во что одеты — она начала плакать. Так я в этот день ничего вразумительного от нее и не добился. …Поселок Макаровское сравнительно небольшой. Как правило, слухи в таких местах разносятся с небывалой быстротой. Стоит появиться какой-то новости, в течение двух-трех часов о ней узнают во всех домах. Об исчезновении Сергея Оленко жители поселка узнали в тот же день. И начались суды-пересуды. Одни говорили, что его арестовали за связи с бандеровцами, другие, что он бросил Стефу, которая в последнее время часто придиралась к нему, и уехал к себе на родину. Об этих слухах нам вечером и рассказал участковый уполномоченный. Между прочим, и сама Стефа говорила соседям, что ее пропавший муж не был идеалом, выпивал, а выпив, часто ее поколачивал. Она, мол, это скрывала, боялась, чтобы не бросил. Что ей делать потом с тремя детками? Как и подобало, Стефа заметно убивалась по мужу, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу. Ей сочувствовали. Ведь она осталась одна с детьми в недостроенном доме. Люди говорили и о темном прошлом Сергея Оленко. Пора было начинать проверку личности исчезнувшего. Начальник милиции настаивал на задержании Стефы, уверяя, что она непременно заговорит, но я был против. Обвинить человека в тяжком преступлении — для этого нужны веские улики, а следствие ими пока не располагало. Все же решили установить за Стефой и ее домом наблюдение. Новое событие, которое произошло в этот день, укрепило нашу уверенность в том, что произошло убийство. Неожиданно приехали родственники Стефы. Явившись к нам, рассказали, что они приехали на похороны Сергея, а тут узнают — никаких похорон и покойника нет. Набросились на Стефу, что, мол, за шутки такие, ехали издалека, растратились, а она в ответ: — Страшно и горько мне. Вот и вызвала. Иначе бы не приехали. Родственники положили мне на стол телеграмму. Я прочитал: «Приезжайте хоронить Сергея». На телеграмме стоит дата — 2 сентября. — Забавно, забавно. Еще не нашли труп, а Стефа уже на похороны вызвала, — развел руками прокурор. — Выходит, точно знает, что его нет в живых. — Как видно, так. Стефа почему-то уверена — труп будет найден, — подчеркнул Смага. — Значит, труп где-то рядом. Надо искать, — высказался начальник милиции. Начали поиски: перекопали огород на усадьбе Оленко, прочесали посадки, осмотрели заброшенные ямы, колодцы. Но не нашли. Вечером собрались все вместе в кабинете прокурора. — Я считаю, труп Оленко нужно искать в подвале Стефы, — внес предложение следователь. — Если она совершила убийство, то труп Сергея вынести не смогла. Что ей оставалось делать? Прятать! — А если и в самом деле Сергея убили те мужчины? — перебил его Смага. — Куда они могли спрятать труп? — Спрятать легко, — вмешался участковый уполномоченный старший лейтенантНебосклон. — Вокруг пустырь, овраги, выборки, сбросили туда труп и ищи-свищи. Там такие ямищи — дна не видать. — Чего мы торгуемся? Стефа знает, где он, — перебил начальник милиции. — Нужно немедленно задержать ее, и она все расскажет. — А улики? Они у вас есть? — вспыхнул Смага. — Разумеется. Подтасовка с телеграммой, неискренность в показаниях, — продолжал свое начальник милиции. — Ясное дело. Да и дочка темнит. — Ну, это еще бабушка надвое гадала — либо дождик, либо снег, — махнул рукой Смага. Спорили долго. Под конец пришли к единому мнению: спешить с задержанием Стефы не следует, поскольку уверенности в ее виновности нет. Решено было увеличить количество поисковых групп, привлечь к этому как можно больше дружинников, комсомольцев. Договорились также об осмотре подвала, пристроек на усадьбе Стефы. А утром произошло событие, которое заставило по-иному взглянуть на исчезновение Оленко. Дежурному райотдела милиции позвонили и сказали, что возле посадки, в трех километрах от поселка, нашли кепку и шарф. По приметам, они принадлежали потерпевшему. На место сразу пустили в дело служебно-розыскную собаку. — След! Сокол, ищи, — скомандовал старшина-кинолог. Сокол кинулся к вещам, понюхал их, заскулил и, касаясь мордой травы, кинулся в лесопосадку. Проводник еле поспевал за ним. Сокол пересек посадку, вывел на дорогу, идущую в сторону города Кривого Рога, покрутился на месте, опять заскулил и присел. — Уехал, — сделал вывод старшина, — попробуем еще раз. Но Сокол дальше не пошел. Осмотрели место происшествия. Вокруг обнаружили множество следов обуви, но все они были оставлены на траве и для идентификации оказались непригодными. Там же нашли окурки двух сигарет. Шарф, кепку и окурки сложили в целлофановый мешочек и опечатали. Вещи предъявили на опознание Стефе. — Шарф и кепка моего Сергея, — вскрикнула она и бросилась к ним. Схватив в руки кепку, Стефа прижала ее к груди, начала целовать, приговаривая: — Мой дорогой Сереженька! Что же они с тобой сделали, изверги проклятые. Родной мой! Кому принадлежали окурки, установить не удалось. Стефа категорически заявила, что Сергей никогда не курил. После обнаружения вещей потерпевшего мнения участников следственной группы разделились. Одни считали, что Стефа рассказала правду, убийство совершили трое мужчин. Я, Смага и начальник милиции остались на прежних позициях. В убийстве мы подозревали Стефу. Поиски продолжались. Все неопознанные трупы в области фотографировались, и нам немедленно доставлялись их фотокарточки. Неопознанные трупы по городу Кривому Рогу мы осматривали с участием Стефы. Опознание трупов — вещь довольно неприятная. Вначале мы надеялись, что это в какой-то мере повлияет на Стефу и она дрогнет. Не тут-то было. Заходя в мрачную покойницкую, Стефа вздрагивала, бледнела, однако признаваться не спешила. — Нет, нет. Не он, — с трудом проговаривала сквозь стиснутые зубы. Время шло, а мы все топтались на месте. Я решил посетить школу, в которой училась Валя. Побывал в ее классе, в учительской, поговорил с учителями и уже хотел было уходить, как вдруг ко мне подошла сторож школы Любовь Петровна, женщина лет сорока, очень полная, с маленькими мышиными глазками. — Вы следователь? Я должна вам кое-что сообщить, — нерешительно сказала она. — Идемте в сторожку. Закрыв за собой дверь, она выглянула в окно, проверила — не подслушивают ли нас, а уж потом заговорила: — Когда это было, я не запомнила, кажется, на той неделе. Утром рано приходила сюда Стефа, приводила дочку. Я хорошо запомнила: у нее в руке была красноватого цвета авоська, а в ней что-то завернутое в белое. Видать, тяжелое. Она зашла в школьный туалет. Через несколько минут вышла. В руках авоськи уже не было. Тут-то я и смекнула, может?.. Последние слова Любовь Петровна сказала совсем тихо, еле слышно. О сообщении сторожа я рассказал прокурору. Было принято решение — за ночь очистить туалет. Всю ночь работали ассенизаторы, а под утро на самом дне выгребной ямы нашли связанные телефонным шнуром топор без топорища и столовый нож. Эта находка нас не обрадовала, так как авоськи, о которой сообщила Любовь Петровна, в туалете не оказалось. Что касается извлеченных из ямы ножа и топора, то говорить об их принадлежности к нашему делу было еще рано. Пришли ответы из Ровенской и Волынской областей — прежнего местожительства Оленко и его родственников. Из них явствовало, что он в тех местах в последнее время не появлялся. Ответы из других областей не поступили. Дело, по существу, оставалось в тупике. Надежда была на результаты осмотра построек на усадьбе Оленко. Туда я выехал со Смагой. Пригласили понятых и зашли во двор. Увидев нас, Стефа кинулась навстречу. — Нашли уже? — Нет, — ответил Смага. — Вы же знаете, где он, подскажите! — вырвалось у меня. — Как вам не стыдно такое говорить? А еще представители власти… Вам-то положено разобраться. — Да, да, покажите! — поддержал меня Смага. Стефа побледнела. У нее задрожали губы и перекосилось лицо. — Подумайте! Как я могла поднять руки на отца троих детей! Соображать надо! Следователи… — Осмотрим ваши хоромы, — перебил ее Смага. — Может, прояснится. Стефа выбежала вперед, стала в дверях, раскинув руки. — Не пущу в дом. Пусть присылают других следователей. Вам я не доверяю! — крикнула. Но потом, убедившись в нашей настойчивости, отступила. — Извините, погорячилась. Не выдержали нервы… Мы зашли в дом. Сразу бросилась в глаза свежая побелка в коридоре. Я достал лупу и начал рассматривать одну из досок потолка, искоса наблюдая за хозяйкой. Она не на шутку встревожилась, заерзала на диване и уставилась на меня полным горечи взглядом. «Здесь, именно здесь разгадка», — решил я. Подошел Смага и, будто прочитав мои мысли, обратился к Стефе: — Побелили? По какому случаю? — К праздникам готовлюсь, — как-то неуверенно, дрожащим голосом ответила она. — Октябрьские вот-вот… — Праздники? Да ведь сейчас только сентябрь! — вмешался я. Стефа промолчала. — Ай, ай, как неаккуратно стены побелили, а потолок оставили как был? — не успокаивался Смага. Стефа продолжала молчать, кусая губы. Когда мы начали осмотр потолка, она побледнела и тяжело опустилась на диван, но глаз с нас не спускала. Потолок был деревянный. Доски пригнаны плотно, промаслены олифой. Когда я передвинулся ближе к входной двери, то обнаружил мелкие точечные брызги буроватого цвета. «Кровь?» — застучало в висках. Я обмакнул спичку в перекись водорода и нанес жидкость на бурое пятнышко. Оно вспенилось: «Кровь!» Показал Смаге. Он согласился со мной. Да, это была кровь. Но чья? Показал брызги крови понятым и Стефе. Она вскочила. — Кровь, говорите? — Похоже на кровь. — Эх вы, специалисты! Петушиную кровь не можете отличить от… — стала стыдить нас Стефа. — С петухом оказия произошла, — продолжала она. — Я ему голову отрезала, а он без нее стал летать. Понимаете? Мы уже не спешили. Найдем брызги, сделаем отметки карандашом, сфотографируем, сделаем соскобы. В одном месте я обнаружил даже частичку мозгового вещества. Кровь имелась также и на иконе, в зорчатом окладе, очень старой, висевшей в углу. Ее пришлось снять, чтобы сделать соскобы крови. Осматривая икону, я вынул из щели рассохшихся досок клочок бумаги, сложенный вчетверо. Развернув, начал читать: «Пишуть твої друзі. Твій чоловік убивця. Ти була зовсім мала, як він у вашій хаті убив твого батька і матір. Як він знущався, зразу виколов очі, відрізав їм носи, потім вуха. Вирізав зірку на грудях… Як ти його терпиш, цього катюгу? Його не покарали, і він, щоб скрити сліди, женився на тобі. Це тобі розкаже і чоловік, який дасть тобі пісьмо. Схаменися, Стефо, відкрий свої очі. Катюзі — по заслузі. 26 серпня. Твої друзі». Письмо я предъявил понятым и тут же спросил Стефу: — Кто передал вам это письмо? Потупив голову, она то и дело облизывала пересохшие губы, вся дрожала. А на виске, я заметил, как-то по-особому сильно затрепетала фиолетовая жилка. Ее самообладание таяло на глазах. — Ну, отвечайте, — торопил Смага. — Не знаю, — тихо сказал Стефа. — Я его вижу впервые… А икону мне подарили соседи, когда мы уезжали. Мы продолжали осмотр. Помимо следов крови и письма, в золе, разбросанной по огороду, нашли две подковы и медные гвозди. — Во что был обут Сергей в тот вечер? — поинтересовался Смага. — Кажется, в кирзовые сапоги, — ответила она. Подозрения в отношении Стефы были серьезными: кровь в доме, сожженные сапоги. До конца обыска Стефа вела себя замкнуто, отвечала грубо, время от времени плакала. Обыск и осмотр окончили в девятом часу вечера. Я уехал первым. Но не успел расположиться в кабинете, как по настоянию прокурора привели Стефу. Я возмутился. К допросу Стефы нужно было подготовиться. Орешек она крепкий, голыми руками не возьмешь. Все выходы она уже обдумала. Сейчас бы получить заключение экспертизы о принадлежности крови, обнаруженной на потолке. Чья это кровь — человека или животного? — Сажать ее надо, — настаивали прокурор и начальник милиции. — Сколько с ней цацкаться? Арестовывать ее было нельзя. Тем более теперь, когда в деле появился неизвестный мужчина. А вдруг он-то и есть настоящий убийца? Сейчас главное — наблюдение за домом. Все же я вынужден был допросить Стефу. Она была бледна, у нее дрожали руки, заплетался язык, на все мои вопросы она шумно вздыхала и отвечала одно и то же: — Ой, мої діти! Ой, мої діти! Промучился я с ней более двух часов, но, вопреки настояниям прокурора и начальника милиции, арестовывать не стал, а отпустил домой, обязав явиться утром следующего дня. Придя в гостиницу, я долго не мог уснуть. Думал о Стефе, анализировал события. Смага тоже не спал, пришел ко мне в час ночи, присел на уголок кровати. — Ситуация, скажем, просто аховская, — вздохнул он. — Жаль детей, Стефу. Поспешила расправиться с ним сама, отомстила. А вообще — подлецу туда и дорога. — Но почему она не признается? Деваться-то ей некуда. Записку нашли, кровь на потолке, шнур, такой же, как и тот, которым были связан топор и нож. — Я уже мозговал над этим и пришел к выводу, — продолжал Смага, — что она не хочет выдавать своего соучастника, а может, и самого убийцу… — Помнишь, в записке указано, «чоловік, який дасть тобі пісьмо…» Возможно, это тот мужчина, о котором говорили соседи. — Тут и другое, — не выдержал Смага. — Ведь она мать троих детей. Она-то понимает, что ей не поздоровится. Отвечать придется… Осудят. Дети останутся, а кому они нужны? Родственникам? — Когда она уходила после допроса, — сказал я, — в ее глазах было жуткое отчаяние. Как бы с собой чего не сделала. — Я думаю, нет. Женщина она мужественная, с характером, — возразил Смага. — Детей сиротить до конца не станет. Смага глубоко вздохнул, потянулся, пытливо посмотрел на меня и произнес: — Тяни не тяни, а арестовать ее придется. Закон есть закон. Утром, ровно в девять, Стефа пришла ко мне. Я предложил ей сесть. Лицо желтое, под глазами большие синие круги, в глазах глубокое страдание. Припухшие красные веки нервно моргали, взгляд был тупой, безразличный. — Расскажите все по порядку, что же произошло? Она посмотрела на меня и зарыдала. Слезы ручьем потекли по ее желтым щекам. — Не надо плакать. Так или иначе, а рассказывать придется. Легче станет, поверьте! Она будто очнулась от долгого сна, глубоко вздохнула и покачала головой… Я догадывался — разговора не будет. И в этот раз я не стал задерживать ее, отпустил домой. Оперативники, наблюдавшие в сумерках за домом Стефы, заметили неизвестного мужчину, который закоулками пробирался к ее дому. Увидев работников милиции, он тут же скрылся. Я пожурил их, заметив, что нужно было остановить, выяснить личность. — Таких указаний не было, — оправдывался старшина Соловьев. — Сказано было не сводить глаз с дома — и баста… Ночью мне снова не пришлось спать — в первом часу меня подняли. По сообщению соседей, в дом Стефы зашел тот неизвестный мужчина, которого видели и раньше. Выслали наряд милиции, задержали, доставили в прокуратуру. Им оказался некий Занулин Иосиф Маркиянович, в возрасте около пятидесяти лет. Высокий, худощавый, чернявый. Буйная шапка волос, лицо продолговатое, похожее на дыню, упрямый подбородок. Одет в синий рабочий комбинезон. Вел он себя спокойно, видно было, что вины за собой не чувствовал. Отвечал на все вопросы свободно и полно. — Да, я знаю Стефу давно, — начал он. — Отца и мать тоже. До войны жили в одном селе. Я недавно перебрался в Кривой Рог, работаю на обогатительной фабрике. Далее Занулин показал, что ездил за семьей и односельчане передали ему письмо для Стефы… Он привез его и отдал ей лично в руки. Содержания письма он не знает. — Когда вы были последний раз у Стефы, и знал ли об этом Сергей? — уточнил я. — Как я уже сказал, первый раз привозил письмо. Вторично был в конце августа. Дома был и Сергей. Он почему-то сторонился меня. Может, приревновал к Стефе. Пробыл у них я около часу. Занулин вдруг умолк, прикусив верхнюю губу, почесал затылок, прищурившись, внимательно посмотрел на меня: — Почему-то Стефа интересовалась судьбой своих отца и матери. Кто их убил. Я ей ответил, мол, люди говорят — работа Сергея, ее мужа. Она посмотрела на меня так, что страшно стало… Занулин задумался, а затем тряхнул головой, попросил разрешения закурить. Глубоко затянулся, глотая едкий дым. — Чтобы Сергея увели мужчины? Вранье! Не верьте ей! — напористо и уверенно произнес он. Из поведения Занулина было ясно — он к убийству не причастен. Его показания были правдоподобными, звучали искренне и убедительно. Мы его отпустили. Очную ставку со Стефой не сделали. Она и сама уже не отрицала прихода к ним в дом Занулина и вручения письма. Чем больше я обдумывал все тонкости этого дела, тем чаще виделась мне Стефа. Уверенность в ее причастности к убийству росла, но не было основного — трупа. Обвинять ее в таком тяжком преступлении, как убийство, без трупа было нельзя. В жизни всякое бывает. Уедет человек со злости, а затем вернется… Утром следующего дня труп Сергея все же нашли. …Кладовщик колхоза Захар Петрович в тот день встал рано. Еще до работы решил поправить туалетную, которая находилась на огороде. Прошли дожди, и она стала быстро оседать. Взяв заступ, отправился на огород и тут же обратил внимание, что за ночь туалетная перекосилась еще больше. — Придется переносить, — буркнул сам себе Захар Петрович. Сдвинул надстройку и чуть было не закричал. Из отхожей жижи торчала рука. Бросив заступ, он с криком побежал назад. Собрались люди. Подъехали оперативники. Из туалетной вытащили части расчлененного трупа. Это был Сергей Оленко. Вскоре туда прибежала Стефа. Упала на колени, подползла к останкам тела, заголосила, причитая: «Ой, Сереженька, мой дорогой! На кого же ты нас покинул?» Затем, обхватив голову Сергея, начала целовать ее. — Дьявол, а не женщина, — возмутился прокурор. — Убила, а теперь побивается. Эксперт констатировал: Оленко убит обухом топора в висок, расчленен на четыре части прямо в одежде. Сапоги, кепка и шарф отсутствовали. На левой руке у Сергея были часы, стрелки остановились в 23 часа 43 минуты. Провели все возможные экспертизы. Эксперты подтвердили: убийство и расчленение трупа сделано топором, который был найден в туалетной школы. Брызги крови на потолке дома Оленко — сходные с группой крови Сергея. Итак, цепь улик замкнулась… Похороны останков Сергея Оленко состоялись на второй день. Все шло, как и было запланировано: послали наряд милиции, заранее его подготовили, выставили посты. Но когда Стефа появилась на кладбище, ее встретили враждебно, особенно родственники Сергея. — Убийца! Убийца! — кричали со всех сторон люди. — Прогоните ее! Но это не остановило Стефу. — Дайте проститься, — горько упрашивала она, широко размахивая руками, расталкивая людей. Ее лицо осунулось, постарело. Черная траурная одежда сидела на ней мешковато, и Стефа походила в ней на пугало, выставленное на огороде. Люди обступили могилу и наглухо заколоченный гроб. Пробравшись сквозь толпу взрослых и детей, Стефа упала на колени, подползла к гробу, обхватив его руками, зарыдала. — Прости меня, дурочку… я ведь не хотела!.. — Убийца, убийца! Вон, вон отсюда! — гудела толпа. Гроб опустили в яму. Комья свежей земли полетели в могилу, падали на крышку гроба. За несколько минут на кладбище вырос новый, свежий холмик. Толпа расходилась. Ушли и родственники убитого. Остались только Стефа, ее дети и кладбищенская обслуга. Стефа лежала на земле лицом книзу, а возле нее сгрудились дети. Они сидели долго, пока не зашло солнце и на землю не опустились сумерки. Только после этого, крадучись, задворками, добрались домой, зажгли во времянке свечи и в жуткой, тревожной скорби просидели до утра. Итак, дело вступило в стадию своего завершения. Встал вопрос об аресте Стефы. Но я все оттягивал это роковое событие. — Пусть побудет с детьми. Получим ответ о Сергее, тогда и решим. Материалы проверки о причастности Сергея к убийству матери и отца Стефы поступили в тот же день, к вечеру. Смага был возмущен: — И надо же такому случиться! Сергей ни к какому убийству не причастен. — Кто же подкинул Стефе это письмо? — Сестра первой жены Сергея — Каптух Светлана. Теперь дело приняло совершенно иной оборот. В смерти Сергея была повинна и Каптух, подстрекнувшая Стефу к убийству. Поведение Стефы действительно было странным и загадочным. В связи с этим нами была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Стефа была признана вменяемой и должна была нести уголовную ответственность. Дело пора было заканчивать. Детей мы определили в детский дом, а Стефу арестовали. Она тем временам пришла в себя и уже не возмущалась, сознавая, что за убийство мужа нужно отвечать. Допрашивали ее несколько дней подряд, выясняя все: ее жизнь, обстоятельства убийства, причины, побудившие стать на путь преступления. — За что же вы убили Сергея? — спросили ее. — Это произошло случайно, — стала рассказывать Стефа. — Жили мы хорошо, хотя нам нелегко пришлось. Оба работали, строили дом, воспитывали детей. Однажды меня вызвали на почту и вручили заказное письмо от Каптух, сестры первой жены Сергея. Идя домой, я распечатала его и ахнула. В нем писалось такое… Мне стало страшно… Письмо от Сергея скрыла. Вы нашли одно, а другое я спрятала на чердаке. — Где именно? — перебил я ее. — Я засунула его под шифер. Могу показать, — вздохнула Стефа и продолжила: — Лягу в постель, а мать и отец у меня перед глазами. Я запомнила их на всю жизнь — искалеченные, изувеченные… От этого я вскакивала ночью. Были минуты, когда хотела убить Сергея, заранее брала топор и ложила его под подушку. Но все же трое детей… Матери и отца не вернешь. И я почти было смирилась. Но вдруг явился Занулин, мужчина из нашего села. Дал мне новое письмо. И я выдержать уже не смогла, не было больше сил терпеть и страдать. Первого сентября уложила детей раньше, легла и сама. Сергей работал у соседа. Устанавливал двери. А у меня мысли в голове — словно муравьи в муравейнике. Встала, взяла топор, положила под подушку, помолилась. В полночь пришел Сергей. Нашел еду. А у меня тело одеревенело, то жарко мне, то холодно. Хотела отнести топор обратно в сарай и не брать грех на душу. Встать не могу, ноги и руки занемели. А дальше помню, как в тумане… Остальное вам уже известно. Это я подбросила шарф и кепку Сергея… Подобрала на улице окурки. Хочу одного — проститься с детьми. — Она заплакала. — Знаю, получу большой срок. Дети повзрослеют и разлетятся в разные стороны. Меня забудут. Обещаете? Я пообещал. Следствие по делу закончено. Стефе предъявили обвинение. Читала она все подряд внимательно и плакала, нервно покусывая губы. Когда дошла до материалов о Сергее и окончательно убедилась, что он не повинен в смерти ее матери и отца, вскочила, заметалась по камере, заголосила. — Боже мой! Что же я натворила! Сдуру. Мужа убила, а детей осиротила!.. Как я и обещал, на следующий день мы повезли Стефу в детский дом, куда определили ее детей. Там был как раз тихий час. И нам пришлось ожидать, пока проснутся дети. Стефа нервничала, не находила себе места, кусала руки. Лицо у нее было бледное, губы дрожали. Сделает несколько шагов, остановится и смотрит в одну точку потухшими глазами. И вот дверь открылась, и на пороге показалась няня, пожилая женщина. На руках она держала Иванка. Он уже проснулся, тер кулачками глаза и потягивался. Увидев его, Стефа кинулась к нему, хотела обнять. Иванко широко открыл глазки и стал отмахиваться. Стефа опять к нему, а он от нее. — Сыночек! Иванко! Это я, твоя мама! Не узнал? Ну глянь же… я так соскучилась! Иванко, вскинув голову, посмотрел на нее серыми, жалобными глазками, будто вспоминая, где он ее видел, а затем заплакал и отвернулся. Стефа снова приблизилась к нему: — Сыночек, Иванко! Я твоя мама! Забыл? Я… я… я… — застонала и облилась слезами. Заплакал и Иванко, но так и не подпустил к себе мать…
«БЕЗНАДЕЖНОЕ ДЕЛО»

На одном никопольском комбинате ревизией была выявлена крупная недостача гипса, мраморной крошки, цемента и других материалов. Причину столь большой недостачи установить не удалось. По материалам ревизии прокурор района Гречаный возбудил дело. Дважды оно закрывалось. Поступали жалобы, следствие возобновлялось… и вновь прекращалось. Наконец это почти что безнадежное дело попало в мои руки, к четвертому по счету следователю. Материалы дела я изучал долго: тщательно и внимательно читал показания свидетелей, анализировал документы, разрабатывал новые версии. Действительно, дело было запутанным, сложным, но интересным. В самом деле, куда же девались дефицитные строительные материалы? Ответа на этот вопрос я так и не нашел в материалах дела. Следствие велось без всякой системы, поверхностно и, по существу, было заведено в тупик. Подозреваемых значилось много: один был дважды судим, другой — замешан в валютных операциях, третий — спекулянт и отъявленный вор, иные просто тунеядцы, шабашники и т. п. Следователи добивались от них признания в хищении материалов, и в этом заключалась основная их ошибка. Сбором новых доказательств никто из следователей по-настоящему не занимался. Нужно было все начинать сначала. На комбинате строительные материалы расходовались безучетно. Со склада их брали все, кто хотел, без документального оформления. Преступная халатность многих ответственных лиц была налицо. Бесхозяйственность чувствовалась повсюду. Везде валялись куски металла, перемешанного с землей и щебнем. Из арматуры и труб сделан забор высотой в два метра, который опоясывал огромную территорию предприятия. В экспериментальной мастерской, где отливались из гипса детали, вовсю кипела работа. Работали три человека. Один из них размешивал гипс, другой черпал его ковшом и заливал в пресс-формы, третий стоял рядом, уткнувшись в чертежи. Они так увлеклись работой, что не заметили моего прихода. Я поздоровался, мне ответил за всех тот, что держал чертежи. Высокий, стройный шатен, с продолговатым лицом и грустными серыми глазами. — Глес Аркадий Титович, старший мастер, — отрекомендовался он и тотчас же спросил: — Заказать что-то хотите? Я представился и объяснил цель своего прихода. Глес смутился, суетливо начал объяснять: — Вот. Отливаем картуши для дома культуры. Работаем втроем. Ребята неплохие. Работы хоть отбавляй — экспериментируем. Это модельщик по фамилии Болячка, а это разливщик — Замотайло. Время шло к обеду, и рабочие, закончив разливать гипс, вымыли руки, подошли к нам. Как раз в это время с шумом распахнулись створки дверей и на пороге мастерской появилась молодая, элегантно одетая женщина. В помещении резко запахло духами. Глес вздрогнул и кинулся ей навстречу. — Краля его, Соня, — шепнул мне Болячка. — Сегодня у нас получка, и она тут как тут. Я стал наблюдать за женщиной. Действительно, она была очень красивой. Гладко зачесанные шелковистые волосы спадали на оголенные плечи. Голову держала высоко и гордо… Чуть вздернутый маленький носик, ровный подбородок и большие круглые глаза. Ей было не более двадцати пяти лет. Походка ровная, грациозная. Прошла мимо нас, оставив после себя запах дорогих духов. Я сразу определил: она и Глес — разные люди. Во-первых, Соня выглядела гораздо моложе Глеса; платье плотно облегало фигуру, сияло красным шелком. Глес по сравнению с ней выглядел жалким и несчастным. Его лицо посерело, сморщилось. Соня, ничего не говоря (видимо, к этому привыкла), на глазах у всех полезла к мужу в карман и извлекла оттуда бумажник. Тут же, не стесняясь, начала потрошить его. — Так всегда, — вздохнул Замотайло, — грабит, бедного, средь белого дня, даже на обед не оставляет. Соня, наверное, услышала наш разговор, увела за собой Глеса. Когда они вышли, Замотайло, кашлянув в кулак, продолжал: — Тунеядка! На шее его сидит. Такая здороваха вместе с матерью нянчит единственного сына, которому уже пошел шестой год. — А как деньги любит, — вмешался Болячка, — из-за нее Глес здесь, в этой дыре… А какой он специалист… Золотые руки… Отменный строитель, архитектор и скульптор. — Почему же он не уйдет на другую работу? — спросил я. — Хм, на одну зарплату с такой кралей не проживешь. Вынужден… Дальше Болячка не стал говорить, ему помешал Замотайло, незаметно наступив на ногу. Сам же продолжил: — Вы спросите его, отдыхал ли он когда-нибудь по-человечески. Видел ли он настоящее море? Эх, житуха у него — горше хрена. Денег не хватало, он брал отпуск и уезжал на заработки на Урал: строить коровники, зернохранилища, дома. В это время его Соня укатывала в Ялту. А он ей — телеграфом денежки. Отдыхай, милая, наслаждайся. Тьху! Чтоб ее черт забрал, — сплюнул собеседник. Итак, в мастерской комбината выполняют частные заказы из государственного сырья. Вот куда нужен был гипс! Теперь нужно было выяснить: какие это заказы? Чьи? На второй день утром я решил сходить на рынок, надеясь увидеть гипсовые изделия и таким путем утвердиться в намеченной версии. Но, к моему большому сожалению, на рынке подобными изделиями не торговали. Возвращаясь обратно, я шел мимо городского кладбища. Решил зайти туда, там было множество всякого рода памятников. Кладбище было огорожено железным забором, вдоль которого росли деревья и шиповник… Войдя на его территорию, начал рассматривать обелиски. Их было много. Все они были изготовлены из гипса и мраморной крошки. По всей вероятности, на комбинате. Я стал переписывать памятники, кто под ним похоронен и когда, и радовался своей находке. Но эта радость была недолгой. В течение недели все было проверено милицией и, к моему удивлению, установлено, что все памятники и обелиски были изготовлены в Запорожье и привезены сюда. Начал работать по другим версиям. Ко мне пришла мысль проверить отходы производства комбината. Выбрал путевые листы, по которым значился вывоз на свалку с комбината отходов. Таких путевок я нашел пять. Вызвал шоферов, допросил их, а затем предложил им показать места, куда они сгрузили отходы. Пригласил понятых и поехал на свалку. Свалка была огромная и занимала территорию в пять гектаров. Попробуй что-либо найти там. Каждый день туда привозили мусор со всего города. На эту работу потратил два дня. Найденные подходящие детали из гипса мною описывались и тут же фотографировались. Наконец мне попалась деталь, отлитая из гипса: часть крылышка с головкой. «Что это могло быть?» — ломал я голову. Но так и не догадался. Деталь мы оттуда увезли. На комбинате я просмотрел наряды по экспериментальному цеху, но там такого литья не значилось. Вызвал главного инженера Севастьянова и предъявил ему найденную на свалке вещицу. — Это не с нашего предприятия, — категорически запротестовал тот. И я решил поговорить с Глесом. Вызвал его в прокуратуру. Явился он с большим опозданием., Был заросший, опустившийся, в мятой одежде. — Что стряслось? — спросил я. — Вы не больны? — С женой развожусь, — сказал он, вздохнув. Я не стал больше интересоваться, почему он вдруг решился на такой шаг. Мало ли бывает причин. Объяснив, что допрашивается он в качестве свидетеля, я заполнил протокол, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний и, вытащив из стола найденную на свалке деталь, спросил: — Это ваша визитная карточка? Кто заказывал эту деталь? Глес растерялся. Лицо его посерело, а затем покрылось багровыми пятнами, задрожали руки. — Я… Мы… — начал он бессвязно, заикаясь. — В общем… Глес ерзал на стуле, хватался за голову, будто вспоминал эту деталь. А может, перебирал в памяти эпизоды своей жизни, искал выход из создавшегося трудного положения. — Ну, ну, смелее, — поторопил я его. — Старухи… священник… не давали проходу… Жене деньги подсунули, — невнятно бормотал Глес. — Навязали мне… Интересно, что он скажет о гипсовой детали, для чего она изготовлена, и где ее искать? — Сколько же вам уплатили? — Десять тысяч, — тихо промолвил Глес. — Где брали материалы? — продолжал я наугад, так как еще не знал, что же они изготовили для церкви и старушек. — Да там же… — На комбинате? — Конечно… Гипс портился… Жалко стало… Потому пустили в дело. — Что же вы отливали? — наконец задал я главный вопрос. — Иконостасы. — Как же их вывозили с комбината? И Глес рассказал, что в экспериментальном цеху они по заказу церковников изготовили из гипса три иконостаса для никопольской, запорожской и днепропетровской церквей и получили за них двести восемьдесят тысяч рублей. Изготовленные детали иконостасов вывозил шофер комбината Дохленко (муж главного бухгалтера), а затем Глес со своей бригадой монтировал их в церквях. Нужно было определить, какое количество гипса ушло на изготовление каждого иконостаса, и установить сумму ущерба. Необходимо было со специалистами осмотреть иконостасы, замерить каждую деталь, определить ее объем. Я решил начать эту работу с Днепропетровска. Прежде нужно было изъять необходимые документы; договор, платежные ведомости, наряды на выполненные работы. Обратился к архиепископу Запорожскому-Днепропетровскому, канцелярия которого находилась на улице Красной в Днепропетровске. Архиепископ Анисий принял меня с большим удивлением. — К нам следователь? По какому поводу? Церковь отделена от государства! — Отделена, — согласился я. — Но нас интересует, почему святая церковь покупает похищенное? — Да вы что? — вскрикнул он. — Церковь не могла допустить этого! Упаси господь! У нас все законно, оплачено своевременно… — А иконостасы? — перебил я его. — Как вы их изготовили? — Иконостасы? — переспросил отец Анисий, и глаза его заискрились. — Заключили договор, оплатили деньги, удержали подоходный налог и перечислили государству. — Иконостасы ваши изготовлены из ворованных материалов, — продолжал я. — За хищение арестованы кладовщик, мастера… Как же церковь допустила это? — О том, что воровано, нам неведомо, думали, все законно. — Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету. — Да, неприглядная история. И что же нас ожидает? Штраф? Мы уплатим! — Не в штрафе дело, деньги общественные необоснованно расходуете, — сказал я. — Платите шабашникам, поощряете воров. — Как же нам нужно было все оформить? — вдруг спросил он. — Таких мастерских сейчас нет, чтобы на церковь работали… — Нужно было обратиться в тот же комбинат, перечислить деньги, и все было бы законно. А так деньги попали в руки дельцов, которые нажились за счет государства. — Нехорошо, нехорошо вышло, — забеспокоился святой отец. — Иконостасы заберете? С таким трудом приобрели. Старые-то развалились. — Все решит суд. Думаю, они останутся в церквях, — ответил я, тут же попросив дать указание посодействовать мне в расследовании. Архиепископ вызвал настоятеля собора и распорядился выдать мне документы, обеспечить осмотр иконостасов. Интересно, что скажет теперь кладовщик Лакодей? Позвонил на комбинат и обязал его явиться в местную прокуратуру, назначив время и день. Однако кладовщик не явился. Пришлось направить ему повестку через работников милиции, и его доставили ко мне на мотоцикле. В кабинет он не зашел, а влетел и тут же, прямо с порога, начал возмущаться: — Снова по этому делу? Я же заявил вам: не вызывайте — все равно не явлюсь!.. Сколько можно издеваться надо мной? Я что, дойная корова? Новый следователь, а вопросы старые: «Куда делся гипс и цемент?» А я почем знаю? Я же рассказал… Все записано там у вас, в вашем деле! Черным по белому. Я не возражал ему, а слушал и изучал этого человека. — Садитесь, — предложил Лакодею, когда он выговорился. Лакодей медленно сел, и только теперь его взгляд остановился на столе, где лежала гипсовая деталь. Он задрожал, его лицо вдруг стало багровым, покрылось потом, он стал вытираться рукавом. — Можно водички? — тихо попросил он. Пил он жадно, захлебываясь, а выпив, жалобно произнес: — Что же будет теперь? — Расскажите все по порядку. Он взял деталь в руки, подержал ее, словно взвешивая, сколько на нее пошло гипса, и заговорил: — Я… Я только давал гипс… делали они… Глес… — Какую долю вам платили? Лакодей глубоко вздохнул и попросил у меня закурить. — Вы же не курите? — А, теперь все равно… — Так сколько вам платили за ворованное? — напомнил ему свой вопрос. — Пустяк… Четвертую часть. Сколько всего — не помню… Они себе брали больше… — Обхватив руками голову, он исподлобья посмотрел на меня. — Сегодня заберете или домой отпустите переночевать? — спросил. Следствие продолжалось. Все шло по плану. Сделали обыск у подозреваемых, изъяли крупные суммы денег, золотые изделия, описали на значительные суммы имущество. Вскоре в прокуратуру явилась жена Глеса — Соня и вручила мне жалобу на работников милиции, якобы незаконно описавших ее имущество. Была она яркая, нарядная, одетая во все светлое, но все же не такая, как тогда, на комбинате, когда приходила к мужу за деньгами. Чувствовалось, что угнетена и расстроена. Изменилась и внешне: лицо посерело, поблек румянец на щеках, под глазами появились мешки. Но все же, несмотря на это, она дышала молодостью и здоровьем. Через прозрачную кофточку просвечивалось красивое загорелое тело. Высокие груди привлекали взгляд. Массивная золотая цепь змеилась на стройной шее. Золото сияло в ушах, на запястье руки и на всех пальцах. К кофточке была прикреплена золотая брошь-паук с бриллиантами. «Целое состояние, — прикинул я в уме стоимость драгоценностей. — Почему их не изъяли работники милиции?» Осмотрев себя в зеркальце в серебряной оправе и поправив волосы, Соня скривила губы и капризно молвила: — Я с мужем в разводе. Жили: он — себе, я — себе. Разделились. И вдруг пришли и описали все имущество. Даже эти безделушки, — ткнула на золото пальцем. — У меня на шее висит сын. Кто его кормить будет?.. Как я буду жить? — Все описанное имущество нажито нечестным путем, так что не следует возмущаться. Ущерб государству придется возмещать. — Как это? — удивилась она. — Очень просто. Все оно приобретено на ворованные деньги! — Чьи деньги? — вскочила Соня. — Ваш муж воровал их и покупал вам подарки… Да вы у него и сами брали, расходуя на себя. — Какой он мне муж… Деньги все пропивал со своими работягами и на любовниц тратил. Меня отец содержал. Она говорила, конечно, ложь, притворяясь, лила грязь на мужа. К таким приемам прибегали и другие жены. По многим делам я это знал. Согласно закону следователь обязан принять меры по обеспечению иска и возможной конфискации имущества — описать имущество и изъять ценности. Работники милиции по моему поручению все сделали, но почему-то изъять драгоценности Сони отказались. Возможно, побоялись ее истерики или жалоб на них. Я тут же решил исправить их ошибку. Через неделю «безнадежное дело» было закончено. Виновные в расхищении социалистической собственности стали перед судом. Но для этого понадобилось почти два года.
С ЧЕРНОГО ХОДА

В конце лета в поселок Н., районный центр Черновицкой области, приехал молодой врач Станислав Денисович Волошко. Накануне здесь открылась новая больница на сто двадцать коек, и приезд его был кстати. Вновь прибывшего в больнице встретили радушно. Здесь надеялись, что вскоре он заменит старого хирурга Марухно Виктора Саввича, который собирался уходить на пенсию. При первой встрече Волошко не понравился Виктору Саввичу. Как-то не пришелся по душе: при осмотре больницы отказался заглянуть в хирургическое отделение, заявил, что еще успеет там побывать, зайдя в ординаторскую, не поздоровался с сестрами, вел себя высокомерно по отношению к подчиненным. Уже позже Марухно пытался отогнать назойливые мысли о Волошко, но так и не смог. — А, поработаем — увидим. Может, и ошибаюсь, — махнул рукой Виктор Саввич. Пристроили Волошко на частную квартиру к Бабич Ирине Петровне, пенсионерке, некогда работавшей в больнице няней. Встретила она Волошко тепло, по-матерински. Жила Ирина Петровна одна в доме из трех комнат. Волошко занял светлую, просторную комнату — светлицу, выходящую окнами на улицу. Договорились: у Бабич он будет не только снимать комнату, но и столоваться. — Я рада, что ты будешь жить у меня, — прослезилась хозяйка. — Ты напоминаешь моего сыночка Васю… не вернулся с войны. Ироды фашисты сгубили мое дитя… Тут же достала из комода старый альбом, раскрыла его и показала фото на первой странице. — Вот он… Никак не могу забыть, — продолжала она. — А это мой муж… Его тоже унесла война. Показав на другую фотографию, Ирина Петровна заплакала, уткнувшись в платочек. Каждый вечер, когда Волошко возвращался с работы, она встречала его как родного сына. — Вася любил яичницу на сале. Я тебе тоже приготовила. Садись поешь. Волошко ест, а она сядет в стороне, подопрет подбородок руками и смотрит, смотрит, а затем расплачется и уйдет. Волошко к этому относился безразлично, даже как-то раздраженно. Ирина Петровна не обижалась, что скажешь, молодо-зелено. Будут свои дети — узнает. На работе Волошко не перерабатывался. Строго придерживался рабочих часов. Виктор Саввич после смены шел к больным, а Волошко — домой. Марухно попытался однажды поговорить с ним начистоту. Мол, хирург — не простой врач, не костоправ, а специалист высочайшего класса, от его умения и мастерства зависит жизнь людей. — Не читайте мне нотаций. Я вполне соображаю, — отмахнулся Волошко. «Что он за человек? Как его понять?» — часто задумывался Виктор Саввич. В конце концов решил, что молодой хирург не любит свою профессию, и это его до глубины души огорчило и даже напугало. Как можно работать без любви к своему делу? А может, ему это далось просто, без трудностей, и он до конца не прочувствовал свой долг и высокую ответственность как человека и как хирурга? Виктор Саввич проработал в районной больнице без малого двадцать лет. За это время одинаково старательно готовился и к сложной и к самой простой операции. Свой долг исполнял честно и добросовестно, отдавая своей работе всего себя без остатка. За это его любили все сотрудники больницы, с особым уважением относились больные. — Эх, молодым этого не понять, — часто ворчал Марухно, вспоминая молодого хирурга. Как-то вечером, после работы, в разговоре с Ириной Петровной молодой хирург нечаянно обронил слова: — Не люблю я свою профессию. Боюсь ее… не уверен в себе. Сказанное им не на шутку встревожило. Ирину Петровну, и она, приблизившись к Волошко, как мать, начала успокаивать: — Привыкнешь. Учись у Виктора Саввича, он человек сильный и знающий. Станислав криво улыбнулся, теребя рыжие кудри: — Откровенно сказать, я не хотел поступать в медицинский… Бабушка моя Настасья Ивановна, покойная, настояла: «Хочу, чтобы свой врач был». А какой из меня врач, тем более хирург? Волошко прошелся по комнате, заложив за спину руки. Что он думал, угадать нельзя было. Остановился у окна. — Отсиделся в стенах храма науки, — продолжил он, — куда попал тоже с помощью бабушки… Теперь страдай… в этой глухомани. Ирина Петровна заволновалась. — Сынок, послушай меня, — начала ласково. — Всякое новое, непонятное — страшит. Не отчаивайся. Профессия врача почетная, благородная. Помочь человеку в беде, сделать ему доброе — это радость всей жизни. — Мистика! Все это, дорогая Ирина Петровна, фантазия, — раздраженно произнес Волошко. — Не умею я, не могу! Понимаете? Не могу! Этот откровенный разговор глубоко запал в душу Ирины Петровны, и она притихла, старалась избегать встреч с Волошко. «Пусть живет как умеет», — решила старушка. С этого дня она перестала называть его сыном. Поначалу Волошко доверяли несложные операции: вскрыть фурункулы, поверхностные опухоли. Когда Виктор Саввич делал сложные операции, брал в помощники и Станислава, наблюдал за ним, проверял его на этом сложном деле и надеялся, что тот все же изменится, приобретет опыт и станет хирургом. — Учись, Денисович, вот выйду на пенсию — заменишь, — говорил. Но так случилось, что еще до назначения пенсии Виктор Саввич оставил любимую работу: тяжело заболел. Стали дрожать руки, ухудшилось зрение. С болью в душе оставил он операционную. Назначили на его место Волошко. Первую самостоятельную операцию он провел удачно. Но на второй споткнулся. Советы старого хирурга не помогли. Оперировал Васю П., ученика шестого класса, удалял аппендикс. Закончилась операция трагически. Мальчик умер от перитонита. Узнав об этом несчастье, Виктор Саввич сразу же прибежал в больницу, набросился на Волошко: — Разве ты хирург! Шарлатан! Загубил ребенка! — Ну хватит оскорблять, — окрысился тот. — Статистика говорит, что из ста случаев пять заканчиваются смертельным исходом. Но Марухно не дал ему больше говорить, схватилего за грудки: — Статистика? Откуда она у тебя? Что ты мелешь! Да как ты смеешь так говорить! От твоих рук умер такой парень! Волошко же почти не переживал. «Человеку свойственно ошибаться», — успокаивал он себя. Как-то на улице его встретила мать погибшего и в присутствии людей кинулась к нему: — Зарезал дитя мое! Окаянный! Единственную радость отобрал… Убийца! Судить тебя надо! Впоследствии на основании ее заявления и было заведено уголовное дело. Вначале его вел молодой следователь местной прокуратуры. Он считал, что Волошко допустил ошибку, и не усмотрел в действиях молодого специалиста уголовного проявления. Свое мнение-он высказал и родственникам Васи. Посыпались письма во все инстанции, теперь уже с жалобами не только на Волошко, но и на следователя. Аналогичное письмо поступило и в прокуратуру республики. В письмах сообщалось и о том, что Волошко поступил в институт за крупную взятку. Я в тот период работал начальником следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области. Получив телеграмму, вылетел в Киев. Заместитель прокурора республики Степан Федорович Скопенко был краток: — Вам поручается ответственное дело. Надеюсь на успех. Изучите материалы, заходите ко мне, вместе и решим. Под руководством Степана Федоровича Скопенко мне приходилось работать по многим сложным делам. Это всесторонне грамотный, талантливый и очень обаятельный человек. Всю свою сознательную жизнь, то есть свыше сорока лет, — на следственной работе: от рядового следователя до заместителя прокурора республики. Узнав, что направляюсь в его распоряжение, я обрадовался: значит, дело пойдет. В тот день сидел допоздна. Дело изучил от корки до корки, оно не показалось мне сложным. По существу было два дела. Одно — в отношении Волошко и второе — о взяточничестве при приеме в Тернопольский мединститут. Свои соображения я доложил Степану Федоровичу. Он их одобрил. Мне в помощь дали молодого следователя из города Черновцов Сарапина. Опыта у него, конечно, было мало, но был он энергичным, принципиальным и добросовестным работником. …Первым долгом решил вызвать на допрос Волошко. В назначенное время он не явился. За ним пришлось посылать милиционера. Едва переступив порог кабинета, Волошко стал возмущаться: — Что вы от меня хотите? Я ведь все написал… Моей вины нет… Заметно было, что он нервничает. Сначала откинулся на спинку стула, затем, закинув ногу на ногу, вытащил сигареты, зажигалку, закурил. — Так я вас слушаю. — Нет, не вы, а я должен вас слушать, — перебил я его. — От ваших рук погиб человек, объясните почему? Съежившись, он вытер рукой вспотевший лоб, тихо сказал: — Я здесь ни при чем, мое дело резать, а штопает сестра. Она допустила ляпсус, зашила пинцет. — За операцию отвечаете вы и обязаны были сами проверить. Вы же хирург, — остановил я его. Волошко помрачнел, развел руками. — Выходит, человек умер, а виновных нет? — Ясно, что нет. Ошибки по статистике допускаются. — Он встал, потянулся и продолжил: — А у меня тем более. Я еще молодой специалист. — Я вижу, у нас разные понятия. Врач должен служить человеку, а не губить его. Когда и какой вы окончили институт? — Тернопольский, — буркнул он. Дальше Волошко показал, что он и не стремился в медицинский. Бабушка заставила туда пойти. Конечно, без помощи родителей не обошлось, но как они отблагодарили шефов за прием в институт, — он не знает. Учился так себе… Было желание перевестись в другой институт, но осуществить это не представилось возможным. — Значит, не было желания учиться, нет желания и работать хирургом? — перебил я его. — Ловите на словах? — вспыхнул Волошко. — Да, да, так и запишите. Не люблю свою профессию. Но это не значит, что я повинен в смерти мальчика. Убедившись в том, что признавать свою вину Волошко не собирается, я отпустил его. Листая книгу абитуриентов, нашел фамилию Волошко. Знакомлюсь. Проходной балл набран, оценки выставлены: по литературе — «5», физике — «5», химии — «5», биологии — «5». А что в личном деле? Письменная работа. Тема: «Человек — звучит гордо». Читаю. Работа написана слабо. Одних только грамматических ошибок — двенадцать. В конце стоит оценка «5» и подпись экзаменатора. А нужно ставить двойку. Выходит, главную скрипку в приеме играли экзаменаторы. Так я решил сразу. Куда же смотрела комиссия? Вызвал Степанову. Это женщина средних лет, маленькая, курносая, с темно-карими глазами. Принимает экзамены не первый год. Опыт педагогической работы большой. Она подробно рассказала о порядке приема экзаменов, категорически утверждая, что ею все оценки выставлены абитуриентам заслуженно. Со стороны ректора и членов приемной комиссии давления не было. Тогда я предъявил контрольную работу, выполненную Волошко. — Это я выставила оценку по литературе, и вполне заслуженно. Написано чисто, — решительно ответила она. — Прочтите, — предложил я, — и ошибки не забудьте отметить. По мере того, как Степанова читала, ее лицо изменилось, на лбу появились капли пота, а затем задрожали губы… — Недосмотрела. Сознаю. Ночью сидела, — тихо сказала она, краснея. — И сколько там всякого рода ошибок? — Шестнадцать. — Какая должна быть оценка? — Неудовлетворительная. — А выставили «пять»… Точно так же вы поступили, проверяя и некоторые другие работы. Выходит, сделано с умыслом? Падающий из окна яркий солнечный луч на мгновение осветил ее лицо, и оно словно загорелось, побагровело. Наконец она тихо сказала: — Привлекайте за халатность. — Эти слова были произнесены неискренне. Она опять опустила голову, замолчала. — Ну, ну, продолжайте. — Я взяток не брала, просто ошиблась, — горько вздохнула Степанова. — Мария Ивановна, лучше расскажите правду, как все это произошло. Человек не хотел поступать в институт, а его волоком затащили. И все за так? Степанова не ответила. Опустила голову вниз, будто рассматривая что-то на полу у своих ног. …Допросил я еще шесть человек по работам абитуриентов, оценки которых явно были завышены. Все в один голос отвечали: ошиблись. Что здесь? Круговая порука: все за одного и один за всех? Или же экзаменаторы все решили сами и ректор Гий здесь ни при чем? Но многие вопросы остались не выясненными, были только предположения. Вывод напрашивался один: нужна постепенная, настойчивая и кропотливая работа. В письме на имя прокурора республики говорилось о каком-то мужчине из Черновцов, имевшем доступ в институт. Кто этот мужчина? Подключили оперативников милиции и общественность, нужно было во что бы то ни стало найти его. Помог нам шофер ректора института — Николай. Он вспомнил один эпизод, который и пролил свет на наше дело. Еще в 1959 году ректор института Гий ездил во Львов на совещание. Потом обедали в ресторане. Машина стояла тут же, на привокзальной площади. Николая, конечно, в ресторан не пригласили, и он обедал всухомятку в кабине автомобиля. Во втором часу дня к машине подошел мужчина около пятидесяти лет, плотный, среднего роста, блондин, с длинной седеющей шевелюрой, зачесанной назад. Лицо овальное, густые нависшие брови, прикрывающие маленькие, как у крысы, серые глаза. — Шефа привез? — спросил Николая. — Ректора института, — ответил шофер. — В Тернополь поедете? — улыбнулся незнакомый мужчина. Шофер сразу не ответил. Вылез из кабины, протер переднее стекло и тогда только сказал: — Да, милый, скоро должны отчаливать. — Мне тоже по пути. Возьмете? — Как Петр Емельянович распорядится. Его дело. — Петр Емельянович? — обрадовался незнакомый. — Давненько не видел, знаю его. Может, бутылочку коньячку прихватить? — Мне-то какое дело, — буркнул шофер. Мужчина на некоторое время исчез и вернулся со свертком. Ждать Гия пришлось еще долго. Его привели двое мужчин, усадили в машину и, попрощавшись, ушли. В это время неизвестный стоял в стороне и наблюдал. Когда мужчины ушли, он подошел к машине и громко сказал: — О, Петр Емельянович! Как я рад видеть вас! — Кто это? — Гий вопросительно посмотрел на Николая. — Ваш знакомый, в Тернополь просится. — Знакомый? Садись. Мне не жалко. — Гий махнул рукой. — Машина не конь, овса не попросит. Ехали молча. После выпитого Гий дремал. Его попутчик раз за разом поднимался на заднем сиденье, посматривая на Гия и ожидая удобного момента для разговора. Это был некий Басс — аферист, шулер и мошенник с очень широкими связями. Главное его оружие — нахальство, девиз — «Я тебе, ты — мене». Ранее судимый. Выдавая себя за администратора одного из московских театров, удачно провел несколько афер, посредничал во взяточничестве. Собеседников ловил на дешевом остроумии, лез в душу и Добивался своего. Знал множество анекдотов. Умел их рассказывать. Последнее время Басс значился экспедитором в одном из колхозов Черновицкой области. На деле эта должность была для него ширмой, которой он пользовался для прикрытия своих махинаций. Связи с Гием он искал давно: знал его темные делишки. …Ректор сладко потянулся, зевнул и, обращаясь к шоферу, выдавил: — Духота. Малость разморило. — На совещании были? — улыбнулся Басс. — Правила приема в институт не изменились? — Ах, это вы? — привстал Гий, будто увидев его впервые. — Все остается так же. — А как у вас с ремонтом здания? — задал Басс больной для Гия вопрос. — Туговато. Материалов нет. Бьюсь, бьюсь, как рыба об лед, а воз и ныне там. — Материалов?! — горячо вскрикнул Басс. — Могу помочь. Это пустяки. Цемент, белила, кирпич, лес, плитку… На половине пути остановились возле ресторана в одном из райцентров, где Басс для закрепления деловой дружбы угощал коньяком. Дальше уже ехали вместе на заднем сиденье, Басс рассказывал анекдоты, а Гий громко смеялся. В пути они еще дважды останавливались «подкрепиться», из ресторана выходили, взявшись за руки. Гий себе цену знал. Простых и честных людей к себе не подпускал. Что от них взять? Ремонт института, ремонт собственной квартиры… Потом — заменить всю мебель, и на такую, какую хочет Гий: импортную, в Тернополе такой не достать. Басс обещал помочь. Однако главное — не это… Подъезжая к Тернополю, Басс будто невзначай бросил: — У вас такая должность, а моя племянница хочет быть врачом, — сделал паузу, обнял ректора и уже со смешком продолжил: — Я ее и так и сяк. А она на своем: «Хочу, и все!» — Поможем! — отозвался Гий, хлопая собеседника по плечу. Расставшись с ректором, Басс вернулся в Черновцы, зашел к своему знакомому, мяснику Синько. — Слыхал, твоя дочь хочет в медицинский? Помогу, всего пять тысяч рубчиков без сдачи. Ну? По рукам? — Ого! — вскричал мясник. — За такие деньги машину можно купить… — Хм! Машина — груда металла, — широко улыбнулся Басс. — Образование не валяется и не заржавеет. Впрочем, как хочешь. Твоя дочь, твои деньги. — Многовато, — стал торговаться мясник. — Эх, Синько, стоит ли об этом. У тебя денег… Ну ладно, ты же сам меня просил. Соглашайся, пока вакантное место имеется. — Сразу всю сумму не дам, — продолжал торговаться Синько. — Аванс — два с половиной куска. Остальное — после зачисления. Договорились? — Скупердяй же ты. Несолидно! Чужие деньги жалеешь. Я же знаю, они ворованные, — улыбнулся Басс. — Ворованные или не ворованные, а они мои. Вот здесь, — сказал тот, хлопая по карманам. Выклянчить всю сумму Бассу так и не удалось. Получил половину. На следующий день Басс зашел в приемную ректора, низко поклонился полногрудой блондинке-секретарю Зое и тут же выложил ей на стол коробку дорогих конфет. — К ректору? — засияла Зоя. — К нему, — кивнул Басс. — Обождите, я доложу, — блеснула карими глазами. Находясь в приемной, Басс наскоро заполнил бланк заявления о приеме в институт от имени дочери Синько и расписался за нее. Гий принял Басса с широко распростертыми объятиями. — О, дружище! Привет тебе в моих хоромах. Заходи, рад видеть! Беседовали они долго. Басс обещал достать для института строительные материалы и попросил Гия сейчас же составить их перечень. Когда все было готово, проситель напомнил о племяннице. — Да, да, я не забыл. Глаза их встретились — завистливые и жгучие. Гий не спешил с решением, вышел из-за стола, прошелся по кабинету, широко шагая по добротному, мягкому ковру, остановился у окна, постоял, возвратился к столу. «Задаром не хочет», — догадался Басс. — Я привез две — вроде аванса… Остальное потом. Их глаза снова встретились. Гий раздумывал, не врет ли его новый друг. Басс ругал себя за поспешность. Зачем назвал две тысячи, можно было бы назвать и полторы. Схватка двух дельцов продолжалась недолго. Басс положил на стол Гию конверт с деньгами. В нем было тысяча восемьсот рублей. Гий дрожащей рукой схватил конверт, не считая деньги, убрал его со стола в ящик и закрыл на замок ключом. — Гонорар, — улыбнулся. — Взятка, — поправил Басс, хихикнул и положил на стол заявление. Ректор, не читая его, написал резолюцию: «Принять документы». Расписался и подчеркнул свою подпись. Это был его шифр. Вскоре дочь мясника была зачислена в институт. А дальше все шло как по писаному. Басс искал клиентов, брал у них деньги, часть оставлял себе, остальные передавал Гию… Я посетил школу, где учился Волошко. Познакомился с учителями, директором, нашел его соучеников. Почти все они рассказывали одно и то же: Волошко учился плохо, постоянно тянул класс по успеваемости вниз. Вызывали родителей, обсуждали его успеваемость на педсовете. И вдруг — поступил в институт. Это было неожиданностью для всех. Его же сосед Заремба учился на хорошо и отлично, горел желанием поступить в медицинский, но не набрал проходного балла. Особенно возмущалась классный руководитель — Наталия Степановна. — Непонятно, по каким правилам принимают сейчас в институт. Подали документы двое — один двоечник, а второй отличник. Двоечника зачислили… Почему? Он же не хотел туда поступать! Наталия Степановна задумалась, как бы взвешивая что-то, а затем подняла голову и с грустью сказала: — Получилось то, что мы и ожидали. Умер ни в чем не повинный ребенок. Потому что жизнь его доверили тому, кого нужно было гнать из института. Беседую с Зарембой. Скромный, застенчивый парень, очень огорчен неудачей. — На все вопросы я ответил, — стал рассказывать, — те, что сидели за столом в приемной комиссии, замечаний не сделали. Думаю — прошел. Вдруг экзаменатор задает мне дополнительный вопрос: «Скажи, где у муравья сердце?» Члены комиссии переглянулись. Мне стало не по себе: «Где же оно?» — стучало в голове. «Не проходили мы этого», — ответил я. Она впилась в меня своими серыми глазами. Такими мутными, на всю жизнь запомнил их. И сказала: «Плохо, юноша, надо знать». Как обидно. Готовился, готовился — и напрасно. Печально и другое. Волошко вообще ни на один вопрос не ответил, в школе баклуши бил, а ему поставили «пять». Почему? Все в школе возмущены. Видно было, как переживал Заремба, я ему сочувствовал. Что значит потерять веру в свои силы. И как остро калечит души молодых людей проявленная несправедливость. — На следующий год поеду поступать в другую область и добьюсь своего, честно, без подкупа и подачек, — сказал Заремба. — Что значит без подкупа и подачек? — перебил я его. — А то, что отец Волошко отвез ректору пять тысяч рублей, — вспыхнул он. — Откуда тебе известно? — Известно. Все село говорит. В тот же день я запросил сберкассу. Пришел ответ. Накануне сдачи сыном экзаменов в институт Волошко снял со сберкнижки четыре тысячи рублей. Заремба был прав. Закончив проверять личные дела абитуриентов, их письменные работы, я назначил экспертизу. Эксперты Черновицкого государственного университета пришли к выводу, что по всем мною представленным письменным работам оценки значительно завышены. Но это еще не был конец дела. Следствие только начиналось. Нужно было найти ниточку и распутать до конца клубок преступлений Гия, разоблачить его соучастников. В это время Гий уже не работал в институте, переехал в Киев и там возглавлял один из научно-исследовательских институтов. Допросы членов приемной комиссии ничего не дали. Многие из них только числились в списках, на экзаменах не присутствовали. Бывший председатель приемной комиссии Барбара ничего вразумительного не сказал. Видно было по всему: все они защищают Гия. Согласно правилам приема экзаменаторы обязаны были вести дневники и фиксировать знания абитуриентов, чтобы затем сообщать в школы для последующего устранения недостатков учебного процесса на местах. Мы взялись за архивы приемных комиссий. Эти документы без всякой системы лежали на чердаке. Несколько дней я и Сарапин разбирали пухлые папки и перечитывали накопленные в них черновые записи. Потратили на эти раскопки около двух недель, но упомянутых тетрадей не нашли. Правда, в папках обнаружили отдельные письма и заявления абитуриентов, положенные туда без всяких проверок. В письмах приводились факты злоупотреблений со стороны приемных комиссий, подтасовки экзаменационных билетов, завышения оценок отдельным абитуриентам и тому подобное. Все эти письма и заявления были изъяты и приобщены к уголовному делу. Поиски черновых тетрадей мы продолжали. Все экзаменаторы категорически утверждали, что тетради они сдали секретарю приемной комиссии Немцевой. Вызвал ее на допрос. Это была блондинка лет сорока пяти. Несмотря на свой возраст, выглядела молодо. Вела себя непринужденно. На вопросы отвечала четко и уверенно. По всему было видно — честный человек. — Да, да, черновые тетради были. Я их лично после экзаменов складывала в тумбочку письменного стола Барбары. Вы не думайте, что я причастна к безобразиям, которые обычно творятся на экзаменах. Я человек маленький. Написала Гию докладную, но тот вызвал меня и сказал: «Не твоего ума дело. Суешь свой нос куда не надо. Смотри мне». — И вы испугались? — Я-то не испугалась. На партийных собраниях критиковала Гия. — Татьяна Николаевна, помогите найти черновые тетради. Для нас это очень важно. Свое обещание Татьяна Николаевна сдержала. Нашла две тетради и с сопроводительным письмом направила их в прокуратуру. Они оказались ценными для следствия. Особенно тетрадь экзаменатора Пастушок Лизы Семеновны. Велась она четко. Например, в ней имелись такие записи: «дуб в квадрате», «дуб в кубе», «никс». Абитуриентам она ставила оценки за каждый ответ. Имелись и такие случаи, когда против вопросов стояли двойки, а итоговая оценка была отличной. Лиза Семеновна входит ко мне в кабинет. Стройная, молодая, красивая женщина. На щеках ямочки, яркий румянец по всему лицу. Глаза голубые, схожие с синевой утреннего моря. Я показал ей присланную Немцевой тетрадь. — Да, это я ее вела, — уверенно ответила. — Скажите, что значит слова «дуб в квадрате», «дуб в кубе», «никс»? — задал я вопрос. Она блеснула глазами и улыбнулась: — Это значит — ни в зуб ногой. А яснее — абитуриент ничего не знал. — Интересно, почему же в данном случае вы выставили ему оценку отлично? — Ну что ж, скажу, — снова улыбнулась Лиза Семеновна, — потому, что оценки выставлялись еще до сдачи экзаменов. Сам Гий это решал. — Непонятно. — Что тут непонятного? Перед началом экзаменов нам Гий давал ведомости абитуриентов, а в середине лежала полоска бумаги, на которой указывались регистрационный номер абитуриента и оценка. Эту оценку, независимо от знаний абитуриента, экзаменаторы должны были указать в ведомости. — Но ведь это же преступление! — не выдержал я. — Конечно. Мы возражали. Гий объяснял это тем, что так планировалось свыше, дабы выдержать проценты приема в институт сельского и городского населения. — Какую оценку получил по физике Волошко? Лиза Семеновна нашла соответствующую запись в тетради и сказала: — Я ему выставила по всем трем вопросам двойку. Но Гий заранее выставил ему отлично, поэтому я и продублировала его оценку. Аналогичные показания дал и второй экзаменатор. Для изобличения остальных членов приемных комиссий пришлось делать очные ставки. Улики, добытые нами за последние дни, являлись еще недостаточными для обвинения Гия и его посредника Басса. Добыто было лишь маленькое звено в длинной цепи, найден лишь первый след. Нужно было помешать преступникам замести следы, сбить следствие с верного пути. Нужны были веские, бесспорные доказательства. В первую очередь предстояло найти взяткодателей. Это куда труднее, чем опросы экзаменаторов. И я решил начать с Волошко. Денис Игнатьевич — мужчина средних лет, низенький, полный, круглолицый, шатен. Брови широкие, вьющиеся. Они торчали во все стороны, прикрывая маленькие, глубоко посаженные зеленые глаза. Долго не упирался, не было смысла. Снятые со сберкнижки четыре тысячи рублей, продажа кабанов в канун приемных экзаменов явились серьезными, неопровержимыми уликами, изобличающими Волошко-старшего в даче взятки. — Деньги я давал не ректору, а мужчине по имени Борис. Кому он их дал, мне неведомо, — категорически заявил Волошко. — Договор был таков: я даю деньги, и сын будет зачислен в институт. Передачу денег Бассу подтвердила и жена Волошко — Клавдия Федоровна. Когда я предъявил Станиславу Волошко его заявление о приеме в институт, он категорически отрицал свою подпись и сам текст. Но заявление мог составить от имени Волошко сам Басс. Так оно и было. Я вынес постановление о задержании Басса. Дома его не оказалось. Уехал в Москву пробивать вопросы снабжения колхоза лесом. Ехать за ним в Москву не было смысла. Мы предупредили руководство колхоза — о появлении его немедленно сообщить нам. Задержали Басса у его любовницы в Черновцах. Приметы этого человека я знал из показаний свидетелей, и если бы он встретился на улице, я бы узнал его: плотный, среднего роста, лет за пятьдесят. — Разрешите сесть, — смело, с широкой улыбкой спросил Басс. — Садитесь. — Товарищ следователь, произошло какое-то недоразумение, — смущенно произнес он. — Меня задержали по вашему постановлению. Я думаю — ошибка. — Никаких ошибок. Все законно. — Я в Москве, в Госснабе был… Выбивал запчасти для автомашин, — начал Басс, переменив тему разговора. — Ну и как? — Хо, там, где я берусь, во! — улыбнулся Басс, показывая большой палец. — По нарядам достали? — уточнил я. — По нарядам?! — раскрыл широко глаза Басс. — Дружки помогли? — Да, лучше имей сто друзей, чем сто рублей… Как сказал нам дорогой Аркадий… — Ладно. Хватит. Ближе к делу, — перебил я его. Басс насторожился, притих, в глазах мелькнуло беспокойство, но он, стараясь скрыть его, улыбнулся: — Может, анекдотик?.. Московский, свежий? — Анекдоты потом. В камере будете рассказывать, — парировал я. — В камере? За что? Это недоразумение! — удивленно, наигранно произнес Басс, но увидев, что я заполняю протокол о допросе его в качестве подозреваемого, сразу замолчал и насупился, стал рыться в карманах. Вскоре вытащил валидол, дрожащими руками, тоже наигранно, отломил полтаблетки, положил под язык, скривился. — Можно? — спросил он, показывая на графин с водой. — Да-да, пожалуйста. Он встал, потянулся к графину. — В последнее время что-то пошаливает. А сейчас… — Может, доктора пригласить? — Упаси бог! — махнул рукой Басс. — Есть тут у меня сосед. Коновал. Мою жену залечил. — Запив таблетку водой, Басс продолжал стоять. — Садитесь, — велел я ему. — Ничего, я постою. Может, отпустите, — слукавил Басс. — Пожалеете больного человека. Сердечника! — Нет, Борис Михайлович, разговор у нас будет неприятным и долгим. Сегодня выясним общие вопросы, а завтра начнем по эпизодам… — Эпизодам? Да что же это такое? Я ничего не делал, ничего не знаю, а меня камерой запугивают, эпизодами… — Вы же сами когда-то говорили: «Если рисковать, так на большую сумму!» — Товарищ, я удивляюсь, — Басс решил сыграть на моих чувствах. — Вы, кажись, следователь по важнейшим делам. О! Это большой человек! Знаем, ошибаются и по важнейшим. Меня уже раз так заграбастали. За что вы думаете? За простые анекдоты, маленькие шедевры народного творчества, так сказать. — Нет, вас судили за — антисоветскую агитацию и пропаганду — за государственное преступление. В деле есть справка о вашей судимости, вот она. Басс задумался, обмяк, побледнел. Улыбка с его лица сошла, он опустил голову. В кабинете воцарилась тишина. Я в это время стал записывать в протокол анкетные данные подозреваемого. — Ваша профессия? — Я все могу, для себя и для других, — пытался улыбнуться Басс. — Образование? — Не высшее и не среднее. Ушел со второго курса мукомольного техникума. — Соцпроисхождение? — Из ремесленников. Отец в период нэпа держал сапожную мастерскую. — Семейное положение? — Имею жену и двух дочерей — Беллу и Эмму. — Последнее место работы? — Экспедитор колхоза. До этого работал в связи и много сделал для Черновиц. Телебашню достал и к ней начинку. — Басс улыбнулся. — Без меня они бы до сих пор на дохлых кошек смотрели. В действительности, как было установлено позже, Басс и здесь нагрел руки, принимая самое непосредственное участие в приобретении за взятки аппаратуры для телевидения. — Расскажите подробно, когда и какие суммы денег вам давали родители за содействие в приеме их детей в медицинские институты? — Это ложь, — буркнул Басс. — Другое дело телебашня. Там пришлось раскошелиться. — Но и здесь вы платили не свои деньги, а государственные? — Правильно. Представил акт на закупку агрегатов на рынке, и мне вернули все сполна. Еще бы, вышка-то стоит. Как памятник мне. — Не рисуйтесь, Басс. Вы оставили после себя память другую, черную, — перебил я его. — Ошибаетесь, товарищ по важнейшим, — недовольно буркнул Басс. — Я ведь достал… — Документы подделывали. Чужие деньги получали. — Подумаешь! Мелочь! — За эту мелочь вас и уволили? — Ну кого я надул?! Ну было такое, исправлял дату в билетах. Иголкой лишнюю дырочку проколол. Так это же ради общего дела. Все на телебашню шло, — выпрямился, гордо поднял голову. — Я им и художественную самодеятельность организовал… Мастером слова прозвали меня… Грамоты и денежную премию получал. А это какая память? — Рассыпалась ваша самодеятельность. Кончились и ваши похождения. Связи с Гием Басс категорически отрицал: — К науке я не успел добраться. Вскоре мы установили, что Басс организовал Гию пошив костюмов, платьев жене и дочерям у закройщика Замялова. Деньги за материал и пошив, как показал закройщик, платил лично Басс. Было также установлено, что Басс для семьи Гия приобрел у спекулянтки по фамилии Машева импортные товары: кожаное пальто, каракулевую шубу, костюмы, и для примерки возил туда Гия, его жену и детей. И тут за все товары деньги платил Басс. Помимо этого, Басс неоднократно снабжал Гия и его семью билетами на концерты московских артистов и в цирк. Тесные связи Гия и Басса подтвердили, кроме Замялова, Машева и другие свидетели. Клубок преступлений начал разматываться. Но Басс все отрицал. По всему видно было — за спиной у него большой груз преступлений. Как потом показало следствие, так оно и было. Особое внимание мы по-прежнему уделяли выявлению взяткодателей. Проверялись в первую очередь лица, у которых оценки в контрольных работах были явно завышены. Допросы Басса мы умышленно прекратили. Пусть побудет в неведении. Прошла неделя. Басс не выдержал, написал мне заявление и попросил о встрече. Я поехал в тюрьму. За это время он осунулся. Подолгу молчал. Пытался разузнать, чем располагает следствие. Под конец попросил у меня чистый лист бумаги. На вопрос, зачем ему бумага, ответил: — Представлю повинную, дабы ускорить расследование и заслужить снисхождение. Прошло несколько дней, и Басс направил прокурору республики заявление, в котором признался, что дважды передавал Гию взятки, в первый раз — от Волошко, во второй — от зубного техника Гробмана. Встал вопрос о привлечении к уголовной ответственности Гия. Было принято решение перед задержанием произвести у него дома и на работе обыск, который я проводил совместно со следователем по особо важным делам Слесарем. Мы изъяли у Гия три ружья, из них одно — ТОЗ-34 с инкрустацией золотом и серебром стоимостью свыше тысячи рублей, три кинокамеры, фотоаппарат японской фирмы «Сопоп», транзисторные радиоприемники иностранной марки, серебряный вьетнамский сервиз и много изделий из золота, всего на сумму свыше десяти тысяч рублей. Кроме того, было изъято наличных денег и облигаций трехпроцентного займа на сумму свыше пяти тысяч рублей, сберегательные книжки на имя Гия с остатком вкладов свыше пятидесяти восьми тысяч рублей и на имя жены — Гий Лидии Ивановны с остатком вклада свыше семнадцати тысяч рублей. Описано имущество на сумму около тридцати тысяч рублей, в том числе: автомашина «Волга», кооперативный гараж, моторная лодка, румынский гарнитур стоимостью пять тысяч семьсот рублей и многое другое. Изъятые ценности, наличие большого количества дорогого имущества говорили сами за себя. Семья Гия жила явно не по средствам. Помимо этого, Гий приобрел для дочерей две кооперативные квартиры: одну в Тернополе, вторую в Киеве. А для получения многокомнатной квартиры в городе Киеве Гий записал в состав своей семьи дочерей, зятя и даже внуков, которые проживали в Тернополе. Самого хозяина в тот день дома не оказалось, он поправлял свое «пошатнувшееся» здоровье в одном из лучших санаториев Советского Союза. И вот пришел час, когда ко мне в кабинет ввели задержанного Гия. Выглядел он лет на пятьдесят пять, был выше среднего роста, с темно-коричневым припухшим лицом, со следами крымского загара, тупым коротким носом, маленькими, как у барсука, глазами, оттопыренными губами, подчеркивавшими надменность и высокомерие. Войдя в кабинет, Гий не поздоровался, злобно заскрипел зубами: — Я взяток не брал. За незаконное задержание вы ответите по всей строгости закона. — Здравствуйте, Петр Емельянович, — перебил я его. — Культурные люди должны прежде всего здороваться. — Не желаю из-за вас… — продолжал Гий. — Садитесь. Успокойтесь. Но он кричал, продолжая размахивать руками. Понадобилось немало усилий, чтобы остановить его. Наконец-то он сел, злобно уколов меня зеленоватыми, бегающими глазами. «Откуда у него столько злобы? — подумал я. — Неужели он надеется выкрутиться, как уходил от ответственности добрый десяток лет?» Первым делом я решил убедить его в том, что утаивание правды бесполезно, что только раскаяние — верный путь защиты. Что ему было надо? Ведь у него было все: хорошая должность, приличная зарплата (получал он до восьмисот рублей в месяц), прекрасная квартира, обставленная по последней моде, обеспеченная семья, автомашина, гараж… От государства взял все, а чем ему отблагодарил? Поначалу я решил не вступать в полемику с Гием, дать ему высказаться до конца, выслушать весь арсенал его возражений. Допрос — не простое следственное действие, это состязание двух сторон процесса. И при допросе один пропущенный вопрос, поспешность, неверный тон могут сбить с пути, завести в тупик. Потом придется терять уйму времени, чтобы восполнить упущенное. Допросы шли изо дня в день. За пять дней было исписано свыше восьмидесяти листов бумаги. Но Гий по-прежнему все упорно отрицал, стараясь все запутать и ускользнуть от прямых ответов. На многие вопросы отвечал поверхностно, умышленно упуская из виду детали сделок, жалуясь на головные боли и провалы в памяти. Протоколы его допросов пестрели противоречиями, которых Гий не замечал, делая вид, что из-под его пера выходит одна только правда. Но то была одна ложь. — Вы меня не учите, я сам грамотен и умею постоять за себя. Будьте спокойны, — отвечал Гий на мои дополнительные вопросы. По поводу кинокамер, фотоаппаратов, магнитофонов, радиоприемников отвечал, что он их купил в Москве, прямо на улицах, у неизвестных лиц. А на вопрос — зачем купил три одинаковые кинокамеры — ничего не ответил. Связи с Бассом категорически отрицал: — Вы уничтожили меня как ученого, как хирурга и как человека! — Зря вы на меня в обиде. Я выполняю свой служебный долг. За преступление нужно отвечать. Пришло время. Наберитесь мужества и начните рассказывать. — Ни за что!.. Я не виновен, — кричал Гий. — Вы, вы меня уничтожили!.. — Гий, вы сами себя уже давно уничтожили, встав на путь преступления. Прошло еще несколько дней напряженной работы, и я решил перейти в наступление. Начал я с того, что упрекнул Гия в нетактичном поведении на допросах, в невыдержанности, лжи и тут же зачитал некоторые выдержки из его показаний, а также свидетелей, подтвердивших его знакомство с Бассом. Напомнил о том, что Басс заказывал для Гия и его семьи костюмы в ателье № 32 в Черновцах, куда ездили в одной машине Басс, Гий и его жена. Доказал, что кинокамеры, фотоаппарат японской фирмы он не покупал, а вручены они ему жителями Тернополя Гримблатом и Кабанцом как взятки. Гий замахал руками. — Нет, нет, только не это. Но я продолжал дальше: — Малогабаритный японский телевизор вручил вам Хомчук, магнитофон «Телефункен» — Сорокин. Он вскочил, прошелся по кабинету, затем понял, что запираться нет смысла, я располагаю неопровержимыми фактами, уликами, документами, так называемыми «немыми» свидетелями, и решил сдаться. — Ладно, пишите. Было всего два случая — гонорара! — выдавил, тяжело вздыхая. — Всего два? А может, двадцать два? — Что вы, что вы, господь с вами, — замахал руками. — Господь не поможет, придется рассказывать. Гий попросил воды. Я подал ему полный стакан. Он выпил, сел, расстегнул ворот рубашки, глубоко дыша, уставился на меня жалобными глазами. Нужен был еще небольшой толчок с тем, чтобы окончательно убедить его в бессмысленности запирательства. — Сегодня вам будет предъявлено обвинение, постановление уже составлено, — спокойно сказал я ему. — Обвинение? — встревожился Гий. — Без моего признания? — Конечно. — Тогда пишите, все расскажу начистоту. — Вот бумага, пишите сами. Только правду. Я дал ему чистые листы бумаги, а сам подошел к окну. Было воскресенье. Солнечный день. Тишина. Не шелохнется ни один лист на деревьях. Люди толпами сновали по улице. Их разноцветная одежда, сливаясь в едином потоке, напоминала огромный движущийся ковер. Люди отдыхали, веселились. А я томился в душном кабинете. Я умышленно не подходил к Гию. Пусть сам пишет. Заговорила ли совесть? Правду говорят: совесть не едят, с ней живут. Есть ли она вообще у него? Сидел он молча. Несколько раз брался за ручку, вертел ее в руках и снова ложил на стол. — Сегодня не могу. Завтра, — наконец произнес он, повернувшись ко мне. Я по опыту знал, если он сегодня не напишет, то завтра не жди. Уже будет поздно. Отпускать его было нельзя. И я стал ему объяснять: — Дело ваше, когда писать. Промедление не в вашу пользу. Так или иначе — писать придется, так что лучше сегодня. Наконец Гий взялся за ручку. Писал долго, обдумывая каждое слово, каждое предложение. На первом листе он написал: «Я с Бассом познакомился в 1959 году. Позже он обратился ко мне с просьбой оказать ему помощь в поступлении в институт Эпельман Софие из гор. Черновиц. Когда она сдавала экзамены, моя поддержка заключалась лишь в том, что я говорил: данного абитуриента необходимо поддержать, благосклонно к нему отнестись, т. е. не срезать. После зачисления Эпельман в институт в конце августа или в начале сентября Басс вручил мне в подъезде моего дома пакет. Проверив дома содержимое его, я обнаружил десять тысяч рублей… Вручая пакет, Басс сказал: „Это в знак благодарности за прием в институт…“». С горем пополам Гий дописал вторую страницу, расписался и поставил дату. — Все. Разоружился, — вздохнул он, — словно камень сбросил. Он указал в заявлении лишь две взятки, причем оба эти случая не были известны следствию. — И это все?! Нет. Такое раскаяние в вашем деле ничего не стоит, — возвратил я Гию его заявление. — Напишите, за что вам давали «гонорар». Ведь это чистой воды взятки. — Для меня гонорар, а для вас взятки, — недовольно буркнул. — Я не юрист. Тем временем подошел обед. Я вызвал дежурного и предложил отвести Гия в камеру и накормить. Уходя из кабинета, Гий прихватил с собой и свое заявление. Это была моя оплошность. Ровно через час привели Гия. — Дайте ваше заявление, — сказал я. — А я его порвал, — ехидно улыбнулся Гий. — Вы же сами сказали, что оно — филькина грамота. Ну я его и на кусочки… — Ну что ж, порвали так порвали, — сдерживая свое разочарование, ответил я. — Однако вам придется признаваться во всем и сразу. Гий на мгновение задумался, уткнувшись лицом в ладони. В такой позе он находился несколько минут, затем попросил: — Дайте бумаги. …Писал он второе заявление еще дольше, лицо выражало муку и страдания. Вспомнил только шесть случаев получения «гонорара». Названные два эпизода в первом заявлении опустил. О них я не напоминал. Достаточно было, что я их хорошо запомнил. Вскоре все факты получения Гием взяток, указанные в заявлении, подтвердились. В дальнейшем Гий замкнулся и сожалел о том, что признался. — Мне достаточно того, что написал на свою голову, — злился он. Время шло, всплывали новые эпизоды взяточничества, которые он категорически отрицал, но после проведенных очных ставок частично признавал: — Давали «гонорар». Я отказывался, так они насильно совали деньги в карманы, в ящики письменного стола, в багажник автомобиля… На очной ставке с Бассом Гий не выдержал: — Ты меня погубил! Я ведь ученый! — закричал он. Басс, прищурив глаза, спокойно уточнил: — Ученый жулик! У Гия не выдержали нервы, он кинулся к Бассу и хотел схватить его за горло. — Ты, бандит! Уничтожил меня! Басс легко оттолкнул его. — Ах, так? Тогда я тебе напомню. Деньги от Витару — три тысячи… Брафельда — четыре тысячи. Ну, еще подсыпать?.. Могу дополнить! Сказанное, словно молния, поразило Гия, и они стали друг друга топить, называя новые факты взяточничества. Я только успевал записывать. И о том, как Гий у своего бывшего соученика по институту Фермова выудил вьетнамский серебряный сервиз за устройство его дочери в институт, и как бывший начальник областного управления лесного хозяйства Кузьмичев за прием в институт своей дочери вручил Гию инкрустированное золотом и серебром ружье стоимостью свыше тысячи рублей, изготовленное по спецзаказу на тульском оружейном заводе… И о том, как Кабанцев, фотограф из Тернополя, за прием его сына в институт передал Гию кинокамеру, фотоаппарат и кинопроектор японского производства. А житель Тернополя Хомчук за прием в институт дочери вручил Гию в виде взятки малогабаритный телевизор японской фирмы. Само собой разумеется, признание обвиняемых — это еще не конец дела, а по существу начало его. Необходимо было все эти факты проверить, допросить взяткодателей и подкрепить все это вескими доказательствами… Простейшей, без новизны и перспективы, была его докторская диссертация. Как она прошла комиссии? Гию везло. Да и не только ему. Его жена тоже стала в стенах института кандидатом медицинских наук. Старшая дочь училась в аспирантуре, осталось совсем мало до получения ученой степени. Младшая дочь тоже стремилась к этому, но ей помешали, арестовав папу. Хороша семейка: сутяги и крохоборы. Супруга при допросе все рассказала о взяточничестве ее мужа, а спустя два дня стала писать заявления в разные инстанции, жаловалась на следователя, который якобы силой заставил ее дать такие показания. Младшая дочь Елена на допросе оскорбляла следователей. Старшая — Анна во время обыска пыталась спрятать золотые изделия, а когда ее разоблачили, закатила истерику и стала бить хрустальные вазы, обвиняя в этом работников милиции. Один из зятей Гия так охарактеризовал эту семью: — Я для них был чужим. Меня вечно попрекали за малую зарплату, которую вырывали из рук, не оставляя ни гроша на мелкие расходы. Прятали от меня еду. Весь семейный разговор сводился только к деньгам. Но теперь пусть знают, что не всему рубль — мера… Обидно, конечно, что эти люди на протяжении долгих лет работали в институте, где, как мы установили, царила атмосфера строгого диктата. Гий ввел такой порядок — все решает он. Тех, кто пытался ему перечить, — выживал. Критика и самокритика были исключены. Зато восхвалялись Гий и его жена. Приказания Гия выполнялись безоговорочно, его решения никем не оспаривались. Особый упрек нужно бросить в адрес приемных комиссий, которые существовали формально, а их роль была сведена к нулю. А ведь они обязаны были справедливо рассматривать сотни заявлений, ибо за каждым из них таилась надежда, судьба молодого человека. Надо было обеспечить на экзаменах такую обстановку, чтобы вступающий в институт, попав в стены вуза, чувствовал доброжелательность, чуткость и требовательность к себе. А главное, чтобы каждый абитуриент, независимо от того, набрал ли он необходимое количество баллов или нет, был уверен, что с ним поступили справедливо и честно. Несправедливость — страшный враг. Но Гий, преследуя свои корыстные цели, никогда не задумывался над этим. Да и способны ли вообще такие люди думать об общественных интересах, о молодежи — о нашем будущем. Вся жизнь Гия была подчинена единственному — стяжательству. Ведя расследование, я часто задумывался над тем, сколько вреда причинил Гий нашему обществу, людям. Почему так безответственно вел себя коллектив института? Может, не замечали? Все экзаменаторы, допрошенные по делу, догадывались о нечестности их руководителя. И только? Все знали, какую зарплату получал Гий, и были осведомлены, какими суммами ворочал. За короткое время купил автомобиль, построил кооперативную квартиру для младшей дочери, систематически выезжал с женой в заграничные вояжи, обставил квартиру импортной мебелью, покупал шубы, золотые изделия. Зарплату Гий и его жена перечисляли на сберегательные книжки. Об этом в институте знали все. На что же жила семья? Ясно — на взятки.Кто же давал их, эти взятки? Что это за люди? Подавляющее большинство давали взятки не из своих личных сбережений, добытых честно, а деньгами, доставшимися преступным путем. Это были спекулянты, расхитители народного добра, торговые работники и т. п. Вот показания Кузьмичева, мужчины чуть старше пятидесяти лет, толстого и ленивого, с узкими, бегающими глазками и полными, постоянно влажными губами. — Вы знали, что дача взятки наказуема законом? — задал я ему вопрос. Кузьмичев погладил рукой свою шевелюру, медленно, словно после долгой спячки, ответил: — Ну, знал. Но Гий сам мне предложил. — Когда это было, где? — Познакомились мы на охоте. Вместе по чарке выпили. Разговорились. Тогда же на охоте Гий увидел у одного ответственного работника охотничье ружье, инкрустированное золотом и серебром, и попросил, чтобы я достал такое и ему. Я пожал плечами, мол, не знаю, как это сделать. Тогда он улыбнулся и напомнил, что моя дочь хочет поступить в его институт. Так что, мол, смотри! Это был намек, и я, конечно, заказал на тульском оружейном заводе ружье, за которое уплатил тысячу сто рублей. Перед самыми экзаменами отнес Гию. Дочь была зачислена. — Гий утверждает, что ружье вы ему подарили в день его пятидесятилетия и это не является взяткой. — Такие подарки в день рождения не дарят. Они слишком дороги, — ответил живо Кузьмичев и тут же подчеркнул: — Я жалею, что сразу не заявил в прокуратуру. Ну кто бы мне тогда поверил?! Следствие шло к своему завершению. Клубок преступлений размотался до конца, но ставить точку было еще рано. Материалы следствия широко обсуждались в коллективах институтов, Министерства здравоохранения, на заседаниях бюро обкомов партии. Виновные получили по заслугам. Были рассмотрены и приняты новые правила приема в институты. Партийные органы приняли меры по наведению порядка в министерстве, по ликвидации последствий деятельности отъявленных дельцов, засевших в учебных заведениях. Надо полагать, что время Гия и его компании кончилось навсегда. В процессе следствия меня интересовали и другие вопросы, имеющие социально-психологическое значение, в частности такой: какова причина того, что Гий, поставленный на ответственный участок — воспитание молодых людей, — докатился до преступления? Этот вопрос не давал мне покоя, и я старался найти ответ. Сначала в самой биографии Гия. Но там все было гладко. По крайней мере — внешне. Жадность — вот что извратило его взгляды на жизнь. Всему этому сопутствовали высокомерие, мнимая недосягаемость и недоступность для других, его якобы «особое» положение в коллективе, обществе. Всем этим воспользовался Басс: присосался к нему, влез в душу, обворожил сотенными, купив его с потрохами, и далее приспособил к своим интересам. Правда, Гий и не старался вырваться из его лап. Деньги радовали его, и он был вполне уверен, что все сойдет с рук. Эта-то самоуверенность его и подвела… По словарю Даля, взяточник — продажный человек. Очень точно сказано. Среди некоторых обывателей еще бытуют выражения: «Не помажешь — не поедешь», «Рука руку моет», «Сухая ложка — горло дерет», «Маслом кашу не испортишь», «Ты мне — я тебе». Но этими мудростями пользовались в хорошем смысле и по другому поводу. Люди забыли другие выражения: «Что посеешь, то и пожнешь», «На чужом горбу в рай не доедешь», «Сколько веревочке не виться — конец придет», «Если человек идет с открытым сердцем, ему всегда помогут». Борьба со взяточничеством, поборами и подачками — дело каждого… — Встать, суд идет! Публика в битком набитом заводском клубе встала. Оглашается обвинительное заключение. Зал притих. Подсудимые, опустив головы, смотрят себе под ноги. Слова председательствующего звучат грозно и торжественно: — Гий обвиняется в том, что, работая ректором Тернопольского государственного медицинского института и ежегодно являясь председателем приемных комиссий в период проведения вступительных экзаменов в институт, занимая, таким образом, ответственное положение, систематически из корыстных побуждений злоупотреблял им, нарушал правила приема в высшие учебные заведения СССР, Положение об экзаменационных комиссиях… Вступив в преступную связь с посредниками Бассом, Кузьмичевым, систематически давал указания подчиненным ему членам приемных комиссий и экзаменаторам завышать оценки знаний интересующих его абитуриентов, за поступление в институт которых получал взятки как лично сам, так и через посредников. Всего Гием получено взяток деньгами — двадцать восемь тысяч рублей, ценными вещами и предметами — на сумму четыре тысячи пятьсот рублей. Обвинительное заключение оглашено, зал негодует… Подсудимые, прячась друг за дружкой, молчат… — Подсудимый Гий, встаньте. Признаете ли вы себя виновным? — обращается к Гию председатель суда. Гий встает. Он бледен, растерян. Откашливается. Исподлобья смотрит в зал и, повернувшись к судьям, тихо, еле слышно говорит: — Понимаете — не все… — Громче, ничего не слышно, — шумят в зале. — Было дело, но меньше… Давали «гонорар»… Я клянусь… не хотел… Они сами совали деньги… А этот Басс — бандит, запутал меня. — Позвольте, позвольте, — вскочил Басс. — Гражданин судья… Что он мелет! Я его запутал?! Председательствующий остановил его, и Басс сел, жестикулируя. — Значит, вы виновным себя признаете частично? — уточняет председательствующий. — Нет… Да… Если бы не он… Опозорил меня как ученого, — снова тихо цедит Гий. Затем подняли Басса. — Да, признаю полностью. Организатор всех дел он, Гий. Я только подбирал ему клиентов. Так почти целый месяц Верховный Суд скрупулезно исследовал материалы следствия в отношении махровых преступников, вина которых в судебном заседании была установлена полностью. Процесс окончен. Гию было предоставлено последнее слово. Он медленно встал. Дрожащей рукой смахнул с серого лица пот, взглянул потухшими глазами на публику и как-то неуверенно, словно чужим голосом, произнес: — Прошу снисхождения! Гий и Басс были приговорены к расстрелу, а их соучастники — к разным срокам наказания. Закон есть закон, его никто не должен обходить. А нарушил — отвечай по всей строгости… Волошко Станислав, от которого потянулась ниточка, был осужден за неосторожное убийство Васи П. во время операции. За дачу взятки на скамью подсудимых угодил и Волошко Денис — отец неудавшегося хирурга.
ЯВКА С ПОВИННОЙ

…«И… обдумав и взвесив все… решил рассказать о преступлении, которое я совершил, и заслужить снисхождение Советской власти…» Так обычно начинаются письма, заявления граждан, совершивших какое-либо правонарушение. Что это значит? Карманщик, спекулянт, расхититель народного добра, убийца, часто носящие чужие фамилии, решаются сами, добровольно выдать награбленные ценности, золото, бриллианты или рассказать о своих преступлениях. Все это допустимо. По нашим законам такое заявление, его обычно называют «явка с повинной», является одним из веских обстоятельств, смягчающих ответственность. Лично я, мои коллеги не раз встречались с такими людьми и одобряли их решение. Конечно, на такое решится не всякий, то ли из-за страха перед наказанием, то ли из-за низкого уровня сознания. «Я подрезал мужчину на улице в селе Замостье Днепропетровской области… на месте расскажу». Подпись — «Заступа». Такое «анонимное» письмо было получено управлением внутренних дел области. Ясное дело, им заинтересовались и проверили. Действительно, такой случай был, совершено убийство, но преступник до настоящего времени не найден, и дело приостановлено. Заступа отбывал наказание в одной из колоний, куда была немедленно послана шифровка. Вскоре оттуда пришло подтверждение — да, есть такой Заступа. Одновременно с этим пришло и его заявление такого содержания: «…Осенью 1957 года в поздний час я шел из ресторана улицей и громко пел. Мне навстречу плелся пьяный мужик. Поравнялся — и ко мне: „Дай прикурить!“ Я не дал. Сам хотел курить. Тогда он заехал мне в рожу. Я в отместку пырнул его ножичком… и убег». Оперативники района обрадовались. В самом деле, сколько работали над делом об убийстве гражданина Симчука… Бились, бились несколько лет подряд, и все безуспешно. А тут сам преступник объявился. Взялись за дело с огоньком. Заступу этапировали в Днепропетровск, допросили и уже потирали руки от успеха. Выставили соответствующие документы на раскрытие этого тяжкого преступления. Время прошло, сгладились всякие мелочи. Память человеческая — не электронная машина. «Сам же заявил, не придумал», — успокаивали себя оперативники. В таком виде дело поступило в районную прокуратуру к следователю Никитенко. Молодой специалист Никитенко с помощью и под влиянием оперативников райотдела следствие провел быстро, составил обвинительное заключение и передал дело прокурору района для направления его в суд. Прокурор Сивокож изучил дело и усомнился в виновности Заступы. Свои сомнения он высказал мне по телефону и просил срочно приехать к ним в район. Тон его был настолько тревожным, что я сразу же решил ехать (я тогда работал начальником следственного отдела облпрокуратуры). Сивокож моему приезду обрадовался, хотя на его лице я прочитал растерянность и озабоченность. — Подвели меня, — встревоженно сказал он. — Мой помощник в мое отсутствие дал санкцию на арест, а следователь, не имеющий достаточного опыта, привлек Заступу к уголовной ответственности. Я попросил прокурора дать мне это дело. Оно было сравнительно небольшим, и я изучил его за вечер. В нем оказалась масса неисследованных вопросов. Все обвинение строилось лишь на одном признании. Я решил встретиться с Заступой. Нужно было поговорить с ним откровенно, по душам. Его привели ко мне утром следующего дня. Было ему более сорока лет, лицо напоминало печеное яблоко, серые глаза точно выцвели, одежда сидела мешковато. Был он, как ни странно, в хорошем настроении и сразу сказал мне: — Я признаюсь! Порезал мужика! Судите! Я предложил ему сесть, угостил папиросой. — За что отбываете срок? Заступа ответил не сразу, сладко затянулся, выпустил вверх дым. — Хм, гражданин начальник, зачем вспоминать старое… Лучше пойдем по новому. — Мой долг интересоваться всем. Заступа взял новую папиросу, прикурил. — Неинтересно! У растяпы чемодан свистнул. Так сказать, кроха-буравчик. По-вашему — разбойник. Ну, немножко причесал ему шевелюру… — и деланно улыбнулся. — Открыл крышку, а там всякая, простите… зубная щетка, нафталин, помада, женские панталоны. Деньги я взял, а ту чертовщину бросил. Дали мне за это — на всю катушку. Сижу — скучаю, нудно, холодно и голодно. Вишь, какой худой! Кровь жабья — не греет. А тут у вас — лампосе! — тепло, мухи не кусают, комары не сосут. Завидую. Там же они — будто скорпионы. Житья нет от них. — Семью имеете? — Семью? Ха, ха! А на шут она мне! Измена, обман, развод… Бобылем лучше. Ни кола ни двора. Вольная птица. — До этого вас тоже судили? — интересуюсь дальше. — Эх, гражданин начальник! Было дело. За махонькую кражу взяли. Закатушили на два годочка. — Значит, вы его убили? — неожиданно задал я вопрос. — Не… не убивал… Мокрого у меня нет. Подрезать — подрезал, так мне сказали. — Заступа вскочил, потом сел и заерзал на стуле, стал рыться в карманах. Я догадался — ищет папиросы. — Можно? — показал он рукой. Я подал ему пачку своих. Он взял папиросу, подул в мундштук, размял табак, прикурил. Сладко затянулся и закашлялся. Глотнул из стакана воды, потянулся. — Не выспались? — Какой там сон в КПЗ! Голые доски, — ехидно улыбнулся. — Может, подскажете, пусть матрац подкинут. — Режим для всех одинаков, — разъяснил я ему. Помолчали. Заступа продолжал курить, выпуская из носа дым. Левая рука его лежала на коленях, заметно вздрагивала. — Ну, а теперь расскажите не спеша, все по порядку, — предложил я ему. Заступа поднял на меня серые глаза, прищурился. — Там в деле все есть. Ничего нового, — ответил, тряхнув головой. — Дело делом, а вы расскажите сами, так понятнее, — попросил я снова. Он, как видно, хотел выпытать у меня о судьбе потерпевшего. После выкуренной папиросы будто невзначай бросил: — Начальник, скажите, тот мужик убит или вы меня — на пушку? — Убит, — ответил я ему. — Да, ситуация, скажем, фронтовая, — буркнул он. Снова закурил и занервничал: тер пальцами виски, хватался за сердце. — Болит? — посочувствовал я. — Ноет, — выдавил. — Так всегда перед следователем. Затем приподнялся, шумно скрипнул стулом. — Слушайте. Было, значит, так. Знать, иду по селу. Мужик мне навстречу… Пьян, конечно. «Дай прикурить», — попросил его. А он как бычок: «Какой я курец» — и как двинет меня в скулу. У меня из глаз искры… Вы бы тоже не выдержали. Я со злости его ножичком — раз. Вот сюда, — поднял рубаху и показал место ниже пупка, куда он якобы нанес ножевое ранение. (У потерпевшего же — рана прямо в сердце). Снова закурил, задумался и неожиданно попросил: — Покажите мне того мужика. Я его сразу опознаю. Интересный мужик! Я не ответил и еще больше насторожился. «Что же побудило этого человека взять на себя тяжкое преступление? Подговорили?» И тут же поползли другие мысли: «Как же Заступа мог знать о преступлении, совершенном здесь, в далеком селе?» Отогнав сомнения, спросил: — Сможете показать то место, где вы совершили преступление? — Нет, — ответил раздраженно Заступа. — Чего не могу, того не могу. Было темно, дул встречный ветер, такой колючий, что аж дух захватывало. Он снова задумался, будто вспоминал тот роковой вечер. В глаза мне не смотрел, боялся выдать себя. Погасив в пепельнице папиросу, взял новую, прикурил. Его лицо осунулось еще больше, стало землистым, нижняя губа заметно вздрагивала. — Опишите внешность того мужчины. В чем был одет, — попросил я. Заступа задумался, глубоко, с шумом вздохнул и тихо, как-то разочарованно промолвил: — Дело было осенью. Значит, мужик был в пальто. В черном пальто. Это уж точно. — А на голове? — Шапка, конечно. Посмотрел на меня, проверяя, поверил ли я ему, и тотчас же добавил, но уже тише: — В чем же в такую погоду ходят? (По материалам же дела потерпевший был в фуражке и не в пальто, а в сером плаще). — Какая обувь? — продолжал допытываться я. Он заерзал на стуле, потянулся к папиросам, ехидно улыбнулся: — Гражданин следователь, зачем вам вся эта мелочь? Что на нем? Никто до этого меня не спрашивал. Главное то, что я его подрезал. Я настаивал на своем. Заступа на мгновение задумался, затем вскочил. — Должно быть, в сапогах. Не иначе. (По делу — в ботинках). В дальнейшем Заступа стал еще больше придумывать, лгать, говорить невпопад, но я не отступал, задавал новые и новые вопросы, все сильнее убеждаясь: Заступа не убивал Симчука. Но мне хотелось, чтобы он сам убедился в этом и отказался от своих показаний. Однако Заступа еще держался. В это время в кабинет зашел начальник уголовного розыска Проскурин, и я обрадовался. Для быстрой развязки разыгранного Заступой спектакля нужен был именно Проскурин. Поэтому я пригласил его сесть. — Сами откуда родом? — продолжал я допрос. Заступа деланно усмехнулся. — Гражданин следователь! Вы опять за свое! Подрезал-то я… Все ясно, как божий день… Могу перекреститься. — А все же интересно, как вы попали сюда? Заступа посмотрел на Проскурина. — Да, да, расскажите, — поддержал меня Проскурин. — По совести? — переспросил Заступа. Я кивнул головой. — Ехал поездом. Сошел. Хотел посмотреть село. Говорят, оно очень старое. Еще Петр Первый заложил его. Ну и пошел. — Ночью? — остановил я его. — А что? — вспыхнул Заступа. — И что же дальше? Заступа посмотрел на Проскурина и сказал: — А дальше — приехали! Теперь вы спросите: кто мой дедушка? Не был ли он в белой армии? Служил ли я у Колчака? Не была ли моя бабушка царицей?.. — Он явно издевался надо мной. — Приехал, а дальше? — вмешался Проскурин. — Ох и интересные вы люди — хотите все тонкости узнать? — возмутился Заступа. — Ну, заночевал на вокзале. Мне пуховая перина не нужна. Под голову кулак, и все. Рядом буфет, выпил пива — мало. Пошел искать ресторан. А дальше вы уже знаете… — Выходит, вы приехали специально посмотреть старое село? Каким же поездом? — спросил я. — Ну и хитер же ты, начальник. И это хочешь узнать. Другие не интересовались. Вам надо знать? — наигранно произнес Заступа. — Хотите правду — я не выдумал, не хочу подводить свою зазнобу. Муженек ее в командировку тю-тю, а я в тепленькую постельку. Ух и горячая, зараза. Закурил. — В чем вопрос, я же не кретин! Подрезал! Я не откажусь, хоть режьте на кусочки, — поклялся Заступа, стуча себя в грудь. Мне осталось выяснить, что Заступа скажет о ноже, хотя и без этого все было ясно. Заступу придется этапировать обратно в места заключения. Проскурин сник, сидел тихо и ждал. — Значит, вы подрезали? — Ну я же, я! — крикнул Заступа. — Каким ножом? — Ножом? Обыкновенным. Сам делал, — ответил не задумываясь. — Нарисуйте, — предложил я ему и положил перед ним чистый лист бумаги и карандаш. — Видите ли, я не художник. И зачем это вам, начальник? — Для дела. Он насупился, почесал затылок, что-то залепетал про себя и попросил закурить. — Ну, ну, рисуйте, — подгонял я его. Но Заступа тянул, ерзал на стуле, понимая — его загнали в угол. Встала новая проблема — придумать нож. Тем более, предлагалось его нарисовать. Нож, которого он никогда не видел. — Нарисуйте вы, а я расскажу, — хотел схитрить Заступа. — Сам же делал! И не помнишь? — не выдержал Проскурин. — Забыл, — буркнул недовольно Заступа. Прошло еще полчаса, а Заступа все торговался, отказывался рисовать, затем вскочил, прошелся по кабинету, сел, придвинул бумагу и нарисовал нож в виде пики. — Вот такой примерно, — произнес неуверенно. — А размеры? — поинтересовался я. — Укажите! — Я не мерял, — буркнул Заступа. — Нож был при вас? — уточнил Проскурин. — Да, да, вот здесь в карманчике, — живо ответил Заступа, показывая боковой внутренний карман своего пиджака. — Понятно, — согласился я. — Все как на духу, — оживился Заступа. — А вы не верите. — Ну, а сейчас мы сделаем маленький эксперимент, — сказал я, обращаясь к Заступе. — Вы не возражаете? — Хм, гражданин следователь, можно и не один, — улыбнулся он. — Я же признался! — Вот вам линейка, положите ее в карман вместо ножа. — Я дал Заступе линейку длиной двадцать пять сантиметров. (Раневой канал убитого был точно такой длины). Схватив линейку, он покрутил ее в руках, а затем расстегнул пиджак и стал вкладывать ее в карман, где, как он утверждал, находился нож. Но как он ни старался, линейку туда спрятать не мог. Она торчала из-под воротника, упираясь в подбородок. Заступа разозлился, закурил и впился в меня налившимися кровью глазами. — Смеешься, начальник? А вообще-то нож короче был… — Нет, Заступа! — сказал я. — Хватит комедию ломать. — А что, я же признался, — вспыхнул он. — Хотел помочь следственным органам. А выходит… — Перейдем ближе к делу, — оборвал я его. — Послушайте меня. — Постараюсь, — он насторожился. — Во-первых, тот человек умер сразу, на месте. Так что не сходятся у вас концы с концами. — Не может быть! — вскочил Заступа. — Успокойтесь и слушайте дальше… Несмотря на то, что я выложил перед ним все козыри следствия, а они были явно против него, и доказал, что его версия гроша ломаного не стоит, Заступа не сдавался. — Подождите, подождите, гражданин начальник. Шутишь?! Я его только подрезал. Живой же он. Мне так сказали… — Какие шутки, когда речь идет об ответственности за убийство. Я раскрыл двенадцатую страницу дела и прочитал заключение судебно-медицинской экспертизы. Заступа не поверил мне. Пришлось дать ему дело в руки. Он прочитал заключение дважды. Лицо у него словно закаменело, он о чем-то думал, а затем вскочил на ноги, ударив себя ладонью по лбу. — Эх, и дурак же я! Зачем все это придумал? — Нет-нет, вы не придумали, а взяли преступление на себя, — перебил я его. — Лучше назовите того, кто рассказал вам о нем. Вытаращив глаза и пожав плечами, он буркнул: — Не помню, я не убивал мужика… не… Вновь наступила пауза. Заступа заерзал на стуле, опустил голову. — Рассказывайте дальше. — Что тут гутарить? Вы и так мне не верите — махнул рукой Заступа. — Если правду скажете — поверим, — вмешался Проскурин. Заступа поднял голову. — Если расскажу правду, заслужу снисхождение? — начал торговаться Заступа. Но сразу рассказывать не стал. Я понимал — душа у него раздвоилась. Ему не хотелось выдавать своего человека, такого, как и сам, преступника. — Мы ждем, — напомнил я ему. — Эх, была не была, — начал он. — Того мужика убил Казбек. Да-да! Он, законно! На пересылке рассказал мне. Сидел трое суток с ним в одной камере. Он и болтнул. Фамилию его я не знаю. Пришли холода. И мне захотелось в теплые края. Замутить дело — и на полгодика оттуда. И я написал, знал, мне не поверят. Привезут сюда. Проканителюсь… Признаюсь, а в суде откажусь… — вытер рукавом пот, который градом катил по его впалым серо-желтым щекам, и замолк. Проскурину тоже было жарко. «Опытный розыскник, а подвели преступники. И как здорово подвели», — сочувствовал я ему. — Теперь повезете меня обратно? — грустно спросил Заступа. — Может, здесь определите? Я же вам помог… Позже дело обсудили на оперативном совещании. Больше всего досталось Проскурину и его подчиненным. Они были строго наказаны. Дело передали другому следователю. Через месяц Проскурин помог найти Казбека. Им оказался Кривенко, ранее дважды судимый, который также находился в местах заключения. Он-то и был настоящим убийцей. Хитрость его подвела. Совершив убийство, он, заметая свои следы, выехал в Лозовую и там прилюдно выхватил у женщины сумку. Его осудили за грабеж. Думал отсидеть по мелкому, а убийство останется нераскрытым. Во время этапа рассказал о нем Заступе. Так родилась потом «явка с повинной», и так был разоблачен истинный убийца.
ГРЯЗНАЯ КОРМУШКА
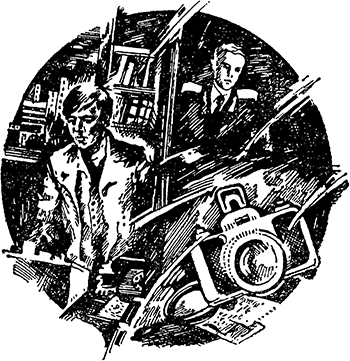
Многие видели, как сборщик утильсырья переходит от дома к дому с мешком на плечах или медленно едет на подводе, извещая о своем прибытии сиплым свистком, ударами в небольшой колокол и выкриками: «Старье берем». Обмен тряпья, бумаги и костей на воздушные шарики и глиняных петушков едва ли может вызвать какие-либо подозрения: уж слишком специфичен и дешев предмет обмена — утиль. Очевидно, именно поэтому органы милиции и прокуратуры Днепропетровской области не придавали серьезного значения сигналам о злоупотреблениях на предприятиях по заготовке и переработке утиля. Уголовное дело против работников артели «Красная Звезда» расследовалось неглубоко, и из-за неопытности следователя был вскрыт лишь факт хищения незначительного количества ковровых дорожек. Чуть позже ОБХСС управления милиции города Днепропетровска вновь возбудил дело против работников этой же артели, а потом передал его в прокуратуру города. Следователь Кавун в течение трех месяцев вел расследование без должной инициативы и настойчивости. Все это я знал понаслышке. О деле вспоминали на совещаниях. Но я никогда не думал, что оно впоследствии перейдет ко мне. Как-то перед обедом меня срочно вызвал прокурор области. — Дела у вас были всякие… — начал Иван Ильич. — Справлялись вы неплохо… Но такого еще не расследовали! Слышали об утиле? — Тряпье, кость и другой хлам? — вырвалось у меня. — Это дело непростое, поэтому и поручаю его вам, — остановил меня Иван Ильич. — Мусор, говоришь? А посмотри, какая у них зарплата! В три раза выше, чем у сталевара! Почему? Вот вам и надо разобраться, что к чему, провести расследование на высочайшем уровне, чтобы никто из виновников не ушел от законной ответственности… Приняв дело к производству, я несколько дней изучал его и нервничал. Само слово «утиль» наводило на меня уныние. Но, изучая его, я обратил внимание на то, что у заготовителей действительно непомерно высокая зарплата. Работали в этой системе, как правило, люди преклонного возраста. Одни и те же — долгие годы. Что их прельщало? Высокая зарплата. А доработав до преклонного возраста, работу не оставляли. Почему? Работа с мусором тяжелая. А для старика вдвойне. А может, круговая порука? Преступный сговор? В таком случае чужой глаз — враг номер один! Листаю протоколы допроса свидетелей — рабочих заготовительных пунктов. Все в один голос твердят: «Грибанов? Золотой человек! Ни за что не обидит! Постараемся — и премию получаем!» Сколько же они получают? Просматривая наряды на выполненные работы, приобщенные к делу, я обратил внимание, что всем платят одинаково! Сплошная уравниловка! Почему так? Зарплату должны начислять согласно нормам. Есть среди них передовики производства? Может, прокурор и прав — нужно вывести все это на чистую воду. А кто такой Грибанов? Читаю анкетные данные в протоколе допроса: «1922 года рождения… По специальности экономист…» Хм, экономист! Что же заставило его идти сюда с такой специальностью? Тоже непонятно… Нашел протоколы допроса в качестве свидетеля и председателя артели «Красная Звезда» Дунаева… «По происхождению — служащий, до войны работал агрономом в совхозе…» Почему поменял профессию? Читаю показания: «У меня все люди на подбор… Я не допущу разбазаривания… У меня каждая государственная копеечка на учете! Будьте покойны! Недостачи? Боже упаси!..» Дальше мне бросился в глаза путевой лист. По нему значился вывоз трех тонн шерстяного тряпья на симферопольскую фабрику «Химчистка». Все как будто в порядке: приобщена накладная на отправленный груз, акт на прием его завскладом Мельниковым. Никаких расхождений в весе. Все чин по чину, оформление — пореквизитно. Подписи налицо. На путевом листе даже имелась запись: «За превышение скорости на дороге в туман шофер предупрежден. Автоинспектор Симферопольского ГАИ Старовойт». Рядом стояла дата и штамп. Но вот водитель автомобиля перевозку указанного груза отрицал. Причем к протоколу допроса была приобщена справка о том, что в это время его машина стояла на ремонте. На очной ставке заведующий пунктом Грибанов стоял на своем — груз был отправлен. Кто же говорит правду, Грибанов или Чижиков? Вызвал Чижикова. Он явился немедленно. Довольно обаятельный человек лет тридцати. Держал себя смело, независимо. — Да не ездил я туда! Честное слово! Чуть позже в деле я нашел акт сверки взаимных расчетов артели «Красная Звезда» и фабрики «Химчистка». Из него вытекало что все в порядке: груз отправлен, груз принят, оплачена стоимость транспорта. «Но почему шофер отрицает? Какая ему разница? Не везли же это тряпье самолетом», — ломал я голову. Этот вопрос в деле так и не был разрешен. Действительно, заколдованный круг! Дочитав дело до конца, я решил в первую очередь ознакомиться с системой заготовок, посмотреть обработку сырья и другие процессы. Через день я поехал в артель «Красная Звезда». Был я в простенькой гражданской одежде. Зашел в контору в обеденное время. Явился не как следователь, а как человек, интересующийся работой. За столом сидели мужчины, обедали. На столе стояла недопитая бутылка водки. Все они были уже навеселе. Увидев меня, встали, чьи-то руки утащили бутылку и стаканы. Я поздоровался. Они ответили дружно. — Присаживайтесь к нашему шалашу, — откликнулся один из них, как я потом узнал, грузчик Бурчак, сорокалетний мужчина, полненький, кругленький, с маленькими бегающими глазками. — Приятного аппетита — сказал я, подойдя к столу. — Спасибо, спасибо, — ответили все хором. Помолчали. Мужчины не стали есть, уставились на меня. — Я вижу, к нам на работу хотите? — улыбнулся второй, старший по возрасту, разглядывая меня с ног до головы, и тут же торопливо добавил: — Можем принять в нашу компанию… Меня звать Мефодий, а проще — Мифа. — А где начальство? — перешел я ближе к делу. Опять пауза. Они переглянулись. — Уехали-с на обед-с, — чинно, с протяжкой, сильно фальшивя, ответил третий, тоже грузчик, по фамилии Плешня, средних лет блондин с серыми, прямо глядящими глазами, тонкими губами и упрямым подбородком. — Да ты садись, оно вряд ли сегодня появится, — кивнул мне Бурчак, вытирая полотенцем засаленные губы. Мифа встал из-за стола, подошел ко мне и сильно по-приятельски хлопнув по плечу, сказал: — Ну не тяни, выкладывай, чего к нам? — Руководство мне нужно, — повторил я. О своем действительном намерении я умолчал. Решил ближе познакомиться с людьми и узнать у них все, что меня интересовало. — А мы тебе не начальство! — сверкнул глазами Бурчак. — Документы липуем и… Дальше ему не дали говорить. — Не чеши попусту своим дурным языком, — набросился на него Плешня. — Что шеф просил? — Чего там бояться? Его? Видать, свой человек, свой в доску, — отмахнулся Бурчак и тут же обратился к Мефодию: — Эй, Мифа, а ну налей-ка ему первачка ради знакомства. — Не пью, — отказался я и тут же добавил: — а разве можно пить в рабочее время? — Да чего там… Пол-литра на четверых… Для аппетита… — зачастил Плешня, наливая в стакан мутную жидкость. — Пей! — подал мне. — Тут еще и закуска осталась. В это время Бурчак вытер полотенцем соленый огурец и стал резать его кружочками. Пить я отказался. — Выпей хоть капельку… Это же как лекарство, — не отступал Плешня. — Не хочете? С нами, с рабочим классом? — вспыхнул вдруг Бурчак. — Я такой же рабочий, как и ты, но пить мне нельзя, печень больна, — схитрил я. — Печенка! А нам и сам бог велел… На такой работе… — улыбнулся Мефодий, пряча бутылку в сумку. — Значит, ты к нам на работу? — спохватился Мефодий. — В самом деле или фонарем? — Фонарем? — сделал я удивленный вид, будто слышу это слово в первый раз. Бурчак подмигнул мне. — Или фонарем! Это лучше. — Ну и должность придумали — фонарь! — не выдержал я. — Может, еще и на курсы пошлете? — Хм, не знаешь? — тягуче произнес Мефодий, еще раз хлопнув меня по плечу. — Первый раз слышу, — ответил ему. — Должность чистенькая! Не бойся, — продолжал Мефодий, затем взяв меня под руку, отвел в сторону. — Фонарь, — метнул на меня глазами, — это то, что светит, да не греет. — Мертвые души? — переспросил я. Мефодий вмиг отскочил от меня. Его лицо сразу стало серьезным. — Эй, эй! А ты откуда знаешь за фонарей? — Ты же сам сказал! Он сразу притих, подумал и заговорил уже осторожно, намеками. — Хочешь получить приличную пенсию — давай вступительные. Конечно, не мне, а шефу, и зачислят тебя фонарем. Нет, нет, не работать… Это только на бумаге. Сам иди на все четыре стороны. Хочешь поехать в Крым пузо греть — поезжай! Но изволь, дорогой, явиться в день получки, чтобы расписаться в ведомости на зарплату… А деньги… Мефодий сделал паузу, вздохнул. В это время его позвали к себе рабочие. — Ну, я пошел, потом, — махнул рукой. Но сделав пять-шесть шагов, вернулся и продолжил: — В конце месяца нужно составить отчет о своей «работе». — Так это же нарушение? — перебил я его. — А ты думаешь как! Риск — благородное дело, — улыбнулся он. — Ну, по рукам! Не бойся, это дело поставлено на крепкую основу. Людей берем подходящих… Молчунов… Мне поручено, а у меня комар носа не подточит. В это время к нам подбежал Плешня: — Чего разболтался? Забыл уговор? Папа узнает, лишит премиальных. — Не бузи, Плешь. Я знаю, с кем имею дело, — отмахнулся Мефодий. — Я же просил тебя — заткнись, а тебе хоть на голове кол теши, — процедил сквозь зубы Плешня. Они ушли. По дороге Плешня продолжал отчитывать Мефодия за его длинный язык. Мне же этот разговор дал многое. Наконец-то открылся ларчик: стало ясно, как расхищаются денежные средства за счет подставных лиц, так называемых «фонарей». Я подошел к рабочим. Они как раз приступили к работе: тюковали разное тряпье. — Навесы у вас хорошие, а сырье держите под открытым небом, — сказал я. — Это не по-хозяйски! Рабочие промолчали. — Эх, вы, а еще рабочий класс! — я попытался втянуть их в разговор. — Эх ты! Детская целина, — не выдержал Мефодий. — Что значит не в курсе дела. — Премиальные-то за экономию получаете, — продолжал я. Опять отозвался Мефодий: — Экономим. Принимаем сухим, а сдаем мокрым, процентики набегают. Мефодий подошел ко мне, взял меня под руку и сказал: — Ну как — решил? — Сколько надо вступительных? — спросил я. Мефодий помялся, почесал себя за ухом и тихо произнес: — По таксе. Если грузчиком, — три куска, заготовителем — полтора… Ну, конечно, для закрепления дружбы с артельщиками — две сотни на пропой. Сколько дашь? — Тяжелая для меня работа — возразил я. — Не выдержу. — Тяжелая? — вскрикнул он. — Не бойся, живот не надорвешь… Тюки легкие… А если грузить, то воздух… Я не выдержал и улыбнулся. — Смеешься? Да мы больше всего воздух и грузим. Не веришь? — А чему тут верить, ерунду городишь, — возразил я. — Зря ты так… — нахмурился Мефодий. — Обижаться не будешь. — И сколько же вам платят? — поинтересовался я. — Нормально. Кроме зарплаты, шеф еще на молочишко дает, вроде премиальных. За честную службу и язык. Не будешь им попусту чесать — получай надбавочку… Пробыл я на заготовительном пункте около двух часов. Откровенность рабочих открыла мне глаза на многое. Действительно, дело сложное. Круговая порука, мелкие подачки развратили рабочих. С чего же начинать? С допросов — рано. Назначить новую ревизию? Их уже провели две. А что она даст? По документам — все гладко. Поймать с поличным? Но как и на чем? Нужно прежде всего определить уязвимые места. А где они? Решил связаться с начальником ОБХСС города Тутовым. Анатолия Васильевича я знал давно, еще когда он был начальником отдела милиции. Это был опытный работник. Широта взглядов, усидчивость, выдержанность и олимпийское спокойствие. Это помогало ему выйти из любого тупика. Тутов пришел под конец рабочего дня. — Чего нос повесил? — начал он с порога. — Не такие дела раскручивали! Обсудим и начнем! Я подробно рассказал ему о своем визите на заготовительный пункт. — Разоблачить «фонарей» не так легко, сплошную проверку не сделаешь, — подметил Тутов. — Я попытаюсь сам… — Начать следствие надо с заготовительного пункта. Вначале проведем инвентаризацию материальных ценностей, а затем перепроверим все акты на сортировку вторичного сырья. Со специалистами установим фактический выход: проценты засоренности и влажность. — Это пустая затея, время упущено, — сказал Тутов. — Преступники не дремали, следы своих грязных дел они уже успели замести. Пару месяцев тому назад там неожиданно возник пожар и нужные нам документы сгорели. Так что напрямую идти — пустой номер. Тогда я нашел путевой лист на перевозку тряпья на фабрику «Химчистка» и показал его Тутову. — Новая задачка! — задумался Анатолий Васильевич. — Ты считаешь, начало дела там, в Крыму? Заманчиво! Но учти, это не наша область, трудно будет. — Да, нелегко, — согласился я. — Однако другого выхода у нас нет. Тутов подумал и сказал: — Ну что же, резон есть! По-моему, неплохо, и преступников собьем с толку. — Выделишь мне пару оперативников? Там работы много. — Дам. Я, пожалуй, и сам смогу на недельку поехать. Потом обсудили все вопросы предстоящей работы. Наметили план, а на другой день доложили в прокуратуру Ивану Ильичу Громову и начальнику областного управления милиции Олейнику Петру Александровичу. Наши предложения были одобрены, выезд в Симферополь разрешен. В тот же день в Симферополь выехала оперативная группа в составе трех работников ОБХСС управления милиции города — Чуднова, Коваленко и Суркова. Их задачей была разведка. На месте они должны были изучить обстановку, определить круг лиц, замешанных в махинациях, установить связи их с артелью «Красная Звезда». Мы их строго-настрого предупредили — открыто на фабрике не появляться. Чуднову поручили проверку путевого листа с отметкой работника Симферопольского ГАИ. Тем временем я продолжал усиленно изучать технологию изготовления войлока и другой продукции из вторичного сырья. Мы знали, что фабрика «Химчистка» занимается этим видом продукции. Сам технологический процесс был сложен, поэтому я пригласил соответствующих специалистов. — Мы получаем от этой фабрики войлок повышенной влажности, — заявил начальник отдела снабжения завода им. Коминтерна Савин. — Возвращали им продукцию. Приезжал директор — наладить дело, но войлок до сих пор такой же. Я изъял переписку. Много рекламаций я обнаружил и на других заводах, и в строительных организациях. Новую партию войлока, прибывшую с фабрики «Химчистка», я осмотрел со специалистами. Взяли образцы на анализ. Кроме повышенной влажности, эксперты обнаружили в войлоке недовложение шерстяной группы. Это намного снижает качество выпускаемой продукции. На помощь снова пришли специалисты. — Недовложение — не что иное, как один из способов создания излишков сырья, — категорически заявил Иванченко, пожилой человек с открытым добрым лицом, эксперт бюро товарных экспертиз. — Для чего им понадобились эти излишки? Перекрывать недостачи? — не успокаивались мы. — А почему именно суконного? Иванченко поднял на лоб очки и улыбнулся. — Зря ломаете головы. Обратите внимание на стоимость самой заготовки. По ценнику стоимость каждой тонны заготовленной шерстяной группы тряпья — сто шестьдесят рублей, а хлопчатобумажного — шестьдесят. Вот в этом вся суть! За счет чего лучше красть? Ясно, за счет того, что дороже! А дальше вы, юристы, делайте выводы. Я не выдержал и поделился с Иванченко мыслями по поводу путевого листа оформленного на Чижикова. — Ну вот, — улыбнулся он. — Как видите, я прав. Закваска этих дел там, на фабрике. Медлить было нечего, и мы с Тутовым срочно выехали в Симферополь. Чуднов доложил, что автоинспектора по фамилии Старовойт, сделавшего отметку на путевом листе, в Симферополе нет и никогда не было. — Вот тебе и номер! — вскочил Тутов. — Да, эта фамилия вымышленная, — продолжал Чуднов. — Но это еще не все. Штамп на путевом листе — поддельный. Ясно, как божий день: сырье на фабрику не завозилось. — А этот недогруз перекрыт излишками, созданными на фабрике за счет недовложений при изготовлении войлока, — догадался я. — Значит, Чижиков правду сказал, — буркнул Тутов. Имея на руках документы с подписями работников фабрики «Химчистка» Мельникова и Букача, удостоверявшими получение партий утильсырья, в то время как свидетели это опровергали, и располагая данными, что указанные лица живут явно не по средствам, мы одновременно произвели у них обыск. Оказалось, что Мельников, получая зарплату сорок пять рублей, выстроил двухэтажный дом из восьми комнат, гараж, приобрел автомашину «Москвич», пианино, холодильник, телевизор. Букач месяц тому назад купил дачу за двадцать тысяч рублей. Михно приобрел автомашину «Победа» и мотоцикл. Каждого из задержанных расспрашивал в отдельности. Все соглашались, что проявляли халатность в работе: мол, в потоке бумаг запутались. Что касается строительства домов, приобретения автомашин и другого ценного имущества, отвечали в один голос: «Жизнь после войны наладилась, нужно подумать о культуре. Маленькая зарплата? Родители зато богатые!» Преступную связь с работниками артели «Красная Звезда» все отрицали. Правда, Мельников назвал один случай, когда вместо шерстяного тряпья они получили хлопчатобумажное. Поднялся шум, к ним приезжал Грибанов и уладил этот вопрос: привез восемьсот рублей. Эти деньги забрал Михно. Михно же данные обстоятельства отрицал. На нашем пути вновь встали трудности: длинная цепочка с множеством обособленных звеньев. В каком же звене кроется разгадка? Назначив документальную ревизию по фабрике «Химчистка» и оставив оперативную группу в Симферополе, мы с Тутовым возвратились домой. Допрос Грибанова ничего не дал. Решено было вернуться к артели «Красная Звезда». При проверке выяснилось, что в артели имелось два заготовительных пункта. За каждым из них было закреплено восемь — двенадцать штатных и нештатных заготовителей, которые за наличный расчет скупали у населения утильсырье, сдавали его на заготовительный пункт, где оно сортировалось, а оттуда поступало в концервальный цех. В конечном итоге сортированное и промытое тряпье перерабатывалось на обтирочные концы. — Хм! Заготовка!.. и концы! Действительно, концы в воду, — вздохнул Тутов. — Начнем снова с документов. — Их не найдешь теперь. Многие сгорели, а остальные вряд ли нам помогут — второстепенные, — махнул рукой Тутов. — Вторые экземпляры документов остались на руках у заготовителей и заведующих пунктами, — возразил я. — Важно сейчас их заполучить. И пора заниматься «фонарями». Нужны хорошие оперативники. — Бери Камочкина и Стародубцева, — тут же решил Тутов. — Ребята надежные, не подведут. Наше вмешательство вызвало переполох среди дельцов. Почти каждый день Камочкин и Стародубцев раскрывали их связи. Преступники выдавали себя даже на самых малых «операциях». Через день ко мне, запыхавшись, прибежал Камочкин: — К Кирюхину зашел подозрительный тип. Средних лет мужчина, в кожаной куртке, с большим чемоданом. — Понаблюдай за ним, — предложил я. Через неделю Камочкин позвонил мне домой и сообщил, что мужчина в кожаной куртке вновь явился к Кирюхину. Мы нагрянули туда с обыском. Стали стучать. Нам никто не ответил. Обратились к соседям. — Дома они, — ответили те. Пришлось взломать дверь. Кирюхина стояла у стенки и дрожала. Руки ее были в ссадинах и в крови. — Почему у вас руки в крови? Кирюхина ничего не ответила, спрятала руки под передник, села в угол, притаилась. Она в летах, но следит за собой: хорошая прическа, подведенные карандашом брови,накрашенные губы. Мужчина забившись в угол, искоса поглядывал на нее. Мы приступили к обыску. Многие вещи из дома уже исчезли: холодильник, телевизор, пианино, магнитофон, аккордеон. Удивительно было и то, что в доме не нашлось ни одного рубля. Словно после тщательной «ревизии». Особенно по этому поводу негодовал Тутов: — Как же вы живете без денег? — Так и живем. Еле концы с концами сводим, — вздохнула Кирюхина. — Представьте, на кусок хлеба нет. Паспорта на пианино, телевизор, радиоприемник, аккордеон спрятать не успели. — Берите, берите, это чужое… Отец перед смертью отдал, — ответила хозяйка, сверкнув злыми глазами. Начали составлять протокол. «Неужели ошиблись с обыском? — засомневался я. — И кто этот мужчина? Любовник? Так по возрасту вроде не подходит…» Я отложил протокол и решил еще раз пройтись по комнатам. Зашел в туалетную. И тут обратил внимание на унитаз, переполненный водой. Присмотрелся. Сверху плавали какие-то клочки лощеной бумаги. Выловил одну из них. Рассмотрел. Так это же кусочек денежной купюры! Вот почему у Кирюхиной окровавленные руки. Увидев нас, она заметала следы — прятала деньги в унитаз. Я позвал к себе понятых и хозяйку. Понятые подошли, а Кирюхина бросилась бежать. Ее настигли на улице, привели обратно. — Что здесь? — спросил я. — Сами видите — мусор, — процедила она сквозь зубы. — Ничего себе мусор! — вскрикнул Тутов. — Вот и кусочки купюр сторублевых. Сняли унитаз. В сточной трубе мы обнаружили большой комок разорванных облигаций трехпроцентного займа, сберегательных книжек на предъявителя и купюры денег. Всего на сумму свыше восемнадцати тысяч рублей. Кирюхина была задержана за сокрытие похищенного. Сразу же после этого мы сделали обыск и у Золотаря, как назвался мужчина. У него было обнаружено немало: одиннадцать сберегательных книжек на предъявителя с остатком вкладов на шестнадцать тысяч рублей, на семь тысяч облигаций трехпроцентного займа, десять золотых монет царской чеканки, шесть золотых часов, золотые кольца с бриллиантами, два золотых слитка по сорок граммов. — Это не мое, — стал отнекиваться Золотарь. — Попросили люди схоронить. — Кто вам передал эти ценности? — поинтересовался я. — Люди. Просят — храню, два процента за это платят. — Значит, банкиром стали? — Какой из меня банкир? Просто доживаю свои денечки, — скривился Золотарь. — Чьи же ценности? — Не помню. Фамилии не спрашивал. У нас все по-честному. — Рискуете, Золотарь, — сказал Тутов. — Дело серьезное. Можете проиграть… — Я все сказал, врать не собираюсь, — буркнул тот. Хотя, по всем правилам, я должен был арестовать Золотаря, но не стал этого делать. Я решил пойти на психологическую хитрость. Из поведения Золотаря мы понимали, что обнаруженные у него ценности — только часть, остальные нужно искать. Как и где? Я вызвал Золотаря в прокуратуру. Он явился вовремя. Прихватил с собой большую сумку. В коридоре нервничал. То и дело схватывался со стула. Затем возвращался на свое место и рылся в сумке. Я разложил на столе изъятое у Золотаря золото. Правда, заменил его прежнюю упаковку: заполнил стеклянную банку, жестяную коробку и просто положил россыпью. Позвал Золотаря. Он вошел, сел, увидев на столе золото, потянулся к нему, но тут же спохватился отдернул руку… Нижняя губа у него задрожала. Золото на него подействовало и, используя его растерянность, я задал первый вопрос: — Ваше? — Мое, — выпалил он. — Извините… Я забыл вам сказать… Это вы забрали у моей сестры? Я кивнул головой, хотя ничего о его сестре и не знал. — В Харькове она постоянно прописана, а живет с внуком в Полтаве, — затараторил Золотарь. — Так получилось… Моя жена отказалась ее принять. Я не перебивал его, и он продолжал: — Почему-то не мирят они. Бабы… А все это из-за того, что я свою сразу не прикрутил, попустил удила — и получай: на старости лет негде голову приклонить. — А у кого еще вы прятали золото? — наступал я. — Вы же сами знаете. То, что в коробке, у соседки Сони… Затем Золотарь задумался, посопел носом и сказал: — Спрятал от своей карги, на черный день. Там мало. Не хотела брать. Еле упросил. Оставьте ее в покое, она женщина честная… — Продолжайте, продолжайте… — Я понимал, что упускать инициативу нельзя. — Эта Соня… Она могла и не отдать всего. Пересчитайте хорошенько. Там двадцать две монеты… — У Никитина тоже? — не удержался Золотарь. И тут же осекся, замахал руками, схватился за голову. — Я спутал. Но слово не воробей. Фамилию я запомнил. — Да, и там забрали, — подтвердил ему. Он притих, опустил голову, задумался, шаркая ногой по полу. Прошло несколько минут, Золотарь поднял голову, и я его не узнал. Он изменился на глазах. Передо мной сидел уже другой человек: лицо вытянулось, посерело, сделалось каким-то старым, морщинистым, глаза потускнели. — Вы отнеслись ко мне благосклонно, не арестовали сразу. Вы хороший человек… «Лед тронулся», — подумал я. Золотарь начал сдаваться. — Хвалить меня еще рано. А вы еще не все рассказали. Золотарь задумался, потер ладонью виски, вскочил. — Ладно. Поедемте ко мне, и я отдам все остальное. — Хорошо, — согласился я. Из практики я знал, если человек решается выдать ценности — медлить нельзя. Итак, Золотарь добровольно выдал свой клад, замурованный в печке. Там оказалось двадцать золотых монет и бриллиантовое ожерелье. Вскоре мы забрали ценности у его сестры — Заморыш и у Никитина. В общей сложности у них изъяли золотых изделий на десять тысяч рублей. Ценности, нажитые преступным путем, имеют большую доказательную силу. Задача следователя не только искать преступников, но и похищенное. Пожалуй, второе важнее. Собственность государства — неприкосновенна. Ущерб надо возместить. Это железное правило для всех следователей. После долгих размышлений я арестовал Кирюхина и Грибанова. Они подписали справку на Золотаря, в которой значилось, что тот работал заготовителем. Эту справку представили в собес, и Золотарю была незаконно назначена пенсия. Сначала преступники пытались замести следы, изворачивались, лгали, любым путем старались запутать следствие, повести его по ложному пути. — Мы честные труженики, — клялись на допросах. В конце концов они поняли — игра проиграна. Будто по команде бросились в другую крайность. Стали топить друг друга. — Я так себе, совсем мелкая сошка, а вот он — махровый! — бил себя в грудь Грибанов. — Это он меня подкузьмил, подсунув на подпись фиктивную справку на Золотаря, — доказывал Кирюхин. Вечером я зашел к прокурору. — Вот видишь, я же говорил, что это дело золотое! А ты твердил: «Не хочу мусором заниматься», — сказал он. — Ценностей мы изъяли много, а вот каким путем их добывали преступники, пока неизвестно, — ответил я. — Как ревизия, много установила? — спросил Иван Ильич. — Сегодня получил акт. Но там для нас ничего нет. Одни излишки. Недостач не выявили. — Вот и займитесь излишками. Это один из источников хищения, — подсказал мне прокурор. И я решил взяться за Золотаря. Не может быть, чтобы тот ничего не знал. С какой целью он посещал дом Кирюхина и с Грибановым встречался? Справку ему дали. За какие заслуги? По словам соседей, после ареста Кирюхина и Грибанова он никуда из дому не выходил. Притаился и чего-то ждал. Прошла неделя. В начале следующего месяца Золотарь стал исчезать из дому. Сообщения шли одно за другим: «Золотарь садился в поезд, следовавший в Новомосковск… В 12 часов его видели в Никополе. В среду Золотарь выходил из электрички в Павлограде…» «Почему Золотарь мотается по области?» — задумался я. Во время встречи с Тутовым стали строить догадки. — Может, следы заметает? — сказал Тутов. — Неужели преступная связь артельных дельцов зашла так далеко? — высказал я свои предположения. — Так трудно сказать, чьи дела он улаживает, — перебил меня Тутов. — Надо все проверить. У меня есть хорошие ребята, Селезнев и Протасов. Им-то мы и поручим проверить. Не возражаешь? Я согласился. На второй день они выехали на задание. Долго ждать не пришлось. Селезнев и Протасов вернулись с пенсионными делами на Золотаря. Их было три. Оказалось, Золотарь ездил получать пенсии. — Хм, интересная эта личность, не пора ли его арестовать? — сказал Тутов, перелистывая пенсионные дела. — Настоящий аферист! Сказанное задело меня. По существу я был виновен в том, что Золотарь до сих пор разгуливал на свободе. Получив санкцию прокурора, я поручил милиции задержать его. Но не тут-то было. Золотарь скрылся. Досталось мне тогда. Как же так, следователь опытный, а промахнулся, как стажер. По правде сказать, я вначале тоже здорово переживал, а потом, взвесив все за и против, успокоился. Следствие не сделка, где все ограничено реквизитами, здесь всякое бывает, всех нюансов не предусмотришь. Да и зачем волноваться, когда такие ценности изъяты. Я объявил розыск и был абсолютно уверен, что Золотаря найдут. Через десять дней я получил телеграмму из Магаданской области о задержании Золотаря и сразу же направил туда конвой. Сам же стал тщательно готовиться к его допросу. Теперь он должен все рассказать. Главное: связи с артельщиками. Арестованные Кирюхин и Грибанов по-прежнему молчали. Ревизии и экспертизы не были закончены. Потому я надеялся на Золотаря. Изучая его пенсионные дела, я обратил внимание на то, что во всех случаях пенсии ему были назначены на основании выписок из трудовых книжек, заверенных работниками отделов социального обеспечения. В них значилось, будто Золотарь с 1936 по 1962 год непрерывно работал рыбаком Дальневосточной флотилии. В делах имелись справки о размере заработной платы. С помощью лупы я установил, что печати и штампы на документах Золотаря подделаны. — Здорово мы ему наступили на мозоль, теперь не выкрутится, — потирал руки. Тутов. — С Золотарем у нас все ясно, а вот кирюхинская компания пока не сдвинулась с места, — напомнил я Тутову. — И из Симферополя — ничего. Вскоре привезли Золотаря, и, как я и предвидел, он задал нам много хлопот. О фикции с пенсиями он рассказал без запирательства. В течение пяти лет Золотарь получал четыре пенсии. Всего — свыше двадцати шести тысяч рублей. У читателя может возникнуть вопрос, каким образом можно одновременно получать пенсии в нескольких местах, поскольку для назначения пенсии необходимо представить справку с места жительства, а прописаться одновременно в нескольких населенных пунктах невозможно. Золотарь пользовался халатностью работников отдела социального обеспечения и коммунальных отделов. Например, в Ровеньках ему назначили пенсию, не потребовав справки с места жительства. Трудовую книжку ему заполняли со слов. Так поступил Кирюхин. Что касается штампа о прописке, то его ставили или в гостинице, куда он устраивался на временное жительство, или на частной квартире, как произошло в Павлограде. У хозяйки он занимал одну комнату, исправно платил квартплату, но не проживал. Это устраивало квартиросдатчика и, конечно, Золотаря, так как стоимость жилья была ничтожна по сравнению с получаемой пенсией. Деньги он получал в собесе лично или же через своих знакомых, которым выдавал доверенности. О своих преступных связях с артельщиками Золотарь умалчивал. Лишь новые обстоятельства, возникшие впоследствии, принудили его развязать язык. А произошло следующее. Был субботний день, на работу я пришел рано. Около прокуратуры стояла женщина средних лет, худенькая, просто одетая. Увидев меня, пошла навстречу. — Вы следователь? — робко спросила. — Да, я, проходите, пожалуйста, — ответил я. Зашли в кабинет. Прикрыв за собой дверь, она остановилась у порога, осмотрела кабинет и тут же произнесла: — Удивились, почему я так рано?.. Я уже приходила вчера. Вас трудно застать… Знаю, вы ведете дело об утильщиках. — Слушаю вас. Она спохватилась, будто очнулась, и нерешительно произнесла: — Пора уже утильщиков прибрать к рукам. Я вам кое-что подскажу… Ах, да, я и не представилась. Извините, зовут меня Клара Ивановна. Тут она опять запнулась, пристально посмотрела на меня и продолжила: — Председателя артели «Красная Звезда» знаете? Так я его бывшая жена. Нечестный он. Потому и разошлись. А дальше она рассказала следующее. …Прожили они чуть ли не пятнадцать лет. Первые годы будто все ладилось. Позже появились у него женщины. А став председателем артели, он зазнался, у него появились лишние деньги. Это насторожило ее. Попыталась добиться от него правды — не получилось… Как-то вечером в отсутствие мужа по телефону позвонил мужчина, назвался Львом и попросил передать мужу, чтобы тот приготовил две тысячи рублей и ждал дальнейших указаний. Она пыталась узнать, что это за деньги, но он бросил трубку. Рассказала об этом мужу. Тот сразу встревожился, а затем махнул рукой, мол, не беспокойся — ошиблись номером. В ту же ночь звонок повторился. Голос был тот же: шипящий, заикающийся. Трубку передала мужу, тот, перекинувшись несколькими словами, оделся, взял с собой деньги и ушел. Вернулся утром. На вопрос, где был, только сдвинул брови, буркнул: «Не твое дело». Но она догадалась. Ровно через неделю снова тот же голос… И снова муж уходил. Позже так исчезли из дома золотые часы, серебряные ложки, облигации… Клара Ивановна затихла, открыла сумочку, достала носовой платок, вытерла глаза. — Ну-ну, продолжайте, — попросил я. Но она не спешила. Вновь полезла в сумочку, порылась там и положила мне на стол записку. — Вот, подкинули… Я прочитал: «Ждем пять кусков. Положи на старом месте, не то — сядешь надолго. Император». — Потом звонки прекратились, — снова заговорила Клара Ивановна, — и я успокоилась. Но вскоре они последовали один за другим, причем с разными угрозами, что, мол, если муж не принесет деньги, то его посадят. Выход был один — выключить телефон. Так я и сделала. Тогда мне под дверь подсунули эту записку. Оставшись один, я внимательно прочитал записку. Она была написана печатными буквами, химическим карандашом. Я еще раз прочитал протокол допроса Клары Ивановны. А может, это месть? Бывает, что люди расходятся, а затем долгие годы пишут, обливая грязью друг друга. Мы встретились с Тутовым. — Говоришь, Император? Такая кличка где-то проходила, — он стал вспоминать. — Может, поручим району, пусть займутся сами? — предложил я. — Поручать другим нельзя, — озабоченно произнес Тутов. — Сами они ничего не сделают. Я вот думаю, с какой целью они шантажируют Дунаева… Решили выделить на это дело новых оперативников. Переговорили с Кларой Ивановной. Она пообещала нам помочь. Первым делом решили засечь телефон Императора. Из первых попыток ничего не вышло — Император звонил из автомата. Но однажды он позвонил с квартиры Нечко, работавшего в артели «Красная Звезда» грузчиком, ранее судимого за аферы. Сделали у него обыск и изъяли на огромную сумму различных облигаций, которые тот скупал по дешевке. Кроме того, были обнаружены золотые часы, принадлежавшие Дунаеву, серебряные ложки, шесть сберкнижек на предъявителя и разные клише на изготовление печатей и штампов. Самого Императора дома не оказалось. Впустила нас в дом его мать, семидесятилетняя старушка. Задержали его на рынке при продаже поддельных документов. Привели ко мне на допрос. Это был мужчина лет сорока, обрюзгший, без единого волоса на голове, с шипящей картавой речью. Конечно, он все отрицал. Пришлось произвести эксперимент. Дунаева узнала его по голосу. Оказалось, Император и Золотарь вместе отбывали срок в колонии. Золотарь вернулся позже, и Император изготовил ему фиктивную трудовую книжку. Теперь Император уже не запирался, стал охотно рассказывать о своих проделках. О том, как он «кинул» Дунаева, то есть сделал «операцию» по извлечению у него нетрудовых денег. Он также назвал случаи, когда лично видел, как Дунаеву вручал деньги Кирюхин. Путем шантажа он вынудил Дунаева передать ему чуть ли не девять тысяч рублей. Таким образом, дело стало продвигаться вперед. Но сам источник, откуда черпались деньги, был еще неизвестен. На удивление всем, новая ревизия никаких недостач не выявила. Повсюду в артели были излишки. На следующем допросе Император дополнил свои показания. Он рассказал о Дунаеве больше, чем мы знали, и даже то, что тот передавал деньги на хранение Золотарю. Встал вопрос об аресте Дунаева. Доказательства его вины уже были. В это время Дунаев хотел повеситься: нашел глухую посадку, привязал к дереву веревку с петлей, залез на дерево… Но веревка оказалась слабой, не выдержала его грузного тела. Золотарь после отсидки изменился: осунулся, почернел, согнулся… — А чего там, я человек маленький… Мне давали — сохранял. Знают мою честность. Чужого не беру. — Кто приносил? — спросил я его. — Это резонный вопрос. Император, Дунаев, Ленька Грибанов, бухгалтер Кирюхин… Все они отпетые жулики! Ну и ну! Они жулики, а кто он? Так бывает всегда: воруют вместе, делят на равные доли, клянутся в верности, но стоит одному из них угодить за решетку — и забываются старые клятвы, каждый-готов проглотить другого, выгородить себя, а остальных утопить в ложке воды. И Золотарь, и Император, и тот же Грибанов уже побывали в заключении и, казалось, должны были бы усвоить золотое правило: сколько веревочке не виться, а конец придет, но выводов не сделали. Преступники, как говорится, «посыпались», а нас это не радовало: удалось разоблачить далеко не всех дельцов. Хотелось знать, что скажет организатор всей этой аферы Дунаев. А он выглядел жалким, обиженным. Мол, не выдержал клеветы, хотел уйти в «потусторонний мир». На первом допросе вел себя так, словно только сейчас следователь открыл ему глаза на то, что говорили его подчиненные. — Нахалы! Опозорили всех! Да как они посмели на меня, на мою работу! — вспыхнул он. — Я им верил, как себе! А они, мерзавцы! — Деньги от них получали? — спросил я. — Что вы имеете в виду? — вытаращил глаза Дунаев. — Ну скажем, взятки? Долю от похищенного? — Да как вы смеете подозревать меня, ответственного работника, в таких темных делах! — вскочил он. — Я… Я все делаю… достаю. Планы выполняю… Пришлось сделать ему очную ставку с Кирюхиным. — Не отказывайтесь, Степан Саввич! — медленно произнес Кирюхин. — Я же давал вам лично… Помните, золотые часы? — Ты что, белены объелся? Какие часы? — не выдержал Дунаев. — Вам — часы, а паспорт остался у меня. Следователь забрал его, — продолжал Кирюхин. — Не коробьтесь, Степан Саввич, деваться некуда… Закрылась ваша лавочка! — Перестаньте выслуживаться перед следователем! Я чист! — взбеленился Дунаев. — И не жаль меня? Я ведь тебя на работу пристроил! Забыл, как у меня в ногах ползал? — А кто заставил нас воровать? Вы что мне говорили? Мол, у вас расходы, не хватает зарплаты. — Цыц, сукин сын! — набросился на Кирюхина Дунаев. — Раз так, я вам напомню о тысяче, — вскочил Кирюхин. — Помните, в желтом конверте передал? — Признаю… Было дело, ехал в командировку… Всего двести рублей… Растратил на благо артели, ради плана. — Тысячу я дал в машине, — перебил Кирюхин. — Шофер видел… — Ты же, мерзавец, и меня надул, там было всего двести рублей… Следствием была полностью доказана вина Дунаева как организатора и вдохновителя компании дельцов. Когда увели Кирюхина, Дунаев смягчился: — Что со мной будет? С работы снимут! Жене неприятности! — С должности вас уже сняли. Что же касается вашей бывшей жены, то беспокоиться нечего, она честный человек. Следствие продолжалось. Собравшись в моем кабинете, Тутов и другие мои помощники готовились к окончательному наступлению. А чуть позже Дунаев и его компания предстали перед судом.
ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

В работе мне везло. Правда, часто это везение сопровождалось трудностями, недосыпанием и занятыми выходными днями, но такова уж наша работа. Как правило, мне поручали так называемые скучные дела, побывавшие уже в руках других следователей. Вот и сейчас новое дело, «фруктовое», как его назвали. Дело о лимонах, апельсинах, яблоках, грушах и винограде. О товаре скоропортящемся. Два-три дня полежит такой товар — часть его приходит в негодность. На базах составляются акты на гниль, которую затем вывозят на свалку. Как проверить правильность списания фруктов на гниль? Ведь их уже нет в наличии, остались только документы. Масса документов! Ушел домой поздно, спал плохо. Утром зашел в гастроном, там как раз продавали лимоны на штуки. Стал в очередь. Купил пять штук по разной цене. Стоимость одного лимона зависела от его объема, то есть калибра. Спешат реализовать. Нашел директора магазина, маленького, круглого, краснощекого. — Почему нарушаете правила торговли? — Спешим, а то погниют, — улыбнулся тот. — Так красть легче, — вырвалось у меня. — Что вы, что вы? У нас — все честно! — обиделся директор. — Ну, съедят лимончик. Не больше. Кислятина… зубы сводит… По пути на работу я зашел в бюро товарных экспертиз к знакомому эксперту Тихомирову Юрию Ильичу. Выложил ему на стол свою покупку и сказал: — Определи цену! Юрий Ильич посмотрел на меня, надвинул на глаза большие очки в роговой оправе и стал разглядывать лимоны. — Лимоны разные, — стал объяснять. — Калибровка не одинаковая, и цена разная. Самый малый — нестандартный — продается на вес — два рубля пятьдесят копеек за килограмм. Остальные же… — Погоди-погоди, дорогой. Я покупал все на штуки, — остановил я его. — Самый малый за двадцать пять копеек. Юрий Ильич снял очки, подышал на стекла и стал протирать их носовым платком. Его старческие глаза блеснули любопытством. — Мил человек, надули тебя торгаши! Да-да, чего улыбаешься? Тебя, следователя, надули, — продолжал он, акцентируя на последнем слове. Я ничего ему не ответил, хотя и обиделся. Ушел я из бюро в удрученном состоянии. «Надули, надули! Следователя!» — гудели в моей голове тяжелые слова. Зашел в другой гастроном — там было то же самое: вовсю шла торговля. При мне в машину садились продавцы с корзинами. — Куда это вы? — спросил я шофера. — К проходной завода. Там скоро смена. Вмиг разберут. Здесь тоже продавали все лимоны на штуки. И самые маленькие тоже. Директора на месте не оказалось. Я нашел заведующую отделом Тамару Алексеевну Тугодум, полную цветущую женщину лет тридцати пяти. — Плодосекция гастрономторга отпускает нам лимоны всегда поштучно, — стала она объяснять. — А по правилам торговли как? — остановил я ее. — Слыхала, будто нестандартные лимоны должны продаваться на вес, — насупилась она. — Спросила директора, он возмутился: «Делай, что тебе сказано, а то и этого не получишь». Вот так и торгуем… По пути зашел к директору торга Туткевичу. Это был мужчина высокого роста, плотного телосложения, высокомерный, с гордой осанкой. В противоположность всему этому голос у него был слабый, писклявый. Директор внимательно смотрел на меня подпухшими серыми глазами с мутноватой роговицей, кивал головой и в такт этому тряс правой ногой, отчего вибрировал стол и позвякивала ложечка в стакане с чаем. — Так всегда. Следователи почему-то думают, что все работники торговли жулики, — криво и надменно улыбнулся Туткевич. — Я этого не говорил, но обстоятельства заставляют так думать. — А в чем дело? Говорите, примем меры, — стушевался Туткевич. — В магазинах торга фрукты продаются с рук, без кассовых чеков, — объяснил я. — Ну и что? В исключительных случаях это допускается, — уже раздраженно ответил директор. — Очередей не будет. А покупатель что: пришел — взял, без суеты, без очереди. Я промолчал. — Что у вас там еще? — спросил Туткевич. — Нестандартные лимоны продаются как стандартные, по повышенным ценам. — Ну уж этого не может быть. Плодосекция вне подозрений. Там работают честные и преданные делу люди. Говорить дальше не имело смысла. Видно было, что директор защищает своих подчиненных. Наступила пауза. — С вашего разрешения я проверю кое-какие документы плодоовощной базы и магазинов, — сказал я. — Пожалуйста, это ваше право. Но и там у нас люди подобраны опытные, — заверил директор. — У нас, у следователей, такой девиз: доверяй, но проверяй, — улыбнулся я. «Надули вас, товарищ следователь!» — с новой силой зазвучали у меня в ушах слова эксперта, когда я, попрощавшись, вышел из кабинета. В помощь мне дали двух молодых ребят из ОБХСС — Виктора и Александра, а также опытного бухгалтера-ревизора Митрофана Тищука, пенсионера. Собрав бригаду у себя в кабинете, я рассказал о покупке мною лимонов, заявлении эксперта и о продаже цитрусовых без оприходования выручки по кассе. Задания каждому из них дал письменные. Виктору — установить наблюдение за плодоовощной базой, Александру — проверить образ жизни продавцов, их связи с плодоовощниками. Сам с ревизором углубился в документы. А их было — горы. Система гастрономторга — сложная. Каждые сто килограммов фруктов обволакивал ком различных документов — спецификаций, товарных ведомостей, справок, приходных и накладных всевозможных фактур, актов на списание и заключений специалистов. — Вы посмотрите на акты, по которым списаны тонны фруктов, — негодовал ревизор. — По-моему, это фикция. Только привезли фрукты, а на второй день комиссия уже делает списание гнили. Действительно, на базе была создана специальная комиссия, которая состояла в основном из работников базы и одного представителя торга. На первый взгляд, акты были в порядке. В них имелись даты, было указано количество фруктов, подлежащих сортировке, количество гнилья. Каждый акт подписывали не менее шести человек. Но я обратил внимание на то, что акты подписывали люди, которые на базе уже не работали. Может, механическая ошибка? Акт составили раньше… Некий Боярчук поступил на работу в ноябре, а акт составлен еще в мае. Вызвал Боярчука. Тот ответил: «Подписывал акты сразу пачкой. Кладовщик Ранецкий успокаивал: не бойся. Здесь все в ажуре… Комар носа не подточит». Как выяснилось, акты на списание гнили подписывали и другие рабочие, не читая их, слепо веря составителям этих документов — товароведам Старчевскому, Булаху, кладовщику Ранецкому и заведующему базой Прыткому. Вера Игнатьевна Волосюк работала в торге инспектором торговли, но до этого ей пришлось поменять много мест работы. По образованию она фельдшер, но по специальности работала всего полтора года. Ее почему-то потянуло в торговлю. Работала вначале кассиром в магазине, затем на базе весовщиком, кладовщиком в Днепрохозторге, экспедитором в управлении торговли и наконец инспектором торговли в торге «Гастроном». Принимал ее на работу лично Туткевич. Зачем принял он неспециалиста? В корыстных целях? А может, просто по знакомству? Как оказалось потом, Туткевич подбирал людей, следуя пословице: ворон ворону глаз не выклюет. Волосюк — женщина средних лет, крашенная блондинка, одета модно, держится свободно. — Да, все так и было, — заявила на допросе. — В актах все указано верно. Я подтверждаю. Я ведь представитель торга. Что она говорит неправду, было видно уже с первого вопроса. — Почти все члены комиссии заявляют, что они акты подписывали пачками, не читая их, — остановил ее я. — Этого не было. Я лично контролировала. — Послушайте, за один раз вы подписали сразу сорок таких актов. Одной и той же ручкой. Как вам удалось сразу сверить все цифры? — Это неправда. Я хорошо помню — такого случая не было. — Вот посмотрите акты. Все они вместе и подшиты в один отчет. — Я положил перед ней пачку документов. Волосюк вздрогнула, затем медленно стала листать акты. — Да, мои подписи… Но я их подписала последней. Несколько минут она молчала, затем снова затвердила: — При сортировке фруктов я всегда присутствовала. — Не всегда. Вот документ за двадцать седьмое октября. Ваша подпись? — Я показал ей новый документ. Она тяжело вздохнула и едва разжала губы: — Моя. — В это время вы загорали в Анапе. По путевке туда ездили. — Не помню… Не может быть! — вскочила она с места. Я позвал ревизора. Показали ей приказ на отпуск и корешок путевки. — Документы липовые, а вы их подписали, — не выдержал Тищук. — Что, за хорошие глаза? Или как? Это обстоятельство ошеломило ее. Глаза ее наполнились слезами. Она понимала — ее разоблачили окончательно. Отступать некуда. Улики против нее весомые. Но говорить сразу не хотела. Решила поторговаться. — А что мне будет? — Суд решит, — ответил я. И она стала рассказывать: комиссия существовала формально, лишь на бумаге. Никакого контроля со стороны торга за сортировкой поступающих на базу фруктов не было. Акты она подписывала по указанию Туткевича. О деньгах, которые ей платили за эту липу, вначале умолчала. Это были только первые шаги. Нужно было определить количество излишне списанных на гниль фруктов, учитывая в комплексе все документы. — Трудное это дело. И нам с вами придется нелегко, — заявил я ревизору. — Ведь по всем партиям поступающих фруктов составлялось заключение товарных экспертиз. Правильно ли они вообще составлялись? Соответствуют ли выводы экспертов фактическому состоянию фруктов? — Какой же выход? — забеспокоился Тищук. — Выход есть, — похлопал я его по плечу, — наш с вами труд… Поздно вечером Александр обратил внимание на серую «Волгу», которая подкатила к гастроному № 9. Из машины выскочили двое мужчин и пошли прямо в кабинет Матинчука. Не прошло и десяти минут — в машину был погружен большой ящик лимонов. Шофер сел в кабину и включил мотор. Вскоре Матинчук вышел с незнакомым мужчиной, они попрощались. Матинчук вернулся обратно, а пассажир направился к машине. — Трогай, — приказал водителю. — Не спешите, разрешите путевку, — словно из-под земли вырос Александр. — Я сотрудник ОБХСС. Незнакомый мужчина оказался одним из экспертов, проверявших ранее плодоовощную базу и магазин. Фамилия его была Донченко. При осмотре машины, кроме лимонов, был обнаружен мешок с мандаринами и апельсинами. — Где взяли? — Там, где брали, их уже нет, — буркнул Донченко. — Куда заезжали? — спросил Александр у водителя. — Вожу не первый раз, с базы и из магазина, — сказал водитель. — Мне? — недовольно буркнул Донченко. — Да не вам! Жене вашей, а вы будто не знали? Показания Донченко оказались весьма интересными. Во всех случаях фрукты поступали на склад плодосекции плодоовощной базы торга. Там они должны были оприходоваться по качественному состоянию. На каждую партию поставщик давал удостоверение по качеству. Но эти документы плодосекцией не признавались, и фрукты оприходовались как несортированные или же нестандартные. В соответствии с этим стоимость фруктов значительно занижалась. После этого на базу приглашались эксперты бюро товарных экспертиз. Они-то и завершали махинации, начатые плодоовощниками. Качество фруктов они определяли выборочным путем, осматривали всего несколько ящиков из партии. Тут-то им и подсовывали гнилье. Так на базе создавались значительные излишки фруктов. Но излишки — это мертвый капитал. Следствию предстояло установить, каким образом и через какие магазины они шли в продажу. Вызываю на допрос Ранецкого и Прыткого. Оба в один голос: «Примитивщина. Сортность определяется на глаз… Нет никаких приборов. Бывало, и ошибались». — В свою пользу? — перебил их я. — Товарищ следователь, нам и так несладко приходится, — заюлил Прыткий. — Хранилища старые, температурный режим не соблюдается, поставщики бросают плоды, роняют ящики на землю. А битые фрукты сразу гниют. Вот и получаем в основном гнилье. — А нам что, на свою шею этот хомут вешать? — вскочил Ранецкий. — Зарплата и так маленькая, еле деткам на молочишко хватает. Спорить с ними было бесполезно. Я и сам понимал: излишки излишками, а сбыт их надо искать. Из всего было видно — на базе орудует преступная группа. Голыми руками их не возьмешь. Вызвал специалистов, подключил ревизоров. Сам же стал изучать транспортные документы. Перевозка фруктов с базы в магазины производилась транспортом автопредприятий города. За перевезенные грузы рассчитывался торг. Решил начать проверку путевых листов за последний месяц. И тут же разочаровался. В путевках значились тонны-километры, а какой именно груз перевозился, указано не было. Преднамеренно ли это делалось? К путевым листам прикладывались справки с подписью работников магазинов, подтверждавших получение грузов. Выбрал несколько магазинов. Стал проверять. И тут же новый ребус. Путевка и справка подтверждали перевозку груза, а в магазинах приходных накладных, датированных тем же днем, что и путевка, не оказалось. Начали сличать первые и вторые накладные — здесь было все в порядке. Бились несколько дней. И тут нам на выручку пришел Виктор. Посещая базу, он обратил внимание на корзины, куда кладовщик выбрасывал испорченные накладные и копировальную бумагу. Часть этих бумаг он извлек и принес нам. Мы, в свою очередь, сверили записи на них с накладными, принятыми магазином. Под одним и тем же номером значились две накладные. А это значило, что фрукты высшего сорта подменялись низшим. Полученная разница в сортности изымалась из выручки. Поздно вечером явился Александр. Его рассказ нас заинтересовал. «Каждый день, в одно и то же время, на базу приходит старичок, незавидный, плюгавенький, с палочкой и плетеной корзиной. Вначале мне было его жаль. Какой, подумалось, несчастный человек. Затем что-то в нем насторожило. Вышел к нему Старчевский. Поздоровались и тут же ушли в подсобку. Думаю: пришел попросить лимончик к чаю. Что здесь особенного, не обеднеет, если даст. Сколько тех фруктов гниет. Горы актов составлено. Хотел уже было уйти, но возвратился. А тут старик. Чуть было лбами не столкнулись. Вижу: в корзине лежат не лимоны, а какие-то свертки. Старик тем временем вышел за ворота и пошел по улице. Я за ним. Он пошел быстрее и стал оглядываться. Человек явно чего-то боится. Дальше стал петлять по городу. С трамвая в троллейбус, а затем в такси. Вскоре старику уже и палка надоела, он ее бросил под столбом. Я подобрал ее. Потом старик шмыгал из подъезда в подъезд. А дальше зашел в дом № 7 и как в воду канул». …Ожидал его Александр допоздна и укорял себя за оплошность. Утром второго дня он пошел к тому дому, куда зашел старик вечером. Ждать пришлось недолго. Старик вновь появился, но уже не один, а с мужчиной в сером костюме и велюровой шляпе. Они вышли со двора на улицу, некоторое время постояли, поговорили и разошлись. Александр чуть было не вскрикнул. Неизвестный мужчина оказался Булахом, товароведом из плодосекции. Решил и дальше пойти за стариком. Неожиданно тот шмыгнул в стоявшую у обочины «Волгу». Александр успел запомнить номер автомашины: 48–52. Машин рядом не было, и он ругал себя за нерасторопность — не заказал машину. И вдруг из-за угла вынырнул «Москвич». Александр остановил его и предъявил водителю удостоверение. — Извините, что задержал, я по важному делу. «Волгу» надо догнать. — Догнать «Москвичом» «Волгу» вряд ли удастся, — буркнул шофер. — Ладно, попробуем! Через несколько минут езды «Волга» остановилась у сберкассы. Старика в машине не было. — Сбежал, — вслух огорчился Александр. В это время открылась дверь сберкассы и оттуда вышел старик. Преследование длилось более трех часов. За это время «Волга» останавливалась у восьми сберкасс. «Это уже любопытно, — подумал Александр. — Значит, старик кладет деньги в сберкассы. Чьи же деньги? Не свои, конечно». С помощью старшины милиции, автоинспектора, старика задержали в момент передачи сберкнижек Булаху. При этом, запутывая следы, старик попытался швырнуть сверток в урну. — Погоди, папаша, здесь сорить не разрешается, — остановил его Александр. В свертке оказалось восемь сберегательных книжек на предъявителя на довольно крупную сумму. — Сберкнижки ваши? — Эх, если бы мои были! Разве я бросал бы их так! — обескураженно посмотрел на него Рюмин (так назвался старик). — Гражданин Рюмин, откуда вы взяли эти сберегательные книжки? — Не помню! — крикнул старик. — Ну что же, придется задержать вас для выяснения всех обстоятельств. Тот кивнул и тяжело опустился на урну. Спустя некоторое время привстал и сказал: — Веди к следователю. На допросе он признался: — Мне что, я уже на пенсии, просили люди, и я отвозил деньги в сберкассу. Обещали один процент. Все же я рискую. С деньгами хожу, без охраны. Я же никого не обобрал… — А деньги-то чьи? — Деньги? Наши, советские… — Кто вам их давал? — Хм, это совершено резонный вопрос. — Рюмин задумался, почесал подбородок. — Тайна вкладов охраняется законом, гражданин следователь, — сказал тихо. — Понимаю, понимаю. Это ведь вкладов. А кто давал вам деньги — не тайна? — Пардон, дайте подумаю, — вздохнул Рюмин, потирая лоб тыльной стороной ладони. — Вертятся они вот перед глазами, а я никак… Ну, Косоглаз, Ленька из Мандриковки, Санька с Севастопольской, Митька из Кайдак. Фамилий не знаю. Да это и не требовалось. Вклады были безымянными. — На предъявителя, значит? — поправил я его. — Кажись, — буркнул Рюмин. После допроса мы с Рюминым поехали по городу, и он указал дома, куда заходил за деньгами. Нужно было немедленно действовать. Операция была проведена быстро. Обыски сделали одновременно у Ранецкого, Булаха, Старчевского, Прыткого, Мотанчука, Бурулева, а также у Рюмина. Денег было изъято около семидесяти тысяч рублей, кроме сберегательных книжек на предъявителя. Например, только у одного Ранецкого их было сто двадцать шесть штук на сто тридцать восемь тысяч рублей, наличными — девять тысяч, облигаций трехпроцентного займа на тысячу двести рублей. Значительные суммы Ранецкий передал на хранение своим родственникам, проживающим в Одессе, Запорожье, Киеве. У сына Ранецкого было изъято девять тысяч рублей наличными и восемнадцать сберегательных книжек с остатком вкладов свыше восьми тысяч рублей. Младший Ранецкий развел руками: не хотел выдавать своего отца, который так щедро одаривал его долгие годы. В день свадьбы преподнес ему небольшой свадебный подарок — особняк стоимостью около двадцати тысяч рублей. А невестке — бриллиантовое колье стоимостью свыше восьми тысяч рублей. Делаю очную ставку. — Это все по наследству от бабушки, не подумайте, что краденое, — начал старший. — Не морочьте голову, — перебил я его, — ваша бабушка умерла еще до войны. А вклады в сберкассы вы начали делать уже работая на плодоовощной базе. — Да? — удивленно спросил Ранецкий-младший. — А вы не удивляйтесь, вас придется арестовать за укрытие заведомо краденого. Теперь вскочил Ранецкий-старший: — Вам мало одной жертвы? Мне что, я уже прожил свой век. Его не… Я все расскажу… Три дня он тянул, пришлось делать еще одну очную ставку — со свахой, и только после этого он начал давать подробные показания. …У «бедного» Рюмина было изъято ни много ни мало — двенадцать сберегательных книжек на восемнадцать тысяч рублей, наличными шесть тысяч рублей и облигаций на восемь тысяч. Кроме того, одиннадцать золотых монет царской чеканки, шесть золотых часов, кольца и серьги с бриллиантовыми камнями. Вот вам и один процентик, уплаченный плодоовощниками за усердие и добрую службу. — Лимончики, апельсинчики — золотая жила! — вскричал Тищук, увидев на столе гору изъятых ценностей. Допрашиваю Рюмина. Пожилой, грушевидная голова с низким лбом, длинный утиный нос, жидкие седые волосы, жесткая седая щетина на лице. — Я больной человек… Не сажайте меня, пожалейте бедного старика… — говорит он плачущим голосом. Я слушаю его и думаю о том, как непросто было ему зарабатывать проценты. Каждый день нужно было объехать все сберкассы, а их по городу вон сколько. Соблюсти конспирацию: не попадаться на глаза одному и тому же кассиру и долго не задерживаться в сберкассе. Правда, приходные кассовые ордера он оформлял заранее еще дома, заполнял графы собственноручно. Вести расчеты, брать деньги, закупать облигации подсчитывать проценты, разносить сберкнижки своим клиентам… — Жить надо было… Вот я и трудился. Конечно, перепадало и мне. Они — мои клиенты — первоклассные специалисты… умеют экономить, непьющие… — Сколько же вы всего сдали денег в сберкассы? — спросил я. Рюмин пожал плечами. — Точного учета не вел… Может, около полумиллиона. В действительности эта цифра была значительно больше. Установить это помогла малограмотность Рюмина. Заполняя приходные кассовые ордера, он делал одну и ту же ошибку. Писал вместо «тысяча» — тыща, вместо восемьсот — «восесот». Используя это, мы дополнительно выявили в сберкассах города еще пятьдесят тысяч рублей, которые затем суд обратил в доход государства. А сберегательные книжки так и не нашлись. Но следствие продолжалось. Разоблачена была только часть группы «апельсиновых королей». Нам уже были известны два магазина, через которые реализовывались излишки. Но по размаху хищения, по ценностям, которые мы изъяли у плодоовощников, магазинов должно было быть значительно больше. По нашим подсчетам, общая сумма похищенного составляла свыше трех миллионов рублей. По документам больше всего фруктов было направлено в магазины № 7 и № 9, которыми руководили Мотанчук и Бурулев. Но эти дельцы избрали очень оригинальную и довольно надежную защиту. Как на допросах, так и на очных ставках они категорически отрицали какое-либо участие в хищении. — В их делах — не в курсе… Ничего не знаю. Фрукты привозили по документам. Продавали. Выручку забирали инкассаторы. Вот и все, — сказал Мотанчук. — Все уже проверено. Зря упираетесь, — остановил я его и пригласил Тищука с документами. — Смотрите, в документах одна липа, — стал возмущаться тот, показывая накладные Мотанчуку. — Не знаю. Я в магазине не один. Есть заместители, продавцы. Товар принимают они, и они же расписываются за него. Моих подписей там нет. — Резонно. Кто составлял отчеты? — не отступался от негоТищук. — Ну, я, — буркнул Мотанчук уже серьезно. — Выручку забирали вы? — Не всегда. — Вот расписка, — вмешался я. — В ней значится, что вы двенадцатого ноября от продавца Семеновой приняли восемьсот сорок два рубля. Кто ее писал? — Допустим, я, — встревожился Мотанчук. — Так вот, эта сумма на приход по магазину не взята. — Не может быть! Осмотрев документы, Мотанчук убедился, что ревизор говорит правду, и тяжело опустился на стул. — Это не все. Полюбуйтесь еще, — продолжал наступать Тищук. — По временной фактуре значится, что в магазин шестнадцатого сентября было завезено 1693 килограмма яблок первого сорта по рублю за килограмм и 327 килограммов нестандартных на общую сумму 1728 рублей. Так? — Ну а дальше? — вмешался в разговор я. — Документ, составленный вначале, уничтожается, а вместо него появляется другая фактура. В ней количество не меняется. И тут-то весь фокус! Фруктов первого сорта стало теперь 327 килограммов, нестандартных 1693 килограмма. Следовательно, сорта поменялись местами. Ошибка, скажете? — Ошибка, — кивнул головой Мотанчук. — Неужели вы считаете, что следователи простаки? — Разница в стоимости — 1120 рублей — осталась у вас. Правильно? — Не знаю. Все документы правильные, — не сдавался Мотанчук. Наконец, припертый к стенке неопровержимыми уликами, он начал давать показания. — За сданные в сберкассы деньги мы платили Рюмину из расчета один процент от суммы, — сказал в конце допроса. Бурулев, убедившись в бесполезности запирательства, вскоре тоже признался и назвал еще двенадцать магазинов, через которые сбывались излишки фруктов. Туткевич, этот горе-руководитель, узнав о неопровержимых фактах хищения, забегал по кабинету: — Какие подлецы! А я им доверял. Ах, мерзавцы, ах, негодяи! — Не только доверяли, но и свою долю получали, — сказал я. — Нет, нет, это ложь, — закричал он. — Я… я с утра до вечера, как проклятый, кручусь. Дома не живу. По командировкам мотаюсь… Стараюсь обеспечить город всем, всем… сталеваров, шахтеров. — Пожалуйста, прочитайте вот здесь, — показал я место в протоколе допроса Ранецкого. «Руководитель у нас принципиальный, характер твердый, любит дисциплину, ну а деньги обожает. Ох как любит! Давали сначала десятками, а он требовал сотенными. Давали… Каждый день. Даже когда он уезжал в командировки…» — Клевета, явная клевета! Теперь на меня все свалить хотят. Не выйдет. Вы тоже за них… за жуликов… Пишете в протоколы всякое там… Я буду жаловаться. Так не оставлю. Я пойду к прокурору, в республику поеду. Вам влетит. — Жалуйтесь, куда хотите. Это ваше право. Но лучше посмотрите сюда, — и я положил перед ним фотографию. На ней сам Туткевич берет от Рюмина довольно толстый пакет. Встреча на вокзале перед отбытием в служебную командировку. Прочитав показания Рюмина, он снова начал кричать: — Ложь! Это не доказательство! Вы меня поймали? Нет! Так вот, запомните, я чист, как стеклышко. — Скажите, Туткевич, где ваш автомобиль «Волга» за номером 55–41? — Автомобиль? Откуда он у меня? — крикнул Туткевич. — Вот документы. Ваш автомобиль в Кишиневе. Почему? — Нет у меня никакого автомобиля, — продолжал отпираться Туткевич. — Да еще и шофера держите на постоянном окладе. Вот справка ГАИ из Кишинева. А это показания самого шофера Бурдюжи и хозяйки Неонилы Савельевны, у которой вы довольно часто бываете. Зачитать! — Не надо… — Он опустил голову. — Вам эта тетрадь знакома? — поинтересовался я. — Впервые вижу. — Открою секрет, эту тетрадь мы изъяли у Старчевского, и оказалось — это учетная книга «черной кассы». — «Черной кассы»? Что это еще? — вспыхнул Туткевич. — Согласно записям, Папе выделено было из «черной кассы» около восемнадцати тысяч рублей. — Кому-кому? — засуетился он. — Вам. — За что? — вскочил Туткевич. — Вот и расскажите, за что вам платили долю от похищенного. Тетрадь «черной кассы» «апельсиновых королей» обнаружил Александр под печкой в квартире Старчевского и вначале не придал ей особого значения, положил на стол. Во время обыска она исчезла. Сначала Александр махнул рукой. Подумаешь, ценность большая. Но Виктор не согласился с этим, стал искать, переворачивать все кверху дном и нашел ее в туалете, замоченной в унитазе. Тут-то и догадались — тетрадь дорога преступникам. А позже за несколько дней упорного труда мы расшифровали все ее записи. В ней велся учет похищенных сумм, регистрировалась выдача денег каждому дельцу преступной группы, которые значились под кличками: Папа — Туткевич, Лимон — Ранецкий, Антоновка — Бурулев, Сухофрукт — Старчевский, Транспортер — Рюмин, Ранет — Булах, Апельсинчик — Тугодум, Калоша — Прыткий, Баклажан — Мотанчук… Вина Туткевича в хищении социалистической собственности в особо крупном размере была доказана полностью. Это он подчинил себе плодосекцию, подобрал и содержал на ответственных должностях людей, ранее по несколько раз судимых за хищения, покрывал их. Жалобы на них прятал, а затем уничтожал. А они в знак особого уважения к нему усердно содержали его на своем воровском балансе, платили из «черной кассы» ежемесячно по пятьсот рублей, не включая расходы Папы на командировки, которые оплачивались сотенными. …Итак, час возмездия наступил. Вся «апельсиновая» группа — на скамье подсудимых. Выездная сессия Верховного Суда Украинской ССР признала вину всех подсудимых в хищении государственных средств в особо крупном размере и осудила их к различным мерам наказания. Учитывая особую опасность совершенного преступления, ранее судимых за хищения Ранецкого, Старчевского, Булаха — к высшей мере наказания. Вечером я, Александр, Виктор и Тищук возвращались после процесса домой. — Зайдем в магазин, — предложил Александр, когда мы подошли к гастроному № 9. В магазине было людно. Шла торговля лимонами. Мы остановились у прилавка. Товар продавцы отпускали по чекам, строго соблюдая калибровку. Мы убедились: торговали правильно. Я купил каждому из моих помощников по крупному лимону: — Угощайтесь. Эти уже не ворованные.
КАРЬЕРА НА КРОВИ

Темной мартовской ночью 1918 года пустынной улицей оккупированного Киева шли крадучись двое. Один, с рыжими усами и бородой, — в рясе, другой, пониже ростом, — в видавшей виды солдатской папахе и короткой, выше колен, офицерской шинели. Поблизости от старого дома оба остановились, озираясь, перекрестились и молча стали подниматься крутыми ступеньками, которые вели в застекленную, обвитую сухими лозами дикого винограда веранду. Перед дверью остановились и тихо, чуть слышно постучали. Открыл долговязый сонный петлюровец в зеленом жупане. Здоровяк был крест-накрест перетянут новенькими, блестящими ремнями, на которых болтались сабля, маузер и гранаты. — Чего надо? — строго взглянул на ночных гостей. — Свои мы… К батьке… По очень важному делу, — умоляюще заговорил усатый. — Их нет. Приходите завтра. Нечего шляться по ночам. В это время послышались голоса, хлопнула дверь и на пороге встал сам Симон Петлюра. — Кто такие? — ткнул нагайкой. — К вам… — вытянулся долговязый. — Откуда? — Из Екатеринослава мы. — Высокий порылся в кармане и достал тряпичное удостоверение. Петлюра несколько мгновений разглядывал тряпицу, потом удивленно поднял глаза. — Варварив, это ты? — Я, я, ваша честь. Вы же меня посылали… — Хо-хо, святым отцом вырядился! Молодец, не узнать! А это кто? — Это наш человек. — Варварив указал на спутника. — Павло Козар… Низенький снял шапку и поклонился. Так, выполнив задание Петлюры, Василий Варварив возвратился в логово заклятых врагов народа. Сюда же он привел и своего старого товарища — Павла Козара. Оба жаждали одного — погреть руки на чужом. И вместе с петлюровцами бросились грабить, убивать, жечь… Но недолго предатели хозяйничали на Украине — народ смел их со своего пути. Остатки разгромленных банд удрали в панскую Польшу. Туда же грязная волна занесла и Василия Варварива. Павло Козар тайно вернулся в Екатеринослав и затаился. …В 1920 году Василий Варварив был посвящен в сан и девятнадцать лет правил в селах Поварском, Оздинеже, Смидне на Волыни, клевеща на Советскую власть и агитируя за «самостийну Украину». Когда же в 1939 году Западная Украина была освобождена от гнета капиталистов и помещиков, батюшка в панике сбежал из своего прихода и пришел в себя лишь в Варшаве в окружении русских белоэмигрантов. День 22 июня 1941 года для нашего народа начался с разрывов бомб и снарядов, плача детей, стонов раненых. С запада коварно ворвалась в нашу жизнь самая жестокая за всю историю человечества война. В хвосте у «немецкого рыцарства», которое убивая, насилуя и грабя, бросилось завоевывать «жизненное пространство», потянулись на советскую землю и подонки всех мастей — петлюровцы, украинские буржуазные националисты, белогвардейцы, кулачье, а среди них и Василий Варварив. Вынырнув в оккупированном Ровно и заняв солидный церковный пост, святой отец на новом месте начал ревностно служить новым хозяевам.
Это дело началось с небольшой статьи в «Литературной газете» от второго ноября 1977 года. Корреспонденция называлась «Нет, в Ровно вас не забыли, мистер Варварив!». Я прочитал ее в тот же день. Речь шла о семье церковника Василия Варварива, проживавшего в Ровно в годы войны. Как отец, так и сыновья прислуживали фашистским изуверам, добровольно принимали участие в массовых расстрелах мирного населения. Спасаясь от заслуженного возмездия, «святое» семейство в 1944 году сбежало из Ровно. И вот один из отпрысков отца Василия — Константин Варварив, оказывается, преспокойно проживает в США, и не просто проживает, а служит в госдепартаменте и даже дважды возглавлял делегацию Соединенных Штатов на международных совещаниях под флагом ЮНЕСКО… На следующий день меня пригласил к себе первый заместитель прокурора республики Михаил Тимофеевич Самаев. (Я работал в то время следователем по особо важным делам прокуратуры УССР). — «Литературку» читал? — Читал, — ответил я. — Что будем делать? — Вы имеете в виду мистера Варварива? — Да. В кабинете наступила тишина. Михаил Тимофеевич поднялся, вышел из-за стола, прошелся по комнате и сел рядом. — Дело сложное. Прошло больше тридцати лет. Мы снова помолчали, как люди, и без слов понимающие друг друга. — Согласен? — Самаев посмотрел мне прямо в глаза. — Согласен. Михаил Тимофеевич улыбнулся. — Ну вот и решили. Перечитай еще разок статью, подумай, набросай план и приходи — вместе обсудим. В кабинете, присев к столу, я снова развернул газету. Перечитал статью и снова, в который уже раз, — остановился взглядом на двух фотографиях. …Лицо мужчины было холеным и самодовольным: Прилизанные волосы, модные усики, из-под строгого темного костюма выглядывала белая рубашка, с накрахмаленным, должно быть, воротничком, и черный галстук. На снимке ниже — два эсэсовских офицера, а между ними — женщина с высокой прической, в армейском пиджаке нараспашку. Руки заложила за спину, гордо подняла голову, выпятила груди. На лицах у всех троих — улыбки. Вот, оказывается, какие вы, предатели, палачи! Сколько же человеческого горя на вашей совести! С первого фото смотрел на меня ответственный сотрудник государственного департамента США Константин Варварив, женщина в окружении эсэсовцев — Елена Козырь, переводчица гестапо — его жена. Этих двоих и пригрели под своим крылышком американцы, и не только пригрели, а оказали бывшему полицаю высокое доверие — выступать от имени США представителем при ЮНЕСКО на международной конференции, проходившей в Тбилиси. Здесь немецкого прихвостня и опознали, а затем немедленно известили посольство Соединенных Штатов. Как выяснилось позднее, «государственный деятель» Варварив принимал участие не только в названном выше форуме — он же представлял США и на конференции по охране памятников культуры, которая проходила в Польше. Трудно даже представить себе, как бывший гитлеровский палач, человеконенавистник, хладнокровно убивавший и отдававший приказания убивать, печется об охране созданного людьми. Администрация Соединенных Штатов не могла не ознакомиться с послужным списком Варварива-предателя, исполнителя кровавых приказов его фашистских хозяев на Ровенщине. А быть может, именно за это и приласкала, пригрела? Ведь люди, типа Варварива, на Западе всегда были в цене. Итак мы приступили к исполнению своих обязанностей. Мы — это я, Владимир Иосифович Лесной и командированный для руководства следствием прокурор отдела Прокуратуры СССР Николай Григорьевич Жуков. Сразу же по приезде собрались в облпрокуратуре, чтобы решить, с чего начинать — работа впереди ждала нелегкая. Необходимо было по прошествии стольких лет разыскать обличающие материалы, чтобы иметь веские юридические основания возбудить уголовное дело против Варваривых. — Без помощи общественности не справимся. — Николай Григорьевич начал первым. — Придется обойти каждый дом на Комсомольской, где во время оккупации проживали Варваривы, поговорить с каждым, кто мог бы что-нибудь вспомнить, а на это уйдет не день и не два. — Необходимо побывать и в ближайших селах, туда тоже тянутся следы «святого» семейства, — добавил Лесной. На том первом совещании решили начать розыск в трех направлениях: искать очевидцев как в городе, так и в близлежащих селах, — это было поручено мне. Владимиру Иосифовичу Лесному выпало перебрать по бумажке все имеющиеся в наличии архивы, изучить же уголовные дела, возбужденные в свое время против бывших полицаев должны были местные товарищи. Задание перед всеми стояло одно — найти доказательства преступной деятельности семьи отца Василия, и в частности — Константина Варварива, нынешнего американского дипломата. Скоро следственная группа имела в своем распоряжении первый документ — оперативную сводку Совинформбюро от 9 марта 1944 года. «Шестого ноября 1941 года немцы согнали на площадь значительную часть жителей города. Вся площадь была забита людьми. Многие женщины пришли с детьми. В десять часов немецкие жандармы погнали эту огромную толпу за город. Здесь возле заблаговременно вырытых рвов немцы начали кровавую расправу над советскими людьми. Три дня продолжались расстрелы. Многие из обреченных по двое суток ожидали казни. Палачи принуждали их зарывать лопатами ямы, наполненные трупами. Детей гитлеровцы живыми бросали во рвы, а потом швыряли туда же ручные гранаты. За трое суток фашистские нелюди убили 16 тысяч мирных жителей… Многих советских граждан гитлеровцы замучили и расстреляли в тюрьме. В центре города немцы соорудили виселицы, на которых казнили советских патриотов». Под актом стояли подписи: В. Лукашевич — учительница, В. Левитский — учитель, М. Яновская — воспитательница детского сада, настоятель ровенского собора протоиерей У. Парголовский, настоятель Свято-Успенской церкви протоиерей М. Носов, М. Марчуков — бухгалтер и многие другие. Начало было положено, но дальше как отрезало. Шли дни, недели, поиски свидетелей в городе продолжались, но похвалиться нам было нечем. Почти везде один и тот же ответ: — Поселились здесь уже после войны. Приходилось работать и в выходные, и по вечерам, чтобы застать людей дома, но к этому привыкли еще раньше, как привыкли терпеливо, без лишних слов по крупице собирать нужные сведения. Такая работа. И наконец словно первый лучик — первый свидетель, Николай Ильич Илик: «Варварив Константин проживал вместе с отцом и матерью. Отец его был священником. Константина я часто видел вместе с его старшим братом Евгением, который всегда ходил в форме полицая. Форма та была черного цвета. Возле собора я несколько раз встречал и самого младшего из Варваривых — его звали Юрием, а немцы почему-то называли Игорем. У этого был мундир жандарма, зеленый. Летом сорок четвертого Юрия таки нашла пуля во время какой-то облавы. У них еще была сестра. Константин Варварив — высокий, русый, лицо у него худое, продолговатое, а глаза голубые. Запомнилась мне его привычка во время разговора верхней губой прижимать нижнюю…» Дело сдвинулось с мертвой точки, а оттого и сил прибавилось. Но судьба словно испытывала наше терпение, снова посылая дни за днями, которые не приносили ничего нового следствию. Правда, мы и не рассчитывали на быстрое и легкое завершение дела и продолжали работать спокойно и методично. И в награду за терпение и веру в успех — второй свидетель. Николай Лукашевич, 1922 года рождения, житель села Млинов, поблизости от Ровно. Сидим в прокуратуре. Он рассказывает, я записываю: — Однажды в конце сорок первого отец пришел домой и рассказал, что к нам в Ровно приехал новый настоятель собора, и назвал фамилию — Варварив. Никто ничего о прибывшем и его семье не знал, но вскоре поняли, что они из себя представляют. Самый младший из трех сыновей служил в жандармерии. Хорошо помню тот день, когда по городу поползли слухи, что младшего Варварива убили партизаны. Оккупационные власти устроили пышные похороны. Наверное, на них никто не пошел бы, но немцы и полицаи согнали людей силой. Средний сын был высокий, русый, волосы зачесывал назад. У него еще была привычка нижнюю губу прикусывать верхней. Работал в гебитскомиссариате, кажется, в суде. Старший, Евгений, служил в полицаях. А вскоре удалось разыскать и третьего свидетеля — Дмитрия Булавского, 1925 года рождения, жителя Ровно. Вот строки из протокола его допроса: «Судьей, который контролировал работу районного и городского судов, был Корноухов. У него работал переводчиком Константин Варварив. В июне — июле сорок третьего меня привезли в лагерь, из которого немцы отправляли людей на работу в Германию. Лагерь находился на окраине города, был огорожен высоким забором и колючей проволокой. Охраняли его гитлеровцы. Варварив находился на контрольно-пропускном пункте и, по всему было видно, имел там вес…» Перелопачивание тонн бумаги в архивах тоже дало свои результаты. В городском архиве Ровно Владимиру Иосифовичу Лесному и Николаю Григорьевичу Жукову попались гитлеровские документы, в которых упоминалась фамилия Константина Варварива и его братьев Юрия и Евгения. Среди обнаруженных бумаг — справка, выданная гебитскомиссаром Ровно, военным преступником Веером Константину Варвариву — переводчику юридического отдела, и подписанный тем же палачом Веером документ на повышение зарплаты тем, кто особо отличился на службе у третьего рейха. Вторым в списке значится Константин Варварив, старание которого отметило начальство и признало возможным увеличить количество иудиных серебреников на целых пятьдесят процентов. Авторитет предателя в глазах его хозяев рос. Если в начале своей карьеры он получал 850 марок ежемесячно, то после участия в расстреле в ноябре сорок первого тысяч людей и повышения по службе в связи с этим приказом самого Веера Константин Варварив в январе сорок четвертого года становится третьей по величине фигурой в гебитскомиссариате и получает уже ежемесячно 1312 марок. Такие деньги скуповатые хозяева даром не платили… Новые и новые документы обнаруживало следствие, пухлые тома начатого дела пополнялись свидетельствами новых очевидцев, и постепенно все более четкими становились зловещие черты отца Василия и трех его сыновей. И вот настало время, когда шаг за шагом можно было проследить кровавый путь «святого» семейства. …Итак, вслед за гитлеровцами Варварив-старший с женой, дочерью и тремя сыновьями приехал в Ровно и поселился на улице Комсомольской, которую оккупанты переименовали в улицу Мазепы, в доме № 32. Компанию ему составил брат Симона Петлюры — Александр. Решив, что его час настал, отец Василий, засучив рукава, взялся за дело, и в церквях Ровно зазвучали его проповеди, в которых Варварив призывал к покорности новой власти, добросовестному служению ей. А поскольку опыт в области клеветы на советский строй был у него большим еще с довоенных времен, когда отец правил в Смидене, Оздиноже и Поварском, дело пошло. Преданность оккупантам Варварив-старший засвидетельствовал и составлением петиции представителей Украинской автокефальной православной церкви на имя Коха, где между прочим говорилось и о «готовности к лояльному сотрудничеству на благо общего большого дела». Ревностного служителя не могли не заметить, и вскоре он занимает большой церковный пост. А еще через некоторое время о Василии Варвариве заговорила и продажная оккупационная пресса. Так, в частности, в листке «Волынь» от 29 января 1942 года появился сделанный в рейхскомиссариате снимок: Варварив рядом с бывшим агентом дефензивы, а в то время агентом гестапо архиепископом Поликарпом, в миру — Сикорским, который еще в начале войны провозгласил Украинскую автокефалию и в своих проповедях оправдывал зверства фашистов. Как и следовало ожидать, отец Василий благословил на службу оккупантам сыновей. Младшего — Юрия — фашисты зачислили в карательный отряд головореза Петра Грушецкого, убитого партизанами в сорок втором году. Среднего отец пристроил в гебитскомиссариате. А поскольку Константин был жаден до денег, безразлично, каким путем заработанных, то по совместительству подрабатывал и в гестапо, допрашивая подпольщиков и партизан. Старший — Евгений — поначалу тоже подался в переводчики, в газетку «Волынь», но там ему показалось скучно, и вскоре он нашел себе дело по душе — стал полицаем. Хоть и был Юрий в семье самым младшим, но садистские наклонности проявились у него с наибольшей силой. Еще в детстве любил он вешать котов, душить ногами птиц, которым сначала отрывал крылья, связывать собак и бросать их живьем в костер. Сразу же по приезде в Ровно отец Василий отвел Юрия на работу в жандармерию. А уже через два дня тот появился в доме в немецком мундире. Отец во всем потакал своему любимцу, которым гордился с детства. По просьбе Варварива-старшего Юрию выдали мотоцикл, и тот стал выполнять различные мелкие поручения. Но не к этому стремился выродок. Он жаждал крови, власти, права распоряжаться жизнями тех, кто был слабее его. И здесь помогла отцовская протекция — сына зачислили в карательный отряд. На свое последнее задание Варварив-младший выехал вместе с фашистами в составе банды Грушецкого. …Людей выгнали из хат, построили в шеренгу и били каждого второго. — Где партизаны? Люди молчали. Юрий получил приказ допросить семью многодетной женщины. Пытки ничего не дали. Тогда Юрий выгнал всех во двор и поджег хату. Старики и малыши, молча плача, не проронили ни слова. Осатаневший палач подходил к каждому и бил дулом пистолета в живот… В тот день Юрий Варварив лично расстрелял восьмерых. Назавтра расправа продолжалась. Были сожжены еще три хаты, расстреляны шесть человек, повешена пожилая женщина, не выдержавшая издевательств полицаев над своим мужем и замахнувшаяся на них камнем. Пытки, грабежи и насилия продолжались и на третий день. Люди прятались в погреба. Но их находили и там. Убежать из села было невозможно — оно было окружено со всех сторон. Обо всем, что происходило в селе, сообщил партизанам разведчик Степан Солода. Начальник областного штаба партизанского движения Василий Бегма тут же послал в деревню отряд «За Родину» под руководством Ивана Федорова. Но партизаны опоздали — немцев и полицаев в селе уже не было, они успели уехать в Ровно. Лесными тропками мстители бросились наперерез… Бой продолжался весь день, и в сумерках каратели все до одного были уничтожены. Заслуженное возмездие настигло и Юрия Варварива… Для отца Василия смерть любимца была страшным ударом, и он потребовал от старшего и среднего мстить, мстить и мстить. И те старались. На один из воскресных дней лета сорок второго года гитлеровцы назначили в Ровно облаву, чтобы набрать людей для отправки в рейх. Самое активное участие в этой акции принимал Константин Варварив. «Впервые Константина Варварива я увидела в начале сорок второго года во время богослужения. Он тогда был в штатском. — Это строки из показаний свидетельницы Зинаиды Симковской. — Весной того же года, приблизительно в мае-июне, точно не помню, в какой день недели, я шла неподалеку от городского базара, когда началась облава. Всю площадь окружили вооруженные немцы и полицаи. Люди плакали, кричали. Особенно жутко было от крика и плача детей. Среди полицаев видела я и Константина Варварива. Одет он был в черный полицейский мундир, а на поясе у него висела расстегнутая кобура с пистолетом…» Следствие установило, что в тот день, о котором рассказывает Зинаида Симковская, Константин Варварив возглавил группу из семнадцати полицаев. В его распоряжение выделили грузовой автомобиль, на котором он весь день доставлял в лагерь схваченных во время облавы людей. Сопротивлявшихся или пытавшихся бежать Варварив бил сапогами, пока они не теряли сознание. Нескольких человек по его приказу полицаи расстреляли, чтобы запугать остальных. Странно порою складываются судьбы людей. Случайные события, встречи с тем или иным человеком переворачивают всю жизнь, и направляется она иным путем, а порой и в прямо противоположную сторону. Но так ли уж случайны эти события и встречи? Быть может, каждый получает то, чего заслуживает?.. Бывший петлюровец, кулацкий сынок Павло Козар после того, как раскулачили его отца, бежал из Полтавского и вскоре всплыл в селе Мандрыковке, неподалеку от Днепропетровска. Работал сначала грузчиком, а затем каким-то образом настолько втерся в доверие, что стал учителем. Всюду подчеркнуто демонстрировал преданность Советской власти. Зарождение фашизма в Германии воспринял с тайной радостью и спешно начал изучать немецкий язык, принуждая к тому и дочерей. Начало войны стало для него праздником. Когда немцы подходили к Днепропетровску, Козар отказался от эвакуации. — Куда я поеду? Буду работать в подполье, — улыбался. Вступивших в Днепропетровск немцев Павло Козар встретил хлебом-солью. И началась новая жизнь у оборотня. По его доносам были отправлены на немецкую каторгу М. Е. Цаценко, О. И. Бабенко, М. Ю. Охрименко и десятки других жителей Мандрыковки. На совести предателя расстрелянные комсомольцы и коммунисты, люди, не покорившиеся, не пожелавшие, как и он, лизать фашистский сапог… А Козар старался, надеясь, что его старания заметят и оценят новые хозяева. В геббельсовской газетенке, выходившей в Днепропетровске, он выступил с призывом «Украинки и девушки других национальностей! Записывайтесь добровольцами для отправки в Германию!» И его старания были замечены. Он был назначен заведующим отделом народного образования, а со временем и директором исторического музея. Новоиспеченный «просветитель» стал также заведующим отделом пропаганды «Комитета взаимопомощи», созданного украинскими националистами на оккупированной украинской земле. За помощь СД и собачью преданность Козар получил от нацистов звание профессора, грамоту и железный крест. Обе дочери «господина профессора» — Елена и Галина — пожелали работать переводчицами в гестапо. Естественно, что отец одобрил такое решение. Как выяснилось в процессе расследования, особо жестокие допросы фашисты проводили при участии Елены, игриво именовавшей себя Лили. Истязание жертв она наблюдала с садистской улыбкой. Галина Кушнир со слезами на глазах рассказывала: «Мой брат говорил, что когда его пытали в гестапо, а потом допрашивали, переводчицей была Елена». Тамара Тычина: «По доносу Козара и его дочери Елены сотни юношей и девушек были отправлены в рабство. Не миновала эта судьба и меня». После каждого допроса — оргии, чтобы хоть таким образом заглушить в себе страх перед тем, что творили. Наутро Елену, пьяную до бесчувствия, привозили в машине домой. Но война грозной, очищающей волной уже катилась на запад. Прихватив с собой все ценности исторического музея, Павло Козар вместе с дочерьми исчез из города. Отыскались следы Козара аж в Ровно, где встретился он — и, должно быть, не случайно — с бывшим приятелем времен Директории Василием Варваривым. Вот так и познакомились Константин Варварив и Елена Козар, чтобы через несколько лет пожениться. Внешне они были чем-то неуловимо похожи друг на друга. Может, каким-то болезненным блеском в глазах, а может, нервозностью, которая отступала лишь тогда, когда наблюдали за страданиями своих жертв? Оба служили переводчиками у гитлеровцев: он — в полиции, она — в гестапо. 2 февраля 1944 года воины 13-й армии под командованием генерала Пухова освободили Ровно. Немцы в панике отступали. В их обозах удирали от народного гнева и семьи предателей — Варваривых и Козаров. В 1944 году Константин Варварив оказался в Германии и спрятался в трудовом лагере для жителей Восточной Европы, насильно вывезенных в третий рейх. В лагере дождался прихода американских войск и был освобожден как «жертва нацизма». Тогда же ЦРУ стало известно прошлое палача, и ведомство, вербовавшее ландскнехтов, намекнуло об этом Варвариву. Торговались недолго. Настал день, когда я смог доложить, что дело Константина Варварива закончено. Следствие собрало неопровержимые доказательства того, что он и его жена Елена Козар работали на фашистов. С 1941 по 1944 год Варварив находился на службе в гебитскомиссариате оккупированного гитлеровцами Ровно. Доказано, что гебитскомиссариат, возглавляемый палачом и военным преступником Веером, руководил действиями карателей, организовывал облавы на мирных жителей с целью отправки их в Германию. Варварив Константин принимал участие в допросах, которые сопровождались пытками советских людей. Одетым в гестаповскую форму его неоднократно видели с оружием в руках во время карательных акций и облав. Жена Константина Варварива — Елена Козар четыре года находилась на службе сначала в гестапо в Днепропетровске, а позднее в военных подразделениях СС. Уголовное дело, документы захваченных советскими войсками при освобождении Ровно и Днепропетровска архивов были немедленно переданы американскому посольству. Проходили дни, недели, месяцы, годы, а переданные в США материалы оставались без ответа. Так обстоит дело и поныне. Как же могло случиться, что преступники, руки которых в крови десятков, сотен людей до сих пор не наказаны? Ведь США были нашими союзниками в Великой Отечественной войне. 3 декабря 1973 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию за номером 3074/28, в которой речь шла о принципах международного сотрудничества в деле выявления, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях против человечества. Один из принципов международного права — неизбежность покарания виновных в военных преступлениях — был провозглашен еще 30 октября 1943 года в Московской декларации стран антигитлеровской коалиции, а также на Лондонском совещании 8 августа 1945 года. 26 ноября 1968 года сессия Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержала Конвенцию о неприменении срока давности в отношении военных преступников и преступлений против человечества. Как видим, все перечисленные выше документы обязывают США выдать военных преступников Константина Варварива и его жену Елену Козар Советскому Союзу, на территории которого они оставили свои кровавые следы. Однако американское правительство не торопится это сделать. Более того, несмотря на переданные им материалы следствия, ответственные сотрудники американской администрации вдруг делают Варварива, «борца за права человека», ответственным сотрудником государственного департамента США и ЮНЕСКО. Не слишком ли странное толкование защиты прав человека?! Неужели американские дипломаты не понимают, что подобные действия оскверняют память миллионов жертв гитлеризма, бросают вызов всем антифашистам и борцам за мир на земле? В связи со всем этим ТАСС в свое время заявил: «Советское посольство в Вашингтоне передало государственному департаменту США документальные материалы Прокуратуры СССР, свидетельствующие, что один из высокопоставленных чиновников американского ведомства — заместитель постоянного представителя США при ЮНЕСКО К. Варварив в годы второй мировой войны активно сотрудничал с фашистами на временно оккупированной советской территории…». В то время как официальный Вашингтон не прекращает клеветнической пропаганды о нарушении прав человека в социалистических странах, в самих Соединенных Штатах и поныне с ведома властей скрываются от заслуженного возмездия военные преступники, действуют многочисленные расистские организации, плетутся заговоры против стран, ставших на путь независимого развития. Но расплата неминуема!
ВАЛЕРИЙ ВИНОКУРОВ БОРИС ШУРДЕЛИН Следы в Крутом переулке

СЛЕДЫ В КРУТОМ ПЕРЕУЛКЕ /Новоднепровская хроника, ноябрь 1962/

1
Новоднепровский прокурор производил впечатление человека малоинтересного, в общении даже скучного. Привыкнув, видимо, к превратностям человеческих судеб, он избегал обсуждать их на людях. Но и не мог расстаться с мыслями о тех из них, что занимали его в служебное время. Когда мы познакомились с ним несколько лет назад в компании, которую я для себя определил как спасенное поколение — не потерянное, не пропавшее, не погибшее в войну, а по малолетству отправленное в эвакуацию, — среди всех нас он оказался самым молчаливым. Мы вспоминали военное детство, оставленное в тысячах километров от родного городка, голодное, по-мужски ответственное, хотя снаряды до нас и не долетали. Они взрывали землю там, где мы родились и где должно было пройти наше детство. И теперь мы говорили об этой земле, куда вернулись грамотными, с дипломами, вернулись, чтобы здесь стать отцами. За полтора десятка послевоенных лет мы многое успели сделать для родного города. Восстановленного, растущего вверх и вширь, дающего стране руду, кокс и металл. Мы говорили о том, каким он остался в наших детских воспоминаниях и каким мы — именно мы, молодые строители, металлурги, портовики, врачи, — хотим сделать его. А прокурор Привалов молчал. Я запомнил с той первой встречи лишь одну его реплику: «А у нас в эвакуации еды было вдоволь». Он произнес ее, словно ни к кому не обращаясь. Лишь спустя много дней, когда вдруг вспомнились эти его слова и тон, мне показалось, что в них было какое-то чувство стыда или вины. Но было ли? Может быть, мне действительно только показалось. Разве он виноват, что его военное детство прошло на оборонном заводе, где директорствовал Привалов-отец, на заводе, который нельзя было не кормить, ибо он кормил фронт? До недавнего времени мы виделись так редко, что знакомство наше иначе, чем шапочным, и назвать было нельзя. Но вдруг болезнь — совсем не страшная, а достаточно неприятная: раздражение на коже правой руки — стала все чаще и чаще приводить его в яруговскую больницу, точнее, в мой кабинетик. Едва ли не каждое утро я теперь делал ему перевязку, и почему-то самое простое решение — дать ему домой это необходимое снадобье — мазь, рецепт которой мне подарил бывалый флотский фельдшер, ни мне, ни прокурору не казалось естественным. Напротив, утренние свидания постепенно превратились в потребность для нас обоих, хотя беседы наши и не выглядели задушевными — больше к ним подошло бы определение «умные разговоры». Так или иначе мы все лучше узнавали друг друга. И меня уже не удивляло, что человека, который мне прежде был известен как человек с железной нервной системой, зацепила болезнь, возникшая, безусловно, на нервной почве. В то памятное утро, несмотря на очень уж ранний час — я едва успел сдать дежурство в больнице, — прокурор был у меня в кабинете. Натягивая рукав сорочки на забинтованное предплечье, унылым взглядом смотрел он в окно на старый яруговский парк. Корявый, медленно умиравший каждой осенью, ждущий помощи от людей и каждой весной зовущий их на помощь. Люди глухие — не слышат, как их зовут деревья. И парк умирает. Нынешней слякотной осенью, похоже, умрет навсегда. Властно затрещал телефон, призывая к себе. — Это мне, — быстро сказал прокурор, забинтованной рукой схватил трубку. Безусловно, он ждал звонка. Такая у него профессия, что всегда надо быть готовым к неожиданному звонку. Впрочем, врач тоже такая профессия. — Слушаю. Ну да, я. Докладывайте. — Голос его был по-утреннему свеж и ровен. Слушая, он взглянул на меня как-то странно, загадочно, смутил и насторожил Своим взглядом. — Понятно. Еще что? А это где? Так. Понятно. — Теперь прокурор нахмурился и, как мне показалось, на мгновение даже закрыл глаза, тряхнул головой, словно отказываясь от чего-то. — Еще? Ты с ума сошел. Так. — Он совсем уж странно вздохнул — так дышат при одышке или после стайерской дистанции. — Как ты назвал его? Повтори членораздельно: фамилию, имя, отчество. Ну и ну. Опознали? А как у него документы? Понятно, не фальшивые, но чужие. Выехали? Прекрасно. Нет, нет, я подъеду. Сейчас же. Привалов медленно опускал трубку на аппарат. — Скажите мне, доктор… Я молчал, и пауза затянулась. — Вы мне скажите: вам что-нибудь говорит такая фамилия — Сличко? — Сличко? Мне? Вроде бы никогда не слышал. — А если покопаетесь в памяти? — Да нет… Бесполезно. Не слышал я никогда. — В таком случае не могли бы вы поехать со мной? Смена ваша кончилась, тут без вас управятся. А мне вы можете помочь. Как быстро, стремительно он принимал решения. Но я ведь должен был понять. — Это связано с моей профессией? — Нет… — Он искал слова, чтобы убедить меня не отказывать его просьбе. — Нет, не с профессией. Но с общественным… или с человеческим долгом. Поспешим, доктор, а? Машина ждет. Наберитесь терпения и спокойствия. Хорошо? Я уже говорил, что до недавнего времени знал Привалова поверхностно. При встречах у кого-либо из наших общих знакомых не водились разговоры о делах служебных; как-то так вышло, что все мы считали: люди, которым не хватает служебного времени для их дела, просто не умеют работать. Так что и на наших утренних свиданиях прокурор до сего дня о своей работе не заговаривал. Однако хватило нескольких минут, чтобы просьба Привалова перестала казаться мне удивительной. Конечно, наивно было даже предполагать, что могла понадобиться помощь такого узкого специалиста, как дерматолог. Но за полтора послевоенных десятилетия мы уже привыкли — я об этом тоже говорил — ответственность за все, что происходило в городе, делить на всех. Вот почему упоминание Привалова об общественном — но почему-то и человеческом — долге я и не подумал воспринять как упрек за мою нерешительность. Однако понял, что он пока не может или по каким-то причинам не хочет сказать мне больше, чем сказал. Три смерти в одной семье в течение одной ночи. Даже для прокурора, ко всему, видимо, привыкшего, это многовато. Что же говорить обо мне? Кому-то может показаться странным, но за шесть лет учебы в мединституте и за немногим больший срок врачебной практики я сталкивался как раз с тремя смертями. Всего лишь с тремя, что, конечно, мало для человека моей профессии. Но так вот удачно складывалась пока моя жизнь в медицине. Приваловские дела ворвались в нее без спроса. Впрочем, так всегда в жизнь врывается смерть. В одной из заводских лабораторий «Южстали» отравилась девятнадцатилетняя девчонка. Вопросы, которые задавал Привалов лаборанткам, не имели большого значения. Он и сам, по-моему, понимал, что задает их, только чтобы не молчать. Но он проявлял и какой-то иной интерес к погибшей девушке. Не следовательский. Но и не личный. Просто профессиональное любопытство? Он сдержан, скрытен, суховат, но не до такой же степени. Лаборантки постоянно имели дело со всякого рода ядовитыми веществами, однако до сих пор ни одной из них не приходило в голову употребить какой-либо яд во вред себе. Она же — маленькая, пухленькая — лежала скрючившись возле урны на полу, вымощенном метлахской плиткой. К телу предусмотрительно не притрагивались. Никто, понятно, не видел, когда она приняла яд. Собственно, в этой комнате с закопченными снаружи окнами обычно в ночную смену работала только одна лаборантка. Судебно-медицинский эксперт, приехавший вместе с сотрудником уголовного розыска раньше нас, докладывал теперь Привалову свои предварительные выводы. Его голос выдавал удивление, досаду, но никак не спокойствие, которое я ожидал встретить у коллеги, чья медицинская специальность всегда представлялась мне необычной, так как она совершенно не связана с лечением людей. Почему-то он несколько раз повторил, что только тщательнейший анализ покажет, в отравлении ли дело. После всякого рода формальностей тело перенесли на топчан. Привалов вглядывался в лицо моего коллеги. Видимо, поведение эксперта удивляло и прокурора: отравление ведь было совершенно очевидным. Вдруг Привалов вскинул крутые плечи и приказал: — Очистить помещение от посторонних. Сопровождавший нас милиционер, которому, по-моему, тоже было не по себе, охотно занялся выдворением девчонок и даже для седовласой женщины, руководившей лабораторными работами в ночной смене, не сделал исключения. — Она беременна, — сказал врач. Вот, оказывается, почему он не откровенничал при посторонних. — Месяца четыре… может быть, пять… — Очередная любовная драма, — безразлично откликнулся человек с фотоаппаратом, судя по всему, эксперт. Вот кого ничто не трогало. Профессионал! — Не думаю, — резко буркнул Привалов. Гораздо позднее я понял, о чем он думал с той первой минуты, когда ему сообщили обо всех трех событиях. Но тогда в экспресс-лаборатории конвертерного цеха «Южстали» я вопросительно смотрел в его лицо, а он меня и не замечал. — Смерть наступила под утро, — теперь уже четко повторял свои выводы эксперт. — Смерть совсем не мгновенная. Ее наверняка тошнило. Она успела дойти до урны. В какой-то надежде. Но надеяться ей уже было не на что. Это же дихлорэтан. Умерла между пятью и шестью часами утра. Не раньше и не позже. — Прошу вас о результатах экспертизы сразу же сообщить мне, — сказал Привалов. — Мы поедем дальше. Это ведь еще не все. «Волга»доставила нас на Микитовку, когда-то пролетарскую окраину Новоднепровска, теперь же один из городских и добротно отстроенных одноэтажных районов. Крутой переулок, как это нередко бывает, вовсе не был крутым. Он лишь одним концом выскакивал дугой из Микитовской улицы, разрезавшей ее пополам. Другим же концом он упирался в пустоту: дальше ровная земля обрывалась, и в овраге с отвесными берегами вилась речушка, делившая сам Новоднепровск на две части — старую, где мы находились, и новую, откуда только что приехали. Крутым переулок стал случайно: из переулка Крутова сперва получили Крутов переулок, а потом Крутов превратили в Крутой, да так привыкли, что и в горисполкоме его теперь называли Крутым. По правой стороне переулка домов не было. Когда-то тут работал железоделательный заводик, в войну его разрушили, и остался лишь длинный кирпичный забор. По левой же стороне ровно и плотно шли дома. Грязь с конца октября — обычное для нашего города явление. Здесь же и летом после любого дождя царствовала грязная жижа. Дом, в который мы заявились, стоял последним в ряду. И это почему-то добавляло делу какой-то наивной таинственности. Итак, в цеховой лаборатории между пятью и шестью часами утра, если верить эксперту, отравилась девятнадцатилетняя Люба Сличко. А здесь в комнате за кухней в своей постели мертвой лежала Павлина Назаровна Осмачко, тетка той девушки, родная сестра ее покойной матери. — Я пришла с ночного дежурства, — безучастно повторяла прокурору свой рассказ старшая племянница покойной. — Заглянула в ее комнату, а она… с подушкой на голове… Ее задушили. Кто, зачем? Она много раз шепотом повторяла это слово: «Зачем, зачем, зачем…» Повторяла, когда прокурор уже и не спрашивал ее ни о чем. Спустя какой-то час после того, как она обнаружила в доме убитую тетку, молодая женщина узнала о самоубийстве младшей сестры. Что ж удивительного в таком ее состоянии? Странно еще, что она вообще способна отвечать на вопросы. Эта старшая племянница, Софья, работала в гинекологическом отделении нашей больницы. Я сразу узнал ее, но вот фамилию вспомнил не сразу. Софья, Софья… да, Осмачко же. А Люба была Сличко. Но прокурор говорит, что они сестры родные, значит, у старшей фамилия матери, а у младшей, выходит, — отца. Я действительно никогда не слышал, как и сказал Привалову, фамилии Сличко. Но почему его это так интересовало и при чем тут вообще я? За размышлениями я не обратил внимания на приезд медицинского эксперта, а он, оказывается, уже присоединился к Привалову. Осмотрев комнату за кухней, прокурор прошел в другую. Она сверкала чистотой, и лишь несколько аккуратных следов, оставленных на полу сотрудником угрозыска, побывавшим здесь до нас, как бы от имени хозяйки укоряли. Но и настораживали. — Нет, ее не убивали, — заключил эксперт, осмотрев покойную хозяйку дома. — Следов насилия не обнаружил. Предполагаю: сердечная недостаточность. А подушка? Она ни при чем. Ищите, думайте, — добавил он, обратившись почему-то ко мне. Вероятно, потому, что постеснялся бы давать такой совет Привалову. — Экспертиза покажет: убивали или нет, — буркнул прокурор. Эксперт между тем установил, что смерть хозяйки дома наступила поздним вечером, вероятно, около одиннадцати часов. «Двадцати трех», — конечно, сказал он. — Кто еще живет в этом доме? — спросил Привалов. — Сейчас никто, — быстро ответила Софья. — Я… то есть. Сейчас я. — Кто жил до прошедшей ночи? — Голос Привалова звучал резко, недружелюбно. Меня не так поразил вопрос прокурора, как та определенность, с какой он требовал от нее ответа. — Мы… Тетя Паша… мы так ее звали… она воспитала нас. Мама умерла еще в сорок шестом. И Любочка жила, — сквозь слезы добавила Софья. А мне вдруг пришла в голову мысль: знала ли старшая сестра о беременности младшей, к кому могла Люба обратиться, как не к сестре, работавшей в гинекологии? — Еще кто? — не обращая внимания на ее слезы, безжалостно настаивал прокурор. — Еще Верка. — Софья успокоилась быстро. — Вера жила. Сестра. Она позавчера ушла из дома. Пришел парень, с которым она… ну, живет… и забрал ее вещи. Тетя Паша сама ему помогала собирать. — Что за парень? — спросил Привалов. — Гришка Малыха. Он в порту работает. В бараке живет. В общежитии. Летом плавает, а сейчас… не знаю, что делает. — Кто еще? — Надька. — «Испуганно взглянув на прокурора, она опять поправила себя: — Надя. Тоже сестра. Нас четверо. Было четверо, — уточнила она, снова вспомнив о Любе, но на этот раз удержалась от слез. — Надя тоже ушла. Тоже в тот день. Я продолжал задавать себе вопросы. Что же происходило в этом доме, если из него уходили люди? Выходит, уходили, чтобы остаться в живых? Что же Люба-то не ушла? — Кто еще? — продолжал безжалостно требовать прокурор. — Кто еще здесь жил? И наконец, Софья выдавила из себя: — Он. — Он. Ваш отец, Прокоп Антонович Сличко? — Да. Прокурор быстро и, кажется, вопросительно взглянул на меня. Но еще раз повторяю, что с этой фамилией я действительно столкнулся впервые. — Хорошо. Пойдем дальше, — сказал прокурор. В тот момент я еще не знал, что предстоит увидеть труп человека, чья фамилия, так заинтересовавшая прокурора, не производила на меня никакого впечатления.Нам пришлось нелегко. Мы перебрались через кирпичный забор на территорию бывшего железоделательного завода и спустились по шаткой и ветхой лестнице на дно оврага. Я невольно посмотрел вверх и ужаснулся: не приведи бог упасть с такой высоты — если и останешься живым, то на веки вечные калекой. На дне оврага на громадной бугристой каменной глыбе лежал под охраной промокшего милиционера труп мужчины. Лежал головой вниз, и от головы по камню тянулась уже застывшая коричневая полоса, теряясь в сырой глине. Чего только не набросали люди в этот овраг… И старые матрацы. И всякое рванье. А вот по камню свисает мокрый рваный пиджак: вроде совсем недавно такие были в моде, и материал броской расцветки… Железная кровать, покоробленная и ржавая. И посуда битая. Вот и у самой головы покойника лежит грязный чугунок: чуть-чуть помятый с боков, царапины на нем как свежие ранки, а внутри еще остатки пищи, будто и не сгнившие… Если собрать все палки, заборные штакетины, обрубки, доски — наверное на зиму хватит топить хату день и ночь. Какой-то нелепый кривой крест из гнилых досок распластался на глине словно человек с руками, в стороны раскинутыми… Овраг — не овраг, а мусорная яма… Меня вернул к делу голос Привалова: — Посмотрите на него внимательно, доктор. Вот это и есть, вернее, был, Прокоп Антонович Сличко. Голос прокурора звучал теперь звонко, едва ли не усмешка послышалась мне в его тоне. — Чего уж теперь смотреть, — откликнулся я. — Верно. С такой высоты — живым не уйдешь. Как вы думаете, вы все же медик, когда он умер? — Судя по внешним признакам, — неуверенно ответил я, — приблизительно в полночь. Умер, думаю, не сразу, но давно. Может быть, и раньше полуночи. — Потрясающая точность! Доктор, вы делаете успехи на нашем поприще. Надо будет вас остерегаться как конкурента. — Привалов даже присвистнул в конце своей тирады. — Понятно, понятно. Все понятно. Тут уж и я усмехнулся. Что ему может быть понятно? Три смерти в одной семье. За одну ночь. Да еще два человека ушли из дома. Из этой семьи. Что же происходило в семье, в доме?
2
На Октябрьской площади Привалов вдруг приказал водителю остановить машину. Тот не сразу нашел место для стоянки и в конце концов втиснулся между двумя экскурсионными автобусами. Туристы, которых возили в заповедник, обычно останавливались в нашем городе завтракать и осматривать памятные партизанские места. Здесь на площади они возлагали цветы к памятнику «Партизанка» и затем завтракали в молочном кафе «Октябрьское». Цветы у памятника уже лежали. И Привалов направился к скамейке, ни слова не говоря мне, настолько его решение поговорить наедине было ясным. Однако сперва он все же подошел к блестевшей плите, наклонился и зачем-то поправил букетики — аккуратнее разложил их, что ли, своих ведь цветов у нас не было. Я ждал его на скамейке, и заговорил он, не дойдя еще нескольких шагов до нее. — Вы же дежурили сегодня ночью. Что нового в больнице? Чего угодно, но такого вопроса я никак не ожидал. — Да… дежурил. Но ничего особенного припомнить не могу. В моем отделении вообще ничего. Да и в больнице… — И все-таки? — чуть ли не требовал прокурор. — Какая-то драка. — Я даже пожал плечами. — И один перелом ноги. По-моему, к драке этот случай отношения не имеет, но перелом такой, что лечение затянется. Кстати, этот, с переломом, без сознания, так что и записать о нем ничего не могли. И тут Привалов задал наконец вопрос, которого я ждал с той минуты, как уселся на скамейку. Он уже сидел рядом, и этот вопрос задал совсем другим тоном, тихим и вовсе не таким самоуверенным голосом, какой был у него еще несколько секунд назад. Пожалуй, даже некую теплоту услышал я в его голосе. — А как вы думаете, доктор, зачем я потащил вас с собой? И кто такой вообще этот Прокоп Антонович Сличко? — Ничего я не думаю, — постарался я ответить без какого-либо намека на раздражение, которое обычно трудно скрыть в беседе, когда говорят друг с другом все знающий человек и человек, недостаточно информированный. — Ничего не думаю, потому что не знаю ничего. — Нет, — так Же мягко возразил Привалов, — вы уже много знаете. Я бы даже сказал: ужасающе много. — Ужасающе — согласен, — я даже попробовал улыбнуться, по он будто и не заметил. — А вот об этом Сличко — абсолютно ничего. — Обратите внимание, — продолжал он спокойно и в то же время настойчиво, — мать этих четырех сестер умерла еще в сорок шестом. Их воспитывала тетка. Тетка, а не отец. — Ах вот что! — Именно в эту минуту во мне что-то дрогнуло, сам не понимаю, почему, и появился какой-то туманный интерес к делу. — Отец воспитанием дочерей не занимался, потому что… потому что его не было с ними. — Но почему его не было с ними? Где он мог жить? — Судя по вашему тону, — а его голос вновь изменился, из спокойного, доброжелательного стал резким, звучал чуть ли не с издевкой, — он проводил это время в местах весьма отдаленных. — Верно. Но беда в том, что мы не знаем, где он находился, хотя знаем, почему он находился далеко отсюда. — Видите ли, доктор, в сорок пятом за сотрудничество с оккупантами его приговорили к расстрелу. Но он бежал. Да, да, представьте себе. И все эти семнадцать лет успешно скрывался от правосудия. Как ни обидно мне это признавать. Но вот в конце концов оказался у нас в городе. И не ностальгия его сюда привела. К сожалению, мы не знали, что он появился в Новоднепровске. Приговоренный к смертной казни и столько лет скрывавшийся — появился. Это уже интересно, независимо от того, кто его убил. Что все-таки привело Сличко сюда? Спустя семнадцать лет после войны. Сестру своей жены, тетку Павлину, убил, вероятно, он — расследование мое предположение подтвердит. Убил каким-то хитроумным способом. А вот за что? Это и предстоит выяснить. — Нет, — возразил я. — Эксперт ведь сказал вам, что она умерла, как говорится, своей смертью. По всем внешним данным так оно и есть. — Не спешите. Ну, да ладно, чтоб не спорить. Предположим, убил. Так вот если убил, как вы думаете — за что? И вообще, что заставило его рискнуть? Приехать и убить? Если убил, то за что? — Но вы ставите сразу два вопроса: что его привело сюда и за что он убил свояченицу? — уточнил я. — Не только эти два, — немедленно поправил меня Привалов. — Еще будет много вопросов. Один станет цепляться за другой. Ну, например, почему он не снял подушку с лица свояченицы? Или наоборот — он мог положить подушку ей на голову. Тем более, что я убежден: отпечатков пальцев на подушке не будет. Придется ребятам из угрозыска искать перчатки, а их они не найдут. Кто помешал ему? Да так помешал, что он уже не смог вернуться в дом… По-видимому, Привалов мог бы сейчас эту тему развивать без конца. Но я увидел на пороге молочного кафе первых позавтракавших туристов. Сейчас они заполнят скверик в ожидании остальных. А мне надо получить ответ на самый важный для меня вопрос. Потому я и прервал Привалова, хотя дело меня уже действительно интересовало: — Но к чему мне все это знать? Ведь я даже подтвердить выводы эксперта не могу. Как не могу и опровергнуть. И вообще… Мы были ровесниками, и каждый из нас немало повидал в жизни, а тем более в своем деле, но в ту минуту Привалов показался мне человеком, гораздо более меня умудренным жизненным опытом и противоречиями бытия. — Сейчас не могу сказать, — немного подумав, ответил он. — Но все равно хочу, чтобы вы тоже занялись этим делом. — Я? Занялся? — вырвалось у меня совершенно непроизвольно. — Но в каком качестве? — Я не говорю, что вы должны вести расследование. Суть моего предложения или, точнее, просьбы в другом. Вы ведь дружны с Сергеем Чергинцом, я не ошибаюсь? А вот я с ним лишь шапочно знаком. О чем сейчас… именно сейчас сожалею. Все четыре скамейки в скверике уже были заняты туристами. Цветы у ног партизанки вспыхивали под утренними солнечными лучами. — Пошли, — вдруг резко сказал Привалов и, вскочив со скамейки, зашагал через площадь. Я действительно был дружен с Сергеем Чергинцом — сталеваром из новомартеновского цеха «Южстали», молодым, двадцатишестилетним, но уже прославившимся. Прошлой зимой его даже избрали депутатом областного Совета. Но какое отношение он может иметь к этому делу? Нагнав Привалова, я его об этом и спросил: — И никакого, и прямое, — ответил прокурор. — Но пока важно вовсе не его отношение к делу, а информация. Он сейчас на Микитовке не просто самый знаменитый человек. Он из тех, кто знает всех и кого знают все. Поймите меня. Мы никогда не сможем проникнуть в души участников этой… трагедии. Нам доверяют только какие-то факты, и не всегда самые нужные. И ничего больше. Вы же с Сергеем сможете помочь нам. Помочь разобраться в людях. Кстати, ваш Сергей это умеет: на заводе его и за это уважают, вы же знаете. Его трудовая слава — не простое выдвижение. Он завоевал ее. И как завоевал? И трудом, и душой тоже. Все это я знал. Может быть, и лучше Привалова. Но все равно пока не понимал, чего он конкретно добивается от меня. Когда мы сели в машину, Привалов наконец сказал: — Он же наверняка знал о появлении Сличко в городе. Но, естественно, он не мог и подозревать, что тот явился нелегально. На Микитовке все знали, что Сличко осужден. Но что приговорен к расстрелу и бежал, этого не сообщалось. Ни тогда, в сорок пятом, ни позже. Так было решено. И многие, в том числе и Чергинец, вполне могли посчитать, что Сличко отбыл пятнадцать лет и освободился. Поговорите с Сергеем. Уверяю вас, для меня это важно. — Хорошо, — ответил я. — Раз вы настаиваете, я поговорю с ним. — А когда проведут экспертизы, я ознакомлю вас с заключениями. Хотите? В больнице у вас есть дела? — Нет, дежурство я сдал еще до вашего прихода. Ждал вас, чтобы только сделать перевязку, больше ни для чего. — Мой укол он оставил без внимания, и я сказал примирительно: — Попытаюсь найти Сергея прямо сейчас, он должен быть дома после ночной. — Мы со своей стороны будем держать вас в курсе расследования, — как-то чересчур уж официально проговорил Привалов, для шофера, что ли. — Но расследование ни следователю, ни мне, раз уж я сам занялся, многого пока что не даст. Без вашей, доктор, информации. И все-таки странно: доверяя мне, непрофессионалу, сбор сведений, которые, очевидно, необходимы следствию, он был уверен, что его замысел логичен. Что ж, на его стороне опыт.3
Чергинца я застал дома. Он уже в общих чертах — слухи по Микитовке разбегались кругами по воде — знал обо всех событиях. В большом доме он жил один. Так сложилась его жизнь, но к событиям прошедшей ночи это отношения не имело. Зато наши с ним отношения определились как раз общей потерей. Металлурги о таких трагедиях говорят коротко, грубо, словно бы стараясь поглубже упрятать боль, отчего потеря, правда, не становится меньше. Они говорят: сталь сожрала. И за двумя словами, за этими резкими, взрывными двумя словами прячем и мы с Сергеем тот взрыв на заводе, который оставил нас без младших братьев. По возрасту Сергей тоже мог быть мне младшим братом. Но общая трагедия поставила нас рядом, несмотря на разницу в возрасте, сблизив нас больше, чем родство сближает. И от прежних наших отношений осталось только то, что он по-прежнему обращался ко мне на «вы». Бывает в семьях такое, когда и сын к матери обращается на «вы», как прежде всегда было в селах, как и я мальчишкой до войны обращался к матери: «Мамо, вы…» А чтоб так даже к старшим друзьям, не говоря о старших братьях, — не слышал. Но Сергей только загадочно покачал головой, когда я год назад — уже после трагедии — заговорил с ним об этом. Не хочет, ну и пусть, подумал я тогда, а потом привык. Я начал без околичностей. И нисколько не удивился, когда Сергей, выслушав меня, утвердительно кивнул головой. — Понятно. Но я этого Сличко не видел. — А знал, что он здесь? — Знал, но не видел. Мог бы увидеть запросто, но не хотел. Он много горя принес Чергинцам. Была бы честь для подлеца — чтоб я хотя бы взглянул на него. Отсидел, вернулся, ну и пропади он пропадом. Так я думал. — Не кипятись. Давай разберемся по порядку, я ж обещал Привалову. — Если нужно — ладно. Пойдем по порядку, но тогда не удивляйтесь. — Смотря чему. — Тому, что знаю. Опять скажете, что слишком много в себе ношу. А я наперекор пословице живу — своя ноша у меня тянет, чужая — нет. С чужой помочь надо. Но к делу — так к делу. Недавно у нас на Микитовке ограбили магазин. В ночь на позапрошлый выходной. До сих пор ищут Пашку Кураня — семнадцатилетнего балбеса. Пока что не нашли. Да и где ворованное — вроде тоже не нашли. Ну это не наше дело. Только этот Пашка — сын Сличко и той… — Он хотел выразиться грубо, но постеснялся. — Она как раз завмаг того магазина. По слухам выходило, что Пашка выкрал ключи и ночью обчистил материн магазин. Я вот о чем подумал тогда: кто мог его толкнуть на это? Для чего нужно это ограбление? Или инсценировка? В голову мне пришли разные варианты. Хотите, вам скажу об одном, который мне нравится больше, чем другие. Мы ведь с вами следствия не ведем. Почему бы не пофантазировать. И Чергинец вдруг рассмеялся. Громко так, весело. Даже на душе легче стало. Хорошо, что так умеют смеяться люди. — Да, шучу я, шучу, конечно. А вот смотрите, что вам покажу. Он быстрым шагом вышел в соседнюю комнату, взял какие-то листки с письменного стола и принес мне. — Вот смотрите. Я когда учился на первых курсах в нашем вечернем, как-то не очень старался… по кафедре марксизма там, понимаете… А потом интересно стало. Даже жалею, что сразу не уловил этого. И на третьем курсе, сейчас вот, с удовольствием пишу рефераты. Я и принес вам листки из последнего. Тему сам выбрал. Из длинного списка. Называется: «Личность в социалистическом обществе». Вот прочтите фразу, я не ученый, конечно, где-то ее схватил, сам бы не придумал. Ну, прочтите. Я прочел вслух для его удовольствия: — «Возрастание роли нравственных начал в регулировании отношений между людьми связано с усилением роли общественности, которой ныне предоставлена возможность решать вопросы, ранее входившие в компетенцию органов государства». Гордый собой, он аккуратно сложил листки. — Об этом я давно думал, уж год, наверное. Как избрали меня — точно, год скоро будет. Так что насчет прокурора — пошутил. Вы правы. Надо помочь. Мы же с вами и есть общественность. — Тогда давай к делу. Слушаю твой вариант. Но это только вариант, да? — Сами потом начнете с одного из таких же вариантов. Кто мог его толкнуть? Мать — родного сына? Хоть она и не заслуживает доброго слова, но не могла. Да и к чему ей это: воровать умеет и так. Я подумал тогда: не собирается ли Жуйчиха… это мать Пашки, Галина Курань… уезжать? Недавно она вышла замуж, в какой уж раз не знаю. По всему чувствовал, что уедет: как торговать стала, как с соседками говорить. Я и подумал: а не замешан ли тут Сличко? Вдруг он живой? Я давно когда-то слышал, что ему большой срок дали. Но больше пятнадцати лет прошло, мог на свободу выйти. После освобождения Новоднепровска он ведь скрывался у нее в хате, прятался, пока не обнаружили. Только злая сила могла ее заставить пожертвовать сыном. Только очень сильная и очень злая. А такой силой вполне мог быть Сличко. Я и подумал: в последние два года не переписывалась ли она с ним? Спросил почтальоншу: нет, не получала она от него писем — по крайней мере на дом. — Выходит, прокурор прав. Ты хоть что-то знал о Сличко. А я, например, и фамилии такой никогда не слышал. — Вы, доктор, иначе живете. Все больше с книгами, и много такого знаете и слышали, чего мне никогда не услышать. А у меня, у нас на Микитовке, столько всего у людей — готовые романы. И, кажется, все про всех знаем. Был даже слух, что Сличко чудом расстрела избежал, люди думали — заменили длительным заключением. Что он бежал — узнал я вот от вас. Ну, значит, рассуждаю себе дальше: если она писем не получает, значит, он сам здесь. — Вовсе это ничего не значит. — Не спешите. Я вдруг вспомнил, что недавно встретил Гришку Малыху — он с Веркой Осмачко гуляет. Встретил я Гришку, а он ест селедку на улице прямо. Вы бы стали есть селедку на улице? В чем дело, спрашиваю. Да вот, говорит, день рождения пришел к Верке отпраздновать, вчера договорились, а сегодня в дом не пускают. А не пустили, потому что не хотели, чтобы кто-то о чем-то узнал. Или о ком-то. Так я решил, что Сличко тут, в Новоднепровске. Тут уж я не выдержал — рассмеялся. — Ну, ты даешь! Привалов знал, к кому за помощью обратиться. Поступай на юридический и прямиком в следователи. — Смейтесь, чего вам еще. А ведь он действительно тут оказался. Сергей прошел к старомодному и потертому буфету, поставил на стол, покрытый цветастой клеенкой с разводами, тарелку с хлебом, сковородку с остывшей яичницей, уже нарезанное сало, винегрет. — Я ж с ночной смены. Еще не завтракал. Не откажите. — Не откажу. Я тоже с ночной. С дежурства. — Зато сна ни в одном глазу, раз такой сволочи наконец на свете не стало. Но не стало и маленькой, пухленькой Любы Сличко, подумал я. И в ту минуту не знал, что наш разговор к Любе и придет. — А дальше произошло вот что, — перебил Сергей мои невеселые мысли об этой злосчастной фамилии, от которой старшие сестры отказались. — Моего третьего подручного Володьку Бизяева вы знаете. Я кивнул. Этого славного парня я знал хорошо. Впрочем, его весь город знал: лучший форвард нашей «Звезды». — Его угораздило влюбиться в младшую дочку этого предателя. — От этих слов Сергея я вздрогнул, он будто мои мысли прочитал. — Да, да, влюбился в ту самую, которой теперь нет. — Она была беременна, — сказал я глухо. Однако Сергея вопреки моему ожиданию это нисколько не удивило. Он даже кивнул. — Володька долго не решался сказать родителям о том, что должен жениться на Любе. Она хорошая девчонка. Была… От Володьки я узнал точно, что Сличко здесь. И, кстати, был доволен, что раньше сам угадал. Ну что стоило официально, через газету, что ли, в свое время объявить, что он бежал, что скрывается? Все бы знали. А так… Володька видел его собственными глазами. Они встретились во дворе у Павлины, у тетки Паши. Представляете, тот подлец узнал его. — Что? — поразился я. — Как узнал? Володе же только в этом году идти в армию. Где они могли встречаться? — А они и не встречались. — Но как же он мог его узнать? Если и видел когда-то двухлетнего, как узнать в здоровом парне? — Вы слушайте. Со двора Володя сразу же ушел. Мы тогда тоже работали в ночной смене, и на заводе он мне рассказал. И просил пойти с ним и с Любой к родителям. Утром и пошли. Было то десятого числа. Пришли мы втроем к нему домой. И он с ходу сказал отцу с матерью: женюсь на ней. Без меня бы он так и не решился. И хотя вовсе не такой судьбы я ему хотел, уважать его чувства был обязан. Но знаете, что там произошло? Не поверите. Мать сразу отказала: нет, этому не бывать, если ты не хочешь убить меня. Представляете мое положение? А какого им? Девчонка в слезы — и бежать. Володя — за ней. Но отец сумел вернуть его. Садись и слушай, сказал отец. Мать с бабушкой вышли из комнаты. Мы остались втроем. Я тоже хотел уйти, но мне не позволил отец Володи. Вернее… вернее — не отец. Потому что он первым делом сказал: Володя, сынок, я не отец тебе, не я твой отец. Конечно, я не помню в точности всех его слов. Но это он сказал: сынок, я не отец тебе, я не твой отец… Вот что узнал Володя, вот что узнал Сергей. В сорок втором из плена бежали два наших летчика. Раненые, голодные, больные. Из плавней их переправили на Микитовку, к деду Ивану Легейде, на поправку. Один из них окреп быстро и скоро ушел обратно в плавни, к партизанам, потом перешел линию фронта. Вернулся в небо, воевал. Это как раз он и сказал Володе: сынок, я не отец тебе. Второй летчик болел дольше. Дед Иван с внучкой — она-то и есть Володина мать — с трудом выходили его. А когда он поправился, то невозможно было переправить его в плавни. В общем, Володя — его сын. Дальше случилось так, что кто-то выдал деда Ивана. Пришли полицаи и утащили и деда, и его летчика. Командовал этими полицаями Сличко. Мать Володи, тогда ей девятнадцать было, навек запомнила его. А он, Сличко, тогда же запомнил лицо летчика. Лишь через полгода после гибели своего прадеда и своего отца родился Володя, осенью сорок третьего. На отца он очень похож, да и молодому отцу тогда было столько же, сколько сейчас Володе. Первый летчик, Бизяев, после войны приехал в Новоднепровск повидать своих спасителей, узнать о судьбе друга. И тут, узнав, что случилось, остался. Остался и позже женился на Володиной матери. Немногие знали об этом. И хотя на Микитовке никогда ничто не скрывается, люди умеют, если надо, молчать. Даже Сергей ничего не знал об этом, а он-то всегда считал, что знает все. — Я и сам себя спрашиваю: как бы я поступил на месте Володьки? И не представляю. Он чувствовал, что я не смогу помочь советом. И не спрашивал. Но с Любой после этого не встречался — это точно. Мать у него такая — не послушай он ее, жить бы не стала. Не смогла бы. Вот и все, что я знаю. Мало? А по мне, так лучше бы и этого не знал. До сих пор не могу понять, а не поняв, естественно, не могу объяснить, почему мысль моя пошла совсем в ином направлении, нежели было мне свойственно. То ли Привалов так подействовал на меня, то ли Чергинец своими логичными рассуждениями, но я не мог не задать ему вопросов, которые иначе не дали бы мне покоя. А они, эти вопросы, Сергею понравиться не могли. — Значит, сегодня Володя тоже работал в ночь вместе с тобой? Вы вечером пошли на завод, как обычно, вместе? — Во-первых, — ответил Сергей, — не всегда мы ходим вместе. А во-вторых, сегодня он не работал. Это имеет какое-то значение? — Да, Сережа. Да. Это уже кое-что проясняет. Вернее, запутывает, — я уже сам стал путаться в его и своих рассуждениях. — А почему он не работал? Просил освободить его? — Нет, не просил. Я сам сказал ему, чтоб не выходил на смену. Знаю, что это нарушение. Но какой из него в эти дни работник? Смотреть невмоготу. Да и толку от него никакого. Значит, Володи не было на заводе, когда в одной из заводских лабораторий Люба Сличко приняла яд. Где же он был? Пришла мне в голову такая версия. Володя Бизяев поздним вечером явился в дом тети Паши, чтобы отомстить Прокопу Сличко за гибель отца. Парень вполне мог считать, что пребыванием в тюрьме предатель не искупил вины, что такие, как Сличко, не имеют права жить. Проникнув каким-то образом в дом, он неожиданно для себя стал свидетелем убийства тети Паши — если это все-таки было убийство — и чем-то выдал свое присутствие. Сличко бросился за ним в погоню — убрать опасного свидетеля. И угодил в овраг. Или Володя помог ему туда упасть, может быть, даже схватились они на краю оврага. Версия простая, вытекавшая из вопросов прокурора, объясняющая, между прочим, настойчивое желание Привалова узнать с моей помощью как можно больше у Чергинца. Впрочем, эта же версия может выглядеть и никуда не годной. Тем более что хозяйку дома в Крутом переулке не убивали. — Ты сегодня видел Володю? После работы? — Кто ему мог бы сообщить о смерти Любы, если не я? — А он? Как он вел себя? — Он? — Сергей, удивленный, ответил помедлив: — Он? Не шелохнулся. Сидел как каменный. Я позвал: идем ко мне. Он ни слова в ответ. Я ушел. Но если ночью он побывал в Крутом переулке, он мне расскажет. Только мне, никому больше. Это ваш прокурор понял точно. Вообще Привалов знает больше, чем мы все. Он, видать, сразу связал сегодняшнюю ночь с тем, что было в прошлом, в войну. — Сережа, — перебил я его, — для того, чтобы эта… как ты назвал — Жуйчиха уехала к Сличко, вовсе ведь не обязательно ему самому нужно было приезжать сюда. Правда ведь? Он мог бы ей написать, связаться как-то. Тайком. Мало ли способов. Значит, он приехал с другой целью. — Я об этом не думал. Что вы имеете в виду? — Если бы я знал, что имею в виду! Если предположить, как делает Привалов, что он убил сестру своей жены, которая воспитала, выкормила его детей, то за что? — Если он убил ее? Ну, предположим. О покойнике все можно предположить. Но вот за что, этого уж от них обоих никогда не узнать. Да и надо ли? — Понимаешь, если за то, что она, скажем, хотела выдать его присутствие — в семье-то наверняка знали, что он бежал и скрывается, что никакого срока не отбыл, то слишком отчаянный риск для него — проще было бы снова исчезнуть. Игра была проиграна, а он определенно шел на риск. Значит, была еще какая-то существенная причина. — Не будем сейчас гадать, — предложил Сергей. — Пускай прокурор допросит Жуйчиху. Жуйко — это ее девичья фамилия. По первому мужу — Курань. Он воевал, погиб на фронте, а она тут… Ладно, черт с ней. Ничего особенного она, конечно, не расскажет, но Привалову поговорить с ней нужно. Главное — знает ли она, с кем он тут встречался? Она-то с ним встречалась — кто ж может сомневаться.4
Не знаю, нуждался ли прокурор в нашем совете — я подробно пересказал ему разговор с Чергинцом, — но поступил он именно так: пригласил на беседу Галину Курань. К тому часу было установлено следующее. Никакого прощального письма Люба Сличко не оставила. Девчонкам в лаборатории она ничего никогда не рассказывала ни об отце, ни о том, что произошло у Бизяевых. Никто из тех же девчонок не подозревал о ее беременности. Во всяком случае, так явствовало из их бесед со следователем. Любины сестры, Вера и Надя, которые двое суток тому назад ушли из дома, с того дня и не бывали в Крутом переулке. Никаких ссор между отцом, совершенно неожиданно для них вернувшимся из небытия, и теткой они не видели и не слышали. Так же, как и Софья. О том, что отец вне закона, сестры якобы не знали. Экспертиза подтвердила, что тетю Пашу никто не убивал. Однако прокурор предложил в интересах дела — как он сказал, временно, — считать, что ее задушили. Для чего это ему понадобилось, понять я не мог, но обязан был, коль скоро вник в дело, считать, как все. Галина Курань — чуть не назвал ее, как Чергинец, Жуйчихой, — не изображала, по словам прокурора, из себя мученицу, держалась превосходно. Суть ее ответов сводилась к отрицанию всего, что теперь могло быть связано со Сличко. По ее показаниям, она узнала о его присутствии в Новоднепровске лишь сегодня, то есть наутро после его смерти. Будто бы в десять часов утра в магазин, который все еще был закрыт на переучет после кражи, пришел брат Галины и сообщил сестре новость, поразившую ее. Иначе говоря, она доказывала, что не виделась со Сличко с сорок пятого года. Прокурор этой женщине не поверил с первого же слова. Вероятно, ему не составило бы труда уличить ее во лжи. Но он не стал этого делать, может быть, посчитал преждевременным. А не верил он ей с самого начала еще вот почему. Она прекрасно знала, что укрывательство уголовных, а тем более военных преступников — дело уголовно наказуемое. Зная об этом и еще в сорок четвертом и сорок пятом укрывая предателя, она заготовила себе нечто вроде спасательного круга — беременность. Суд принял во внимание ее беременность и осудил тогда, в сорок пятом, лишь условно. Выходило, что она, еще совсем молодая, сумела рассчитать наперед и уйти от ответственности. Это обстоятельство соответственно настроило прокурора перед беседой с ней. В ходе беседы он задал Галине вопрос, которым вроде бы и не планировал загнать ее в тупик, но с которым, очевидно, связывал какие-то свои планы. Он поинтересовался, где ее нынешний муж. Больше, чем ее, этот вопрос удивил меня. Галина же спокойно ответила, что ее муж поехал вчера к своему сыну от прежнего брака, на Яруговку, и утром обещал быть дома. На вопрос о причинах появления Сличко в Новоднепровске, то есть, конечно, о тех, какие она могла бы предположить, — прокурор ведь понимает, что истинные причины ей не могут быть известны, раз она даже не знала о пребывании Сличко в городе, — так вот на этот вопрос она ответила без запинки и совершенно определенно: «Не знаю». А прокурор полагал так: если человек предварительно не думал о чем-то, а его попросили высказать предположение, он станет размышлять и не спешить с ответом, если же человек знает, о чем может пойти речь, он заранее приготовит ответ. Наверняка так и было в этом простейшем случае. Он задал ей еще вопрос: «В сорок пятом кто мог сообщить милиции, что Сличко укрывался у вас?» Тут Галина, напротив, но поспешила с ответом, но прокурор снова разгадал немудреную хитрость: она ждала наводящего вопроса. Привалов пошел ей навстречу: «Могла ли этим человеком быть свояченица Павлина Осмачко?» — «Могла, — быстро ответила Галина, но, чуть помедлив, добавила: — И другие тоже могли». Наверняка она считала, что пустила прокурора по следу, который был ей выгоден. Интересно, а знал ли прокурор действительного человека, сообщившего о Сличко в сорок пятом? Он мягко уклонился от ответа, когда я спросил его. Так или иначе Галине он не поверил. Привалов понимал, что версия о желании отца на старости лет повидать после долгой разлуки дочерей неприемлема в данном случае. Но он должен был проверить и ее. Он и установил, насколько было возможно в столь короткий срок, что никаких вестей дочери от отца не имели до того часа, когда он заявился в дом, который ему не принадлежал никогда. И появление его закончилось смертью женщины, вырастившей, вскормившей четырех племянниц. Что же все-таки привело его в Новоднепровск? Что заставило устранить свояченицу? У меня же возник к Привалову вопрос, совершенно естественный теперь, после его знакомства с Галиной Курань. — Может быть, они что-то не поделили? — спросил я. — Может быть, Сличко где-то припрятал какие-то ценности, награбленные во время оккупации? Припрятал так, что место знал только он один. По его убеждению. Но оказалось, что знала и свояченица. И перепрятала. Он своего клада не обнаружил и догадался по каким-то приметам, что только она могла знать место. Он и не собирался показываться в доме, рассчитывал забрать клад и тут же уехать, ни с кем и не встречаясь. — О какая фантазия у нашего доктора! — Приваловскую колкость я пропустил мимо ушей, и он добавил примирительно: — В нашем деле фантазии могут быть только гипотезами, основанными на фактах. К тому, что вы сочинили, можно прибавить, например, и такое наслоение: о кладе узнала или давно знала и Галина. — В таком случае он должен был задушить и ее? — откликнулся я. — Однако нельзя исключить, что Галина отвела от себя подозрения, направив гнев Сличко на свояченицу. — Прокурор так активно включился в игру, что я понял: фантазии подобного рода действительно должны хотя бы в какой-то степени опираться на факты. Так что пора было вернуться к реальности. — Что вы намерены с ней делать? — С Галиной? Пока ничего, — ответил прокурор. — Вернее — по этому делу ничего. У ОБХСС свои дела с ней. Видите ли, в нашей истории все в таком состоянии, что даже следить за этой Галиной ни к чему. Но если мы установим, что она помогала Сличко делать какие-то дела в Новоднепровске — установим и сможем это доказать, — то она понесет наказание по суду за укрывательство государственного преступника. Получит то, от чего ускользнула в сорок пятом. Потому что она-то знала, что он тогда бежал. — Хоть он и преступник, вы разве не должны установить, кто его все-таки убил? — Должны, должны. Мы же этим и занимаемся, — ответил Привалов. Но сказано это было таким тоном, каким обычно говорят: «Да какая разница?» Однако прокурор не скрыл от меня своих предположений, тем более, что его версия, как ни странно, в чем-то совпадала с моей. — План его мог быть таким, — объяснил прокурор. — Ликвидировав свояченицу, он намеревался сразу же спрятать тело. Может быть, в овраге. В такую ночь, в такой дождь ему бы удалось. Как мы уже установили, он не успел скрыть следы. Не успел даже подушку убрать. Кто-то вошел. И увидел. Началась погоня. Победил тот, другой. Криков, шума никто не слышал. Глухая кирпичная стена, дождь, ветер, темень. До оврага семьдесят метров пустыря. И вечный грохот «Южстали». Кто это был? Мужчина? Женчина? Один? Двое? Честное слово, в ту минуту я вновь подумал, что прокурор продолжает игру, бессовестным образом все сочиняя. Но он говорил внешне вполне серьезно, и мне ничего другого не оставалось, как участвовать в его игре. А, может быть, так и ведутся расследования, что в какие-то моменты порой и впрямь напоминают игру? Невеселые это игры. — Да, вы правы, двое сумели бы справиться с ним, — сдержанно сказал я, чтобы он ни в коем случае не догадался о мыслях, только что посетивших меня. Прочти он их, и, как знать, не завершилось ли бы на этом мое участие, чем я уже по-настоящему начинал дорожить. — Смотря, кто это был бы. Он и с двумя противниками вступил бы в борьбу — крепок был здоровьем. И злой волей своей. — А вы не исключаете, что этим вторым могла быть Галина? — Чтобы говорить о втором, не помешало бы знать первого, — на этот раз добродушно усмехнулся прокурор. — Не исключено. Если то была она, вряд ли она совершит ошибку, которая выдаст ее. Хитрая женщина. Но этот клубок мы все равно распутаем, хотя пока мы знаем лишь меньшую часть того, что произошло. Этот Сличко получил свое. И у нас есть все основания предположить, что произошел несчастный случай. Иначе говоря, в состоянии опьянения он просто упал в овраг. — Вы готовы сделать такой вывод, чтобы не искать, кто его убил? — все еще не верил я. — Я бы так и поступил. Если бы, конечно, имел право. У меня нет доказательств, но вполне возможно, что и моего старшего брата в сорок третьем году погубил этот тип. Зато у меня есть доказательства участия этого мерзавца Сличко, — голос Привалова неожиданно задрожал, — в других трагедиях. Так что он получил свое. И тетю Пашу он мог задушить, что бы там ни показывала экспертиза. А что касается девчонки, — голос его мягче не стал, и он по-прежнему смотрел на меня в упор, так смотрел, словно гипнотизировал меня, — она могла отравиться по той же причине, по какой две ее сестры, более опытные в житейском смысле, ушли из дома, в котором появился отец. Могла ведь, могла. Привалов замолчал и резко отвернулся к стене. То ли он слишком многое сказал мне, то ли недоговорил чего-то? Я понял, что не следует спорить с ним. Все доводы, какие я мог бы ему привести, он наверняка и сам себе приводил. Помолчав минуту, я все-таки сказал: — Но самая старшая не ушла. Ему будто нужен был хоть такой, хоть самый простенький вопрос, чтобы прийти в обычное состояние. Он вздохнул коротко, решительно и обернулся ко мне: — Хотя эта самая старшая, Софья, в ту ночь была на работе, с шести вечера до шести утра, как и вы, дежурила в больнице, я ей не верю, ни одному ее слову не верю. — Да я не об этом, — возразил я. — Должна же существовать причина, которая заставляла ее оставаться в доме, не уходить из него, как те две сестры? — Причина может быть и та, что все люди разные. Даже дети предателя. — Или тем более дети предателя. Ни в чем не виновные, — вставил я, но Привалов пропустил эту реплику мимо ушей. — Была причина, — продолжал он. — Завещание тетки. Нотариус уже ознакомил меня с ним. С этим любопытным документом. Любопытным не столько потому, что тетка, в случае своей смерти, завещала весь дом одной, именно этой своей старшей племяннице. Завещание любопытно своей датой. Покойная тетушка явилась в нотариальную контору как раз в то утро, когда было обнаружено, что ограблен магазин на Микитовке. Если верить расчету вашего друга Чергинца, Сличко уже был здесь. — Тетка предвидела свой скорый конец? — ужаснулся я. — Не обязательно, — прокурор ужо был совершенно спокоен. — Понимаете, — она даже договорилась с нотариусом: придет на днях, чтобы вообще переписать дом на Софью. Но когда — на днях? Когда Сличко уедет? Или когда его заберет милиция? Или кто-то его убьет? Заметьте, что Вера и Надежда — про младшую я не знаю — понятия не имели, что дом уже определен старшей сестре. А Софья об этом знала. — Как же те две объясняют свой уход? — Одна тем, что боялась потерять то ли жениха, то ли еще не жениха, то ли уже не жениха. Вторая — ссорой со старшей сестрой, но не из-за дома. И обе — присутствием отца. Я с ними не встречался, все это они говорили следователю. А разрешение на похороны я дал. — Уголовный розыск работает, прокуратура работает. Ну для чего вам я еще нужен? — Доктор, истину надо установить. И ваша помощь, поверьте, очень нужна. Скоро вы сами в этом убедитесь. — Мы с Сережей должны устанавливать истину? — спросил я. — Ну почему вы не хотите меня понять? — вопросом ответил мне прокурор. Насколько я знал, подобная манера разговора была ему чужда, чаще всего он был точен. — Если бы мы имели дело с уголовниками, рецидивистами, я бы вас ни о чем не просил и ни во что не вмешивал. Но обычно люди, пусть даже и запутавшиеся в чем-то и совершившие что-либо нехорошее — слово «преступление» пока произносить не буду, — легче открывают душу в неофициальной обстановке, чем в кабинете прокурора или следователя. А нам сейчас важнее узнать причины. Чем все кончилось, и так ясно. И здесь вы с Чергинцом незаменимы. Но от сестер и Чергинец ничего не узнает, — добавил он. — Естьдругая дорога. — Вероятно, — ответил я. — И Чергинец вам поможет, что-нибудь придумает, но я-то тут при чем? — Доктор, давайте заключим договор, — более чем серьезно предложил Привалов. — Вы потерпите и сделаете все, что можете, чтобы нам помочь. А я даю слово, что со временем объясню вам без малейших недомолвок, почему втянул вас в эту историю. В историю, — повторил он и протянул для рукопожатия руку. — Ладно. Согласен, — сказал я. Вообще-то я хотел сказать проще: «Ладно, черт с вами». Но решил, что еще успею нагрубить Привалову. В ту, например, минуту, когда все наши конструкции рухнут, и останемся мы перед зияющей пустотой.5
— Ну что, государственный человек, придумал что-нибудь новенькое для своего реферата? И часа не прошло, как я снова нарушил одиночество Сергея. Но теперь-то я понимал, чего хочет от нас Привалов. После нашего завтрака Сергей спать не ложился. Я пересказал ему разговор с прокурором. Он понял все мгновенно. — Ладно, ясно, — согласился Сергей. — Время у меня есть, ничего, что потом в ночную — сейчас все равно не уснуть. Поехали к Малыхе. Это верно, что с теми сестрицами я и говорить не стану. На автобусах с пересадкой отправились мы в речной порт. Сидя у окна и поглядывая на прохожих, Сергей внезапно сказал: — Доктор, я тогда не открыл вам, уж как-то вы спрашивали с подтекстом. Володьки Бизяева дома ночью не было… с десяти вечера его не было до трех ночи. — Родительская информация? — Нет, они как раз думали, что он у себя в комнате. Да, ситуация. Выходит, тем вторым человеком или даже первым мог быть и девятнадцатилетний Владимир Бизяев, которому родители не разрешили жениться на младшей дочке Сличко. Собственно, одним из двоих, если их, конечно, было двое, мог быть кто угодно. Вот только вряд ли первому попавшемуся взбредет в голову часов в одиннадцать вечера тащиться в Крутой переулок, мрачный и неуютный, да еще по такой погоде. Значит, нужно искать людей, которых что-либо привязывало к дому Павлины Назаровны Осмачко. Пока что алиби имела только Софья, пребывавшая на ночном дежурстве в больнице. И вдруг невероятная мысль поразила меня: а почему там не могла быть сама Люба Сличко? Смена в лаборатории тоже начинается в двадцать три сорок (ловлю себя на том, что время я уже называю профессионально — не одиннадцать вечера, а двадцать три часа). Спрашиваю Сергея: — Сколько времени ты тратишь на дорогу? Когда, допустим, идешь в ночную смену? — Полчаса. Если автобусом еду с Октябрьской площади. А если от ЦУМа… тут наискосок идти, через развалины, ночью неприятно, то минут двадцать пять. Но это до завода. А там еще до цеха. Вполне могло быть, что именно Люба увидела, как отец расправляется с теткой. Потрясение было столь велико, что она не вернулась в дом: помчалась на завод, к людям. И ни с кем ничем не поделилась? Нет, это пустая фантазия. Тем более, что я по-прежнему верил показаниям экспертизы, что тетку Павлину не убили, но, повинуясь решению Привалова, в рассуждениях исходил из противоположного. Тем не менее мыслью о Любе я поделился с Сергеем, чтобы и от него услышать опровержения. — Вы их не знаете, доктор. Если б она увидела, то одно из двух, нет, из трех. Или бросилась бы защищать тетку. Да, она такая была. Или — обморок. Или… побежала бы к Бизяевым. Да, да, несмотря на то, что они ее… ну, скажем, не приняли к себе. Одно из трех. — Значит, не она была тем вторым человеком, о котором говорил прокурор. И с Володей она не могла там быть, раз они не виделись столько дней? — О Володьке только и думаю. Его, я говорил, не было дома с десяти вечера до трех ночи. Это я точно знаю. В десять я зашел к нему домой, я часто иду на завод раньше, чем смена. Он проводил меня до ЦУМа. Я разрешил ему не выходить в смену, но в два часа ночи его видели в цехе. Не я, другие. Пешком от его дома до цеха — чуть ли не час ходу. Туда и обратно — минимум полтора. Зачем он ходил? Виделся с Любой? Вряд ли, он бы не посмел. Шел, чтоб встретиться, но не посмел? Только я прошу вас: его мы пока не будем трогать. С ним разговор — в последнюю очередь. Идет? — Конечно, — согласился я. Володю я знал как молчаливого и достаточно самостоятельного человека. Он преклонялся перед Сергеем, был предан ему. Сергей в его глазах был непогрешим во всем. Жизнь Чергинца принадлежала стали и людям, правильнее, может, — людям и стали. И точно так хотел жить Бизяев, да и вся чергинцовская бригада. Автобус сделал круг по Портовой площади — тоже новой, ухоженной, архитекторами придуманной не хуже, чем гордость города, Октябрьская. Автобус еще не остановился, когда Сергей вдруг вскочил и, расталкивая пассажиров, бросился к выходу. Я, естественно, не последовал такому примеру. Из автобуса он вылетел первым. — Малыха! — закричал Сергей, выбежав на проезжую часть. — Давай сюда! Когда одним из последних пассажиров и я выбрался из автобуса, рослый красивый парень уже шел к Сергею. Он и правда был настолько красив, что даже в потертом ватнике выглядел киноактером. Или капитаном дальнего плавания, коль скоро мы находились в порту. — Надо потолковать, — предложил Сергей. — Сейчас? — спросил Малыха. — Я ж на работе, — и он махнул рукой в сторону портового двора. Там, откуда он подошел к Сергею, с автокара на грузовик ребята-речники переносили какие-то ящики. — Ладно. Где твое начальство? — спросил Сергей. — Что случилось? — не вытерпел Малыха. — Да ты сам знаешь. — А… это. — Парень устало и обреченно вздохнул. — Но я-то зачем? Верку уже вызывали. Даже два раза, сперва в цехе, — из-за Любы, а потом приезжали за ней. Наверное, и еще… Сергей решительно перебил его: — Где твое начальство? — Вон оно. — Малыха снова махнул в сторону грузовика. Работой руководил низкорослый крепыш в синем габардиновом плаще. К нему мы и направились. А он — к нам навстречу. Остальные в нашу сторону и не глянули, занимаясь своим делом. Крепышу и протянул Сергей свою депутатскую книжку. — Я тебя и без того знаю, — сказал крепыш, который испугался вроде не на шутку. — А в чем дело? Чего это чучело натворило? Малыха, ты чего опять натворил? — Пока еще ничего, — успокоил крепыша Сергей. — Но если будет врать, то натворит — что и не расхлебать. Отпустите его на час. Крепыш подумал, прежде чем ответить: — Хорошо. Но если он… — Если виноват — свое получит, — сказал Сергей. Обеспокоенному, растерявшемуся Малыхе он бросил: — Веди домой. Мы пошли в сторону неказистых бараков. Недолго им еще оставалось торчать здесь бельмом: по проекту застройки Портового района уже в этой семилетке уступят бараки место башням с лоджиями. То-то будет вид с какого-нибудь восьмого этажа — на порт, на реку, дальше на плавни. Малыха занимал комнатенку в бараке, который отапливался портовой котельной. Комнатенка стала еще более тесной от вещей женщины, недавно перебравшейся сюда. Сразу было видно, что ее вещи не успели привыкнуть к своим новым местам: лежали невпопад. И еще удивил меня сырой воздух, хотя сами мы пришли из моросного дня. — Ну начнем, — сказал Сергей, усевшись к столу, приткнутому в угол. Локти он положил на стол, подбородком уперся в кулаки и уставился почему-то в стену, словно собираясь на ней читать ответы. Вышло так, что мы с Малыхой видели только спину Сергея. Зато я мог видеть лицо хозяина комнаты. — А с чего начинать? — спросил Малыха. Голос его выдавал неуверенность в себе. — Что ты делал этой ночью? Расскажи все подряд, а мы послушаем. Начинай… ну с восьми часов вечера. — С восьми? Серега, ну, зачем? Ты хоть объясни. В чем меня подозревают? — спрашивая, Малыха с надеждой заглядывал в мое лицо, словно искал во мне спасителя или хотя бы заступника. — Тетку Павлину я не душил. — А откуда ты знаешь, что ее задушили? — быстро спросил Сергей, не оборачиваясь. — Да Верка же говорила. — Ладно. Если ты не душил, то кто ее душил? — Откуда мне знать? — Ты доктора не стесняйся, он тебе не враг. Если нужно будет, еще и спасет тебя. И я тебе помогу, Гриша, если ты сам не наломаешь дров. Что ты делал ночью? С восьми вечера. — Ну, Верку ждал, — смирился Малыха. — Дождался? — Нет. Сегодня утром она только пришла со смены, когда все уже случилось. Знаешь, Серега, она в последние дни твердила, что я ее брошу из-за отца. Аж зло брало. Чего ж я ее брошу? Раз так получилось — чего уж теперь? Тебе скажу: жениться на ней я и не собирался. И она знала. А бросать не хотел. Знаешь ведь, как решиться на жену? Я ж потом бегать по сторонам не стану. Но раз так сошлось — женюсь. Она не знает пока. Я не был уверен, что Малыха терпеливо поджидал свою подругу. Меня насторожила его фраза: «Аж зло брало». Он считал: вечером она должна прийти. А она, оказывается, пришла утром со смены. Так он сам сказал. Выходит, он не знал, что она в ночную смену вышла. Мог же Малыха не усидеть в своей комнатенке? Побежать искать ее? — Дальше, — потребовал Сергей. — А чего дальше-то? Проспал всю ночь. Верка утром разбудила, говорит: Люба отравилась, да дома еще несчастье. Мы-то сейчас в порту мало работаем. Навигацию почти закончили, консервируемся до весны. До следующей навигации будем прохлаждаться. Если уж только что-то срочное — как сегодня. — Значит, ты спал? А кто-нибудь может подтвердить, что ты спал ночью? Раз Верки не было — с кем-то ты мог же спать, а? — Серега, да брось ты, я с этим все, завязал. — Ну, может, кто видел, как ты в туалет бегал ночью? Нужно, чтобы тебя видели здесь, в порту. Не усек еще? — Да кто ж тут по ночам будет кого сторожить? Охота кому была по порту ночью шастать. — Ладно, — только теперь Сергей повернулся к нам. — Главное не это. Что ты знаешь — как сестры жили меж собой? — Думаешь, мне до их свар? Знаю, что все они друг дружку ненавидели. Одна Люба… все пыталась их примирить. — Ненависть-то растет не на голом месте. — Если хочешь правду — из-за меня, — выпалил Малыха. — Какое сокровище! — Сергей присвистнул точно так, как обычно Привалов. — Было б из-за кого! Малыху даже будто и не задела издевка Сергея. Он добавил: — Из-за Надькиного Елышева тоже. — Кто такой Елышев? — наконец-то получил повод подать голос я. — И я не знаю, — заметил Сергей. — Старшина-сверхсрочник из Красных казарм, — пояснил Малыха. — Понимаете, я уж год с Веркой хожу, с той осени. Вдруг Сонька как-то мне говорит: брось ты, мол, Верку, скоро я одна стану хозяйкой всего дома, я их всех выгоню, будем с тобой жить. Здрасьте, со мной, значит. Сонька — красивая, конечно, но ум у нее змеиный. Я посмеялся, да Верке рассказал. Что там было… Такого они друг другу наговорили! — И этому Елышеву, что с Надькой гуляет, она предлагала то же самое? — спросил Чергинец. — Ну да. Только это вы у него самого узнавайте. Потому как то, что со мной, еще зимой было, ну в феврале. А с Елышевым — недавно. Уже отец их объявился там. В войну он, говорят, сволочью был. Таких тюрьмой не вылечить. Зверем ушел — зверем и пришел. Людям на глаза не казался, в доме никого не терпел. Что сдох он — туда и дорога. Вот и Елышеву отец этот скулу чуть не свернул. — Даже так? — вырвалось у меня. Еще один замешан. И Сличко не побоялся со старшиной связываться? Ведь показываться ему не должен был. — Где Надька живет? — спросил Сергей. — Ушла к Павлу Ивановичу. Судя по последовавшей реакции Сергея, Малыха словно задался целью нас поражать. — К Павлу Ивановичу? — впервые не сдержавшись, воскликнул Сергей. — К нему? Как смогла? А Елышев твой? — А чего он? На кого ему Надька? За ним такие женщины бегают! Одна врачиха — закачаешься! Да и другие… Смутное подозрение шевельнулось в моем сознании. Но лишь гораздо позже я понял, в чем дело. Сергей теперь обратился ко мне: — Новая фигура — Павел Иванович, но вы про него хоть что-нибудь наверняка слышали. После войны его судили. Бывший… полицай не полицай, а так, холуй-прихлебатель. Прикинулся душевнобольным. Посидел лет пять — освободился. До сих пор прикидывается. И Надька ушла к нему! Вот она-то уж точно рехнулась. Сергей повернулся к Малыхе: — Гришка, ты — туз. Только упаси тебя… нет, не бог, а хотя бы черт… Ты ж нам в одном наврал. Не было тебя дома. Как я это понял — мой секрет. Но мы тебя пытать не будем. Пока что. Ладно. Сам потом придешь рассказать все, как было. Только не опоздай. А сейчас иди, скажи своему начальству, что поедешь с нами. Так надо. Он тебя отпустит. Пока мы ждали Малыху на автобусной остановке, Сергей делился со мной своими выводами: — Тут важны два пункта. Первый — Малыхи дома не было. Одно из двух: или пошел объясняться с Веркиным отцом, или пошел объясняться со своими портовыми бабами из-за Верки. Тут новеньких нелегко встречают. Хотел бы ему поверить, что он завязал. Второй пункт — Петрушин. Это Павел Иванович, о котором мы говорили. Довоенный дружок Сличко. Уловили? Но он нам не по зубам. Тут дело самого Привалова. А вот с Елышевым вы поговорите сегодня же, поедете с Малыхой. А я прямиком к Привалову — насчет Петрушина. И как я сразу не подумал. А потом спать. Я ж с ночи, если б не снова в смену, я бы сон забыл. Какой тут сон! — Сергей даже взмахнул могучей рукой. — Вы хоть понимаете, почему я влез в это дело? — Почти. — Мне важно спасти Володьку. Нет, не от суда — если он виноват. Как человека. От его же совести. Люблю его. Поверите ли, как брата. Наших младших у нас с вами нет теперь. Я ведь для вас не младший? Плохо жить без старшего брата, плохо и без младшего. И Володька мне как брат теперь. Дрожу над ним. Даже когда в футбол играет. Чтоб травму не получил, дрожу. На стадион ходить перестал. Да, так вот… Вон и Малыха. Он уже за себя побаивается, потому Елышева выпотрошит.6
Я ожидал увидеть парня такой же яркой внешности, как Малыха. Вышел же к нам, за КПП, чистенький аккуратный старшина, роста ниже среднего, ладно скроенный, в целом симпатичный, с жестким взглядом. Завидев Малыху, он в удивлении растянул улыбку, поспешил к нам, протянул крепкую руку с длинными пальцами. — Вот этот товарищ, он врач, — сказал Малыха, — видел в морге труп Надькиного отца, ну и Веркиного, понятно. Мы с Малыхой уговорились, что именно так он начнет: важно было увидеть, как станет реагировать на известие о смерти Сличко старшина. А тот равнодушно ответил: — Значит, он умер? Послушаем. Но я ему не поверил: было ясно, что о смерти Сличко он уже знал. Знать он мог, и не побывав сам ночью в Крутом переулке. Мог узнать — уже полдня ведь прошло — от кого-то, от той же Софьи. Но если узнал, то быстро. Значит, ему надо было об этом узнать? Или кто-то поспешил ему сообщить? — Время у тебя есть? — спросил Малыха и, не дожидаясь ответа, предложил: — Пошли на кладбище, посидим. «Подходящей будет обстановка для беседы», — подумал я, но здесь поблизости действительно уединиться больше негде. Елышев не возражал. Он вообще вел себя так уверенно, словно ничего не боялся. А, может, хотел показать, что ничего не боится? — Так в чем дело? — начал он сам, когда мы уселись на первой же от входа скамейке, спрятавшейся в голых кустах. — Меня и тебя могут подозревать в убийстве их отца, — быстро сказал Малыха. Я обратил внимание на эту фразу. Насчет нее мы не улавливались, только насчет самой первой, и поэтому Малыха вполне мог упомянуть и о тетке Павлине, парень ведь знал от Веры, что ее тоже убили. Елышев же как-то неловко пожал плечами, словно пытался изобразить недоумение или сам себе удивился, что не нашел подходящего слова. Он потому и спросил, лишь бы что-то спросить: — Сразу обоих подозревают? — И в раздельности тоже, — буркнул Малыха. — Так что давай не темнить. Дело не только в том, что он умер. Черт с ним. Дело в том, что он тайно приехал. Верка мне утром рассказала, да я верить не хотел, а они вот подтверждают, что его приговорили в сорок пятом к расстрелу, а он сбежал, скрывался столько лет. — Во какой! У меня солдаты в самоволку сходить не рискуют, а он… — Елышев решил пошутить, но обстановка не располагала, и Малыха перебил его: — Ты отвечай на вопросы. Лучше ведь, когда без протокола? — А кто знает? — уклонился Елышев. — Мне бояться нечего. Однако он о чем-то напряженно думал, замешательства скрыть не мог, и я это видел. И он видел, видимо, почувствовал, что я не верю ему. Елышев пытливо посмотрел в мое лицо, отвел взгляд, снова посмотрел. — Расскажи, как провел прошлую ночь, — предложил я, глянув на часы; они отмерили уже половину пятого — нет, я ведь уже почти профессионал, так что шестнадцать тридцать. — Имей в виду, что все можно легко проверить. Но для начала знай вот что. Прокурор хочет, чтобы прежде, чем до вас до всех следствие официально доберется, он убедился в вашей непричастности. Это и следствию поможет, и ему, и вам. Поэтому мы здесь. Теперь отвечай. — В части меня ночью не было. — Точнее, пожалуйста. — В половине седьмого вечера я ушел. Прибыл в часть к семи утра, как положено. Это вы можете проверить. Остальное — никак не можете. — А кто знает? — ответил я теми же словами, какими он Малыхе минуту назад. — Придумай… что-нибудь пооригинальнее. — Был у знакомой. В семь пришел к ней. — А в полседьмого утра ушел? — Почему в полседьмого? — не то удивился, не то забеспокоился Елышев. — Ты же наверняка шел по прямой или ехал кратчайшей дорогой. Из части ушел в полседьмого вечера — в семь был у нее, а в часть вернулся в семь утра — значит, от нее вышел в полседьмого. Так ведь? Смутное подозрение, которое появилось у меня тогда, когда Малыха у себя дома упомянул о елышевской врачихе («За ним такие женщины бегают! Одна врачиха — закачаешься!»), начало превращаться в догадку. Я этого сверхсрочника-старшину никогда раньше не видел, но о существовании некоего старшины знал. И если бы этот Елышев оказался тем самым старшиной, о котором я слышал, то то-гда я уже сейчас, можно считать, знал бы, где он мог находиться прошедшей ночью. Елышев снова мельком взглянул в мое лицо и столь же поспешно отвел взгляд. Мне вдруг показалось, что и он хоть меня и не видел прежде, а о моем существовании знал; поглядывал он на меня так, как смотрят на человека, о котором кое-что знают. — Может, так оно и было, как вы говорите, — сказал он. — Понятно, — ответил я. — Но на официальном допросе тебе придется указать адрес этой знакомой. Важно, что ты был у знакомой. Всю ночь, — я решил не открывать ему, что о чем-то догадываюсь, то есть решил пока и не проверять, правильна ли моя догадка, ведь в части-то он не один-единственный старшина. Чтобы увести его в сторону, я сказал: — Не исключено ведь, что твоя знакомая в ту ночь обитала на Яруговке, — тем самым я намекнул ему на Софью, которая, как и я, дежурила ночью в нашей яруговской больнице. Намекнуть на Софью было полезно со всех точек зрения. Думал-то я в тот момент совсем о другой женщине, но ведь и Софья — врачиха, так что и Малыха ничего не должен был понять. — Почему? — Елышев вновь неловко поежился. — Почему на Яруговке? Значит, Софья ему сразу в голову не пришла. И тут вмешался Малыха: — Давай начнем с Надьки. Ты ведь не собирался на ней жениться? Елышев кивнул в знак согласия. — Как и я тогда на Верке. А что у тебя дальше было? В этот момент что-то в Елышеве дрогнуло. Он принял решение. — Хорошо, пусть так. Мне, правда, и самому противно вспоминать. Меня не было две недели — по степи гонялись, учения. Приехали. Надька не приходит. Ждал день, другой, третий. На пятый пошел к ним домой. Днем я там не бывал ни разу. Дома была только Сонька. Спрашиваю про Надьку. А она смеется. Я не сразу и допер, в чем дело. Мне казалось, что Елышев рад случаю скинуть тяжесть с души. — Последний раз, когда с Надей виделись, поссорились. Я ей тогда сказал, что никогда на ней не женюсь. Она меня приревновала к одной, с чего и пошел разговор. Повод у нее, честно, был, но я и на той не собирался жениться. От этих его слов моя догадка только крепла. Нечто подобное я и слышал про того старшину. — Спрашиваю о Наде, а Сонька смеется. Потом и говорит стерва: в больницу, мол, Надька попала по моей вине и сейчас в больнице — ну в тот день была, оттого ко мне и не приходила. «Ты ж на ней жениться не хочешь, вот и пришлось ей ко мне в отделение лечь», — так прямо Сонька и сказала. Я аж закачался: от злости на Надьку, на себя, на эту Соньку. А она вдруг меня обнимать, целовать, уговаривать: «Ты Надьку брось, скоро я хозяйкой тут буду, всех выгоню, будешь ко мне ходить». Не знаю, как кто поступал в таких случаях, а я… Сколько-то продержался, потом не смог. Красивая же она. Нет, не думайте, не на хату позарился. Мне бабы и не такое предлагали. В общем, я, конечно, по-вашему, сплоховал. Только я ведь не бревно, — Елышев как-то жалобно, что ли, улыбнулся. Жалобно или жилковато. И мельком глянул на меня. Но я терпеливо ждал, заговорит ли он о своей встрече с отцом Софьи. Мы с Малыхой еще раньше договорились не вспоминать об этом ни в коем случае. Не было никаких доказательств, которые бы подтверждали виновность Малыхи или Елышева. Но в том, что оба они темнили, я не сомневался. — Что дальше? — спросил я наконец. — Ты виделся с Надеждой? — Ну, да. Они потом друг другу глаза чуть не выцарапали. — Но ты не вмешивался? — Зачем мне? Да и что я мог? — А до тебя они жили в мире, в согласии? — Они? — Елышев махнул рукой. — Надька все время жаловалась, что с сестрами жизни нет. — Ты припомни: как ты думаешь, что имела в виду Софья, когда говорила, что скоро станет хозяйкой — единственной — дома? Ты думал об этом? — Да зачем мне? — быстро ответил он. — Мне-то какая разница? Вполне вероятно, что ни Малыха, ни Елышев не придали тогда значения этим словам Софьи. А если и придали, то теперь ни за что не признаются. Им ведь известны обстоятельства, приведшие к тому, что Софья действительно оказалась единственной, полновластной хозяйкой дома в Крутом переулке. Но Елышев почему-то упорно не хотел говорить о самом для нас главном — о Сличко. Возможно, он опасался, что его стычку со Сличко могут превратить в нечто большее, чем просто драка. — И никаких поправок ты не внесешь в свой рассказ? Вот тут Елышеву выдержка изменила. Он вопросительно взглянул в лицо Малыхи и так же быстро отвел взгляд. Елышев и Малыха. Оба ли они были там? Похоже, что оба. Были оба, но не сговорились, как вести себя дальше? Или не подозревали, что оба находятся в одной точке? Или лишь один из них видел другого? Кто кого? Елышев Малыху? По их нынешнему поведению — это самое правдоподобное. А если наоборот? Если Малыха Елышева? И потому так охотно привел меня сюда? Мы проводили старшину до КПП, спустились с Малыхой до ЦУМа, и там я оставил его, нисколько не сомневаясь, что Малыха, простившись со мной, побежит назад, в Красные казармы.7
Прокуратура тогда еще не перебралась в новое здание напротив ЦУМа, а продолжала располагаться в обветшавшем двухэтажном доме за сквером, в квартале до Октябрьской площади, в самом центре старого города. Как раз по пути на Яруговку, в больницу. Поэтому, расставшись с Малыхой, я и заглянул к Привалову. Было уже шесть часов вечера. Привалов расхаживал по кабинету, длинному и мрачноватому. — Я звонил в больницу, чтоб вас отпустили ко мне, — сразу сообщил он. — Поедем к тому Петрушину. Я вас жду. Чергинец мне кое-что прояснил, даже больше, чем я рассчитывал. Он так беспокоится за своего подручного, что готов землю рыть — все раскопать. И знаете, дело приобретает несколько странный, я бы сказал, характер. Уголовный розыск выполнил свою работу, собрал все сведения, какие мог, и так как все связано с государственным, а не с обычным уголовным преступником, передает дело нам, в следственный отдел прокуратуры. Не хотел я такого оборота. Ни к чему он нам. Едем? По дороге расскажете о своих успехах. Я понимал его. Это дело воскресило в его жизни — как реальность сегодняшнего дня — образ старшего брата. Парня героической жизни и не менее героической смерти: средь лютой зимы его, раздетого догола и привязанного к бочке, оккупанты возили на тачанке по притихшему Новоднепровску — в устрашение всем. Не мог забыть об этом никто в семье Приваловых. Старший по заданию горкома комсомола остался тогда в городе, не уехал со всеми на Урал, туда, где на оборонном заводе директорствовал отец. Старший, которому было тогда семнадцать. Прокурору сейчас за тридцать, а погибший старший брат на всю жизнь остался для младшего старшим, таким, каким запомнился десятилетнему мальчишке, уезжавшему в эвакуацию. Путь наш лежал на границу Микитовки и Нижнего города — поближе к Днепру, вниз, к тому же оврагу, Дом Петрушина стоял на возвышении. Поэтому машину пришлось оставить и метров сто месить раскисшую землю. Привалов постучал в дверь, никто не отозвался. Привалов постучал в окно, теперь уже громко, требовательно. Все окна были закрыты ставнями, запертыми изнутри, так что заглянуть в дом мы никак не могли. Но прокурор был настойчив: он забарабанил в дверь с такой силой, что затряслись стекла на веранде. — Ну чего там? — прошепелявил голос из-за двери. — Открывай, — приказал Привалов. — А чего это я должен открывать? — Ты выгляни — и узнаешь меня. За дверью что-то скрежетнуло, взвизгнуло, протрещало. Она приоткрылась. Привалов не шелохнулся, не стал совать ногу в щель. — Узнал? — Ох, товарищ прокурор! — Дверь распахнулась. — Принимай! — бросил Привалов, проходя в дом. — Я б открыл… так одеться же надо… — А-а! — Прокурор махнул рукой. — Садись. Я огляделся. Мы оказались в большой комнате, которая служила и кухней, и столовой. Дверь в другую комнату была закрыта, но там кто-то возился. — Нет, уж поначалу вы присядайте. — Садись, я тебе сказал. Павел Иванович бесшумно опустился на старый венский стул. Полуодетый, костляво-корявый, он и сам был похож на этот стул. — Ты Сличко видел? — Кого, кого? — переспросил Петрушин. — Не играй со мной! — Где ж его увижу? Когда час мой придет, на том свете. А как на этом-то его увижу? Мертвого и во сне как увидишь — худо. Да и зачем мне его во сне видеть? — Понятно. — Привалов подавил усмешку, и я сперва не понял, поверил ли он, но следующий вопрос прокурора все прояснил: — А ты в воскрешение людей веришь? Воскресшим он не приходил к тебе? — Нет-нет! — Петрушин даже сложил ладони, прижал руки к груди. — А ты припомни. Вчера вечером, например? Не могла ж молодая жена отбить тебе память до такой степени, что ты не помнишь, кого видел вчера вечером? — Вчера? Вечером? — Хитрые глаза забегали в поисках спасительного решения. — Так я не знаю. Кто-то стучал. Вот как вы. Только зачем открывать — вдруг какой покуситель? Последнее слово подстегнуло меня: мог ведь он считать своим соперником Елышева, мог бояться его? И я позволил себе вопрос, не спросив разрешения у прокурора: — Скажите, стучали однажды? Кто-то приходил один раз или потом вернулся? — Один, — быстро ответил Петрушин. — Один. Я ж помню. Обученный прокурором, я готов был сделать вывод о том, что он врет, по скорости ответа. Но, вероятно, в данном случае человек и правду мог сказать сразу: обдумывать ему ничего не надо, знает же он, один раз стучали или два. Интересно вот, кто это был? Действительно Сличко или, быть может, мой новый знакомый из Красных казарм? — Ты так и не отозвался? — спросил Привалов. — А то как же? Отозваться — так и открыть надо. — Понятно. — Ну, товарищ прокурор, зачем мне темнить? — Я и не говорю, что ты темнишь. Ты просто врешь. Сейчас я позову твою молодуху, и доктор задаст ей один вопрос. Не мог разве кто-нибудь к ней заглянуть, узнать, как устроилась в новом жилье? И снова удивил меня Привалов тем, что угадал ход моих рассуждений. Он шагнул к двери, постучал, крикнул: — Выйдите к нам, пожалуйста! Встревоженной, стыдливо прятавшей лицо Надежде (ее распущенные волосы спадали по круглым плечам) я задал тот же вопрос, что и хозяину дома. Она ответила решительно, с вызовом, брошенным скорее ему, чем нам: — Два. Привалов по привычке присвистнул: — Так один или два? — Два, — повторила Надежда, осмелела, открыла белое с синими глазами-звездами лицо. — Он спал и не слышал. Два раза стучали. — И вдруг добавила: — По-разному стучали. Вот в чем заключалась догадка Привалова: после того, как дочь ушла к Петрушину, отец мог прийти сюда, даже если первоначально не собирался. Что это случилось вчера вечером — прокурор не мог знать, спросил наугад. И оказалось, не ошибся. Но если верить Надежде, приходил еще кто-то. Она наверняка не против, чтобы на Елышева тоже падало подозрение. И второй стук сама относит и хочет, чтобы мы отнесли на его счет. А может быть, он и впрямь приходил? — Значит, ты его не видел? — Привалов вернулся к хозяину. — Зачем он мне, товарищ прокурор, даже если он живой? — Сегодня я просто хотел взглянуть на твое житье-бытье, — сказал Привалов. — Пока что даю тебе время подумать как следует. Тебе есть о чем подумать. — Так ведь я все уже сказал, — испугавшись, запротестовал Петрушин. Привалов не удостоил ни Петрушина, ни Надежду даже прощальным кивком. Пока мы шли к машине, я думал о прокуроре. Вспомнилось вдруг, что он много раз был чемпионом области по стрельбе, а в юности — заядлым мотогонщиком. Оттого и казался он мне всегда человеком без нервов, пока не укусила его за руку пусть и нестрашная экзема, но возникшая, как принято говорить немедицинским языком, на нервной почве. Человеком без нервов он мне перестал казаться, но я по-прежнему считал его всегда готовым пойти на риск. По вполне разумным основаниям я допускал мысль о том, что существует нечто объединяющее нас. Ведь каждого в своей области ограничивал особый закон. Я не имел права рассказывать посторонним о болезнях своих пациентов, порой и сами они какое-то время оставались в неведении. Разумеется, бывают исключения, то есть такие заболевания, о которых я обязан ставить в известность органы правопорядка. В его же ведомстве все было строго регламентировано: каждый факт, уже оформленный в качестве документа или еще не оформленный, становился служебной, деловой тайной с самого начала. Хотя, как и у меня, существовали исключения. В тех случаях, например, когда в интересах дела, то есть расследования, необходима была, скажем так, помощь со стороны. Я полагал, что Приваловым руководили именно эти две причины — то обстоятельство, что я, как и он сам, обязан и умею хранить профессиональные тайны, а, во-вторых, неизбежная, по его мысли, необходимость помощи со стороны, помощи людей со знакомствами, не ограниченными как раз законом. Что касается моих знакомств, то они были столь обширны и разнообразны, что я сам порой удивлялся тому, какие непохожие друг на друга люди, из самых разных бытовых сфер, знали меня, и нередко очень хорошо. Именно это, между прочим, подтолкнуло меня к литературному, с позволения сказать, исследованию новоднепровских историй и к попытке каким-то образом объединить разрозненные события в последовательную хронику. В дороге мы молчали. Для меня это выглядело похвалой, значит, Привалов считает, что я все понимаю, что нет необходимости пояснять мне выводы, какие сделал профессионал. — Доктор, дорогой, — сказал Привалов, когда машина остановилась перед воротами больницы, чтобы высадить меня, — всех участников трагедии вы уже знаете. Прямо или косвенно. Завтра утром у меня будет какой-то отчет о пребывании Сличко в Новоднепровске. Может, день за днем, а может, почти пустой, с информацией, равной нулю. Так что я вас жду. Но и вы ждите. — Кого я должен ждать? — Гостей. — Гостей? — удивился я и впервые за сегодняшний день испугался. — Вы уже в этом деле по уши. — Привалов не спрятал своей лукавой усмешки. — Так что не отступайте. До завтра, доктор. И не забудьте повидать Чергинца. Какая-то информация у него должна быть. — Хорошо, — пообещал я. Мне вдруг показалось, что Привалов уже знает конечный итог расследования, хотя, возможно, некоторые промежуточные звенья — и, видимо, очень важные — еще не найдены. Потому он и рассчитывает по-прежнему на нас с Чергинцом. Я брел через сквер к больничному корпусу. Было всего лишь девятнадцать часов. Еще и суток не прошло с тех событий в Крутом переулке.8
По темному коридору — из каждых трех лампочек горела одна — я подходил к двери своего кабинета, когда услышал быстрые шаги у себя за спиной. Обернулся я, вероятно, резче, чем требовалось, потому что парень, спешивший за мной, от неожиданности приостановился. Когда же он подошел ближе, попал в свет лампочки, я узнал в нем приваловского шофера и, сознаюсь, облегченно вздохнул. А он протянул мне сложенный вчетверо листок бумаги. — Вот, шеф прислал. Только отъехали, он вдруг вспомнил, написал, сам дальше пешком пошел, а меня — к вам. Едва я сел за свой стол, чтобы прочитать записку перед обходом, как в дверь кабинета осторожно постучали. Я разрешил войти, не успев даже развернуть приваловскую записку. Дверь тихо отворилась, и на пороге возникла Софья Осмачко. Признаться, я ее не ждал, а ведь должен был. Привалов предупреждал о гостях, и кому, как не Софье, самое удобное посетить меня в больнице. — Чем могу быть полезен? Проходите. Она прикрыла за собой дверь. — Я ненадолго. У вас же обход. — Присаживайтесь. От болезней, которые я лечу, не так-то просто помереть. — Слушаю вас. — Я пришла… не на работу. Мне дали отпуск… чтоб похоронить. Я потому пришла… да, да, я специально пришла… Вас не было. Я ждала. Видела, как вы приехали. С прокурором, да? «Ты не собиралась ко мне, — подумал я, — но, увидев, что меня привез прокурор, перепугалась, и потому ты здесь». А она продолжала: — Это какая-то мука. Все подозревают, что я убила тетю, чтобы завладеть домом. Так и сестры говорят. Как же я могла, если меня в тот вечер и ночь дома не было? Я ж работала, да? Вот этот ее вопросик: «Я ж работала, да?», это подчеркивание: «да?» уже могли насторожить любого следователя. Она замолчала, надеясь хоть что-нибудь услышать от меня: если не слово поддержки, то хоть возражение. Замолчала и смотрела прямо мне в глаза своими огромными — больше, чем у Надежды — синими глазами. Мне стало не по себе от такого ее упрашивающего или даже зазывного, что ли, взгляда, и я уставился в стол. А чтобы чем-то занять паузу, развернул приваловскую записку. Уяснив себе, что в ней сказано, я почувствовал нечто вроде благоговейного трепета, вновь столкнувшись с прямо-таки сверхъестественной проницательностью прокурора. Уж он, конечно, точно рассчитал, что если кто и придет ко мне, то раньше всех Софья. В записке было сказано коротко и ясно: «Мне сообщили, что с десяти часов вечера и до полуночи никто Софью Осмачко в больнице не видел. В половине первого видели, до десяти вечера — тоже. Привалов». Выданный прокурором компас для разговора с Софьей так порадовал меня, что я даже оставил без внимания то, что Привалов время назвал по-любительски — не двадцать два, а десять вечера. В самый трудный момент разговора узнаю, что она на два с половиной часа из больницы отлучалась. Было бы просто ужасно, если бы я не успел развернуть записку до ее ухода. Удача подхлестнула мою фантазию. Версия родилась без усилий. — Нет, милая, — уверенным голосом заговорил я, будто минуту назад и не отводил в неуверенности взгляд, — это не так. И не в ваших интересах играть в игру, которой вы не понимаете и, вероятно, не в силах понять. Ваш отец явился в Новоднепровск тайком. Он скрывался от правосудия семнадцать лет, и вы должны были знать об этом. Или узнали сразу же, как только он появился в доме. Я не знаю, испытывали вы к нему родственные чувства или нет. Но могу понять, что определенное представление о долге перед отцом не позволяло вам сообщить куда положено о его появлении. Понимаете ли вы, сколько крови и людского горя было на совести у вашего отца? Впрочем, самой-то совести у него никогда не было. Да, ни тетку, ни отца вы не убивали. Никто вас, кроме ваших же сестер, и не подозревает. Но в течение двух с половиной часов вас в больнице не видели. И только в это мгновение она опустила, наконец, свои огромные глаза. Я смог передохнуть и даже отвлечься — вспомнить о Елышеве. Да, женщина такая, что обвинять парня проще простого. А многим было бы нелегко, окажись они на его месте. Впрочем, что касается Елышева, я все тверже приходил к мысли, что именно об этом старшине я многое слышал от любящей его женщины. Как тогда сказал Малыха: «Одна врачиха — закачаешься…» А врачиха эта — скорее всего сестра моя Валентина. Отец у нас один был, матери разные. От моей матери ушел он еще до войны, когда мы с братом мальцами были. Ушел к матери Валентины. Война у всех у нас родителей отняла. В эвакуации в одном детском доме росли, только она младше нас с братом на восемь да на шесть лет. В Новоднепровск она позже вернулась. А больше года назад сталь сожрала — тот самый проклятый взрыв наших с Чергинцом младших братьев и мужа Валентины, в одной бригаде все они были. С тех пор никаких родственников, кроме друг друга, у нас с ней не осталось. И вот недавно доверилась она мне, что полюбила какого-то старшину. Давно его знала, с мужем ее он вроде дружил. И вот вдруг полюбила. А он? У него несерьезно все. «Так брось его, Валентина». — «Не могу…» Елышев это или нет? И не к ней ли уходил он из части? А, может быть, к Софье? Сюда в больницу приходил? Какая-то злость все же появилась у меня на этого слащавого старшину. После затянувшейся паузы я и выложил Софье свою версию. — Могу предположить, что в семь вечера вас вызвал… вероятно, в сквер… какой-то человек. Вряд ли это был ваш отец, не рискнул бы он сюда приходить. И вы с этим человеком о чем-то говорили. Потом он ушел. Спустя какое-то время вы почувствовали себя в опасности. Какая-то неясная пока тревога. К десяти вы поняли, в чем дело: тот человек мог пойти в ваш дом. Может быть, как раз объясняться с вашим отцом. Так? И вы побежали домой. Прибежав — дорога не такая уж скорая, — вы увидели… — Да, — прошептала Софья, не поднимая головы и закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Я выдумывал версию, которая могла заставить Софью уцепиться за нее и тем самым наделать ошибок. А Софьины ошибки — уж она-то свое поведение наверняка продумала, как ей казалось, да последней мелочи — должны были прояснить события той ночи. — Было бы вполне логичным, если бы вы побежали в милицию. Но вы вернулись в больницу. Вот они, два с половиной часа вашего отсутствия. Не буду говорить о человеческих обязанностях в отношении тети Паши. Но как медик вы были обязаны прежде всего убедиться, теплилась ли в вашей родной тетке жизнь. А тетка, кстати, сделала своей наследницей именно вас, не кого-то другого. — И вы об этом наследстве… — выдохнула Софья. И вдруг сказала: — Я пойду. Я больше ничего не знаю. — Идите. Я ведь и не звал вас, я не следователь. Теперь, когда она стала хозяйкой дома, ей, конечно, трудно расстаться с самой мыслью о нем. И я сделал такое предположение. Сличко надеялся, что дом достанется ему. По какой-то неведомой нам причине. И свояченица обязана была — по той же причине — отдать ему дом, но воспротивилась. Может, из жалости к девчонкам, которые остались бы без угла и крыши. И сделала, казалось бы, хитрый ход: завещала дом старшей племяннице и даже хотела его вообще переписать на нее. Возможно, Сличко, узнав об этом, потребовал уничтожить завещание, но свояченица стояла на своем и поплатилась — сердце не выдержало. Это была еще одна, среди массы других, версия. Но вполне могла существовать при новых сведениях любая другая. Версии могли бы и переплетаться. Тем более что все путало одно обстоятельство: Сличко ведь явился в Новоднепровск под чужим именем и не мог объявить о себе, что было бы необходимо, если он хотел на что-то претендовать. Так или иначе Софья ушла. А я отправился по палатам. Тот человек, которого ранним утром подобрали на Микитовской улице с тяжелейшим переломом ноги, в сознание еще не пришел. Двое, которые поколотили друг друга в драке, сознания не теряли. Две-три фразы с ними, и мне стало ясно, что никакого отношения к гибели Сличко они не имели Значит, прокурор мог интересоваться только тем человеком, у кого был перелом ноги? Я подождал в своем кабинете новых гостей, но никто больше не явился. И тогда я решил не ждать до утра и позвонил Чергинцу. Мы договорились о встрече после девяти вечера. Временем он располагал, ему ведь надо выйти на смену в двадцать три сорок.9
Сергей расхаживал по жарко натопленной комнате, поджидая меня. — Поужинаем? — сразу предложил он. — Мне ведь скоро в ночную. — Сегодня тебе не удается без меня и куска проглотить. Сергей жил один в большом доме. Бабушка Володи Бизяева готовила ему обед на два-три дня, следила за домом. Так сложилась после нашей общей трагедии его жизнь — тут уж ничего не поправишь. Мы уселись за столом на кухне. Я рассказал о визитах к Елышеву и Петрушину. Рассказал и о первом госте, посетившем меня. Сергей надолго задумался, правда, не отрываясь от еды. — А вот что выяснил я, — начал он, наконец, опустошив тарелку. — Были бы живы отец с матерью, они бы мне многое раскрыли, а так пришлось расспрашивать чужих людей. Сличко до войны жили на Богучарове — там, где сейчас новый речной порт. А до войны то было пригородное село. В феврале сорок четвертого, когда освобождали Новоднепровск, хата Сличко сгорела. Его жена с девчатами перебралась к своей сестре. Сюда, на Микитовку. Хатенка была так себе. В сорок шестом умерла мать девчат. Время было голодное. У нас уж на что трое работали, а лучшей едой была кукурузная размазня с хлопковым маслом, и пальцы облизывали. У них же и не вспомнить, работал ли кто. Девчонок тетка Павлина кормила с трудом. Но зато крышу у дома вроде не спеша переложили: вместо соломы — этернит. Потом пристройку осилили. Потом кирпичом дом обложили. Видать, кого-то тетка подряжала, сами-то не справились бы. И дом стал сразу состоянием. Еды же у Сличко, когда они, правда, уже Осмачко стали, не было. Тетка Павлина, люди теперь только вспомнили, часто куда-то ездила. Куда, зачем — кто нынче вспомнит? — Так вот, может, работяг-то и подряжать, — высказал я первую, пришедшую на ум догадку. — Может быть, и так, — сказал Сергей. А я подумал оПривалове: знал ли он уже об этих отлучках Павлины Осмачко, не предположил ли, что ездила она встречаться с отцом девчонок, что-то получать у него или брать из спрятанного? — Предположим, награбленное добро он припрятал, прежде чем скрыться самому. Место могла знать только жена. Умирая, она открыла тайну сестре… Та… — Да, — согласился Сергей. — Все так могло быть. Но не спешите. Одной ей было бы трудно. По жизни — такие дела в одиночку не делают. Кто-то ей наверняка помог, и они разделили то добро. Кто этот второй? — Может, Петрушин? — спросил я. — А почему не Жуйчиха? — Галина Курань? Верно. Но Сличко ведь мог сразу доверить тайну ей, не жене. — Раз так вышло, значит, он доверил не ей, а все-таки жене. Но тетка Павлина могла думать иначе. Жена Сличко умерла, и если он вернется — могла же она предполагать, что он все же когда-нибудь вернется? — если вернется, то женится на Галине, у которой к тому времени был ужо сын от Сличко. Так вот, рассуждает тетка Павлина, если она одна возьмет себе все, то когда вернется Сличко, как ей держать ответ? Хитрость грошовая, но такие уж это люди. Если уж решила она делиться, то — верней всего — с Жуйчихой. Я вообще думаю, тетка Павлина знала, что Сличко где-то живой, может, и связь с ним имела. Если бы не знала, то прямая выгода ей — сразу выдать его, как он приехал, а она-то молчала. — Выдать отца девчонок непросто. Тут надо знать, что у них там творилось — в клубке. А если, предположим, второй был Петрушин? — спросил я, находясь под впечатлением от нашего с Приваловым визита в тот дом. — Тут я ничего не могу сказать. Я и не думал про него, почему-то в голову не приходило. Но он и вправду мог знать, что где-то есть тайник с добром, как здесь, говорят, ховашка… и шантажировать тетку Павлину. Кажется, он вернулся в город много позже смерти жены Сличко. Интересно, что думает прокурор? Не зря же он с вами помчался к Петрушину, как только я ему сообщил, где Надежда теперь живет. Столько лет прошло, что, наверно, только прокурор и сможет все проверить, сопоставить. Я уж не помню того времени — мне тогда и десяти лет не было. Да и думал тогда больше о жратве, с утра до вечера только о ней. — Не ты один так жил, мыслитель. Скажи-ка, Бизяев сегодня на работу выйдет? — А как же иначе? Я больше не отпускал, значит, не может не выйти. Вот уляжется эта история — мы его на курорт отправим, я уже заказал путевку. Даже если он убил этого гада, никто его не осудит. Для того, я уверен, прокурор и распутывает все так тщательно, чтобы никого не осудить. — Но ведь еще и Люба… — неохотно, но по чувству долга напомнил я. — То, что произошло у нее с Бизяевыми, неподсудно обычному суду, — твердо сказал Сергей. — Никто не может их судить. Никто не может и защищать. Тем более, что из посторонних об этом знаем только мы с вами. Таким я еще Сергея не видел. Он готов меня сделать своим сообщником, готов скрыть что-то? Судьба младшего друга для него самого как собственная судьба. Даже больше чем собственная. Чтоб себя самого спасти, ничего бы скрывать он не стал.10
Хотя следующий день был у меня по графику свободным, утром я все-таки заглянул в больницу. Тем более, что прокурор пожаловался на свою руку. Впрочем, не потому ли пожаловался, что решил повидаться со мной именно в больнице? Так или иначе, мы встретились в моем кабинете, я сменил мазь на его руке, а он сообщил мне кое-какие новости. Было установлено, что в тот вечер Люба Сличко дома не появлялась. Видели, как она уходила из дому в шесть часов вечера. Подруга, с которой она провела весь вечер, утверждает, что перед сменой Люба домой не заезжала. И Любина одежда в шкафу в лаборатории та же, в какой она вышла из дома в шесть. Выслушав прокурора, я решил ничего ему пока не рассказывать о том, как отнеслись к Любе в семье Бизяевых. Но как-то же надо было отреагировать на его сообщение? — Самоубийство девочки — главная трагедия в этой истории, — вздохнул я. — Согласен. Как вы помните, Сличко появился неожиданно. Но благодаря наблюдательности Чергинца мы точно знаем, когда. В день рождения того парня из порта. — Малыхи, — подсказал я. — Да, да. Которого накануне пригласили, а потом заставили торчать на улице. — И поэтому он ел селедку на улице, — вспомнил я. — Вот именно. Это было третьего, в субботу. Трагическая же ночь — с понедельника на вторник, с двенадцатого на тринадцатое. То есть Сличко провел в городе больше недели. Знаем же мы об этой неделе ничтожно мало. Первое свое воскресенье, четвертого числа, он просидел дома. В воскресенье перед закрытием магазина туда заходила Люба Сличко. Это вспомнила уборщица, она еще тогда удивилась. Галина Курань отрицает, что говорила с девушкой. Естественно, будет отрицать, той ведь уже нет в живых. Однако в понедельник, пятого, с утра, пробыв в магазине минут двадцать, Галина ушла. По делам. В горпродторг. Она там была в понедельник — это установлено. Но была совсем недолго, значительно меньше, чем ей сейчас бы хотелось. Я думаю, что в тот понедельник и состоялась встреча Галины и Сличко. В доме Галины. Сама-то она живет сейчас у нового мужа, вдовца, А ее сын от Сличко, Павел Курань, живет… к сожалению, сейчас он в бегах после кражи в магазине… жил в том же Крутом переулке, в старом доме Галины. Так вот наиболее вероятно, что в воскресенье вечером Галина передала Любе ключ от дома. Сличко ночью или под утро, когда еще было темно, пришел в дом и дождался Галину. Это было днем в понедельник, а в четверг был ограблен магазин. То есть логично предположить, что все эти дни Сличко по ночам обитал в старом доме Галины, возможно, вместе с Пашкой Куранем, а днем бывал у дочерей. А, может быть, наоборот. Факт, что он бывал и там и там. Покойная Павлина Назаровна приходила к Петрушину. Он этого не отрицает. Якобы просила его, чтобы не уговаривал Надежду, не портил молодой женщине жизнь. Вот, собственно, и все. — Значит, тупик? — Не совсем. Я надеюсь на вас, доктор. Особенно на ваш сегодняшний выходной день. Поезжайте домой — и по возможности никуда не уходите. — И снова ждать гостей? — Именно так. Не волнуйтесь, это не опасно. Я буду вам позванивать. Наверняка кто-нибудь уже вас поджидает…11
Привалов снова не ошибся. Возле подъезда, сидя на скамейке и не обращая внимания на моросящий дождь, меня ждал Малыха. Думаю, справился у Чергинца, как добраться до моего дома. В ту минуту, когда он увидел меня и вскочил, он был особенно красив. Шкиперская куртка ладно сидела на нем. — Ты меня ждешь? — Жду. Больше нет сил. — Идем ко мне. Теплее, и не капает сверху. Мы поднялись на третий этаж, я открыл дверь, пропустил вперед гостя и вдруг увидел что-то в почтовом ящике. Для почты час был слишком ранним. Я открыл ящик, извлек сложенный вчетверо тетрадный листок. Вопросительно взглянул на Малыху, но тот не понял меня. Я спросил: — Ты оставил? — Нет, я просто ждал. В записке, нацарапанной резковатым почерком, было три слова: «Приду час дня», — и никакой подписи. Я спрятал листок в карман. — Проходи. Снимай куртку. Располагайся, как тебе будет удобнее. И начинай. — А с чего начинать? — У тебя больше нет сил, — напомнил я. — А, да. Больше нет сил видеть, как она мучается. Я ведь не железный. Почему-то я вдруг вспомнил, что Елышев, рассказывая нам с Малыхой о своем свидании с Софьей, говорил: «Я ведь не бревно». — Ну, ходил я с ней, — продолжал Малыха, — думал, без любви, так просто. Видно, ошибался. Душа за нее болит, теперь никогда ее не брошу. Хоть отец ее… Ладно, я не про то. Всегда так у меня — не про то… Странно было смотреть на этого видного парня, которому судьбой, казалось, назначено весело крутиться в житейском круговороте, но та же судьба заставила его, придавленного из-за собственного недомыслия, в растерянности сидеть передо мной. — Я там был, — чуть ли не прошептал он. Как говорится, камень свалился у меня с души, словно легче стало дышать. И так чистосердечно было жаль этого парня, который — в этом я не сомневался — никого не убивал и никогда не убьет. Ему, конечно, тоже легче стало после первого шага. Он заговорил быстро, как будто боялся, что я перебью. — Значит, так было. Верки весь вечер дома нет. Дома — то есть у меня в бараке. Я расскажу, где она была: искала Любу. По всем ее подругам, каких знала. Только не нашла. Боялась за нее, потому что отец их пригрозил: если увидит Любу с Володькой или узнает, свернет девчонке голову. Вот Верка и искала ее, чтоб та перебралась к нам. Я так посоветовал. Да, тесно, ну и что? Зато сейчас Люба жива была б. Я ждал-ждал, не вытерпел, поехал. Думал — дома она. У них дома, то есть в Крутом. Было темно уже, слякотно. Да и моросно тоже. Я как раз подходил к Крутому, но еще не дошел до него. Ну, знаете, там я шел… вдоль стены — посуше там. Вдруг вижу: из переулка выбежала какая-то женщина и сразу повернула. Не ко мне навстречу, а направо, по Микитовской, в сторону Днепра. И побежала прямо по лужам. Нет, не Верка. Если бы она была там в это время, то опоздала бы на работу. А она пришла вовремя. — Какое же это было время? — спросил я его. — Скажу, попробую, — задумался Малыха. — Я на Микитовской посмотрел на часы. — И хлопнул себя по лбу: — Нет, не смотрел я на часы. Я как раз хотел посмотреть, но эта женщина выскочила из переулка, и я про часы забыл. Да, точно. Только знаете, чего я не могу забыть? Она растворилась. В воздухе растворилась. Была — и вдруг мгновенно ее не стало. Я подумал, что этой женщиной могла быть Софья. Но если б она спешила в больницу, то и бежала б дальше по улице, Малыха и видел бы ее. А то — растворилась… — Я пошел дальше, — продолжал Малыха. — Свернул в переулок. Иду. Уже до конца того выступа дошел, знаете? И там я поскользнулся, упал, и мне почудилось, что кого-то спугнул. Бывает ведь такое? Я кивнул в знак согласия. — Подхожу к хате — свет горит, дверь приоткрыта. Даже болталась на ветру. Не знаю почему, но я открыл ее ногой. — В резиновых сапогах? — А вы бы что надели в такую погоду? — Резиновые сапоги, — охотно подтвердил я. — Как дверь открыл, — продолжал Малыха, — так сразу увидел. И сразу понял, что это тетя Паша. Только уж больно неестественно она лежала. Я метнул на него быстрый взгляд. Он поймал его и торопливо спросил: — Что-то не так? Дело в том, что утром тетя Паша лежала в правильной позе, на спине. Значит, кто-то поправил тело в постели. Но я промолчал. — Перетрусил я. Не за себя. Не знаю — за кого. Вернее, тогда не знал. Но и за себя чуть-чуть. А вдруг кто сзади меня пристукнет?.. И затем Малыха рассказал мне все, что видел он в ту ночь в Крутом переулке…12
До часа дня, до обещанного в записке посещения было еще далеко, когда одновременно затрещал телефон и прошепелявил звонок в передней. Я поспешил снять трубку, крикнул: «Одну минуту!» — и побежал открывать дверь. На лестничной площадке стоял мой новый знакомый из Красных казарм. — Проходи, — пригласил я, хотя был удивлен и несколько озадачен. — Снимай шинель. Будь как дома. — У меня дома нет. Я не ответил ему, потому что меня ждал телефон. Звонил Привалов. Он задавал вопросы, я отвечал односложно. Наш разговор настолько отличался от обычного, что он понял: его предсказания сбываются, я и сейчас дома не в одиночестве. Потом он рассказал о роли Петрушина. Я не все понял, но переспрашивать уже не мог. Мне пришлось положить трубку и заняться новым гостем. Я провел его в комнату, предложил выпить для храбрости. Так и сказал: «Для храбрости». — А я не трус, — ответил он и от вина отказался. — Я вам тогда не все выложил. Я ведь не знал, что это так серьезно. А теперь, значит, узнал? Не сестренка ли Валентина ему объяснила, насколько все серьезно? Не она ли вообще направила его ко мне? Неужели это тот самый старшина, о котором я от нее слышал? Но пока сам он мне этого не откроет, я спрашивать не могу. Не имею я права выдавать ее тайну, может быть, совсем другому старшине. Да если это и он самый, тоже не имею права показать, что знаю о нем от нее. — На свете давно уже нет ничего несерьезного, — глубокомысленно изрек я. — Так что же ты скрыл от меня вчера? — Не скрыл. Просто не стал говорить. — Пусть так. Но что же? Узкие светлые глаза его сегодня были печальны. Небольшие усики над тонкими губами смешно подрагивали. Он говорил мягким, низким голосом. И все-таки выглядел слащавым. — Я ведь схлестнулся с их отцом. А было так. В понедельник, пятого числа, я пришел к ним. Я ж вам рассказывал, как с Соней у меня получилось. Ну я как в тумане был. Я почему-то подумал о том, что этот парень ростом пониже Софьи. А он между тем продолжал: — Уже стемнело — и вдруг заваливается какой-то мужик. Этот самый Сличко — теперь я знаю. Он стучал в окно. Я и одеться как следует не успел. А он увидел меня и озверел. Я людей в таком состоянии не видел, честное слово. Кричит: «Убью!» Я не скоро-то и смекнул, в чем дело. Вроде понял, что это их отец. Помню, Надя рассказывала, что он отсидел и освободился. А за что сидел, не говорила. Если бы я знал, что он бежал, скрылся, что расстрел его не достал… Если бы все это знал, сразу побежал бы, куда надо. Все бы тогда было по-другому. А там… Все же у меня мысль мелькнула, что я ему чем-то помешал. Может, потому, что он не в дверь стучал, а в окно? Словом, мы с ним сцепились. Он мне хорошо приложил свой кулачище. Но и я ему успел. Пока он подымался, я шинель в охапку — и деру. И уж потом я еще подумал: он им всем жизни поломает. Надьку-то не слишком мне жалко было. Она — не Вера, не Люба. Она — как Сонька. Такая же хваткая. Со мной, правда, ошиблась, накрепко не прихватила. Да и я в ней сперва ошибся — не сразу раскусил, чего ей от меня надо. Вы думаете: я бы убил его? — без всякого перехода спросил старшина. — Давай лучше поговорим о его последнем дне, — ушел я пока от ответа, хотя ясно было, что совершенно незачем Елышеву убивать Сличко. — Вчера ты не все выложил, давай уж сегодня. Из части ты вышел в полседьмого. И тут же поехал на Яруговку, в больницу к Софье. Так? — решил я проверить свою версию. — Это она рассказала? — Ну какое теперь имеет значение? — Раз она так, то и я тоже. Да, я поехал к ней. Потому что она позвонила мне в часть. И по телефону сказала, что боится за себя и за тетю Пашу. А я ведь с того вечера и не видел ее. Неделя прошла. Если бы она не позвонила, сам бы так и не пришел. Но позвонила — поехал. Она меня у ворот ждала. И в разговоре все клонила, что Надежда — твоя, мол, Надежда, говорила она мне — с Павлом Ивановичем, Петрушиным этим, убьют отца. Потому что отец требует с того что-то такое, чего тот вернуть не может. — С тети Паши отец тоже требовал? — поспешил я, потому что Елышев, сам того не зная, подтвердил наши догадки. — А что он с нее мог требовать? Знаете, она была хорошей женщиной. И девчат всех выкормила. Любила она их. Всех одинаково, не замечала, что две — как люди, а две — акулы. — Давай-ка дальше. — Когда все кончится, — неожиданно сказал он, — я приду к вам для другого разговора. Примете? Прежде чем ответить ему, я подумал: «Значит, он уверен, что у него все будет в порядке, уверен, что чист». — Конечно, приходи. И еще я подумал: «Теперь все ясно. Он тот самый старшина, в которого моя Валентина влюбилась». — Так вот дальше. Она еще говорила, что Наде не верит. Что та ушла к Павлу Ивановичу только из корысти — не из страха перед отцом, не из-за ссоры с ней, с Соней. Могло это тогда быть? По-моему, нет. Вспомните, откуда она тогда пришла? Из больницы. Восьмого ее только выписали, а уже через два дня к нему ушла. И вовсе не из-за меня она в больнице лежала, а совсем по другому поводу — Сонька зря наговорила на нее, да и на меня, выходит. Зачем наговорила — не знаю. В общем, Соня целый час, а то и больше, морочила мне голову. То ее хотят убить, то отца. Убить — только на языке у нее и было. Но про тетю Пашу, что ее могут убить, Соня мне лишь по телефону сказала. А когда мы встретились, про тетю ни слова. Я потому еще к вам и пришел, что именно это меня поразило, когда вспоминал. И знаете, как мы расстались? Я сказал ей: забудь ты меня. И ушел. Темно было. Дождь. Пошел я на Микитовку, искать дом этого Павла Ивановича. Зачем пошел — сам не знаю. Нет, не ревность, нет, что вы? Пока нашел — два часа минуло. — Значит, уже было двадцать два часа? — Не знаю, может — больше, может — меньше. Я на Яруговской улице, возле больницы, встретил одну знакомую, задержался с ней. Она в вашей же больнице работает. Она как будто чувствовала, что со мной делается, не хотела отпускать. Говорила, что в десять освободится и поедет домой. Чтобы я или не уходил, или пришел встретить, или возле дома ждал ее. Даже ключи от квартиры давала — чтоб только я не ушел. Но я… И не знаю, какая сила тащила меня. Нет, было почти одиннадцать, наверно, когда я добрался, куда хотел. Постучал. Не ответили. Я еще. Опять молчат. Я в конце концов охладился. Подумал: ну что я пришел? Приперся — и что скажу? Чтоб он признался, что он такое сделал? Так он мне и скажет! В общем, пошел я назад. Но когда дошел до кустов — малина, что ли, там — слышу: кто-то вышел из дома. И голос тут же: «Ты у меня попляшешь». До сих пор слышу. Я — в кусты. Смотрю: от дома человек идет. Темно было, но, похоже, Надькин отец. Прошел он мимо… Слушая Елышева, я думал вот о чем: по его рассказам получается, что Сличко — если вышел из дома Петрушина именно он — прибыл в Крутой переулок уже тогда, когда тетя Паша была мертва. — …А я ни с места. Решаю, куда идти. Слышу, скрипнула дверь. Вижу: человек крадется. Под заборами. Честно, я не трус, но после Сонькиных причитаний мне стало не по себе. Если этот крадется за тем, первым, что у него на уме? А потом — не поверите! — вижу: Надя идет, да прямо на меня, через сад, под деревьями она старалась идти… И затем Елышев рассказал мне все, что видел он в ту ночь в Крутом переулке…13
Снова прошепелявил звонок в передней. Елышев неловко вскочил, чуть стул не уронил — а ведь такой ладный спортивный парень. Не хотел, значит, чтобы его тут застали. Или лучше меня знал, кто может прийти? Или вообще все они сговорились? — Не мельтеши, — успокоил я его, — ты ни с кем не встретишься. Надевай шинель, иди в ванную. Нового гостя я проведу в комнату, а ты тем временем потихоньку уйдешь. Добро? Но не забудь, что обещал заглянуть ко мне, когда все кончится. Добро? Поступили мы, как я предложил, и все прошло гладко. Я ждал не гостя, а гостью. И не ошибся. Научил же меня чему-то прокурор. Впрочем, во всей этой истории предвидеть поступки ее участников было несложно. Они жили и вели себя естественно, движимые обычными, даже заурядными человеческими страстями. Иное дело, что страсти одних выглядели безобидными, слабости — простительными, а других толкала откуда-то изнутри темная пружина, которую всегда так легко заводит злая воля. Почему же все-таки она решила прийти ко мне? Это не был порыв. Ведь именно она утром оставила записку в почтовом ящике. Если у Малыхи, у Елышева, да и у Софьи были основания, то у нее их, по-моему, не было. И тем не менее Надежда пришла. И держалась уверенно. Лишь однажды она вздрогнула. Когда Елышев выскользнул из ванной в переднюю и ушел, щелкнул замок входной двери. — Кто там? — обернулась она. — Нас не подслушивают? Я прошел через всю комнату к двери и распахнул ее: прихожая, конечно, была пуста. Надежда тоже подошла к двери и заглянула даже в кухню. Тогда я и дверь ванной открыл. Мы вернулись в комнату. Но ее слово «подслушивают» меня насторожило. Может, не столько насторожило, сколько заставило внимательно вдумываться в каждое ее следующее слово. — Я знаю, — начала она, — прокурор не поверил мне. Из-за Павла Ивановича. И вы не поверите. Для вас я как падшая, что живу у него. Но когда мне стало невмоготу дома, он меня приласкал. Никто — а только он. Хотя он… разве вам попять? Она словно изучала, что у меня в мыслях, хочу ли я действительно понять ее или только что-то узнать. Какой вывод она сделала, не знаю. Взгляд ее я выдержал, и она решительно перешла к делу. — Было десять с чем-то, — сказала она. — Ну в тот вечер, когда забарабанили в дверь. Совсем как вчера прокурор. Я тут же поняла: пришел отец. Не хотела встречи с ним. Для того и ушла из дому, куда глаза глядели, чтоб не видеть его. А я подумал: «Глаза-то твои глядели туда, где была, вероятно, половина отцовской ховашки». — Спросите: почему не сообщила? А я вот не знаю. Сама себя спрашивала сто раз — и не знаю. А он с каждым днем все зверел и зверел. Вышло ведь как: попусту он приехал. Так рисковал, а вышло — попусту. Мне он ничего не говорил, я все понимала по намекам. Так это еще хуже — толком не знаешь ничего, всего опасаешься. Вот он стучал, требовал, чтоб открыли. Что делать? Я спряталась. На чердаке. Ход на чердак из кухни. Лестница приставная. Я захватила пальто, платок. Боты тоже. Чтоб для видимости — будто меня в доме нет. И на чердак. Но люк оставила чуток приоткрытым. На всякий случай. А вдруг он что с Павлом Ивановичем сделает? Я подумал: «Елышев прав. Эта хваткая, голову не теряет. С такой ему делать нечего, таять перед ним не будет. Да, она могла уйти к Петрушину только потому, что там осела половина отцовского добра…» А она продолжала: — Он впустил отца. Тот сразу: чего не открывал? Ну, Павел Иванович нашел, как ответить, выкрутился. Прошел отец в комнаты — меня искал. Нет, не я ему была нужна. Ему нужно было, чтоб меня в хате не было. Сошлись они на кухне. И началось. Вот тогда я все и поняла. Мама знала, где он свою ховашку заховал. Когда уж совсем плохой стала, тете Паше рассказала — чтоб когда мы вырастем… Мать ведь. Ее-то вы можете простить? Моего ответа она бы не дождалась. Я бы сам спросил у ее матери, знала ли та, как ее муж сколотил этот капиталец? Да, и спрашивать незачем: ясно, знала. Подумал я и о том, что Надежда пытается отвести от себя подозрение, которое, кстати, и значения никакого сейчас не имело. Подозрение, что она ушла к Петрушину по корысти. У нее выходило, что узнала она о ховашке лишь в тот вечер, когда отец к ним ворвался. — А когда мама умерла, к нам зачастил Павел Иванович, — продолжала Надежда. — О чем-то спорил с тетей Пашей. Мы маленькие были — не понимали. Теперь-то известно, чего он зачастил: он знал о ховашке, да не знал, где она. В общем, тетя Паша сдалась. Хата протекала, одежки не было, хорошо, когда картошка была. Тетя Паша и решилась, тем более, что помощи от него ждала — за тайну в обмен. Все это я и подслушала с чердака. А вчера, когда вы с прокурором приходили, я потому молчала… — Сейчас уже не важно, почему, — избавил я ее от лишней лжи. — Спорили они, а я сидела на чердаке — ни жива ни мертва. Отец требовал, чтобы Павел Иванович вернул половину. Второй-то половины уже не было: все в дом ушло, в нас то есть. Отец рисковал, ехал, чтоб ховашку свою откопать и увезти, а тут взять нечего. — А уехать он предполагал один? — Хотел не один. Он же не знал, что Галина вышла замуж и что так крепко вцепилась в нового мужа. Я слышала еще дома… как раз в то утро, как пришла из больницы… что она… Галина то есть… поплатится, не рада будет — это его слова. А потом ограбили магазин. Отец Пашку на это натравил, а сам руки потирал, я впервые в жизни видела, как он улыбается. «О, господи! — Мне еще не верилось, что такие люди бывают. — Он все жестоко рассчитал. И родного сына не пожалел. Уверен был, что Галина не выкрутится». Надежда говорила торопливо, словно полжизни промолчала и теперь должна выговориться и за прошлое и за всю жизнь, что ее еще ждала: — Потом кто-то другой стучал. Это я вчера не врала. В тот вечер и второй раз стучали. Отец решил, что пришли за ним, вроде кто-то пришел предупредить о чем-то. Он так и сказал: это за мной. Выждал немного и ушел. — Но перед тем как уйти, — медленно и внятно произнес я, — он сказал Петрушину: «Ты у меня попляшешь». Так было? — Откуда вы знаете? — Испуг был неподдельным, и этот испуг, можно сказать, обезоружил Надежду на какую-то минуту. — Значит, то приходили не за ним? Для меня ее вопрос означал совсем иное. И вопрос, и, понятно, испуг. Может быть, Елышева она в тот вечер вообще не видела, иначе могла бы догадаться, что это он слышал слова отца. — Что же было дальше? — Дальше? — Она все еще не могла прийти в себя, но я и рассчитывал на ее замешательство. — Дальше… Я спустилась вниз. Павел Иванович был аж зеленый. Он меня не слушал, только ватник надел, шапку и пошел. Следом за отцом. Я так испугалась, не знала, что делать, куда бежать. Был бы телефон — точно позвала бы милицию, и черт с ними со всеми. «Могла бы и побежать в милицию, не так уж далеко, — подумал я. — Но не побежала. Что-то тебя удерживало?» — Однако вы оделись и последовали за ним. Так? — спросил я. — А что мне оставалось делать? В случае чего могла ведь я предотвратить беду. Да что там, — вдруг встрепенулась Надежда, — ничего я не могла. — Как вы думаете, который был час, когда вы все из дома вышли? — Зачем думать? Часы на кухне висят. Я видела их, когда слезала с чердака. — Было двадцать три часа? — Нет, одиннадцати не было, пол-одиннадцатого. — Что? — вырвалось у меня. Расхождение с тем, как полагал Елышев, в полчаса, и, значит, Сличко гораздо раньше мог попасть в дом к тете Паше, когда она еще жива была. — Ах! — Моя реакция испугала Надежду. — Те ж часы неисправные сроду. И отставать могут, и спешить. Я терпеливо ждал, когда Надежда хоть одним словом упомянет о Елышеве, по ожидание затягивалось. Наконец, словно угадав мои мысли, Надежда спросила: — Кто ж то приходил? Вы бы ничего не знали без него. Так что вы знаете, кто ж то был? — Могла прийти любая из сестер. — В такой час? Наивный вопрос: ведь в такой самый час Софья бежала из яруговской больницы на Микитовку через весь город. — Некому было, — сказала она. — И тетя Паша не пошла бы в такой час. Вдруг Надежда покраснела, и сразу же привлекательней стало ее лицо: чересчур бледное до этого, оно теперь украсилось румянцем на щеках с ямочками. Догадка, прятавшаяся где-то, прорвалась наружу. — Вы знаете, что это был он? — Если вы имеете в виду Елышева, то почему он не мог? — Зачем ему? Совесть заговорила? Он передо мной не ответчик, ни в чем он передо мной не повинен. — А вы любили его? — Я? Любила? Его? — Можно было подумать, что она возмущена одной этой мыслью. — Нет, не любила. — Но и расстаться не хотели. — То разные вещи. Я быстро увидела, что на него никакой надежды нельзя держать. Да я и не хотела бы с ним жить. Не такую, как я, он ищет. И та врачиха, с которой он сейчас, пожалеет. — Она совсем ни при чем. Так… значит, разные вещи? — И когда он с Сонькой… когда он позарился на хату… я даже рада была, что избавилась от него. — Простите, — сказал я, — но ни на какую хату он не позарился. Однако очень важно, как вы узнали об этом? — О чем? Что он с Сонькой? Так она сама утром мне и рассказала. В больнице. Со злорадством. Только не добилась она своего. — Чего же своего? — Не видать ей больше его как прошлогоднего лета. — Почему же? — Потому что его посадить надо! Вот теперь мы только и подошли к самому главному — хотела того она поначалу или нет. И Надежда, как-то странно сжавшись в комок и всхлипывая, рассказала мне все, что видела она в ту ночь в Крутом переулке…14
Теперь я знал, что были еще по крайней мере два участника событий той ночи, с которыми мне пока беседовать не довелось. Как только всхлипывавшая Надежда ушла, я позвонил Привалову. Однако для себя я уже решил: будь эти парни хоть сто раз виноваты, у меня не поднялась бы рука подписать обвинительное заключение. — Слушаю, — прогудел Привалов. — Визиты, думаю, исчерпаны. Петрушин ко мне прийти не может, а больше некому. Осталось мне самому нанести последний визит. А вас я сейчас познакомлю еще с одним звеном в цепи этого дела. Звено не последнее, но едва ли не решающее. Скажем так — предпоследнее. И я рассказал ему все, что узнал от Малыхи, Елышева и Надежды. А потом позвонил Чергинцу и попросил его свести меня с Бизяевым. — Приезжайте, — ответил Сергей. — Он у меня. Спит. Но я не хотел беседовать с Бизяевым в присутствии Сергея: — Видишь ли, мне с ним надо с глазу на глаз. — Вижу. И не буду вам мешать, — откликнулся Сергей. Когда Я принес в его жарко натопленный дом холод осеннего дождя, он только сказал: — Идите в мою комнату — он там спит. Володя Бизяев крепко спал в комнатке за кухней. Комнатке, которую Сергей до сих пор называл своей, хотя ему принадлежал уже весь дом. Она стала его комнатой, когда родители ее выделили ему. Своему старшему сыну в день поступления в вечерний техникум. Ее никто не занимал, пока он был в армии. И когда он остался совсем один, Сергей долго не мог заходить в большие комнаты, где все напоминало об отце с матерью, о младшем брате, чью гибель старики не смогли пережить. Конечно, именно эту комнатку он всегда предоставлял Володе, если тому приходилось заночевать или просто надо было позаниматься в тишине у старшего друга. Красивое Володино лицо и во сне было напряжено. Я опустил холодную ладонь на его оголенное плечо. Володя вздрогнул во сне, дернул плечом, пытаясь сбросить мою руку, но я ее не убрал. — Володя, — позвал я. Он узнал меня и протянул глуховатым низким голосом: — Добрый вечер. Добрались, значит, до меня… Долго вы добирались, можно было и побыстрее. — Мог бы и пораньше, да тогда я многого не знал. Того, чего и ты не знаешь. Ты мне только скажи: что ты делал в тот вечер и в ту ночь в Крутом? — Вы уверены, что я там был? — Я знаю об этом. Тебя видел Малыха. — И я его видел. — Вот и скажи, что ты там делал? Бизяев подумал, прежде чем ответить. Провел крупными пальцами по высокому лбу, откинул назад длинные гладкие волосы цвета воронова крыла, по контрасту с ними еще ярче блеснули белоснежные зубы. Он как будто усмехнулся. Вот именно — как будто. По правде — боль подавил. — Любу ждал, — сказал, наконец, он. — Дождался? — не нашел я, к несчастью, другого слова, И снова сверкнули его зубы. — Нет. Она перед сменой домой не заходила. — А где ты ждал? В каком месте? Не ходил же по переулку взад-вперед? — На пустыре ждал. Не совсем на пустыре, а у стены. Там раньше ворота были, теперь завал. Вот там и ждал. Я представил себе его позицию: обзор был не из лучших, он мог видеть лишь угол дома и два окна большой комнаты. Я спросил: — В тех окнах, что ты мог видеть, свет горел? — То горел, а то нет. — Но как бы ты узнал, что она пришла домой? — Там в большой комнате гардероб. В окно видно. Если б она пришла, стала бы переодеваться. И в третий раз сверкнули его зубы. Сомнений у меня уже не осталось: слезу он удержал бы, гримасу боли — не мог. Я не имел права спрашивать, для чего он ждал Любу. Это его тайна, дело его совести. И с тем ему теперь жить. Но я должен был его спрашивать. И спрашивал о другом. — На руке у тебя были часы? — Были. Но я на них посмотрел последний раз без десяти одиннадцать. — А потом? — А потом некогда было. Он произнес эту фразу вовсе не устало, что не удивило бы меня, а напротив — с тайным вызовом, по-юношески опрометчивым, но и решительным. — Понимаете, я подождал еще минут десять-пятнадцать. И решил идти домой. Спрыгнул с кирпичей. И вижу: из хаты выбежал человек. Когда спрыгивал, я прыгнул не вниз, а в сторону, и потому увидел крыльцо. Я его увидел сбоку, и видел, что за ним, за крыльцом, в окне горит свет. Человек, я его сразу узнал, побежал в сторону Микитовской. Побежал, словно испугался чего-то. И свет из двери. Понимаете? Я — туда. — Зачем? Володя провел пальцами по волосам, приглаживая их. — Даже не знаю, чего я туда полез. Разве я думал об опасности? А увидел я… Голос его звучал спокойно, но он волновался, я это видел. Он словно заново все переживал и не был убежден в том, что сам был только наблюдателем. Свидетелем, как сказал бы любой следователь. Войдя в дом, Бизяев не мог не увидеть постель тети Паши. Из кухни, которая одновременно служила и прихожей и столовой, был ход в ее комнату, а ее постель стояла прямо против дверного проема без петель и потому, естественно, без дверей. Поскольку именно в комнате тети Паши горел свет, Володя прежде всего и глянул в дверной проем. Он тоже узнал хозяйку дома. И так же, как Малыха, сдернуть с лица подушку не осмелился. Но в ту же секунду он услышал хлюпанье воды за стеной — шаги. И понял, что кто-то идет, обходя дом со двора, а не с улицы. Размышлять было некогда, хотя он успел сообразить: грязные следы на полу могут выдать его, так что путь в дом отпадал. Бизяев отпрыгнул назад, на тесную веранду, служившую сенями. Он надеялся опередить того, кто шел в дом, но понял, что не успеет. В беспомощности спрятался за раскрытой дверью. Если человек войдет в дом и закроет за собой дверь, Володя один останется на веранде. Уже не страх руководил им, а решимость понять, что здесь произошло. По молодости он не думал об опасности всерьез. К тому же он не видел вошедшего человека. А тот плотно затворил за собой обе двери: и входную, и из сеней в кухню-прихожую. Володя не собирался покидать Крутой переулок. Он лишь выскочил во двор и, пригнувшись, пробежал под окнами в глубь двора, за курятник, ожидая, когда этот человек выйдет из дома: крыльцо теперь Володя видел хорошо. И в ту же минуту в большой комнате вспыхнул свет. Даже двор осветился, ведь в большой комнате висела люстра, в комнате тети Паши, где свет так и продолжал гореть, — небольшой красный абажур. Тогда же Володя подумал: не мог убийца действовать при свете. Почему же тот человек, который выбежал раньше из дома, оставил за собой и свет в ее комнате, и двери раскрытыми? Значит, убийца не он? Володя и не хотел того человека даже в мыслях называть убийцей. Он узнал ведь его сразу, несмотря на дождь и темень. То был Малыха. Узнал Володя и второго, того, кто только сейчас вошел в дом. Он отчетливо увидел, кто это, когда тот зажег свет еще и в Софьиной комнате. Убийцу, говорят, тянет на место преступления. Но даже если это так, не станет же он возвращаться на это место сразу же, так быстро после совершенного? Логика, конечно, такова, но все равно, по мнению юноши, убийцей мог быть только этот человек — только этот самый Сличко, который, как показалось Володе, уже потрошил Софьин шифоньер. Володя глянул по сторонам и вдруг увидел, как вдоль стены, выходившей в садик, и именно с той стороны, откуда пришел Сличко, крадется человек в ватнике. Если бы не труп в доме, все это походило бы на приключение, и Володя наблюдал бы с любопытством. Однако в доме лежала мертвая тетя Паша, и потому Володю уже бил озноб. Вдруг погас свет в Софьиной комнате. Затем тут же погас и в большой. Человек в ватнике пробежал к крыльцу. Володя отчетливо видел в его руке молоток.15
Действительно до этой минуты события развивались именно так, как рассказывал Бизяев. Вернее, как ему все виделось, а так до известной степени и было на самом деле. Володя видел, когда спрыгнул с кирпичей, решив идти домой, что из дома выбежал Малыха. Но он не знал, куда исчез Малыха и исчез ли, не был ли и в последующие три четверти часа в Крутом переулке. Более того, Володя не знал, что Малыха входил в дом дважды. Я раньше считал, что все можно узнать, внимательно выслушав человека. Эта же история сперва заставила понять, что важно уметь не только слушать, но и спрашивать: ведь ответы мы получаем на те вопросы, какие задаем. А потом я пришел к выводу, что, даже получив ответы и выслушав искренние признания людей, все-таки невозможно порой разобраться в происшедшем. Для этого нужны определенные способности аналитика, а у меня их, очевидно, недоставало. Четыре человека, участники ночных событий в Крутом переулке, рассказали мне о том, что они видели. Что каждый из них видел. Малыха, Елышев, Надежда, Бизяев. Видели они, вероятно, многое или почти все, происходившее в доме. Но каждый из них в отдельности всего не мог видеть, каждый видел что-то и это что-то по-своему воспринимал. Я же, как ни старался, так и не мог нарисовать для себя цельную, без белых пятен, картину. Брал лист бумаги, чертил на нем путь каждого, отмечал время и… все равно сбивался. Нет, безусловно, жизнь сложнее самого запутанного сюжета. В это просто нельзя поверить: столько в доме народу за какой-то час перебывало. Порой и не желая того, каждый из них словно нарочно запутывал ситуацию. Так что я могу либо пересказать прокурору все услышанное (это я поначалу и сделал, еще до разговора с Бизяевым), либо попытаться расположить все в определенной последовательности, заполнив белые пятна собственными логичными, как мне казалось, предположениями (это я сделал после разговора с Бизяевым, готовясь к последней, как полагал, беседе с Приваловым). Итак, от Малыхи я узнал, что он побывал в доме дважды. В первый раз он вошел в дом, когда ничего не подозревал и когда по неловкой позе тети Паши понял, что она мертва. А вторично он побывал в доме после того, как там — уже после Малыхи — побывал еще один человек, с которым Малыха прежде никогда не сталкивался. Увидев тетю Пашу в неловкой позе в постели, Малыха испугался и выскочил из дома. Сперва он пустился бежать, но по дороге опять поскользнулся, упал, а поднявшись, уже рассудил и поступил хладнокровно и, как ему казалось, разумно. Он вернулся, укрылся в кустах, буквально в десяти метрах от крыльца, и вновь испытал свое недавнее чувство, будто рядом присутствует еще кто-то. Бежавшую женщину он не узнал и не мог узнать в такой темноте да под дождем. Но когда он первый раз поскользнулся, ему почудилось, что он кого-то спугнул. И теперь ему чудилось то же. Чувство не обмануло его: где-то рядом все это время был человек, и этот человек, решив, что никого поблизости больше нет, пошел к дому. Свет из открытой двери позволил Малыхе разглядеть, хоть и мельком, лицо этого человека. Малыха клятву мог дать, что никогда прежде не встречался с ним. Незнакомец между тем, войдя в дом, погасил свет, а уходя, плотно прикрыл за собой двери. Двор и все вокруг дома погрузилось в кромешную тьму. И вдруг кто-то, скорее всего этот самый незнакомец, плюхнулся в грязь, выматерился, захлюпала вода. И человек простонал так, как стонут от нестерпимой боли. Опять выматерился, опять застонал, да так, будто кто-то душил его. И наконец стало тихо. Ушел этот человек или спрятался где-то рядом? Тот ли это действительно был незнакомец, который в дом заходил? Выжидая, Малыха задавал себе эти вопросы. А потом проскользнул все же в дом, зажег свет в комнате тети Паши. Его поразило, что подушка с ее лица была снята и теперь покоилась за ее головой у стены. Малыха вернул подушку на прежнее место. Снова выскочив из дома, чтобы возвратиться в свое укрытие, он оставил дверь открытой. Ветер придул ее к порогу, но плотно прижать не сумел, и она колыхалась. Проще всего было пуститься бегом к Октябрьской площади и позвать милиционера, но Малыха решил, что еще успеет это сделать, когда поймет, кто здесь стонет и прячется. Спрыгивая с кирпичей, Володя Бизяев как раз и увидел, что Малыха выбежал из дома. Володя, повторяю, не знал, что Малыха побывал в доме второй раз. Кроме того, Володе показалось, что Малыха побежал в сторону Микитовской, а тот ведь скользнул в укрытие. Узнав Малыху, Володя испугался — не за себя, а за Гришку. (Бизяев говорил мне: «Разве я мог его оставить? Я и о себе не думал. Почему он тут? — вот какой вопрос меня мучил. Но еще я подумал, что не имею права ему мешать. Может, происходит что-то такое, чего мне и не понять. А может, я чувствовал беду?») Малыха из своего укрытия узнал Бизяева и был этим потрясен. Получалось, что Володя тоже прятался. Значит, он узнал обо всем до того, как узнал Малыха? (Малыха говорил мне: «У меня в голове все так смешалось, будто ночь напролет со штормом боролись. А тут одна мысль засверлила: чего Володька тут? Я уж в дом за ним собрался, я уже и ногу из куста высвободил, чтоб за ним…») Но тут Малыха увидел, как по двору — напрямик, со стороны садика — идет, нисколько не боясь — так это во всяком случае выглядело, — здоровенный мужчина. Узнать Прокопа Сличко — то был он, собственной персоной — Малыха не мог: как и того незнакомца, Малыха никогда отца своей Веры не видел. Но хоть и не знал Малыха, что это Сличко, а значит, и Любкин отец, хоть и не знал Малыха этого Прокопа в лицо, зато знал, что Володька в дом забежал. Малыха распрямился в своем укрытии, готовый к прыжку, готовый прийти на помощь. (Малыха говорил мне: «Если б тот поднял руку на Володьку, я за себя бы не отвечал. Честное слово, размозжил бы ему голову на месте».) Но Володя обошелся без помощи. В доме он спрятался за дверью, а когда выскочил из дома, укрылся за курятником. Малыха рванулся было к парню, за курятник, да вовремя присел. Для обзора его укрытие — в кустах — было более выгодным, чем укрытие Володи. Малыха видел весь двор и сад за ним, Володя же — лишь двор. Малыха и остался в кустах, потому что увидел, как в саду — от дерева к дереву — заметалась серая тень. («У меня снова дух перехватило, — рассказывал мне Малыха. — Как в кино — с такой скоростью все менялось. Убийство… какие-то люди… сперва женщина пробежала, потом тот неизвестный и стоны — его или нет, так ведь и не знаю, может, еще кто там был… потом Володька… и за ним — тот мужик огромный… и теперь этот, в сером ватнике, в саду…») Малыха тоже заметил молоток в руке, хотя и не узнал Павла Ивановича. Но он правильно решил, что второй (Петрушин) преследовал первого (Сличко) вовсе не для праздного свидания. Между тем этот второй подбежал к двери. А в доме вдруг стало темно. Сперва погас свет в Софьиной комнате, затем тут же и в большой. Перестало светиться и окно той комнаты, в которой лежала тетя Паша. («Когда он наклонил голову и ухо приложил к двери, — рассказывал мне Бизяев, — я только тогда его узнал. Кто же не знает этого придурка Петрушина? И я захотел, чтобы он прикончил Сличко. Чтоб мне не пришлось пачкать руки об этого гада. Чтоб гад — гада. Понимаете?») Но ни Гриша Малыха, ни Володя Бизяев не знали, что за этими двумя — для Малыхи они были просто первый и второй, а для Бизяева — Сличко и Петрушин, — что за этими двумя шли еще двое. Я же об этом узнал от самих Надежды и Елышева. Надежда, поспешившая вслед за отцом и Павлом Ивановичем, просто-напросто увязла в каком-то раскисшем переулке и потому вынуждена была идти в обход. Не прямой дорогой, которой — по ее предположению — пошли те двое. Перед Елышевым же, шедшим в тридцати метрах за ней, встал вопрос, по чьим теперь следам идти: за обоими мужчинами или за Надеждой? Его подмывало, конечно, пойти за ней, но, рассудив по-мужски, он решил пойти за ее отцом и ее новым мужем — не потому, пожалуй, что мысленно он именно так называл Сличко и Петрушипа, а потому, что понимал — их ночное путешествие может окончиться совсем не безобидно. Однако Елышев потерял их след и заблудился. К тому же его внимание на время отвлеклось на какого-то мужчину. Весь грязный, с головы до ног, тот стоял, обхватив ствол дерева, как обычно стоят пьяные. И то стонал, то взвывал, когда пытался продвинуться дальше. Сперва Елышев даже пошел к нему, хотя для этого и пришлось свернуть в сторону, но, уже подойдя к мужчине, вдруг решил, что связываться с пьяным на ночь да еще в такую погоду не стоит: если тот здешний, кто-нибудь из микитовцев подберет и без него, без чужака, а если не здешний, то куда ему, Елышеву, деваться ночью с пьяным, раз и без пьяного он заблудился. Надежде же, лучше Елышева знавшей Микитовку, не хотелось идти по освещенной Микитовской улице, где ее могли увидеть и узнать. Потому она то и дело пыряла с Микитовской в переулки. И только она приготовилась в очередной раз сдернуть с освещенного тротуара в темный проулок, как навстречу ей вывалился перепачканный мокрой глиной пьяный. Надежда отпрыгнула назад, выскочила на проезжую часть, а потом уж ноги сами понесли ее дальше. Пьяный же за ее спиной издавал странные звуки, в шуме дождя они пугали ее еще больше, и хотя Надежда удалилась от перекрестка, вой пьяного преследовал ее. Елышева же какой-то переулок вывел не в конец Крутого, куда он шел, а в начало, почти к Микитовской улице. И здесь его увидела Надежда. («Меньше всего я хотела его тогда увидеть, — рассказывала она мне, — вообще не хотела его видеть, я ведь думала, что он идет от Соньки. Как я его ненавидела в ту минуту!») Елышев ее не видел. Он довольно быстро понял свою ошибку, понял, что попал не в конец Крутого, а в начало… Постоял посреди переулка и повернул обратно — пошел прямо по переулку, по раскисшей, немощеной проезжей части. А Надежда сперва струсила идти за ним и долго не решалась ступить в переулок, где прожила большую часть жизни. Но страх за Сличко и Петрушина, за отца и мужа, которые могли натворить бед, пересилил все, даже ненависть к Елышеву. И она, прижимаясь к садовым заборчикам, поспешила к дому. Так объясняла она сама, но я думаю, что тайная мысль, которая привела ее в дом к Петрушину, — надежда на ховашку, на богатство, — та же тайная мысль вела ее и дождливой ночью по Крутому переулку. Елышев же, хоть и пошел за двумя мужчинами, всю дорогу размышлял о Надежде. Вмешиваться в чужую ссору он не хотел. А хотел узнать, как поведет себя Надежда. («Что мне те двое? — говорил он мне. — Их дело — их забота. А до конца раскусить Надю — не мешало бы. Вдруг она в какой темной сети запуталась? Или сама других запутывает? Она могла, чего теперь скрывать».) Однако оказалось, что, плутая по переулкам, Елышев вовсе не опоздал: те двое, выходит, не слишком спешили. Но старшина проявил неосторожность. Он появился во дворе в тот момент, когда Петрушин был уже на крыльце. Павел Иванович увидел его и с перепугу выронил молоток, который громко стукнул о бетон. Павел Иванович соскочил с крыльца, поскользнулся и упал на четвереньки. (Малыха говорил мне: «Я ждал, когда выскочит тот, который в доме». Бизяев говорил мне: «Я ждал, когда выскочит из хаты тот гад. Я б ему врезал». Елышев говорил мне: «Ничего я не ждал. Свалял дурака — вот что я о себе подумал».) Упав на четвереньки, Павел Иванович быстро учуял опасность. Вскочил, бросился словно молодой к калитке и исчез и темноте переулка. Надежда, кравшаяся за Елышевым, столкнулась с Петрушиным в переулке, подходя к калитке, и он увлек ее с собой. Она, конечно, не сопротивлялась, более того — была рада, что именно Павел Иванович уцелел. А Елышев, как она твердо знала, остался у дома или, считала она, уже в дом вошел. Услышав утром о смерти тетки и отца, она без колебаний решила, что Елышев — в том участник, может, не сам на преступление пошел — по наущению Софьи, пожалуй. Ненависть подсказывала Надежде такие мысли. И еще больше радовалась она, что Павла Ивановича Елышев спугнул. (Елышев верно потом рассуждал в разговоре со мной: «Он не меня самого испугался, а моей формы. Меня-то в темноте да издали он бы и не узнал. А по форме принял за милиционера. Вот что он, интересно, подумал? Что милиционер пришел Сличко забирать?») Шум во дворе должен был привлечь внимание человека, находившегося в доме. Но его давно научили осторожности, он слишком хорошо знал о своем положении в этом городе, чтобы выскочить во двор. Вероятно, он глянул в окно, увидел шинель с погонами и поблескивавшие под дождем пуговицы… (Бизяев говорил мне: «Я ждал, когда кто-нибудь из нас сдвинется с места». Малыха говорил мне: «Я ждал Володьку Бизяева. Без него не хотел уходить, не хотел оставлять его тут». Елышев говорил мне: «Я стоял как дурак, не мог с места двинуться, ноги словно примерзли к месту. Такая тьма, ничего не разберу, никого не вижу».) Дальше — это уже по моей версии — все было просто. По моей версии, подчеркиваю. Если бы в доме не находилась мертвая тетя Паша, Сличко, видимо, нашел бы какое-то иное решение. Но понимая, что ее смерть не только утяжелит его долю, а сначала удесятерит усилия тех, кто обязан поймать его, он открыл окно, выходившее на пустырь, бесшумно выбрался и через пустырь побежал к кирпичной стене, к тому месту, где она, разрушенная временем, сходила на нет. Елышев не увидел Сличко, потому что пошел прочь от этого дома тотчас же после бегства Петрушина. Старшина так и не узнал в тот вечер, что же дальше произошло там, где он побывал. («Если бы я знал, что там Малыха и Володька, я бы не ушел, ни за что не ушел, — признался он мне. — Но Петрушин исчез, Надя, как я понимал, уже не придет, раз до сих пор не пришла — я ж долго блуждал. А ждать, пока ее отец из дома выйдет, чтоб снова схлестнуться с ним, — мне было лишним».) Бизяев ничего не услышал: курятник ведь совсем с другой стороны дома, нежели пустырь. Но Малыхе, привыкшему по ночам вслушиваться в голоса реки, показалось, что за домом что-то хлюпнуло — и не раз. Ему еще долго слышался какой-то топот и глухой шум, словно из-под земли. Бизяев и Малыха не сразу покинули свои укрытия. Это было рискованно, оба опасались привлечь внимание человека, скрывавшегося в доме, ведь они не знали о том, что Сличко через окно покинул дом. Малыха, который слышал что-то — или ему казалось, что слышал, — не связал это с бегством человека из дома: шум доносился вроде издали, с пустыря ли, из оврага ли… Первым все-таки покинул двор Бизяев. («Не видел я Малыхи, — признался он мне с огорчением. — Если б я знал, что он там, мы бы вместе… Но я думал, он давно ушел. Потому поплелся домой. По задам, по огородам. Я ж там все помню, с детства. Но если бы знал — все бы сделал не так!») Малыха в конце концов проскользнул за курятник. Но Володи там уже не было. («Вот тогда меня одолел страх, — признался он мне. — Аж затрясло. Не помню, как пробрался через двор на улицу. Помню — бежал по Микитовской. Будто очумелый».)16
Выслушав Володю Бизяева и расправившись мысленно с белыми пятнами, я проникся уверенностью, что моя версия безошибочна. Однако, покинув Чергинца и Бизяева, я отправился вовсе не в прокуратуру, а в больницу. Я рассудил, что Привалову ни я, ни моя окончательная версия сейчас не нужны. По пути на Яруговку я заглянул в горздрав. Как секретарю парторганизации лучшей в городе, показательной больницы, причем секретарю молодому, по райкомовским меркам, недостаточно опытному и потому излишне самостоятельному, мне приходилось бывать в горздраве часто. Первый секретарь горкома, с которым я случайно встретился в вестибюле, предложил подождать его несколько минут: он едет на «Южсталь» и подбросит меня в больницу. Поскольку он собирается сделать петлю по городу, значит, в дороге снова будет уговаривать перейти на работу в горздрав. Ну как доказать, что противопоказана мне должность администратора? В просторном холле, наискосок от гардероба, вот уже второй месяц стоял макет застройки Новоднепровска. Проект разработали молодые киевские архитекторы и получили за него премию на всесоюзном конкурсе. Все недосуг мне было раньше рассмотреть макет, а сейчас я первым делом отыскал на нем Микитовскую улицу. Насколько шире она, оказывается, станет. И пойдет прямо… через нынешний овраг. Вот интересно: там, где сейчас овраг, будет виадук, а Крутой переулок пройдет под этим виадуком и выйдет к Днепру. Несколько пяти и девятиэтажек как бы окружат нынешний одноэтажный микрорайон. Микитовка добротно отстроена, так что архитекторы только вписывают ее в новый проект. За теперешним кирпичным разваливающимся забором на мосте разрушенного в войну железоделательного заводика вырастет здание металлургического техникума. С собственными мастерскими из стекла и стали. Просто не верится, что уже в следующей пятилетке так изменится город! Глядя на тщательно сработанные на макете фонарные столбики, я подумал о том, как светло станет в переулках Микитовки, в том числе и в Крутом. А где светло, там и чисто: асфальтом их покроют, тротуары выложат. И прямиком из переулков на пляж — так и смотрят они стрелочками на Днепр… — Замечательное зрелище, правда? — Секретарь горкома положил мне руку на плечо. — Даже в таком игрушечном городке неплохо бы пожить. А каково будет в настоящем? Посмотрите, сколько всего добавится по вашей профессии: поликлиника, еще одна, еще… А вот больница вдвое больше вашей нынешней… Вы только подумайте, какое медицинское хозяйство… И всю дорогу, как я и предполагал, он уговаривал меня перейти в горздрав. — Не согласитесь — переведем, как говорится, волевым решением, — сказал он мне, высаживая у яруговской больницы. — Ладно, время есть еще. Подумайте хорошенько: стоит согласиться. Мысли о будущем Новоднепровска и о своем собственном будущем увели меня довольно далеко от приваловского дела. И решил я под свежими впечатлениями от взгляда и будущее категорически отказаться от копания в мрачном прошлом Крутого переулка. Сейчас же позвоню прокурору и завершу на том свою карьеру его внештатного помощника. Но, к моему удивлению, Привалов уже был в больнице, достаточно терпеливо, как он подчеркнул, поджидая меня. И еще раз он удивил меня, сообщив: — Жду разрешения врачей побеседовать с вашим незнакомцем. Сижу и жду. Перелом ноги у него оказался очень сложный, к тому же он много крови потерял. Не сразу сообразив, о ком говорит прокурор, я спросил: — Кто же это? — по тут же выразился более профессионально. — Личность установлена? Привалов, стоявший у окна и куривший папиросу, бросил окурок в форточку. — Установлена, — усмехнулся он, — но фамилия и прочие титулы вам совершенно ничего не скажут. В общем, это человек, за которого не так давно вышла замуж Галина Курань. Пришел и мой черед присвистнуть по-новоднепровски. Там, где мне приходилось напрягать фантазию, прокурор все узнает наверняка. — А ее вы задержали? — спросил я. — Пока в этом нет необходимости. — Прокурор с минуту помолчал, а затем спросил в раздумье: — Как вы думаете, он станет ее выгораживать или расскажет, что знает? — По-моему, он не может простить ей, что она встречалась со Сличко. Если он, конечно, знает про того что-нибудь. — Он все знает. И прокурор сообщил мне то, что успел узнать у Чергинца, когда Сергей забегал к нему сообщить о Петрушине. Тогда-то Привалов и расспросил его подробно о Галине, но до моего последнего звонка, конечно, не связал собранную информацию о ее новом семейном положении в одну цепочку с ночными событиями в Крутом. Итак, по словам Чергинца, новый муж Галины был без ума от нее. Едва успел похоронить жену, как женился на Галине. Не исключают на Микитовке, что их, с позволения сказать, роман начинался еще при жизни его супруги. Впрочем, это малоинтересно. Интереснее другое. Вероятно, он заподозрил что-то неладное. Стал следить за Галиной. Может быть, чье-то слово сыграло свою роль. Особенно он стал следить за ней как раз в последние дни, когда уже совсем не верил ей. — Трудно предположить, — сказал прокурор, — что она не понимала, чем рисковала, встречаясь со Сличко. — Свой риск, — решительно начал я, — она ставила на одну доску с надеждой урвать что-либо из того, чем завладеет Сличко. Вероятно, речь шла о золоте, а на золото многие падки. И людям почище Галины оно души травит и жизни губит. Такие же, как Галина, ради золота способны на все. В тот вечер муж решил, наконец, выследить ее и обманул — сказал, что едет к сыну. Сейчас она, конечно, знает, что он ее обманул, и, видимо, знает, где он находится. Но тогда поверила, а он тайком следил за ней. И дорога в конце концов привела в известный нам дом. Как вы мне только что объяснили, ему этот дом тоже известен, раз он двоюродный брат тетки Павлины и, значит, умершей матери четырех сестер. Конечно, его удивило — что нужно Галине и такую слякоть в Крутом переуле. Сперва-то он подумал, что она идет в свой старый дом, тот самый, который она оставила сыну, выйдя замуж, и в котором, как мы предполагаем, проводил время и Прокоп Сличко. Но затем он увидел, что Галина направилась в дом тети Паши. Подозрения его вроде бы рухнули, так как он знал: мужчины в том доме не живут. Он ждал терпеливо, успокоился, взял себя в руки и не выдал своего присутствия в переулке. Даже тогда, когда в доме погас свет, а из двери выскочила его Галина. Он не побежал за ней. Он пошел к своей двоюродной сестре — выяснить причину столь позднего и такого таинственного визита жены на окраину Микитовки. Он дернул дверь — та поддалась. Он прошел дальше. Темно. Нащупал выключатель, зажег свет. И увидел… — Вы хотите сказать: увидел, что Павлина убита его женой? — спросил Привалов, как мне показалось, с утвердительными нотками в голосе. Вдохновленный похвалой, я продолжал, совершенно забыв о том, как сам настаивал на доверии к выводам экспертизы, утверждавшей, что тетя Паша не была убита, а умерла своей смертью. Ведь это прокурор именно тогда предложил в интересах следствия считать, что тетю Пашу убили. Впрочем, Галина, как я теперь был твердо убежден, убившая тетю Пашу, могла это сделать просто: поскандалила с ней, а когда старухе стало плохо с сердцем, вместо помощи положила ей подушку на лицо. — Галининого мужа, — пошел я дальше развивать свою новую версию, — естественно, охватил страх, и он, не помня себя, выскочил из дома и бросился вдогонку за женой. Сперва страх заставил его бежать в глубь Микитовки, в переулки, а потом тот же страх вернул его к дому. Но пока он бегал, в доме побывал еще один человек — Малыха. У парня хватило ума не сбежать, а ждать. Муж Галины вернулся в дом и не только выключил свет, но и снял подушку с лица кузины, выправил тело. А затем случилось то, что, собственно, и привело его в больницу: в темноте он оступился, упал — и сломал ногу. Но не мог же он оставаться на месте? На месте преступления, да еще чужого. Из последних сил он стал оттуда выбираться. Нельзя осуждать Малыху: он в темноте что-то слышал, но не представлял себе, что не повинный ни в чем человек сломал ногу. К тому же и внимание Малыхи отвлекли вновь пришедшие, что и позволило, кстати, этому — Прохор, говорите, его зовут? — со сломанной ногой выбраться со двора. Потом, в переулке, Елышев принял его за пьяного. И Надежда не узнала своего двоюродного дядьку — тем более, что, по вашим словам, точнее, по словам Чергинца, он редко бывал в их доме с тех пор, как, вернувшись с фронта, узнал, за кем, оказывается, была замужем его младшая двоюродная сестра, мать четырех девчонок. Если бы, выходит, не поздняя любовь к Галине, этот человек никогда и не попал на орбиту, столь близкую к Сличко. А из-за этой любви, говорите, уважения многих друзей лишился? Это вам тоже Чергинец рассказал? В общем, и Надежда приняла его за пьяного. Днем, когда она нанесла мне так точно рассчитанный вами визит и рассказала об этом пьяном, я еле дождался ее ухода, чтобы позвонить вам: ведь про него же упоминал и Елышев. — Ну с этим ясно, — сказал Привалов. — Ясно, что вы пытаетесь доказать. Теперь вы уже не настаиваете на своей прежней версии, что тетку Павлину убил Сличко — каким-то неизвестным в криминалистике способом, как вы раньше подчеркивали, чтобы упрекнуть меня за недоверие к показаниям экспертизы. Значит, теперь вы уже считаете, что подобным способом тетку убила Галина. А что же, по-вашему, делал Сличко? — Сличко, вероятно, провел день в старом доме Галины и к вечеру должен был вернуться домой. Но прежде, чем идти домой, он нанес визит Петрушину. Думаю, сделал это потому, что уже собирался уезжать — вероятно, ночным поездом. Иначе зачем ему этот визит? Словом, все дальнейшее к смерти тети Паши отношения не имеет. Менаду прочим, если бы Сличко сразу пошел домой, не заходя к Петрушину, тетя Паша продолжала бы жить. — Вот даже как? — Галина пошла на это преступление потому, что ей важно было окончательно погубить Сличко и тем самым избавиться от него. Ведь он же отомстил ей за нежелание уехать с ним, вынудив ее сына Пашку Кураня ограбить магазин. — Может быть, она же убила и самого Сличко? Вы так не считаете? — Нет, я так не считаю, — отвечал я, делая вид, что не замечаю приваловской иронии. Совершенно очевидно, что он не верил моей версии о роли Галины в гибели тети Паши. — Но вы все равно установите следующее. Сличко, явившись в Новоднепровск, увидел, что явился попусту. Не только из-за того, что потерял свой клад. Он и женщину потерял, с которой хотел провести остаток жизни. Возможно, он и раньше каким-то способом… — Конечно, тоже неизвестным в криминалистике, — с улыбкой заметил Привалов. Но и эту реплику я пропустил мимо ушей. — Каким-то образом звал ее к себе, да она не ехала. Кстати, некая ревность тоже могла подстегнуть его и заставить приехать в Новоднепровск. Хоть жил он на свете по чужим документам, мог же надеяться по этим же документам официально жениться на Галине и собственного сына усыновить. Однако, разобравшись во всем, потеряв надежду на спокойную и обеспеченную старость, он принял решение проучить Галину. Сидя по ночам или средь бела дня в ее старом доме, он залез в душу к сыну. Он пожертвовал сыном, чтобы проучить Галину. Дать ей испытать то, что он уже прошел, чтобы и она потеряла все: и сына, и мужа, и, возможно, свободу. Вы говорите, что парень исчез после ограбления магазина? А я уверен, что он прячется где-то в Новоднепровске. Вот вы попробуйте провести Петрушина по тому пути, каким он шел следом за Сличко в тот вечер. Наверняка Сличко по дороге нанес визит и своему балбесу-сыну. Да, да, именно потому Сличко с Петрушиным и шли так долго, что отец навестил сына в каком-то тайнике, а Петрушин, может быть, об этом и не подозревает. Но помнит же он свой путь? Так вот. Галина мстила еще и за сына. А может быть, и за то, что рухнули и ее надежды на ту ховашку… И дальше я рассказал прокурору, что узнал обо всех ночных событиях. Привалов слушал меня терпеливо и где-то ближе к переходу от версии к информации без тени улыбки: многое в моем рассказе его заинтересовало, хотя, повторяю, Галину убийцей тетки он явно не признавал. — Фантазия у вас, доктор, работает неплохо, — в задумчивости заметил он. Но спустя мгновение оживился. — Нет, это совсем неплохо. Зря вы надулись. А кто же закрыл окно? — вдруг спросил он. — Сличко же, вы считаете, выскочил в окно. Но когда мы с вами пришли утром, окно было закрыто, и притом так, как ему положено быть закрытым в холодную осеннюю ночь. Кто же закрыл окно? — Софья, — быстро ответил я. — Когда утром пришла с дежурства. Эта девица умеет держать себя. Она и ко мне приходила, чтобы ввести меня в заблуждение. Хотя подождите… Вы же сами прислали мне записку, что она отлучалась из больницы. — Она якобы беспокоилась о том, что происходит дома. — Значит, она и закрыла окно. Возможно, что тогда же ночью. А больницу покинула по причине простой и глупой. Когда Елышев, которого она уже считала своим любовником, выходил из ворот больницы, его задержала подъехавшая на автобусе… ну, довольно молодая вдова… врач из нашей больницы. — Так как Елышев не сказал мне этого прямо, то и мне не хотелось называть прокурору имени своей сестры. А ведь почти наверняка это как раз Валентина пыталась удержать Елышева. — Софья знала, что соперница закончит работу в двадцать два часа. Вот она и убежала в это время, чтобы подкараулить Елышева возле ее дома. Конечно, не дождалась, потому что соперница задержалась в больнице, а Елышев пошел сперва к Надежде, потом за Надеждой. И своей формой, ночью похожей на милицейскую, сыграл во всех ночных событиях едва ли не решающую роль. Вот тут Привалов так красноречиво вздохнул, словно окончательно разочаровался во мне. — Конечно, можете не соглашаться со мной, — пришлось добавить мне. — Разумеется, не согласен, — ответил Привалов. — Многое было не так. Не все, но многое. Ваши парни и девицы говорят правду. Только не всю, что можно понять, — они ведь прежде всего стараются отвечать на вопросы. К тому же мимо вашего внимания прошли кое-какие важные детали. В общем, поскольку дело попало ко мне, я ведь говорил вам об этом, завтра всех этих парней и девиц и еще кое-кого я вызову к себе. Будут протоколы. Обвинительное заключение. Суд. Приговор. Или даже приговоры. — В таком случае, — рассердился я, — хороша же была наша с Чергинцом роль. Считайте, что я вам больше не помощник, или кем там я был у вас. А Чергинец сам решит. — Ну что ему решать, — улыбнулся Привалов. — Вы с ним очень помогли нам. И, между прочим, вполне могли бы докопаться до истины. Но его пристрастия еще сильнее, чем ваши, доктор. Впрочем, бывают дела, когда пристрастия играют решающую роль в раскрытии страшных преступлений. Кстати, и в этом деле они были необходимы. И вы еще поймете, почему. В дверь кабинета постучали. — Войдите, — разрешил я. Мы с прокурором раскрыли рты от удивления. Вид у нас был преглупейший. Потому что в мой кабинет — с белыми степами, белым топчаном, белыми халатами на вешалке и потертым столом — ворвался разгоряченный, возбужденный Чергинец. Белый халат, полученный в гардеробе, он держал скатанным под мышкой. Из дома в дождь он выскочил, конечно, без шапки — голова и плечи его намокли. — Я знаю: дядько Прохор ничего вам не скажет. Только мне, — с места в карьер начал Сергей. — Ты уверен, что ему есть о чем рассказать? — с какой-то странной опаской спросил Привалов. — Святослав Владимирович, я не знаю, до чего вы договорились с другими, — укорил прокурора Чергинец, — но если хотите, я вам без расследования расскажу — кто, за что и для чего. А вот как это было, я и знать бы не хотел… Словом, дядько Прохор с моим отцом были друзьями. Еще с войны. Вернулись. Прохор и узнал, что в его семействе у двоюродной сестры сотворилось. Что Сличко этот сволочью оказался. Пока девочки малые были, Прохор помогал незаметно, кой-чего подбрасывал, а сам в тот дом почти не приходил. Когда племянницы выросли, совсем там не появлялся. А вот к старости поближе, когда друзей стал хоронить, и моего отца в том числе, когда и жену похоронил, тут-то и дал слабинку. Галина его и окрутила. Я говорил ому… да разве же только я… Ох эта Жуйчиха, сильна, видать, там, где нам не видно. С тех пор, как он на ней женился, все мы отвернулись от него. И в этот момент распахнулась дверь. — Товарищ прокурор, — позвала санитарка, — врач сказали, можно к нему. Мы с Приваловым на бегу застегивали халаты. Чергинец натягивал свой. Прокурор позвал помощников. У постели дядьки Прохора, как его назвал Сергей, нас оказалось пятеро. Больной молчал. Шуршала лента магнитофона. Больной переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановил его на Чергинце. — Сережа… сынок… — прошелестели слова, голос звучал слабо, но и свежо, так говорит обычно человек, который долго молчал, потому что вынужден был молчать, и наконец заговорил — с облегчением, с желанием. — Сережа… сыпок… Чергинец опустился на колени. — Да, это я, дядько Прохор, я к тебе пришел. — Сынок, прости меня, за все прости… — Да я простил, дядько Прохор, давно простил. Если бы в ту минуту я вдумался в эти слова Сергея, то не поверил бы ему: никого он никогда не прощал, не умел он прощать. Но и врать не умел. Раз так сказал, значит, никогда по-настоящему не держал на Прохора зла. Значит, жалел его. Хоть и в разлуке. — Она… она… ты был прав… какая она… — Что она сделала, дядя Прохор? — Сережа, поверишь ли… Сережа… — Что она сделала, дядя Прохор? — Сережа… Павлину… задушила она… она задушила… Сережа… Я после нее зашел… Подушкой тетку Павлину задушила. Подушку я снял, но Паша уже не дышала… Пытался поднять ее… помочь… Уже поздно было… Я победоносно посмотрел в глаза Привалова, но они ответили мне холодным и насмешливым блеском. Неужели прокурора просто не устраивала такая правда? За окнами палаты качали серыми ветвями старые липы. Они, эти вековые липы, на Яруговке медленно умирали. А я еще помнил те довоенные времена, когда липовое цветение в июле превращало наш городок в медовый пирог. Но теперь парк на Яруговке умирал. В последнюю зиму оккупации полицаи взорвали насосную в парке, а она была кормилицей лип. До сих пор — уж семнадцать лет прошло после войны — не восстановили хитросплетение подземных каналов в парке на Яруговке. Людям долго не до деревьев было, и лишь совсем недавно специалиста нашли. Успеют ли с его помощью восстановить насосную и сеть каналов, чтобы спасти деревья?17
В последующие дни прокурор был занят по горло. Все материалы находились у него, и теперь каждая его беседа с кем-либо из участников событий той ночи завершалась подписанием протокола. Период приватных бесед и нашего с Чергинцом участия ушел в прошлое. С прокурором же я встречался, как обычно, по утрам, когда надо было сделать ему перевязку. Я не приставал к нему с расспросами, но он всегда успевал сообщить мне самое интересное, однако никогда во всех наших беседах он не забывал о своем служебном долге, о незыблемом для его профессии правиле — есть информация и факты, которые ни при каких обстоятельствах, как гласит формулировка закона, разглашению не подлежат. Новая информация, конечно, видоизменяла мои версии, однако у прокурора хватало такта не осмеивать их. Впрочем, многое подтверждалось. Если же какая-то новость заставала меня врасплох и не укладывалась в первоначальную схему, Привалов доброжелательно замечал, закатывая рукав и освобождая перевязанное предплечье: — Не огорчайтесь, доктор. Информация — мать интуиции. В вашей профессии ведь тоже, не правда ли? Так или иначе спустя неделю после той трагической ночи все нам стало окончательно ясно. По привычке говорю «нам». Важно, что все стало ясно прокурору. Однако держался он так, будто знал обо всем с самого начала. В общем, спустя неделю в такой же дождливый вечер, по, как ни странно, теплый, мягкий — редко, а выпадают такие вечера даже поздней осенью, — я с удовольствием принимал у себя гостя. — Вы же разрешили прийти, когда все уляжется, — напомнил Елышев. — Еще не все улеглось, — возразил я. Утром в своем кабинете я узнал от Привалова, что ему необходим еще день-другой, чтобы завершить дело. Тогда же он рассказал мне все, что сумел расследовать, к каким выводам пришел. Но что такое приваловский день-другой? Никто не может поручиться, что завтра прокурор не переставит все свои выводы с ног на голову. — Ну для меня — все, — уверенно сказал старшина. Я понимал, что его, конечно, интересовало, как удалось прокурору докопаться до истины. И узнать это ему хотелось именно от меня. Потому что теперь я уже твердо знал, что как раз этого старшину полюбила Валентина. Она и настояла раньше, чтобы он ко мне пришел, и настаивала теперь. Ей так хотелось, чтобы я к нему проникся хоть какой-то симпатией. Но и ему не мешало бы откровенно признаться в том, как он предполагает в будущем строить отношения с моей сестрой. Для меня это важнее, чем удовлетворить его любопытство. — Вы мне, правда, все расскажете? — спросил Елышев. — Конечно, расскажу, хотя мою окончательную версию прокурор не принял. И правильно. Оказалось, что я на половине пути застрял. — Но ведь вы начали, правда? Всегда важен первый шаг, — решил успокоить меня старшина таким тоном, каким, наверно, беседует вечерами с молоденькими своими солдатами. — Ты прав. Но и первый-то шаг сделал все равно не я, а Сережа Чергинец. Он как бы напал на след. — Но ведь это вы определили, что Малыха там был. С этого же все началось. Не был бы он там — и вы бы никого из нас не нашли. А вот как вы насчет Малыхи догадались? — Опять же не я, а Сергей. Он знал, что, когда холодно, Малыха ходит в шкиперской куртке, да и когда тепло, не торопится снять ее. А тут Сергей увидел Малыху в ватнике, сообразил и повел нас в барак. В комнате было на удивление сыро. Почему? Потому что на батарее отопления сушилась до нитки промокшая шкиперская куртка. Почему она, скажем, не высохла, если сушилась всю ночь? Малыха же говорил сперва, что всю ночь спал. А на следующий день Малыха прибежал ко мне потому, что когда дома взялся за куртку, которая уже высохла, то и сообразил, почему мы с Сергеем ему не поверили. И правильно решил, что отпираться бесполезно. — А я? — абсолютно серьезно, без тени улыбки спросил Елышев. — Если бы ты сразу рассказал о своей стычке со Сличко, я бы еще сомневался, был ли ты там. Но ты боялся, что мы твою стычку превратно истолкуем. А чего тебе было бы этого бояться, если ты ночью там не был, если имел алиби? Раз ты о стычке умолчал, сомнений быть не могло — ты был ночью в Крутом. Пришел же ты ко мне на следующий день, потому что понял это. Но, вероятно, не сам решился, а тебе подсказали, что надо подойти ко мне. И кто подсказал, мне нетрудно догадаться. Я ведь о тебе и раньше слышал, хотя не видел тебя никогда. Кстати, надеюсь, что нам и о том человеке надо будет поговорить, но, видимо, попозже. — Да, хорошо, почти все так, — проговорил Елышев, и я, пожалуй, впервые увидел его таким смущенным. Испуганным видел, смущенным — пока нет. А потом он спросил: — Зачем же приходила к вам Надя? Разве ее подозревали в чем-то? — Нет, но она видела тебя в Крутом переулке. — Меня? — поразился старшина. — Значит, это она обо мне сказала? — Вот именно. Правда, я не знаю, чего ей хотелось больше — досадить тебе или выгородить. — Но вы нашим рассказам не очень-то поверили, так? — Почему же? Поверил. Я привык людям верить, но часто оказывается — зря. Вам всем я верил, но, к сожалению, слушал не так, как нужно было. — А как нужно было? — Так, как слушал меня и потом всех вас прокурор. Но самая главная моя ошибка была вот в чем: я решил — все, что вы делали, каждый в отдельности, покинув переулок, не имеет значения. А прокурор решил иначе: имеет, да к тому же первостепенное. И даже объясняет смерть Любы. — Неужели? — Ты послушай. Володя Бизяев до дому не дошел. Он поплелся на завод, хотя и не знал — зачем. Добрел до проходной, увидел телефон и позвонил. Сперва, конечно, в милицию. А потом… не догадаешься — кому. Вере! — Почему Вере, а не Любе? — К тому часу он не принял никакого решения, не знал, как быть с Любой. Подчиниться воле матери или пойти наперекор ее воле? И события в Крутом еще больше запутали Володю. Теперь об этом все знают, так что я могу говорить. К тому же он надеялся, что Вера сама позвонит Любе. Но он был в таком состоянии, что не представился Вере, не подумал, что в заводском шуме она может его голос не узнать. И фразу-то сказал всего одну, не умнейшую притом: «У тебя дома несчастье». Самое нелепое, что она потеряла голову и поступила так, как может только девчонка — не женщина с житейским умом. Непостижимо, никакой логики! Она бросает свое рабочее место и мчится в порт, в барак. В ее представлении дом — это комната Малыхи, и несчастье — от волнения она ни о чем другом не думает — произошло с ним, с Гришей. Но его в бараке нет, и Вера мечется по баракам, ищет, не находит и вынуждена возвратиться в цех. — А куда же Малыха подевался? Если Володя дошел до завода, то Гришка мог до дому? — Вот теперь и ты рассуждаешь, как это делал Привалов. И Малыха наткнулся на автомат у ЦУМа и позвонил Любе. Сперва он пытался дозвониться до Веры, но той на месте не было, она ж была в порту. По простоте своей он и рассказал Любе о смерти тети Паши, о том, что убили старуху. Тут и Малыха, наконец, сообразил, что надо в милицию сообщить. А там, кстати, ему ответили: «Уже знаем». Значит, Бизяев Малыху опередил. Люба же, ты сам знаешь, не Софья, не Надежда. Она девочка была впечатлительная и реагировала как человек. Малыха же совсем ни к чему сказал ей, что видел там Бизяева, во дворе. И что потом тот исчез. Глупость сделал Малыха. Не понимал он, как все это в Любиной голове уложится, что она подумает, кого и в чем заподозрит. А Люба стала звонить Софье, Вере-то не смогла дозвониться. Но и Софьи на месте не оказалось. Это уж ты должен знать, почему, — пожав плечами, я взглянул на сосредоточенного Елышева. — Да, — согласился он, — тут я виноват. Он действительно поступил не лучшим образом в ту ночь. Из Крутого переулка пошел через весь старый город на Яруговку, в больницу. Я, между прочим, пытаясь предвидеть поступки Софьи в ту ночь, кое-что угадал, но далеко не все. Как я и предполагал, раздираемая ревностью, Софья побежала, как говорят в Новоднепровске, ловить Елышева на месте измены. Его там, конечно, не было. А ее возвращение в больницу около полуночи как раз совпало с появлением Елышева в больничном холле. Он и рассказал Софье о том, что сам знал, добавив фразу: «По-моему, там нечисто сейчас». Правда, о смерти тети Паши он тогда ничего не знал и имел в виду только ссору Петрушина и Сличко. Софья хотела, чтобы он проводил ее в Крутой переулок, но он решительно отказался. Он сам толком не знал, зачем пришел в больницу — скорее всего, не к Софье, но встретил ее и рассказал. И она убегает домой. Увидела, конечно, тело тети Паши. Грязь на полу в комнатах. Обнаружила исчезновение денег, которые она многие годы копила. В те минуты она готова все отнести на счет отца. Слишком много вины — так ей кажется. Хоть как-то облегчить ситуацию — вот ее решение. Логики мало в ее поступках, но ведь в каком была она состоянии после всей беготни. И Софья средь ночи приводит комнаты в порядок. Даже наволочку на подушке, что лежала у тети Паши на лице, сменить догадалась. И окна да двери она плотно прикрыла. Полы вымыла, чем ввела наутро всех в заблуждение. Прокурор ступить боялся в комнаты — так они сверкали чистотой. — Она вообще непорядок не терпела, все время девчонок гоняла чистоту наводить, — подсказал Елышев. — А теперь — ее дом. Нет, не заметала она следы отца. Просто грязь не могла вытерпеть в собственном доме. — Итак, Софья привела в порядок комнаты, успев опередить милицию. Вот к чему, кстати, привела медлительность Бизяева и Малыхи. Софья же все в бешеном темпе делала, вернулась быстро в больницу, и остаток ночи ей пришлось провести в операционной. А ты в это время… — А что мне оставалось? Промок, дома своего нет. В казарму в такое время не вернешься. Где теплый угол найти? Да, что я, разве это главное? Я ведь тоже, как и Малыха, многое понял, но вы же сами сказали, что об этом потом… — Я тебя не виню. Самое страшное, что Люба в это же время… Следствие ведь сразу установило, что она помогала отцу встречаться с Галиной. Она тоже молчала о его появлении. И теперь она во всем винила себя — в гибели тети Паши прежде всего. Она могла думать не только на отца. Она к тому же не могла понять, что делал там Бизяев. И если он не виноват ни в чем, то почему прятался, почему даже от Малыхи скрылся? И, конечно, она решила, что он виноват, да и с отцом ее мог столкнуться. Тогда для нее все, конец, больше Володьки ей не видать. Кто теперь узнает, о чем она думала? — Выходит, мы все виноваты. — Да как сказать — и все, и никто. Что ты не пошел в милицию — тебя можно оправдать: ты ничего ведь и не знал о смерти тети Паши. Но все же знал, что нечисто в доме, раз сказал об этом Софье. А вот Бизяев, если уж пошел на завод, должен был все рассказать Чергинцу — тот нашел бы верное решение. А то ведь сколько времени Бизяев потерял, прежде чем позвонил в милицию. Как я понимаю, он еще ничего не знал о смерти самого Сличко. Может быть, парень надеялся отомстить ему в следующую ночь, потому и пребывал в растерянности. А Малыха, если уж не пошел в милицию, отыскал бы Веру. Он же, глупый, позвонил Любе, только после этого — в милицию и отправился домой. — Но что из всего этого мог выудить прокурор? — спросил еще раз Елышев, словно напомнив о цели своего визита ко мне. И я, отбросив наконец собственные версии, раскрыл ему суть приваловских поисков. Первыми по времени были признания Малыхи. Прокурора заинтересовало все, но особенно две детали. Первая: женщина, которую встретил Малыха в переулке, бежала. Если бы она убила тетю Пашу, она бы хоть пряталась. Бежала же она прямо по переулку с одной целью — быстрее, скорее. Словом, совсем не пряталась. Вторая деталь: Малыха утверждал, что она вдруг растворилась. Какая женщина могла раствориться в этом месте Крутого переулка? — вот какой вопрос задал себе прокурор. — Вторым был твой рассказ, — говорил я Елышеву, — и мы с прокурором ухватились за одни и те же детали: за твоего пьяного и за твою шинель. Только прокурор не согласился со мной в том, что и Сличко, помимо Петрушина, испугался твоей шинели. По мысли прокурора, это был не Сличко, а другой. И как ты, наверное, теперь знаешь, прокурор оказался прав. Он ведь уже всех, кого надо, допросил и задержал. В том числе и Пашку Кураня, понимаешь… Третьей пришла ко мне Надежда, хотя, возможно, лишь с одной целью — досадить Елышеву и Софье. В ее показаниях или признаниях прокурор выделил главное: когда Елышев постучал в дверь петрушинского дома, Сличко решил, что пришли за ним. Но не милиция, как легко можно судить по его дальнейшему поведению. Он не запаниковал, не стал прятаться, но заспешил. И дальше ход расследований был таким. Кого он мог ждать? Да, он не испугался. Но, по всей видимости, и не обрадовался, во всяком случае, нельзя сказать, что он был доволен приходом кого-то. С другой стороны, Елышев, блуждавший по Микитовке, пришел к дому тети Паши почти одновременно со Сличко. Где же тот был? Куда заходил? Теперь-то благодаря сообразительности Привалова мы знаем все. А дело было так. Галина Курань рано утром виделась со своим сыном, Пашкой Куранем, в его укрытии, там, где он прятался после ограбления магазина. Чергинец назвал его балбесом. И прокурор, как ни странно, ухватился за эту характеристику. Кстати, насчет заброшенного сарая, в котором тому балбесу можно было укрыться, отцу подсказала Люба. Так вот при встрече Галина выслушала исповедь или нечто похожее своего сына и поняла, как наказал ее отвергнутый Сличко. Более того, сын признался, что отец ночью уезжает и берет его с собой. Весь день Галина в панике. И вечером идет в Крутой — объясняться со Сличко. Но тот уже ушел, чтобы не возвращаться никогда. Перед уходом он, видимо, поспорил с тетей Пашей, и уходя, даже не обратил внимания на ее состояние, а она сознание потеряла. Таковы выводы экспертизы и догадки прокурора. Точно этого никогда уже не установить, ведь Сличко и тетки Павлины нет в живых. Сличко договорился с сыном, что зайдет за ним в тайник лишь ночью, перед уходом на вокзал. Но балбесу надоелосидеть в старом сарае у оврага. К тому же он мог опасаться, не водит ли отец его за пос, действительно ли хочет взять с собой. И Сличко почувствовал, что Пашка вряд ли усидит в сарае. Поэтому, услышав стук к Петрушину, Сличко и решил, что стучит сын, который следует за ним по пятам. Приняв стук Елышева за стук сына, Сличко пошел в тайник проверить, там ли сын. Если бы сын шел за ним, то и теперь пришел бы к тайнику, где отец и заставил бы его остаться. Но в тайнике Пашки не оказалось. И за отцом он, как тот выяснил, не следил. Все это логические выводы прокурора. А вот в чем ему признался Пашка Курань. Пашка ждал-ждал в тайнике, не вытерпел и побежал искать отца. Ему и в голову не пришло бежать к Петрушину. Где найти отца? Конечно, в доме тети Паши. Он и заявился туда. Отца не застал. Но увидел, что в комнате за кухней лежит мертвая, как ему показалось, тетя Паша. Бежать! Бежать из города вообще — решает он. Но где взять деньги на билет, на жизнь? И он ищет эти деньги. В признаниях Бизяева прокурор еще раньше уловил: свет то горел, то не горел. Пашка ищет деньги. Кое-что находит у тети Паши. И пока ищет в ее комнате, закрывает подушкой ее лицо, считает же, что мертвая она. Теткиных денег ему мало. Он ищет у девчат. Ищет в комнате у Софьи. Но уйти ему помешали. Он слышит: кто-то зашел на веранду. Спрятался он довольно надежно, в Софьиной комнате. Он не знал, что пришла мать. А она пробыла в доме всего несколько минут. Зашла — дверь-то оказалась открытой. Шагнула в кухню — и увидела тетю Пашу с подушкой на голове. На лице. В ужасе Галина сбежала. Ее муж, дядька Прохор, зайдя в дом за ней следом, решил, что убийство совершила Галина. А она, напротив, если бы была возможность предотвратить такое убийство, предупредила бы тетю Пашу об опасности. Но дело-то в том, что опасности никакой не существовало. Тетю Пашу никто не собирался убивать. У нее никакого богатства не было. Это уже знали все. Однако у Галины логический ум женщины, привыкшей оперировать накладными. В данном случае и поступки людей для нее — словно те же накладные на товары. И она начинает их тасовать в своем мозгу, чтобы решить, кто убил тетю Пашу: сам Сличко или ее сын? Клубок страха и ненависти жил у нее в душе. Уехать со Сличко — безумный шаг для нее. Она понимала это давно и не собиралась уезжать с ним. Итак, она сбежала. Малыха видел, как она неслась по Крутому переулку, но не узнал ее. Она так бежала потому, что испугалась за сына. Он в доме побывал — она не сомневалась, потому что унесла с собой забытую им в комнате тети Паши шапку. Пока он деньги там искал, шапку снял.Перчатки-то, сукин сын, не снимал. Кстати, в магазине он тоже поработал в перчатках. Отец наверняка надоумил. Так вот, не унеси она Пашкину шапку, насколько это упростило бы задачу прокурора. Она бежит и вдруг на глазах Малыхи растворяется. Но ведь чудес не бывает. И прокурор верно решил: единственная женщина, которая может на этом месте исчезнуть, — Галина, ибо она добежала как раз до своего старого дома, в котором сама уже не живет. Дом ее — на углу Микитовской и Крутого. Добежала она до него и исчезла за забором. Но Малыха об этом не знает, поэтому она для него просто растворилась. Что же ее привело в старый дом? Здесь после убийства может скрываться сын. Но его там нет. И она бежит к оврагу, в тайник, где утром она слушала его исповедь. Но и там его нет. Что делать? Вернуться к дому тети Паши? В Крутом она увидела Елышева. Возвращаться нельзя. А ее сын между тем остается в доме тети Паши. Визиты в тот вечер в этот дом следовали один за другим. Балбес никак не мог вырваться. И тут приходит отец. Он видит подушку на лице тети Паши, снимает ее. У него и мысли не возникает, что он сам оставил старую женщину в бессознательном состоянии. Значит, убийство, решает он. Раз убийство — все должно остаться на своих местах. Подушку он возвращает — не в изголовье, а на лицо тетки Павлины. Видит беспорядок — кто-то что-то искал. Он сразу подозревает сына. Идет в комнаты — там тоже следы. В Софьиной комнате он, наконец, находит сына. Вероятно, еще до этого сын открыл окно, чтобы сбежать. Происходит объяснение. Сын божится, что только положил подушку на голову и больше ничего — боялся мертвой: искал деньги, а рядом она лежит, вот и закрыл лицо подушкой. Но отец не верит, отец не берет вину на себя. — Вот здесь и вмешалась твоя шинель, — сказал я Елышеву. — Да, — согласился он, — и чего меня носило по Микитовке? — Сын увидел твою шинель. Теперь уже ничто, никакая сила не могла удержать его в доме. Он выпрыгивает в окно. Отец за пим. Этот топот как раз и услышал Малыха. Пашка оказался проворнее. Он рассказал, что успел отскочить в сторону перед самым оврагом, не ступил на тот клочок земли, который затем, когда отец на него ступил, рухнул в овраг. Малыха ведь и глухой шум слышал, от падения Сличко. Так что тетя Паша стала жертвой черствости, с одной стороны, и глупости — с другой. Может быть, и спасли бы ее врачи, если бы вызвал их кто-нибудь. Я перевел дух. Говорить о той ночи было нелегко, даже мучительно. Мне порой казалось, что я переживаю за всех этих парней не меньше, если не больше, чем они сами. — Люба же попала в тупик. Посуди сам. К Бизяевым дороги не было. Она понимала все. Знала, что Володя против воли матери не пойдет, хотя сам он еще мучился сомнениями. Более того. Она начала подозревать Володю. Нет, не в убийстве тети Паши, о смерти которой она узнала от Малыхи. Но она услышала, что там был Бизяев. Для чего он ходил? Девчонка решила, что он хочет отомстить ее отцу за смерть своего отца. И если в ту ночь не удалось, Володя не остановится. Да и совесть ее мучила. Она же помогала отцу: устраивала его свидания с Галиной, придумала, где спрятать своего сводного брата, совершившего преступление. Брата — вот что для нее главное было. Из-за того она и фамилию отца носила, хотя все сестры взяли материну фамилию. В крови у нее было чувство родственного единства, поэтому и родителей Володи хорошо понимала и вовсе не осуждала за то, что не принимали они ее в семью. Тут еще дозвониться не может ни до Софьи, ни до Веры. Кругом в ее жизни тупики. Вот и приняла свое страшное решение… А знаешь, что сказал в конце концов прокурор? Нет, не гадай, все равно не угадаешь. Он сказал так. Если бы тех парией, то есть вас троих, и девушек ваших не раздирали внутренние драмы, мы бы выбрали самую правдоподобную версию и на том бы закончили. Но всех вас раздирали драмы. Они-то и помогли распутать клубок. А я сказал Привалову: может быть, это и лучше, что пришлось распутывать, может быть, им всем с раскрытыми душами легче теперь жить будет. Ты-то сам как думаешь? Елышев кивнул. И вдруг затрещал телефон.18
Голос Привалова я, конечно, узнал сразу. Он звучал глуховато, как и обычно, по сегодня не так, как в последние дни. Не так спокойно, рассудительно, а напротив — возбужденно, озадаченно. Примерно так говорил со мной Привалов неделю назад, когда просил меня включиться в поиски тех, кто оставил следы в Крутом переулке. Неужели новое дело — мелькнула у меня мысль. Я почему-то не сразу вспомнил о том, что он мне говорил утром: что ему необходим день-другой для завершения этого дела. — Извините, — буркнул я в трубку, — у меня сегодня выходной день. Я знал, что именно так, а не расспросами, заставлю Привалова тотчас же выложить, зачем я ему понадобился, какая новость вынудила его мне позвонить. — Я вовсе не собираюсь втягивать вас в новую историю, — прогудел Привалов, словно подслушал мои мысли. — По, во-первых, я не выполнил обещания рассказать вам, для чего впутал вас в это дело. А во-вторых, и это более важно, мне совершенно необходимо повидать того сверхсрочника, старшину. Видите ли, новые обстоятельства. Известный вам Павел Курань, с которым, как вы знаете, вожусь не один день, полчаса назад сказал нечто такое, что может спутать показания наших парней. Многое теперь зависит от старшины. Значит, новый поворот? Что же мог сказать сын Галины? — Елышев у меня, — спокойно сказал я. И взглядом успокоил своего гостя. — Вы не будете возражать, если я сейчас приеду? Я не займу много времени. Всего один вопрос задам ему. И отвечу на один ваш. — Минуту, — сказал я и, не прикрывая трубку рукой, обратился к Елышеву: — Ты не возражаешь, если заедет прокурор? Старшина бросил на меня вопросительно-настороженный взгляд. — Ладно, приезжайте, — сказал я в трубку. — Вашему великодушию нет границ, — не выдержав, наконец, съязвил прокурор. Но я уже повесил трубку. — У него к тебе какой-то вопрос, но не волнуйся. — Ну что там еще? — Елышев вскочил со стула и зашагал по комнате. — Что еще? — Не горячись. Сейчас прокурор приедет — и все узнаем. Я тебе помогу. — И тут я сказал: — Давай, пока он едет, все же поговорим о женщине, которая переживает за тебя искренне и потому посоветовала рассказать все именно мне. Я ведь от Валентины давно о тебе слышал и такие ей советы давал, какие тебе вряд ли бы понравились. Советовал наплевать на тебя, хотя знаком с тобой не был. Но ты так вел себя. Елышев перестал шагать. Остановился посреди комнаты. — И что она? Послушалась вас? — Ты от волнения поглупел, что ли? Если бы она послушалась, разве приютила бы в трудный час, разве ты сейчас стоял бы здесь? Он улыбнулся и сел: — Верно, поглупел я. Тут поглупеешь. Впрочем, вы правы, вел я себя — глупее не придумаешь. И правда, надо было ей давно на меня наплевать. — А ты когда узнал, что мы с ней не только коллеги, что Валентина — моя сестра? — Да вот как дело это началось противное, так и узнал. А вы, выходит, про меня давно знали? — Слышал про тебя. Теперь вот увидеть довелось. Познакомиться. Надолго ли? — Поверите, если скажу — навсегда? — Не зарекайся. Не мне тебя учить, не первый же раз ты к женщине переехать собрался. — Не первый. Но последний. И впервые — по закону. — Не спеши, думай лучше, чтоб ей вреда не было. Хватит с нее бед… Матери у нас разные были, а отец… ей он настоящим отцом был, а от нас с братом ушел. Потом война. И он не вернулся, и моя мать, и ее… Да, вот такие дела… — А знали вы, что я… когда срочную служил… дружил с ее мужем? — Не знал. Этого не знал… Да-а-а… Сталь сожрала его, взрыв этот проклятый в тот день, в то утро — как и брата моего, как и Витю Чергинца. Это я знал… А что ты дружил с ним, не знал. Вот и еще один наш… новоднепровский… клубок. Эх какая у них бригада была! Только с теперешней чергинцовской сравнить можно. Прошепелявил звонок в прихожей. Елышев сразу как-то сжался в кресле. Прокурор, здороваясь, кивнул мне. Елышеву тоже кивнул, и по этому кивку я понял, что парню ничего не угрожает. Прокурор придвинул к журнальному столику кресло, присел на самый край, опустил руки между колен, сплел узловатые пальцы. Я тоже сел. — Дело вот в чем, — сказал прокурор, — Этот балбес полчаса назад сказал нечто такое, что может многое изменить, — говоря так, Привалов смотрел на Елышева, да и фразу эту повторил для него — я ведь ее уже по телефону слышал. — Тот из вас, кто был на улице в те минуты, когда отец выскочил в окно вслед за сыном… или немного раньше… Я мельком взглянул в напряженное, но спокойное, сосредоточенное лицо Елышева. Прокурор продолжал: — …должен был видеть человека, который стоял в конце переулка. У оврага. Не мог не видеть. Исключено, что ты его не видел, — обратился прокурор к Елышеву. — Одну минуту, — вмешался я. — Так не пойдет. Вспоминать надо терпеливо, системно. — Но я больше ничего не помню, — прошептал Елышев. — Я вам, что помнил, все сказал. — Не волнуйся, — ответил прокурор. — Давай вспоминать вместе. Действительно, мы с прокурором могли уже все вспоминать вместе с этими парнями, словно сами пережили ту ночь в переулке. Но Елышев возразил: — Ну как снова вспоминать? Я все эти дни только и старался обо всем забыть. Выкинуть из головы. — Вот и хорошо, — подхватил Привалов. — То, что ты помнил и мне рассказывал, можно забыть. А то, чего ты тогда не вспомнил, ты же не мог забыть в эти дни. Как же забыть то, чего не помнил? Когда ты стоял на улице, ну, в переулке, после того, как этот Петрушин испугался твоей шипели… ты хоть раз взглянул в конец переулка, в сторону оврага? — Наверно, — неуверенно ответил Елышев, — смотрел. — А видел, — продолжал прокурор, — что там стоит человек? Только не выдумывай: видел или нет? — Человек? — Елышев вдруг посмотрел в какую-то точку в углу комнаты, и нам стало ясно, что он вспомнил. Но что он вспомнил? — Стоял? — спросил я. — Стоял человек? — Да, — твердо сказал Елышев, всматриваясь в угол комнаты. — Да, стоял. Неподвижно стоял. Почему же я раньше вам не сказал? — спросил он, переводя взгляд на прокурора. Привалов откинулся на спинку кресла. Лицо его светилось от удовольствия. Заговорил он чуть ли не возбужденно: — Потому ты и забыл про него, что он стоял неподвижно. Если бы он пошел или побежал, ты бы запомнил. Таково свойство нашей памяти. Еще один неизвестный? Значит, прокурору надо продолжать поиск? Чему ж он радуется? А если это Володя Бизяев? Я похолодел. Прокурор между тем продолжал: — Тот балбес, Пашка Курань, вспомнил, что, когда он бежал впереди отца, у оврага перед собой увидел человека, испугался его и нырнул в сторону. А Сличко не успел свернуть, столкнулся с тем человеком, и они оба рухнули в овраг. — Оба? — воскликнул я и даже вскочил со стула. — Значит, тот второй остался жив, и ему даже удалось выбраться из оврага? Это не Бизяев, ясно, — выдал я себя. — Наверняка это был муж Галины. — Как всегда спешите, доктор, — укорил меня прокурор. — Ну как он мог там оказаться, когда его видели на Микитовской до того, как Сличко свалился в овраг? Проделать весь этот путь назад в том состоянии, в каком он был? Вы лучше вспомните овраг, каким мы с вами видели его утром. Труп Сличко. А кроме того, рваный пиджак броской расцветки, чугунок со свежими царапинами… — И нелепая крестовина. Так то пугало было! — неожиданно для самого себя догадался я. — Вот именно, — подтвердил Привалов, не обращая внимания на ничего не понимающего Елышева. — Так что один из наших парней караулил в переулке вовсе не свою девчонку, а ее отца. Задумал каким-то образом заманить того к оврагу. Да-а, ситуация. Знал ли об этом Чергинец, когда так старался выручить Володьку? Видно, Люба понимала парня лучше, чем все мы, потому и жить не смогла. Значит, Бизяев все-таки хотел отомстить за гибель своего отца. — Ничего это не меняет, — сказал я. — Пусть он и установил пугало. Но с какой целью? Никто не докажет, что он таким способом хотел отправить Сличко в овраг. Это же просто смешно. Тем более, что сам рядом с пугалом не остался. Может, он и забыл про него после всех катавасий в доме и во дворе? — Верно, — охотно согласился Привалов. — Но в девятнадцать лет можно придумать что-нибудь пооригинальнее огородного пугала, если хочешь кого-то с дороги сбить. Тем более такого волка, как Сличко. Но так пли иначе, а пугало тропку перекрывало, пути оттуда не было. Если заранее не свернуть. Не мог разве наш парень так решить: заманю-ка этого гада за дом, он за мной погонится, я перед пугалом — в сторону, а он — в овраг? Мог? Но это примитивная выдумка. Правда? В нашем Новоднепровске эти пугала чуть ли не в каждом саду стоят. Так что выдумка даже неоригинальная. — А по-моему, неплохая выдумка, — с вызовом возразил я, — тем более, что в такую ночь может и дьявол померещиться. Видел кто или нет неподвижного человека — в протоколе пока не записано. И кто и когда установил там пугало — может, оно давно стояло, да никто не замечал, неподвижное ведь, сами говорите. Елышев хотел было вставить два слова в свое оправдание, но я опередил его: — Тебя спросили про человека? А человека там никакого не было. Человека ты не видел, ты не мог его видеть — там его не было. Дождь, ночь. Про пугало ты вообще ничего не говорил. А человека там не было — даже прокурор признает. — Разумеется, признаю, — вроде и не улыбнувшись, согласился Привалов. — Тем более, что за неделю там в овраге от дождя и грязи все перемешалось. Теперь уж и не установить, чей то был пиджак. — Прокурор посмотрел сперва себе под ноги, а потом исподлобья метнул на меня хитрый взгляд. — Лучше скажите, зачем все же я вам понадобился. Вы же обещали, — сказал я прокурору. — Сами признали, что дело закончено. Может, жалеете, что втянули меня? Привалов ответил не сразу. Лицо его стало серьезным, задумчивым. Я вспомнил, что он часто выглядел таким раньше, когда мы, будучи почти незнакомыми людьми, встречались в компании. Он производил впечатление человека малоинтересного, скучного в общении. Потому что чересчур много молчал и думал о чем-то своем. Но сегодня-то я знал: за таким молчанием последует нечто важное, сейчас уж, очевидно, самое важное из того, что ему осталось мне сообщить. — Нет, доктор, — заговорил, наконец, Привалов, — не я втянул вас в эту историю. Сама жизнь втянула. Когда я спросил вас, помните, говорит ли вам что-нибудь фамилия Сличко, и вы ответили, что никогда не слышали такой, вот тогда я решил: вы должны пережить эту историю вместе со всеми. Не знаю уж, как сказать: то ли это был мой долг перед вами, чтобы вы приняли в ней участие, то ли это ваш долг, наш общий долг — пережить ее вместе. Если бы вы шали, что такой Сличко существует, я бы вас, вероятно, не привлек. Сами бы интересовались, переживали бы за это дело, пока я вел бы его. А сказать вам сразу все о Сличко, сказать то, что вы сейчас услышите, я тогда не мог, не имел права. Вы могли мне помочь, и помогли, лишь собирая объективную информацию, а для этого вы не должны были знать всего… Он снова замолчал. Мы с Елышевым не дышали, чтоб не помешать, не прервать его. — Этот Сличко, — продолжил Привалов, глубоко вздохнув, — как раз тот самый полицай, который пинком сапога выбил табуретку из-под ног вашей матери, доктор. — Моей матери? Привалов не шелохнулся, не поднял на меня глаз. Он словно не видел моей растерянности, моего смятения. Человек, конечно, привыкает ко всему, даже если ему еще долго до сорока. Видимо, он привык своими словами переворачивать людям душу и оставлять слушателя как бы наедине с узнанным. Но и Елышев вел себя так же. И я мысленно поблагодарил их за это. А Привалов медленно продолжал: — Ваша мать была именно тем человеком, который оказал первую помощь летчикам, скрывавшимся на Микитовке. Родному отцу Володи Бизяева и его живому отцу, тому, кто вырастил пария. Вы же знаете, как она осталась в оккупированном Новоднепровске. Не могла бросить больницу, своих больных. Вот так-то, доктор, если не знали — узнайте. — Нет, о ее подпольной деятельности… работе… я знал. О летчиках… теперь соображаю… тоже слышал… давно. Но о казни, о том, что было во время ее казни… о казни мне никогда никто… — С войны прошло уже столько лет, — сказал прокурор, — по ее следы… Мама, мама, повторял я молча. И вспомнил вдруг нашу больницу — мамину и теперь мою. И вспомнил яруговские липы в парке. До войны мать любила водить меня в этот чудесный сад. И в последний наш с ней день мы гуляли там. Липы как раз цвели. И в тот же день эшелон увез меня, десятилетнего, далеко на восток. — …иногда эти следы войны, — услышал я спокойный, мягкий голос Привалова, — обнаруживаются невероятно где. Хотите, я вам расскажу, как впервые столкнулся с ними? Это было мое самое первое дело. Я только что закончил университет, отпуск проболтался в Новоднепровске и первого августа явился в прокуратуру. Меня назначили помощником прокурора города и района, и я должен был представиться начальству… Я попробовал вслушаться в его слова, но у меня ничего не получилось.ПО СЛЕДАМ СОРОК ТРЕТЬЕГО /Новоднепровская хроника, февраль-март 1963/
 Можете представить себе, какие чувства владели мной все это время — три долгих зимних месяца — после того, как я узнал от Привалова, что именно полицай Сличко участвовал в казни моей матери. Да, человек привыкает ко всему, но когда прошлое так властно врывается в настоящее, можно ли смириться с тем, что время порой заставляет о прошлом забывать? Нет, я не могу забыть, я должен узнать все, что можно, от тех, кто еще жив. В этом я видел теперь свой долг перед матерью, перед ее погибшими товарищами. Узнать и обо всем написать. Чтобы рассказать людям.
Того же потребовали и новые события.
Можете представить себе, какие чувства владели мной все это время — три долгих зимних месяца — после того, как я узнал от Привалова, что именно полицай Сличко участвовал в казни моей матери. Да, человек привыкает ко всему, но когда прошлое так властно врывается в настоящее, можно ли смириться с тем, что время порой заставляет о прошлом забывать? Нет, я не могу забыть, я должен узнать все, что можно, от тех, кто еще жив. В этом я видел теперь свой долг перед матерью, перед ее погибшими товарищами. Узнать и обо всем написать. Чтобы рассказать людям.
Того же потребовали и новые события.
1
Новоднепровские металлурги с начала года, вот уже второй месяц, радовали плановиков и заказчиков. Сегодняшняя смена Сергея Чергинца ничуть не отличалась от предыдущих: сталь шла нормальная, заказная, и время летело незаметно. Правда, к концу смены, часов в десять вечера, он вдруг почувствовал, что клонит ко сну: с утра пришлось помотаться по городу в депутатских заботах. У печи сон отступал будто сам собой, но уже в автобусе, по дороге домой, Сергей задремал, положив голову на острое плечо Володи Бизяева, своего третьего подручного. В двадцать минут первого автобус подошел к остановке «Универмаг». Отсюда уже пешком по домам, на Микитовку. Володя легонько подтолкнул друга. Сергей встрепенулся, глянул в окно. Как всегда по ночам, свет из огромных окон универмага падал на площадку перед зданием, на тротуары, расходившиеся от нее. Освещена этим светом и остановка напротив универмага, от которой ведет дорога на Микитовку. Но сейчас Сергей ее не видел: заслоняли стоявшие в проходе люди. От неожиданности удивленно вскинул брови: под витриной, уставленной обувью, стоял, пританцовывая, старшина Елышев. В шипели, как положено по форме, в ушанке. Как всегда, бодрый, самонадеянный. Посматривает в ожидании на автобус. Неужели ждет какую-то девицу в столь неурочный час? Значит, должна подъехать со стороны завода после вечерней смены? Но вроде бы остепенился сверхсрочник после той осенней драмы с негаданным появлением и смертью бывшего полицая Прокопа Сличко? Нет, не в смерти этого полицая драма была. И даже не в том, что внутренние драмы терзали парней, Гришку Малыху, того же Елышева, да девушек, прежде всего дочерей Сличко, из которых только младшая Люба носила фамилию отца, остальные матери, Осмачко. Не драмой, трагедией явилось самоубийство Любы, жизнью расплатившейся за отцовы преступления. Не смогла, не захотела девчонка жить, не вынесла тяжести проклятой людьми фамилии. Сергей бросил быстрый взгляд на Володю. Не мог, конечно, тот догадаться, о чем сейчас, увидев Елышева, успел подумать бригадир. Но Сергей знал, что все эти месяцы Володи в душе незаживающая рана: не утихает боль от потери невесты и нерожденного сына. Автобус остановился, и плотная людская масса увлекла Чергинца и Бизяева на улицу, на тротуар, покрытый жидкой февральской грязью. Елышев шарил по толпе цепким и острым взглядом. А Сергей незаметно покосился в его сторону. Снова удивился: старшина раздраженно сплюнул, что было ему несвойственно, и, решительно прошагав вдоль витрины, к углу универмага, исчез в темноте. Двинулся он, безусловно, по направлению к Красным казармам. Значит, на дежурстве. И, значит, отлучиться мог лишь в чрезвычайном случае. Володя все же заметил, что Сергей заинтересованно поглядывает на противоположную сторону улицы, и тронул друга за плечо. Сергей виновато улыбнулся. — Спать хочу, как никогда, — предупредил он вопрос. — Буду спать до смены. — А институт? — спросил Володя. — Здоровье дороже, — усмехнулся Сергей. — Чего это сегодня из ОТК расшумелись? — Не на нас же. — Но там что-то серьезное, да? — Охота тебе голову забивать чужими грехами? Своих не расхлебать. — Так ведь печь же наша? — Нам с теми не по пути. Дутые рекорды ставить не собираюсь. И печь загубить не дам. Микитовка встретила их кромешной темнотой. Как раз сегодня утром воевал Сергей с горэнерго, чтоб фонарей добавили. Обещать — обещали, но три года он ждать не будет, пусть не надеются. — Я знаю, что не по пути, — задумчиво сказал Володя. — Они ведь о рекордах не для дела мечтают, для заработка. Так что правильно в ОТК шумят. Но сегодня что-то уж чересчур сильно. Надька Осмачко больше всех кричала. — Такая у нее работа. — Такая-то такая. Но никогда я не видел, чтобы она из-за работы так бесилась. — Еще и не то увидишь. Этот хмырь Петрушин так надоест ей, что на людей бросаться начнет. Они подходили к Володиному дому, но парню явно не хотелось расставаться. — Я к тебе пойду ночевать. Можно? — Нет уж, иди домой. Чувствую, тебе поговорить охота. А мне — спать смертецки. Завтра смену принимать не просто будет. Остановились у калитки. Светилось в доме Бизяевых лишь кухонное окно. Ивану Федоровичу Бизяеву, у которого Сергей стажировался после армейской службы — четвертый год пошел уж с тех пор, — утром заступать на смену. Матери тоже с утра на «Коксохим». И только бабушка ждет Володю на кухне. Разве заснуть ей, не покормив внука? А утром забежит к Сергею, сготовит ему обед на два-три дня. — Чего ты искал в витрине? — не утерпел все же Володя. — Обувка поизносилась? Сергей улыбнулся: — Лучше ты мне ответь: ты действительно не ставил того пугала, что отправило Сличко в овраг, на тот свет? — Надоели мне все с этим пугалом! — вспыхнул Володя. — Не врал я прокурору, не врал. Никакого пугала я не ставил и не видел даже. — А прокурор, и доктор, и я — все мы решили: ты отрицаешь, чтобы закрыли дело. Мне казалось, прокурор даже хотел, чтобы ты отрицал. — Да не стал бы я отрицать, если бы ставил. Но не ставил я пугала! Понимаешь? — А как же твой старый пиджак на нем оказался? И потом в овраге? — Сам не пойму. — Ясно, хватит об этом. Иди домой. Спокойной ночи. — Споко-ой-ной, — нехотя протянул Володя и отворил калитку. «Володька правду говорит, — размышлял Сергей, шагая по темной Микитовской улице, с детства знакомой ему до последнего булыжника. — А Елышев видел пугало, и в овраге оно оказалось рядом с трупом Сличко. Так кто же его поставил?» И тут Чергинцу пришла в голову мысль, оказавшаяся на удивление простой. Странно и даже как-то обидно, что он не подумал об этом раньше, тогда, осенью. А прокурор При-палов, видно, все понимал, по, пожалуй, не хотел или не имел права поделиться с Чергинцом и доктором Рябининым, своими добровольными помощниками. Сергей усмехнулся: «Добровольными?» и вспомнил, как убеждал Привалов его и доктора помогать следствию, беседовать с людьми, чтобы никого из них не обидеть ошибочным подозрением. Общественным и человеческим долгом стали считать они с доктором, убежденные Приваловым, свое участие. Но разве теперь оно закончено, как закончено то дело? Разве долг этот не на всю жизнь? Наверняка Привалов верил, что теперь уже не отступятся ни доктор, ни Сергей. А знал прокурор, конечно, больше, чем рассказал им в конце дела. Ведь только сейчас подумал Сергей о том, что чересчур шумно вел себя тогда Сличко, нелегально появившись в Новоднепровске. И, видимо, не одного Петрушина, своего довоенного дружка, искал он в городе. После войны и Петрушина судили. Бывший… полицай не полицай, а так, холуй-прихлебатель. Прикинулся душевнобольным, отсидел лет пять, до сих пор прикидывается. А ведь к нему-то и ушла из дома Надька Осмачко, когда на голову дочерям свалился скрывавшийся отец, полицай Сличко. Это точно, что не одного Петрушина искал он в Новоднепровске. И Привалов наверняка его разгадал. И, значит, дело не закрыто, хоть и подох Сличко. И значит… значит, важно, кого поджидал ночью у универмага Елышев. Надька-то на него виды имела, пока не сбежала, испугавшись отца, к Петрушину. А еще ведь и старшая сестра, Софья Осмачко, мечтала о Елышеве. Но… старшина вроде остепенился, жениться, по слухам, собирается на Валентине, сестре доктора Рябинина. Чего ж он дергался, кого так нервозно поджидал? Заметил ли он Сергея? Понял ли, что Чергинец его видел? Не потому ли так быстро скрылся?2
В Красных казармах Елышев дежурил, как правило, раз в месяц. Вернее, был не дежурным, а помощником дежурного офицера, отвечал за проходную, за контрольно-пропускной пункт. Отвечать-то, впрочем, было не за что: реши какой-нибудь солдат смыться в самоволку, неужто отправится через проходную. КПП в основном впускал и выпускал автомашины, ночью же осуществлял связь с городом: проще было позвонить на КПП, чем застать на месте дежурного офицера. Чаще же Елышев дежурил в гараже, раз или два в неделю. Машин в части было много, обязанность дежурного по гаражу состояла прежде всего в том, чтобы машины выходили из гаража в полном порядке, а главное — в чистоте. Командир части не любил нерях и Елышева выделял за аккуратность и требовательность. Этими дежурствами, конечно, не исчерпывалась служба, но в целом она оставляла ему более чем достаточно свободного времени. Суточное дежурство на КПП заканчивалось в семь утра. Рассвет обычно Елышев встречал в дремотном состоянии. Ночью редко удавалось вздремнуть, лишь урывками, по десять минут, отчего спать хотелось еще больше. Сегодня же и пяти минут не выкроил. И вовсе не из-за каких-либо неожиданных событий в части. Все было тихо, в норме. Но Елышев был возбужден не в меру, и даже на рассвете не подступала дремота: ему все время казалось, что этой глухой ночью что-то произойдет или уже произошло, и не с кем-либо, а с ним самим. Солдат-рассыльный сегодня тоже ни разу не задремал. Сперва писал заметку для стенгазеты, потом принялся выпытывать у Елышева подробности той осенней ночи в Крутом переулке, когда Елышев своей военной формой спугнул Сличко, и тот, спасая шкуру, нашел в овраге смерть. Хотя слухи в Новоднепровске и, прежде всего, на Микитовке разбегались, как круги по воде, люди здесь в большинстве не были болтливы, скорее напротив — молчаливы. Уж скоро четыре месяца, как вроде бы закрыл дело прокурор Привалов, а о подробностях гибели Сличко и его младшей дочери в городе говорили мало, люди словно бы старались быстрее обо всем позабыть. Солдат же попался разговорчивый, приставучий, и Елышев вынужден был отделываться от него отговорками. Собственно, сейчас старшина и сам себе не мог толком объяснить, что потянуло его тогда вслед за Надеждой, Петрушиным и Сличко ночью в Крутой переулок, и проклинал себя за то, что связался с этой семейкой. Чем ближе к рассвету, тем чаще Елышев поглядывал в окно, за которым все скрывал белесый от легкого морозца туман. Едва виднелись часть мощеной дороги да кладбищенская ограда с темной полосой деревьев за ней. Постепенно Елышеву начало казаться, что он освобождается от чего-то тяжелого, гнетущего, хотя и неосязаемого. Мысль, что может случиться нечто способное взорвать его жизнь, постепенно растворялась, ее вытесняли размышления о том, как тих и спокоен рассвет, красив и воздушен туман, неподвижны покрытые инеем деревья. Ничто не должно нарушать такую тишину — она создана для вечности и в людей вселяет покой. — Ладно, так и быть, — сказал Елышев, повернувшись к солдату, — отпущу тебя на воскресенье в увольнительную, на весь день, гуляй со своей девчонкой. — С утра до вечера? С девяти до двадцати трех? — не поверил солдат. — Сказал, значит, все. Так и будет. Елышев знал, что обещал и почему обещал. Надеялся, что и солдат поймет. — Понятно, — сказал солдат. — Буду молчать. Он даже встал из-за стола и подошел поближе к старшине. — Мы же нормально отслужили ночь. Ничего не случилось. Солдат глянул в окно. Замолчал. Придвинулся вплотную к стеклу. — Старшина, старшина, — нерешительно заговорил он. — А что это там такое? Елышев повернулся к окну. Туман еще не рассеялся, не осел на покрытую тонким снежком землю, но стал прозрачнее, и сквозь туман темнело на кладбищенском заборе странное пятно. — Человек вроде, а? — испуганно прошептал солдат. — С чего бы ему там быть? — резко откликнулся Елышев и тут же вскочил, приник к окну. — Сходи посмотри. Нет. Лучше сам схожу. Пьяный, верно, какой-то. Заночевал тут. Старшина решительно вышел на улицу. Снежок, посыпавший землю часов с трех ночи, успел затвердеть. Обильно дымил «Коксохим». Если ветер не переменится, скоро почернеет снежок. Вряд ли переменится. В это время года ветры с запада и с северо-запада редко уступают другим ветрам. Елышев пересек наискосок проезжую часть улицы. Едва ступив на тротуар, тянувшийся вдоль кладбищенской ограды, он понял, что солдат не ошибся: на низком чугунном заборе, действительно, висел, как-то странно закинув за забор руки, человек в ватнике. Голова этого человека опустилась вниз. Поэтому пришлось наклониться, чтобы заглянуть ему в лицо. Прежде всего Елышев увидел запекшуюся струйку крови из угла перекошенного рта. Она тянулась по щеке на шею. Узнав человека, Елышев похолодел. Выходит, предчувствие беды не обмануло его. Беды? Беда ведь могла — а может, должна была? — случиться не с этим человеком, а с ним, с Елышевым. Неужели тот, кто сейчас висел на чугунном заборе, шел за ним? Преследовал, чтобы отомстить? Но за что? Да, наверняка он шел за ним. Увидел на остановке. Пошел следом. Не успел догнать. Притаился, поджидая здесь старшину. Не дождался, а кто-то, значит, расправился с ним. То, о чем Елышев подумал, поразило его прежде всего потому, что означало бы давно задуманное и точно вычисленное убийство. Елышев понял, что Петрушин мертв. Застывшие глаза, обескровленное лицо и запекшийся комок грязи на виске. На левом виске. Что же делать? Молва давно, и не без оснований, сводит этого человека с Елышевым. И, значит, та же молва способна приписать ему это убийство: сведение личных счетов — причина самая очевидная. Глубокой ночью, здесь, на кладбище все между ними могло произойти. Попробуй докажи, кто прав, кто виноват. Елышев сжался, словно под пристальным, в душу проникающим взглядом прокурора Привалова. С какой целью? Просто выследить? А может, выслеживал Надежду? Но для ревности он не дал Петрушину никаких оснований. С Надеждой покончено раз и навсегда. Если кто-то другой и есть у нее, то не он же, не Елышев. Неужели она успела кого-то завести, а Петрушин заподозрил старшину? Как человек военный, Елышев твердо знал, что в подобных случаях к мертвецу лучше всего не прикасаться. Бегом он пустился на проходную. Поскользнувшись, чуть не упал на мощеной мостовой, едва удержал равновесие. — Что там, а? — отскочил от окна навстречу вбежавшему старшине солдат. Елышев не ответил. Схватил трубку телефона, соединявшего с дежурным по части. — Товарищ капитан, разрешите доложить? Труп на заборе. Ну да, мертвый человек. Не на нашем заборе, на кладбищенском. Пьяный? Не знаю, не принюхивался, но — мертвый, точно. Только что обнаружили. Как? Увидели в окно. Светать же начало. Есть! Елышев положил трубку и внимательно посмотрел на солдата. Посмотрел с надеждой. Будет ли тот молчать? Собственно, он ведь ничего и не знает. Знает только, что около полуночи Елышев отлучался минут на сорок. А вообще-то какая разница… Пусть и не молчит. Как хочет, так пусть и поступает. — Мне-то как быть? — вдруг спросил солдат. — Как скажете, так и сделаю. — Поступай, как положено. Если спросят, к чему врать. — Лучше пусть будет, что вы никуда не ходили, — сказал солдат. — Это ж когда было. К делу не относится. Елышев набрал помер телефона милиции. Ему быстро ответили. — Звонят из Красных казарм. Тут у нас, напротив КПП, мертвый на заборе. На заборе кладбища. Ничего я больше не знаю. Точно, что мертвый. Видно же сразу. Опустил трубку на аппарат и почувствовал усталость. Не от того, что ночью даже не вздремнул, а какую-то непонятную, обволакивающую усталость, граничащую с безразличием. Не столько ко всему окружающему, сколько к самому себе. Как же так? Неужели на месте Петрушина мог — или должен был? — оказаться он? Кто-то хотел этого, но не удалось? Петрушин хотел, но не вышло? Почему у него не вышло? Кто-то помешал или что-то помешало? Ревность — это постыдная глупость, как сказал бы доктор Рябинин, она — от неверия человеку. Но скольких людей погубила ревность! Так уж повелось на земле с незапамятных времен. Только при чем тут он, Елышев? Дежурный офицер буквально ворвался в комнату, с порога зашумел: — Только этого нам не хватало! Ты что, знаешь его? Идем. Показывай! Капитан шумел, но сам понимал, что ни в чем не виноват старшина и что если бы он сам оказался на месте Елышева, то, конечно, поступил бы точно так же: пошел, проверил, доложил дежурному, вызвал бы милицию. — Надо милицию подождать, — спокойно сказал Елышев, подивившись собственному спокойствию. — Надо, надо, сам знаю, что надо! — кипятился капитан. Капитан выскочил на улицу. Елышев по долгу службы устало последовал за дежурным офицером. Может быть, и лучше побыть на свежем воздухе. Но дым так и валит с «Коксохима», усилился западный ветер. — Прикасаться к нему нельзя, — вяло напомнил Елышев. — Знаю, — неожиданно спокойно сказал капитан: понял, теперь уж домой после ночного дежурства не скоро вернешься по вине этого сверхбдительного старшины. Они остановились в двух шагах от висевшего на чугунном заборе Петрушина.3
Сколько ему лет от роду, Елышев точно не знал. И как нарекли его при рождении, не знал, даже приблизительно. И об отце, о матери его детская память не сохранила даже смутных воспоминаний. Все, что составляло его жизнь до последнего августовского дня сорок первого года, осталось частью жизни какого-то другого человека, кому-то, может быть, известной, но Елышеву неведомой. Как ни напрягал он память, впоследствии не мог вспомнить, что происходило с ним и вокруг него до неожиданного пробуждения поздним вечером последнего августовского дня сорок первого года. В метрическом свидетельстве, оформленном в детдоме спустя четыре месяца, в канун сорок второго года, дату рождения написали наугад: посовещались несколько минут и решили проставить черными чернилами, что родился он в последний августовский день — раз уж нашли его в этот день, — но тридцать шестого года, то есть посчитали, что нашли его пятилетним. Фамилию ему дали сперва по имени поселка, где помещался детдом, — Слышево. И не ему одному давали фамилию Слышев, мальчиков и девочек Слышевых было в детдоме с десяток, не меньше. Но позже, в другом детдоме, когда выдавали паспорт, ни с того, ни с сего в милиции вместо С написали Е, — дрогнул палец у паспортистки, и появилась закорючка в середине буквы. Ему же почему-то новая фамилия понравилась больше, может быть, просто потому, что надоело быть одним из десятка Слышевых, лучше стать ни на кого не похожим Елышевым. Лишь двоим людям на всем белом свете Елышев считал себя обязанным, испытывал к ним чувство благодарности. И первый из этих людей был директор того детдома, куда попал, вместе с еще несколькими Слышевыми, десятилетний мальчик после очередного переезда из детдома в детдом. Однорукий, с затекшим красным глазом фронтовик, — четырех дней войны хватило ему, чтобы стать инвалидом на всю жизнь. «Кто тебя обидел?» — «Никто». — «А почему ты плачешь?» — «Боюсь». — «Чего ты боишься?» — «Не знаю». Единственной рукой обнял мальчонку. «Где ты спишь?» — «Там». Мальчик показал на дощатый топчан у самой двери: те, кто посильнее, да старожилы оттеснили его туда. «Ясно. Давай-ка перетащим топчан в мой кабинет». Кабинет оказался длинной, узкой комнатой с узким же высоким окном в торцевой стене. У двери, вдоль степы, стоял неказистый, с потрескавшимся покрытием и с фиолетовыми чернильными разводами в трещинах, письменный стол. Ветхое кресло перегораживало проход к низкой железной односпальной кровати. Топчан поставили в угол, к самому окну. Встык к другому топчану. «А тут — кто?» — «Тут? Мой сынишка будет, когда я его найду». Сынишку своего он так и не нашел. Спустя два года второй топчан они из кабинета все-таки вынесли. А спустя еще год директор умер, не успев усыновить Елышева. Впрочем, в отчество он дал ему свое имя, как давал всем, кто не знал имени отца. Умер он тихо, в сельской больнице, умер в конце четвертой послевоенной зимы. Умер, молча глядя на тринадцатилетнего мальчика, целую неделю просидевшего у его постели. К этому времени Елышев уже ничего и никого не боялся. И старшие ребята в детдоме относились к нему с почтением, и воспитатели уважали его. Волю кулакам он да-пил редко, но всегда по справедливости. А бесстрашен был новее не в драках, бесстрашен был в отношениях со всеми. Позднее, вспоминая детдомовские годы, ловил себя на мысли, что его тогдашнее бесстрашие было следствием недетского презрения к смерти, именно — недетского, потому что дети не боятся смерти, ибо не знают, что это такое, он же не боялся, потому что уже однажды умирал, и раз не умер, то считал, что теперь-то уж не скоро этот час придет, не раньше, чем старость. Он до сих пор верил в это, хотя давно уже бесстрашным не был. С людьми же по-прежнему сходился туго, так и прожил все свои годы без близкого друга. В семнадцать лет закончил курсы шоферов (в те годы можно было получать водительские права и четырнадцатилетним) и сразу же, буквально на следующий день, ушел из детдома. Ушел, поблагодарив за кров да пищу, да и за науку, какой бы она ни была. Но поблагодарил формально, потому что так положено. Директора уже давно в живых не было, а искренней благодарности ни к кому другому Елышев не питал. Уехал за двести километров от детдома. Случайный знакомый, шофер, у которого обе руки были покрыты рваными шрамами, уговорил податься на рудники. Этому человеку Елышев до сих пор благодарен не меньше, чем директору детдома. Тот, первый, научил его самостоятельности. Научил принимать решения без подсказки, без чьего-либо принуждения. Второй же научил жизни. Показал ему всю неприглядную ее изнанку. Он не щадил Елышева, не скрывал от него людских пороков, но одновременно учил верить в высокое назначение человека. Он и сам искренне в это верил, хотя многого в жизни не добился, ни дома не имел, ни семьи, образования приличного не получил. Зато в себя верил и верил, что трудом всего можно добиться. На работу Елышева взяли без разговоров, но в общежитии отказали, потому что никаких общежитий на руднике не было вообще. «Пошли ко мне, — решил шофер. — Мозги у тебя вроде есть, сам во всем разберешься…» Парень разобрался в обстановке довольно быстро. И в судьбе своего покровителя тоже разобрался, хотя она оказалась непростой. Судьбу ему сломали раз и навсегда. Однако он держался и жил надеждой, что наступит день, когда ему вернут доброе имя, очищенное от налипшей, не по его вине, грязи. Правда, в невиновность своего покровителя Елышев поверил не сразу. В одной комнате они прожили недолго. Так уж вышло, что на второй день ноябрьских праздников Елышев утром проснулся в чужой постели и остался надолго в том доме, до призыва в армию. Хозяйка этого дома, тоже работавшая шофером в одной с Елышевым автоколонне, была старше его, да и мужа имела, который, однако, находился в местах весьма отдаленных от поселка, отбывая срок за неправедную расправу с бригадиром. Эта женщина не заменила Елышеву покровителя — тот не забывал парня, встречались и толковали они часто, чуть ли не каждый день, тем более, что его старший друг находился в близких отношениях с сестрой его хозяйки. Призвали Елышева в армию в конце пятьдесят пятого года, через неделю оказался он в степном гарнизоне, далеко от рудников. Естественно, сразу же отправил два письма — хозяйке и другу. Первые полгода регулярно получал от них весточки. Вскоре узнал, что никакой вины за шофером больше не числится, обо всех бедах тот может забыть и никогда не вспоминать, если сам не захочет. А как не вспоминать, подумал тогда Елышев, рваные шрамы на руках остались ведь. А потом он перестал получать ответы на свои письма. Но писал, хотя и редко. Вдруг в мае пришло письмо: почерк незнакомый, обратный адрес тоже. Почему-то он не решился сразу вскрыть конверт. Ушел к плотине, перегораживавшей речку. По отлогим берегам громоздились бетонные плиты. Гудел генератор за кирпичной стеной электростанции. Елышев покрутил конверт в руках, посмотрел на свет, оторвал полоску по краю. Он до сих пор помнит, как его зазнобило, когда он читал письмецо — полстранички тетрадного листа. Ни женщины, ни друга с руками в шрамах нет в живых. Они погибли в один день. Сперва он, потом она. Он — защищая ее, она — не защищая себя. Убийца же поклялся разыскать Елышева и расквитаться с ним. Елышев помнил, как женщина бледнела, вспоминая о муже. Она показала ему его письмо: кто-то все же сообщил, что в его доме с его женой живет безвестный, приезжий парень-приблуда. Многих слов в том письме Елышев не понял, они были размыты. Понял только, что смысл этих слов страшен. Теперь — всё. Всё — позади. Он разорвал на мелкие клочки исписанный мелкими буквами листок, разорвал конверт. Подержал в ладони, резко бросил в водоворот. Вода увлекла бумажки вглубь. Еще одна часть его жизни исчезла. Но не из памяти. Просто к ней уже нет возврата. Гибельэтих людей пробудила в Елышеве нехорошее чувство. Всплыли в его душе и остались на ее поверхности застывшей накипью худшие его качества: неверие в людей, презрение к ним, ко всем вообще, без разбора, невзирая на ум, образование, пол. С того дня именно эти, худшие качества стали определять его характер. Нет, он вовсе не намеревался мстить людям, он просто всех вычеркивал из жизни — за ненадобностью. Тех, кто почему-либо оказывался нужным, вычеркивал позже, когда надобность в них проходила. Встречи с убийцей он не боялся: пусть появится, адрес найти нетрудно, он ведь писал, и не раз, в поселок, — пусть появится, а там видно будет — кто кого. Но убийца не появился до тех пор, пока Елышева не перевели в другой гарнизон. Командиры быстро обратили на него внимание. По истечении третьего года службы его не уговаривали остаться на сверхсрочной: даже командир полка считал этот вопрос давным-давно решенным. По сути, с самого начала службы отношения с офицерами складывались у него удивительно хорошо. Впервые же Елышев понял, какое место занимает в дивизионе, когда остался на сверхсрочной, а их часть уже перевели в Новоднепровск. Однажды офицеры отправились на рыбную ловлю в кучугуры. Елышев должен был утром, по пути с вещевого склада, завернуть в речной порт и забрать рыбаков-офицеров. Машина — обыкновенный армейский двухтонный грузовик, даже без тента над кузовом. Естественно, Елышев предложил командиру дивизиона занять место в кабине рядом с водителем, но тот лишь улыбнулся — ты, мол, на службе, а у нас выходной — и подтолкнул Елышева к кабине, сам же ловко забрался в кузов к остальным офицерам. Водитель — солдат первого года службы — уважительно смотрел в лицо садившемуся рядом старшине. «Чего ты?» — спросил Елышев. «Вот как он к вам! Лучше, чем к нашему лейтенанту», — ответил солдат. «Поехали!» — приказал Елышев. И отношения с рядовыми не омрачали ему жизнь. Он был придирчив, строг, резковат, близко к себе никого не подпускал и сам ни к кому в душу не лез, но солдаты по-своему любили старшину-сверхсрочника. Восхищались и его похождениями, о которых в конце концов становилось известно в казармах. После той осенней истории с домом в Крутом переулке ему даже сочувствовали, потому что при всех личных неприятностях он все равно оставался справедливым. Внешне сильный характер всегда вызывает положительную реакцию окружающих, тем более — в армии. А каков по существу характер у Елышева, ни солдаты, ни офицеры не знали. Разве могли они знать, что никто из них никакого места в его душе не занимает, что каждого из своего окружения он давно уже мысленно вычеркнул из жизни — за ненадобностью. Но тем более не могли они знать, что помимо воли, вопреки своим принципам, своему характеру он сейчас не может, уже несколько месяцев как не может, вычеркнуть из жизни доктора Рябинина, его сестру, Чергинца, Привалова… Хочет вычеркнуть и не может? Или уже не хочет? Не хочет вычеркивать?Подкатили милицейские машины. До их приезда капитан не сказал Елышеву ни слова. Но как только появилась милиция, громко, чтобы услышал прибывший лейтенант, заявил: — Наверняка пьянчуга. От бабы шел или к бабе. Тут его такой же забулдыга и прикончил. Ревность-то мозги всем туманит. Ты здесь пока оставайся, — сказал капитан Елышеву и отправился на КПП сдавать дежурство. При слове «ревность» Елышев зябко поежился, но не проронил ни слова. Он убеждал себя не думать о последствиях, старался вообще ни о чем не думать. Но так или иначе, он знал, что его обязательно вплетут в следствие по делу о смерти Петрушина. Привалов немедленно свяжет все с осенней историей, когда старшина поступал не слишком-то умно. Вот и сейчас: если б не эта глупая отлучка с дежурства, если б не поддался он на уговоры… Судебно-медицинский эксперт, приехавший с милицией, обследовав Петрушина, констатировал смерть и высказал предположение, что она наступила более шести часов назад, вскоре после полуночи. Смерть, однако, наступила, по мнению врача, не как следствие удара в область виска, а несколько позднее. Но точный диагноз, подчеркнул врач, поставит вскрытие и последующее исследование. Затем милицейский лейтенант исследовал карманы Петрушина. Он, кстати, сразу опознал покойного и, многозначительно покачав головой, добавил: «То-то удивится Привалов». Карманы были пусты, если не считать, что из одного торчал молоток. Ничем не примечательный. Абсолютно новый. Лейтенант, не снимая перчаток, осмотрел его, завернул в газету, передал эксперту. — Чистенький, как огурчик поутру на росе. Похоже, подсунули ему, — сказал лейтенант и, кивнув в сторону Петрушина, добавил: — Вроде пахнет спиртным от него. — Да, есть такое, — откликнулся милицейский старшина. Врач немедленно уточнил: — Небольшая доза. Для таких, как он, — небольшая. От выпитого заснуть он не мог. И на сердце такая доза вряд ли сильно повлияла. — А не могли его сюда принести и положить? — неожиданно для самого себя произнес Елышев. — Товарищ старшина, не обижайтесь, но мы вас позже послушаем, — как показалось Елышеву, чересчур вежливо произнес лейтенант. — Пожалуйста, не мешайте пока следствию. Тем более, что произошло все не на территории вашей части. Елышев дал себе слово молчать, пока не спросят. А лейтенант обратился к старшине-милиционеру: — Поищи бутылку, что ли. На всякий случай. Хотя вряд ли тот, кто с ним пил — если был такой, — оставил бы ее тут. А впрочем, не ищи. Если и пили с кем-то, то не на этом месте. Пожалуй, можно его увозить. — Но ведь из прокуратуры еще никого нет, — возразил милицейский старшина. — Сейчас появятся. Только все равно без экспертизы никто ничего не определит. Может, он и сам себя порешил? — Чего нет, того нет, — твердо сказал врач. Из-за угла кладбища выскочила светлая «Волга». — О, сам приехал. Ну, теперь без лишнего трепа. — И лейтенант направился к машине. Елышев глубоко вздохнул. Действительно, приехал прокурор Привалов.
4
Выйдя из машины, Привалов оглядел всех: каждого поприветствовал кивком головы. Увидев Елышева, удивленно хмыкнул, но тоже кивнул ему, как всем, не показал, что знаком с ним. — Ну что, Осокин, — обратился прокурор к лейтенанту, — это экзамен посложнее будет, чем в милицейской школе? Уже выяснили — кто? — Это ваш старый знакомый, — сдержанно произнес Осокин. — Даже так? — Это Петрушин, товарищ прокурор. — Интересно, — ответил прокурор так спокойно, будто ждал именно этого. — Ну, что же, показывайте. Лейтенант Осокин, год назад прибывший на службу в Новоднепровск, не предполагал, что прокурор города знает его. Такое внимание Привалова придало ему решительности, а так как он успел изучить последнее крупное дело, расследованное прокурором, то и козырнул своей осведомленностью. Более того, он понял, что это новое дело будет поручено ему. Он указал на чугунный забор. — Что скажете? — Привалов повернулся к врачу. — Сам? Судебно-медицинский эксперт повторил свои предположения. Прокурор выслушал терпеливо, не перебивая, раза два кивнул головой в знак одобрения. Однако, слушая врача, снова взглянул на Елышева — мельком, так, что никто и по заметил. Но Елышев поежился под этим взглядом. — Странную он что-то позу принял, — сказал Привалов. — Как будто хотел перелезть через ограду, но не смог. Или кто-то не пускал его: уж больно ноги вытянуты. Вам не кажется? Кстати, хорошо бы выяснить, что он пил. Да-а, поза необычная. — У нас говорят, что над пьяным и оборотень потешается — вот и держал за ноги, — заметил пожилой старшина милиции. А когда Привалов посмотрел на него, старшина смущенно улыбнулся: — Извините, шучу, товарищ прокурор. — Кто знает. — Улыбнулся и Привалов. — Может быть, и вправду, Польщиков, тут был оборотень. Они ведь разные, оборотни эти, бывают. Разве не так, Польщиков? Свидетелей опросили? Вернее — кто его тут нашел? — Я, — мгновенно ответил Елышев, и сам удивился быстроте, с какой отреагировал на вопрос прокурора. А Привалов неожиданно для Елышева приветливо улыбнулся, словно подбадривая парня. Он наверняка уже понимал, в какую историю Елышев сам себя втянул своей «находкой». — И надо же было именно тебе его найти… Ладно. — Привалов вновь стал требовательным, решительным, как обычно. — Расскажи следователю все, что знаешь. — А что я знаю? Солдат-рассыльный увидел из окна. Я пришел сюда — и вот… нашел. — Пришел и нашел, — повторил прокурор, резко повернулся и, ловко перемахнув через ограду, пошел в глубь кладбища. Привалов, конечно, немедленно связал смерть Петрушина на кладбище со смертью Сличко и, значит, с той осенней драмой в Крутом переулке. Потому он и направился прямиком к ряду недавних могил. Пройдя вдоль этого ряда и еще не доходя до могилы Сличко, он уже безошибочно определил, что совсем недавно, вероятно, как раз прошедшей ночью, здесь происходили какие-то события. Обычно он называл их «нестандартными». И на могиле полицая, слишком долго скрывавшегося от правосудия («От возмездия», — успел подумать Привалов), его внимание привлекли необычные вмятины. Необычными они казались лишь потому, что за ночь их обильно посыпало снегом. Нетрудно было определить, что эти вмятины на сырой земле оставили чьи-то ноги. Да, следы двоих топтавшихся здесь людей. Одни вмятины довольно солидные, от сапог не меньше чем сорок третьего размера, похоже на сапоги Петрушина. Другие следы — поменьше, но все равно ясно, что от мужской обуви. Еще издали Привалов заметил, что в изголовье могилы полицая торчит аккуратно сработанный кол. Сперва он подумал, что это просто отметка могилы, но тогда и еще на какой-нибудь должен был стоять кол. Подойдя ближе и приглядевшись, Привалов понял, что кол здесь появился недавно если бы это была отметка могилы, то кол успел бы стать серым от дождя и снега, слякоти, сырости, задымленного воздуха. Этот же был новеньким, светлым. Рассмотрев его, Привалов без труда определил, что кол вбивали молотком, и молоток человек держал в левой руке. Об этом говорили вмятины на углу холмика: если встать стороны вмятин-следов, то иначе как левой рукой по колу не ударить. Привалов подошел к изголовью могилы и посмотрел в направлении того места, где нашли Петрушина. Путь выглядел относительно прямым, и несмотря на снежок и гарь, его можно было проследить шаг за шагом. Если их было двое, какой дорогой они шли сюда? Естественно, по центральной аллее, потом свернули к новым могилам. Пора это кладбище закрывать: еще один ряд уместится — и все; да и чуть ли не в центре города — кому это надо? Но с какой целью забит кол? Что за глупость? От радости, что избавились от Сличко? Как велят старые поверья: чтоб не вставал вурдалак из гроба. Ну, ладно, забили кол. А потом что-то не поделили? Друг друга боялись? Впрочем, стоит ли удивляться. Ведь все эти месяцы сам Привалов ждал чего-то подобного, ибо понимал, что в деле Сличко осталось немало неясного. В течение нескольких дней, нелегально проведенных бывшим полицаем в Новоднепровске, Сличко искал связи и с каждым днем все больше нервничал, терял осторожность, за кем-то гонялся. Тогда установили, что он требовал денег и золота из собственной «ховашки» от Петрушина. Но, может быть, не только Петрушина надеялся он запугать в городе? Привалов подозревал, что еще кого-то искал Сличко. Те подозрения прокурору не удалось подтвердить ни одним, хоть малейшим фактом, ни одной зацепки тогда не нашлось. Но ведь прошедшей ночью на могиле определенно были двое. И тот, второй, ликвидировал Петрушина. Экспертиза это подтвердит, сомнений нет. Если кол забивал Петрушин, то что здесь делал второй? Пожалуй, не в характере Петрушина было тащиться ночью на кладбище. Проверить надо, не был ли он левшой. По пьянке вспомнил о старых поверьях? Вряд ли: не настолько уж был пьян, чтобы утратить чувство страха, которое столько лет помогало ему не «высовываться». А если Петрушин оказался ночью на кладбище по случаю: находился где-то поблизости с иной целью, но стал свидетелем чего-то такого, что изменило его планы? И тогда выходит, что кол забивал другой человек. Тот, второй. Привалов обратил внимание на угол одного из памятников соседнего ряда: что-то похожее на пятно крови. Вполне может быть, что Петрушин ударился об этот угол. И это объясняет появление крови у него на виске, на лице. Подошел к памятнику. Тут явно что-то происходило. Вряд ли борьба, но что-то похожее. Земля сильно помята, снегом такого не скрыть. Привалов достал из кармана пакет с марлевыми тампонами, вытянул один. Приложил марлю к пятну. Взглянул: марля покраснела. Приложил марлю к пятну поплотнее, чтобы ткань вобрала в себя кровь. Завернул в тетрадный листок, чтобы потом передать эксперту для следователя, который будет вести дело. Он был запаслив. Профессия приучила к этому. В угрозыске работало много молодежи, после войны опытных сотрудников осталось раз-два и обчелся. Еще помощником прокурора Привалов всегда старался помогать ребятам из розыска, но именно помогать — не дублировать их работу, не унижать недоверием. Но как же все произошло? Гадать бессмысленно. Надо понять. Именно в эту минуту пришла идея. Он достал из кармана свежую, еще не читанную газету, обернул ею кол и выдернул его. Идея была простой: тот, кто забивал кол, узнав о смерти Петрушина, если он еще об этом не знает, непременно явится для того, чтобы убрать кол. Но и этот оставлять нельзя. Он может пригодиться. С аллеи Привалов крикнул шоферу, чтобы тот ехал к центральному входу. Держа под мышкой кол, завернутый в газету, он направился туда же. Пусть Осокин завершает осмотр и предлагает версии. Однако надо быть готовым к тому, чтобы обсудить эти версии, когда ему доложат о них. Привалов решил, что картина ночных событий ему, в общем, ясна. Сведение давних счетов — это безусловно. Но он привык никогда не ставить первую же версию в основу будущего расследования. Важно, какая ниточка потянется за тем, что на поверхности. И столь же важно осторожно и аккуратно вытянуть эту ниточку до конца. Родившись в крепком доме на Микитовке, Петрушин всю свою небогатую событиями, серую жизнь безвыездно провел в Новоднепровске. Кроме тех, понятно, пяти лет, что отбывал в местах, весьма отдаленных от этого края. Душевнобольным он, конечно, не был, но, умело прикинувшись, получил сравнительно небольшой срок за сотрудничество с оккупантами, точнее, с полицаями и, прежде всего, со Сличко. Жизнь его протекала скрытно от чужих глаз, да и, откровенно говоря, мало кого интересовала. Что мог знать о Петрушине, скажем, Елышев, сравнительно недавно появившийся в городе? Жизнь самого Елышева была полна противоречий и несуразностей, так что об этом мосластом мужике он просто и не думал. Но лишь до поры до времени. Встречал Елышев Петрушина неоднократно. Было даже время, когда могло показаться, что один преследует другого. Костлявый шестидесятилетний мужичишка с лукавыми, но быстро бегающими, то неподвижно застывшими глазами, одетый не то что небрежно, а просто неряшливо, нередко бубнивший себе под нос неизвестно что, — чем он мог заинтересовать молодого, полного сил, решительного парня? Однако до Елышева успели дойти слухи, что несмотря на весьма непривлекательный вид, тот был бабником и сластолюбцем. С сомнительным или, скорее, малоизвестным прошлым: то ли помогал оккупантам, то ли не помогал. Подпольщиков не жаловал, это точно, кто-то говорил об этом, по… Ходил же по земле, значит, она его носила, значит простила вину. А вот, например, доктор Рябинин, коренной новодпепровец, знал о Петрушине больше. Во-первых, он помнил его года с пятидесятого. Где-то увидел, скорее всего, на старом рынке, куда ходил с сестрой деда — в ее доме возле Яруговки будущий доктор прожил несколько лет по возвращении из эвакуации. Во-вторых, именно Петрушин оказался первым пациентом, явившимся на прием к Рябинину в кождиспансер. Собственно, пациентом его вряд ли бы кто назвал, — заглянул вроде бы из праздного любопытства. Показал руку. «Якась зараза», — прошепелявил. Оказалось — обыкновенные фурункулы. «Чы-ряки цэ», — ответил, едва взглянув на руку, доктор. «Якый жэ ты розумный, — рассердился Петрушин. — Якэ кориння, такэ й насиння». Безусловно, Петрушин знал отца доктора, и явился, чтобы взглянуть на сынка, наверняка зная, что между сыном и отцом — пропасть. Полюбопытствовать? Рябинин считал, что лишь любопытство привело тогда, в начало зимы пятьдесят седьмого года, этого костлявого крепыша в кождиспансер. Не болели руки, не горела кровь на шершавой коже. А совесть у таких толстокожих при рождении отрывают и выбрасывают вместе с пуповиной и последом. Что еще мог знать о Петрушине Елышев? Надежда не так уж много рассказывала про него. «Придурок», — обычно отмахивалась она. Лишь однажды словно пожалела: «Ты любишь, когда тебя любят? Вот и он, наверно, тоже». — «Ну, так полюби его!» — вспылил Елышев. «Да уж, наверно, лучше его, чем тебя. По крайней мере, небезответно». Об этих словах Елышев не забывал и, помня о них, не удивился, когда Надежда вдруг ушла из проклятого дома в Крутом переулке к Петрушину. А доктор Рябинин точно знал, что в годы оккупации Петрушина миловали и оккупанты, и их подручные, но помиловали, не казнили и подпольщики. Кто теперь что может вспомнить? Даже дед Рекунов пожимает крутыми плечами: «Та бис одын знае», — весь ответ. «Но ведь руки у него в крови?» — настаивал доктор. «Руки — нет, — отвечал дед Рекунов, — вот ноги — может быть…» «Да как же это?» — не понимал Рябинин. Что еще знал о Петрушине Елышев? Однажды, когда Елышев поджидал Валентину, Петрушин, завидев его, остановился в сторонке и неотрывно следил за старшиной. Что было во взгляде? Не Елышеву разгадывать такие сложности. Но когда Валентина появилась с опозданием в полчаса, Елышев не вытерпел — скорее потому, что на ком-то нужно было сорвать гнев, — подошел к Петрушину, потребовал: «Чего тебе?» — «А ничего», — ответил Петрушин. «Ничего — так проваливай». — «А не твоя земля тут, не прикажешь. Стою и буду стоять». — «Ну, попадешься в темном углу!» — пригрозил Елышев. «Мокрый дощу нэ боиться», — эти слова Петрушина обезоружили Елышева. Он сплюнул на пыльный асфальт, круто повернулся и никак не отозвался, хотя и услышал за своей спиной: «Якбы свиня рогы мала, то всих бы людэй выколола…» Позднее, едва завидев Петрушина, обходил его стороной — не из какого-то страха, не из брезгливости, а из нежелания слышать этот приглушенный, вязкий, липкий голос. Однако иной раз жалел, что не попадается ему этот мужик в темном углу. Не для расправы, а для разговора, может быть, бессмысленного, но все равно необходимого. Не думал Елышев, что Петрушин знает о нем нечто такое, о чем мало кто догадывается. А вот доктору Рябинину предоставилась возможность узнать, что знает Петрушин о Елышеве. Как-то старый гультяй поймал Рябинина у ворот яруговской больницы и нахально поплелся за ним. «Что вам?» — рассердился Рябинин. «Это тебе, а не мне, — ответил Петрушин, продолжая идти следом. — Чего это ты задружил с тем воякой, а? Хиба не знаешь, яка вин птица?» Рябинин невольно замедлил шаг. «В чем дело?» — «Вот ты — умный человек. После прокурора — самый умный на весь город. А вот покопался бы, что за птица этот твой дружок, старшина. Может, глаза бы ему…» — «Идите своей дорогой!» — чуть ли не выкрикнул Рябинин. «Пойду. Потом жалеть будешь». Но Рябинин спешил тогда по делам. Впрочем, он и не жалел, что не проявил любопытства: вдруг то, что знал о Елышеве Петрушин, все перевернет? Но сам Елышев кое-что еще знал о Петрушине. Со слов не болтливой, в общем-то, Надежды знал о его скопидомстве. «Скнара», — бросила как-то Надежда. Елышев впервые услышал это слово, переспросил. «Ну, тащит всё в хату, всякое барахло, надо не надо, а тащит. У него в хате такой розгардияш, что черт ногу сломит». — «Значит, ты была у него дома?» — не поверил Елышев. «Надо будет — еще пойду», — словно отрезала или рубанула Надежда. Тогда Елышев проглотил обиду, понимая, что обиду породило какое-то неведомое ему ранее чувство. Но доктор Рябинин знал, что этот Петрушин, прикидывавшийся злыдняком, даже вернее всего — жебраком, один из самых богатых людей в Новоднепровске. По крайней мере, так говорили медсестры в больнице. Некоторые из них пытались предлагать ему помощь по хозяйству, некоторые и дальше шли — из жизни ничего ведь не выкинешь, коль было так, а не иначе, — но окрутить его ни одной не удалось: старый волк не лезет в яму, а это гороховое чучело, опудало, было и старым волком, и стреляным воробьем, и хитрым лисом. Когда к нему чересчур уж активно липли, в ответ пахло дымящей смолой. Рябинин не собирался рассказывать Елышеву о покойном теперь уже Петрушине. Однако и Елышев не собирался расспрашивать доктора о Петрушине. Живые должны думать о живых. Позднее, правда, Рябинин подумал: что же все-таки мог знать Петрушин о старшине такого, что подорвало бы доброе отношение доктора к этому, в общем-то, безобидному старшине? Не сходились ли где-то и почему-то дороги Петрушина и Елышева много лет назад?5
День у меня выдался напряженный: два раза пришлось смотаться из больницы в горздрав и обратно, а из центра на Яруговку конец не близкий. О смерти Петрушина я узнал утром в больнице и сразу подумал о том, что прокурор не может не вспомнить о нас с Чергинцом: почему бы ему вновь не привлечь нас, как тогда, осенью, в сличковском деле? Но сейчас мне этого совсем не хотелось. Все это время, с того последнего разговора с Приваловым, когда он рассказал мне, что именно полицай Сличко участвовал в казни моей матери, я думал о тех героических и страшных днях. Описывая сличковское дело, мечтал о другой работе — собрать и опубликовать материалы по истории партизанского движения в нашем крае. В этом видел я теперь свой долг перед матерью, перед ее погибшими товарищами — узнать все, что можно, от тех, кто еще жив. Не начал делать этого раньше, начну сегодня же — так я решил, услышав о Петрушине. Заскочив в обеденный перерыв домой и наскоро перекусив, я уже не мог усидеть на месте. Дело в том, что в соседнем доме жил человек, который провел в Новоднепровске весь срок оккупации — от первого до последнего дня, не застрелил ни одного фашиста, не скрывался в плавнях, ни на одно дело не ходил с партизанами или подпольщиками, по по окончании войны был награжден орденом Отечественной войны II степени. Когда-то, еще в начале тридцатых годов, Демьян Трофимович Рекунов дружил с моим отцом. Вместе и начали строиться, усадьбы их домов смыкались тыловыми заборами. Отец-то потом, уже когда они с мамой разошлись, дом свой продал, а Демьян Трофимович так всю жизнь и прожил в своем. По правой стороне улицы сейчас настроили пятиэтажки, в одной из них я и живу, по левой все еще стоят частные дома. Так вот и случилось, что коротаю свой холостяцкий век по соседству с домом, где родился. Во время оккупации мама особенно сдружилась с Рекуновым, частенько забегала к нему из яруговской больницы. Их и орденами наградили одновременно, но маму — посмертно. Я ведь только от Привалова, когда закончилось дело о Крутом переулке, узнал, что полицай Сличко участвовал в ее казни. С прошлой осени ни разу не заходил к Рекунову: не то что обижен был на старика, но как-то не по себе было, что до сих пор не рассказывал он мне подробно о ее подпольной работе. Перебегая под дождем через улицу, я хотел было решить, с чего начать разговор, но ничего лучше не придумал, как спросить: — Демьян Трофимович, вы, конечно, догадались о цели моего визита? Рекунову уже перевалило за семьдесят пять, однако был он бодрым, сильным стариком. С узловатыми руками, с пронзительным, зорким взглядом, с тихим голосом. Говорил всегда неторопливо, основательно взвешивая слова и внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Впрочем, все южсталевцы его поколения одинаковы. — К чему мне гадать? Я тебя, дружок, еще с осени жду. Ты вот лучше скажи, если бы сейчас этого второго не пристукнули, заглянул бы к старику? Так вот прямо и спросил меня. — Зашел бы. Но не сейчас. Попозже… — Видишь ли, есть вещи, о которых не так просто думать, не то что говорить. Время должно выйти. Если уж я, старик, за временем не гонюсь, тебе тем более не след. Время, оно, видишь, само пришло. — А если б этих прихвостней не убрали, значит, время бы не пришло? — Может, и так. Раз их убили, значит, кто-то зашевелился. И вы, молодежь, небось решили, что это связано с тем взрывом нефтебазы? Так ведь? — Ну-у, не решили, а… скажем… предположили. — А это такая загадка, какую не разгадать с кондачка. Потому что не хватает чего-то такого, без чего ее не раскрыть. Пытались ведь и до вас. И те, кто пытался, поопытней были, и не только, чем ты, но и чем Святик Привалов и его нынешний помощник Костюсь, хотя оба они, не спорю, головастые. Так вот тогда, в сорок пятом, а потом еще раз, в сорок восьмом, все перерыли, всех опрашивали. А что проку? Даже самое главное осталось непонятным: для чего взрывать нефтебазу? Я удивленно посмотрел на него. Он мой взгляд встретил спокойно. — Так ведь вывод нефтебазы из строя лишал немцев горючего на полтора месяца, — решил я показать Рекунову, что кое-что и мне известно. — Это понятно. Но умнее и меньше риска было бы в том, чтобы перекрыть им пути доставки горючего. А тут ведь даже сама переправа трех групп — риск, причем немалый. А немцы ничего не сделали, чтобы помешать переправе. Это ведь не один-два человека. Три группы. Знаешь, сколько каюков было? Десять! Целая флотилия. В моем последнем сообщении говорилось как раз о том, что немцы усилили охрану нефтебазы, а не ослабили, как считали в отряде. Потому что незадолго перед этим ребятки Андрейки Привалова, с ним Коля Польщиков, мои племяши, покушались на ту базу. Вот главная загадка: почему все-таки решили? Уходить из плавней пора уже было, но уйти, сохранив все силы. А что вышло? Я предупреждал их, что дело гиблое. Выходит, не послушали. А я и не знаю, дошли мои слова до командования отряда или нет. — Но это хоть можно узнать? С кем конкретно из отряда вы встречались? — Э-э, не-е, дружок. Ни с кем из отряда я никогда не встречался. Рекунов рассказал мне, что связь с ним держали лишь два его племянника: один — из группы Андрея Привалова, который и погиб вместе со всей этой молодежной подпольной группой, действовавшей в городе, а другой — самый младший, Василек, связывался только с соседом своим, Антошей Решко, который приходил из отряда и в целях конспирации не должен был даже знать, от кого получает сведения Василек. Этому Антону Решко было тогда уже под сорок лет, но на вид он был как парубок, маленький такой, худенький, по словам Рекунова, вполне сходил за пацана. Во время операции он действовал в той самой группе из десяти человек, которую возглавлял командир отряда Волощах. Там, на нефтебазе, Решко получил тяжелое ранение и скончался у себя дома, на чердаке. С кем держал связь Решко, через кого передавал сведения командованию отряда — те сведения, которые получал от Василька, — так и осталось неизвестным. — Мне по-другому не полагалось, — говорил старик Рекунов. — В два дня засекли бы. У меня ведь еще хранилось оружие, считай целый склад. Я и потом снабжал партизан, когда они уже в степи хоронились, всем что надо. Ведь как вышло, когда немцы подошли к городу? Нашлись такие, кто из магазинов тащили все, что попало. А мне помогли перенести в погреб к себе весь арсенал из военкомата — тоже под видом, что тащу из магазинов. Потом соседи ходили выпрашивать. А у меня, говорю, ничего нет, все уже употребил — так есть старухи в соседях, что до сей поры считают меня куркулем, жмотом, не делился, мол, ничем в оккупацию… Лишь однажды нарушил Рекунов требования конспирации: после того боя у нефтебазы укрыл сперва у себя дома, потом в часовне, в развалинах крепости двоих раненых партизан. — Их-то, кстати, твоя мама выходила. В степь потом ушли. Я ж тебе говорил о том, давно уж… И верно ведь, рассказывал мне многое Демьян Трофимович, но воспринимал я тогда все как частности, картины в целом так и не представлял себе.Да и можно ли представить себе ту жизнь по рассказам, по описаниям, какой бы богатой фантазией ни обладай?! Можно ли мысленно увидеть то, чего не видел наяву, если речь идет о таком кошмаре, который обыденностью своей страшнее любого кошмарного сна?! Ночь ли с кромешной тьмой, день ли, опаленный жарой, — мне все это казалось изображенным на одной фантасмагорической картине, где нет главного — нет самой жизни. Город жил, не зная, доживет ли до утра. Жил в постоянном ожидании. Многие, истерзанные ожиданием, верили, что немцам в войне не победить. Другие, тоже истерзанные ожиданием, ни во что не верили. Третьи хоть и разуверились в победе немцев, но, вымарав себя с ушей до пят, уже ничего не ждали: в первую зиму оккупации они изображали перед новыми властями торжество, во вторую зиму — присмирели, в третью — спешили убраться подальше с чужих глаз, читая в них презрение. В первую зиму оккупации было немало таких, кто сознательно, пусть и без должной организации, шел навстречу гибели, поджигая немецкие склады и выводя из строя их боевую технику. Во вторую зиму таких неорганизованных смельчаков уже не осталось: они либо покоились в длиннющей могиле за железной дорогой, либо ушли в степи. В третью зиму надежды связывались с приближавшимся фронтом, хотя единственной информацией о нем были слухи. Я говорю о зимах потому, что каждой осенью партизанам приходилось покидать плавни и как бы самораспускаться. В нашем крае зимы становились для оккупантов передышкой. Но тогда они лютовали особенно безбоязненно, надеясь до конца весны переловить тех, кто лишал их покоя, когда становились недоступными для оккупантов плавни. Зимой стук в дверь любого дома мог означать все что угодно, но чаще всего означал смерть. Шаги под окном тоже чаще всего означали ее приход. Голоса с улицы могли звать — без всякой надежды — на помощь, но могли и предупреждать об опасности. Грохот, шум над крышами чаще всего нес за собой бомбы, но порой и листовки. Рекунов ложился спать, пряча под подушкой гранату: не сдаваться же, надеясь на чудо. Нечего ждать чуда на такой войне. Так он прожил весь срок оккупации, от первого до последнего дня, не застрелив ни одного фашиста, не скрываясь в плавнях.
— Значит, вы считаете, что тайна гибели отряда — вовсе не тайна, а грубая ошибка. — Конечно, грубая, страшная даже, раз люди погибли. Все разговоры про предателя в отряде — пустое. Тень наводят на отважных людей. Все сорок три были молодцами. Грешно подозревать кого-нибудь из них. Вот почему мое донесение не приняли на веру? Или оно не дошло до них? Только командир мог бы на все вопросы ответить. Но он ведь исчез бесследно, даже схоронить не смогли. — Как так исчез? Он же погиб на нефтебазе. — Погиб-то погиб. Но ведь тела не нашли. Может быть, кому-то нужно было, чтобы не нашли? Самое простое сбросить тело погибшего в воду. Знаешь, какое течение было тогда в Днепре? Унести могло аж в Черное море. — Но если кто-то сбросил его в воду, значит, тот, кого называют «сорок третьим»? И действовал он в группе командира: с командиром их девять человек было. — Не хочу и не буду подозревать кого-либо. Я им всем верю — и мертвым, и живым. — Но вы, значит, знали об операции? — Про точный день — нет. Что в одну из ближайших ночей — об этом я знал. Хотя и предупреждал. Раньше. Но когда узнал, предупредить уже не мог. Никак. — От кого знали? — Как от кого? От Василька. Но он точного дня тоже не знал. Ему из отряда приказали дежурить в определенном месте каждую ночь. Чтобы потом развести партизан по хатам. Ну, ясно, что не ему одному. У отряда и другие связные имелись. А уж кого куда потом разводить, это решили бы и сделали ребята Андрейки Привалова. — Из них тоже никого не осталось в живых? — Да. — Демьян Трофимович как-то особенно медленно повернул лицо в сторону окна. — Тебе надо поговорить с молодым Кравчуком, что на «Южстали» партийный секретарь конвертерного, да со Щербатенко, старший мастер там же, в конвертерном. Да подскажи ребяткам, чтоб ко мне заглянули. — Он вдруг, словно просил у меня извинения за свою слабость, постучал кулаком по столу. — Сам понимаешь, возраст. Но какое могут иметь отношение к убийству — или пусть просто к смерти Петрушина — эти двое?
Итак, Рекунов в нападении на нефтебазу не участвовал. Более того, после разгрома отряда Волощаха он никому не задавал вопросов. Скрывался, уходил, прятался, приходил, исчезал — все это было. Не было только одного — у него тогда и мысли не возникало о причинах и обстоятельствах гибели отряда. Эта мысль пришла много позже, но, однажды родившись, уже не давала покоя. Один за другим возникали вопросы, требовавшие ответов. Когда же нередко являлись ответы, они порождали новые вопросы. Все запутывалось, закручивалось, вращаясь вокруг какой-то неуловимой оси. Какой? Он долго не мог понять. Но она представлялась ему настолько протяженной во времени и постоянно ускользающей, что он никак не мог ухватиться за ее конец. Так продолжалось до тех пор, пока не догадался: ускользает она потому, что он не верит в ее существование, не верит в возможность целенаправленного, сознательного предательства, ибо поверить в такое означало бы предать самого себя. Предать свою веру во многих людей, зачеркнуть их прошлое, в каждом увидеть нечто иное, нежели видел до сих пор. Однако Рекунов, человек решительный и бесстрашный, сумел — хоть и не без сомнений — переступить даже через это. Нечто, столь долго ускользавшее от него, стало вдруг определенным и ясным, пронзительным в своем обнаженном оскорблении в адрес многих людей. Потому что не имеет значения, чего ради отряд полез на нефтебазу. Вернее, имеет, но не для Рекунова. Для него важнее всего, почему оказался возможным такой провал. Да, он лично предупреждал о риске нападения на нефтебазу. Да, он сделал все от него зависящее, чтобы отряд избрал другой путь выхода из плавней. Да, он был убежден, что Волощах последует его совету. То обстоятельство, что с его предупреждением не посчитались, его ничуть не обидело, — не до того было, не то время война, чтобы обижаться, и не такое время настало после войны, чтобы можно было обижаться, вспоминая прошлое и вспоминая павших. Он даже мысленно не произносил грубые, гневные слова в адрес пропавшего без вести Волощаха, он ничего не мог поделать с собой, эти слова рвались наружу, но он никому не адресовал их. Тем более, что пришлось пройти через такие беседы (или допросы?), в которых надо было спасать тех, кого еще можно было спасти, и надо было — как это ни унизительно — спасать себя. В круговерти таких забот, таких дел он на долгое время даже забыл мучавший его вопрос: почему оказался возможным этот провал? Но пришло время, когда этот вопрос вновь встал перед ним. И лишь много лет спустя выстроил он собственную версию. В его представлении все события сложились в единую цепь, которая теперь намоталась на ось. А имя у этой оси одно — предательство. Хотел он или не хотел (конечно, не хотел!) поверить, мог или не мог (увы, теперь мог!), но предательство было. Было — по его нынешнему убеждению. Более того, он теперь убежден, что предательство спровоцированное, или предательство с провокацией. Он не был человеком образованным, поэтому о точности словосочетаний не заботился. Ему важна суть. А суть для него состояла теперь в том, что отряд пал жертвой предательского замысла: спровоцировать нападение на нефтебазу, тем самым заманив отряд в западню, из которой живым никому не выйти. Подозревать в таком замысле и его осуществлении он мог всех. И подозревал. Вернее, никому теперь не доверял: ни живым, ни павшим. Да, за эти долгие годы он прошел тягостный путь от полной веры к полному неверию. Он не мог знать, в чьем коварном мозгу родился этот замысел, не мог знать, как и кем воспользовался тот, кто замыслил эту провокацию. Но зато он теперь знал, что хотя бы один из причастных к предательству людей все еще ходит по земле. Да и можно ли в этом сомневаться после того, как убрали Сличко и Петрушина. И значит, один из причастных ходит не где-то за тридевять земель, а ходит по новоднепровским улицам и, может быть, даже здоровается с ним, с Рекуновым. Такой была его версия. Предательство! Но с какой целью? Из подлости? Из страха? Из мести? Или чтобы скрыть какие-то следы, чьи-то следы? Но все равно — предательство! Он посоветовал мне встретиться с Кравчуком и Щербатенко. Но ведь он сейчас никому не верит. Или этим двоим все-таки верит?
6
Прокуратура все еще находилась в обветшавшем двухэтажном доме за сквером, в самом центре старого города, в квартале от Октябрьской площади. «Неужели это последнее дело, которое придется расследовать здесь?» — подумал Привалов, входя в свой мрачноватый кабинет. Мрачным он выглядел из-за слишком высоких потолков и из-за того, что стена соседнего дома послевоенной застройки закрывала высокое окно. Первым делом Привалов вызвал столяра из мастерской, обслуживавшей прокуратуру и милицию. Мастерская помещалась во дворе, поэтому столяр, аккуратный старичок, явился немедля. Как и все, кто знал Привалова, столяр ценил каждую минуту общения с прокурором. Так уж всегда получалось, что двумя-тремя словами завоевывал Привалов людей, какое-то внутреннее, не показное, обаяние, притягательная сила были в этом человеке. — Афанасьич, дорогой, видите этот кол? Можете для меня сделать такой же? По возможности — точно такой, чтоб один к одному. Что вы про него скажете? — Пощупать можно? — спросил столяр. — Нежелательно, — улыбнулся Привалов. — Тогда не надо. — Столяр даже отступил на полшага назад. — Я и так скажу. Прежде всего — осина. Свежая. Недавней вырубки. Мы тоже получили партию такой же. Завезли из порта, со склада. Совсем недавно. Вроде позавчера. Так что сварганю вам такой же кол. Хоть оборотню в могилу втыкай. При этих словах Привалов чуть заметно вздрогнул. А столяр, как ни в чем не бывало, продолжал: — Ну, поверье есть такое, понимаете? Я-то в нечистую силу не верю. Но еще от прадеда слышал — да, да, у нас в роду все были долгожители, как теперь называют, так что прадеда хорошо помню, — вот он и говаривал, что подлецам, которые, к несчастью, реже гибнут, чем хорошие люди, надо обязательно в могилу кол втыкать, чтоб не вздумали встать из гроба. А я так считаю: не в том дело, чтоб не вылезли из могилы — оттуда назад дороги никто не найдет, а в том, чтоб знали люди — вот этот памятник хорошему человеку, жизнь честно прожил, его и добром помнят люди, потому и памятник — память, значит, а подлецу — кол в могилу, чтоб все знали — подлец он и был, памяти, памятника, значит, не удостоен от людей… — Старичок-столяр готов был, кажется, еще долго развивать эту тему, и Привалов не перебивал, пока столяр сам не почувствовал, что заболтался, что, может быть, отрывает прокурора от дела государственной важности: — Ой, Святослав Владимирович, заговорил я вас. Так к какому сроку кол-то? — Как можно скорее. Прямо бы сейчас. — Сей минут и будет. Через четверть часа принесу. Размеры — на глаз, да? — У вас глаз верный. Приблизительно такого размера. Важно, чтоб очень похож был. — Будет сделано. Едва столяр ушел, Привалов позвонил в милицию и попросил дежурного прислать свободного милиционера для выполнения кое-каких поручений. Затем позвонил в Красные казармы — хотел вызвать к себе Елышева. Но ему ответили, что тот сдал дежурство и отправился отдыхать. — Так пошлите за ним кого-нибудь, — рассердился Привалов. — Я же приглашаю его не в домино играть. Затем снова позвонил в милицию, дежурному, и попросил послать милиционера на дом к Петрушину, чтобы пригласить в прокуратуру жену Петрушина Надежду Осмачко. Между тем явился пожилой милиционер, старшина Польщиков, тот самый, которого Привалов видел на кладбище, тот, что пошутил насчет оборотня. Привалов сразу приступил к делу: — Товарищ старшина, сейчас принесут деревянный кол. Просьба к вам: пойти на кладбище и воткнуть этот кол в изголовье могилы Сличко. Слышали о таком? Там надписи нет, но я вам сейчас начерчу схему. Милиционер понимающе кивнул. Он слушал внимательно, заинтересованно. Сомнений нет: человек серьезный, все выполнит, как надо. Быстро начертив схему, Привалов протянул милиционеру листок: — И желательно не привлекать внимания. Самое лучшее, чтобы вас никто не видел. Кол воткните в отверстие, которое там осталось. Вопросы есть? — Не беспокойтесь, товарищ прокурор, — спокойно сказал пожилой старшина, — все сделаю, как просите. Извините, что вмешиваюсь, — неожиданно добавил он, — но не обошлось здесь без какого-то сличковского прихвостня, из тех, может быть, что помогали ему партизан выслеживать. — Тот Коля Польщиков, — Привалов даже улыбнулся, — ваш родственник? — Младший брат. Я на фронте был, а он, значит, здесь, в оккупации. «Вот она, наша новоднепровская история. Все мы, выходит, одна семья», — вздохнув, подумал Привалов. Коля Польщиков из той самой группы, которая по заданию горкома комсомола осталась в городе для борьбы с фашистами. Из группы, которую возглавлял Андрей Привалов, старший брат прокурора. Старший брат, которому было тогда семнадцать. Погибли они с Колей, с другими семнадцатилетними мальчишками в сорок третьем. Сейчас им было бы под сорок. «А сколько же этому старшине милиции? Под пятьдесят, конечно. Его младшему и моему старшему было по семнадцать: Коля казался ему мальчишкой, а мне — Андрей — мужчиной…» Вежливо постучав в дверь, зашел столяр с новым колом. Привалов завернул кол в газету, передал милиционеру. — Как сделаете, доложите мне, пожалуйста, лично. Буду вас ждать. Милиционер ушел. А старичок-столяр не уходил. Привалов вопросительно посмотрел на него. — Что еще, Афанасьич? — Если вам интересно, я уточнил. Навигация же только начинается. Так что эту осину на портовый склад завезли с дровяного, что на переезде. Если захотите что выяснить — значит, там. — Спасибо, Афанасьич. Может быть, и понадобится. — Говорят, Петрушина убили? — Уже говорят? — Слухи — они ведь словно напасть какая. — Да, вы правы: слухи ветром носит. Думаю, его не убили, а просто несчастный случай. — С ним-то? С такими несчастий не случается. Чего он поперся на кладбище-то? У своего дружка-душегуба грехи замаливать, не иначе! Столяр ушел. Но то, о чем он тут говорил, означало: слухи уже пошли по городу. Столяр, конечно, узнал от милиционеров, но это вовсе не означает, что слухи не поползли дальше. Хорошо это или плохо? Вряд ли кого огорчит смерть придурковатого прихвостня и Петрушина. Не ахти какая потеря. Многие пожелают поскорее забыть о ней. Но Привалов чувствовал, что отыщутся здесь следы, ведущие из Крутого переулка. И потому он должен заняться этим делом сам, не перекладывать на помощников. За этими размышлениями и застал Привалова пришедший по его вызову Елышев. — Садись, — предложил прокурор. — И не волнуйся. Надеюсь, что с тобой, как всегда, все в порядке. А ты сам-то уверен? — Не знаю, — ответил Елышев, присаживаясь на краешек стула, стоящего у стены. — Вот это уже хорошо. Сомнения, как говорил Фауст у Гёте, родят природа и дух, когда природа — грех, а дух — сатана. Да ты сядь поудобнее, не дергайся. Поговорим не спеша. Рассказывай все по порядку. — Так я уж все рассказывал им. Они все записали. Я расписался. — Меня не то интересует, как ты его нашел, а то, что сам ты обо всем думаешь. И, может быть, знаешь, предполагаешь. Откровенно скажу: хочу, чтобы все мои предположения лопнули мыльным пузырем. — Не получится этого, — уверенно, но и с горечью сказал Елышев. — Почему же? — Предчувствие у меня такое. — Ну-у, предчувствия часто бывают от больного воображения. Ты ж человек разумный. — Был бы разумным, не влипал бы в такие истории. Как с осени пошло… И черт меня попутал связаться с этими сличковскими дочками. — Сам ведь знаешь: они не все одинаковые. Малыха, наверное, не жалеет, что на Вере женился. Вот твои-то обе — хищницы, что верно, то верно. Но ты же, кажется, с ними развязался. Или я ошибаюсь? — Он хотел меня убить, — не ответив прямо на вопрос прокурора, убежденно сказал Елышев. — А кто-то взял да убил его. По дороге. Он шел за мной, я уверен. Но встретил кого-то, кто дальше ему идти не позволил. Наверняка так было. — Напридумывал прилично, — протянул Привалов. — Общение с доктором Рябининым всем вам на пользу не идет. Вместо того, чтобы о фактах говорить, начинаете сразу версии строить. А это уже, извините, моя работа, не ваша. — Доктор ни при чем. Я его с осени и видел-то раза два мельком. С того дня, как мы втроем… с вами… сидели у него. Когда закончилось дело Сличко. Но, поверьте, Петрушина не зря кто-то убрал. А он — меня хотел. — Раз ты так уверен, тем более выкладывай все, что знаешь. Елышев добросовестно рассказал обо всех утренних событиях. Однако о том, что отлучался в полночь с КПП, почему-то умолчал. А ведь когда шел к Привалову, хотел и об этом рассказать. Почему умолчал? Потому ли, что знал: прокурор любит краткость и точность, а с этой своей отлучкой Елышев до сих пор сам не разобрался. — Ты по рукам и ногам связан с этой семейкой, — сказал Привалов. — Понимаешь это? Елышев, соглашаясь, кивнул, по тут же добавил: — А что я могу сделать? — Я надеюсь на твою память. И правдивость. Но ты что-то скрываешь. Во время дежурства ты отлучался с КПП? — Ну-у, например, в казармы ходил… — нерешительно протянул Елышев. Он уже совсем было собрался сказать и о другой, полуночной отлучке, как прокурор перебил его, словно в его планы вовсе не входило узнать у старшины все именно сейчас. — Знаешь что? — предложил Привалов. — Посиди где-нибудь в скверике напротив, сделай такое одолжение. И глаз не спускай с входа в прокуратуру. Когда отсюда выйдет одна известная тебе женщина, возвращайся ко мне. Но чтобы она тебя не видела. Договорились? — Если б я и не хотел, могу разве отказаться? — Не можешь или не хочешь — откажись. — А кто она? — Увидишь сам. Неужели не догадываешься? Ладно, иди. Елышев встал со стула, не спеша подошел к двери, на секунду задержался, может быть, признаться в чем-то, но прокурор уже взялся за телефонную трубку, и Елышев бесшумно прикрыл дверь. Вниз по лестнице он сбежал быстро. Привалов позвонил в Яруговскую больницу, но доктора Рябинина на месте не оказалось. Прокурору ответили, что его вообще сейчас в больнице нет. Не отвечал и домашний телефон доктора. Чего, собственно, хотел Привалов от Рябинина? Только ли узнать, какое впечатление произведет на доктора известие о смерти Петрушина? Конечно, Рябинин и его друг Чергинец помогли прокурору в сборе информации при расследовании тех осенних событий в Крутом переулке. Доктор даже успел их описать. Читая его записи, Привалов еще больше убедился, что история с возвращением Сличко не завершена. Разница лишь в том, что Рябинин был уверен, что во всем разобрался с помощью Привалова. Прокурор же все эти месяцы никак не мог избавиться от ощущения, что все события были только началом, за ними обязательно должны последовать новые. Вот они и последовали. Что же теперь, радоваться своей проницательности? Радоваться можно было бы в том случае, если бы он сумел предупредить их. Но телефон доктора не отвечал, и все эти вопросы Привалов мог пока задавать лишь сам себе. — Осмачко Надежда здесь, — доложили ему. Встретиться с Надеждой Привалов решил пока лишь для того, чтобы задать ей несколько вопросов, ответы на которые могли бы, не затрагивая, скажем так, ее чести, прояснить обстановку в доме Петрушина. — Садитесь. Вот и снова мы встретились. Быстрее, чем можно было ожидать, не так ли? Но вы должны меня извинить: служба у меня такая жестокая. — Я понимаю, — ответила Надежда. Она вовсе не выглядела подавленной. Напротив, держалась как-то чересчур даже спокойно и уверенно. — Прекрасно. Долго вас не задержу. Скажите, с кем в последние дни встречался Петрушин? — Дома он сидел. Не вылезал. — Боялся, может, кого-нибудь? — Не знаю. Его не поймешь. А почему вы думаете, что боялся? Ее вопрос Привалов пропустил мимо ушей, продолжал спрашивать сам. — Кто-либо, вам незнакомый, приходил к нему? — При мне никто не приходил. А когда я на работе, откуда мне знать? Он ничего не рассказывал. — Скажите, он ревновал вас? — Ревновал? Не верил он мне. Это точно. Он же знал, что я — не по любви с ним. Сами знаете, как вышло: отец появился, и мне куда-то кинуться надо было. — Надежда вдруг встрепенулась, что-то словно обожгло ее. — Он подозревал. Да. Подозревал, что уйду от него. Как только найду, куда уйти. Но я пока уходить не собиралась. Что мне от жизни надо? Уже ничего. Отец все сломал. Душу всю вывернул. Людям в глаза смотреть совестно, будто я тоже с ним там… Ничего в душе не осталось хорошего. Поймите это. Из потока ее слов Привалов выделил одно слово — «пока». Она ведь так и сказала: «Пока уходить не собиралась». — А он это понимал? — Он? — Она задумалась. — Пожалуй, понимал. Но — по верил. В человеческую душу не верил. Нет, не ревность это, а что-то другое. Плохой был человек. Вы и не представляете, насколько плохой. Только женщина может понять, какой он был… Если бы заранее знала, ни за какие коврижки не пошла бы к нему… «Для кого она все это говорит? Для себя? Стоп!» — Привалов даже вздрогнул, настолько неожиданной и ошеломляющей показалась ему догадка. Еще осенью, знакомясь с людьми, так или иначе причастными к событиям, происходившим в сличковском доме, Привалов многое узнал о четырех сестрах. Старшая пыталась скрыть свои низменные мысли и низкие поступки даже от самой себя; вторая прилагала все усилия, чтобы подавить в себе жажду походить на старшую сестру, и, понимая, что это ей не удается, пряталась от людей; Вера цинично призналась, что никогда и ничего не сможет поделать со своей натурой, и потому нисколько не заботилась о том, как она выглядит в чужих глазах; младшая измучилась в метаниях между тем представлением о нравственности, какое приобрела в общении со сверстниками, и тем, что видела в своей семье, — она и ушла из жизни, не найдя выхода и опоры. Однако все четверо не понимали того, что сумел понять Привалов: мужчин, которые встречались на их пути, менее всего заботили пороки сестер, вряд ли парни даже отдавали себе отчет в том, что их привлекает в этих женщинах. Может быть, недостатки-пороки и привлекали, спрашивал себя Привалов и склонен был ответить утвердительно. Разве этот красавец речник Малыха, бесхитростный вроде парень, не пользовался слабостями Веры? А Елышев? Может быть, не осмысленно, но ведь настойчиво играл он в свое время на порочной привязанности к нему Надежды. А малыш Бизяев? Не слишком-то привлекательно выглядел он в истории с Любой: ну, любовь, ну страсть, но все равно, как говорится, до венца, а при первом же испытании отстранился, не уберег девушку от гибели. О Петрушине и говорить нечего: сам насквозь порочный, он-то, конечно, понимал, на каких струнах играет. Вот и получалось по раскладке Привалова, что все они — и мужики, и бабы — стоили друг друга: пусть не злые умыслы, не зависть и жажда наживы уравнивали их, зато нравственная неразборчивость и самая обычная глупость ставили на одну доску. Не потому ли, что Привалов обо всем этом неоднократно размышлял и прежде, его озарила во время разговора с Надеждой неожиданная догадка?7
Я как раз открывал дверь, когда зазвонил телефон. Но к телефону я никогда не спешу, ибо просто недолюбливаю это средство человеческого общения. Пока снимал пальто в прихожей, звонки прекратились. И тут же затрещал звонок над дверью. Вот это приятная неожиданность: Сергей Чергинец собственной персоной. Если теперь снова зазвонит телефон, и подавно не возьму трубку, надо же спокойно поговорить. Но какое уж тут спокойствие, когда Сергей прямо с порога заявил: Ну, доктор, про Петрушина, конечно, слышали? Кажется, опять попадем мы с вами в историю. Многие люди мечтают остаться в истории, — пытаюсь пошутить, но по виду понимаю, что сейчас, видимо, не до шуток. — Раздевайся, проходи, усаживайся. Знаю, что зря бы ты не пришел. Хотя мог бы и так просто заглянуть, попадаться. Дел невпроворот, — вздохнул Сергей, устраиваясь в кресле, — да и вас, слышал, в горздрав перебросили. — Он откинулся на спинку кресла. — Так вот, совершенно точно: Володька никакого пугала на краю оврага не ставил. И даже его не видел. А Елышев видел что-то. Или кого-то. — Думаю, все же никого там больше не было. — Но ведь мог быть человек? Скажем, тот, кто это пугало поставил. Но не ушел, был где-то рядом. Ночью черным-черно. Мог он где-то поблизости прятаться. И двигаться ему незачем было. Хотел только проследить, удастся ли его план заманить Сличко в овраг. Мог, значит, Елышев видеть человека? И Сличко мог из окна увидеть этого человека. Мы тогда решили, что сбежал он, приняв Елышева за милиционера. Но ведь это наша догадка. Сличко же мог броситься за тем человеком, или наоборот, от него, а потом уж напоролся на пугало и… в овраг. Могло так быть? — В принципе могло. Ты все это сочиняешь только потому, что Володя не ставил пугала, да? — Если не он, значит, кто-то другой поставил! Этот кто-то и Петрушина убрал. А цель одна и та же: боялся за себя. Значит, когда-то связан был с ними. Тут, по-моему, и загадки никакой нет. — Но кто же это? Кто? Не ответив на мой наивный вопрос, Сергей продолжал: — Мы с Володькой ехали с вечерней смены. И на нашей остановке, возле универмага, стоял Елышев. Кого-то ждал. Потом вдруг сорвался с места — и быстро за угол. Может, увидел кого-то, кого не ждал. — Петрушина? — Почему бы нет? — Тогда понятно, отчего он ушел. К чему связываться с Петрушиным? — Но, может быть, Петрушин следил за Елышевым? От ревности трудно излечиться. Я же уверен, что был там кто-то еще, о ком мы ничего не знаем. Этот неизвестный и убрал Петрушина. Для собственной, повторяю, безопасности. Он и Сличко хотел ликвидировать, да тогда судьба распорядилась в его пользу. Как вы-то думаете? — Думаю, ты прежде всего обязан поговорить с Приваловым. — Не беспокойтесь, доктор. Конечно, поговорю. Только он уже давным-давно все, о чем я говорю, наверняка обдумал. И наверняка знает больше, чем мы с вами. Вот как бы уговорить Привалова, чтобы он взял из архива дело партизанского отряда? — Ты депутат! — улыбнулся я. — Тебе и карты в руки. Но ведь сам же только что сказал, что Привалов давным-давно об этом подумал. Помнишь, как он нас с тобой уговаривал помочь ему в том деле? А теперь ты сам загорелся. — Вас он уговаривал. Точно. Я же сразу согласился, — буркнул Сергей и задумался. — Ну что ты хочешь? Хочешь, вместе пойдем к Привалову? Чергинец вдруг вскочил и подошел к телефону. Секунду помедлив, снял трубку, набрал номер. — Баба Легейда, Володька спит? Разбудите его, пожалуйста. Срочно. — Что ты еще придумал? — спросил я. Сергей не ответил. — Не выспался? Потом доспишь. — Это он уже в трубку, Володе Бизяеву. — Слушай внимательно. Когда мы ехали с тобой в автобусе, Надежда Осмачко была там? А-а, потому и заговорил про нее? Так. Она вышла с нами? Точно помнишь? Ну, ладно, досыпай. Чергинец положил трубку. — Что ты придумал? — не вытерпел я. — Пока ничего нового. Удовлетворил свое любопытство. Значит, для начала нам с вами нужно знать и сообщить Привалову, что Надежда со смены ехала с нами в одном автобусе, по на нашей остановке, где она всегда выходила, не вышла, а поехала дальше, до следующей, до конечной. До Октябрьской площади, откуда ей дольше к дому идти. Там, возле универмага, светло на остановке. Володька говорит, что она вроде собиралась выйти, но уже у двери передумала, протиснулась назад, и на нее зашикали пассажиры. Вот он и запомнил. Понимаете? Что, если она увидела кого-то и не захотела с ним встретиться? — Елышева увидела? — Нет. Он же стоял на другой стороне. Около универмага. И ушел, когда автобус еще не остановился. Может, она Петрушина увидела? Муж ведь может за полночь прийти жену встретить. А она, значит, не захотела, чтобы он ее встретил. Или кого-то другого увидела? …Да-а. Если смерть Петрушина никак не связана со смертью Сличко — это одно дело. А если связана? Прокурор, конечно, прежде всего выяснит, как умер Петрушин. А уж потом возьмется за партизанские дела. Интересно, привлечет ли он нас с Сергеем, как в истории с Крутым переулком?8
Догадка, которая ошеломила Привалова, казалось, вовсе не была связана с тем, что говорила ему Надежда Осмачко. Позже, в разговоре с Чергинцом, он убедился в своей правоте. Еще и не имея подтверждения, что Володя Бизяев не ставил пугала, прокурор понял: тогда осенью Елышев мог видеть не пугало, а человека, поставившего его, и этого же человека мог испугаться Сличко; этот же человек мог убрать потом Петрушина. Может быть, догадка пришла в разговоре с Надеждой потому, что, слушая ее, Привалов все время искал связь между осенним делом и новым? А когда мысленно нащупал эту связь, все, что говорила ему Надежда, потеряло значение. Впрочем, она-то продолжала его в чем-то убеждать: — Для него же ничего святого в жизни не было. Никогда. Нет, раньше, может, было. А сейчас — ничего и никого. Он и ко мне-то относился… Знаете, как? Как к дочери моего отца. Считал, что я за богатством к нему пришла. Он же растратил половину отцовского добра. Да, да, я знаю, что награбленного. Но отцовского же, а не Павла Иваныча. Он говорил, что пригрел меня в счет того добра. Понимаете? «До чего же тошно слушать от таких людей: добро, добро. Затаскали слово. Какое же это добро, когда совсем наоборот — зло это, одно и слово-то — зло?!» — подумал Привалов, но для порядка задал ей последний, пожалуй, вопрос: — Вы говорите, не вылезал он из дома. А чего ж в эту ночь вылез? Как вы думаете? Прошу вас отвечать конкретно на мой вопрос. — Так я же не знаю. — Ладно. Идите. Вы свободны. Если что надумаете сообщить — приходите. Надежда безропотно поднялась, ссутулившись, поплелась к выходу, бесшумно скрылась за дверью. Привалов же немедленно позвонил своему первому помощнику Костюченко, в общих чертах напомнил ему о событиях в Крутом переулке, рассказал о том, что происходит сейчас, и попросил изучить в этой связи материалы партизанского архива. Вскоре после этого разговора в дверь постучали. Как Привалов и ожидал, явился Елышев. — Садись, — сказал прокурор Елышеву. Старшина опять присел на краешек стула. — Видел ее? Так вот, Петрушин из хаты не вылезал, похоже, кого-то боялся. Боялся, что с ним расправятся, как со Сличко. — А мне кажется, вы ошибаетесь, — нерешительно произнес Елышев. — Почему же? — Никого он не боялся. Он влюбился в Надю и целыми днями ждал ее. Пока она на работе, отсыпался. Понимаете? — Ты уверен, что все так просто? — Думаю, да. А что он оказался на кладбище, так он меня караулил. У пашей проходной. Ревновал. Но, честное слово, без причины. Не давал я повода. Что было, то прошло. А если бы он кого-то боялся, то не приплелся бы ночью к проходной, к кладбищу. Значит, не боялся. — Но ты же говоришь, что он сильно в нее влюбился. Могла же ревность пересилить боязнь? — Не знаю. У такого, как он, мне кажется, не могла. — Ну что ж, если ты все, что хотел, сказал мне, не смею задерживать. Елышев с неожиданной поспешностью скрылся за дверью. Привалов снял трубку телефона, набрал двузначный номер. — Костюсь, это опять я. Дело еще вот в чем… Его надежнейший помощник Костюченко был ростом под два метра и весом сто тридцать килограммов, шесть раз становился чемпионом республики по самбо, а все друзья детства и послевоенной юности до сих пор называли его по школьному — Костюсь. Кажется, это Рябинин первым его так назвал. Когда зачитывался историческими романами и прочитал про белорусского революционера…9
Выйдя из прокуратуры, Елышев направился через скверик в сторону Красных казарм. Ни с кем не хотел он сейчас видеться и, тем более, разговаривать. Он шел не спеша и резко обернулся, поняв по стуку каблуков, что его догоняют. — Что тебе? — грубо сказал он спешившей к нему Надежде. — Что я тебе задолжал? — Не ты мне, а я тебе. — Хватит дурить. Додурилась уже. — Завтра же все скажут, что это ты убил его. — Я? На черта вы мне сдались? — А люди таких вопросов не задают. Что видят, то и говорят. — При чем здесь люди? Лучше скажи, зачем ты меня вызывала? Правду говори. Пока никто не знает, что ты мне звонила. — Предупредить хотела. Он сказал, что убьет тебя. Не понимаешь? Сказал, что не будет ему счастья, пока ты ходишь по земле. Не понимаешь? Ревновал он, ревновал. К старому. Не верил, что я могу забыть тебя. Чувствовал, что с тобой мне лучше было, чем с ним. боялся, что стану снова с тобой встречаться. Зябкая дрожь пробрала Елышева. Ему показалось, что холодный пот выступил у него на лбу, он даже тронул свой лоб тыльной стороной ладони: лоб был сухой, горячий. Если Петрушин сказал Надьке, что убьет Елышева, зачем же она вызывала его из казармы в полночь? Чтобы предупредить? Но ведь могла и по телефону? Или днем как-нибудь? Но она позвонила ему с завода и долго, настойчиво упрашивала встретить ее на остановке после вечерней смены. А сама так и не появилась. Зато Петрушин мелькнул на остановке. Тогда Елышев подумал, что ему тот привиделся. Он и ушел, не дождавшись последнего автобуса, потому что ему привиделся Петрушин, и он вдруг понял тогда, что зря согласился встретиться с Надькой. А Петрушин, оказывается, не привиделся ему, он, значит, и, впрямь был там. Елышев понял это, когда нашел на рассвете Петрушина, мертвого, на чугунном кладбищенском заборе. Но почему тот пришел на остановку, хотя вроде никогда прежде не встречал Надьку после смены? Мог ли он знать, что она позвала Елышева? Мысль о том, что она решила подстроить их встречу, что потому так настойчиво уговаривала его отлучиться, ненадолго с дежурства, бросила в дрожь старшину. — Но почему же ты сама не пришла? — спросил он, ожидая ее оправданий и одновременно понимая, что никакие оправдания теперь его не успокоят, теперь он всегда будет считать, что она хотела устроить его встречу с Петрушиным. — Я опоздала. Задержалась на работе. Думала, что сразу убегу после смены, но документацию не успела оформить. Приехала последним автобусом, а тебя на остановке нет, и никого уже не было. — Учти, я молчать не буду. Если спросят, скажу, как было. Что ты мне звонила и вызвала меня. Что ты мне хотела сказать? Что он ревнует, что хочет убить меня? — Ничего я не хотела. Хотела просто увидеть тебя. Потому что боялась. И за тебя, и за себя. Сама не знаю, зачем тебе звонила. Одно знаю: теперь очередь за мной. — Какая очередь? Что ты мелешь? Надежда не ответила. Даже не посмотрела на него. Повернулась и пошла прочь. Поскрипывал мокрый песок под ее каблуками. Ветерок, набежавший из степи, трепал ее волосы. Злость подсказывала Елышеву самые нелепые решения. Но дорога до казармы остудила голову, успокоила. В конце концов Петрушина, грозившего ему, уже нет. А Надьке можно не верить. Не верить в ее страхи. Может быть, снова она заманивает его, надеясь пробудить жалость? Но ведь тот, кто убрал Петрушина, еще не пойман. Привалов, конечно, найдет, узнает, кто это был. Но кто бы ни был, какие бы ни были у него счеты с Петрушиным, к чему ему связываться с Надькой? Он как раз проходил через КПП, когда зазвонил городской телефон. Дежурный взял трубку, ответил, выслушал, удивленно взглянул на оказавшегося рядом Елышева и молча протянул ему трубку. — Слушаю, — сказал Елышев и снова вспыхнул от злости, услышав ее голос. — Что тебе еще надо? Надежда прерывающимся от волнения голосом сообщила, что в ее отсутствие кто-то пытался проникнуть в ее дом. Один замок сломали, а со вторым справиться не смогли. Проникнуть в дом Петрушина было не так-то просто. — Но кому это нужно? — кипел Елышев. — И почему ты мне звонишь? Вызывай милицию. «Значит, нужно, — кричала в трубку Надежда. — А тебе звоню, потому что боюсь». — Что у вас там, золота много? «А, может быть, что-нибудь дороже золота?» — отвечала Надежда. — Ты, что ли, дороже? «Я боюсь, Володька… пойми, боюсь… теперь моя очередь, понимаешь? Меня тоже убьют!» — кричала Надежда. — Не дури. Никому ты не нужна, а мне тем более. Звони в милицию. Он швырнул трубку на аппарат. Спокойствия как не бывало. Раздумал идти в часть. Решил вернуться в город. Дежурный удивленно смотрел ему вслед: притащился на КПП из города по телефону поговорить?10
Ни к какому определенному решению мы с Сергеем не пришли. Мне самым важным казалось то, что какой-то предатель жив, ходит рядом с нами по нашей земле — и не горит же земля у него под ногами?! — боится разоблачения и потому сделал все, чтобы избавиться от Сличко и Петрушина. Теперь он не может остановиться. Кому следующему теперь грозит с ним встреча? По логике, только тому, кто что-то знает о его встречах со Сличко или Петрушиным. Но кто это может быть? Надежда Осмачко? Елышев? Или две другие дочери Сличко — Софья Осмачко или Вера, которая совсем недавно, выйдя замуж за Гришку Малыху, охотно сменила фамилию? Итак, мы расстались с Сергеем. Он пошел домой, чтобы переодеться и поехать на смену. Я же отправился в яруговскую больницу приводить в порядок дела, полдня ведь провел в горздраве. В больничном дворе, на посыпанной ракушечником дорожке мы лицом к лицу столкнулись с судебно-медицинским экспертом. Он только что вышел из морга. — Ну привет! — обрадовался мне коллега. — Рад вас видеть. Вы уже, конечно, знаете, что приключилось с одним из ваших отрицательных персонажей. Я как раз проводил экспертизу. Ну, скажу я вам, организм… Петрушина этого ударили виском о камень, но не добили. Потом уж умер, спустя полчаса, от сердечной недостаточности. — Мне это неинтересно, — сухо сказал я. — Ой, не хитрите! Вы же наш летописец. А история здесь непростая. Знаете, что он пил? Мадеру. Чуть-чуть. Не больше ста граммов. По его меркам, капля в Тихом океане. Выходит, был трезв. Здоров, как бык. Вывод остается один: значит, не ожидал нападения. Ну, я спешу. Прокурор опозданий не признает. И он чуть ли не вприпрыжку побежал к воротам. «Значит, сомнений никаких: Петрушина убили. Елышев? Ни за что не поверю. Раз Володя Бизяев ни при чем, то, безусловно, убрал Петрушина тот, кто тогда осенью поставил пугало. Но как он теперь оказался с Петрушиным на кладбище? Мог ведь подкараулить его дома, во дворе? Тот же целые дни торчал в доме, пока Надежда на заводе». Совершая обход своих трех палат, я мысленно то и дело возвращался к этому убийству. Да, сомнений нет: следы, которые мы обнаружили в Крутом переулке, вели дальше. Дальше, чем мы тогда предполагали. Но как далеко? — Доктор, вас к телефону, — вбежала в палату сестра. — Срочно? — Товарищ Привалов. Честно признаюсь, я ждал его звонка с нетерпением. — Я хотел бы повидать вас, доктор. Скажем, завтра утром. Часов в десять. Или даже раньше. Как сможете. В это время ко мне домой должен был зайти Чергинец. Да и утренний обход я не мог отменить. — В одиннадцать, — ответил я. — Хорошо, — сказал прокурор. — Жду вас в одиннадцать. Дело важное, доктор. Не опаздывайте. — Не возражаете, если приду с Чергинцом? — Напротив, буду рад. Я собирался ему позвонить. До завтра.11
Привалов хорошо помнил, как прошлой осенью Костюченко выражал сомнения, верно ли поступил прокурор, когда «привлек общественность», чтобы узнать подробности пребывания Сличко в городе. Привалов сумел тогда убедить своего помощника, что «общественность» — доктор Рябинин с Чергинцом — не подведет, и оказался прав. Что Костюсь охотно признал. Но тогда же, осенью, участие самого Костюченко ограничилось несколькими разговорами с прокурором, о которых Привалов не ставил в известность своих добровольных помощников. Ныне же, судя по всему, дело может зайти значительно дальше, чем осеннее. С другой стороны, Рябинин и Чергинец и сейчас могут помочь. Конечно, не в расследовании, а только беседами с людьми, которые ни в чем не замешаны, но что-то могут знать или узнать у сестер Осмачко. Поэтому Привалов и обсудил с Костюченко степень их, так сказать, возможного участия. В дверь постучали. Это был старшина Польщиков, вернувшийся с кладбища. — Слушаю вас, товарищ старшина. — Значит, так… — начал Польщиков, но тут зазвонил телефон. Привалов жестом остановил милиционера, снял трубку. — Слушаю. Да, готов. Сообщение Костюченко было коротким. Материалов оказалось не слишком много. Из бывших партизан, из тех, кто писал отчеты, в живых остались четверо. Костюченко рассуждал логично: до появления Сличко в Новоднепровске никто себя не обнаружил, значит, Сличко испугал кого-то, может быть, грозил кому-то, может, мог выдать, если бы попался сам. «Даже из того немногого, чем мы располагаем, ясно, что в отряде был предатель», — ответил Костюченко. — А если рассуждать иначе: не мог ли тот погибнуть позднее? Или умереть после войны? Все-таки столько лет прошло. «Но ведь Сличко и Петрушин кому-то помешали?» — вопросом ответил Костюченко. — Тогда, пожалуйста, сегодня же отправьте телеграмму в Ташкент. И, если можно, выясните все про остальных — кто и что, чем занимаются, семьи и так далее. Завтра к одиннадцати ждать тебя? Успеете? Ну, спасибо. Нажав на рычажок, Привалов сказал Польщикову: — Еще один звонок, и я выслушаю вас. — Он набрал номер. — Лейтенант Осокин на месте? Передайте: когда освободится, я жду его. — Положил трубку. — Ну что, товарищ Польщиков, свежие следы возле могилы были? — Сплошная грязь там, и никого нет. — Польщиков даже показал на свои сапоги. — Завтра утром сходите, пожалуйста, и проверьте — на месте кол или нет. Теперь он ждал с нетерпением прихода Осокина, того самого лейтенанта, который докладывал ему на кладбище. Привалов не стал торопить Осокина как раз потому, что чем лучше и точнее проведет работу этот молодой лейтенант, тем легче будет потом прокуратуре. А на Осокина надежда была: пусть парень этот звезд с неба не хватает, зато аккуратности и трудолюбия ему не занимать. Привалов не мог отделаться от ощущения, будто что-то неясное и зловещее маячит впереди, как бы в конце дороги. Он ведь и осенью не посчитал дело Сличко закопченным после его смерти. Более того, и обстоятельства смерти полицая не считал до конца выясненными. Просто тогда не было возможности исчерпать все версии: бывают дела, когда только время способно разрешить загадки и сомнения. Привалов ждал новых событий и ошибся лишь в одном: не ожидал, что они последуют так скоро. Но хоть и не ожидал, внутренне был готов к повой схватке с прошлым. В окно он видел лишь коричнево-серую от плесени степу да кусочек серого неба над ней. Спустя неделю будет у него уже новый кабинет в новом здании. Придется привыкать ко всему новому, а желания покидать свой мрачноватый, с чересчур высокими потолками кабинет нет и никогда у него не появлялось. Да и этот, с позволения сказать, пейзаж — стена соседнего дома, закрывавшая высокое окно, — его не раздражал: напротив, помогал сосредоточиться. Он ждал Осокина и резко обернулся на стук в дверь. По это пришел помощник подписать кое-какие бумаги. Привалов подписывал их быстро. — Святослав Владимирович, сегодня совещание в горкоме партии. Сам Карташев проводит, — напомнил помощник. — В семнадцать часов. Вы обещали быть. — Я позвоню Геннадию Александровичу. Извинюсь. Придется тебе пойти. Я буду занят. В эту минуту попросил разрешения войти лейтенант Осокин. — Так что сходи на совещание. Кто-то должен быть от прокуратуры, — сказал Привалов и отпустил помощника. — Давай, лейтенант, делись своим уловом. — Вам, Святослав Владимирович, могу весь отдать. — Уже можешь? — Могу. Но, увы, не слишком-то богатый улов. Рассказанное Осокиным, однако, позволило Привалову создать если не подробную картину происшедшего на кладбище, то, во всяком случае, вполне подходящий эскиз. Хотя причина Появления там Петрушина необъяснима, нет сомнений, что он оказался у могилы Сличко не один и провел с кем-то не менее получаса. С кем-то пил и мадеру. И этот кто-то унес с собой бутылку. Он же, улучив момент, ударил Петрушина тупым предметом по голове, затем несколько раз — головой о косяк гранитного памятника. До ограды Петрушин все же добирался самостоятельно. Каким образом ушел неизвестный, остается неясным. Но молоток, найденный в кармане ватника, к смерти Петрушина отношения не имеет. На рукоятке следы только его пальцев: молоток новый, сработанный недавно, в употреблении побывать не успел. Но с какой-то же целью Петрушин захватил его с собой, отправляясь на ночную прогулку. Или попал он на кладбище случайно? Кол же на могилу Сличко забивали не этим молотком, а, по всей вероятности, тем же тупым предметом, которым нанесли удар Петрушину. Какой же дорогой ушел неизвестный, у которого обувь размером поменьше, чем у Петрушина? Мокрый снег и заводская гарь могли, конечно, скрыть какие-то следы. Впрочем, не так уж важно, как он ушел. Важно, что он был здесь, забил кол, распил с Петрушиным мадеру. — Знаешь, лейтенант, попробуй походить по магазинам, узнать, кто покупал мадеру вчера и позавчера. Понимаю, что гиблая затея, но всякое бывает. Не так часто в нашем крае потребляют ее. Что еще мы знаем о неизвестном? Что он — левша. И, судя по следу, еле заметно припадает на левую ногу. — Это точно. Я сперва даже подумал, что обувь ортопедическая. — В общем, имей это все в виду. А сейчас бери мою машину, гони в порт, найди там некоего Малыху Григория… забыл отчество… — Того, что на Верке Осмачко женился? — Да, того самого. Неплохой парень, между прочим, и передай ему записку. Привалов торопливо написал на листке: «Гриша, вы с Верой должны сегодня ночевать у Надежды. Отправляйся сейчас же. Так нужно. Надеюсь на твою сообразительность. Записку мою верни лейтенанту. Привалов». — Доложишь мне по телефону — нашел его или нет. И не задерживайся. Это важно. Не теряй времени, Толя.12
Малыха позвонил Вере на завод, чтобы предупредить. Но не застал и оставил ей дома свою записку: «Приходи к Надьке. Обязательно». Вот это его и беспокоило: черт его знает, имел ли он право ей написать? Но не мог же он иначе ее предупредить? Конечно, он мало что понимал, не представлял даже себе, для чего они с Верой нужны в доме Надежды. Ведь она сама будет всю ночь дома. Охранять ее, что ли? Или следить за ней? Ослушаться Привалова он, понятно, не мог. Да и не хотел, напротив, рад был помочь человеку, которого уважал больше, чем любого из своих портовых начальников, включая и капитана буксира, на котором работал. Но никак не мог сообразить, что же делать ему здесь, у Надежды. Похороны Петрушина завтра. В десять утра. Почему-то не разрешили из дома. Велели из морга — и прямиком на кладбище. Ну, начальству виднее. Да и Надьке зачем он дома? Любовь, что ли, у нее к Петрушину была? Скорее ненависть, хоть и приютил он ее в трудный час. Может, у лейтенанта надо было спросить, чего делать-то здесь надобно? Лейтенант этот и не улыбнулся даже. Работа такая? При чем тут работа. Привалов иной раз так улыбнется, что себя зауважаешь. А моя работа? Завтра ж с утра — на буксир. В порту лейтенант, конечно, все уладит. Все там будут знать, что Малыха опять «в деле» у прокурора. Хорошо, пусть так, пусть все знают. Но здесь-то что делать? Не могли, что ли, милиционера посадить тут, если чего-то или кого-то ждут? Значит, не могли. Малыха бросил штормовку на табурет. Надежда неотрывно следила за Гришкой. То ли удивлялась, то ли досадовала — он не понимал. Со своими мыслями бы разобраться, а потом уж Надькины угадывать. Присел к столу, но так, чтобы в окно его никто не увидел. Наконец она спросила: — Чего ты приплелся? — Тебе-то какая разница? Или ты кого в гости ждешь? — Кого мне ждать? Не тебя же? Или ты решил поменяться? Надоело в портовом бараке жить? Вдову нашел богатую? Чего молчишь-то? — Мозги у тебя одним и тем же замусорены, потому и молчу. Просто поддержать тебя в горе пришел. Какие-никакие, а родственники, — сказал он и усмехнулся своей находке. — А что люди скажут, не подумал? — Никто не видел меня. А если б видели, так и подумали, как говорю. Не все же на том, о чем ты всегда думаешь, помешались? Мало тебе Елышева да Петрушина было? Все побогаче искала, вот и доискалась. — Дурак ты, Гришка, не говори, чего не знаешь, — устало произнесла Надежда. Ему вдруг стало жаль ее, и, чтобы подавить это неуместное, как он решил, чувство, Малыха сурово сказал: — Закрой-ка лучше ставни. Все до единой. Надежда, однако, не сдвинулась с места. Малыха рассердился — и на нее, и на себя: — Не дури — закрой ставни. Думаешь, большая радость — сидеть тут с тобой. Если тебе на себя наплевать, то не подводи других людей. Закрой ставни. Житейский страх, который почувствовала она в его словах, и в ней пробудил безотчетную боязнь. Она встала из-за стола, завязала тесемки на распахнувшемся было халате и вышла в залу. Ставни она закрывала тщательно. На все крючки, щеколды и штыри. Потом вернулась на кухню. Закрыла ставни и на кухонном окне. Тогда Малыха встал, прошел к пылавшей плите, погрел над ней руки. — Дала бы чего-нибудь перекусить. Надежда безропотно сняла с плиты кастрюлю. — Ешь. Больше ничего горячего нет. Только вот жаркое. — Да мне без разницы. Малыха набросился на еду. Мельком глянул на Надежду. Как-то по-доброму — для нее необычно — наблюдала она за тем, как он ест. «Есть что-то человеческое в ней. Могла бы хорошей бабой кому-нибудь стать, — думал Гришка, — когда бы отец такой сволочью не оказался». — Гриша, — тихо сказала она, — они боятся, что моя очередь, да? От неожиданности Малыха даже бросил ложку. — Твоя очередь? — переспросил он. — Какая очередь? А-а! Ну, не дури. Что ты болтаешь? Никому не надо тебя убивать. Может, еще живая кому пригодишься. Не дури, Надя. Возьми себя в руки. С чего ты взяла? — успокаивал он ее и заодно самого себя. — Пока я была сегодня у прокурора, кто-то хотел в дом войти. Видел, верхний замок сломан? А нижний не смогли отпереть. Или сорвать. — Тебя ж не было дома, — не потерял разума Малыха, — значит, не ты была нужна. Прокурору сообщила об этом? Надежда отрицательно повела головой. — С чего ж он тогда… — Малыха осекся: не следовало говорить лишнего. «Неужели он просто знает все наперед, — подумал Гришка, — или чует? Ну и ну… Так вот для чего он послал меня сюда… А я-то? Надеется на мою сообразительность и ловкость. А я уж струсил было…» Аппетит у него пропал. Малыха закрыл кастрюлю крышкой. «Значит, так… Пока она в доме, вряд ли кто появится. А уйдет она только утром — на похороны. И Верка, значит, должна пойти с ней. А я — остаться. И кого-то ждать. С голыми руками? Надеется на сообразительность? Может, надо что-то в доме найти? Может, оружие какое?» — Надя, слушай меня. Надо нам здесь поискать. Надо нам с тобой найти то, что тот, кто приходил, хочет найти и забрать. — А что искать, ты знаешь? — А ты догадаться не можешь? Тебе ж видней. — Откуда я могу знать? Не золото же. Золото, он говорил, еще до меня все продал — что у него было. Деньги все, говорил, на сберкнижках. На черный день. Копейки в доме не держал. Проценты для него были дороже всего на свете. Так и говорил: спокойно, мол, жить могу, когда знаю, что деньги прибавляются. — А может, тому, кто приходил, не золото и не деньги нужны? Может, документы, бумага какая? — Документы? — Надежда удивленно посмотрела на Малыху. — Когда отца схоронили, Павел Иванович сжег какой-то пакет. В тот же день. В этой вот печке. Еще меня позвал и сказал, чтоб я видела — что он все сжег. А мне тогда плевать на все было. Подумала: жги, все жги, что тебя с отцом связывало. Гори оно огнем, все прошлое, ваше и наше. Может, новая жизнь начнется. Да, не судьба мне, видно. Верке вот повезло, что тебя ухватила. А я ошиблась. И с Елышевым, и с ним… Он, когда жег, знаешь, у него аж руки тряслись. А когда все сгорело, так он будто совсем другим человеком стал. — Ну человеком-то он никогда не был. — Какой-никакой, а все человек. Не тебе знать. Меня-то пожалел, приютил. — Дура ты, Надя. Это ты его пожалела. Согрела. Да разве ты поймешь? — Малыха безнадежно махнул рукой. — Все ж таки давай поищем чего-нибудь. — Ищи, — безразлично сказала она. — Но пойми, тот, кто ломал замок, что-то же надеялся найти. — Ищи, — безразлично сказала она. Четыре четких, отрывистых щелчка по оконному стеклу заставили их обоих вздрогнуть. — Надя, ты кого-то ждешь? А она стояла у плиты побледневшая, глаза застыли в каком-то необъяснимом страхе, нижняя губа отвисла. — Иди, спроси — кто, — прошептал Малыха. — Спроси сам. — Иди и спроси, я сказал. Надежда глянула вниз, на сжатые кулаки Малыхи, отшатнулась и чуть ли не побежала на веранду. Малыха бесшумно последовал за ней. Подойдя к двери, Надежда спросила, и голос ее подрагивал: — Кто там? — Надя, а Надя, может, тебе в чем помочь? Этого голоса Малыха никогда не слышал и постарался запомнить, чтобы при случае узнать. — Ничего мне не надо. — Если что, ты смотри. Позови, коль что. Соседи мы как-никак. Да и… — Не надо мне ничего. Спасибо. На крыльце потоптались. Вроде человек не хотел уходить, надеясь, что ему откроют. Потом что-то прохлюпало вдоль степы. Явно кто-то пытался заглянуть в дом, искал щелку между ставнями, но затея была бесполезной, и вскоре человек ушел. Малыха обратил внимание, что ни одна соседская собака не тявкнула. Может, морось позагоняла собак в тепло? — Кто это? — Сосед. Слышал же. — А кто у тебя там в соседях? Молодой? — Да брось ты, — упрекнула Надежда. — Если б хотела изменять Павлу Ивановичу, поискала б подальше от дома. Хотя б в вашем порту. — А если бы меня не было, открыла? — Ну, что заладил? Я бы вообще уже спала. И свет везде загасила. Она вдруг резко повернулась к нему, обхватила его шею оголенными — полными и теплыми — руками, прижала лицо к его груди и зарыдала. Он растерянно провел ладонью по ее волосам, погладил покатые плечи. Его руки, словно сами по себе, сошлись за спиной, еще сильней прижали ее к груди… Но он вдруг вздрогнул, очнулся, понял, что происходит или может произойти. Взял ее обеими руками за плечи и сильно тряхнул. — Ну, не реви. Не реви. Может быть, тебе лучше пойти к Софье ночевать? Утром все равно вам на кладбище… Ну, нельзя же так. И я же ведь не железный… Не плачь, Надя, не плачь. После смены Вера должна зайти, — наконец сказал он, — я ей записку оставил, что к тебе поехал. Но она словно не слышала его. — Гришка… Гришка… — выдыхала она ему в грудь. — Я его ненавижу. И не знаю, как отомстила бы, если б не подох он. Испоганил он… всю жизнь мне испоганил… больше еще, чем отец… Ты ж ничего не знаешь… Никто не знает, ни Сонька, ни Верка… Мне было… и семнадцати еще не было, когда он меня… в этом доме… — Она подняла лицо и посмотрела прямо ему в глаза своими огромными, голубыми. — Не смотри на меня так! Тебе первому сказала… и последнему… Если кто узнает, значит, от тебя… убью тогда тебя… или себя убью… Мелкий, дробный стук в дверь — костяшками пальцев — оторвал Надежду от Малыхи. Он с облегчением вздохнул: «Слава богу, Верка пришла». — Кто там еще? Малыхе показалось, что на этот раз Надежда спросила иным голосом: что-то в нем было злое — злобное и вызывающее. — Это я, Надя, открой, — ответил женский голос. Малыха сразу узнал его. Софья! «Но ведь никто не должен знать, что я тут», — подумал он и схватил Надежду за руку. Но она уже успела повернуть ключ в замке. Дверь дернулась. С крыльца на веранду скользнула Софья. Увидев Малыху, широко раскрыла глаза. Такие же большие, голубые, как у Надьки. «Но не такие добрые, как у Верки», — почему-то успел подумать Малыха. — Надя, ты — что? — воскликнула Софья. — Разве так можно? «У этой тоже на уме всегда одно и то же», — рассердился Малыха и резко захлопнул дверь за ее спиной. — А как же Вера? Ведь только что расписались. — Она сама за себя постоит, не беспокойся. — Ему противно было оправдываться перед этой… и слова-то для нее хорошего не найдешь: сама же все напортила Надьке с Елышевым, а перед тем, как старшину облапошить, его же, Малыху, завлекала. Но не сумела. И Елышева не удержала. Только, выходит, Софья-то и толкнула Надежду в этот дом, к Петрушину. А теперь что-то из себя корчит, стыдитьнадумала. — Надя, ты — что? Веришь этому красавчику? — Я не звала его, сам пришел, — наконец глухо откликнулась Надежда. «Ну, попал я по милости прокурора. Скорее бы, что ли, Верка пришла. А то эти сестрицы еще состряпают мне такого, что век не расхлебать». Но мысль о том, что сюда его направил Привалов, успокаивала. Выходит, хорошо и то, что оставил он записку жене. Неизвестно, хорошо ли это для дела, задуманного прокурором, но для него, Малыхи, это хорошо. — Гони его, Надя, гони, — не отставала от сестры Софья. — Если он Вере изменяет, то и тебе несладко с ним будет. — А это уж не твоя забота, — отрезал Малыха. — И не ее. Ничья. В общем, или укладывайтесь обе спать, пли уматывайте отсюда обе. До утра. — Гришка, ты зачем здесь? — Софья змеиным своим умом поняла вдруг, что дело обстоит серьезнее, чем она думала. — Скажи, нет, ты скажи: кто тебя сюда послал? Как же я сразу не поняла, что сам бы ты не пришел. Ты же не старшина этот сладенький. Тебя послали? Тебе нужно, чтобы мы ушли? Но мы не уйдем. Надя, мы не уйдем. Он что-то задумал. Нам во вред. Признавайся, Гришка, а не то… «Знает ли Сонька, что кто-то пытался проникнуть в петрушинский дом? Что, если это она сама или кого-то подослала?» — Не тебе мне указывать. И допрашивать не тебе. В злости махнул он могучей рукой. Затхлый воздух распорол этим взмахом. Пошел сперва на кухню. Постоял там недолго, пока сестрицы шептались на веранде. Так ничего и не придумав, направился в большую комнату. В полосе света, падавшей из кухни, разглядел старый диван. «Черт с ними, с обеими… будь что будет… спать хочу… Что-то Верка не идет? На заводе, что ли, задержалась…» Он закрыл глаза. И неожиданно быстро уснул. Неглубоким сном. Полудремой. Тревожной, нарушаемой шепотом из кухни. Потом вдруг встрепенулся: кто-то тряс за плечи, сжимал пальцами подбородок. Открыл глаза и увидел Верино лицо. — Где я? — спросил он. — Гришка, зачем мы здесь? — шептала Вера. — Сонька врет все, да? Почему Надька молчит? Я ж тебя люблю… никто тебя не будет любить так, как я… Увидел в дверном проеме ее сестер. Обе смотрели не на Веру, а на него, разметавшегося на диване. Он улыбнулся, потянулся. — Не слушай ты их, Верочка, не слушай. Скажи, пусть укладываются. В спальне или где там хотят. Мы с тобой здесь поместимся. Записка моя где? — вспомнил вдруг он. — Дай мне. Она протянула ему записку. — Им не показывала? — шепнул ей на ухо. Вера покачала головой. — Молодец! Малыха скомкал записку, сунул в карман. — Скажи им, пусть укладываются, — повторил он. И опять заснул. И снова тревожным сном. Спящий, он метался в поисках чего-то, не находил, горячился, снова искал. Но все равно то был сон. Лишь утром, когда уже окончательно рассвело, он, проснувшись, понял, что всю ночь готов был выполнять задание прокурора. Вера, оказывается, спала рядом на раскладушке. Он понял это, увидев сложенную раскладушку около дивана и на ней простыни. Сестры собирались на похороны. — Будете уходить, — громко сказал он, не вылезая из-под одеяла, — закрывайте двери, как следует. Снаружи. И никому ни слова. Будто меня тут нет. Пусть все считают, что в доме никого нет. Жена подошла к нему. — Гриша, ты тут поосторожней, — тихо сказала она. Он только улыбнулся ей в ответ. — Поесть возьми там, на плите. Едва проскрипел ключ в замке, как Малыха вскочил с дивана. Оставшись в доме один, он почувствовал себя легким, свежим, освобожденным. И только заметив, что все ставни по-прежнему закрыты, помрачнел.13
Деду Рекунову можно было доверять безоговорочно, но «человеческая память — инструмент несовершенный», как любит повторять наш школьный товарищ Костюсь. Да, в важных делах надо доверять только тому, что подтверждено документально или многими свидетелями. Исчезновение командира отряда. Как это сейчас практически расследовать? Или то, что касается самого замысла операции? Вряд ли стоит слишком полагаться на мнение деда Демьяна. Ведь вполне возможно, что командованию отряда все представлялось в ином свете и у него были основания верить в успех. Провокация врага? Тогда не исключается «сорок третий», то есть предатель. Но он должен был, помимо прочего, перехватить донесение Рекунова, переданное через Василька. Встретиться с Виктором Кравчуком мне было несложно. Я давно знал этого парня, выросшего на Микитовке. Сейчас его уже и парнем называть как-то неприлично — все-таки секретарь партбюро конвертерного цеха «Южстали». Общительный, толковый, он располагал к себе. Когда началась война, ему было девять, и тринадцать, когда она кончилась. Партизанская история: разве напишет ее кто-нибудь без главы о мальчишках? — Ты думаешь, я много чего помню? — так ответил мне Виктор. Он помнил, как пришли немцы. Первый день оккупации помнил. На закате того дня с белесого, распаренного жарой и опаленного пожарами неба на город хлынул буйный, хоть и без грома, без молний, ливень. Потоки воды прибили к крышам, к раскаленным стенам, к захламленным мостовым дымы и пыль. Дымы ползли во дворы, пыль превращалась в липкую жижу. А немцы вступали в город по криворожскому шоссе. Кто-то встречал их на бугре с караваем. Немцы хохотали. Кто-то закрывал ставни поплотнее. Пока что немцы этого не замечали. Кто-то прятался в погребах. Пока что немцев это не интересовало. Они без удержу, захлебываясь, хохотали. Именно этот — торжествующий, самоуверенный, надрывный — хохот больше всего запомнил Кравчук. Я встретил его у старой проходной, мы прошли два квартала по Большому проспекту и, постелив газеты на влажную скамейку, расположились под старой ветвистой липой. — Нет, кое-что, конечно, помню. Но больше ощущения свои, чем дело. Да и все воспоминания переплелись с тем, о чем уж мне потом рассказывали… Помню, что спать хотелось смертецки, а Васька затемно тащит с собой. И мерзнем поутру, пока кто-то придет из плавней. В бурьянах мы прятались. Там, где сейчас яхт-клуб. А бурьяны те — под водой. Днепр тогда казался огромным, широким. Но не сравнишь же с нынешнем морем Каховским. Я все ныл: «Вась, а Вась, ну, скоро? Чихнуть можно, Вась?» А он мне щелчок в лоб: молчи. Он меня с собой таскал, чтобы меньше подозрений: полицая встретит, отговаривается, мол, младшего брата искал, домой веду. Меньше риска. Та ночь роковая? Мы до нее уж ночи три просидели в штабелях за нефтебазой. Там до войны был какой-то склад. Шпалы и всякое такое. Что можно было в печках сжечь, люди давно растащили. А шпалы — они же просмоленные, топить ими не станешь. Я туда попал впервые, даже не знал, что такое место есть в городе. Это ж далеко от нас, на Довгалевке. А Васька весь город знал, ему уж, считай, почти пятнадцать было, да с тринадцати — связным у партизан. Та ночь? Васька поправит, если я что путаю. В два часа ночи… Это он мне уж потом сказал, или ему сказали, что было два часа, когда все началось. Мы с ним тогда часов и в глаза не видели: это сейчас у любого второклассника часы на руке… Так вот, в два часа как-то сразу стрельба началась. Не отдельные выстрелы, а стрельба. «Нарвались наши», — сказал Васька и сильно сдавил мне руку. Минут через пять потащил за собой. Пробирались между штабелями этих шпал, потом вниз по канаве. Вышли в кусты. Какая-то развалюха. Мы в ней пробыли минут десять. Сейчас-то этого ничего нет, все под водой, под морем осталось… Еще ведь не холодно было, а я замерз. Наверно, от страха. Васька тащит: «Иди за мной». Пошли вдоль берега, камни там были, насыпь какая-то. И вот за насыпью-то мы и встретили двоих. Наших. Оба раненые. Один в руку. Другой совсем сильно. Идти не может. Так первый с Васькой чуть не несли его: у первого, у самого, одна рука в порядке. Сперва сховались мы в каком-то дворе на Торговице, а потом уж привели их к деду Демьяну. Вот и все. Дальше ты от него, верно, знаешь. Не то один из них, не то оба были не местные. Не ориентировались в городе. Ты представляешь, где была старая нефтебаза, что сейчас под водой? — Хорошо помню. — Так вот местные-то, конечно, пошли бы вверх по реке, а эти — вниз, на Торговицу. Туда, где мы должны были их ждать, если бы операция прошла успешно. А так получилось, что они шли в самое пекло, куда должны бы немцы возвратиться с нефтебазы. Спасло то, что все же на нефтебазе кое-что взорвали, вот охрана там и застряла. — А со связным из отряда ты встречался? — С Решко? Нет. Я даже не помню его. Васька встречался, но меня тогда не брал. Конспирация же. — И часто они встречались? — По Васькиным рассказам, не очень. Понимаешь, считалось, что Решко работает на строительстве дороги через плавни. Немцы строили такую. И посейчас из моря торчат быки — это на них они потом мост поставили. Так вот все соседи у нас и думали, что Решко там работает. — Значит, ты его никогда не видел? — Может, и видел, но не знал, что это он. Или не помню. — А тех, раненых, как звали? — Одного, что сильно ранен был, — Аликом. Он оказался Васькиным родственником дальним. А другого, что потом едва правой руки не лишился, — Федором. Да-а, ему же твоя мать руку спасла, когда дед Демьян их в старой крепости прятал. Но меня туда, в крепость, ясно, не пускали. Это уж потом, когда партизаны в степи были, а мне почти двенадцать стало, я сделался полноправным связным…Версию Кравчука вряд ли можно назвать версией в подлинном значении этого слова. Мальчишка, не слишком много смысливший в делах взрослых, но посильно в их делах участвовавший, он оказался в ту пору единственным свидетелем события, которое впоследствии привело его к некой догадке. В то давнее лето отнесся он к этому событию едва ли не безучастно. Лишь по прошествии многих лет, в совокупности с другими событиями, оно заставило его подумать основательнее — и не столько о самом событии, сколько о деталях, каждой в отдельности и всех вместе. Вот что произошло. Было условлено, что ребята — Щербатенко с Кравчуком — подождут в ивняках, за одной из проток, посыльного из отряда. Займутся ловлей рыбы, что не может вызвать подозрений — даже немцы ловили на удочки сазанов и щук. Но ожидание затянулось, никто не приходил. Щербатенко отослал Кравчука домой. Поворчав, скорее из боязни за друга, чем за себя, младший поплелся через заросли тальника к броду. Он знал, что Васька переправится вплавь: тот шел по броду лишь тогда, когда они были вместе — Витек уже умел плавать, но не способен был справиться с течением. По привычке или, скорее, потому, что по-мальчишески увлекался, оставаясь в одиночестве, игрой в таинственного следопыта, Кравчук шел бесшумно, крадучись. Взглядом, приученным к этой игре, ухватил подозрительную скирду сена. Когда они с Васькой шли к затоке, ее вообще не было, теперь же невесть откуда взялась. И вдруг скошенная трава всей копной зашевелилась. Опыт — уже не игры, а реального дела, которым мальчишке приходилось заниматься, — подсказал: что-то не так, надо затаиться и наблюдать. Залег в траве, укрывшись под колючками волчеца-осота. Помимо всего прочего, он испугался. Скирда снова ожила. И наконец из нее появилась голова. Кравчуку показалось, что он знает этого человека: в начале лета именно его, похоже, они с Васькой переправляли в отряд. Но — лишь показалось, не более. Тогда ведь была ночь, да и не входило в его обязанности разглядывать того человека; на условный сигнал в условленном месте тот появился, они его встретили и повели… Человек вылез из скирды, огляделся, отряхнул с себя траву, помедлил, потом встал. Наклонившись, порылся в траве, извлек холщовую сумку, отряхнул ее. Опять помедлил, словно раздумывая, пошел к воде. Постоял, глядя на воду, вздохнул. Двинулся по берегу, обходя деревья, перепрыгивая через лужи с гнилой водой. И исчез. Но ведь пошел он вовсе не в ту сторону, где ждал встречи с посыльным из отряда Васька, а в противоположную. Кравчук вскочил. Пригибаясь, подбежал к тому месту, откуда этот человек смотрел в воду. Но вода была взбаламученной — и ничего Витек там не увидел. Лишь много позже он догадался, что вода стала мутной потому, что ил, слежавшийся за лето на дне узкой протоки, потревожил какой-то предмет: неужели он не заметил, как неизвестный человек что-то бросил в протоку? Сейчас он задавал себе такой вопрос, тогда же никакой догадки не возникло. Все так же бесшумно Витек побежал назад, к Щербатенко. Но того уже не оказалось на месте. Однако Кравчук разглядел, что Васька как раз выбирается по камням на другом берегу. Пришлось возвращаться и переходить бродом. Васька ждал его. «Чего так долго?» Витек рассказал обо всем, что видел. «Завтра сходим», — решил Васька. Но сходить не довелось: Рекунов строго-настрого наказал сидеть дома и на берегу не показываться. Значит, произошло нечто непредвиденное, во всяком случае — необычное. Ослушаться старшего они не могли. Они уже привыкли подчиняться приказам старших. Как приказам командиров. Позднее, вспоминая об этом дне, они пришли к выводу, что тот человек был радистом из отряда Волощаха. И возникали вопросы, на которые они ответить не могли. Почему тот ушел из отряда? Отозвал ли его центральный штаб или по каким-то делам отправил из отряда Волощах? Сбежал, испугавшись чего-то? Должен был сменить место? Разумеется, ответить им никто не мог. Но Рекунов как-то сказал: «Если бы тогда не утонул радист, все было бы по-иному… А так, без связи…» Но был ли действительно человек, которого видел Витек, тем радистом? Кто теперь знает? Если тот человек что-то бросил в воду, ребята при всем старании вряд ли бы смогли это «что-то» найти в заиленной трясине. Поискать можно было, но с риском для жизни. Права на риск у них тогда не было. Кравчук хотел верить, что тот человек был именно радистом и что он просто сбежал из отряда, испугавшись доли, уготованной партизанам. Не гибели испугавшись, ведь в те дни никто не знал, что отряд обречен, а трудностей, с которыми всегда был связан уход из плавней. Ведь в любом случае — и без нападения на нефтебазу — пройти сквозь оккупированный город — все равно что пройти по минному полю. А сбежав, тот человек растворился в людском потоке, может, подался в Кохановку или еще подальше. Кравчук хотел в это верить и — верил. Щербатенко тоже допускал мысль о бегстве радиста: порой в своих рассуждениях, вырабатывая собственную версию, он даже принимал этот факт как доказанный. В конце концов кто мог потребовать от них — Щербатенко и Кравчука — объективности, беспристрастности, точности? Они в ту пору были, по сути, детьми. Рано повзрослевшими, взвалившими на себя обязанности взрослых, но все равно — детьми.
Почему же двое раненых партизан уходили на Торговицу, а не в более безопасном направлении? Кто из двоих настоял на этом пути? Попав в руки немцев, «сорок третий» ничем бы не рисковал и вполне мог повести своего напарника прямо к врагу. Встреча с Василием Щербатенко, старшим мастером конвертерного цеха, тем самым, кого Кравчук называл Васькой, а дед Рекунов — Васильком (Щербатенко, оказывается, был его племянником, сыном младшей сестры), мало что добавила к рассказанному Кравчуком: они ведь нередко вспоминали вместе свое военное детство. Однако кое-что Василь Щербатенко все же уточнил. Он действительно встречался только с Антоном Решко. Никому другому из отряда — кроме Антона — не разрешалось поддерживать связь с дедом Рекуновым и группой Андрея Привалова, даже в крайнем случае. Но и Антону рекомендовали на связь выходить как можно реже. С Василием Щербатенко он встречался не больше чем с десяток раз. И вот как раз перед операцией на нефтебазе Решко на встречу не явился, а Василь ведь должен был передать предупреждение — или опасение? — деда Рекунова. На случай неявки Антона было условлено: Василек, захватив удочки или топор, переправляется через Днепр, в плавни, проходит километра полтора вглубь, к сгоревшему дубу, и от него поворачивает сквозь орешник к протоке. Там он и увидел Решко, который косил траву. Спрятавшись в кустах, Василек окликнул Антона и, когда тот с косой приблизился, прямо из кустов пересказал донесение Рекунова и сообщил предупреждение Андрея Привалова о трудностях, с какими отряд неминуемо столкнется, если пойдет на нефтебазу. Решко же в свою очередь велел передать, чтобы заготовили временные убежища в городе. И еще просил передать жене: что дома появится не скоро, может быть, через несколько лет, если останется жив. К жене Антона Василек послал Витю Кравчука следующим же утром. Никто ведь не мог знать, что раненый Антон появится дома той самой ночью, когда сорвется операция на нефтебазе, и не в своей постели, а на чердаке скончается от ран, немного не дожив до сорокалетия. — Он был таким худеньким, щупленьким, все больше молчал, но ничего и никого не боялся. — А обычно где вы встречались? — Не поверишь. Приходя из отряда, Антоша ночевал дома: ведь все вокруг считали, что он на строительстве дороги работает, еще косились, что не ушел в партизаны, а немцам помогает. Так что дома он ночевал законно. А рано утром шел на заливной луг под обрывом — вел туда двух коз на выпас. Я сидел в бурьянах и поджидал его. Витек стоял на карауле, на самом обрыве: в случае чего, далеко все видел. Проходя мимо с козами — один козел у него упрямый был, упирался, — Антоша успевал мне все сказать, что надо. И спускался вниз, а я бежал к дядьке Демьяну. А дядька мне передавал что-нибудь от Андрея Привалова. И через полчаса я уже снова сидел в бурьянах. Когда Антоша возвращался, я успевал ему сообщить все, что велел дядько Демьян. А в то утро он не появился, значит, и дома по ночевал. Я когда в плавнях его нашел, он такой грустный был. Жене просил передать — первый раз со мной о личном заговорил. Уходя, я обернулся. Видел, как он косу сложил и пошел вдоль протоки. Больше я его никогда не видел. — Не знаешь, почему его хоть посмертно не наградили?
Новоднепровск освободили в начале февраля. На промерзшую землю, покрытую грязным, задымленным снегом, лил холодный дождь. Раскисли дороги. Немецкие машины, пытавшиеся скорее улизнуть из города, сползали в придорожные канавы и навсегда застревали в них. Для убегавших — навсегда, тем, кто возвратится, они еще послужат. Гусеницы удиравших танков дробили брусчатку и булыжные покрытия шоссе на Кривой Рог. Уходя, немцы взрывали свои склады. Прибиваемые дождем, дымы стелились по земле, обволакивали дороги и толпы спешивших вырваться из города солдат. Поспешное бегство оккупантов спасло город от еще больших разрушений. Его и так изрядно потрепали за два с половиной года. Но — как бы там ни было — город выжил. Вслед врагу город смотрел темными окнами, оледеневшими ветвями деревьев, грязными снежными шапками камышовых крыш, горящими развалинами. А люди, жители этого города, смотрели в другую сторону. Не в опостылевшие спины врагов, а туда, откуда шли свои. Таким запомнил этот день Василь Щербатенко.
— Откуда мне знать? Разве тогда кто думал о наградах. Отряд ведь весь, считай, погиб. — А тех двоих раненых, что вы после нефтебазы к деду привели, — ты знал? — Одного знал. Двоюродный брат мой, по отцу. Алик Щербатенко. Они в Запорожье жили, к нам иногда на лето приезжали. Но он старше меня лет на десять был. Да, ему тогда уже двадцать пять было. С начала войны я его не видел, даже не знаю, как он в отряд попал. После того, как твоя мать его на ноги поставила, в степи партизанил, потом в армии до конца войны, а в сорок шестом умер: говорили, от старых ран. Он на нефтебазе был в группе с командиром, их там всего девять человек было. — А второго, значит, не знал? — Не-е. Помню только, широколицый такой, загорелый. Он одной рукой, здоровой, Алика на плечо взвалил, я лишь чуть поддерживал. Алик все бормотал: «Федя, оставь меня, а то не уйдешь». А тот ему не отвечал, шептал только: «Дело сделано, Дело сделано» — и скрипел зубами… — Скажи-ка мне, если можешь, — спросил вдруг меня Василь Щербатенко, — чего Это ты решил нас расспрашивать? Захотел о партизанских делах книжку написать? — Может, и напишу, если материала наберется достаточно. — А я-то, грешным делом, подумал, что тебя Петрушин занимает. Но тут гадать нечего. Не думаю, что Сличко и Петрушину кто-то мстил или совершал по-своему правосудие. Уверен, что и этот кто-то из их же банды. Или не поделили что-то, или страх уже совсем доконал. — Так разве ж не надо узнать, кем этот страх овладел? — И то верно — Василь задумчиво покачал головой. И вдруг засмеялся — Не зря, выходит, ребята у нас в цехе теперь называют тебя правой рукой прокурора. — Не левой? — деланно удивился я. — А Серегу Чергинца как называют? — Ну, Серега — другое дело. У него в партизанах все дядья полегли. Щербатенко на мгновенье замолчал, потом обнял меня за плечи и тихо сказал: — Прости меня, доктор. Не подумал. Я ведь и маму твою хорошо помню. Мы поднялись со скамейки, и он придержал ветку старой липы, чтобы я не задел ее головой.
Разве странно или противоестественно, что у Щербатенко всегда была собственная версия о тех давних событиях на нефтебазе? Правда раньше он лишь изредка задумывался о трагедии отряда. Но, когда задумывался, ответов на возникавшие вопросы не находил, да и, честно говоря, подолгу их не искал: Жизнь шла своим чередом, забот постоянно хватало, времени на воспоминания и досужие размышления, напротив, не хватало никогда. Последние события однако, заставили задуматься всерьез. В конце концов и в те далекие годы он не был винтиком, которым пользовались от случая к случаю, а был надежнейшим помощником. Помощником в полной мере, несмотря на свой, возраст, отвечавшим — и тоже в полной мере — за свои слова и за свои поступки. Но если отвечал тогда, то разве освобожден он от этой ответственности теперь? Вот почему он выработал собственную точку зрения. Отправной точкой стали для него услышанные в ту осень слова, на них он строил цепь доказательств. Именно он, Василь Щербатенко, встретил в заболоченной низине последнего связного из центра. Встретил тогда, когда связной возвращался от Волощаха. Средь ночи Василь вывел связного за город, в степь, на херсонский шлях — на Нововоронцовку. Протянул дрожащую от напряжения и холода руку, чтобы попрощаться. Связной пожал ее неожиданно сильно, опалив жаром. Если бы Василя так не удивило обжигающее жаром рукопожатие, он бы лучше прислушался к словам того человека. А так, усталый, замерзший, удивленный — уж не болен ли связной, не свалится ли он по дороге в горячечном бреду? — Василь не придал значения словам, что будто прошелестели где-то над ухом. Тот небритый горбившийся парень, обняв Василя жаркой рукой, посоветовал — или предупредил, — как сейчас оцепить: «Скройся, малец… не ходи туда больше… с тебя хватит… того, что ты уже сделал… с лихвой хватит…» Подумав, добавил — и снова еле слышно прошелестели слова: «А я пошел… Знаю, что не выйти мне, а иду… Что они там понимают…» И ушел в непроглядную темень. Однажды Щербатенко вспомнил об этом ночном прощании. И чаще стал задумываться: что означали те слова, что хотел сказать ему связной? Сперва ему вспомнились даже не слова, а звуки, потом отдельные слова, которые постепенно цеплялись друг за друга, обретали смысл, позволяли распознать не сказанное, а лишь обозначенное. Слова эти мучили Щербатенко до тех пор, пока не привели его к определенному выводу. Да, этот человек, связной из центра, знал, что отряд обречен. Он решил предупредить своего провожатого, нарушив, возможно, приказ. Видно, не хотел, чтобы ни за что ни про что погиб парнишка. Но, может быть, не только это? Может быть, он хотел, чтобы парнишка передал эти слова кому-нибудь из старших? Может быть, даже Волощаху, которому при встрече не имел права сказать ничего лишнего? И старшие поняли бы, в чем дело. Неужели связной толкал их на невыполнение приказа? Заботился о людях? Понимал, что из центра пришел невыполнимый приказ? А ведь Василь промолчал! Разве сейчас не ясно, каким мог быть тот приказ? Ясно же: взорвать нефтебазу. Но что изменилось бы, не выполни отряд приказ? Люди остались бы живы, а о приказе том никто никогда бы не вспомнил. Ведь и после, при всех разбирательствах многие не могли понять, какой смысл был отряду так рисковать, нападая на нефтебазу. Стратегического смысла это не имело. А тактического? Тоже сомнительно. Связной прошептал: «Что они там понимают…» Не Волощаха же он имел в виду. Наверняка тех, кто направил его сюда, в днепровские плавни, с этим приказом взорвать нефтебазу. За тысячу километров отсюда приняли решение. А что они знали об обстановке в Новоднепровске? Ничего. Радиосвязи уже больше месяца не было, радист сбежал — или утонул, как считает Рекунов, — никакой информации в центральный штаб не передавали, иначе уж кто-кто, а Щербатенко знал бы об этом. Значит, там, наверху, приняли решение, не спросив мнения тех, кто должен операцию провести. Возможно, были какие-то высшие соображения, недоступные пониманию тех, кто, сидя здесь, в плавнях, не видел картины в целом. Но если такие соображения были, почему же позже, после войны, когда разбирались в случившемся с отрядом, о них не вспомнили, не узнали? Ликвидация нефтебазы, конечно, акция заметная. Достойная быть отмеченной даже в сообщении Информбюро. Неужели в этом все дело? Кто-то где-то захотел… Щербатенко не мог сам с собой согласиться, когда пришел к такому выводу, когда остановился на такой версии. Он не поделился своими соображениями даже с Кравчуком. Впрочем, Василь знал, что у того есть собственная версия. И раз Витек не обсуждает ее с ним, значит, не видит необходимости. Но тогда и он, Василь, вправе молчать. О таком выводе, какой сделал он, действительно лучше не говорить.
14
Если бы не едкий, липучий дым с «Коксохима», утро было бы ясным и чистым. А этот дым то неспешно наползал на старый город, то под ветром бежал волнами, трепыхался на крышах. Чергинец, конечно, не рассчитывал, что Елышев обрадуется встрече. В приоткрытые ворота он видел, как шел старшина к проходной, как кривились его губы в недоброй усмешке в ожидании встречи с кем-то, кто ему вовсе не нужен. Но, увидев Чергинца, Елышев приветливо кивнул, никак не выдав своего раздражения, если оно, конечно, у него еще осталось. Пожалуй, он не мог ждать ничего плохого от Чергинца, скорее наоборот, — пусть не поддержки, так хоть ясности. Сергей увел старшину от проходной через улицу к кладбищенской ограде. Затевать беседу вокруг да около было ни к чему, и Чергинец прямо спросил: — Той ночью ты был возле универмага? Елышев, однако, ответил не сразу, и Сергей понял его сомнения. Было, как всегда в таких случаях, лишь два пути. Первый: соврать. Но правда все равно могла всплыть, и тогда Елышев попал бы в глупое положение. Он и без того уже жалел, что не признался во всем прокурору, но ведь тот не задавал прямого вопроса. Врать же Чергинцу? Зачем? Это просто глупо. Второй путь: рассказать все как есть. Можно взять с Чергинца слово, что тот не использует признание во вред старшине. Но согласится ли Чергинец что-либо обещать? А если рассказать о том, что отлучался с дежурства, то надо ли говорить о звонке и страхах Надежды, о подозрении, какое потом возникло у него — что она хотела их столкновения с Петрушиным? Елышев выбрал второй путь: рассказать все и тем самым сбросить камень с души. Чергинец, в конце концов, как раз такой человек, который может понять. — Был, — ответил Елышев. — Но никого не дождался. Серега, как на духу, — тебе. Дело так было. Часов в пять вечера звонит Надя. Говорит, что срочно надо встретиться. С завода звонила. Лучше всего, говорит, чтобы я приехал на завод, к концу ее смены, и по дороге домой, мол, потолкуем. Отвечаю: не могу, дежурство до утра. Тогда она говорит: будет ехать со смены, встретимся на автобусной остановке. Возле универмага. Речь, мол, идет о моей жизни. Серега, ты знаешь, я не трус. Только зло взяло на нее: уж и не знает, что придумать. Даже трубку бросил. Но, понимаешь, что-то зудило во мне. Предчувствие, что ли. Нехорошее что-то. А она еще звонит. В одиннадцать. И умоляет, чтобы встретил ее. Ладно, согласился. В полночь и пошел. Ждал, не дождался. Как раз последний автобус подходил, когда на той стороне, где остановка, вроде Петрушин замаячил. Тут я плюнул и ушел. На кой черт, думаю, они мне оба. — Плюнул, значит? — Ну, говорится так… — Ты ведь и правда плюнул. — Да ну? — Елышев удивленно посмотрел на Сергея. — Значит, ты видел? Ну, может быть, и плюнул со зла. Чего ей от меня надо? Говорил же ей: шагу назад не сделаю. Вернулся на КПП. Внутри все кипело. Места себе не находил. А утром обнаружили этого… на ограде. Знаешь, что меня насторожило? — Откуда ж мне знать? — Его молоток. Понимаешь? Она ведь могла не только меня вызвать, но и ему сказать, что после смены встречаю ее. Чтоб мы встретились. А молоток он прихватил, чтоб меня прибить. — Да брось ты! — вскинулся Чергинец. — Зачем ей это надо? — Она же не впервой захотела со мной встретиться. С ним лишь месяц пожила, как начала мне звонить. А я избегал. Кто ее знает? Может, и от него разом решила избавиться, и меня наказать? То-то, Серега. От этой семейки не знаешь, чего ждать. Чергинец облокотился на чугунную ограду и увидел, что по центральной аллее кладбища движется похоронная процессия. Тронул за локоть Елышева: — Посмотри-ка. Впереди небольшой группы шли все три сестры: Софья, Вера и, на шаг отставая, Надежда. И сразу видно, что все трое ни слезинки не пролили по дороге. Гроб несли какие-то забулдыги. Ясно, что наняли их. Кто другой понесет этого Петрушина? — Вряд ли она хотела тебе навредить, — задумчиво произнес Чергинец. — От него избавиться? Может быть, и хотела. Но неужели таким путем? — Они с Сонькой на все способны. Ты уж мне поверь. Про Верку же не скажу такого. Вроде совсем другой человек. Жалкие похороны жалкого, ничтожного типа. Жалкого? А зло помогал творить. Венок всего один, и тот с черной лентой без надписи. Непривычно как-то, что в Новоднепровске хоронят без музыки. Здесь так не принято. Только Софья пытается изобразить что-то похожее на горе. А те две сестры — в наказанье будто посланы сюда. Платки на всех черные… Сейчас ведь уронят гроб: эти пьяницы еле на йогах держатся… — А другого не могла она хотеть? — Кого другого? — удивил Чергинца вопрос Елышева. — Не кого, а чего? Ну, чтоб я его прибил, а не он меня. Исключаешь? Не уронили, но и не опустили нормально, а точно сбросили гроб в могилу. Что-то чавкнуло в земле. Как будто в болото засосало Петрушина… Жил — не сеял, а ел получше других. Хоть для приличия платками утрут глаза? Нет, конечно, морось смочила их, а не слезы. Есть ли на свете хоть один человек, у которого бы выжала слезу весть о смерти Петрушина? Что они делают? А, понятно, упрашивают пьянчуг, чтобы могилу засыпали. Значит, сперва попросили только донести. Теперь снова платить надо. Сонька, конечно, заплатит. На людях. А потом с Надьки сдерет. Втройне сдерет. Точно, так и будет. Вот она отошла в сторону с каким-то красноносым. Деньги слюнявит. Понятно. А теперь куда пошла? Ведь еще не засыпали. А, к могиле отца. Чего это она? Расчувствовалась? Что такое? Что она делает? — Что такое? — не понял Чергинец. — Там кол какой-то торчал. Она вытащила. В кусты зашвырнула, — ответил Елышев. Вернулась. Лица на ней нет. Зеленая. Говорит что-то сестрам. Все они смотрят на могилу отца. С ужасом смотрят. Будто боятся, что он встанет сейчас из нее. Так и всю жизнь они его боялись, и за себя боялись, когда не стало его. С войны уж, считай, восемнадцать лет минуло. Всю жизнь бояться, с детства жить в страхе из-за отца-полицая. Такое хоть кому психику наизнанку вывернет. Ну наконец засыпали. Кончено. — А она видела тебя там, возле универмага? — Думаю, нет. И я ее не видел. Но мне все равно. Все осточертело, что с ними связано. Вот вчера звонит: кто-то в дом к ней пытался залезть. А мне неинтересно даже. Понимаешь, Серега, я из-за сестриц этих чуть было такую женщину не потерял… из-за всей той осенней истории. Доктору спасибо. И тебе. А с этими — хватит, сыт по горло. — И Елышев выразительно провел себе ребром ладони по горлу. Отходя от кладбищенской ограды, Сергей оглянулся. Вслед им смотрела Софья. Заметила, значит, но, пока они не отвернулись, не глядела в их сторону, даже вида не подала. Интересно, сказала ли сестрам? И вдруг Сергей подумал: а где же Малыха, почему не пришел с Верой?15
Как все же дорого доверие! Особенно для людей склада Малыхи. Если бы всегда ему доверяли, как сейчас Привалов, может быть, и вся его жизнь сложилась иначе. Сколько раз собирался Малыха с завтрашнего дня начать жить по-новому, но это только в детстве кажется, что завтрашний день способен быть никак не связан со вчерашним и даже сегодняшним. Но давно уже он понял, что если течение воды, которую бороздит его буксир, можно направить в иное русло, то с течением жизни одному Малыхе не справиться без людской поддержки. Ясно, что Привалов направил его в петрушинский дом в интересах дела. Кто-то должен был сюда явиться? Но кроме соседа — так сказала Надька — никто не стучал. Хорошо это или плохо? А если то был не сосед? Неужели Надежда успела заиметь любовника, который и убрал ее мужа? Пусть прокурор в этом разбирается, на то он и прокурор. Но кто-то же сломал замок? Любовники замки не ломают, им открывают или ключи дают. Сама Надька сломала замок, чтобы ввести прокурора в заблуждение? Глупо. Хотя… кто ее знает? Ведь если это она постаралась, чтобы Петрушин исчез, то… Нет, это не его, Малыхи, дело разгадывать загадки. Но прокурор рассчитывает на его сообразительность. Неужели Малыха должен догадаться, кто и зачем сюда приходил? А может быть, попробовать что-нибудь найти? Малыха вскочил: не привык он без толку нежиться в постели. Впоследствии он еще не раз удивлялся собственной сметливости. Вроде бы сперва все перерыл, все перетряхнул, переворошил оба гардероба, но ничего не обнаружил такого, чтобы сразу стало ясно — вот оно, самое цепное. Поднимал диван, заглядывал в тумбочки, даже под перину на кровати в спальне, даже прощупал эту перину… И тут-то понял, что все, имеющее тайную ценность, должно лежать так, чтобы можно было сказать: не лежит, а валяется. Дом Петрушина обставлен был скудно, поэтому особых трудностей поиски не составляли. Вот если бы Малыхе знать, что искать. Оружие? Вряд ли Петрушин, при его-то опасливости, хранил бы оружие в доме, скорее — в сарае или на чердаке. Сарай исключается: тот, кто ломился в дом, знал, что искать, и наверняка побывал в сарае. На чердаке? Туда Малыха решил заглянуть напоследок. Когда же он понял, что ни одного укромного уголка в доме не осталось, он определенно решил, что допустил ошибку: нечто важное побывало в его руках, а он не сообразил, что же это было. Малыха сел на диван, чтобы подумать. О чем? О тех предметах, которые можно считать подозрительными — необычными внешне, случайными для того места, где они лежали, вообще ненужными. Придя к такому выводу, он с гордостью подумал, что прокурор похвалил бы его за такие рассуждения. С чего бы это в тумбочке возле кровати валяется винтовочный патрон — не просто гильза, а с пулей? Глиняный бочонок-копилка — почему-то в мешке со старыми рубахами? А почему на подоконнике неровной стопкой сложены фанерки, более или менее похожие на паркетные плитки? «Все это нужно в одну кучу», — решил Малыха. Вскочил с дивана. Машинально сунул патрон в карман. Остальное барахло собрал, запихал в полотняный мешок из-под рубах. Глянул на часы: скоро вернутся с кладбища, а у него еще чердак впереди. Может, не связываться с ним?.. Он прошел на кухню, отодвинул от стены железную лестницу, привинченную вверху, полез по ней. Люк был закрыт на крючок и засов. Справился и с тем, и с другим. Выбрался на чердак. Поразился: такого обилия всевозможного хлама вовек не видывал. Вспомнил: Вера рассказывала, что Надя навела порядок в доме Павла Ивановича — много чего повыбрасывала на чердак, в сарай; муж поворчал-поворчал, да решил, что права жена. Ага, значит, Петрушин не против был, значит, самое для него нужное сюда не попало. Малыха прошел, согнувшись, чтоб не стукнуться головой о балки-бревна, к маленькому оконцу. Протер его ладонью. И увидел трех сестер, поднимавшихся по скользкому склону — дом Петрушина стоял на возвышении. Он поспешил спуститься с чердака, торопливо закрыл люк, приставил дребезжавшую лестницу к стене. Первой вошла в дом Софья. Натягивая штормовку и не выпуская из рук мешок, Малыха пошел сестрам навстречу. От штормовки тянуло сыростью: за ночь не высохла и, натянутая на грудь, на плечи, словно бы сжала Малыху со всех сторон. — Надя, смотри, — чуть ли не закричала Софья, — он что-то уносит. Надежда равнодушно глянула на мешок и молча прошла в кухню. — Гриша, что это? — встревоженная, спросила Вера. — Да это мое. С чем пришел, с тем и ухожу, — ответил Малыха, протянул руку, чтобы и Веру вести за собой, но она как-то нервно, испуганно отшатнулась. Малыха подумал, что на кладбище произошли какие-то события, взволновавшие сестер, но решил не любопытничать: все равно узнает, не сейчас, так через час.16
К одиннадцати часам Привалов закончил со своими сотрудниками просмотр текущих дел: как ни был он сосредоточен на петрушинском деле, были и другие. Мы с Чергинцом пришли чуть раньше и дожидались в приемной. Когда из кабинета выходили работники прокуратуры, Привалов увидел нас в открытую дверь и пригласил войти. — Сейчас подойдет Костюченко, — сообщил прокурор. — А пока хочу вам обоим сказать следующее. Конечно, должен был сказать это раньше, но, виноват, не выбрал времени. Так вот, мы благодарим вас обоих за помощь в том осеннем, сличковском деле. Словом, решили привлечь вас обоих к новому делу. — Привалов пристально посмотрел на взволнованного Чергинца. — К тебе, Сережа, особая просьба. Ты понимаешь? Ведь твои дядья были в партизанах, погибли, сам знаешь как. В общем, вы меня поняли: не исключено, что дело Петрушина связано с гибелью партизанского отряда. Считаю своим долгом сразу вас предупредить. В таком же деловом тоне пересказали мы прокурору то, что уже успели обсудить с Сергеем. И прежде всего сообщили о том, что видел Сергей ночью, возвращаясь со смены. Но, как показалось мне, ничего нового Привалов в той информации не нашел. Однако он явно давал нам понять, что мы с Сергеем ему нужны, и, видимо, для чего-то большего, такого, о чем я пока догадаться не могу. Костюченко вошел в кабинет так, словно уже не в первый раз встречался с нами в такой обстановке. Он приветливо поздоровался. Привалов ответил ему кивком головы и вопросительным взглядом. Костюченко, как бы оправдываясь за опоздание, сразу приступил к делу. — Ну, конечно, первое слово — мне. Думаю, моя информация не опровергнет ваши версии? Он занял место за столом, скрестил руки на могучей груди, лицо его сразу стало серьезным. Этот человек умел работать. И вот что мы от него услышали. Партизанский отряд, дислоцировавшийся в плавнях и насчитывавший в своем составе сорок три человека, готовился к своей последней акции. Последней потому, что отряд должен был уйти из плавней в связи с их затоплением и надвигавшейся зимой. Последняя акция — это вывод из строя фашистской нефтебазы. Запас горючего на ней был достаточным, чтобы, так сказать, прокормить немецкую технику в течение полутора месяцев. Партизанское командование решило взорвать нефтебазу, хотя это было связано со значительным риском. Могли пострадать — и действительно отчасти пострадали — жилые дома на Довгалевке и, в меньшей степени, на Торговице. Но, что поделаешь, на войне как на войне. Операция, если говорить в целом, не удалась, хотя значительная часть нефтебазы в последний момент была разрушена. Поначалу можно было рассчитывать на больший успех. Высадка прошла по плану. Три группы двигались к нефтебазе. Две — в обход, одна — со стороны Днепра. Но обе группы, шедшие в обход — в этих группах как раз и были специалисты-подрывники, — наткнулись на подготовленную оборону немцев и помогавших им полицаев. Стало ясно, что фашисты были оповещены о готовящейся операции, ибо никогда прежде на направлениях, выбранных для групп, шедших в обход, не было такой мощной охраны. Как потом выяснилось, буквально перед самой операцией на эти участки подошли специальные части для охраны. И две основные группы партизан были уничтожены: кто не пал в бою, тот был через неделю казнен. Третья же группа, которой не предназначалась по плану ведущая роль, двигалась со стороны Днепра и должна была обеспечить отход и включиться в действия уже после взрыва. Она состояла из девяти человек, возглавлял ее командир отряда. Поняв, что с двумя другими группами что-то произошло — услышав перестрелку, вскоре перешедшую в бой, — командир отряда Василий Федорович Волощах бросился туда. О том, как погиб командир, ничего толком неизвестно. Оставшиеся попытались выполнить задачу. Им удалось проникнуть на территорию нефтебазы и частично, с помощью гранат взорвать хранилище. Этим восьмерым затем удалось уйти в город. Один из них умер от ран во время оккупации, трое скончались после войны. Живы, таким образом, четверо. В деле о гибели партизанского отряда есть шесть отчетов. Костюченко обратил внимание на некоторые несовпадения. — Человеческая память — инструмент несовершенный, — сказал он, — тем более, что столько тягот выпало на долю этих людей, столько событий им пришлось пережить, что можно понять и оправдать несовпадения. — Кто же эти четверо? — спросил его прокурор. Спросил так, что стало ясно: он-то уже, конечно, знает, по просит помощника ввести в курс дела нас с Чергинцом. — Как вам перечислять? — Костюченко с ухмылкой посмотрел на Привалова. — По степени недоверия? — Костюсь, это недопустимо. — Я хотел сказать, — тот подыскал точное выражение, — по степени недоверия к памяти, ну, по возрасту, что ли. — Перечисляй, как тебе удобнее. — Итак, номер один. Баляба Федор Корнеевич. — Никаких записей, даже мятого листка в руках у Костюченко не было. Хотя я знал, что память у него — цепкая и долгая, все-таки надеялся, что он воспользуется своими или чужими записями. — Шестьдесят два года. Украинец. Беспартийный. В 1944–1945 годах — в рядах Советской Армии, имеет боевые награды. Сын, кстати, работает в милиции, участковым на Старом соцгороде. Жена Балябы —двоюродная сестра небезызвестного Прокопа Сличко. Во время оккупации она с детьми жила в селе, в Кохановке. Возвратилась после освобождения Новоднепровска. Место жительства — Богучарово. До войны жили там же. Баляба с женой работают на нефтебазе. На новой, понятно. Привалов сделал какие-то пометки на откидном календаре. — Не знаешь, почему Баляба не на пенсии? — Разве старого партизана уговоришь на пенсию? — ответил Костюченко. — Пошли дальше, — предложил прокурор. — Номер два. Мелентьев Иван Дементьевич. Пятидесяти шести лет. Чергинец вскинул голову, нахмурился. — Родился и жил до войны в Смоленской области, — продолжал Костюченко. — С начала войны — в рядах Красной Армии. Попал в окружение, удалось вырваться, примкнул к отряду в плавнях. Участвовал в нескольких операциях. Решительнейшим образом возражал против диверсии на нефтебазе. В своем отчете не скрывает этого. Считал, что отряд не подготовлен к такой крупной операции. После провала недолго скрывался на Довгалевке. Затем, по его словам, удалось перейти линию фронта. Воевал. Много наград. Живет на Довгалевке, где после войны женился на женщине, у которой скрывался. Овдовев, женился вторично. Работает заведующим нефтебазой. Член партии, русский, детей нет. — Это отчим моего первого подручного, — шепнул мне Чергинец. — Супряги? — спросил я. — Ну да, Грицька. — Номер три, — продолжал помощник прокурора. — Гурба Михаил Петрович, сорок пять лет, украинец, член партии. Работает в порту, только что назначен заведующим грузовым двором. Живет на Богучарове. В партизанском отряде был с первого до последнего дня его существования. Участвовал в нескольких операциях. Скрывался в городе, потом в Кохановке, у родственников жены. После освобождения Новоднепровска воевал на фронте. Имеет много боевых наград. Двое сыновей — шоферы, вернее, младший, ему 17, еще на курсах, а старшему весной в армию идти. — Это что бригадиром был у Малыхи, — снова шепнул мне Чергинец. — Вы видели его в порту, когда познакомились с Малыхой. Осенью. Я кивнул, вспомнив этого симпатичного крепыша. — Остался один, — задумчиво произнес Привалов. — Да. Номер четыре, — поспешил Костюченко. — Мукимов Фархад Мукимович, пятьдесят два года, узбек, член партии. Живет и работает в Ташкенте. Кандидат филологических наук. Специалист по древней литературе. В партизанский отряд попал, бежав из плена. Из его отчета следует, что взорвал хранилище гранатами именно он. Воспользовавшись завязавшимся боем. Был ранен тогда же, но не может объяснить, каким образом. Скрывался в городе, затем ушел в другой партизанский отряд, в степь, затем — через линию фронта. Воевал, имеет боевые награды. По окончании войны вернулся в Ташкент, где закончил университет, в котором и преподает. Не женат, детей нет. Все. — Да, понятно, все понятно, — так же задумчиво произнес Привалов. — Понятно, что ничего не понятно. Кого же можно подозревать? Когда Чергинец упомянул про кол, выброшенный Софьей, Привалов поднял телефонную трубку, набрал номер: — Это Привалов. Старшина Польщиков на месте? Что? Понятно. — Он бросил трубку. — Не повезло. И старшине, в нам. Он дежурил на кладбище. Всю ночь там провел и попал в больницу. Двустороннее воспаление легких. Значит, был уже болен, и ничего не сказал, постеснялся. А мы упустили, вернее, не приобрели, возможную зацепку. Надо было поручить Осокину. В общем, моя вина. — И без всякого перехода обратился ко мне: — Доктор, от вашего имени дали телеграмму в Ташкент и пригласили к вам гостя. Мукимова. Так надо. Номер в гостинице — наша забота. В другой момент я, может быть, настоял бы на том, чтобы он объяснил, почему бывшего партизана Мукимова в Новоднепровск должен был пригласить именно я, но я уже привык: он ведь так просто, не обдумав заранее, ничего не предпринимает. — Раз вы так решили, значит — так надо, — спокойно ответил я. — А если он не захочет или не сможет приехать? — Не сможет — возможно, не захочет — исключено. И вы поймете — почему. Скоро поймете. Привалов уже несколько раз поглядывал на дверь. Явно кого-то ждал. Но то, что это окажется Малыха, конечно, ни я, ни Чергинец предположить даже не могли. Малыха возник на пороге раскрасневшийся, запыхавшийся, с полотняным мешком в руке. — Ну, вот и Гриша. Что ты нам скажешь? — спросил Привалов, а Малыха, не ожидавший увидеть стольких людей, переминался с ноги на ногу. — Приходил кто-нибудь? — спросил прокурор. — Сегодня — никто. Пока они на кладбище были. А вчера стучал кто-то. Надька сказала: сосед. Спрашивал, не надо ли ей чего. Голос — мне незнакомый. — Ну, молодец, — подбодрил его Привалов. — Сделал все как нужно. И очень хорошо, что больше никто не приходил. Если этот замок не сломал еще сам Петрушин, когда торопился к тому автобусу, то, значит, сломала она… — Я тоже думал про это, — просиял Малыха. — А для чего сломала — тоже думал? — доброжелательно продолжал Привалов. — Я ж знаю ее, — заторопился Малыха, — она хитрющая. Чтоб всех запутать — вот и сломала. А может, случайно, и потом решила крутить. Некому, думаю, ей замки ломать. — Пожалуй, ты прав. Малыха был поражен: Привалов советовался с ним. И он был за все благодарен прокурору, но позднее так и не смог понять, почему же не ответил Привалову тем, чем следовало: умолчал о тех — казалось ему тогда — безделицах, которые унес из петрушинского дома. Не хотел выглядеть смешным, если бы оказалось, что они ничего не стоят? Вот если бы Привалов в кабинете сидел один — другое дело! — Иди, отсыпайся, — сказал Привалов. — Хорошо, пойду. До свидания. Обернувшись в дверях, Малыха поймал хитрый взгляд Привалова. Позднее он вспомнит этот взгляд и удивится: неужели прокурор заранее знал, как поступит Малыха? Пока они беседовали, я думал о том, что нам-то с Сергеем все-таки удастся удивить прокурора. И мне очень этого хотелось. Когда Привалов отпустил Малыху, я наконец приступил к тому, что нам с Чергинцом казалось особенно важным, хотя внешне было связано не с последними событиями, а с тем, что произошло осенью. — Володя Бизяев никакого пугала, напугавшего Сличко, не ставил. И даже не видел тогда его в Крутом переулке, — сообщил я прокурору. Привалов мгновенье помолчал, словно оценивая услышанное и вроде бы не зная, как ему реагировать. А потом спокойно сказал: — Вполне возможно. То ведь было наше предположение, гипотеза. Там ведь нашли его пиджак и чугунок с его двора. Но, если помните, я не настаивал на Володином признании. — Мы подумали, — произнес долго молчавший Чергинец, — что вы просто пожалели парня. — Вот именно пожалел. Тем более, что жалеть было просто: он того пугала не ставил и не мог о нем знать. Но главное было не это. Ему и без того выпало пережить немало. Но ведь мы установили, что никто не видел больше ни одного человека, и неизвестно, был ли там еще какой-нибудь человек, или этот кто-то исчез, поставив пугало. А если и не исчез, а где-то неподалеку скрывался, то как можно это узнать, если его никто не видел? — Вот все это вместе и доказывает, что Сличко и Петрушина ликвидировал один и тот же человек, — заметил Костюченко. — Разве я это исключаю? — Привалов пожал плечами. — Согласен, что этот человек жил относительно спокойно, пока не появился Сличко. Очевидно, Петрушин тоже знал, или узнал от Сличко, что же произошло… скажем, при операции на нефтебазе. Может быть, какие-то документы попали к Петрушину. От Сличко. А? Может быть такое? Сомнительно, но всякое может быть. Тем более, что после смерти Сличко тот же Петрушин сжег какие-то бумаги. Однако этот неизвестный человек мог этого не знать и считать, что бумаги находятся у Петрушина. — А я не сомневаюсь, что сжег он что-то для видимости. Или что-то не самое важное, — вставил я. — Петрушин не такой человек был, чтобы упустить хоть малейшую возможность наживы. — Вероятнее всего, — подтвердил Костюченко, — Петрушин крепко поспорил на кладбище со своим врагом. Как они оказались на кладбище оба? Это нам прояснит угрозыск. А пока… — Он задумался и внимательно посмотрел на каждого из нас. — И все-таки, как мы говорим, «партизанскую версию» отбрасывать нельзя. Раз уж побеспокоили меня и вас, — он с улыбкой кивнул в нашу сторону, — то останавливаться не резон. — Конечно, не будем, — с излишней, может быть, горячностью заявил я. — Доктор, прошу вас, поспокойнее. Суть в том, что мы не должны, не имеем права попусту беспокоить людей, ворошить прошлое. Не всем приятно вспоминать прошлое, в котором было больше потерь, чем радостей. Но восстановить для себя картину обязаны. Сергей Игнатьевич, — Привалов посмотрел на Чергинца, — вправе, например, расспросить стариков о партизанских делах, о том, хотя бы, как дядья сражались. Сергей кивнул — то ли соглашаясь, то ли прощаясь. Он встал и направился к двери. Встал и Костюченко. — Ты чем-то недоволен? — спросил его Привалов. — Боюсь, что мы все будем недовольны, когда придем к концу. Мы должны быть готовы к неожиданностям. Ведь все это таким быльем поросло. — Осокина я сам введу в курс дела, — сказал Привалов. Когда дверь за Костюченко закрылась, Привалов взял со стола ключи. — Провожу вас, доктор, не возражаете? Невольно я подумал, что, залечив экзему на плече Привалова, потерял нечто весьма значительное в своей жизни — возможность чуть ли не ежедневного общения с прокурором. Мы вышли на Октябрьскую площадь. Заметив пустую скамейку в скверике, Привалов двинулся к ней. Как всегда, у ног партизанки лежали цветы. Моросный ветерок разметал букеты по постаменту. И Привалов, подойдя к памятнику, аккуратно разложил их. Я вспомнил, что прошлой осенью в этом же скверике он рассказал мне о том, кто же такой Сличко: тогда только начиналось расследование дела о событиях в Крутом переулке. Я уже достаточно хорошо знал Привалова и понял, что не случайно он снова привел меня сюда. Возникшее было подозрение, что он намерен обойтись без моего, пусть и самого что ни на есть косвенного, участия в новом деле, совсем рассеялось, когда, простившись с ним, я вдруг вспомнил, что Мукимова решено было вызвать из Ташкента телеграммой от моего имени.17
Участковым на Старом соцгороде работал старший сын Федора Корнеевича Балябы, одного из четырех оставшихся поныне в живых участников операции на нефтебазе. Толя Осокин, немногих знавший в Новоднепровске, с Володей Балябой подружился вскоре после приезда по распределению из Москвы. Дружелюбный, общительный Баляба-младший с интересом общался с выпускником московской школы милиции, стараясь почерпнуть побольше теоретических знаний, столь необходимых в службе. Он ведь уже четыре с лишним года, сразу после того, как в 59-м демобилизовался из армии, работал в милиции и вовсе не собирался до пенсии оставаться в участковых. Толе даже не пришлось в тот вечер напрашиваться в гости, Володя сам затащил его на домашний ужин после хлопотного, чтоб не сказать муторного, дня. В ожидании, пока накроют на стол в зале — ради гостя Володя уговорил мать перенести ужни с кухни в просторную залу, — Толя посматривал на фотографии, развешанные по стенам. Его внимание привлек портрет военного с кубиками, явно сделанный еще до войны. На Толю смотрел командир партизанского отряда Василий Федорович Волощах. А рядом висел портрет его жены Анны, родной сестры Федора Корнеевича Балябы. Но так как Толя уже знал, что сам Федор Корнеевич был женат на Полине Сличко, двоюродной сестре того самого полицая, не привыкшего к новоднепровским запутанным родственным клубкам москвича такое совпадение смутило. Когда он поделился с Володей, тот только пожал плечами: что, мол, особенного. И рассказал, что еще до войны отец крупно повздорил с двоюродным братом своей жены Прокопом Сличко, из-за чего Володина мать тогда, до войны, сильно сокрушалась. — Зато потом довольна была, — усмехнулся Володя, — когда Прокоп такой сволочью оказался. В чем была суть разлада, Баляба-младший не знал. Знал только, что причину отец считал вечной, то есть такой, какая исключает возможность примирения. В первый же день оккупации Баляба-старший ушел в плавни, а жене с двумя сыновьями и с двумя дочками пришлось перебраться в дальнее село, в Кохановку. И не напрасно. Ставши полицаем, Сличко долго искал своего врага, но так и не нашел. А Толя Осокин задал себе вопрос: не встретились ли они, хотя бы игрой случая, прошлой осенью, когда Сличко нелегально появился в Новоднепровске? Не произошло ли между ними нечто такое, о чем осенью никто не догадался? Не сошлись ли их дороги в ту ночь у оврага, в котором и загнулся полицай? Еще два случая припомнил разговорившийся Баляба-младший. В Новоднепровск из Кохановки вся семья вернулась в свой чудом уцелевший дом вскоре после освобождения города, но отца они так и не увидели: он ушел с Красной Армией на запад. Сличко же обнаружили на Микитовке, у Галины Курань, спустя почти год. Когда его судили, Володина мать сказала: «Жалко, Феди тут нет…» Кое-кто из родственников и соседей ходили на суд, некоторые выступали свидетелями, но Полина категорически отказалась: «Был бы Федя, он бы свое сказал. А что я могу?» И о Сличко в доме не вспоминали до того осеннего дня, когда его труп обнаружили в овраге. Мать успела только сказать: «Федя, а если б вы встретились…» — и чувств лишилась. «Скорую помощь» вызывали. А отец лишь таинственно ухмыльнулся. Володю его ухмылка так поразила, что он до сих пор мысленно видел ее. Баляба-старший приехал с работы как раз во время ужина. Грузный, с тяжелым подбородком, с маленькими блестящими глазами, что прятались под мохнатыми бровями. Он сразу стал недоверчиво поглядывать на Осокина. И за едой периодически тоже ухмылялся — лукаво, что ли, но вовсе не добро. К Толе он, казалось, отнесся неплохо, но не сердечно, не по-отечески, чего очень хотелось Володе, хотелось, чтобы его дом и для одинокого в Новоднепровске Толи стал чем-то вроде родного дома. Отец же, чувствовал Володя, словно чего-то опасался. Какого-то своего неверного слова? Володя переводил взгляд с отца на Толю и понимал, что Толя так же настороженно оценивает отца, как и тот его. А Толя, сидя напротив хозяина дома, ни одного слова не упустил и не забыл. Но хотя они с Володей, продолжая начатый до ужина разговор, вспоминали разные партизанские рассказы, Баляба-старший о своем прошлом в тот вечер не заикнулся. Почему же? Осокин вовсе не подозревал, что хозяин дома — «сорок третий». Но не без оснований предполагал, что старший Баляба знает намного больше того, что рассказал в отчете, который хранится в архиве. И, возможно, что про обстоятельства смерти Сличко и Петрушина он знает нечто такое, что неизвестно прокурору. Когда речь зашла о Петрушине, Баляба-младший спросил отца: — Все знают, что ты с ним не здоровался. Но как думаешь — за что его? Отец просверлил маленькими глазами лицо сына. — Все говорят, что за золото. За что же еще? — А если не за «что», а за «кого»? — спросил Осокин. — Если за «кого», то за Прокопа, — ответил хозяин и теперь просверлил глазами Толю. — «За» или «из-за»? — спросил сын. — Ну, вам-то какая разница? — снова ухмыльнулся отец. Такой же точно ухмылкой, какую с прошлой осени не мог забыть Володя. А ведь отец прекрасно понимал, что разница была! «За» — значит, это могла быть месть за смерть Сличко, ведь кто то мог считать, что Петрушин если не ликвидировал Сличко, то способен был выдать его. «Из-за» — это уже совсем другое дело, тогда это мог быть тот, кому мешали Сличко с Петрушиным, но второй стал мешать уже после появления первого. А тут Баляба-старший неожиданно продолжил: — Видать, кто-то этого Петрушина стал бояться. — Бояться? Такого придурка? — удивился сын. — Ни придурком, ни дураком он никогда не был. Прикидывался и радовался, что его таким считают. Нет, в доме с таким хозяином Толя ни за что жить бы не стал, хотя Володя давно уже уговаривал его перебраться к пим. О внутренней близости с таким человеком и говорить не приходится. Да и внешность Балябы-старшего почти отталкивала. Словом, вынес Толя Осокин из этого дома стойкое недоверие к хозяину: даже если того прижмут фактами, о чем-то самом важном он все равно сумеет умолчать.У Балябы всегда и во всем было собственное мнение, ко всему и ко всем — собственное отношение. И повлиять на ого мнение никому и никогда не удавалось. Даже близкие люди редко понимали его, считая, что из упрямства он не признает даже самое очевидное. Хотя он находился в родственных связях с Волощахом — тот женился на сестре Балябы, особенной близости между ними и до войны не было. С юных лет, а познакомились они еще школьниками, Волощах был, так сказать, человеком общественным, в отличие от Балябы, замкнутого, молчаливого, предпочитавшего одиночество любым молодежным мероприятиям. Волощах начинал комсомольским вожаком, в армии вступил в партию, работал перед началом войны инструктором райкома ВКП(б). Баляба же и комсомольцем не был: может быть, предложи ему вступить, он бы не отказался, но предлагать никто не стал, а сам он подать заявление не счел нужным, да и как подавать, если на вопрос об общественной работе ему бы нечего было ответить. В партизанский отряд его тоже никто не звал, он сам пошел, узнав, что отряд возглавил бежавший из окружения муж сестры: коль тот — там, в плавнях, значит, и правда тоже там. А ложь — здесь, в городе, ведь Сличко — в полицаях. Выходит, о правде и лжи Баляба судил по тому, кто из родственников куда подается? Задай ему такой вопрос, он бы не стал отвечать, опустил бы голову и сверкнул исподлобья колючими глазками: ему самому, мол, известно, где правда и где ложь. В отряде Баляба был рядовым бойцом, а Волощах — командиром, более того — доверенным лицом штаба партизанского движения, говорили, что и доверенным лицом подпольного обкома партии. Баляба не мог знать ни о разговорах в штабе отряда, ни о рождавшихся там планах различных операций. Его совета никто не спрашивал, он на это и не претендовал. Если бы спросили, он бы только удивился и все равно не ответил. Маленький человек должен знать свое место. Но, тем не менее, собственное мнение по любому вопросу он имел. О том, что произошло с отрядом, он тоже судил по-своему и суждение это хранил при себе. В последние дни он все чаще вспоминал о прошлом. Что-то кому-то мог сказать, но о главном, о том, как все ему представлялось в полном объеме, — никому. Ни с кем бы не поделился своими мыслями. А все его воспоминания так или иначе были связаны с Волощахом. Немигающие глаза Волощаха. Взгляд куда-то поверх деревьев, но не в осеннее хмурое небо, а словно бы сквозь него. Но главное — немигающие, точно застекленевшие глаза. В ответ на пустяшный вопрос Волощах лишь повернул голову, так и не осознав, кто и о чем его спрашивает. Баляба не обиделся, вопрос-то и в самом деле он задал пустяшный, но понял: Волощах чем-то не на шутку встревожен. Он и раньше, еще до войны, бывал таким — ото всего отрешенным, — когда что-либо было ему не по нраву, расходилось с его планами. Не то вечером, не то утром — Баляба никак не мог вспомнить — объявили об уходе из плавней, то есть о прекращении деятельности отряда. Обычно разбредались по одному — по двое: кто в глубь плавней, чтобы потом перебраться в степь за Днепром, укрыться в знакомых хуторах; кто, напротив, в пригородные села, чтобы укрыться в Новоднепровске или на соседних рудниках. Но в этот раз при уходе решено было совершить налет на нефтебазу. Баляба и тогда считал эту операцию чересчур рискованной: наверняка не многие останутся живы. Теперь же он понимал, что операция была и бессмысленной: к тому времени бензохранилище никакой ценности не имело, немец катился к Днепру, уходя, он и сам взорвет нефтебазу, потому что топливо за собой не потащит — силенок не хватит. Если уж стоило причинить ему ущерб такой операцией, то следовало напасть на мастерские, где ремонтировали немецкую самоходную технику. Но что сейчас об этом говорить? И Баляба спрашивал себя: почему же — нефтебаза? Ясно, что это была операция, рассчитанная отвлечь внимание и силы немцев. Но отвлечь от чего? Или от кого? Не ему, Балябе, найти ответ. Искать надо в архивах, если они есть. Дать возможность другому партизанскому отряду, действовавшему под Запорожьем, уйти из плавней понадежнее, с большей безопасностью? А может быть, дать возможность тому отряду провести крупную операцию в самом Запорожье? Или операцию, связанную с плотиной, вернее, с тем, что от нее осталось? Во всяком случае Баляба был уверен, что отряд Волощаха принесли в жертву ради каких-то более важных, чем существование этого отряда, целей. И если бы тогда ему, Балябе, сказали об этом, он принял бы все как должное, как приказ. Теперь же он считал по-иному: если тогда никому прямо не сказали правды, не подумали о том, что люди, идущие на верную гибель, должны знать, во имя чего выполняют такое задание, значит, у кого-то была и иная цель. Ведь те, кто ставил задачу, наверняка верили в свою правоту, им незачем было скрывать от партизан реальную опасность. А кому-то казалось выгодным скрыть. Кому? Если командование не объяснило отряду мотивы операции, то, выходит, полного доверия к людям не имело. Провалы действительно случались, и, пожалуй, слишком часто. Но никто ведь никого не подозревал. Тогда — не подозревал. Немало загадок — или разгадок — унесли с собой погибшие. Да и оставшиеся в живых хранят молчание. Попробуй вызвать на откровенный разговор того же Рекунова — он тут же осадит тебя. Значит, как и Баляба, теперь кого-то подозревает. И живых, и мертвых? Но если можно подозревать всех, значит, и Рекунова и Балябу тоже? Пожертвовали отрядом ради того, о чем теперь никто не знает и никогда не узнает. А под подозрением — все? И все-таки: почему же им тогда не сказали правды? Всей правды? Потому только, что сами не знали? Или потому, что чьи-то цели пересеклись, слились воедино: благородная, жертвенная и подлая, гнусная? Конечно, Баляба таких слов себе не говорил, мысленно рассуждая сам с собой, он выражался проще. Но суть его размышлений сводилась именно к этому.
18
Капитан буксира нетерпеливо поджидал Малыху во дворе: он жил по соседству, и на пирс, к которому обычно швартовалось их судно, они ходили вместе. — Ты что, Гришка? Забыл, что навигация? — Прости, батя. Я зараз, пулей. — Где ночью болтался? — спросил капитан, доставая очередную сигарету из пачки «Памира» и прикуривая от «бычка». — К чему тебе это знать, батя? Я бы и сам хотел забыть. — Ты лучше бы помнил, что женат, — проворчал капитан, — а чужих жен забыл. Но Малыха его уже не слышал. Вбежал на крыльцо и оттуда крикнул: — Я пулей! Не скинув сапоги, влетел в комнаты, швырнул мешок на кровать. Нужно ли переодеться? Нет, ни к чему, и так сойдет, а на буксире есть ватник. Заняться мешком? Некогда. Пусть пока отдохнет под кроватью. Нагнулся и запихнул мешок подальше в угол, за ножку кровати. Пришла бы Верка с ним, наказал бы ей к мешку не прикасаться, пока сам не вернется из рейса. И чего она там осталась, с этими своими сестрицами? Захлопнул дверь и выскочил на крыльцо. Капитан еще не успел докурить сигарету и до половины. — Я ж говорил — пулей! — крикнул ему Гришка. И в ту же секунду, как произнес это слово, подумал о помятой пуле в гильзе, даже пощупал карман. Ведь не случайно же кто-то воткнул ее в стреляную гильзу? Может быть, и не зря он, Малыха, торчал там, в петрушинском доме.Надежда смотрела на Софью скорее растерянно, чем возмущенно. Ну чего та кипятится? Что мог унести Малыха такого ценного? У этого Гришки только и хватает ума рулить буксиром по Днепру. Был бы поумнее, разве выбрал бы из них троих скромницу Верку, у которой ни дома своего, ни капитала хоть какого — не то, что у них с Софьей: все теперь есть, до конца дней хватит. Софья же, не дождавшись от Надежды ответа, кружила по дому, раздраженно, словно поеживаясь, подергивала плечами. И именно это, ее такое частое, привычное движение вдруг как бы высветило для Надежды, какой была среди них старшая сестра: не просто хитрой, но коварной, злой, способной возненавидеть даже родных сестер. А Верка, на которую старшие не обращали внимания, металась по веранде, как в клетке. Ей-то нечего было искать в этом доме. Всю жизнь она такая: для себя ничего ей не нужно. И ее поняла Надежда: боится за своего Гришку, хочет узнать, в чем заподозрила его Софья, не затеят ли сестры против него какую-нибудь пакость. — Беги за ним! Чего дергаешься попусту? — сухо сказала ей Надежда. — Ты ж батькой пожертвовала ради него, вот и не получишь ничего. — Я? Батькой? Не батька разве всем нам жизнь загубил? Вы завидуете, что у меня Гришка есть! А ты своего батьку на кого променяла? На придурка на этого! Или на его дом да на деньги! — Верка так долго молчала, что теперь не могла сдерживаться: она ведь действительно боялась за Гришку, зная, на что способны сестры. — Замолчи, гадина! Убирайся из моего дома, — завопила Надежда. — Из моего! Поняла? Вера, растерявшись, повернулась было к Софье, но та просверлила младшую сестру колючим взглядом и передернула круглыми плечами. — Какие вы обе, боже мой, какие вы обе, — выдохнула Вера, — да как же так жить можно? Как жить? Она выскочила на крыльцо, поскользнулась, чуть было не упала, но ухватилась за водосточную трубу. Дверь за ней гулко захлопнулась. Надежда и Софья смотрели друг на друга, но ни та, ни другая ничего не видели: словно туман застилал глаза. — Что он мог унести? — прошептала наконец Надежда. — Хватит об этом. — Софья пришла в себя. — Не хочу, не хочу, — простонала Надежда, — чтобы им счастье такое. Ты посмотри на Верку, она ж от счастья светится, когда он рядом. — Что толку от твоего «не хочу»? Лучше посмотри, что он у тебя украл. Узнаешь что, тогда и отомстишь. — Украл? Ты уверена? Поиски были лихорадочными. Надежда ни о чем не думала, а просто швыряла вещи с места на место, из одного гардероба в другой, из сундука на кровать, из чемодана в сундук. Если б она задумалась, если б вспомнила о том, что она — хозяйка этого дома, то остереглась бы так все ворошить при Софье. Старшая сестра все замечала своим памятливым, зорким глазом. — Но что-то же он унес, — настаивала Софья. — В мешке. Ты ж сама видела. И Надежда в каком-то отупении снова швыряла и швыряла вещи. Когда Софья узнала и увидела все, что хотела, она и подсказала сестре: — Да что ты роешься там, куда он и не лазил? Что-то было на виду. Стояло или лежало. А ты и не обращала внимания. Надежда опустилась на диван, закрыла лицо руками, чтобы вспомнить. Потом медленно обвела взглядом комнату. И вспомнила, поняла, что мог унести Малыха. Раз унес, значит, неспроста. Но сестре Надежда ничего не сказала: успокоившись, она сообразила, что Софью должна бояться больше, чем глупого Малыху. Но и Софья поняла, что Надежда о чем-то вспомнила, и поняла, что сейчас та все равно ей об этом не скажет. — Не отдавай ему, — посоветовала Софья, как будто Надежда нуждалась в таком совете. — Не отдам, не бойся, — зло произнесла она. — Я их обоих со свету сживу. Он — вор. Вор. Я до суда дойду. Софья криво усмехнулась и снова передернула плечами: это было как раз то, чего она от Надьки ждала. Та уже собой не управляет, пусть делает одну глупость за другой. — Ты куда? — Домой. Куда ж еще? — ответила Софья. «Пусть уходит. Скорей пусть уходит. Я теперь знаю, что мне делать».
Вера и не ожидала застать Малыху дома: жизнь речников идет по собственному графику. Какие бы события вокруг не происходили, никто не отменит рейса, никто от него не освободит. Эх, Гришка, Гришка, тащишься по Днепру на своем буксире, а тут дрожи за тебя, чтобы не влип ты в какую историю. Хоть бы вернулся скорее. А спешил-то как! Сапоги, конечно, поленился снять, по даже и не вытер их о мокрую тряпку у двери. А ведь за тряпкой этой сам следил — чтоб всегда мокрая была. Холостяковал, а комнату содержал в чистоте и порядке. Но сегодня… Так сильно взволнован был? Эх, сегодня могло быть все, что угодно… Ничего, пол она сама вымоет. И если бы Гришка был дома, все равно она бы мыла пол. Но не было бы так тоскливо, страшно на душе. Отчего так страшно, самой не понять. Какой-то рок над ними, над всеми сестрами! Лишает их близких людей. Обрекает на одиночество. Отгораживает от мира. Или мир от них? Неужели так и должно быть? Кара за вину отца? Неужели это на всю жизнь? Неужели Люба, самая младшая, они ее и не замечали, поняла это… именно это? Нет, не может быть этого! У сестер неизвестно, как сложится, пусть сами думают, а у нее Малыха, и, значит, ничто ей не грозит. Ни одиночество, ни косые взгляды. И пусть он хоть каждый день следит на полу… Что это под кроватью? В самом углу, за ножкой кровати. Не вытаскивается… Хрустнуло что-то там в мешке, позвякивает. Господи! Это же то самое, что унес Малыха из Надькиного дома! О том, как отнесется Малыха к ее поступку, она и не думала. Сперва в удивлении, потом в какой-то по-детски неосознанной радости она рассматривала скрученную золотую фольгу. Этот желтоватый рулон выпал из расколотого глиняного бочонка. Выходит, Гришка знал, что надо взять в Надькином доме. Откуда? Кто раскрыл ему тайну? Уж не сама ли Надька? Нет, это невозможно. Но раз в бочонке золото, значит, и эти фанерки нужны! Столовым ножом Вера расщепила одну фанерку. Так и есть! Тоже золото! Но пластинка потолще, намного толще, чем эта фольга! Выходит, Гришка не против стать богатым. А кто в этом мире против? С детства сиротского он жил в бедности. Сколько же можно? Кому-то — все, а ему ничего? А почему она, Верка, должна быть беднее сестер? Гришка ничего не украл. Он просто взял ее долю. Ее законную долю! Но как он узнал? Неужели это он убил Петрушина, чтоб завладеть всем этим? Глупости! Что за глупости лезут в голову? Спрятать! Немедленно спрятать! Сестры могут прибежать! Они ведь наверняка уже ищут. Они поймут, они хитрые… Спрятать. До его прихода. Пока не поздно. А он-то уж им не отдаст. Он не дурак такое богатство из рук выпускать!
Менее всего Софья спешила домой. Она не пожалела рубля на такси, чтобы побыстрее добраться до Красных казарм. Елышев, на ее удачу, оказался на месте. — Что еще? — резко спросил он, выйдя с КПП. — Нужно, — стараясь выглядеть спокойно-серьезной, ответила Софья. — Мне от вас ничего не нужно. — Зато мне… твоя помощь нужна. — Случилось что? С тобой? Нет. Она не усмехнулась своей кривой усмешкой, хотя поняла, чего он мог опасаться. Это маленькое торжество сейчас ее не занимало. — Надо ехать. К Малыхе. Он обокрал Надю. — Обокрал? Малыха? Ты с ума сошла, что ли? — Слушай, что говорю. Ты должен уговорить его — чтоб вернул. Без милиции. Без суда. — А что он украл? — Еще не знаю. Но знаю, что украл. И худо ему будет. Она видела по его лицу, что борются в нем противоположные чувства. Связываться или нет? Выручать Малыху или помогать Надьке? Разве это — не одно и то же? Но вдруг в его глазах мелькнула хитрая искорка. Неужели понял, что Надька не сможет найти поддержку в милиции? И тогда должен решить, что украденное останется у Малыхи? И тогда Елышев может надеяться, что Малыха поделится с ним, заплатит за молчание. — Не могу никуда ехать. Служба, — ответил он. — Не ври. Можешь отпроситься. Пропадет же без тебя Малыха. — Не ребенок он, знает, что делает. Да и кто я ему? С чего это он меня послушает? — Не пойдешь? Тем хуже для тебя. Живи, как жил. Ни кола, ни двора. — Не твоя забота. Он круто развернулся и, не обернувшись, скрылся за проходной.
19
К отчиму своего первого подручного и друга Грицька Супряги Чергинец решил отправиться один. Иван Дементьевич Мелентьев родом был из Смоленской области, но в Приднепровье прижился прочно. Он и украинский язык знал уже не хуже соседей или рабочих нефтебазы, которой управлял восемь лет, с того дня, как ее начали строить. В городе его уважали, понимая, что в значительной мере ему был обязан Новоднепровск тем, что керосином население снабжалось бесперебойно: продавали его не только в специально сооруженных кирпичных магазинчиках, по и развозили на подводах. Однако нрава Иван Дементьевич был сурового. Лоботрясов и жуликов на нефтебазе не терпел, никого из них не прощал — увольнял немедленно. По причине этой в недоброжелателях и врагах у него тоже недостатка не было, некоторые из них и распространяли слухи, норовя бросить тень на прошлое Мелентьева. Чергинец приехал к нему на нефтебазу к концу рабочего дня. Мелентьев, собираясь домой, укладывал в стол какие-то бумаги. Увидев Сергея, он удивленно вскинул брови, но все же приветливо улыбнулся. Конечно же, удивился он не тому, что Сергей пришел к нему, а тому, что пришел на работу, а не домой, где его всегда встречали хлебосольно. Вышли вместе. Во дворе Мелентьев обнял Сергея за плечи левой рукой — правая у него плохо работала еще с войны — и предложил пройтись до дома пешком. Дом Мелентьева ничем не отличался от других домов на Довгалевке. И глядя на чистый, аккуратный домик, Сергей в который уже раз порадовался за мать Грицька: хоть на старости лет повезло ей, а то ведь больно несладкую жизнь прожила. Сергей вдруг вспомнил, как сказала про нее одна микитовская сплетница: «Она всегда интеллигентно одевалась, тем и покорила однорукого», — и, вспомнив это, улыбнулся. — Ты чего это радуешься? — спросил Мелентьев, пропуская Сергея на высокую, просторную веранду. — Что хозяйки дома нет? Потолковать можно? Пока на стол не соберу, никаких толковищ не жди. Бросив пальто и кепку на стул, скинув туфли, Сергей прошел в маленькую гостиную и присел к столу. С двух стен смотрели на него увеличенные фотографии, явно перепечатка, жизнерадостного узкоглазого мальчонки: на одной — ему не больше пяти, на другой — постарше. Сергей давно уже знал, что война отняла у Мелентьева сына и жену, что погибли они в Смоленске под бомбой, а как попали в город из деревни, неизвестно. И ни одного фото жены не осталось. Ловко управляясь левой рукой и чуть придерживая посуду правой, Иван Дементьевич выставил тарелку с нарезанным окороком домашнего приготовления, поставил другую с вареными яйцами, очищенными от скорлупы, и крохотными маринованными огурчиками. — Компотом запьем, холодненьким, из подпола. Усевшись напротив Сергея и не успев приступить к еде, Мелентьев вдруг отодвинул тарелку и неожиданно сурово сказал: — Уверены ли вы, что не покушаетесь на самое святое в нас… во мне… на память о наших… моих товарищах, а? Меня можно подозревать, Федю Балябу — тоже можно, Мишу Гурбу — тоже, даже Федю Мукимова — и того можно. Потому что мы остались живы. Нас можно подозревать. Мы живы. Но всех умерших, погибших — не имеете права. Не юридического права, против закона не пойдешь, а права совести. Я отвечу на все твои вопросы, но знай: отвечу только потому, что ты — неофициальное лицо. Те, кому понадобилось ворошить прошлое, умные люди, раз не пошли по официальному пути. Ну, выкладывай свои вопросы. Все приняло такой неожиданный оборот, что Чергинец растерялся. Бесцельно надеяться на удачу, коль собеседник предубежден и непреклонен. — Хотя вопросы твои я знаю, — продолжал Мелентьев. — Например, вас наверняка интересует, почему некоторые пошли не на Довгалевку, а на Торговицу. А у нас не было другой дороги. Сперва-то, когда казалось, что ничего уже взорвать не удастся, мы двинулись на Довгалевку. Нас в этот момент четверо было рядом, но Антоша Решко уже раненный тяжело. Пока мы с Олесем Щербатенко — его все Аликом звали, а ему нравилось, чтоб говорили Олесь, я его только Олесем и звал — пока мы с Олесем Антошу перевязывали, Мукимов вдруг вернулся и две последние гранаты — себе для защиты ничего не оставил — швырнул в цистерну с бензином. От безнадежности швырнул, в сердцах — те цистерны, считалось, гранатами не возьмешь, но подрывников наших, тех, что в другой группе шли, уже перебили. А цистерна возьми и взорвись. Мукимов прибегает, правый рукав весь в крови, глаза навыкате, я к нему, а он ничего не соображает, заладил одно слово — «сделано, сделано, сделано…». Когда он вернулся, на Довгалевку мы уже идти не могли. Тут я сообразил: раз он что-то взорвал, значит, хоть и не вся, но удалась операция. Значит, имеем право идти на Торговицу. А как идти, когда двое раненых — Решко и Мукимов. Поделились. Я на себя Решко взял, а Олесь Щербатенко — Мукимова. Только потом у них — это я уж спустя сколько лет узнал — все переменилось. Олеся так сильно ранило, что Федя Мукимов его здоровой рукой тащил: у него слабая была правая, он же левша, левой и гранаты швырял, а правую тогда чем-то и зацепило. — Осколком, что ли? — Может, и осколком. Как ночью-то разберешь? — А как же Олеся ранило? Вы же все на Торговицу двинулись, там же не было стрельбы? — То-то загадка была! Федя Мукимов как говорил: шли они, шли, Олесь помогал ему, а потом вдруг как застонет, за живот схватился и без чувств. Докторша, которая их в крепости выхаживала, мать твоего друга Рябинина, полагала, что ему раньше в живот угодило, но в азарте не почувствовал, а от напряжения что-то там раскрылось или порвалось в животе. Она выходила его, да лишь до конца войны дожил Олесь. Я его так и не увидел больше. Антошу дотащил до его дома и в степь подался. Антоша на чердаке прожил еще дня два. Жена его потом ночью во дворе у себя захоронила, чтоб никто не узнал. Там, у нее во дворе, до сих пор его могила. Не позволила переносить… А вы? Кого подозревать можно? Давай-ка, ешь. А потом я тебе на второй вопрос отвечу. Чергинец молча жевал, не чувствуя во рту ничего, кроме горечи. И ругал себя, что согласился выполнить просьбу прокурора. Ну как действительно можно мучить всех этих стариков? А Мелентьев, выговорившись, ел с аппетитом. Когда тарелки опустели, он принес из кухни запотевший кувшин с компотом и, наливая Сергею в огромную эмалированную кружку, сказал: — Ты уж не обижайся на меня, бригадир. Не привык говорить то, что хотят услышать, могу только — что думаю. И от таких вот простых слов стало Сергею легче на душе: и не помнил когда — пожалуй, когда родители были живы, — пил он с таким удовольствием холодный компот. И, кажется, еще раз наполнил ему кружку хозяин. А потом так же, как и раньше, без вступления, заговорил торопливо Мелентьев: — Знаю и второй твой вопрос: зачем полезли мы на нефтебазу? Я был простым бойцом в отряде, меня и не спрашивали ни о чем. Мукимов — другое дело, он был членом штаба, все-таки лейтенантом начал войну. Он рассказывал, что возражал против операции, считал ее авантюрой. И был прав. Если бы меня спросили, я б тоже так сказал. С его слов знаю, что и Рекунов, и Андрей Привалов предупреждали по связи, что дело это опасное. И Миша Гурба, который в разведчиках был, подтвердил, что о предупреждениях этих командир знал. Но Миша думает, и я тоже, что была и другая информация — благоприятная. Только командир мог бы все сказать, как было. Но когда он кинулся выяснять, что с другими группами приключилось, а затем не вернулся, погиб и тела его даже никто больше не видел, я тогда еще понял, что информация у него была неверной, — оттого и бросился он сам, чтобы что-то понять. Сергею показалось, что Иван Дементьевич сам не раз пытался разобраться в случившемся. Говорил он так горячо, как будто все это повторял уже не раз. И еще показалось Сергею, что давно уже понял Мелентьев: самому ему не разобраться в этом. Осторожно, чтобы не обидеть хозяина, Сергей спросил: — Иван Дементьевич, а почему бы вам с друзьями, вчетвером, не попробовать восстановить все в памяти. И нам бы рассказали. Чтоб сохранилось. Чтоб все узнали. Тогда б и подозрений ни у кого, и у вас самих, не осталось бы. — Это тебе прокурор и Костюченко подсказали? — вспыхнул было Мелентьев, но, увидев, как опустил голову Чергинец, сказал уже тише: — Была у меня такая мысль, да как-то все боязно, веришь? Пожалуй, выберу время, загляну к Костюченко или к самому прокурору. Если дадут добро, потолкуем с ребятами… — И снова вспыхнул: — Но подозрений никаких у меня нет. Никого не подозреваю. Так и знай. Потому что некого подозревать! По дороге домой Сергей думал о том, что Мелентьеву можно доверять полностью, но сам Иван Дементьевич не больно-то доверчив, и подозрение какое-то у него есть. Он и сам бы хотел от него избавиться, не дает оно ему покоя, словами пытается прогнать его, но не выходит. Мелентьев, как человек основательный, не склонный к скоропалительным выводам, на протяжении многих лет мысленно возвращался к тем давним событиям, итогом которых оказалась столь трагически закончившаяся операция. Свои выводы он сформулировал для себя уже давно, они явились итогом многолетних размышлений. Не раз и не два он отбрасывал то, что казалось ему неубедительным, дополнял оставшееся, продвигался постепенно вперед, нередко заставляя себя начинать сызнова. Так или иначе, он пришел наконец к определенным выводам, которыми, однако, не счел нужным делиться даже с друзьями. Бывший красноармеец, он вскоре после того, как попал в отряд, стал одним из руководителей. В его подчинении постоянно находились семь-восемь человек, по армейским меркам — отделение, по партизанским — считай, взвод. Ни одно совещание у Волощаха не проходило без участия Мелентьева, поэтому о многом он знал.Он прекрасно помнил, что план операции с нападением на нефтебазу вопреки обыкновению в отряде не обсуждался. Утром к командиру вызвали пятерых, в их числе — Мелентьева. Волощах объявил о своем решении, ознакомил с планом операции, разъяснил некоторые детали. Всё — сухо, точно, но в отличие от подготовки к былым операциям, пожалуй, чересчур лаконично. Столь же хорошо Мелентьев помнил, что никто не возражал, не просил пояснений, то есть тогда никто не усомнился в необходимости или целесообразности нападения на нефтебазу. Все приняли изложенное командиром как должное, как приказ, который выполняется без обсуждения. Неоднократно Мелентьев вспоминал об этом с холодной дрожью. Ведь тогда он имел право усомниться, по крайней мере попросить обоснованных объяснений. Почему же он не поступил так? Мелентьев мог оправдать себя: долг превыше всего, — но не искал оправдания. Потому что вспоминал еще кое о чем, и весьма важном. И это «кое-что» обвиняло его, наравне с остальными командирами, — правда, обвиняло иоправдывало одновременно, но не позволяло ответить на вопрос: почему же они выслушали приказ молча? Когда отряд поддерживал более или менее регулярную радиосвязь с центральным штабом — она оборвалась в конце лота, — кто-то из центрального штаба несколько раз интересовался, почему отряд Волощаха щадит новоднепровскую нефтебазу. На всей оккупированной территории партизаны и подпольщики прежде всего взрывают хранилища с горючим, лишая тем самым немецкую боевую технику питания, в Новоднепровске же упорно уклоняются от такой важной акции. Вопрос этот тогда казался вполне естественным, да и спустя столько лет он представляется логичным, уместным. Ответ, однако, чрезвычайно прост и тоже логичен. С юга забор нефтебазы подпирали не только складские помещения, но и густозаселенные дома Торговицы, а за северным забором начиналась Довгалевка. Крупная диверсия на нефтебазе неизбежно привела бы к гибели людей, повинных лишь в том, что они жили рядом с бензохранилищем. До поры до времени Волощах находил возражения предложениям — или требованиям? — центрального штаба. Но после того, как исчез радист — в отряде считали, что он, не знакомый с местными условиями, утонул в одном из днепровских быстряков, — лишь однажды Волощаха посетил связной издалека. Мелентьев полагал, что именно этот связной передал приказ об уходе отряда из плавней вместе с категорическим требованием напасть на нефтебазу. Волощах обязан был выполнить приказ. Таким образом, Мелентьев считал, что нападение на нефтебазу было навязано отряду сверху. Обычное, сезонное расформирование отряда — ради спасения его как такового — прошло бы, конечно, бесследно, безо всякого ущерба для оккупантов. Поэтому кто-то где-то решил, что прежде, чем разойтись до весны, партизаны должны совершить нечто такое, что нанесет оккупантам ощутимый вред. Уничтожение нефтецистерн — достойное завершение деятельности отряда Волощаха. Почему завершение, а не перерыв до весны? В центре, естественно, вправе были предполагать, имея полную информацию о положении на фронте, что будущей весной отпадет надобность в партизанских отрядах Приднепровья. Согласился ли внутренне с этим приказом Волощах? Мелентьев давно уверовал: нет. Волощах и ринулся в самое пекло, чтобы погибнуть вместе с товарищами. Он считал себя ответственным за их гибель. Он понимал: его обвинят — плохо подготовил операцию. А что в ней вообще не было необходимости — об этом если и вспомнят, то потом, а «потом» может и не наступить. Так что выводы Мелентьева оказались на удивление простыми. Уход отряда из плавней в связи с наступлением морозов и разливом Днепра был неизбежен. Нападение на нефтебазу осуществлялось по приказу центрального штаба, в соответствии с высшими интересами, с общими планами. Волощах считал, что ведет отряд на верную гибель, но приказ нельзя не выполнить. Командир предпочел погибнуть вместе со всеми, чтобы впоследствии не страдать от мук совести. Вот, собственно, и все выводы Мелентьева, которыми он никогда и ни с кем не делился. Если и говорил что-либо, то лишь по частностям, а не в общем, не складывая в единое целое свои соображения. Тем более, что сам себя убеждал: все это — не факты, а его личные догадки. Он в своих выводах уверен, по вовсе не обязательно убеждать в них людей.
20
Днепр, как всегда в это время года, был холодным даже с виду, жестковатым, свинцовым с черным отливом, но более или менее спокойным. А Малыха не любил спокойную воду, не чувствовал почему-то себя моряком, когда буксир не переваливался с борта на борт. Сегодня ему повезло: управились быстро. И надо было спешить домой. Там ждал… мешок — неизвестно с чем. Ждала ли Верка? Но в порту ему сказали, что просил зайти новый заведующий грузовым двором. «И что еще понадобилось?» — подумал Малыха.Михаил Петрович Гурба уже обжился в своем новом кабинете, если можно так назвать комнатку, отделенную фанерной перегородкой от складского помещения. За два дня новый заведующий все разложил по местам, определил в письменном столе по ящику для накладных, заказов и других бумаг, которые прежде кипой валялись где попало. Дощатый ящик поставил на «попа», накрыл салфеткой и на нем кипятил воду в электрическом чайнике. А в самом ящике приладил перегородку, как полочку, и на ней держал стаканы в подстаканниках и сахар с заваркой. Чайник только что закипел, когда без стука заглянул сюда Малыха. — Вызывали? — Почему вызывал? — приветливо откликнулся Гурба. — Просто просил зайти. В присутствии рослого широкоплечего красавца Малыхи Гурба выглядел совсем непривлекательным: коротконогий квадратный крепыш в чересчур для него длинном габардиновом плаще — ну, одно слово — «шкаф», как прозвал его на радость ребятам-докерам Малыха. Разойтись двоим в такой крохотной комнатке им было трудновато, поэтому Малыха без приглашения уселся на табурет возле двери и, пока Гурба возился с чайником, заваривая чай прямо в стаканах, осмотрелся. Фактически у этого «кабинета» было одно украшение: огромное окно чуть ли не в полстены, отчего комнатка и не казалась такой крохотной, какой была в действительности. И через это окно виден был едва ли не весь грузовой двор порта. «Удобно для «шкафа», — подумал Малыха, — который любит знать обо всем. Тут уж его подчиненным не пофилонить». По стакану чая выпили молча. Малыха недоумевал, для чего пригласил его бывший бригадир, но из упрямства решил никаких вопросов не задавать: «Сам позвал, пусть сам и начинает». Прихлебывая чай и глядя в стакан так внимательно, будто на дне его лежало что-то необычное, Гурба вдруг внятно произнес: — Я хорошо знал твоих родителей, Гриша. — А я не очень, — от неожиданности буркнул Малыха и тут же устыдился — как только дошло до него то, что он услышал. По сути же Малыха сказал правду. Ему едва исполнилось шесть лет, когда началась война и его родители ушли добровольцами. Отец и мать погибли в сорок втором, и воспитывался Гриша у дяди Петра, родного брата отца, и тетки Евдокии, дядиной жены. Петра Андреевича он так и называл дядько Петро, а Евдокию Васильевну — мамой. Родных же отца и мать помнил смутно, больше по рассказам да по фотографиям. Реплику Малыхи Гурба словно и не расслышал. — С отцом твоим мы дружили, хоть он и старше меня был на три года. Учились на речников. Мы познакомились, когда он уже женат был. Твоей маме, Анюте, семнадцать было, когда родила тебя. Как они друг друга любили! Ее нельзя было не любить. Ты в нее такой красавец. И я твою маму сильно полюбил. По-настоящему. Как раз в жизни бывает. Малыха поднял голову и уставился в лицо Гурбе. Тот наконец оторвался от стакана, и взгляды их встретились. — Но об этом, поверь, никто никогда не знал. Анюта и не догадывалась. Я только одному человеку признался — Андрею, отцу твоему. Он тогда, как услышал, обеими руками взял меня за голову, ушам даже больно стало, и долго смотрел мне в глаза. А потом сказал: «Я верю тебе, Миша». Так сказал, что у обоих у нас слезы выступили. Сколько раз вспоминал я его слова! Он поверил мне, что я так сильно полюбил ее. И поверил, что ему одному я признался в этом. У Гурбы перехватило дыхание, он замолчал, отхлебнул чаю. Малыха смотрел на него, не отрываясь, и чувствовал, что теряет дар речи. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Гурба заговорил снова. — И еще помню, как они уходили на фронт. Вернее, сперва наоборот — в тыл, на обучение. Это ведь я отвел тебя в дом к дядьке твоему Петру. Он тогда болел тяжело, легкими, застудил их сильно на ранней рыбалке. Андрей мне сказал: «Миша, береги пацана, пока здесь будешь». А Анюта все тебя целовала. И меня — один раз, на прощанье, когда мы с тобой уходили. А ты почему-то не плакал. Анюта плакала, и я плакал. У Андрея — ни одной слезы. И у тебя почему-то. А я уйти не успел: мы с дедом и бабкой жили, они болели, пока решали, чему и как быть, тут под немцами оказались. Я едва успел в плавни, к партизанам. Но за тобой приглядывал. Я ж в разведке был отрядной. Иногда пробирался ночью в город. К Петру и Евдокии заброшу что-нибудь в дом, на тебя спящего гляну, и прочь, чтоб если и попадусь, то подальше от вашего дома. О том, что родители твои в сорок втором погибли, это мы уж узнали, когда наши пришли, вернее, я-то уж узнал, когда после войны, после армии вернулся. — А сами-то как? — спросил Малыха, не понимая толком, о чем спрашивает. Гурба же, кажется, понял. — В сорок третьем, в начале самом, ночью нарвался на патруль и укрылся в доме у Угляров. Там у них на чердаке и хоронился дня три. Тогда и женился на Кате, Екатерине Трофимовне. Потом и заглядывал не только к вам в дом, но и к ним. Это я уж потом подумал, что женился, когда мамы твоей в живых не было. Я ведь клятву себе давал: не жениться, раз не судьба, раз полюбил жену друга. Клятву, выходит, сперва не сдержал, а потом оказалось, что Анюты уже в живых не было. В начале сорок четвертого, когда Катя родила мне Володьку, мы уже в степи партизанили, и оттуда с нашими войсками я дальше пошел. Володьку первый раз увидел, когда ему два годика было. А тебе — все десять. Но ты меня не узнал. Ты уже Евдокию, тетку свою, мамой звал. Она и попросила меня, чтобы помалкивал. Потом у нас с Катей Ленька родился, Алексей. Жизнь-то и взяла свое… — А со мной-то как? — и снова Малыха удивился себе, потому что опять не понял, о чем спрашивает. — На тебя я все издали смотрел, пока в порту не пересеклись наши дорожки. Но тогда я уже зол был на тебя. — За что… Михаил Петрович? — За что, за что? За то, что связался ты с этим сличковским семейством. Я же знал: добром не кончится. И когда осенью появились здесь Чергинец и доктор этот, Рябинин, за тобой они пришли, помнишь, — зла у меня на тебя тогда не хватало. Я вовсе не связывался, — ответил Малыха, но понял, что со стороны всем казалось так, как и Гурбе. — И не женился на дочке этого гада, да? — Так она же ни при чем! Она совсем другая. Совсем. Не такая, как они все. — Тебе виднее, конечно. Может, и другая. А вот родись дитя, и спросит: а кто мой дедушка был? Ты ему, значит, сперва про Андрея расскажешь, а потом про эту сволочь Сличко? Ты только подумай, что бы сказали Андрей с Анютой? Да и дядька твой Петро, будь жив, разрешил бы тебе на сличковском отродье жениться? Ну, ты сыну не скажешь, врать будешь, так ведь люди правду скажут! А кровь заговорит? И в Верке заговорит, увидишь! Я хотел к Евдокии пойти, ты ведь матерью ее зовешь, да не успел — узнал, что расписался. Все думал с тобой потолковать, так в бригаде, считал, неудобно, все ж начальником твоим зимой был. Не успел: затащила она тебя в загс. — Она не тащила. Я сам ее потащил. А вы что ж, хотели, чтобы у нас, как у Володьки Бизяева, случилось? Хотели, чтобы Верка, как ее младшенькая Любочка, отравилась? Чтоб я, как Володька сейчас, вину носил? — Малыха аж задрожал, так ясно вспомнив Володьку и Любу, родителей Бизяева, настоявших на своем, и Любочку в гробу, такую маленькую, пухленькую, уже носившую в себе Володькино дите. — Чем дочки-то виноваты, что отец у них гадом был? Злость и возбуждение, которые охватили его, заставили и Гурбу сбавить топ. — Не они первые, не вы последние, — с нотой примирения в голосе сказал Михаил Петрович. — Что бы и кто бы ни говорил, в ответе дети и за родителей, не только за себя. Подумай, как жить сыновьям, если за отцами что-то такое стоит, чего люди ни простить, ни понять никогда не смогут? — И вдруг нашел Гурба, как показалось ему, последний довод: — А нужно тебе еще, чтоб говорили, будто позарился ты на грязное сличковское добро, которое Верке от отца досталось? — Добро? — закричал Малыха. — Да ни на какое добро ни я, ни она не зарились! И нет у нас ничего. И ничего нам не надо. С Надькой и Сонькой не равняйте нас! — Да успокойся ты, Гриша, успокойся. Я ничего не думаю, — испуганно заговорил Михаил Петрович. — Это люди говорят, что у него золота на всех хватало, да еще и петрушинское… Малыха вдруг обмяк, словно понял, что люди правы. Ведь сестры на людях всегда держались вместе, как привыкли с детства. И если близко не знать их, то как догадаться, что две из них — хищницы, а две — Вера и Любочка покойная — настоящие? Михаил Петрович вышел из-за письменного стола, положил руку на плечо Малыхе. Тот опустил голову. — Не обижайся на меня, Гриша. Я ведь хотел как лучше. О тебе думал. Чтоб помочь. Наказывали ж мне Андрей с Анютой беречь тебя. Думал уберечь от ошибки. Извини, если что не так. Для нас ведь с войны, с партизанства Сличко — самый лютый враг. Что живой, что мертвый. Такие хуже фашистов, понимаешь? Оборотни, предатели, холуи, как Петрушин. Сличко же только сперва вроде для вида, для порядка в полицаи пошел. А потом стал палачом самым зверским; вешал, расстреливал, его и полицаи-то боялись. Хуже фашиста был, понимаешь? А что может быть хуже фашиста? — Пошел я, Михаил Петрович, — тихо сказал Малыха, поднимаясь с табурета. — Все я понимаю. Не в обиде на вас. Будет час, о родителях мне расскажете — не помню ведь их совсем. Ссутулившись, двинулся к выходу. — А может, заглянешь как-нибудь к нам домой? Екатерина моя рада будет. Володьке ж осенью в армию идти, а Ленька все больше гуляет. На шофера стал учиться, как старший брат, да у них, семнадцатилетних, сейчас, сам знаешь, что на уме — парубкуют. — Зайду, Михаил Петрович, спасибо. Но мы пока с женой поодиночке никуда не ходим. Свежий ветер с Днепра взбодрил его. Но, глянув на часы, недавно повешенные электриками на административном здании порта, Малыха прибавил шаг. И у ворот едва не столкнулся с лейтенантом Осокиным. Тем самым, черноволосым, который приносил ему записку от Привалова. В последние дни Малыха не раз замечал этого лейтенанта в порту, и тот приветливо кивая ему. Но сейчас Осокин был чем-то так озабочен, что, хоть и столкнулись вроде нос к носу, лишь посторонился, словно не узнал Малыху.
После той осенней истории в Крутом переулке Малыха подумал, что бывали в его жизни люди, которые пытались опекать его. Не покровительствовать, а просто приблизить к себе, заменить старших, которых он давным-давно потерял, которых фактически и не знал. Но что могла сделать для него тетя Дуся, вдова отцова брата, кроме как накормить борщом? Что мог предложить капитан буксира? Или тот же Гурба: он и говорил-то всегда малопонятно, будто говорит об одном, а думает о другом, и слова у него точно не связаны в цепочку, а насажены, каждое по отдельности, на проволочную пружину и болтаются из стороны в сторону. Совсем иное дело, подумал он тогда, доктор Рябинин. Хоть и ненамного старше он, зато людей хорошо знает. Но самое главное, думал Малыха, такие люди, как Рябинин и Привалов, нисколько не раздражают, не щелкают по самолюбию. Они, правда, странные, непредсказуемые, зато с ними чувствуешь себя легко, уверенно. Что вот только им нужно от Малыхи? Зачем они стремятся расшевелить его? И сам же ответил себе: значит, так надо, им виднее, потому что наверняка они смотрят дальше и видят глубже, чем он. Собственно, что он мог видеть? Только то, что происходило у него на глазах. Босоногим и загорелым мальчишкой бегал через весь город к старому речному порту, погребенному сейчас на дне Каховского водохранилища, смотреть на пароходы — эти дымящие чудища. И как же манил его стоявший у штурвала верзила в изодранной и такой желанной тельняшке!.. Манили не далекие страны, заросшие пальмами, а Днепр, который звал вниз, в таинственный город Херсон, или вверх, в такой же загадочный город Запорожье. Ходить вверх и вниз по Днепру казалось пределом мечтаний. Однако странное дело: едва его приняли на работу, как тут же послали матросом в рейс на стареньком буксире с высоченной черной трубой. Первым же рейсом он побывал и в Херсоне, и в Запорожье. Не такое уж заманчивое для многих путешествие, а Малыха, вернувшись из него, заснуть не мог: ушел к реке и пролежал на траве всю ночь. Зато уже в новом порту он оказался не салагой: весь Днепр ниже старой плотины избороздил, все знаменитые пороги обошел, все быстряки и протоки знал, все мели и водовороты до самых низовьев — от Запорожья до Голой Пристани не было у Днепра от него тайн. Армейскую службу прошел на флоте, правда, не в лучшее для флота время, когда на самом верху посчитали, что у флота нет перспектив и прогресс военной техники обойдется без него. После учебного отряда Малыха недолго проболтался в Ленинграде — в отряде опытовых, как говорили моряки, кораблей на Малой Невке, а потом его перевели на озеро — красивое, но скучное, где до последнего дня службы крутил он штурвал старого стотонного «малого охотника». Изо дня в день крутил, исключая, понятно, месяцы, когда озеро покрывалось льдом. Большего он ждал от службы на флоте, зато ребята там подобрались хорошие и жилось не плохо. А после флота — опять новоднепровский речной порт, который он поначалу не узнал. Не потому, что появились новые здания и мощные краны. По другой причине: люди почему-то изменились, иными стали их отношения между собой — одни зачерствели, другие разжирели. А может, это он так изменился, что теперь стал замечать то, чего раньше не видел? Если бы он считал, что люди должны жить так, как угодно ему, пришлось бы туго. Но он считал иначе, он не собирался переделывать людей, потому что понимал главное: он — песчинка в этом мире, а коль так, значит, должен жить для себя, не обирая других, но и не уступая своего. Потому и не нажил он врагов да недоброжелателей, сохранил себя, свою независимость. Но разве Рябинин или Привалов себя способны потерять, даже если заимеют врагов? Малыха хотел бы стать для них другом, или помочь в чем-нибудь, или хоть рядом с ними почаще бывать. Ему казалось, что любое, пусть мимолетное, общение с такими людьми возвышает его в его собственных глазах. Но ведь право на это общение надо заслужить. Значит, надо в чем-то изменить себя. Да, он никогда не намеревался переделывать других, но, может быть, стоит переделать себя?
21
Лейтенанту Осокину ничего в жизни так не хотелось, как совершить в раскрытии этого дела такое открытие, которое поразило бы прокурора. Он работал энергично и тщательно, не считаясь со временем, не обращая внимания на усталость, которая с каждым уходящим часом накапливалась еще и потому, что лейтенант нервничал и спешил, спешил и нервничал, полагая, что его медлительность раздражает Привалова. Но ему это только казалось. Прокурору не в чем было упрекнуть Осокина. Картину смерти Петрушина лейтенант в целом восстановил. Того видели на автобусной остановке возле универмага примерно с двадцати трех часов. Он толкался там больше десяти минут, кое с кем даже разговаривал. Направился было через проспект, к универмагу, но вернулся, а позже скрылся в скверике. Явно, что он кого-то ждал. Надежда утверждает, что никогда он не встречал ее с работы. Да, она звонила Елышеву. Да, просила встретить ее. Но лишь для того, чтобы поделиться своими страхами: ей казалось, что Петрушин теряет голову от ревности, считая, что она не любит его. «И не ошибался он», — добавила она в разговоре с Осокиным. Елышев заметил Петрушина и потому ушел. Тогда ему казалось, что Петрушин его не видел. Теперь же старшина думает, что и Петрушин его заметил, потому и шел за ним до самых казарм. Но, видимо, что-то помешало мужу Надежды пристать к старшине. Кол на могилу Сличко забил не Петрушин, а тот второй, который левша. Вероятно, Петрушин застал его за этим занятием, по здравому смыслу — необъяснимым. Судя по всему, эти двое у могилы Сличко поначалу беседовали. Даже могли выпить: неподалеку была найдена бутылка из-под мадеры. После беседы Петрушин, по мнению Осокина, направился к выходу, но не сделал и трех шагов, как получил удар палкой по голове. Обследование кола, который Привалов унес с кладбища, подтвердило, что первый удар был нанесен именно этим колом. Затем тот, второй, схватил Петрушина и несколько раз ударил головой о косяк каменного памятника соседней могилы. Потом швырнул его оземь, вставил кол в отверстие, пробитое раньше в изголовье могилы Сличко, и ушел. Но не к выходу, а в глубь кладбища и оттуда через забор вышел на улицу. На бутылке остались отпечатки пальцев только Петрушина. На колу — никаких отпечатков, лишь ворсинки ткани, значит, второй был в перчатках. Кстати, Надежда вспомнила, что бутылка мадеры попадалась ей на кухне. Петрушин все же очнулся, когда второй ушел. С трудом поднялся и потащился к забору. Он видел, очевидно, свет за ветвями деревьев в окнах проходной войсковой части. Сил у него хватило лишь добрести до забора. Там он и скончался от сердечной недостаточности, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила. — И от злобы, — сказал Осокин Привалову. — Вполне вероятно, — улыбнувшись, ответил тот. И лейтенант не понял, согласен с ним прокурор или нет. Осокину казалось странным, что Надежда никак не реагировала на отсутствие супруга. Ведь придя домой с вечерней смены, около часа ночи, она не застала его. И утром он не появился, и позже. Она же спала, пока ее не разбудила милиция. Она даже слова не произнесла, когда ей сообщили о смерти Петрушина, — устало и облегченно вздохнула. А прокурору все это странным не казалось. — Такая вот женщина, — заметил он. Лейтенант же подумал: «Стерва, а не женщина», а вслух сказал: — На остановке возле универмага она не сошла, а проехала до конечной, до Октябрьской площади. Утверждает, что никого не видела, решила, что Елышев ее не дождался, и предпочла идти дальним путем, но зато по освещенной улице. Сперва шла не одна, а потом попутчики разошлись по своим дворам. В дороге вела себя абсолютно спокойно, болтала о работе. — Да, такая… женщина, — повторил прокурор. Тот, левша, на кладбище был в резиновых сапогах. И в таких же сапогах подходил к дому Надежды человек, поломавший замок. Ясно, что с замком возился не специалист. Впрочем, опытный преступник, конечно, и сапоги бы поменял… Никогда прежде Привалов не выказывал такого интереса к моим литературным увлечениям, как теперь, когда я начал собирать материал о партизанском отряде. Обо всем, что имело отношение к этой теме, он говорил со мной увлеченно и без малейшей иронии, как было раньше, когда я спешил строить версии в той осенней, сличковской истории, выслушивал меня, подсказывал, анализировал. Вел разговор, так сказать, на равных, ничем не давая почувствовать разницу между собой, профессионалом, и мной, дилетантом. Однако к концу бесед у меня возникало подозрение, что его интерес к «партизанскому материалу» диктуется во многом еще и тем, что собственно расследование убийства Петрушина постепенно заходит в тупик. И возникло у меня это соображение вот почему. Если, скажем, из предварительных рассуждений исключить возможные связи Петрушина с кем-то из бывших партизан, прежде всего из четверых оставшихся в живых участников операции на нефтебазе, тогда вообще никого не остается на подозрении. Елышев? Решительно отпадает. Вот если бы он в ту ночь снимал свои хромовые сапоги и менял их на резиновые… Но где и когда? Нет, это невероятно. К тому же он не левша. Надежда? Только потому, что утром не подняла тревогу? Да, она, конечно, хотела свести Елышева с Петрушиным, хоть и категорически отрицает это. Хотела она, безусловно, и избавиться от Петрушина. Но от желания до осуществления путь не короток. Кто-то из тех, кто пока еще не попал в поле зрения угрозыска? Но ведь Осокин проверил алиби всех возможных подозреваемых. Скажем, Галина Курань, у которой Сличко скрывался в сорок четвертом и которая прижила от него сына Пашку, уже две недели находилась в Запорожье. В Запорожье же, и это Осокин проверил точно, Галина искала адвоката для Пашки, который ждал суда за ограбление материного магазина. Словом, повторяю, Осокин проверил всех, кто был так или иначе связан с Петрушиным в последние годы. Вел тот, однако, столь уединенный, затворнический образ жизни, что у трудолюбивого лейтенанта проверка заняла не больше времени, чем хождение по магазинам в поисках покупателя мадеры. — Осокин сделал все, что в его силах, — сказал мне Привалов. — И он, и те, кто ему помогал, оказались молодцами. Признаю, что раньше я его недооценивал. Эта реплика в устах Привалова прозвучала для меня как признание прокурора, что надежды на удачу осталось мало. В тот момент я и понял, что многое он связывает с партизанской историей. Многое, если не все. Почему операция на нефтебазе все же была проведена вопреки предупреждениям деда Рекунова и Андрея Привалова? От кого исходила, если таковая была, иная информация, гарантировавшая успех? Чем руководствовался Мукимов, решительно возражая, по словам Мелентьева, против операции? Баляба враждовал со Сличко еще до войны. Почему же он таинственно ухмылялся, а не открыто радовался, узнав о смерти полицая? Почему он избегает говорить о прошлом и при этом оценивает Петрушина иначе, чем все, кто знал сличковского холуя? Гурба дружил с родителями Малыхи. Почему же только сейчас он решил рассказать парню об этом? Не потому ли, что узнал об участии Малыхи, связанном с делами Сличко и Петрушина? Мелентьев — такой человек, который никогда и никого не прощает, и, по убеждению Чергинца, сам кого-то подозревает. Почему же он так возмутился, узнав, что и у других есть подозрения? После разговора с Чергинцом он уже ходил к Костюченко советоваться, стоит ли собраться вчетвером и попытаться выяснить все заново. — Костюсь ответил ему, что это их право, какое уж тут надо разрешение, — сказал мне Привалов. — Вот нам бы надо присоединиться к четверым партизанам, чтобы послушать и подумать вместе с ними. Присоединиться к четверым? А ведь четвертый Мукимов. И как выяснил лейтенант Осокин, осенью тот прилетал в Новоднепровск, точнее, залетал по пути из Москвы в Ташкент. Виделся тогда с Мелентьевым и Гурбой, но к Балябе почему-то не зашел. И было это, между прочим, как раз в те дни, когда и Сличко находился в Новоднепровске. Мукимов улетел в то самое утро, когда труп полицая обнаружили в овраге. Но почему он до сих пор не откликается на телеграмму-приглашение?22
По стуку каблуков Вера сразу поняла, что на крыльцо взбежала Надежда. Не ожидала, что так скоро сестра окажется здесь. В растерянности Вера присела на край кровати. Дверь открывать не придется, Надя и не постучит, она всегда входит, не спрашивая разрешения, словно вид захваченных врасплох людей доставляет ей удовольствие. Тем более не постучит сейчас, когда примчалась, чтобы отобрать, вернуть свое и наказать обидчика. Надежда застыла в дверях. Румяная, синеглазая, запыхавшаяся. Вера всю жизнь в душе завидовала красоте сестры, по сегодня не до зависти. Сегодня она ее боялась. Боялась напора, хваткости, того, чего у нее самой никогда не было. — Где твой? Гришка где? — Не знаю. — Был он дома? — Не знаю. — Врешь! Бесцельно спорить, шуметь. Все равно Вера ничего не отдаст сестре, пока не придет Малыха. Бессмысленно оскорблять друг друга. И уговоры не помогут. И поиски, если Надежда решится на это. Все спрятано так, что и Малыха не отыскал бы. Но ему искать не придется. Ему Вера сразу скажет и все отдаст. Он взял, пусть он и решает. — Он украл! — кричала Надежда. — Он вор! Понимаешь? Настоящий вор! Его судить будут. Даже если он… — Я ничего не знаю, — твердила Вера. — Нет его. И не было. Наследив на только что вымытом полу, Надежда прошла через комнатенку и присела на кровать рядом с Верой. — Я ж поделюсь с тобой, — неожиданно спокойно сказала она. — А он нет. Не поделится. Выгонит тебя — и все. Куда денешься? Ко мне же придешь жить. А он к Соньке пойдет. Дошло до тебя? Он же не любит тебя. Пожалел — и все. Жалость — не любовь. Еще короче ее век, чем любви. — А может, он тебя любит? — вдруг спросила Вера. Она даже не поняла, что этот вопрос выдал ее — ее страхи, неверие, отчаяние. — Любил бы, не удрал сегодня. Не обокрал бы меня. Он Соньку хочет, а ты ему сама навязалась. — Замолчи! — Он вор! Ты понимаешь это? Ты с вором жить хочешь! И тут распахнулась дверь. У Софьи совсем другие повадки. Она не врывается, она вползает, — бесшумно и с ядом… в душе и в уме. Но глаза выдали ее, лишь на одно мгновенье она потеряла контроль над собой, однако тут же торжество сменилось показной жалостью. — Не вытерпела? — со злостью спросила Надежда. — Испугалась, что обделим тебя? — Да ты что! — Софья зябко передернула плечами. — Мне-то зачем? У меня все есть. — Тебе ж всегда всего мало! — Я не для себя пришла. Чтобы ты Веру не обидела и не обделила, защитить ее пришла, — с трудом сдержавшись, чтоб не сорваться на ответный крик, сказала Софья. — Ишь ты, защитница нашлась! Посмотри-ка на нее? — захохотала язвительно Надежда. Но и Вера не поверила Софье: ничего та не делает без умысла, в котором нет корысти. Софья оглядела комнатушку с брезгливым сожалением. Покачала головой. — Ты, Надя, сестру не жалеешь. Видишь, в какой голоте живет? — Ну и поделись с ней, отдай часть дома, — ответила Надежда. — Или хочешь, чтобы я отдала? — Всем должно быть поровну. — Это как еще? — встрепенулась Надежда. — А так. У тебя, у меня все уже есть. Пусть ей достанется то, что унес Малыха. Ни Вера, ни Надежда не понимали, что Софья просто не верит, что Малыха унес нечто ценное. Не верит, по хочет узнать, что же он все-таки унес. — А что он унес? — не удержалась Вера. — Что? Ничего там и не было такого. — Где не было? В мешке? Что, он пустой был? — Мешок как мешок. Видать, понадобился ему зачем-то. — Опять врешь, — вмешалась Надежда. — По глазам вижу. Ты с детства врать не умела. Глаза выдавали тебя. — Не о том мы говорим, — примирительно сказала Софья. — О чем еще говорить? — уже и не хотела сдерживаться Надежда. — Надо было вам не смотреть на Петрушина как на придурковатого, а человека разглядеть в нем. Тогда бы и… Не одну меня он обласкать готов был. На вас обеих у него бы тоже всего хватило. Его пожалеть надо было. А вы? Вы презирали. И его, и меня. Почему это надо мной должны были смеяться люди? Только надо мной. Позор на кого пал? На меня. Так вот, за этот позор все его — теперь мое. Не ее и не твое. А мое! — Мне и не надо, — возразила Софья. — Я хочу, чтоб Вере досталось. Отцовское ведь все это. Не только петрушинское. — Отцовское? — Надежда торжествовала. — Вот как ты заговорила? Это все тех, кто во рву, на пятнадцатом километре лежит, а не отцовское. И вам обеим пачкаться нельзя. Это мне можно. Я уж Петрушиным испачканная. Из всех троих лишь Вера ужаснулась услышанному. — Надя, Надя, что ты говоришь? Как ты так можешь? — Замолчи, дура, замолчи! — в истерике завопила Надежда. — Не ори на сестру, — повысила вдруг голос Софья. — Это ты, Надя, дура. Потому что рубишь сук, на который уселась. А то расхлебывать сама будешь. Без нас. — Не пугай меня! — Не пугаю. Советую. Отдай все Вере. Малыха придет, поздно будет. Но испугалась Софьиного предостережения не Надежда, а Вера. Неужели старшая сестра знает Гришку лучше, чем она, жена его? Неужели он поступит вовсе не так, как решила она? Неужели не для себя, не для нее прихватил он все то богатство? Однако и Надька приумолкла, сжалась. Прислонившись к побеленной стене, закрыла лицо руками. Софья-то поняла, в чем дело: не хочет Надька, чтобы видели ее лицо, перекошенное от злости. А Вера этого не поняла, подумала, что и Надя испугалась. Может быть, испугавшись, все же поделится с ней, с младшей?Вера вовсе не считала себя жертвой, да она и не была, как многим казалось, жертвой Софьиного деспотизма или Надькиной жадности. Ее простота — житейская, человеческая — в основе имела то, что называют ограниченностью. Софья считала Веру на редкость глупой, Надежда — до предела бесхитростной. В действительности же у Веры не хватало сил терпеть все, с чем она сталкивалась в Крутом переулке. Появление отца, его смерть лишь распалили пламя, и без того бушевавшее в доме тетки Павлины. Вера знала, что Софья поставила себе целью выжить сестер из дома, пусть не любой ценой, а простейшим способом — сплавить их замуж, без приданого и без права на наследство. К Малыхе Вера сбежала потому, что больше некуда было бежать. Гришку она любила без памяти, но все равно не верила ему. Да, она считала себя недостойной этого парня, пользовавшегося нешуточным вниманием стольких женщин. Но не верила по другой причине. Он ведь не способен был скрыть, что пустил ее к себе и пошел с ней в загс из жалости, из сострадания, хотя, понятно, таких слов не произносил. Она же считала, что на жалость или сострадание он не способен, и потому не верила, полагая, что у него есть какая-то особая, неведомая ей пока корысть. Из четырех сестер она была самой плохой хозяйкой. О Софье вообще говорить не приходится: эта помешана на чистоте и порядке. Надежда не хотела угождать старшей сестре и потому демонстративно хозяйством не занималась. Зато в доме у Петрушина она решила навести такой блеск, который и Софье не снился. Петрушин не позволил развернуться. Но рано или поздно у нее в доме будет получше, чем у Софьи. Младшую, покойницу Любочку, никто не заставлял убирать или готовить, сама она заниматься этим не хотела, а еще менее хотела помогать сестрам. Вера же и хотела бы стать хорошей хозяйкой, и ленивой никогда не числилась — в цехе про нее худого слова никто сказать не мог, — да вот все у нее из рук валилось, когда бралась за дела по хозяйству. Сама себя она утешала тем, что дом в Крутом переулке вызывал у нее такое отвращение, что, когда доходило до уборки или приготовления обеда, руки у нее опускались. Сестер она не понимала, не пыталась разгадать их натуру, объяснить поведение, проникнуть в существо их поступков. Поэтому то, что они совершали, всегда оказывалось для нее неожиданным. Твердо знала она только одно: в горе никто из сестер ее не утешит, не приласкает, не поможет. Верит она Гришке или не верит, а надеяться может лишь на него.
23
Меня разбудил телефонный звонок. Спросонья я не сразу сообразил, что частые звонки означают «междугородку». Девичий голос уточнил номер и предложил говорить с Ташкентом. — Я имею честь говорить с сыном Екатерины Константиновны Рябининой? — Вы совершенно правы. — Извините, что звоню так рано. Вас невозможно застать в иное время. Здравствуйте. — Очевидно, я имею честь слушать Фархада Мукимовича Мукимова, — в тон собеседнику сказал я. — Так точно, так точно. Я прилетел позавчера. А тут ждет твоя телеграмма, дорогой. Вчера весь день звонил и весь вечер. Ты не женат, гуляешь много, да? Ничего себе вступление! Если бы мне такое сказал кто-нибудь не по «междугородке»… Гуляешь? Рассказать бы ему, как я вчера провел день: горздрав с его обилием бумаг, потом вечерний прием в ярутовской больнице, да еще как холостяк подменял до полночи коллегу, убегавшего с дежурства на вокзал встречать жену. А голос с восточным акцентом не ждал от меня ответа: — Ты не представляешь, какое это для меня радостное известие! Эта твоя телеграмма — как праздник сердца и души. «Светильник красоты твоей льет в темноту ночей огонь, Коснулся он моей груди, и выжег знак на ней огонь». Бессмертный Навои мог бы понять, как я рад. — Подождите, подождите, товарищ Мукимов. О каком известии вы говорите? — Как о каком, дорогой? Что ты существуешь! Что на свете существуешь ты! «О, восточные льстивые речи», — подумал я и насторожился. И уж совсем не к месту вспомнил (так подействовал на меня этот узбекский филолог), что предупреждал Огюст Конт: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избегать». — Я тоже рад. Предстоящему знакомству с вами. Но, понимаете, для меня это несколько неожиданно. Я о вас ничего не знаю. Совсем недавно лишь узнал о вашем существовании. — Понимаю, дорогой, ой, как хорошо понимаю. Я живу-то, жизнью обязан твоей матери, да будет память о ней в людях всегда. Я бы сгнил уже давно, если бы она не спасла меня, не вытащила фашистскую пулю из моего плеча. Я знал уже, что ранен он был в правое плечо. Господи, к чему я об этом? Осокин ведь установил, что прилетал Мукимов осенью. А это ведь Петрушина убил левша. Прилетал? Но как он сказал: только что вернулся в Ташкент, прилетел позавчера. А если не прилетел, а приехал? Или из Новоднепровска уехал поездом, а уж потом откуда-то летел в Ташкент? Осокину ведь нипочем не установить, приезжал ли он к нам в город поездом. — Мы скоро увидимся, дорогой. Есть самолет Ташкент — Запорожье. Я завтра на нем прилечу, он прямой. А то ведь в Новоднепровск лететь с посадками-пересадками, да и не каждый день рейсы. А оттуда я на такси. Утром жди меня, дорогой. — Я встречу вас в аэропорту. С машиной. — Ой, спасибо. Значит, на два часа раньше увидимся. Ты похож на маму? — Не знаю. Люди по-разному говорят. — Ты попроси машину у Привалова. Это младший брат Андрейки. Хотя ты, наверно, не знаешь его. Вот те на! Он и Привалова знает. — Я его хорошо знаю, — сказал я. — Так и сделаю. Что-то в моем голосе ему почудилось нехорошее. А я просто подумал о том, что Привалов зря не сказал мне, что знаком с Мукимовым. — Я почему, дорогой, про его машину — если не узнаем друг друга, жди у машины. Я найду ее на стоянке. Обнимаю тебя, дорогой. Будь здоров, и счастлив, и любим. До завтра, дорогой. — До свиданья. До встречи. Неужели можно подозревать Мукимова? Даже если правая рука у него плохо работает? Хотя что я: говорил же Мелентьев Чергинцу, что Мукимов всегда левшой был, еще до ранения. Редкий случай: самолет совершил посадку минута в минуту по расписанию. Одним из первых по трапу спустился огромный, тучный, широколицый узбек. Он мог бы выступать в самой тяжелой весовой категории, вместе с Костюсем. Не-смотря на свою тучность, сбежал он по ступенькам покачивающегося под его тяжестью трапа с удивительной для мужчины такого объема ловкостью. Фибровый чемоданчик в его левой руке выглядел женской театральной сумочкой в сравнении с размерами хозяина. Ступив на бетонную плиту аэродрома, Мукимов лишь на мгновенье остановился, глянул по сторонам. Расплылось в радостной улыбке его лоснящееся лицо: он увидел нас и поспешил нам навстречу. — Здравствуйте, Фархад Мукимович, — сказал я, не зная, как поступить: взять у него чемоданчик — значит, первым протянуть руку? Передо мной стоял человек, разбирающийся в восточной литературе, которая столь чтит этикет, а это ведь, что бы ни говорили, понятие условное. У нас, например, принято ждать, пока к тебе обратится старший по возрасту, а на Востоке, кажется, наоборот: первым обязан поклониться младший. Но он был так возбужден, что, по-моему, ни о чем этом не беспокоился: стремительно пожал шоферу руку, вручил ему чемоданчик и крепко стиснул меня в объятиях. Прижал к груди, потом, взяв за плечи, отодвинул и всмотрелся в мое лицо, потом снова прижал к груди. — Ну, вылитая мать, сынок. Кто может сомневаться, что ты на нее похож? Только глупец. Или слепец. Одно лицо. Словно живая Екатерина Константиновна передо мной. Мне даже показалось, что, отпустив меня, он смахнул слезу толстой ладонью. Пока мы шли к площади, где оставили машину, Мукимов то хлопал меня тяжелой рукой по плечу, то стучал кулаком мне в спину, а около машины еще раз обнял и запихнул на заднее сиденье. Сам взгромоздился рядом. По дороге в Новоднепровск гость говорил, не умолкая. И неизменно возвращался к воспоминаниям о моей матери. Он помнил даже, в чем она бывала одета, когда приходила сперва в дом к деду Рекунову, а затем в часовенку старой польской крепости, уже тогда полуразрушенной, где Демьян Трофимович Рекунов прятал партизан Олеся и Федора. — Как она спасла нас? Уму непостижимо. Она была бы величайшим хирургом мира, если бы не эта проклятая война. Олесь Щербатенко был ранен в живот. Сейчас такую операцию бригадой делают, аппараты подключают. А ей помогал только Василек. Ты знаешь его? Он теперь сталь варит. Большой мастер! А мое плечо? Моя правая рука еще лучше стала работать, чем до ранения. И чтобы доказать силу своей правой руки, он навалился на меня всем своим огромным телом и так сдавил в объятиях, что я чуть не задохнулся! — А какая красавица! А какая сильная она была! Ночью они с Васильком вдвоем донесли Олеся до Довгалевки, когда уж он окреп немного. Вернулась и меня привела сперва к себе в барак, а потом уж организовала мажару с сеном, чтоб меня вывезти в степь. В село Каменный Брод, что за Кохановкой. Под сеном я лежал и сквозь щелочку видел, как она мне вслед смотрела. Ах, какие глаза у нее были! В жизни не встречал я женщину с такими глазами. Когда же завел я речь об обстоятельствах гибели отряда, Мукимов решительно и начисто отверг мысль о предателе. О предателе, а не о предательстве, подчеркиваю. Я же сперва не обратил внимания на это различие. По его словам, буквально за три дня до операции немцы завезли на нефтебазу горючее и, естественно, должны были усилить охрану. Поэтому сам он решительно выступал против операции. И информация от Андрея Привалова предостерегала. Но командир Волощах («Ай, какой доверчивый человек был») прекратил спор, назначив день и час операции, предложив четкий план движения отряда тремя группами («Ай-яй, обманул его кто-то, план умный был, но те две группы немцы уже ждали, потому и переправиться спокойно нам дали»). По словам Мукимова, о смерти полицая Сличко он узнал из письма Мелентьева. — Жаль, что он случайно сдох. Лучше бы я его — своими руками. — Он опять навалился на меня и посмотрел мне в глаза. — Как маму твою убили, знаешь? Я молча опустил голову. — Кто тебе рассказал? — Привалов. — Когда? — Прошлой осенью. — И что Сличко ее казнил, сказал? Я молча кивнул. — Я б его — своими руками. Я же осенью был здесь. И никто не дал знать, что он с нами по одной земле ходит. — Он вдруг схватился за голову: — Что же вы все скрытные такие? И про тебя, сынок, мне тоже никто не сказал тогда! Ай-яй, ну, как же можно так! — А что Петрушина убили, тоже не знаете? — Когда убили? Кто? — Неделю назад. А кто? Думаем, тот же, кто и Сличко отправил в овраг. — Как отправил? А Ваня Мелентьев написал, что случайно тот сдох. «Пусть разрушится то колесо, чье вращение ложь. То, что криво кружится, неся в исступлении ложь!» — Это тоже Навои? — спросил я. — Нет, прекрасных поэтов много было. Это Агахи. До самого Новоднепровска он читал нам с шофером прекрасные и мудрые стихи,на столетия пережившее своих создателей. «Чистота человеческих сердец остается навеки, а грязные души сгнивают раньше, чем тела, где они гнездятся», — думал я, слушая своего образованного гостя. «Пусть разрушится то колесо, чье вращение ложь», — это ведь к нам обращается из древности поэт. При въезде в Новоднепровск Мукимов попросил: — Если можно, сначала поедем туда, где была нефтебаза. — Там сейчас вода. — Ну так что же? Мы подъехали к обрыву над разлившимся морем Днепром. — Это там было, — сказал я, указывая рукой вниз. — Так распорядилась история. Когда заполняли водохранилище, иначе нельзя было. — Да, да… История не щадит и человеческие сердца, — сказал он, будто подслушал мои мысли, — что уж говорить о камнях… Мукимов открыл чемоданчик на переднем сиденье, извлек из него две огромные алые розы и бросил их вниз, в воду. Вода была черной, холодной, жестокой, как всегда по ранней весне. Розы медленно поплыли по воде, теряя крупные лепестки. Алые и словно горячие, они, казалось, согревали воду, отдавая ей тепло земли. Алые и горячие! Как кровь, оросившая ту землю, что сейчас скрывалась под этой черной водой. Лепестки роз плыли в разные стороны, то расходясь далеко друг от друга, то сближаясь, чтобы снова разойтись. Алые ташкентские розы на черной днепровской воде… — Возвращение — всегда печаль, — сказал он. А я отошел к машине, оставив Мукимова одного. Думал, что он нуждается в одиночестве. Однако гость, будто испугавшись, что мы бросим его тут одного, поспешил за мной. — А теперь в гостиницу, — сказал он, плюхнувшись на заднее сиденье, отчего «Волга» закачалась на рессорах. — Ну уж нет, — возразил я. — Вы — мой гость. — Я не стесню тебя, сынок? — навалился он на меня. — Холостякам жить проще. У меня же еще два дома: горздрав да больница. С нескрываемой благодарностью он посмотрел на меня. А меня мучило сознание, что в мыслях я еще недавно оскорблял недоверием такого замечательного человека. Дома он достал из чемоданчика две пиалы с причудливыми рисунками, фарфоровый чайник, квадратное полотенце, вяленую дыню на вощеной бумаге. Все это отнес на кухню, аккуратно сложил на столе. Чемоданчик остался открытым. Я невольно заглянул в него: диковинной показалась мне обложка книжки, лежавшей на дне чемоданчика. Прочитать название я, понятно, не смог: откуда мне знать эту витиеватую вязь? — Автор жил в первой половине пятнадцатого века, пояснил мне Мукимов, вернувшийся с кухни. — Ибн Арабшах. Тимур привез его в Самарканд из Багдада. Это мне подарок. Студенты нашли где-то на юге республики. К сожалению, один томик, а их — несколько. «Факихат альхулафа», что означает: «Приятный плод для халифов». Сказки северного Ирана. Такой замысловатый язык, что мои студенты схватились за головы. Но, как говорят на Востоке, за голову хватается тот, кто поздно вспоминает о ней. До сих пор так говорят. — Фархад Мукимович… — Сынок, зови меня дядя Федор. Так меня и в отряде звали — Федей, а то и просто Мукимом. Примерь-ка. Под книжкой оказался сложенный вчетверо цветастый шелковый халат. — Мне? Что вы? Зачем? Такой дорогой подарок! — Я улыбнулся и, чтоб успокоить гостя, попытался пошутить: — Я даже от своих пациентов таких дорогих презентов не принимаю. — Правильно! Понимаю! Не хватает тюбетейки? Но кто сказал, что ее нет? Тюбетейка была расшита серебряной нитью. — Вот я уеду, а ты как-нибудь вечером будешь коротать время, наденешь халат и тюбетейку, заваришь чай — как я научу — и вспомнишь своего утомительного гостя. А теперь — чай. Только чай с дороги. И не косись на сервант, — он похлопал себя по левой стороне пухлой груди, — крепкое пью раз в году. Когда встречаюсь с теми, с кем воевал, партизанил. — Федор Мукимович… дядя Федя, хотите встретиться со своими товарищами? — Почему же нет? Я приехал прежде всего встретиться с тобой. С ними я встречался. По отдельности. А тут Ваня Мелентьев написал, что надо бы посидеть всем вместе, потолковать. Что-то он хочет выяснить, проверить. Так я не прочь. — Что-то выяснить? Значит, он не исключает, что отряд предали? — И я не исключаю. Даже уверен в этом. Но только никто из наших. Кто-то в городе. В плавнях предателя не было. А за весь город кто может поручиться? Он накинул на меня халат: — Будто по заказу шили. Сделай милость, позвони Мелентьеву. Скажи, что я приехал. То-то он удивится. И, если не возражаешь, пригласи его к нам. Я такой чай устрою! Ваня говорит, что мой чай молодость ему возвращает. По дороге в аэропорт я решил, что приглашу гостя в наш новый ресторан «Сичь». Но пришлось согласиться с ним, и я позвонил на нефтебазу.24
Мелентьев несказанно обрадовался. Обещал бросить все свои дела и немедленно приехать. — Могу встретить вас, чтобы не искали. — Найду, выезжаю. — Он первым положил трубку. Пока я размышлял, как бы пригласить на чай и Привалова, Мукимов, словно прочитав мои мысли, предложил: — Ты позвони Привалову, поблагодари от моего имени за машину и спроси, не выкроит ли часок из своего драгоценного времени на чаепитие. Спустя полчаса мы накрыли журнальный столик на четверых. Пиалы поставили перед гостями — Мелентьевым и Приваловым. Мукимов возился с чаем на кухне, я подсоблял ему, пытаясь запомнить рецепт приготовления напитка. С первого раза запомнить — задача безнадежная. Сперва фарфоровый чайник заливался крутым кипятком, затем высушивался над газовой плитой, потом чай из разных пакетиков накладывался какими-то порциями, создавалась жижица, густела под пристальным взглядом Мукимова, он подливал воду, жижица снова густела, досыпал заварки из очередного пакетика, снова заглядывал в чайник, то укрывал его полотенцем, то снимал с плиты, то увеличивал пламя. Чай превзошел все ожидания. Мукимов запретил портить его сахаром, и я как сластена налег на вяленую дыню. Мелентьев утверждал, что от такого чая он сразу молодеет. Привалов взял с меня клятвенное обещание освоить эту науку, пока есть такой учитель. А «учитель» сообщил, что обязан отбыть послезавтра, самолет из Запорожья — в девять вечера, и утром следующего дня Мукимов уже должен быть на научной конференции, посвященной связи литератур Средней Азии и Ближнего Востока в раннем средневековье. За беседой о восточных нравах и восточной поэзии, за воспоминаниями о давних событиях время летело незаметно. Но я чувствовал, что Мукимов и Мелентьев подводят нас к какому-то неожиданному сообщению. Из их воспоминаний удивило меня лишь то, что, оказывается, Андрея Привалова оба они никогда не видели, этого героического семнадцатилетнего пария, которого оккупанты возили на тачанке лютой зимой, раздетого и привязанного к бочке, по притихшему Новоднепровску — в устрашение всем. Комсомольскую группу Привалова немцам удалось ликвидировать — неужели тоже с помощью полицая Сличко? — уж после гибели отряда. Первым к делу подошел не Мелентьев, как я предполагал, а Мукимов. — Почему бы нам, уважаемый Святослав Владимирович, в связи со всеми этими событиями, взбудоражившими город, не провести, как выражаются юристы, следственный эксперимент? — Что вы имеете в виду? — мгновенно откликнулся Привалов. — С приездом Феди мы, все четверо, — тут же включился Мелентьев, — в сборе. Вы выделяете еще пятерых — Сережа Чергинец наверняка согласится, если хотите, я сам его попрошу, доктор — тоже, — он посмотрел на меня, и я утвердительно закивал головой, — еще кого-нибудь, кому доверяете, и получится как раз наша группа из девяти человек. Та, что не нарвалась на охрану. — Но я пока не очень-то представляю, для чего все это? — Привалов явно не спешил соглашаться, хотя, безусловно, хитрил: он же сам рассказывал мне о визите Мелентьева к Костюченко и рассчитывал присоединиться к четверым партизанам. — Ну, чего же тут непонятного, уважаемый? — заторопился Мукимов. — Мы повторим каждый свои действия. А за погибших — пятеро наших дорогих друзей. По нашим подсказкам, конечно. — Но ведь та нефтебаза под водой? — Мы выбрали подходящее место, — опять включился Мелентьев. — За Довгалевкой, на берегу. Такой же склон, камни, канавы. Вот и Федя видел. «Значит, Мукимов видел это место осенью, в свой предыдущий приезд, — думал я. — Значит, Мелентьев, беседуя с Чергинцом, уже знал, что рано или поздно они, может быть, и без нас, проведут этот свой… эксперимент. Значит, они сами хотят в чем-то убедиться. Но в чем? Ведь оба так решительно утверждают, что предателя в их группе не могло быть». Я спросил, обращаясь к Привалову: — А не является ли это нарушением каких-то законов? Но прокурор не успел мне ответить. — Я задавал такой же вопрос вашему помощнику Костюченко, — сказал Мелентьев. — У него никаких возражений не было. — Послушай, сынок, — поддержал его Мукимов, — наш эксперимент проводится неофициально. Не в порядке следствия. Это наше личное дело. Я тоже консультировался у специалистов в юриспруденции. Заблаговременно. Мне показалось, что эта идея родилась у него, но осенью он поделился ею только с Мелентьевым: с Балябой вообще не встречался, а если бы ввели они тогда в курс Гурбу, то, видимо, упомянули бы сегодня об этом. — Ну, хорошо, — вроде бы нерешительно согласился Привалов. — Насколько мне известно, доктор начал недавно собирать материал о деятельности партизанского отряда… Я снова утвердительно кивнул. — …И ему будет полезно послушать всех вас, как бы окунуться в атмосферу, чтобы лучше потом написать. — Ай-яй, сынок дорогой, какой же ты молодец! Что же ты сразу мне не сказал? Мы же поможем тебе. Все поможем. Я тебе свои записки послевоенные пришлю. С сорок восьмого года стал понемножку записывать. Пока по больницам странствовал, не знал, сколько еще лет судьба отмерила, да за память опасался: от всех этих операций да уколов она не улучшается. «Я завязнул в земле, и ни шагу вперед, но я жажду, чтоб понял меня мой народ». — Это Навои или Агахи? — спросил я. — Яссави, — улыбнулся Мукимов. — А вот что говорил о геройстве Пахлаван Махмуд, это, может быть, пригодится тебе, дорогой: «Мы такие, что нас не столкнуть и слонам. Как в домбру, бейте в небо, чтоб славу воздать нам. Муравей, очутившийся в наших рядах, Превратится во льва, страшен будет врагам». — Вы хотите сказать, что муравей — это я? — Что ты, что ты? — забеспокоился Мукимов. — Каждый из нас по отдельности — муравей. Но когда мы все вместе, тогда и страшно врагам. — Ну хорошо, — повторил Привалов. — Я приму меры, чтобы никто не мешал. Вы хотите завтра? — Лучше послезавтра. Успеем подготовиться, а улетаю я ведь вечером. Ваня, ты согласен со мной? — Безусловно, — Мелентьев глубоко вздохнул. — А если они не захотят, мы и сами сможем. Нельзя больше терпеть. Пока все было тихо — ладно. А сейчас не имеем права. Нельзя откладывать. Люди подозревают одного… одного из нас. С этим надо покончить. «Не захотят? — задумался я. — Он сомневается в Балябе и Гурбе? Но это значит, что другие могут так же сомневаться в нем и Мукимове?» Итак, решение было принято, место выбрано, час назначен. А чай допит до последней капли.Все долгие послевоенные годы Мукимов жил воспоминаниями о партизанском прошлом, но оказалось, что его память лучше хранит удачные акции, радостные минуты успеха, нежели моменты, связанные с последней трагической операцией. У него было, конечно, свое представление о случившемся, которое казалось ему абсолютно ясным, хотя основывалось на догадках. Построить логичную версию он и не пытался, так как понимал, что для этого недостает фактов. Приказ о роспуске отряда, об уходе из плавней и о нападении на нефтебазу передал Волощаху последний связной из центра. Встретился он с командиром лишь раз и без свидетелей. Мукимов, как и многие в отряде, знал о прибытии связного, но не видел его. Информацию об ожидавшемся появлении связного принял радист. И об этом Мукимов знал, но не знал, что именно сообщил радист командиру. Исчезновение радиста незадолго до появления связного Мукимова не удивило: готовя отряд к уходу из плавней, Волощах обязан был позаботиться о радиопередатчике, поэтому наверняка и отправил радиста вместе с рацией загодя. Что же касается операции на нефтебазе, Мукимов исходил из очевидной логики. Отряд практически прекращал свое существование. Обстановка на фронте складывалась таким образом, что предстоящей зимой Красная Армия наверняка освободит Приднепровье, поэтому партизанский отряд будет просто не нужен. Уход из плавней неизбежен и предопределен всем развитием событий. Но расходиться абы как, ради собственного спасения, не нанести врагу последний удар, — разве это логично? По убеждению Мукимова, отряд обязан был напоследок совершить нечто такое, что подвело бы итог его деятельности. Два года терзать врага и уйти, не нанеся последний удар? Если бы Мукимов сам командовал отрядом, он бы такого не допустил. Не будь приказа о нападении на нефтебазу, Мукимов — и наверняка его бы многие поддержали — поставил бы перед командиром вопрос: пусть не весь отряд, но какая-то его часть должна совершить налет. Считаете, что на нефтебазу — слишком рискованно? Давайте определим другой объект. Вот почему Мукимову все казалось ясным: он был уверен, что Волощах рассуждал точно так же. Но ведь приказ центрального штаба был. И именно в центре выбрали объект для нападения. Причем, по мысли Мукимова, выбрали из тех объектов, которые предложил Волощах. Иначе быть не могло, ибо в центре об обстановке в Новоднепровске имели весьма смутное представление. Почему операция провалилась? Мукимов отвечал себе так: причины никому не известны, не изучены, а изучить их сейчас невозможно. То ли план составлен неудачно, то ли подготовка оказалась недостаточно основательной, то ли плохо сработала разведка. Всякое могло быть в те времена. И что бы ни говорили сейчас, не учитывать чувства людей того времени, считал Мукимов, кощунственно и безнравственно. Привалов понимал, что инсценировка может дать неожиданный результат, но тем более необходимо не упускать события из-под контроля. В конце концов не он задумал это, пожалуй, к его возражениям партизаны и не прислушались бы. Однако и возражать в сложившейся ситуации было бы нелепо и с точки зрения интересов дела. Выводов ведь может появиться только два: либо убийца Петрушина из этой четверки, либо… Но тогда где его искать? Он вызвал к себе Осокина, но еще до его прихода твердо решил: никого из работников милиции не включать в состав «экспериментальной девятки», подчеркивая тем самым неофициальный характер инсценировки. Вот как выглядел список, составленный им: Мукимов, Мелентьев, Гурба, Баляба, Чергинец, Малыха, Елышев, Рябинин, Привалов. Да, чаепитие у меня оказалось для него весьма кстати, он мог присутствовать не как официальное лицо, не как прокурор, а как брат Андрея Привалова. — Как вы думаете, доктор, это не будет ошибкой с моей стороны? — спросил он у меня по телефону. Пожалуй, впервые он так откровенно советовался со мной. — Убежден, что нет. К тому же, насколько я понял, у вас с Фархадом Мукимовичем давно сложились дружеские отношения, — тем самым я намекнул ему на то, что он раньше, до звонка из Ташкента, почему-то мне об этом не рассказывал. — Да, мы давно знакомы. И признаю, что должен был и вас с ним познакомить гораздо раньше. Но, может быть, получилось неплохо: хоть вы пока непредубежденный человек, а то полюбили бы его так, что подозревали бы только троих оставшихся. — А я вообще никого из них не подозреваю. Предателя в отряде не было, было предательство извне или провокация, как хотите называйте, — высказал я точку зрения Мукимова. — Ну, конечно, и Петрушина никто не убивал, — с иронией в голосе произнес Привалов. Вынужденный признать его правоту, я вдруг вспомнил о сомнениях Мелентьева. — А что, если Баляба или Гурба не согласятся участвовать? — Прежде всего, это не наша забота. Но я все же предприму что-нибудь, чтобы помочь Мелентьеву уговорить их. Все, доктор, извините, дела. — И он положил трубку. О том, что он предпринял, я узнал позже. Для начала Привалов позвонил в казарму Елышеву и объяснил, что нужна его помощь как человека военного и знающего. Затем прокурор решил с помощью Балябы-младшего уговорить Федора Корнеевича, а Малыху и Михаила Петровича Гурбу собирался пригласить сам, точнее — Малыху, а уж через него — Гурбу. Впрочем, все это оказалось излишним. Ни Гурба, ни Баляба не отказали Мелентьеву, да и как они могли? Ведь это сразу бы означало поставить себя под подозрение и обидеть к тому же старых товарищей. Осокин почему-то запаздывал. Это было ему настолько несвойственно, что Привалов начал даже беспокоиться. Однако он давно уже привык от любого беспокойства отвлекаться делом. Оставшись один в кабинете, он прошел в темный угол, где стояло старое кресло, и уютно в нем устроился. Что же может дать эта инсценировка? Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. Так гласит одно из основных положений римского права. Попытался вспомнить, как это звучит по-латыни. Странно, что удалось: «Ei incurnbit, probatio, qui dicit, non qui negat». Как это говорил Мефистофель в сцене Вальпургиевой ночи: «Ты думаешь, что двигаешь, а двигают тебя…» И в этот момент в кабинет без стука — и это уже было ему абсолютно несвойственно — влетел лейтенант Осокин. — У него были такие глаза, — рассказал мне потом Привалов, — какие, вероятно, были у Ньютона, когда яблоко упало с дерева.
25
На протяжении всего разговора с Гурбой, такого долгого, утомительного для Малыхи, Гришка ни разу не вспомнил о мешке, унесенном из петрушинского дома, о стреляной гильзе с помятой пулей. А когда вспомнил, когда представил себе, что ждет его Вера и надо будет при ней доставать из-под кровати мешок, то вспомнил и о том, что гильза из того же Надькиного дома — в кармане. Небольшого усилия хватило, чтобы выдернуть пулю из гильзы. На мозолистую ладонь высыпались белые колючие камешки и замерцали в сумеречном свете. От удивления Малыха застыл и медленно поднес ладонь чуть ли не к самому своему носу. Никогда в жизни не держал он в руках драгоценности, тем более не мог понять, чем отличаются они, все эти сапфиры, бриллианты да изумруды, друг от друга. Однако в этот миг безошибочно понял, что именно лежит на его широкой шершавой ладони. А догадавшись, аккуратно ссыпал мерцающие колючки в гильзу, воткнул пулю на место и, шумно вздохнув, направился к крыльцу. Хотя Малыха не предполагал, что застанет в своей комнатушке обеих Вериных сестер, он почему-то и не удивился их присутствию. Где же им быть, как не там, где деньгами запахло? Ни слова не говоря, он скинул у двери сапоги, неспешно стянул с плеч штормовку, повесил на гвоздь, который, как обычно, едва не выпал из гнезда — пришлось вдавить его, нажав большим пальцем на шляпку. Вера и Софья молча следили за ним. И лишь Надежда прошипела: — Явился… перекати-поле. Он, конечно, не ответил, прошел в носках к кровати и заглянул под нее, даже пошарил рукой, вроде бы ища домашние тапки. Не нашел. Нагнулся и сразу увидел, что мешка нет там, где оставил: в углу между стеной и ножкой кровати. Но в центре, у стены стояло ведро с мокрой тряпкой: разве здесь ему место? Вытащил ведро и под мокрой тряпкой сразу увидел свой мешок. Понял, что Верка уже знает… знает то, чего сам он еще не знал. Три сестры неотрывно следили за ним. Он нашел наконец свои тапки под табуретом, надел их и вынес ведро за дверь, а вернулся с мешком. — Вор! — увидев это, завопила Надежда. — Гриша, отдай подобру, — внятно произнесла Софья, — мы договорились: половину Вере отдадим, нам с Надей — по четверти. — Отдай им, Гриша, — попросила робко и жалобно Вера. — Нам с тобой этой половины на весь век хватит. Все, всё что угодно вытерпел бы, казалось, Малыха. От тех, двоих, вытерпел бы угрозы, уговоры, проклятья и обещания. Но чтобы Верка… с ними заодно… Верка, которой он поверил… что она не такая, как все это сличковское отродье, поверил… только что защищал ее с пеной у рта перед Гурбой… как сказал-то Михаил Петрович: позарились на сличковское добро… и еще предупреждал: кровь заговорит, увидишь, и в Верке заговорит… Вот и заговорила! — За-го-во-ри-ла! — неожиданно для самого себя заорал Малыха. — И ты — как они! Вот как заговорила! Все позабыла, едва золото поманило! Ну-ка, гадюки, посмотрим, что здесь. Посмотрим. Обеими руками он затряс мешок посреди комнаты. И оттуда посыпались черепки глиняного горшка, рулон золотой фольги, фанерки — одна расщепленная… — И впрямь — золото?! — Малыха ошалело смотрел на пол. — Отдай! — завопила Надежда и с растопыренными пальцами кинулась было вниз. Но Малыха успел схватить ее за руку, мертвой хваткой сжал запястье. Надежда пыталась дотянуться до кучи одной рукой, и тогда Малыха вывернул ей руку за спину и ударом в спину толкнул на кровать. — Вор! Изверг! — зарыдала Надежда, тряся поврежденной рукой. — К ней! Обе! На кровать! — крикнул Малыха двум другим сестрам. Сейчас все они для него были одинаковыми. Сличковское отродье! И Верка — тоже. Он выхватил из кармана рыбацкий складной нож. — Та-ак, — прошипела Софья, — вот уже до чего дошел. Старшая сестра потянула Веру за собой, на кровать. А Малыха в остервенении стал расщеплять ножом фанерки — одну за другой, — и из каждой падали на пол золотые пластины. Все! Малыха стоял взъерошенный, мокрый, зажав рукоятку ножа в кулаке, словно готовый защищаться от нападения. — Ты же на всю жизнь себя бы обеспечил, дурной ты наш, — донесся до него, казалось, откуда-то издалека вкрадчивый голос Софьи. — Подумай, Гриша, подумай. — Не думай, Гриша, ни о чем не думай, — кинулась к нему на шею Вера, прижалась к подбородку мокрым от слез лицом. — Прости меня, прости. Ум за разум зашел! Не надо, ничего нам не надо. Отдай им все. Все отдай! — Как ты могла, как ты могла, — шептал Малыха. — Это же все… все кровью оплачено… все в крови… А ты… Я ж поверил тебе… Вдруг он почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо. И почувствовал, что рука — не врага, а друга. Обернулся. Елышев? Как он-то здесь оказался? — Не бойся, — сказал Елышев. — Кого мне бояться? — Этих не бойся. — Елышев кивнул в сторону сестер, сжавшихся на кровати. Охнула Софья. Елышев усмехнулся, и Малыха понял, что это Софья или Надежда… пожалуй, Софья предупредила Елышева. С чем он пришел? С ним обещали поделиться? Неужели и он? Малыха отстранился от Елышева. Поставил табурет над кучей, лежащей на полу. Сел, не выпуская ножа из рук. Вера опустилась рядом с ним на колени. — Уходите, обе уходите, — решительным жестом Елышев показал обеим сестрам на дверь. Софья вышла тихо, молча, как и вошла. Надежда обернулась в двери, на пороге. — Ну, берегись, Малыха. Смотри, чтоб не случилось с тобой… как… как с Петрушиным. Будьте вы все прокляты! Дверь захлопнулась. Елышев бросился было за Надеждой. — Как с Петрушиным, говоришь? Ну-ка, подожди… — Стой! — позвал его Малыха. — Не торопись. Стой, говорю! Елышев обернулся. — Ты же слышал, Гриша, что она сказала? Значит, что-то знает? Значит, надо ее к прокурору! — Не торопись. Куда она денется? — Гриша, не могла она, — простонала Вера, — не могла. Только пугать может, а на убийство… не могла. — А ты? Ты могла? — встрепенулся Малыха. — Повариться могла на кровавые железки? Елышев вышел, придержав за собой дверь.26
История новоднепровского сопротивления — партизанского движения в крае и подпольной работы в городе — является, как могли бы написать в научной работе или «очерках по…», обычной, рядовой страницей в общей истории героического сопротивления советского народа оккупантам. Как будто в такой общей истории могут быть рядовые страницы! Однако, объективно говоря, новоднепровские партизаны и подпольщики действовали в таких условиях, что совершить нечто из ряда вон выходящее у них и возможности не было. К слову, среди прочих условий оказались и, так сказать, личностные или местные, то есть характерные для этого района, для его населения. В Новоднепровск оккупанты вошли семнадцатого августа сорок первого года. И даже тогда, когда бои велись непосредственно на подступах к городу — на хлебных полях ингулецких степей, — мало кто верил, что Новоднепровск придется сдать врагу. Ждали какого-то чуда, полагали, что где-то кто-то обязательно остановит наступающего врага. Батальон ополченцев стоял насмерть, а командование уже выводило за Днепр регулярные, изрядно потрепанные части. Город фактически был брошен на произвол судьбы, отнюдь не милостивой по отношению к нему. Первые танки с белыми тевтонскими крестами появились на криворожском шоссе неожиданно для многих: они словно свалились с задымленного неба и застыли возле Успенской церкви на самом краю Богучарова. Да, они появились столь неожиданно, что начальник штаба обороны в спешке забыл изъять из ящика своего рабочего письменного стола списки коммунистов и комсомольцев, остававшихся для подпольной работы в городе. Благо уборщица тетя Тася, последней покидавшая здание горкома на Октябрьской площади, заглянула в этот стол и забрала, без разбора, бумаги из всех ящиков. Сгребла их в подол фартука и, прибежав домой, в обветшавший барак на Зализнице, уложила в жестяную коробку из-под монпансье, после чего закопала под своим окном, возле фундамента. Спустя два с половиной года, когда город освободили, а тетя Тася вернулась из села, где пряталась от оккупантов, коробку из-под монпансье выкопали. Однако за такой немалый срок ржавчина так разъела жестяную коробку, что бумаги по сути оказались уничтоженными: с барачной крыши стекала дождевая вода, и над этим бесценным кладом, как говорят в этом крае — ховашкой, лужи нередко стояли по несколько дней. Тогда, в сорок четвертом году, не существовало изощренных способов реставрации документов, так что бумаги восстановить не удалось. А среди них, по утверждению тети Таси, находился и план всей подпольной работы. Тем не менее не составило труда установить, что план этот был составлен неумело, в чем, правда, нет ничего удивительного. Люди, составлявшие его, не имели никакого опыта в таком деле. Кроме того, составлялся план с расчетом на скорое освобождение города — на годы оккупации никто не рассчитывал. План предусматривал организацию трех подпольных групп. Обязанности, задачи этих групп так четко разграничивались, что группы оказывались по существу абсолютно самостоятельными, не нуждавшимися в связи друг с другом. Зато непременно должны были — каждая в отдельности, независимо друг от друга — сноситься с армейским командованием через связных. Но командование-то откатилось далеко на восток от Новоднепровска, группы быстро потеряли связь с ним. Общая же обстановка в городе не позволяла подпольщикам из одной группы искать своих товарищей из других групп, во всяком случае — до середины сорок второго года. Первая группа, вскоре прекратившая существование, имела задачей вывод из строя немецкой техники. Впоследствии прекращение деятельности этой группы связали с продвижением техники на восток. Если же быть точным, люди гибли, не добиваясь порой поставленной цели. Отсутствие опыта нелегко возместить самоотверженностью. Второй группе было поручено осуществлять диверсии на железной дороге, в депо, на мостах, которых в самом городе и в буерачной степи, окружавшей город, было достаточно много. Поскольку в эту группу входили в основном рабочие с Зализницы, немцы довольно быстро ликвидировали ее — где им было искать диверсантов, как не на железнодорожной станции и в депо, а здесь-то все подпольщики и работали. Не обошлось к тому же и без добровольных помощников: предателей немцы тоже устроили на работу в пристанционных службах — на самые, что называется, хлебные должности. Третья группа распалась сама собой. В ее задачу входило уничтожение продовольственных и вещевых складов, которые, по предположению составителей плана, немцы должны были организовать в городе. Но оккупанты обошлись без складов. Весной сорок второго года подпольный обком партии предпринял попытку восстановить подполье в Новоднепровске, — организованное подполье. Между тем, стихийное подполье существовало в городе с самой первой ночи оккупации и до последней ночи. В Новоднепровске остался признанный заводила яруговских ребят Андрей Привалов, которого — по счастливой ошибке составителей общего плана — не включили ни в одну из трех вышеперечисленных групп, и Андрей начал действовать самостоятельно. Кроме того, в плавнях укрылись четверо красноармейцев, бежавших из плена, и среди них уроженец Новоднепровска Волощах. Каким-то чудом им удалось перезимовать: по-видимому, лишь из-за того, что, занятые ликвидацией подпольных групп в городе, оккупанты до степных хуторов в первую зиму не добрались. В городе оставались родственники Волощаха, благодаря чему четверке из плавней удалось выйти на человека, которому они могли безоговорочно доверять. Этот человек был кузнец Рекунов, проживавший в Нижнем городе. Его хата стояла настолько близко к берегу, что из окон были видны, как на ладони, все плавни. А Рекунов знал о группе, сколоченной Андреем Приваловым, потому что в этой группе оказались его племянники. Их мать, сестра Рекунова, пришла однажды к брату и со слезами на глазах рассказала о ночных отлучках сыновей. Те были совсем еще юнцами — старшему, сверстнику Андрея Привалова, только что стукнуло семнадцать. Мать просила брата повлиять на парней. Словом, можно определенно считать, что с этой встречи кузнеца Рекунова с сестрой и началась история новоднепровского партизанского отряда, располагавшегося в плавнях и связанного — через кузнеца Рекунова — с подпольной комсомольской группой. Правда, зимой сорок первого года в отряде было всего четверо бойцов, ничего особенного они совершить не успели, ибо ближе к концу зимы им пришлось все же уйти на дальние хутора, чтобы дождаться поздней весны, когда спадет вода в Днепре, вернуться в плавни, создать новую базу и восстановить связи с городом. Следующую зиму они провели в степи, но к тому времени в отряде уже было почти тридцать человек, и за лето отряд успел совершить несколько заметных акций. Настолько заметных, что немцы с нетерпением дожидались начала зимы, чтобы прочесать плавни. Летом сорок третьего года отряд насчитывал сорок три человека, что установлено документально. Периодически партизанам приходилось сниматься с насиженного, обжитого места и уходить дальше в плавни, в самую глушь, по не проходило недели, чтобы отряд не напоминал оккупантам о своем существовании. Подпольный обком партии поставил перед отрядом Волощаха практически одну задачу: проводить диверсии на днепровских переправах в районе Новоднепровска и близлежащих рудников. Однако отряд этим не ограничивался, да и жизнь вносила коррективы, особенно в осенние месяцы, с наступлением поры дождей и холодов. Летом сорок второго года немцам удалось, согнав на строительство множество народа, соорудить переправу через плавни — с двумя деревянными мостами и длиннющей высоченной насыпной дорогой между этими мостами. Дорогу охранял целый батальон, полицаям этого не доверяли. Диверсии на переправе оказывались чрезвычайно рискованным предприятием, поэтому отряд Волощаха появлялся в этом районе крайне редко, но всякий раз с исключительным по важности заданием. К этому времени, к лету сорок второго, уже действовали отряды в степи, а в городе не давали покоя немцам комсомольцы Привалова. Узнав об исчезновении инженера, согласившегося восстановить домну на «Южстали», Рекунов ни минуты не сомневался, куда мог подеваться этот инженер. Наверняка Андрей Привалов еще до войны через отца был знаком с инженером, кое-что знал о его образе жизни, привычках, да и подозрений не мог вызвать, — вот и сумел убрать предателя. Искать его нужно далеко — где-нибудь под Херсоном, в днепровской воде. Уничтожен электрокабель, привезенный из Германии, — это тоже наверняка произошло не без участия Андрейки и племяшей Рекунова. И совершенно точно Рекунов знал вот о чем. На берегу Богучарки, за «Южсталью», немцы наладили ремонт танков. По этой речке на специально сооруженном плоту Андрей пробрался в мастерскую и поджег цистерны с бензином. Конечно, все находившиеся там танки сгорели. А одна девчонка из комсомольской группы проникла как-то на нефтебазу и открыла краны двух емкостей — всю ночь бежал бензин по бурьянам в днепровскую воду. Наконец, именно Андрей привел в дом к деду Легейде скрывавшихся в плавнях летчиков со сбитого немцами самолета. О многом знал Рекунов, хотя лично знал не многих подпольщиков. Кто надолго вывел из строя все-таки восстановленную доменную печь? Ведь когда все уже было готово к ее пуску, кто-то же взорвал водяной затвор. В прокатном цехе, на листовом стане, как только ставили его под нагрузку, постоянно перегорал мотор. Значит, кто-то умудрялся перерезать подземные кабели. Кто-то подрезал шланги воздушной системы пневматической станции — это вывело из строя заводское энергохозяйство. Несмотря ни на что, оккупанты не отказывались от планов восстановить металлургический завод, надеялись организовать там хотя бы производство снарядов. Однако удавалось им производить лишь напильники да костыли для рельсов. После войны местные краеведы пытались составить единую картину новоднепровского сопротивления, даже указание на этот счет поступило из горкома в местную газету. Но цельной картины не получалось. Многие нити, или пружины, сходились к деду Рекунову, но все же не хватало законных оснований утверждать, что этот беспартийный кузнец, отец и дед погибших и казненных подпольщиков, был руководителем всего новоднепровского подполья. А он руководителем и не был. Он даже отрицал все, что ему пытались приписать, соглашаясь лишь со скромной ролью связного. Ясной картины не возникало. Рекунов же еще и подчеркивал, что вообще не имеет понятия о том, что делалось и кто действовал на Зализнице. А там, уже после быстрого разгрома немцами оставленной группы, акции продолжались на протяжении всего периода оккупации. Да и группа, просуществовавшая всего два месяца, кое-что успела сделать: заминировала, например, магнитными минами эшелон с горючим, и в пожаре, длившемся почти десять часов, сгорели и другие составы — с боеприпасами, с танками, — пламя полыхало над Зализницей во все небо. И позже, после расстрелов, не было оккупантам покоя на железной дороге. Кто-то забивал шлаком дымогарные трубы на паровозах, засыпал буксы песком, а буксовые подшипники заливал баббитом с примесью железных стружек. Кто-то направил локомотив на ненаведенный поворотный круг. Тот же Рекунов ничего не знал, да и не мог знать, откуда весной сорок третьего, когда уже был казнен Андрей Привалов и погибли племянники кузнеца, взялись в городе листовки, призывавшие саботировать отправку молодежи в Германию. Или пожар в городской управе летом того же года. Впоследствии выяснили, что поджог — дело рук одного из охранников. Но если бы деда Рекунова сегодня спросили, способен ли этот охранник — лысоватый богучаровец, вечно хмурый, неразговорчивый — на такое, дед замахал бы своими огромными ручищами, да, глядишь, еще и добавил бы: «Эта гнида?» Слишком многое выглядело неоднозначным, потому что слишком много человеческих судеб переплетались в клубок, создавая пеструю картину уклада жизни города в годы оккупации. Одни врачи, с риском для себя и своих детей, выписывали молодым людям, подлежащим отправке в Германию, справки о несуществующих заразных болезнях, одевали в гипс здоровые руки и ноги, впрыскивали под кожу керосин, чтобы безобразно распухали ноги. Но находились другие, и тоже в белых халатах, которые предавали тех врачей. Многие вредили немцам как только могли. Но находились такие, что ходили по домам и уговаривали работать на немцев, а не соглашавшихся выдавали. Поэтому одни ждали освобождения, другие страшились прихода Красной Армии. Одни шли навстречу освободителям, другие бежали от них на запад. Было много голодных детских ртов. Они мечтали о засохшей кукурузной лепешке. И, значит, надо было где-то работать, зарабатывать на крохи пищи, которые не могли насытить, а лишь могли утолить вечное чувство голода. Из Новоднепровска успели до прихода врага эвакуировать всего одну десятую часть населения, оставшиеся должны же были как-то существовать. Хотя бы для того они должны были сохранить свои жизни, чтобы по освобождении нашлись руки, способные в кратчайший срок восстановить «Южсталь». Но разве человек, пытающийся сохранить жизнь, думает о том, что жизнь его нужна не только ему? Люди по-разному решали свои проблемы, по, решая их, одни оставались людьми, другие превращались в нелюдей. Решив воссоздать историю новоднепровского сопротивления, доктор Рябинин столкнулся с таким количеством неразрешимых вроде бы вопросов, что порой готов был отказаться от осуществления своей цели. Впрочем, он утешал себя тем, что сможет справиться хотя бы с решением частных задач, пусть даже общей картины ему восстановить и не удастся.Трудно передать мое состояние в тот день. Еще за завтраком я пытался определить реакцию Мукимова на предстоящий эксперимент, но и тени беспокойства не заметил на его широком лице. Пока я жарил яичницу с колбасой, он колдовал над своим чайником, а за едой весело болтал, перескакивая из древности в средние века и обратно, вспоминая смешные ответы студентов на экзаменах и требуя от меня клятвенного обещания провести отпуск в Ташкенте. Это был, пожалуй, первый и, как выяснилось впоследствии, последний наш разговор, в котором Фархад Мукимович и не заикнулся о событиях военных лет. Мой рабочий день в горздраве тянулся дольше обычного. Вероятно, потому, что я никак не мог сосредоточиться на делах, которых, по счастью, было не так много, как всегда. Еще накануне я договорился, что вечерний обход в яруговской больнице совершит за меня коллега. Так что весь день, избавленный от медицинских забот, я переживал чувство причастности к чему-то высокому и одновременно трагическому, что с детских лет оставалось для меня самым дорогим и важным. Я был твердо убежден, что паше поколение, чье детство забрала война, именно по этой причине чище и жизнелюбивей родившихся и выросших в мирное время. Но именно поэтому я испытывал чувство страха, как бы не случилось сегодня нечто такое, что способно поколебать мои представления о людях, спасших наше детство. Все, прошедшие войну, в моем сознании делились на героев и врагов, на своих и чужих, на «наших» и «не наших». И если в мирной жизни я допускал неоднородность человеческой натуры, то война, казалось мне, красит людей лишь в белый и черный цвета, не допуская никаких оттенков. Увы, теперь-то я знаю, что бывало иначе… Вскоре после обеда, возвращаясь с утренней смены, зашел за мной Чергинец. Мы поймали такси, заехали ко мне домой за Мукимовым, где застали еще и Мелентьева, и вчетвером прибыли на Довгалевку раньше остальных. Отпустив таксиста, пешком прошли к берегу. В машине Мелентьев и Мукимов молчали, а здесь отошли в сторону и продолжали разговор, видимо, начатый дома. Сергей же, успевший по пути рассказать мне о последних заводских новостях, неожиданно выпалил: — Вся эта выдумка с инсценировкой ничего не стоит. Опять останутся сплошные загадки. Или догадки. Потому что нет погибших. Они не могут защищать себя и объяснять свои поступки. А живые — те вольны говорить так, как считают нужным. Они ведь и вчера встречались все четверо, и сейчас, — он кивнул в сторону наших спутников, — беседуют не о погоде же. Мог ли я, находясь в том состоянии, какое пытался описать, попять Чергинца? Трое братьев его отца не вошли в «девятку», действия которой мы скоро попытаемся восстановить. Они погибли в тех двух группах, что, по убеждению Сергея, стали жертвами предательства. Но я почему-то не мог тогда думать о предательстве. Осматривая склон холма, спускавшегося к берегу, канавы и камни, окружавшие нас, я пытался запомнить этот пейзаж, обстановку, которая, по словам партизан, так напоминала старую нефтебазу, — запомнить, чтобы потом описать. По звуку мотора мы поняли, что подъехал кто-то еще. Это были Гурба и Малыха. Михаил Петрович был в своем неизменном, чересчур длинном габардиновом плаще, красавец Малыха — конечно, в шкиперской куртке. Гурба приветливо кивнул нам и поспешил к Мелентьеву и Мукимову. И буквально тут ясе, со стороны Днепра, из засохших бурьянов, появился Баляба. Значит, он шел пешком вдоль берега, дышал прерывисто, видно, подъем по склону утомил его. Исподлобья, из-под мохнатых бровей, он оглядел всех своими маленькими блестящими глазами. Поздоровался или нет, я не заметил. А потом подъехала еще одна машина — приваловская «Волга». Шофер заглушил мотор, но из кабины не вылез. Стремительным шагом направился к нам Привалов, а за ним семенил Елышев с рыжим прокурорским портфелем. Каждому из нас Привалов пожал руку и попросил Елышева достать что-то из портфеля. Это оказался сложенный вчетверо лист ватмана. Основываясь на давних отчетах, Привалов прочертил на нем изломанные линии: пути движения каждого из шестерых, кто составлял свои отчеты. Четверо из них живы, они среди нас. Двое умерли вскоре после войны. Командир Волощах погиб во время операции на нефтебазе, Антон Решко умер спустя несколько дней на чердаке своего дома, Олесь Щербатенко умер от старых ран в сорок шестом — или не спрашивали с него отчета, или отчет просто не сохранился. — Извините, что заставили вас ждать, — сдержанно сказал Привалов, разворачивая перед нами лист ватмана. — Думаю, мы долго не задержимся. Этот план должен помочь. Сухость прокурора меня неприятно уколола: по-моему, обстановка не располагала к спешке. Неужели он все же пришел к выводу, что затеянный эксперимент не совсем обоснован юридически? — Как знать, — возразил я, — некоторые философы утверждают, что уже следующая минута — полная неизвестность. Привалов бросил на меня быстрый взгляд. — Это идеалисты. А мы материалисты. — Неожиданно он обернулся к Чергинцу: — Сергей Игнатьевич, вы что такой мрачный? — Не нравится мне эта затея, —тихо сказал Чергинец. Хорошо, что партизаны, отошедшие в сторону с приваловским ватманом, этого не слышали. — Мне тоже не очень, — ответил прокурор. — Но немы с тобой это придумали. — Зачем вам это нужно? — вдруг громко спросил Чергинец, обращаясь к партизанам. Все повернулись к нему, но он не смутился. — Пережить то, что было? Но ведь вы прекрасно знаете, что среди вас нет того, кого вы ищете. Или подозреваете. Хотите вернуться в молодость? А если кого-нибудь тут хватит инфаркт? Что тогда? — Значит, так тому и быть, — спокойно ответил Гурба. — И не твое, Сережа, дело, что будет с нами, — добавил Мелентьев. Баляба бросил на Сергея недобрый взгляд. И только Мукимов догадался, как разрядить возникшее было напряжение:
О друг, жалеть ты будешь без конца
о том, что сделал, слушая глупца.
Ведь сам ты стал глупей глупца любого,
коль не хотел ты слушать мудреца.
Я верю, сердце, ясный день придет,
Израненная роза расцветет,
И соберется у моей могилы
Свободой умудренный наш народ.
И мой потомок голосом правдивым
Старинную газель мою споет.
27
Елышев заранее решил, что в этот дом он не войдет. Все, что ему осталось ей сказать, он скажет на веранде. Не снимая шипели. Так, чтобы сразу уйти, если… если она не пойдет вместе с ним. Она же не пойдет, это ясно. Для чего же тогда он здесь? Он не успел даже подняться на крыльцо, как дверь распахнулась: пальто Надежда накинула на халат и, скрестив руки на груди, остановилась в двери. И Елышев от неожиданности остановился, опустив занесенную было на ступеньку ногу. — С чем пожаловал? — Ненависть распирала ее. — Ты сейчас же пойдешь к прокурору и все расскажешь. — Про тебя тоже? — усмехнулась она. — Да. И про меня. Про то, как решила угробить нас обоих. Меня не удалось. Вот и скажешь, кто его убрал. — Нет, нет, — она опустила руки и прижалась плечом к дверному косяку. — Я ничего не знаю. Знаю только, что моя очередь. Я ж умоляла тебя защитить. А ты… — А может, моя очередь? Или Малыхи? — Вот ты о чем? — Ее руки бессильно висели. — То ж я от злости. Не знала, что и сказать вам напоследок. Вы оба сильны с бабами воевать. Ограбили меня, ну и радуйтесь. Я-то никого не убивала. — Раз не убивала, чего ж боишься пойти к прокурору? — Это верно. Боюсь. Боюсь того, кто убил. — Я провожу тебя. До самой прокуратуры доведу. Она презрительно скривила губы. — Я теперь тебя-то и боюсь больше, чем кого-либо. Оттого и вышла навстречу, что боюсь. В окне увидала, идешь. Сразу поняла, что по мою душу. — Сроду у тебя души не было. — Какой же ты гад, Елышев. Все тебя видели на остановке. Вот иди сам к прокурору и выкручивайся. Один ты мадерой баб угощаешь, другие все больше водкой. Этого Елышев уж и вовсе не ожидал. Не нашел, что ответить. Она почувствовала его замешательство. Но минутное ее торжество, вопреки очевидности, лишь обезоружило ее. Перед ней стоял человек, с которым она могла быть счастлива. Для чего теперь ей все, чем она завладела, если сама она никому не нужна? К чему теперь все ее осуществившиеся тайные желания, толкавшие ее, тащившие за руку? И куда? Из омута в пустыню… А он уходил. Поскользнулся на склоне. «Пойдет ли к прокурору? Ничего. Мне тоже есть, что сказать». Она захлопнула дверь. Зазвенели стекла на веранде.28
Вышедшим на дорогу Мелентьеву, Гурбе, Чергинцу и Малыхе повезло: довольно быстро подошел рейсовый автобус. Для Мелентьева и Гурбы даже нашлась свободная скамейка, а Чергинец с Малыхой остались на задней площадке и, облокотившись о поручень, смотрели на убегавшую Довгалевскую улицу. — Знаешь, Миша, — сказал Мелентьев, — все равно нам ничего узнать уже не удастся. Только Волощах что-то знал. Наверняка он утонул, раненый. — Да, Ваня, без него не узнать. Но все же он успел дать мне ракету. Значит, сразу не был убит. Может быть, он хотел утонуть? Когда понял, что все пропало. — Голос у Гурбы дрожал, и Мелентьев обнял его здоровой левой рукой. — Как ты думаешь, Сергей, что-нибудь дала Привалову эта инсценировка? — спросил Малыха. — Я уверен, что он и без нее уже все знает, — ответил Чергинец. — Польза от нее была только доктору, раз он задумал писать о партизанах. — Пропусти меня, Миша, — попросил Мелентьев. — Нам с Сергеем выходить скоро, пересядем на микитовский автобус. А вы-то почти до самого порта на этом доедете. Счастливо тебе. Увидимся. — Счастливо и тебе, Ваня. Прощай, — грустно ответил Гурба. — Иди, садись рядом с Михаилом Петровичем, — предложил Чергинец Малыхе и пожал ему руку. — Бывай, Серега. Загляни ко мне как-нибудь, может, скоро и на рыбалку выберемся. — Малыха ответил Чергинцу крепким рукопожатием. — С тобой, обженившимся, выберешься! — усмехнулся Чергинец. — Тебе бы тоже пора кончать с холостяцкой жизнью. — И Малыха дружески подтолкнул Чергинца. Но Мелентьев и Чергинец не пересели в другой автобус. Иван Дементьевич предложил пройтись пешком до его дома. Квартал прошли молча, но потом не выдержал Чергинец: — Ну что, Иван Дементьевич, довольны своей идеей? Проверили подозрения? — Я же говорил тебе, что никого не подозреваю. Мертвые не могут защищаться. Значит, живые не имеют права обвинять их. Тем более, что нет никаких доказательств. Только догадки. Вот я и хотел, чтобы все поняли: некого и незачем обвинять. — Но Петрушина же кто-то убил? — Черт с ним. Кому от этого жарко или холодно? — А закон? — Главным законом должна быть совесть. — При коммунизме так и будет, — улыбнулся Чергинец. — Но пока еще хватает людей, у которых совесть — что мешок: что хотят, то и кладут туда. — Это сейчас такие развелись. — Ой ли, Иван Дементьевич, сами знаете, что не правы. А в войну таких не было, да? И Сличко не было? И Петрушина? — Вот и славу богу, что их обоих убрали. — Что-то уж больно долго молчала совесть у того, кто их убрал. А я так уверен, что и у него самого на совести нечисто. — У кого? — Не знаю, у кого. У кого именно. Но у того, кто убил Петрушина, нелады с совестью. Это факт. И я уверен, что прокурор уже знает, кто это. — Ты думаешь? — спросил Мелентьев и побледнел. До самого дома больше он не произнес ни слова. А простившись с Чергинцом, кинулся к телефону. — Отец дома? — спросил он у ответившего Балябы-младшего. — Так он же с вами где-то был? — удивился тот. — И не пришел еще? Он же берегом пошел. Ты сбегал бы ему навстречу. — Бегу, — заволновался сын. — Мать только не пугай, — успел крикнуть в трубку Мелентьев. Но и Гурба с Малыхой не доехали до порта. Михаил Петрович предложил выйти раньше и прогуляться. Хотя Малыха знал, что дома уже наверняка ждет его и нервничает Вера, он не захотел обижать отказом человека, только что заново пережившего самое памятное и тяжелое событие своей молодости. И когда Михаил Петрович попросил дойти с ним до того обрыва над Каховским морем, где под водой покоилась старая нефтебаза, Малыха тоже безропотно согласился. Малыхе никак не удавалось идти рядом с Гурбой. Путаясь в полах своего длинного габардинового плаща на кочковатой дороге, Михаил Петрович то медленно полз, то семенил по кочкам, спотыкаясь и оступаясь. Малыха же, привыкший ходить ровным широким шагом, то оказывался впереди и останавливался, поджидая спутника, то, сдерживая шаг, отставал от семенящего Гурбы. Когда дошли до обрыва, Малыха обратил внимание, что Гурба тяжело дышит и держится рукой за левый бок. Вот уж никогда прежде Гришка не замечал, что заводной, подвижный бригадир докеров физически не так силен, как кажется, а ведь ему еще и не стукнуло сорок пять. «Сказываются партизанские плавни», — подумал Малыха. И еще подумал о том, что Гурба тогда был на три года моложе, чем Малыха сейчас. Михаил Петрович присел на валун перевести дух, не успело прийти в норму его дыхание, как Малыха услышал какой-то неожиданно глухой и прерывистый голос своего спутника: — Придет Володька из армии, ты уговори его, Гриша, чтобы выучился на речника. Хочу, чтобы продолжил паше семейное дело. И дед, и бабка его всю жизнь оттрубили в порту. Да и я тоже. Начинал, как и ты, рулевым на буксире. Из конца в конец Днепр исходил, каждую банку наизусть знал. Это уж когда хвори одолели, сошел на берег. А если Володька речником станет, может, и Ленька, Алексей за ним потянется: потянулся же за старшим братом в шоферы. Хотя Малыха не понял, почему отец сам не в состоянии уговорить старшего сына, он все же пообещал: — Ладно, Михаил Петрович, попробую уговорить вашего Володьку. А Гурба словно не услышал ответа. Он полез во внутренний карман габардинового плаща, достал зеленую школьную тетрадку и протянул Малыхе. — Ты вроде хорошо знаешь этого доктора Рябинина? Говорят, он собрался о партизанах писать. Передай ему это. Малыха удивленно взял тетрадку, сунул ее в карман своей шкиперской куртки и, не успел спросить, почему бы Гурбе самому не отдать эти записи доктору, как услышал признание Гурбы. — Это ведь я поставил то пугало, что отправило Сличко в овраг, — торопливо произнес Гурба и, не обращая внимания на застывшего с отвисшей челюстью Малыху, вскочил с валуна, добежал до края обрыва, вернулся, оперся одной рукой о валун, держась другой за левый бок, и быстро-быстро, словно боясь, что его перебьют, заговорил: — Когда я понял, что вы спугнете его в том доме, в Крутом переулке, и он кинется бежать вдоль оврага, я решил перекрыть его последнюю узкую тропу. Добежал до бизяевского двора, перемахнул в огород. Там пугала не было, но валялся штакетник. Одним гвоздем кое-как скрепил крест, из летней кухни ухватил чугунок и старый Володькин пиджак. На тропе поставил пугало и надеялся дождаться Сличко. Но кто только не сновал по переулку, и я ушел, не дождался этого гада… Малыха так и стоял с открытым ртом: все, что он слышал, с трудом доходило до его сознания. И хотя он и не думал перебивать Гурбу и вообще ни о чем не думал, силясь переварить услышанное, тот говорил и говорил, торопясь и перескакивая с одного на другое. Сколько по времени длилась исповедь Гурбы, Малыха и потом не мог вспомнить. Сумерки спускались с такой скоростью, что Малыха уже не видел Гурбы, не замечал, ходит ли тот взад-вперед или стоит у валуна. Малыха стоял, уставившись куда-то в одну точку, в темноту, и прислушивался к глухому торопливому голосу. А когда голос наконец смолк и тишину нарушал лишь тихий плеск воды из-под обрыва, Малыха еще мгновенье постоял, все так же молча повернулся и медленно пошел вверх по склону. Он шел, все еще ничего не соображая и ничего уже не слыша. И только тогда, когда уже поднялся на самый верх холма, какой-то необычный шум внизу на обрыве заставил его обернуться. Но в темноте он ничего не увидел, не видел даже границы между землей и водой. И эта сплошная темень испугала его. Он побежал обратно вниз с криком: — Подождите, подождите. На краю обрыва он вдруг увидел Балябу. Так четко и ясно, в ярком, невесть откуда взявшемся свете. Он остановился метрах в трех от Балябы, который смотрел на него в упор маленькими блестящими глазами. А спустя мгновенье рядом с ними оказался человек в милицейской форме. Не обращая внимания на Балябу и Малыху, Осокин подбежал к краю обрыва и пытался хоть что-нибудь разглядеть внизу, в черной воде. И вдруг стало еще светлее. Это рядом с милицейским «газиком» остановилась «Волга», и площадка перед обрывом освещалась уже в четыре фары. Из этого яркого, слепящего света вынырнула огромная шарообразная фигура. Баляба шагнул навстречу Мукимову, тот сгреб его обеими руками, прижав к своему толстому животу. Малыха смотрел по сторонам, ничего не понимая.Темнота спустилась так быстро, что, когда наша «Волга» свернула с освещенной улицы по направлению к обрыву, шоферу пришлось включить фары. Подъезжая к обрыву, в свете фар мы увидели «газик». Подъехали и остановились рядом. Мукимов выскочил из машины с удивительной при его комплекции прытью и побежал к обрыву. Я же забеспокоился только тогда, когда увидел на «газике» надпись «милиция». Первым, на кого я наткнулся, спустившись на площадку у обрыва, был Малыха. Он вертел головой по сторонам, будто искал кого-то. А когда я подошел, уставился на меня ничего не понимающим взглядом. В его глазах застыл испуг. Несколько секунд он молча смотрел на меня, потом полез в карман своей шкиперской куртки, достал какую-то зеленую тетрадку и, не говоря ни слова, протянул ее мне.
29
А ведь я сомневался во всем. Я заставлял себя сомневаться и никому и ничему не верить. Мне казалось, что лишь при таком условии я смогу сохранить объективность. Выходило, что я не верил своим собеседникам, своим впечатлениям, порой даже фактам, о которых мне сообщали. То есть не верил самому себе. Конечно, не в буквальном смысле. Я ведь знал совершенно точно, что не убивал Петрушина на старом кладбище возле Красных казарм, не ставил пугала на овражном обрыве в тупике Крутого переулка. Но если я никому не верю, хотя и пытаюсь порой решать за других, то, значит, и мне могут не верить? Нельзя же в конце концов не верить всем? Однако оставался очевидным факт, что кто-то поставил пугало в Крутом переулке и тем самым уничтожил Прокопа Сличко и кто-то схватился с Петрушиным на старом кладбище. Я допускал, что все, так или иначе замешанные в этой истории, вели каждый свою линию. Эти линии не просто пересекались, они переплетались и в итоге сплелись, соткав паутину, в сердцевине которой оказался я в качестве самодеятельного летописца. Избрав такую роль, я и заставлял себя не верить на слово кому бы то ни было. Даже Сергею Чергинцу. Ведь с самого начала им двигало только одно чувство — спасти Володю Бизяева. В большей или меньшей степени ему были безразличны остальные. Его даже мало волновала сердечная драма Бизяева, и не потому, что она уже осталась в прошлом. Полагаю, что именно он никогда не одобрил бы желание друга жениться на той несчастной дочке полицая. Как бы он помешал? Не знаю. Но этот волевой и упрямый человек был способен на все. В этом сомневаться не приходилось. Даже если бы он был уверен, что пугало поставил Бизяев, он все равно продолжал бы доказывать непричастность своего друга ко всей этой истории. А уж самому Бизяеву я и подавно не мог верить. Хотя этот парень был мне симпатичен. Но если он даже и поставил пугало, он никогда и никому в этом не признается. Даже Чергинцу. Почему же я должен ему верить? Только потому, что мне симпатична его невинная улыбка? Или из сострадания к его сердечной драме? Но ведь даже такой шрам рано или поздно зарубцуется. Почему я должен верить на слово, что он не собирался отомстить полицаю? Напротив меня и настораживало как раз то обстоятельство, что он не собирался мстить. По его словам. И по словам Чергинца. Не собирался?! Но вдруг подвернулась возможность… И Елышеву невозможно верить. Пугало он поставить, вероятно, не мог. На такую хитрость у него не хватило бы смекалки. Отомстить Сличко за удар кулаком в челюсть в тот первый вечер? Не такой человек Елышев, чтобы рисковать своей вольготной жизнью из-за такого пустяка. Что же касается Петрушина, то… мог и он. Допустим, они все-таки встретились в ту ночь. Петрушин догнал старшину, пытался что-то предпринять. Руки у Елышева крепкие, до армии крутил баранку трехтонки, да и взвинченным он был все эти долгие недели сверх меры. Так что мог нанести удар Петрушину раньше, чем тот ему. Конечно, искать встречи с Петрушиным Елышеву было ни к чему. По моим наблюдениям, этот человек не способен не только на возвышенные чувства к женщине, но даже на элементарную преданность. Поэтому вопрос, с кем живет Надежда и живет ли с кем-либо, его не волновал. И если он пошел ночью на автобусную остановку к универмагу, значит, вело его что-то, для него чрезвычайно важное. Но что? Об этом знает только он один, и никто никогда не догадается, что его туда привело. Объясниться с Надеждой? Это по его версии. Но я-то понимал, что не о чем ему было с ней говорить. Запутался? Пожалуй, да. Он сам себя опутал паутиной, из которой никак не мог выбраться, — не шмель ведь он, а комар, хотя и больно кусающий. А можно ли верить той же Надежде? Она звонила Елышеву — факт бесспорный. Но что побудило ее звонить? Этой загадки не разгадает никто, потому что правду знает лишь она одна. Не исключаю, что ту же правду, может быть, частично, знал Петрушин. Она же понимает, что любое ее слово — пусть даже самое искреннее — сегодня сработает против нее. Конечно, она пугала не ставила, но его мог поставить Петрушин, и она могла знать об этом. Но об этом же мог знать и Елышев. Если Петрушин с помощью пугала убрал Сличко, а Елышев об этом узнал, то для Петрушина с Надеждой прямая выгода заставить старшину молчать. Как я мог доверять Надежде, если она не сообщила прокурору о том, что Малыха по существу ее обокрал? Засуетилась, забегала вместе с сестрами, затряслась, — и все на этом. В конце концов она успокоится. Сомнений нет. Но при ее-то жадности умолчать о потере? Разве не странно? Выходит, страх оказался сильнее. И чего-то, значит, она боится? Угрызений совести? Но ведь и девяти дней не прошло со дня смерти отца, как она потащила Петрушина регистрировать брак. Чуть ли не сорок лет разницы в возрасте… Жадность ее превозмогла, преодолела все препятствия. А тут отступила… Софье я не верил с того дня, как случай привел ее ко мне в кабинет и она морочила мне голову нелепыми оправданиями, которые никому не были нужны. Я не верил даже в то, что она способна в кого-то влюбиться. Ее зоркие ледяные глаза не лгут. Они просто скрывают истину. Никогда не поверю, что ей не нужно добро, доставшееся Надежде. Она все сделает, чтобы урвать свой кусок. Если же не удастся, то пусть и сестре не достанется. Смерть Петрушина Софье выгодна, хотя она и делает вид, что скорбит вместе с сестрой. Конечно, Петрушина она не убивала, но пугало возле своего дома поставить могла. Ей это сделать было проще, чем кому-либо. Да и времени у нее хватило бы — и на обдумывание, и на исполнение, и на ожидание развязки. Не верю, что какие-то нравственные принципы могли бы Софью остановить, если бы до трюка с пугалом додумалась именно она. Убежден, что не только я, но и все остальные ни одного ее слова не принимали на веру. И сестры прежде всего. Но есть еще и Вера. Нежданно-негаданно на ней женился Малыха. То ли самоотверженно пожалел, то ли чем-то она его подкупила? Чем? Внешностью? Душой? Или умышленно, все наперед рассчитав, предложила ему свою долю в отцовском наследстве, а он, дурья голова, не разгадал? Могло быть такое? Могло. Тихони, да еще по-рабски влюбленные, способны на самые немыслимые поступки. Могла же Вера средь ночи одна тащиться через весь город? В этом все дело: ее поведение невозможно разгадать, многие ее поступки непредсказуемы. Если уж выносить ей окончательный приговор, то он немудрен: ей никто не верит, потому что не принимает ее всерьез, а Малыха верит лишь потому, что не задумывается, по прислушивается по-настоящему к ее словам. А уж кому, как не ей, оказалось выгодным устранение Петрушина?! На что вообще могла она рассчитывать, на какую долю, останься Петрушин в живых?! А как можно верить Малыхе, в разумении которого вся жизнь сводится к сущей ерунде? Оснований для убийства Сличко у него, безусловно, не было. Однако была возможность. Более того, это могло произойти помимо его воли. Как стечение обстоятельств. Мог ли он соорудить пугало? Конечно. Если кто-то подсказал ему идею. А кто мог подсказать? Тот, кто искал с ним общения. Упорно искал. Теперь-то мы знаем, что был такой человек. Но разве можем точно узнать, когда ему удалось впервые подкатиться к Малыхе? Да и к Петрушину у Малыхи не было оснований относиться безразлично. Ведь это именно Петрушин обобрал его жену, и крохи не выделив ей из отцовского наследства. Пожалуй, и прокурор послал Малыху в петрушинский дом вовсе не для того, что этот рулевой с буксира искал там какие-то остатки от ховашки. Вместо того чтобы в ответ на стук в дверь открыть ее и задержать незваного гостя или хотя бы определить, кто это был, он спрятался, позабыв обо всем на свете. Как ему верить? И почему, унеся из петрушииского дома мешок с побрякушками, он при первой же встрече не передал его прокурору? А если бы Петрушин был жив, можно ли было поверить в то, что это не он убрал Сличко? Он мог и не ведать о пугале, но идея заманить старого дружка к оврагу могла родиться и в его голове. В конце концов, Сличко убили в самом подходящем для этого месте. Труп в овраге вообще могли никогда не обнаружить. Обычно с полудня машины свозят туда разный мусор, в том числе строительные отходы. В этот овраг самосвалы ссыпают свой груз один за другим, шоферам и дела нет до того, что они туда сваливают. С другой стороны, странно: если Петрушин охотился за Елышевым, то, видимо, с одной целью — убрать его как свидетеля. Но цель у Петрушина могла быть иной. Елышев для него не соперник. А Малыха видел его в Крутом переулке. Надежда могла знать об этом и обещала мужу вызвать к универмагу Малыху. Но обманула, решив подставить Елышева. Могло так быть? Словом, все в поведении и образе жизни этих людей так переплелось, так они опутали и запутали себя и других, что строить можно любые версии. Например, меня давно настораживало настойчивое желание Гурбы приблизить к себе Малыху. В рассказах о довоенной дружбе с Гришиным отцом, о любви к его матери, о клятвах и преданности хватало сентиментальности, но недоставало достоверности. Почему-то вспомнил он о своей клятве спустя два десятка лет, когда Малыха уже ни в ком не нуждался — ни в опекуне, ни в поводыре. Как врач, хоть и не психиатр, я еще при первой встрече заподозрил и, пожалуй, не ошибся, что с психикой у Гурбы не все в порядке. Он не способен был четко выразить мысль: то перескакивал с темы на тему, то бывал излишне болтлив, то замыкался без видимых причин. Но не только это породило мое недоверие к нему. Он так приклеился к Малыхе, словно искал в нем защитника и, значит, чего-то опасался. Не того ли, что следующим за Сличко и Петрушиным может стать он? Не он ли приходил к Надежде в ее отсутствие, не он ли сломал замок и потом приходил еще раз, когда в доме уже был Малыха? Малыха утверждает, что не узнал голос. Мог и не узнать, если Гурба говорил в платок или в шапку. А мог и узнать, но скрыть от всех. И так же могла поступить Надежда. В своих интересах. Или в интересах Гурбы. Если они заодно. Конечно, так рассуждая, я зайду слишком далеко. Но вправе ли я поступать иначе, если все переплетено до неправдоподобия? Взять того же Балябу. Вечно угрюмый, настороженный, постоянно чего-то недоговаривающий. Он из тех людей, о которых говорят, что счастливы они бывают лишь в ночь под Новый год. Можно ли ему верить? Скажем, его рассказу о действиях во время нападения на нефтебазу. Во-первых, он мог о чем-то важном просто-напросто забыть, во-вторых, мог придумать — не сейчас, а давно — и убедить себя, что так оно и было. Именно от Балябы я все время ждал какого-то неожиданного хода. Мне казалось, что в самый разгар инсценировки он скажет или сделает нечто такое, что разрушит все наши версии — начиная от высадки партизан на нефтебазе и кончая смертью Петрушина на старом кладбище возле Красных казарм. Безусловно, ему известно больше, чем он нам сообщил, — в этом не приходилось сомневаться. Почему же он не спешит расстаться со своей тайной? Я заставлял себя безоговорочно доверять Мукимову. Он покорил меня словами о моей матери, преданностью ее памяти. Я улыбался ему, восхищался его познаниями в древней поэзии, его чаем. Но потом я спрашивал себя: как бы вел себя Мукимов, если бы во всех событиях, связанных с убийством Сличко и Петрушина, не обошлось без его участия? Разве не должен он был еще старательнее очаровывать людей? Между прочим разговорчивый Мукимов не слишком-то распространялся о своем недавнем пребывании в Новоднепровске. Мы знали, что он встречался с Мелентьевым, но не все же время он провел с ним. Идея о пугале могла возникнуть и у него. Убить Петрушина? А почему бы и нет? Кто исключает, что именно Петрушин знал тайну гибелиотряда? Может быть, Сличко и вернулся, чтобы заставить заговорить Петрушина. Заговори Петрушин — и кое-кто поплатился бы свободой. Мог так рассуждать Мукимов? Шумный, располагающий к себе, на людях такой открытый, разве не мог он оказаться скрытным, злопамятным, мстительным? Мало ли подобных превращений храпит восточная — да только ли восточная? — история. Знаю, что Чергинец искренне уважает Мелентьева. Понимаю, что для него Мелентьев — прежде всего добрый и надежный муж матери его лучшего друга детства. Да и к самому Чергинцу Мелентьев относится чуть ли не по-отцовски. Сергей даже мысли не допускает, что нынешний заведующий нефтебазой может быть в чем-то неискренен или скрытен. Но я обязан задавать себе вопросы. Хотя бы такой: о чем Мелентьев договорился с Мукимовым? И почему тогда осенью Баляба не захотел с ними встретиться? Мы же об этом так и не узнали. Впрочем, что рассуждать о других, когда и в поведении прокурора столько неясного. Понимаю, конечно, что его служебное положение не позволяет обо всем сообщать мне. Но… Как легко он оставил историю с пугалом?! Если ждал каких-то новых событий, то разве не должен был довести дело о смерти Сличко до логического конца? Почему же он фактически остановился на полпути? Повторяю: он вовсе не обязан был обсуждать со мной все, связанное с тем ночным происшествием в Крутом переулке. Я и не рассчитывал на это. Но хотя бы намекнуть, почему он прекратил поиски того, кто отправил Сличко в овраг, разве он не мог? Увы, найти ответы на вопросы, которые я себе задавал, не удавалось. Напротив, чем больше я размышлял о случившемся, чем больше думал обо всех этих людях, исхлестанных судьбой, тем больше их у меня возникало…30
Если бы Мукимов не опоздал вчера на самолет, если бы не его научная конференция о связи литератур Средней Азии и Ближнего Востока в раннем средневековье, на которую ему необходимо было лететь, Привалов вряд ли собрал бы нас всех после бессонной ночи в своем кабинете уже в десять утра. Он тоже не спал, как и все мы, потому что к обрыву его привез «газик», отправленный Осокиным за баграми. И Мелентьев глаз не сомкнул этой ночью, названивал Балябе, а тот появился дома лишь под утро: шел берегом, отдыхал, принимая таблетки от боли в сердце, и снова шел, пока не добрался до обрыва, где столкнулся с Малыхой. Выспался один Чергинец, у которого был выходной. В мрачноватом узком кабинете Привалова расселись на стульях вдоль стены Мукимов, Баляба, Мелентьев, Чергинец и Малыха, а напротив, поближе к прокурорскому столу — лейтенант Осокин. Я же устроился в углу, в любимом кресле Привалова. Неожиданным для всех нас оказалось то, что прокурор без какого-либо вступления заявил: — Сейчас вам все расскажет Григорий Малыха. Не надо вставать, Гриша. И не волнуйся. Записывать пока ничего не будем. Говори все, что знаешь. Привалов с едва заметной усмешкой глянул на сверток, принесенный Малыхой. Еще никогда в жизни Малыха не говорил так долго в присутствии стольких людей, многие из которых годились ему в отцы. При наших новоднепровских нравах и при родных-то отцах не больно разговорчивы. Поначалу Малыха путался и запинался, но постепенно забыл о том, где находится, и, как позже признался мне, в ушах у него ясно зазвучал глухой, с хрипотцой голос покойного. Трагедия Гурбы и всего партизанского отряда началась той осенней ночью, когда, переправившись из плавней на разведку, он заглянул проведать беременную жену в дом к старикам Углярам. Как обычно, он проник в дом через заблаговременно оставленное приоткрытым кухонное окно. Войдя в залу, он застал все семейство за столом, во главе которого сидел с мрачным видом полицай Сличко. Заплаканная Катя охнула, когда появился муж, старики не издали ни звука. Сличко поднял голову, а Гурба схватился за пистолет. — Убери, Михаил, — спокойно сказал Сличко. — Все можете идти спать, а мы потолкуем. Сжимая рукоятку пистолета, Гурба присел к столу. Сличко же демонстративно держал обе руки, сжатые, правда, в кулаки, на столе. Разговор он начал с того, что заявил: хочет, воспользовавшись своим положением полицая, принести пользу партизанскому отряду. — Чего ж ты сразу не пошел в партизаны, а подался на службу к гадам? — спросил Гурба. — Еще неизвестно, кто и где больше пользы может принести, — ответил Сличко. — Вы там, в плавнях, все знаете. Так ты скажи мне: навредил я кому-нибудь? И Гурба вынужден был признать, что особого вреда пока что никому от Сличко не было. Шумел он — верно, больше, чем другие полицаи. Но до того времени ни в казнях, ни в операциях против партизан вроде бы не участвовал. Это уж после превратился в лютого убийцу, каким и остался в людской памяти. Теперь-то ясно, что такой и была его конечная цель, но тогда… Гурба решил выслушать его. — Хозяева нонешние, — Сличко так и сказал «хозяева», не назвал их мерзавцами, гадами или похлестче, чтобы не заподозрил Гурба, будто нарочно убеждает его словами, понося фашистов, которым служит, как уверял, лишь для вида, — завезли горючего много на нефтебазу. Не чуют словно, что конец их власти приходит. Вот и предлагаю вам ускорить их конец. Охрану свою они с нефтебазы почти всю убрать должны. Хотят, чтоб мы с парнями охраняли. А у нас в полицаях, сам знаешь, все больше трусы. Я все обеспечу, чтобы вам никто не мешал. Так предложил Сличко свою помощь партизанам. — Если бы я не хотел вам помочь, — сказал он Гурбе в конце разговора, — зачем мне было приходить сюда одному? И без меня могли схватить тебя. Сам знаешь, что бы они тогда с жинкой твоей молоденькой сотворили. Да и с тобой тоже. Так что думайте, можно мне верить или нет. Сказал так Сличко и ушел. И не обернулся даже. Не побоялся, что выстрелит ему Гурба в спину. Понимал, видно, что беременная Катя точно заложницей у них была. Гурба вернулся в плавни той же ночью. А наутро старики Угляры увезли дочку к родственникам в село Каменный Брод, что за Кохановкой, в полутораста километрах от Новоднепровска. И не помешал им никто. Командиру Волощаху Гурба все доложил. И что жену увезли, тоже доложил. Нет, ни в чем не уговаривал он командира. Только доложил. Несколько дней тот размышлял, верить Сличко или нет. Когда сообщение получил от Рекунова, Гурбу же и послал проверить, хоть издали понаблюдать, как с охраной нефтебазы дело обстоит. И сам в бинокль часами смотрел. Действительно, солдат мало было. Все больше полицаи вокруг базы вертелись. Словом, настоял командир на операции. Но Гурбе строго-настрого приказал источник не выдавать. А потом уж, после гибели отряда, тот и сам понял, что надо молчать. Как свою-то роль мог бы он объяснить? Как должен был он себя теперь называть? «Я виноват во всем, только я», — это были последние слова командира, сказанные им Гурбе тогда, когда бросился он по воде, пытаясь выручить хоть одну группу, ту, что заходила с восточной стороны нефтебазы. Всю жизнь помнил Гурба эти слова. В отчете не написал о них, чтобы память о командире не порочить, но, конечно, и чтобы лишних расспросов не вызывать. Всю жизнь помнил эти слова, но адресовал их себе. — Он и Петрушина убил, и Сличко в овраг отправил — хотел своими руками, не дождался, пугало поставил, — сказал напоследок Малыха и замолчал, тяжело переводя дух. — Как же Петрушина? — спросил я из своего угла. — Разве Гурба левша? — Рулевой он, как и я, — ответил Малыха. — У меня обе руки одинаково работают. — Все ясно, — заявил я и встал, чтобы передать прокурору зеленую тетрадку. Пусть прочтет раньше меня, это и по закону правильней. Но не успел я шагу ступить, как вскочил Баляба и выбежал на середину кабинета. — Нет, не все! — крикнул он и злым взглядом своих маленьких глаз заставил меня опуститься в кресло. — Не все! Это я пугало поставил! Зачем он врет? — и так же зло посмотрел на Малыху. Бедный Гриша совсем растерялся. Привалов встал из-за стола, подошел к Балябе, обнял его за плечи и мягко сопроводил к стулу. — Успокойтесь, Федор Корнеевич, сядьте. И все, что хотите, расскажите нам. Баляба сел и, пока прокурор возвращался к столу, достал из кармана стеклянную трубочку с крошечными таблетками, высыпал на ладонь, сунул под язык. Мы все молчали и даже не смотрели в его сторону. — Я выследил его, — глядя в пол, заговорил наконец Баляба. — Выследил и никому не сказал. Да! Потому что сам хотел его, гада, вот этими руками хотел… Да! Я знал, что он прячется на Микитовке. У суки, у этой Галины, в старом доме Кураней. И к Петрушину он ходил. И к свояченице своей, в Крутой переулок. Я глаз с него не спускал. Да! Я в порту его однажды узнал. И выследил. Да! А ночью тогда понял: его спугнут. И ждал у оврага. Там и Гурба мелькнул. «Случайно», — подумал я. Откуда мне знать было все, что он тут наболтал, — он снова метнул исподлобья быстрый взгляд в сторону Малыхи. — Я боялся, что заметят меня. Пока объясняться буду, уйдет Сличко. Да! Я и полез в бизяевский двор. Пугало соорудил, только поставил — точно, эта сука Курань бежит. И стонет кто-то. Это ее последний муж оказался, тот, что ногу сломал… Да! Я сховался, а потом этот недоносок сличковский пробежал мимо пугала. И сам Сличко. Да! Я хотел ему навстречу, а он — в овраг. Да! Вот как было. Понял? — И он обернулся к Малыхе. Парень робко пожал плечами. — Не знаю. Он сам мне сказал. Я — что? — Спасибо, Федор Корнеевич, — сегодня Привалов всех хотел успокоить. — Теперь понятно. Вы хорошо пояснили. Значит, и Гурба вас видел. Видел, как вы пугало ставили. И решил себе приписать. Вы еще что-нибудь добавите? С чем-нибудь не согласны? — Да! То есть нет, — ответил Баляба. — Да! Все рассказал. Что знал. Да! А о том, что на кладбище с Петрушиным был Гурба, нам сообщил лейтенант Осокин. Это было его открытие. Его заслуга. И прокурор пока что наградил его тем, что разрешил это открытие обнародовать. Когда расследование, казалось, зашло в тупик и у кого-нибудь другого, только не у Осокина, могли бы опуститься руки, лейтенант начал все с начала. Он снова побывал на кладбище, нашел там выброшенный кем-то кол (Чергинец видел, как это сделала Софья во время похорон Петрушина) и даже кирпич, которым кол забивали. Но оказалось, что кирпич и этот кол не касались друг друга: кол-то, по указанию Привалова, подменили. Осокин, обнаружив несовпадение, пришел к прокурору, получил у него подлинный кол, на котором остались ворсинки ткани от перчаток. Осокин уже знал, что резиновые сапоги, оставившие следы на кладбище и у петрушинского дома, по размеру не подходят никому из четырех бывших партизан. От столяра Афанасьича, делавшего копию кола, он знал и то, что эту осину завезли сначала на дровяной склад, что на переезде, а оттуда — на склад в порту. Осокин облазил, и не по одному разу, оба склада. Пока наконец не обнаружил в самом дальнем конце портового склада резиновые сапоги, заброшенные туда через сложенные поленницей дрова. А потом нашел и перчатки, которыми пользовались грузчики. Внутри левого сапога осталось небольшое пятно: тот, кто надевал их, натер ногу, сапоги, значит, были ему малы, оттого и прихрамывал человек, оставивший следы. С колом в руке — не подлинным, тот же находился на экспертизе, а с копией, сделанной Афанасьичем, — Осокин и заглянул к заведующему грузовым двором Гурбе. Заглянул, чтобы попросить список грузчиков — кто-то из них ведь мог взять со склада и дерево, и сапоги, и перчатки. Гурба ответил, что это мог быть любой из работников двора и что список лейтенант может взять в отделе кадров. Когда Осокин вышел из крохотной комнатки заведующего и уже со двора обернулся, то через большое окно увидел: Гурба сидит, поставив локти на стол, сдавив большими пальцами обеих рук виски и закрыв ладонями лицо. А ведь Гурба был одним из тех четверых, кто мог иметь основания для самосуда. Это и было открытием Осокина. «Все остальное — дело времени», — сказал он прокурору. Но оно не потребовалось. На завтра была назначена инсценировка, задуманная партизанами. Да, в следственном деле не только отпечатки пальцев имеют значение. Осокин вышел на убийцу Петрушина и без этой инсценировки. Когда же после инсценировки прокурор вернулся к себе в кабинет, он дал Осокину разрешение ознакомить Гурбу с обвинениями, которые могут быть против него выдвинуты. Одно расхождение между отчетом Гурбы и тем, что говорил тот на инсценировке, Привалов все-таки заметил: в отчете Гурба написал, что сразу же после сигнала командира поспешил за Мукимовым, а сейчас, спустя почти двадцать лет, сказал, что еще ждал командира, надеясь на его возвращение. Прокурор полагал, что, если он попросит Гурбу уточнить, тот, находясь в возбужденном после пережитого состоянии, во всем признается. На милицейском «газике» Осокин сперва отправился в порт, но не дождавшись там Гурбы и Малыхи, двинулся было им навстречу. И снова Осокин догадался, что надо свернуть к обрыву. Чуть-чуть не успел. Мне осталось положить на стол Привалову зеленую тетрадку. Он полистал ее, исписанную мелким круглым почерком, вырвал четыре первых листа, где шла речь о том, о чем рассказали нам только что Малыха и Осокин. Вырвал, чтобы приобщить их к делу. — Кол он, оказывается, поставил по примете, что бытовала когда-то и в наших краях, — просматривая вырванные листки, заметил Привалов. — Чтоб вурдалак не встал из гроба. Как же надо было жить все эти двадцать лет, чтобы вспомнить о такой примете?! Ты зайди к нему домой, Гриша, — попросил прокурор Малыху. — У него ребята неплохие. Помочь им надо. — А потом что было? — спросил я. — А потом его увидел Петрушин, догадался. Или знал? Наврал, что у него дома есть признание Сличко о предательстве Гурбы. Примитивный шантаж. А в кармане у Петрушина — молоток. Вот и получил удар колом по голове. Ну, остальное-то известно. И прокурор вернул мне тетрадку.НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЖАХ ВСЕЙ «НОВОДНЕПРОВСКОЙ ХРОНИКИ»
ПРИВАЛОВ Святослав Владимирович родился в Новоднепровске в 1930 году. В 1953 году закончил МГУ (юридический факультет). С августа того же года — помощник прокурора города Новоднепровска, с 1958 года — прокурор города и района, впоследствии — прокурор области. В юности занимался спортом — мотогонками и стрельбой. Сын В. С. Привалова, который во время войны был директором завода на Урале, а после войны — управляющим горнорудным трестом в Новоднепровске.ЧЕРГИНЕЦ Сергей Игнатьевич родился в Новоднепровске в 1936 году в семье рабочего «Южстали». С четырнадцати лет работал в мартеновском цехе, учился в вечернем техникуме. Перед уходом в армию некоторое время был исполняющим обязанности сталевара. Служил в танковых войсках. После службы стал одним из ведущих сталеваров мартеновского цеха «Южстали», закончил вечерний металлургический институт. Неоднократно избирался депутатом облсовета. Впоследствии стал первым секретарем Новоднепровского горкома партии.
РЯБИНИН Бранислав Романович родился в 1931 году в военном городке, где его отец служил командиром. После того как его мать закончила медицинский институт, отец получил назначение в Новоднепровск, но вскоре после рождения второго сына родители разошлись. В начале войны попал в детдом, а в 1944 году поступил в Рижское нахимовское училище. Закончив училище в 1948 году, поступил в Ленинградскую Военно-морскую медицинскую академию, закончив которую в 1953 году демобилизовался после трех лет службы на Балтике на судах-спасателях и вернулся в Новоднепровск.

Солдаты невидимого фронта Всегда на переднем крае Коллектив авторов
Об этой книге
Их часто величают стражами закона, солдатами невидимого фронта, а то и уважительно просто зовут часовыми порядка. Определений для нелегкой милицейской профессии существует немало, и каждое из них по-своему справедливо, потому что раскрывает тот или иной аспект многогранной деятельности милиции. Задачи, возложенные на милицию Коммунистической партией и Советским правительством, почетны и ответственны: бдительно охранять личную безопасность и имущество советских граждан, бороться с преступностью, хищениями социалистической собственности и спекуляцией, повсеместно обеспечивать образцовый общественный порядок. Поэтому в будни и праздники, ночью и днем, в пургу и зной в каждом уголке нашей необъятной социалистической державы заступают в наряд тысячи милиционеров — верных слуг советского народа. Самоотверженно, часто с риском для жизни, несут они свою беспокойную вахту, надежно храня несметные богатства Родины, труд и покой творцов и созидателей этих богатств. Многочислен отряд правофланговых милицейской службы нашей республики. В его рядах такие замечательные работники, как, например, начальник уголовного розыска Оргеевского РОВД Иван Яковлевич Руссу, старший инспектор уголовного розыска Рыбницкого РОВД Василий Владимирович Полевой, начальник следственного отделения Доротдела милиции МВД МССР Иван Егорович Семыкин, начальник паспортного стола Вулканештского РОВД Зоя Дмитриевна Кулдошина и многие-многие другие. О деятельности сотрудников молдавской милиции и пойдет речь в этой книге. Конечно, в ней запечатлена лишь малая толика их славных дел и рассказывается лишь о некоторых из них. Не одинаков и художественный уровень публикуемых очерков. Однако взятый из жизни материал их будет, несомненно, интересен и близок широкому кругу читателей, поможет многим понять и глубже прочувствовать благородство и мужество, находчивость и талант бойцов невидимого фронта борьбы за человека, за интересы нашего советского общества и государства — тех, кто всегда на передовой, всегда на посту. Светлой памяти Андрея Баженова, начальника кишиневского горотдела милиции, участковых уполномоченных Ивана Липатова, Аксентия Брынзы, Федора Федоренко, Василия Спирина, работников уголовного розыска Алексея Салея, Павла Пономарева, Александра Бутина, милиционеров Льва Спектора, Ивана Боженова и других сотрудников молдавской милиции, геройски погибших при исполнении служебного долга, посвящают авторы эту книгу.В. Казаков Двенадцать мешков подсолнечника
В Унгенском районе Георгий Федорович Михайлов — известный человек. Начальник ОБХСС районного отдела внутренних дел, он — гроза всех тех, кто пытается прожить за счет государства, обворовывает народ. На счету у Михайлова — тысячи отвоеванных у преступников рублей. За это он награжден орденом «Знак Почета», медалями, значком «Отличник милиции», именными часами… Я расскажу лишь один случай из служебной практики Георгия Федоровича. Судите сами, почему он в Унгенском районе известный и уважаемый человек.* * *
Михайлов поднял трубку. — Слушаю. Председатель колхоза из Гирчешт говорил сбивающейся скороговоркой. Рассказ его то и дело прерывали помехи на линии, но главное понять было можно: ночью с тока артели исчезли двенадцать мешков подсолнечника. Надо выезжать на место преступления. Через полчаса капитан уже стоял у большака, поджидая попутную машину. Дело было обычным. Так во всяком случае казалось начальнику ОБХСС… Дело, действительно, оказалось не труднее и не легче остальных и, может быть, запечатлелось бы в памяти как рядовая операция, если бы не некоторые — как потом говорил Михайлов — «психологические нюансы», которые заставили капитана милиции как-то глубже понять смысл своей суровой профессии.* * *
Сторож стоял в углу маленькой конторки на току и, размазывая кулаком по лицу слезы, рассказывал: — Я никуда не уходил ночью. Просто… заснул… На несколько минут… И вот… Михайлов опросил еще нескольких колхозников, работавших на току, — никто из них ничего не видел. Вечером в гостиницу, в комнату, где он остановился, постучали. Вошли двое. — Мы, товарищ милиционер, видели прошлой ночью, как с нашего тока выезжала арба. Возле нее было несколько человек. Узнали мы только Федора Врабия[40], ездового соседнего колхоза… Михайлов не сомневался, что ему обязательно что-нибудь подскажет ту нить, держась за которую, он найдет следы преступления. Но он подивился легкости, с какой это произошло. — Что он за человек, Федор Врабий? — Знаем одно: недавно вернулся из заключения. — Ну, спасибо, товарищи… На другой день он вызвал Федора Врабия в Унгены. Федор вошел в кабинет, поеживаясь от холода. Поводил широкими, сильными плечами. Сел за стол. Сжал в крупные кулаки узловатые, загрубевшие от работы ладони. Из-подо лба на Михайлова, не мигая, смотрели ничего не выражавшие глаза. «Интересно, надолго ли хватит у него сил защищаться?» — подумал Михайлов. — Фамилия?.. Федор отвечал, тупо глядя на стол, за которым сидел. Михайлов заносил его слова в протокол. Оба понимали, что это все — лишь вступление. Главный разговор — впереди. Неожиданно Федор, подняв на Михайлова глаза, сказал: — Капитан, давай уж сразу о подсолнечнике. Почему он заговорил об этом первый? — О подсолнечнике? О тех двенадцати мешках из Гирчешт? — Конечно, о них… Все было просто: приехали ночью, погрузили мешки на арбу. Справились быстро — вчетвером. — А сторож? — Он стоял рядом. Следил, чтобы нас никто не увидел. Мы ему обещали долю. Михайлов вспомнил маленькое, сморщенное лицо сторожа. Однако мысли тут же вернулись к Федору. — Почему вы все это рассказываете? Я ведь пока не спрашивал… — Спросили б… «А ты не так прост, как мне показалось», — подумал Михайлов. — Дети есть? Врабий втянул голову в плечи. — Семеро… Для Михайлова дело в основном было закончено. Он уже прикидывал, во что обойдутся двенадцать мешков подсолнечника Врабию и тем троим, что еще не привлечены к следствию. Оставалось выяснить детали. — Куда спрятали подсолнечник? — Высыпали в реку. Все двенадцать мешков. На другой день Михайлов с инспектором ОУР побывали на том месте у реки, что указал Федор. Никаких следов там обнаружить не удалось. Федор, однако, твердо стоял на своем: высыпали в реку. Так же показали и остальные, причастные к делу. Обыски в домах арестованных и их родственников ни к чему не привели — украденное исчезло бесследно… «Но… — думал капитан, — хоть одно-то семечко должно остаться на берегу реки!» Когда Михайлов уже собрался еще раз съездить к реке, Федор вдруг сказал: — Хотите, товарищ капитан, покажу, где спрятан подсолнечник?* * *
Был воскресный день. С утра шел дождь. Наступала та пора осени, когда северные ветры срывают с деревьев последние красные листья, а немощеные дороги становятся доступными только вездеходам да гусеничным тракторам. Михайлов с тревогой посматривал на горизонт — как бы не забуксовать. Предстояло преодолеть семьдесят километров, а из-за горизонта все ползли низкие, тяжелые тучи. Федор кутался в потертую, залатанную фуфайку. Михайлов думал. В конце концов поведение Врабия на следствии — при всей своей необычности — не лишено здравого смысла. Федор, видимо, просто умнее и опытнее других преступников. Он как-то быстро понял, что говорить неправду — зря терять время. А так — у него есть даже смягчающие вину обстоятельства (помог следствию), да и, черт возьми, сам Михайлов стал чувствовать к нему некоторую симпатию. — Как полагаешь, сердятся на тебя дружки? Врабий ответил не сразу. Видно было: даже думать об этом ему нелегко. — Наверное, думают, что мы могли бы выкрутиться. — А ты? — Думаю, нет, не могли… В это время случилось то, чего больше всего боялся Михайлов: машина забуксовала. Толкали ее, носили под колеса траву — все было тщетно. По-прежнему лил дождь. До села оставалось километров пятнадцать. — Пошли, Федор… Через несколько минут им стало тепло. Всю дорогу не разговаривали. Только однажды Федор спросил: — Сколько мне дадут, капитан? — Суд решит…* * *
— Подсолнечник у сестры, но зайдем сначала ко мне, — капитан вдруг заметил в глазах Федора холодный, жесткий блеск. «Что-то новое в нем. Запугивает меня, что ли?» — Веди к сестре. К вечеру должны управиться. Федор вдруг насупился. — Человек ты или нет, капитан? Он остановился. Сапоги до голенища обросли грязью. Ветер трепал оторвавшуюся на спине заплату. Капитан вспомнил узловатые, крепкие рабочие руки Федора. Сказал раздраженно, грубо: — И нужен был тебе этот подсолнечник… Федор глянул из-под бровей: — Каяться не буду. Просить прощения — тоже… Нет, было в нем нечто достойное снисхождения! — Ладно, веди домой… Им открыла худая, с маленькими усталыми глазами женщина. — Федя… — увидев Михайлова, она вдруг замолчала, ее глаза испуганно забегали по милицейской форме. В доме глиняный пол. В углу комнаты, куда они вошли, задернутая белой занавеской печка. На скамейке вдоль стены — дети. Холодно и неуютно. Капитан вышел на маленькую терраску. Сел на расшатанную табуретку. Пусть Федор простится с семьей. Из комнаты послышался плач. Михайлову по-человечески было жаль Федора. Был он, несомненно, не окончательно падшим человеком. Федор не хитрил, не валил вину на других, но и не унижался, не пытался разжалобить. Что толкнуло его на это? Ведь всякое преступление — это, как правило, следствие какого-то душевного изъяна, некой духовной неполноценности… Федор в сопровождении своих вышел на крыльцо. — Готов я… Заголосила жена. Захныкали дети. Михайлов, уже у калитки, услышал, как Федор успокаивал их: — Отец ваш все учится жить… старый дурак. До сестры Федора шли молча. «Почему же участковый инспектор здесь при обыске ничего не обнаружил? Сейчас все станет ясным…» Их встретила крупная, в толстом ватнике на широких плечах женщина. Федор молча толкнул калитку. — Может, поздороваешься? — буркнула она, глядя почему-то на Михайлова. Федор, не отвечая, шел к дому. Зашли в одну комнату, в другую — никаких следов. — Сколько можно мучить женщину! — вдруг истерично завела хозяйка. — Замолчи, — оборвал ее Федор. — Неси топор. Женщина вышла. Федор приблизился к глухой стене. Постучал по ней слегка кулаком. Потом с силой надавил локтем — открылся темный проем. Михайлов понял: рядом с настоящей стеной была выложена другая, меж ними — тайник. «Хитро сработали, наверно, в ту же ночь, когда крали…» Вернулась хозяйка. Молча протянула топор. Скоро в фальшивой стене зазиял большой провал. …К вечеру подсолнечник был сдан на склад. Ночевали в гостинице колхоза. Утром Федор показался Михайлову еще более угрюмым, глубоко ушедшим в себя. — Что с тобой? — Думал, капитан. Всю ночь. О себе думал. И о вашей работе — тоже. Трудная ваша служба. Но хорошо, что о людях думаете. И продолжал, уже в упор глядя на собеседника: — Преступник, который не чувствует угрызения совести, — конченый человек. Таким он получается, если ему сходит с рук — один раз, другой… Он, понимаешь, привыкает жить скотом… Вы разрушаете эту привычку. Показываете человеку место, которого он достоин в жизни… Умные люди это понимают… — Честные люди это понимают, — сказал Михайлов, делая ударение на первом слове. — Одного честным делают родители и школа, других — милиция. Мне, признаться, совестно — и за эту грязь, по которой мы шлепали до села, и за холод, что вынесли. Смотрел я на тебя, голодного, как ты там, мокрый до нитки, подсолнечник взвешивал, и думал: забавлялся бы сейчас Михайлов с детишками дома, нужен ему этот подсолнечник… А потом подумал: так ведь для того, чтобы во мне совесть заговорила, и старается человек…* * *
Когда Михайлов зашел с документами, прокурор опросил: — А где ордер на Федора Врабия? …Они проговорили в то утро долго. — Говоришь, семеро у него детей? — Да. — Ну, пусть будет по-твоему. Посмотрим, что решит суд. …Суд, состоявшийся через несколько недель, удовлетворил ходатайство начальника ОБХСС о смягчении наказания Федору Врабию. Его приговорили к году исправительных работ с вычетом в пользу государства двадцати процентов заработка. Время, прошедшее после этого процесса, оправдало надежды: Федор Врабий стал честным человеком. Иногда он передает Михайлову, ныне уже майору, приглашение в гости. Но тому все некогда: то в райпотребсоюзе не досчитались нескольких тонн муки, то стала исчезать кукуруза на биохимическом заводе, то… Кто знает, что его ждет завтра, когда он утром, как обычно, придет на работу?Р. Пелинская Только одно дело
О нем, о майоре Комине, как и почти о любом работнике уголовного розыска, можно написать не только очерк, — целую серию повестей. Увлекательных, насыщенных романтикой милицейской службы, дающих яркое представление о том, как сложен и подчас опасен труд этих солдат порядка, бдительно охраняющих наш с вами покой. Да, можно было бы рассказать о десятках дел, успешно им завершенных. Показать день за днем и ночь за ночью его беспокойные будни, до отказа насыщенные событиями. Но, пожалуй, достаточно будет и одного — его первого дела, с которого начал он свою службу в уголовном розыске, чтобы во всей полноте предстал перед людьми, его не знающими, Михаил Дмитриевич Комин. Человек немногословный, сдержанный в проявлении чувств, но с очень щедрой душой и добрым сердцем. Бесконечно преданный делу, которое ему доверено, во всем и всегда прислушивающийся к голосу своей совести — кристально чистой совести коммуниста. На должность эту — старшего оперуполномоченного Кагульского райотдела милиции — был он назначай в январе 1960 года. А уже к концу месяца успел досконально, со свойственными ему терпением и добросовестностью изучить все переданное ему хозяйство. Перечесть от строчки до строчки каждую папку, вникнуть во все детали, отделить существенное от незначительного. Среди тех дел, что не посчитал он возможным прежде времени списать в пассив, одно особенно заинтересовало его. Вернее не одно, а целых два дела, заведенных на одно и то же лицо. Первое — о розыске злостно уклоняющегося от уплаты алиментов Вовченко Николая Михайловича, 1921 года рождения, ранее проживавшего в Кагуле по улице Циолковского, 8. И второе — о розыске без вести пропавшего того же Вовченко Н. М. В первом была копия заявления истицы — жены Вовченко — Вовченко Агриппины Васильевны, датированного 26 марта 1953 года. Она, обращаясь в народный суд, просила взыскать с ее мужа алименты на воспитание троих детей — дочери Елены 1948 года рождения, сыновей — Ивана и Николая — 1950 и 1951 годов рождения. Муж, как заявляла она, 11 марта 1953 года, взяв свои документы, сказал, что уезжает от них в центральные области Советского Союза. Где он теперь, она не знает. Народный суд, рассмотрев ее заявление, вынес определение о взыскании с Вовченко Н. М. алиментов в пользу его бывшей жены на воспитание детей. Но, поскольку не было известно, куда он выбыл, определение это направили в отдел милиции для объявления розыска. На основании определения суда и было заведено это розыскное дело. Десятки ответов на запросы, посланные в разные уголки страны, никаких сообщений о месте его пребывания не принесли. Ко второму делу прилагалось еще одно — уголовное, возбужденное прокуратурой Кагульского района. Было оно возбуждено на основании заявления сестры Вовченко — Харитины Михайловны, которая утверждала, что, насколько ей известно, брат уезжать никуда не собирался. А потому она думает, что он убит женой либо ее родственниками, с которыми никогда не ладил. В протоколе осмотра дома, где он жил, среди прочих подробностей была упомянута и такая — «обнаружена мужская дубленая шуба, в нижней часта которой вырезан лоскут. На шубе заметны пятна, похоже, что это кровь». Здесь же имелось заключение экспертизы: да, это кровь человека. Но группу ее установить так и не удалось. Было и по этому поводу в деле объяснение жены. Были десятки свидетельских показаний, протоколы допроса. Были разные версии, но ни одна из них так и не подтвердилась. Жена и ее мать твердили одно — «уехал, неизвестно куда». Люди же посторонние склонялись к тому, что он, Николай, ими убит. Когда двухмесячный срок следствия истек, следователь прокуратуры своим постановлением приостановил дальнейшее ведение дело до розыска Н. М. Вовченко. Спустя месяца три сестра Вовченко вторично написала заявление — та этот раз уже на имя Генерального прокурора СССР. Обвиняя милицию и прокуратуру в том, что они не сделали все возможное для раскрытия преступления, она сообщала дополнительно, что, зайдя как-то к племянникам, увидела вдруг в доме шапку брата. Другой у него не было, а без головного убора вряд ли бы он уехал в такую пору. Март даже в Молдавии стоял холодный. На основании ее вторичного заявления это уголовное дело было затребовано в прокуратуру СССР и постановление о приостановлении следствия было отменено. Начался новый этап следствия. Прокурор республики направил в Кагул следователя по особо важным делам. Была организована специальная оперативная группа по делу об убийстве Вовченко. В один из дней в доме и во дворе, где жил Николай, был произведен самый тщательный обыск — проверены стены, сарай, чердачные помещения, перекопан почти весь приусадебный участок. Тогда-то в земле, около одного из фруктовых деревьев, и была обнаружена… каракулевая шапка. Та самая, о которой писала сестра. Агриппина Вовченко объяснила: шапка — подарок мужу сестры. Боясь, что теперь, когда он бросил их, сестра мужа отберет шапку, они с матерью закопали ее до времени. Оперативная группа опять вызывала всех свидетелей, сводила их на очных ставках, выясняла и проверяла вновь и вновь все детали этой запутанной истории. Но… ощутимых положительных результатов и эта огромная работа не принесла. И опять… уже во второй раз, ввиду того, что срок ведения следствия по делу истек, следователь прокуратуры вновь вынес постановление о приостановлении дальнейшего следствия до розыска Вовченко Н. М. Семь лет прошло с тех дней. Дело пухло. Полнилось многочисленными запросами, ответами на запросы, всевозможными документами. Целых три тома теперь составляло оно. Но не ясным было таким же, как и в самом начале. Впрочем, теперь в обилии всевозможных бумаг было, пожалуй, разобраться еще сложнее. Что бы сделал человек, помышляющий прежде всего о том, чтобы жить спокойно и тихо? Постарался бы просто забыть об этом деле. Оправдания-то и искать не надо — столько уж людей вело его, столько потрачено и сил, и средств, и времени, что ж тут еще сделаешь! Тогда по свежим следам не смогли, а теперь уж… И вряд ли кто упрекнул бы нового работника в том, что не раскрыто оно им, не доведено до конца. Думающий о карьере, равнодушный ко всему, кроме своего личного благополучия, человек, конечно, скорей всего схватился бы за новые дела. Скорей бы попытался в них проявить себя. Шансов-то в новых делах, не обросших таким багажом, не таких давних, наверняка, больше. Но Комин не был бы Коминым, если бы позволил себе не только поступить — подумать так. Он именно с этого дела и начал. Трудно теперь сказать, сколько потратил Михаил Дмитриевич времени только на то, чтобы уяснить для себя весь ход следствия, изучить каждый документ, вдуматься в каждую строку протоколов, очных ставок, допросов, заявлений, свидетельских показаний. Чтобы представить себе, пока без личного знакомства, характеры тех, кто имел к делу самое непосредственное отношение, чтобы понять мотивы их поведения, проанализировать образ мыслей, поступков, объяснений каждого действующего лица. Чтобы, наконец, докопаться до той основы, которая только и может объяснить все, установить истину. С этого и началась его будничная, нелегкая работа в уголовном розыске — с бессонных ночей, напряженных дней. Жене тогда говорил: «Не обижайся, вот только с этим делом покончу, и все опять войдет в норму». Забегая вперед, надо сказать, что за этим делом последовало другое, потом третье, десятое, а он по-прежнему большую часть суток, порой в ущерб здоровью, семье, отдает делу. Жена уже привыкла. И не пилит за это. Уж кто-кто, а она знает: его не переделаешь. Впрочем, вряд ли другим он был бы ей и детям так дорог… Изучив все три тома, зная почти наизусть каждый документ, стал Михаил Дмитриевич выяснять подробности у товарищей, принимавших участие в следствии, ведших это дело. То к одному будто ненароком зайдет, то к другому, спросит, если не ясно, еще раз вернется к разговору. Некоторые, удивленные этой его настойчивостью, спрашивали: — Ты что ж, себя умнее других считаешь? Ведь и до тебя не новички этим делом занимались. Он не хотел обиды. Отвечал мягко, но твердо: — Умнее себя не считаю. То, что сделано, не зачеркиваю. А доделать до конца — попытаюсь. Это же в общих наших интересах. — Конечно, — соглашались они. — Если что — заходи, пожалуйста. И он опять заходил. Три месяца ушло на то, чтобы свести все в стройную систему, наметить план действий. Надо сказать, что одними томами да свидетельствами коллег он не ограничивался. Встречался с людьми. Говорил и не однажды с теми, чьи показания уже были в деле. Начал с Ивана Леонтьевича Бирюкова, бывшего соседа семьи Вовченко. Дело в том, что среди прочих версий, проверявшихся его коллегами, была и такая — убил Николая его приятель и сосед Иван Бирюков, якобы питавший симпатии к его жене. За это говорил будто и тот факт, что вскоре после исчезновения Николая Бирюков продал свой дом и купил где-то новый в другой части города. Кстати, именно он, Бирюков, был последним из посторонних, кто видел Вовченко вечером, накануне исчезновения. В ходе следствия версия эта не подтвердилась: не было никаких причин у соседа сводить счеты с Николаем. Но поговорить с ним, порасспросить его о жизни семьи Вовченко, о взаимоотношениях его с женой, тещей, детьми Михаил Дмитриевич посчитал не лишним. И эти встречи с ним, как и со многими другими, оправдали себя. Нет, сногсшибательных открытий оперуполномоченный, конечно, не сделал, но детали кое-какие уточнил, узнал многое, о чем в деле не упоминалось. И, кстати, убедился в полной невиновности Бирюкова. Новый дом, объяснил тот, купил потому, что старый ремонтировать уже не было смысла. Да и приусадебный участок хотелось иметь, а при старом его не было. После того как уж почти все, что можно было узнать от людей о семье Вовченко, он узнал, решил сам побывать у них в доме. В один из дней, заранее зная, что Агриппины Вовченко нет дома — ушла на работу во вторую смену, — пошел с визитом. Представившись работником райфо, попросил кое-что уточнить. Мать Агриппины, которую, он знал по делу, зовут Марией Ивановной Савченко, встретила неприветливо. На все вопросы цедила сквозь зубы: — Ничего, кроме кур и трех гусей, не держим. Постояльцев нет. И чего пристаете? Он старался ее грубости не замечать. Спрашивал вежливо. — Постояльцев нет? Будьте добры, покажите тогда домовую книгу. О каждом, записанном в книге, спрашивал как бы мимоходом. Бабка продолжала что-то ворчать. Но на помощь пришел ее внук Ванюша. Добрая улыбка Комина сразу покорила его: — Это мама… — Это баба… — Это мой папа… Комин внутренне подобрался. Но вмешалась бабка. Объяснила зло: муж дочери. Бросил, варнак, семью и неизвестно где живет в свое удовольствие. Распространяться дальше она не стала. Проводить до калитки пошел Ванюша. Он, охотно откликаясь на добрые слова, рассказал, что учится в школе № 7. Очень старается, чтобы не огорчать маму. Очень любит свою учительницу Тамару Александровну. — А что ж ты так плохо одет? — спросил Комин. — Был бы у него отец, как у всех, — забубнила догнавшая их бабка. — Ну, ничего, — улыбнулся Комин, положив руку на плечо умолкшего мальчика. — Вернется твой папа, и у тебя будет все, как у других. На глазах у мальчишки показались слезы. Когда бабка отошла, он вдруг обронил горько-горько: — Нет, дядя, мой папа домой не вернется. Мальчик, видимо, что-то знал. Уже потом, установив тесный контакт с его учительницей, той самой Тамарой Александровной, которую Ванюша любит «больше всех», Михаил Дмитриевич узнал, что сестра Вовченко убедила ребят в том, что их отец убит. Убит матерью. Под гнетом этой страшной мысли и росли они все эти годы. Росли, не смея смотреть людям в глаза! А матери, злой и неласковой, боялись. «Была ли такой всегда?» — вот что пытался он выяснить. Беседовал с людьми. Не раз и не два встречался с соседями, знавшими давно Агриппину Вовченко. И все они в один голос утверждали: нет, не такой они знали соседку. Была общительной и веселой, любила на людях бывать. Как исчез Николай — ее словно подменили. Как в раковину, ушла в себя. Стала скрытной. К соседям почти не заходит. И на улице, как бывало, не остановится. Обронит: «Здрасьте», — и пошла к себе. Детям своим строго-настрого запретила ходить в другие дворы и дома. С каждым днем у Комина наблюдений становилось все больше. — Ну, как, — спрашивали его сослуживцы, — все еще надеешься на успех? Брось ты его, это дело, пора уже смириться и успокоиться. Ничего определенного он еще сказать не мог, но все упорнее и упорнее напрашивался один-единственный вывод — Николая нет в живых. И если уж искать, то, наверняка, его труп или… то, что от него осталось. А где искать? Кладбище, хоть и рядом с этим домом, оно отпадает. Там был бы заметен в те первые дни каждый свежий след. Дом был и раньше тщательно обыскан. Сарай тоже. Где же? Не настораживая соседей, он все время пытался выяснить, как семь лет назад выглядел этот двор, был ли он другим. И вот сначала вспомнил один, потом еще несколько человек, что перед тем, как ему исчезнуть, Николай ремонтировал дом. Глину для этого брал у сарая. Выгреб столько и для себя и для других, что там образовалась тогда солидная яма, не меньше двух метров глубины. «Вот оно!» — спохватился Комин. Это было уже что-то. Пыл чуть поостыл, когда вспомнил, что в деле-то есть упоминание об этой самой яме. Он еще раз, уже с пристрастием перечел этот документ — протокол, подписанный работниками прокуратуры и понятыми. Раскапывали ее, но ничего не нашли. «Ну, вот и последняя твоя карта бита, — рассуждал, огорченный неудачей. — Хвалилась синица море поджечь. Тянул, тянул, да так ни к чему и не пришел. А пора бы уж взяться и за другие дела. Да, но как быть с этим? Как? Да и товарищам как в глаза теперь смотреть?» Будь у негодругой характер — наверняка бы не выдержал. Махнул бы рукой, взялся за другое дело, что ждало его вмешательства. Ведь никакого просвета, никакой даже слабой надежды. Но он — это он: если начал — должен кончить, иначе сам себя первым же перестанет уважать. «Подождет тебя еще сейф, — сказал, как собеседнику, солидно распухшему за последние месяцы делу. — Подождет». Он и виду никому не подал, что сам чуть было не разуверился в успехе. Опять — в какой уж раз! — сел за дело. Вспомнил о протоколе, о раскопке ямы… А как она велась — раскопка-то? Вот ведь чудак, так опечалился последней неудачей, что забыл главное выяснить. Стоило только заговорить об этом, как тут же объяснили ему — успокойся, уж раскопка велась самым тщательным и серьезным образом. Значит, повторную делать незачем, — решил. Но в этот же день — бывают все-таки счастливые случайности — зашел к нему бывший тогда понятым Софрон Ткач. — Не можете ли вспомнить тот день? — обратился к нему с вопросом Комин. — Отчего же, могу, — начал охотно Софрон. И именно от него узнал Михаил Дмитриевич, что яма, глубиной не меньше двух метров, раскопана была лишь до половины. Жаром полыхнуло лицо. Вновь воскресла надежда. Утром в 8 часов 20 минут в сопровождении работников милиции и понятых Комин появился во дворе Вовченко. …Вместе с землей были выброшены на поверхность кости и челюсть, очень уж напоминающие человеческие. Комину вечностью показались эти три дня, пока не позвонили ему из судебно-медицинской экспертизы. Да, подтвердили эксперты, обнаруженные в яме кости принадлежат мужчине. Возраст его — 30—32 года. Рост 173—175 сантиметров. В земле они пробыли лет семь. Но рано было торжествовать победу. Оставался еще один, наверняка, — надеялся он, — заключительный этап. …И Агриппина Вовченко, и мать ее категорически в течение трех суток отрицали свою причастность к убийству. Но Михаилу Дмитриевичу терпения не занимать. Долгие часы говорил он то с одной, то с другой. Наконец, не выдержав, первой сдалась мать: — Я убила, — зло бросила Комину. — Я одна, а дочь моя ни при чем. И уж потому, как она это настойчиво повторяла, понял он, что всеми силами пытается старуха спасти от наказания дочь. Так оно и оказалось. Убили Николая Вовченко его жена и теща. …В последнее время ему расхотелось работать в совхозе «Правда». Стал заниматься заготовкой камыша в плавнях. Начал пить. Домой каждый вечер возвращался пьяным. Устраивал скандалы. Так было и в тот вечер 10 марта 1953 года — вечер, который стал для него роковым. Едва передвигая ноги, вошел он в дом. Стал требовать ужин. Жена ему тихо, чтобы не разбудить спавших в соседней комнате детей, ответила: нечем мне тебя кормить. Моих денег и на детей-то едва хватает. Рассвирепев, он выгнал ее и мать во двор. Нашел — они видели это в окно — то, что было приготовлено детям на завтрак, съел все и тут же, в кухне, растянувшись на топчане, уснул. Не помнит она, как схватила топор, как, ворвавшись в дом, со всего размаху опустила на его голову. Он приподнялся с топчана и, обливаясь кровью, свалился замертво на пол. Вместе с матерью они вынесли его, мертвого, и бросили в яму, засыпав сверху землей и мусором. Чтобы уничтожить следы крови на полу и на стенах, ночью же вымазали заново глиной пол, побелили всю кухню. Часть его шубы, залитой кровью, отрезали и сожгли. Ну а потом, тревожно бодрствуя до утра, сочинили эту версию — бросил, дескать, семью на произвол судьбы и подался неизвестно куда. Чтобы выглядели эти слова правдоподобно, жена-убийца подала заявление в нарсуд. Был труп в той яме и в тот момент, когда ее раскапывали в первый раз. Только лежал он на глубине двух метров, а копнули-то нерадивые исполнители лишь на метр. И, конечно, не нашли. Матери и дочери эта оплошность была на́ руку. Той же ночью раскопали они труп, разрубили на части и сожгли в печи. Видно, было очень темно, коль не заметили они на дне оставшихся костей. Они-то и были найдены через семь лет. …Суд приговорил Агриппину Вовченко к восьми годам лишения свободы. Мать ее — к 5 годам лишения свободы условно. — Ну, что, с победой тебя, — горячо поздравляли Михаила Дмитриевича Комина сослуживцы. — Ты и впрямь молодец. Они восхищались товарищем искренне. И разве не стоил того он, человек, показавший уже в своем первом деле образец беззаветного служения истине, образец упорства и непоколебимости, наитребовательнейшего отношения к самому себе. За дело, столь блистательно раскрытое через 7 лет, министр вручил Комину именные часы. Все думали, что для него оно закончилось в тот день и тот час, когда передал его старший оперуполномоченный уголовного розыска следователю прокуратуры. Но это было не так. Закончив, так сказать, официальную часть, Комин по собственной инициативе взялся за неофициальную. И успокоился только тогда, когда была устроена судьба детей Вовченко. Не без его содействия определили их в Чадыр-Лунгскую школу-интернат, где были они вплоть до дня возвращения матери. А она вернулась в 1967 году. И разве не удивительно, что первый человек, к которому обратилась Вовченко, был Михаил Дмитриевич Комин. Он ей и помог устроиться на работу. Бывает, встречаются они теперь на кагульских улицах. Он обязательно остановится, спросит, как дети, как у самой дела, все ли на работе в порядке. Она охотно ему отвечает. И долго еще после того, как уже распрощаются, стоит и смотрит ему вслед. И взгляд ее — теплый и благодарный — выражает гораздо больше слов.В. Шевченко Одна летняя ночь
I
— Мария-а!.. Мария! — звенел молодой девичий голос. Среди работавших в поле было несколько Марий. Они одновременно откликнулись. — Да нет, мне Машу нужно! — уточнила девушка. Это было понятнее: в своем кругу одну Марию называли Марусикой, другую — Маней, третью — Марьей. — Чего тебе? — отозвалась Маша. — Которая сумка твоя? — Серая, с оторванной ручкой. — Нет здесь такой. — С той стороны куста посмотри. Девушка исчезла в кустах. Затем появилась опять-таки без сумки. — И здесь нет. Маша ругнула подругу за нерасторопность и сама пошла искать сумку. — Тебя пока дождешься, от жажды умереть можно, — упрекнула она девушку. Но, обыскав место, где женщины сложили свои свертки, сетки и сумки с обедом, она так и не нашла свою с оторванной ручкой. «Спрятали, наверное», — подумала Маша, затем взяла первый попавшийся под руку бидончик с водой и отпила несколько глотков. Вода, хоть и стояла в тени, прогрелась, была невкусной. Пришла обеденная пора. Маша снова искала и не находила своей сумки. Девушки посмеивались, шутили. Но, когда Маша не на шутку рассердилась, все бросились помогать ей. Сумки нигде не было. — Девчата, кто пошутил? — спрашивали друг друга. Все единодушно отрицали, — мол, какие могут быть шутки, если человек голодным остается. — Может, ты ее дома забыла. — Да нет же, — настаивала Маша, — я ее вот здесь положила. Шутки прекратились. Все чувствовали себя неловко. Поиски закончились общим обедом: выложили на траву все, у кого что было, наперебой угощали Машу и успокаивали ее. — Не жалко сумку, — грош ей цена в базарный день. Перед вами неудобно. Получается вроде бы я нарочно шум подняла. — Ну, будет тебе. Подумаешь, кто-то шел мимо и пошутил — взял да и спрятал. На всякий случай после обеда еще прочесали лесополосу. Да ничего не нашли. Молча приступили к работе. Занятые поисками, а затем обедом, они не обратили внимания на мужчину, который, расположившись метрах в двухстах от них, там, где кончалась табачная плантация, а массив кукурузы вплотную подходил к лесополосе, не спеша опустошал серую с оторванной ручкой сумку. Содержимое он поглощал жадно, с удивительной быстротой. Большим, можно даже сказать громадным перочинным ножом он нарезал сало и проглатывал ломтики его вместе с кусками пирога, почти не пережевывая. От этих глотательных усилий кожа на его круглой коротко стриженной голове подергивалась, оттопыренные уши шевелились, словно помогали проталкивать пищу. Покончив с салом и пирогами, мужчина пошарил в сумке и извлек вареные яйца. Над ними он трудился уже более спокойно. Ощущение голода притупилось, и теперь он не просто насыщался, а смаковал. Старательно вычищая ножом яичную скорлупу, он явно растягивал удовольствие от обеда. Молоко пить не стал, спрятал бутылку в карман серого помятого пиджака. Зато бурлуйчик с водой осушил до дна. Взглянув на женщин, приступивших к работе, мужчина улыбнулся, подхватил сумку за уцелевшую ручку и пошел к тому месту, где недавно еще шумели колхозницы, разыскивая пропажу. Шел, продираясь сквозь кусты, стараясь оставаться незамеченным. Сетки и сумки, похудевшие после обеда, были свалены в кучу под тем же кустом, что и раньше. Мужчина бросил сумку сверху, еще раз взглянул на работающих и скрылся в лесопосадке.II
Июльский зной волнами перекатывался через подоконник распахнутого окна, обжигал лицо. Дежурный по райотделу милиции курсант Александр Рак, изнемогая от жары, все поглядывал на часы — скорей бы вечер, будет все-таки не так душно. Не повезло ему с практикой. Другие попали на оперативную работу, а ему досталось практиковаться в должности постоянного дежурного. Сиди здесь, выслушивай телефонные звонки. Где-то соседи ругаются — звонят, зовут милицию, муж напился, жену в дом не пускает — звонят, приведут какого-то подвыпившего сквернослова — оформляй бумаги на него… Надоедает. То ли дело оперативники. Хотя вот по соседству за стенкой сидит «опер» угрозыска. Тоже с утра не выходит из кабинета, бумаги пишет. Ему, небось, также душновато, а сидит. Но его хоть телефонными звонками не одолевают по мелочам. Вот опять звонок. — Дежурный по райотделу милиции курсант Рак слушает, — автоматически доложил в трубку Александр. — Телефонограмма?.. Сейчас, минуточку… Диктуйте… Голос в трубке бегло стал читать, кому адресуется. Дежурный и без него знал, что все идет начальнику. Дальше пошел текст. Александр записывал, переспрашивая. — Мест заключения?.. Ага — из мест заключения. Совершил что?.. Побег… На сколько осужденный?.. Ого! Немало!.. Георгий Иванович… Как фамилия?.. Диктуйте по буквам… А… Н… следующая дэ или тэ?.. Чья-то рука вырвала у дежурного трубку. Рак оглянулся, сзади стоял «опер» угрозыска. — Кто бежал? Андроничан? — спросил он того, что был на другом конце провода. — Ясно. Остальное понятно, говорю. Принял телефонограмму старший лейтенант Кройтор. Он бросил трубку на аппарат, быстро дописал текст телефонограммы в тетрадь и, уже уходя, обратился к дежурному. — А телефонограммы нужно пооперативней принимать, товарищ курсант… Обо всем срочно сообщите начальнику. Я поехал в Гангуру. Так и передайте ему, он знает почему, — и выбежал из дежурки. Через минуту Кройтор промелькнул мимо окна на мотоцикле. «Тоже мне спец, — подумал дежурный. — Выслушал и ускакал. А куда? Преступник бежал. Сядь, подумай, куда он может направиться. Возможно, он уже проехал в одной из машин, что прошли сегодня. Их через Новые Анены сотни за день пробегает». Александр проставил в тетради часы приема телефонограммы и сунул ее в стол. …Степан Кройтор возвращался из Гангуры не прямой дорогой, он колесил по проселкам, останавливался у каждого оврага, каждой рощицы и лесополосы. Словно полководец перед сражением, изучал подходы к укромным уголкам, созданным природой, которые мог использовать противник. «Сражение не сражение, а поединок будет трудный», — подумал Кройтор. Андроничан из той категории преступников, что действуют нагло, а в случаях опасности не брезгуют никакими средствами для своего спасения, не останавливаются даже перед убийством. На вершине холма старший лейтенант затормозил и, не сходя с мотоцикла, закурил. Солнце клонилось к закату. Мимо проехали на телеге несколько колхозников. Они поздоровались с Кройтором — узнали, хотя он был не в милицейской форме. А вообще-то его в районе многие знают в лицо. И он знает многих. Вот те, что проехали, — это болгары из Александровки. Собственно, сейчас это село — продолжение Гангуры, но по традиции болгарскую часть все еще называют Александровкой. Телега удалялась. Колхозники о чем-то оживленно беседовали. О чем? Ну, конечно же, не об Андроничане. Они даже не подозревают, что он бежал и вот-вот может появиться в селе. «Да, не очень радостное известие для них», — подумал Кройтор. Только село избавилось от этого бандита и вдруг — бежал. Профессиональное чутье подсказывало Кройтору, что Андроничан придет сюда. Что ж, нужно приготовиться к встрече.III
Андроничан брел кукурузным полем. Он за последние три дня прошагал более 100 километров. И все кукурузой, виноградниками да лесными полосами, обходя трассы и оживленные проселки. Дороги были перекрыты, он это знал. Зайди в какое-либо село в такой одежде — люди не только хлеба не дадут, но сразу же задержат и вызовут милицию. Поэтому он, по-волчьи прячась, стараясь никому не попадаться на глаза, перебирался из одного кукурузного массива в другой. Кукуруза не только укрывала, но и кормила. Правда, его уже поташнивало от пресной сладковатой мякоти еще несозревших зерен. Однако голод жестокая штука — вынудит и землю жевать. Лишь однажды поел по-человечески. Набрел на шалаш сторожа виноградника. Самого сторожа не было, но был хлеб и кое-что к хлебу. Андроничан прихватил все с собой и, главное, добыл громадный перочинный нож с деревянной ручкой и серенький старый пиджак. Андроничан брел полем, на ходу определяя самые молодые початки, срывая их. Когда обглоданный початок падал на землю, он сразу же принимался за другой. «Ничего, скоро буду дома», — шевельнулась мысль в его стриженой голове. И эта мысль скривила губы в улыбке. — «Дом»… Суд поселил его на двадцать лет в казенный дом, так что на отцовский рассчитывать нечего. Сейчас ему 39. В шестьдесят перед ним откроют дверь свободы. Зачем она тогда? А все эти годы остальные будут наслаждаться жизнью? Нет, кое-кому не придется — зло швырнул он на землю недогрызенный початок. Только бы не сцапали раньше, чем он доберется домой. Потом будь что будет, хоть «вышка». Теперь же он сделает все, чтобы в селе о нем долго помнили, чтобы одного его имени боялись. Андроничан замедлил шаг — кукуруза кончалась. За ней была густая лесополоса. А дальше начиналась гангурская земля. Внимательно осмотрелся вокруг. Неподалеку на табачной плантации работали женщины. Под кустом лежали их сумки с обедом. Андроничан, не раздумывая, пробрался к ним, выбрал самую увесистую и вернулся к кукурузному полю — в случае тревоги легче будет скрыться. Не прерывая трапезы, он наблюдал, как женщины суетились, пытаясь найти пропажу. А после обеда подбросил пустую сумку на место и сам вдоль лесополосы двинулся к родному селу. Если пройти еще одно поле, выйдешь на дорогу, ведущую в райцентр. А если бы удалось благополучно пересечь дорогу, — попал бы в знакомые места, где среди рощиц, балок и оврагов можно надежно укрыться. Но делать это сейчас опасно. Лучше ночью. И вдруг возникла дерзкая мысль. В полукилометре рокотал трактор, перепахивая свежее жнивье. Андроничан смело направился к нему. Из-за куста разглядел, что тракторист был молоденьким парнишкой. К тому же незнакомым. Когда трактор развернулся, Андроничан догнал его, прыгнул на бегущую ленту гусеницы и оказался на сиденье рядом с пареньком, который от неожиданности даже рычаги управления выпустил. — Привет, — весело поздоровался Андроничан. Тракторист еще не пришел в себя и лишь кивнул. А когда присмотрелся к лицу пришельца, глаза его испуганно округлились и даже из-под слоя пыли и мазута проступила бледность. «Узнал, — с удовлетворением отметил Андроничан, — узнал и испугался». — Узнал? — спросил он паренька. Тот кивнул. — А я тебя нет. Что-то не припомню. — Я из Мисовки… — А-а… Женился у нас что ли? — Угу… — Ну, ладно. Паши… И рассказывай, что в селе делается. Ждут меня? Парень молчал. Он уже немного овладел собой. А чтобы не отвечать, усиленно занялся вспашкой. Без нужды подправлял и без того ровно идущий трактор, оглядывался на плуг. Андроничан извлек свой «трофейный» нож и приступил к чистке ногтей. — Так что говорят в селе? — переспросил он. — Говорят, что ты бежал и тебя расстреляют, если поймают. — Это я знаю. Чужих много понаехало? — Много. — Кто командует? — Не знаю. — Хорошо… Дуй на дорогу, а затем меня подбросишь вон туда, к оврагу. Парень хотел что-то сказать, но, покосившись на нож, промолчал и, подняв плуг, погнал трактор к дороге. Из-за поворота показался мотоцикл с коляской. Андроничану достаточно было лишь взглянуть, чтобы узнать, кто ехал. — Стой, — жестко схватил он за руку тракториста, — пусть проедет наш многоуважаемый угрозыск. А когда мотоцикл промчался мимо, он махнул рукой, мол, давай дальше. — Когда начальство едет, нужно уступать дорогу, — шутливо объяснил он. — А это поехал мой старый друг «опер» Степан Васильевич Кройтор. Ему, наверное, поручили взять меня. Плохи мои дела — он меня хорошо знает. — Ну, будь здоров, — попрощался он, когда трактор остановился у оврага. — Но ты будешь здоров до тех пор, пока будешь молчать, что меня видел. Понял? Парень кивнул головой и, не разворачиваясь, задним ходом рванул машину обратно на поле.IV
В кабинете заместителя министра сидели несколько человек, в основном начальники отделов. Прошло три дня с момента побега, а преступник оставался на свободе. Сделано все, чтобы его задержать: перекрыты дороги, разосланы поисковые группы, организованы засады вокруг села Гангура. Однако пока никаких известий. Преступник матерый, и главная задача — не допустить, чтобы он успел совершить какое-нибудь преступление. В Гангуре и ближних селах подняли на ноги дружинников и сельских активистов. — Я понимаю, что у него одна дорога, — после паузы продолжал заместитель министра, — а чтобы нам на него выйти, нужно пройти тысячи дорог. Но для нас это не оправдание. Мы обязаны задержать преступника, оградить честных людей от возможной беды. Для этого нужен активный поиск, а не пассивное ожидание, пока он наскочит на вашу засаду. Кстати, местные работники милиции возражают против засад. Засады только сеют панику и мешают угрозыску. Один из них, Кройтор, особенно против и считает, что своими силами Ново-Аненская милиция сможет справиться. А каково ваше мнение об этом? — спросил он начальника отдела уголовного розыска. — Я думаю, — не спеша начал тот излагать свое отношение к сказанному, — что Кройтор прав. Это работник опытный. Он в органах милиции работает с 1953 года. Учился в Ленинградской школе милиции. Опрометчивых решений не принимает. Если он предложил убрать группы перекрытия — значит имеет на то основание. Это раз. Ну, и потом, Андроничана он знает очень хорошо, ему пришлось с ним повозиться три года назад, до суда. Сложное было дело. Но распутали. — Ну что ж. Осталось только послушать самого Кройтора, — сказал замминистра и нажал кнопку звонка. — Пригласите, пожалуйста, ко мне Кройтора, он уже, наверное, приехал, — попросил он заглянувшего в кабинет секретаря. «Сейчас потребует отчет о действиях», — подумал Кройтор, войдя в кабинет. Но замминистра неожиданно спросил: — Что вам, Степан Васильевич, нужно, чтобы задержать Андроничана? — Прежде всего необходимо убрать все засады. То и дело на них натыкаются местные жители. Атмосфера в селе и без того беспокойная. Вечером в дом ни к кому не достучишься — боятся люди, всякие небылицы сочиняют об Андроничане. А повод один — видели, мол, везде засады с автоматами. Никто в поисковых и заградительных группах в лицо преступника не знает. Он может десять раз мимо пройти незамеченным. Вместо всех участников поиска я прошу только проводника со служебной собакой. Замминистра молчал, вычерчивая на бумаге какие-то фигурки. — Хорошо, — наконец сказал он. — Сейчас вместе с вами выедет проводник с собакой.V
Домик стоял чуть-чуть на отшибе, окруженный небольшим садом, заросшим малиной. Хозяева усадьбы, старик со старухой, хлопотали у стола. Проводник служебной собаки Михаил Гребенкин и инструктор Юрий Гордеюк молча курили. У ног Михаила, положив голову на лапы, растянулась овчарка. Ни Гребенкин, ни Гордеюк не представляли, как Кройтор предполагает взять Андроничана. Привез их сюда поздно вечером, приказал, если придется, то и двое суток носа не показывать на люди. Предупредил и хозяина с хозяйкой, чтобы никто не знал, что за гости у них. Сам же сказал, что Андроничан уже появился, что его видели. Нужно было сразу же по горячим следам двинуться и задержать. Нет, он что-то мудрит. Кройтор заехал только под утро, когда рассвело. Видно было, что он не спал. Ему действительно не пришлось сомкнуть глаз. Еще вечером, когда он встретился с Петром Касьяном, своим добровольным помощником из местных комсомольцев, тот ему рассказал о событиях дня. Во-первых, Андроничан заставил Саню — молодого тракториста — отвезти себя к оврагу, что между Гангурой и Мисовкой. Во-вторых, в тот же день Андроничан заглянул на полевой стан тракторной бригады к отцу. Отец сына принял холодно, сказал, что помощь оказывать ему не намерен, и посоветовал добровольно явиться в милицию. Андроничан засмеялся: «И не подумаю. Пусть, побегают за мной. А о себе, старик, не беспокойся. Если спросят, скажи, что я здесь был и ушел. Куда — никто не знает. Возможно, даже совсем отсюда уйду. Понял? Так и скажи, что решил я отсюда уйти». — Я думаю, — закончил Петя, — он еще не ушел. Сегодня ночью, возможно, домой к жене заглянет, ему ведь нужно переодеться. — Да, возможно, — согласился Степан Васильевич, — но может и другое случиться. Он задумчиво курил. «Может случиться, что именно этой ночью Андроничан попытается свести счеты с теми, кто помог разоблачить его как преступника три года назад. Иначе зачем ему наводить нас на мысль, что он ушел отсюда. Нет, врешь, я твою натуру хорошо знаю. Ты не мог не видеть, как снимались группы перекрытия. Слишком шумно это делалось. Ты придешь в село. Только к кому?» — Вот что, Петя. Сейчас в правлении собирается кое-кто. Я пойду туда, побеседую. А ты обойди вот этих товарищей и предупреди, чтобы не очень крепко спали. Кройтор вырвал из блокнота листок и написал несколько фамилий. В основном это были главные свидетели по делу Андроничана. — Как только их обойдешь, скажи своим ребятам, что придется ночью подежурить. Пост у дома Андроничана остается постом номер один. Человек пять пусть патрулируют на улицах. В пять утра занять точки наблюдения вокруг села, как мы раньше договорились. Понятно? Это если ночью ничего не случится. Ясно? — Ясно. Можно за домом его жены я буду наблюдать? Петя почему-то был уверен, что Андроничан заявится в свой дом. За ним наблюдали с чердака соседнего недостроенного дома. — Можно, только ты с ребятами сойди вниз, наблюдайте из окон. Когда Кройтор выходил из правления, начал накрапывать мелкий дождик. «Этого еще не хватало», — с досадой подумал он. Если дождь усилится, работа усложнится. А преступнику он на руку. — А может, и нам подежурить? — угадав тревогу Кройтора, спросил председатель сельсовета. — Нет, не нужно. Делайте, как условились. Спокойно идите по домам. Чем больше людей по пути вас будет видеть, тем лучше. А дежурных у нас как раз норма. Много народа на улицах — лишний шум. — Вы только осторожнее с ним. У него где-то автомат спрятан, — отозвался бригадир Селезнев. — Знаю, — ответил Кройтор. И, чтобы избежать лишних разговоров, быстро попрощался и ушел. Он шел до самой окраины, где оставил свой мотоцикл. Затем выкатил его на обочину, вынул из коляски плащ-палатку, расстелил ее на мокрой от только что закончившегося короткого дождика траве и прилег покурить. Со стороны дороги огонек папиросы не мог быть виден, прикрывал мотоцикл, а за спиной шелестела влажными листьями кукуруза. Степан Васильевич погасил окурок и машинально достал следующую папиросу. Автомат. Как он мог забыть о нем! Еще когда первый раз вели следствие по делу Андроничана, многие подтверждали, что видели у него автомат. Правда, плотника Васильева он убил, не применяя оружия. На ночные грабежи колхозных ферм и токов ходил с охотничьим ружьем. Приклад он, помнится, отломал, когда избивал колхозного сторожа Сергея Швеца. Это подтвердили и его компаньоны по ночным налетам Шестопалко, Усатый, Розлован. И если Андроничан сейчас придет в село с автоматом — дело осложнится. Ведь ребята-дружинники совсем безоружны. Кройтор взглянул на часы — малая стрелка перевалила цифру один. Пора прогуляться по улицам. Степан Васильевич поднялся и не спеша двинулся в село. Дружинников не встретил и не заметил ни единого поста. Но знал, где именно сидят хлопцы, и чувствовал их присутствие. «Молодцы, ребята», — похвалил он мысленно. И только на обратном пути остановился у дома отца Андроничана. Здесь тоже пост. Но где он? Тихонько свистнул. Звук был тонкий и короткий: то ли мышь запищала, то ли сонная птаха. В ответ тоже раздался такой же писк, и из-за колодца поднялась фигура. Кройтор подошел. «Ну как?» — спросил. «Все тихо», — ответил парень. «Если что, в драку сами не вступайте, у него может быть оружие», — шепнул Степан Васильевич. «У меня тоже есть», — отозвался парень и показал полуметровый металлический прут, — и остальные не с пустыми руками — ружье взяли на всякий случай». В четвертом часу, когда солнце еще не взошло, но рождающийся день уже рассеял ночную темноту, Степан Васильевич завел мотоцикл и выехал на дорогу. У села Мисовки встретил Федора Селезнева — бригадира. Тот мчался на бричке в Гангуру. Увидев Кройтора, он осадил лошадь и с ходу выпалил: — За Мисовкой у колодца Андроничан. Я уже позвонил в правление, оттуда сейчас выедет участковый с милиционерами. — У какого колодца? — нетерпеливо спросил Кройтор. — Что на развилке. — Езжай обратно и не спускай с него глаз. Я тебя догоню, — Кройтор завернул мотоцикл и помчался к «Малиновой роще» — так они окрестили дом стариков, где прятались Гребенкин и Гордеюк. Когда Степан Васильевич вошел в дом, проводник и инструктор служебного собаководства, как и вечером, сидели за столом. — Так, хлопцы. За работу. Оба вскочили. Гребенкин пристегнул к ошейнику овчарки поводок. Та без всякой команды рванулась к двери — почувствовала, что предстоит поработать. Через минуту разместились в мотоцикле и покатили в Мисовку. Сразу за селом догнали Селезнева — тот явно не спешил и подстегнул свою лошадку, только когда Кройтор обогнал его. Остановились у колодца. — Ребята, предупреждаю, у Андроничана, возможно, есть оружие. Предполагаю, автомат, — сказал Степан Васильевич. Гребенкин дал команду собаке искать след. Та осторожно обошла вокруг колодца и сразу же метнулась через дорогу к виднеющейся недалеко лесополосе. Кройтор дал сигнал рассредоточиться. Старшина Гордеюк стал заходить к полосе справа, Кройтор взял левее. Собака уверенно вела их вперед. Началась лесополоса. Степан Васильевич бежал, прощупывая глазами каждый кустик. И вот впереди мелькнула серая спина. Андроничан! Он не видел Кройтора, его внимание было приковано к приближающейся собаке. В этот момент Кройтор четко представил себе, что если Андроничан вооружен, сейчас ударит автоматная очередь. Он поднял пистолет и дал предупредительный выстрел в воздух. Андроничан вздрогнул и оглянулся. Гребенкин не знал, кто стрелял. Он пустил собаку, а сам готов был открыть огонь. Овчарка прыгнула в кусты и свалила Андроничана. Кройтор, подоспевший первым, навалился на преступника, заломил ему руку за спину. Собака вцепилась в ногу Андроничана, не позволяя ему шевельнуться. Гребенкин отвел овчарку в сторону, а старшина и Степан Васильевич ремнями связывали Андроничана. — Больно, гражданин начальник, — простонал тот. — Ничего, потерпишь. Подбежал участковый с двумя милиционерами. Но все уже было кончено. Гордеюк и Кройтор, сидя возле связанного Андроничана, курили. Гребенкин поглаживал собаку и кормил ее сахаром. — Ну как, голубчик, хватит бегать? — обратился участковый к Андроничану. Тот зло осклабился. — Как всегда, ваша сверху, — и отвернулся.* * *
Давно уже не посещал Кройтор Гангуру. Его перевели в отдел уголовного розыска министерства. За работой некогда, да и повода после поимки Андроничана не было. Бывшие сослуживцы, встречая Степана Васильевича, отмечают, что внешне он почти не изменился: все так же худощав и подвижен, спокоен и немногословен. Только погоны, уже майора милиции, подчеркивают, что со дня событий в Гангуре прошло немало времени. — Ну как, в министерстве спокойней работать? — спрашивают бывшие коллеги из Новых Анен. — Спокойнее, — улыбается Кройтор и достает свой неизменный «Беломор». Скажи, что должность старшего инспектора отдела уголовного розыска Министерства внутренних дел республики не менее беспокойная, чем прежняя, — начнут расспрашивать, что и как. А Степан Васильевич не очень любит рассказывать о себе. Поэтому, закурив, он еще раз уточняет: — Намного спокойнее. И промолчит о том, что сам только вернулся из длительной командировки — распутывал очередное опасное дело. И что в кармане лежит новое командировочное удостоверение — опять нужно выезжать в район, помогать местным работникам угрозыска. Что, уже работая в министерстве, он раскрыл более тридцати сложных преступлений.Г. Челак Иного нет пути
В закупоренной бутылке, растворившись в белой или красной жидкости, сидит, притаившись, злой джин. Демоническим оком он зорко следит: кто клюнет на его хитрые, коварные уговоры. И едва учует слабовольного, вкрадчиво начинает: «О человек, открой этот сосуд. Не пожалеешь!» Слабовольный останавливается. Кто произнес эти слова? Никто, вроде, с ним не заговаривал. Наверное, внутренний голос… И слабовольный не находит в себе силы противостоять соблазну. Он покупает бутылку и — один или с друзьями — предается сомнительному наслаждению, именуемому в народе пьянством. За первой бутылкой следует вторая, потом третья. И, соответственно, за легким возбуждением — неуемное веселье, потом богатырская храбрость и, в конце концов, состояние полной невесомости мыслей и чувств, которое хорошо укладывается в рамки крепкого выражения «сплошное свинство». Нам, живущим в Молдавии, хорошо знакомо значение слова «джин» (вин). Это — вино. Но «джин» — это также дух. «Спиритус» — по-латыни спирт. И одновременно — дух. И некоторые мужчины, в иных обстоятельствах проявляющие чудеса мужества, в поединке с джином (спиритусом) часто терпят позорное поражение. И тогда, натворив такое, что затмевает двенадцать подвигов Геракла, они приходят в себя в отделении милиции, где им тотчас предъявляют справедливый счет. По этому счету — хочешь не хочешь — приходится платить сполна.* * *
Немалая часть набедокуривших пьянчуг попадает в Октябрьский райотдел внутренних дел. Здесь, к их великому неудовольствию, им приходится иметь дело с Лидией Георгиевной Спеян. У этой женщины не совсем обычная судьба. Когда началась война, она, совсем еще девчонка, эвакуировалась с семьей из Тираспольского района в далекий Красноярск. Время было суровое: на фронтах шли ожесточенные бои, в тылу все было подчинено нуждам фронта. В те годы каждый честный человек определял свое место в жизни, сообразуясь с интересами оказавшейся в смертельной опасности Родины. Парни, даже не достигнув призывного возраста, рвались в армию. В армию, на помощь отцам, мужьям, братьям, стремились и многие женщины. Была и у Лидии Георгиевны такая мечта — стать снайпером, чтобы метким огнем поражать гитлеровских захватчиков, или медсестрой, чтобы выносить с поля боя раненых воинов. Это благородно, это нужно. Это романтика, подвиг, слава… Кто из нас, молодежи грозных сороковых годов, не мечтал отдать жизнь во имя опасения Отчизны! Теперь мы не досчитываемся многих школьных друзей — они спят вечным сном на полях под Волгоградом, Варшавой, Будапештом… А мы живы. Нас миновала пуля, а некоторым и пороха не пришлось понюхать: Родина послала трудиться в тыл — на фабрики, заводы, в шахты, колхозы. Когда после окончания десятилетки Лидии Георгиевне предложили работать в милиции, она сначала наотрез отказалась: это никак не входило в ее планы. Более того, это казалось ей чудовищным несоответствием со всеми ее представлениями о призвании, смысле жизни. Но когда она чуть поостыла, предложение умудренного опытом работника милиции перестало казаться таким уж нелепым. Он говорил о благородном труде стража общественного порядка, о романтике этой работы, полной беспокойства и опасностей, о ее значении в данное время, время суровых военных будней… Милицейская синяя шинель сидела на ней безукоризненно. Простым милиционером начала работать Лидия Георгиевна. Потом окончила школу милиции, стала оперуполномоченным, работала в группе дознания. А в 1960 году заочно закончила юридический факультет Кишиневского университета, и вскоре ее назначили начальником следственного отделения Октябрьского райотдела милиции. В своей работе она нашла все, о чем мечтала в юности. И за двадцать пять лет службы приобрела такой опыт, что, как говорят, видит насквозь людей, преступивших пределы дозволенного, и, как опытный мастер в тайнах часового механизма, разбирается во всех пружинах, приводящих правонарушителей сюда, на беседы с ней, и, в зависимости от результатов этих бесед, дальше: на скамью подсудимых или назад, в свой коллектив, в свою семью. Нет, не зачерствела, не огрубела на этой трудной работе Лидия Георгиевна. Всегда, во всех обстоятельствах ею прежде всего руководит человечность, она старается смягчить участь подследственного, если он того заслуживает. Вот перед ней парень лет двадцати. Юрий Г., рабочий Кишиневской мастерской ювелирных изделий. Среднее образование не помешало ему до безобразия напиться. Потеряв рассудок под действием винных паров, он, находясь на Рышкановке, у озера, вообразил себя Адамом в раю, разделся догола, нацепил на шею черный галстук и в таком виде стал разгуливать среди отдыхающих. Глупый мальчишка! Конечно, он отделался легким наказанием, и есть надежда, что повторной встречи с ним не будет. Но не всегда деяния, вызванные опьянением, кончаются так безобидно. Александру Д. — тридцать лет. У него незаконченное высшее образование, а работал он заведующим отделом магазина. Никогда не проявлял строптивости характера. А вот хлебнул лишнего и… О, чего только не делает злой джин! Шел Александр по улице Котовского, шел пьяный в дым. И заметил двоих — мужа и жену, стоявших у ворот. Подошел, приставил нож к животу мужчины и стал оскорблять женщину. Когда та убежала, погнался за ней, размахивая ножом, начал ломиться в дверь. Потом ворвался в другую квартиру, крича, что зарежет всякого, кто к нему подойдет. Сорокалетний Дмитрий Р. тоже не может пожаловаться на отсутствие образования. Он закончил среднюю школу и работал слесарем. Ничего плохого за ним не водилось до тех пор, пока злой джин не попутал его. Когда же это случилось, Р. сел в троллейбус и вмиг вообразил себя контролером. Ему вдруг показалось, что некий гражданин едет зайцем. Он потребовал предъявить билет, а так как гражданин не подчинился — стал бить его, а заодно и его жену, вмешавшуюся в ссору. Примерно восемьдесят процентов всех преступлений приходится на долю правонарушений, совершенных в нетрезвом состоянии. Почтенный, уважаемый человек, ничем прежде не запятнанный, напившись, вдруг оказывается автором весьма и весьма скверной истории, которая приводит к печальным последствиям. — Зачем вы это сделали? — спрашивает Лидия Георгиевна очередного «клиента». — Но ведь я был в нетрезвом состоянии! — восклицает «клиент». Он искренне убежден в том, что состояние опьянения полностью оправдывает его, и доказывает, что в трезвом виде ни за что не допустил бы такого. И Лидия Георгиевна еще и еще раз терпеливо объясняет, что проступок, совершенный под воздействием алкоголя, не только не оправдывает человека, но даже отягчает его вину. — Не пейте, если не умеете пить, — убеждает она. — Пейте минеральную воду, пейте соки, потому что вино может окончательно вас погубить… Каждая такая встреча превращается в своеобразную лекцию против алкоголизма. Начальник следственного отделения взывает к совести провинившихся, приводит в пример случаи с трагическим исходом, говорит о ложности общепринятого представления, будто потребление спиртных напитков — это непременный признак мужской доблести. — Скорее всего пьют те, кому алкоголь возмещает недостаток мужества, — убеждает Лидия Георгиевна. — Но это далеко не равноценный заменитель… И, говоря, она зорко всматривается в лицо сидящего перед ней мужчины: проняло или нет? Иногда ей кажется, что все усилия напрасны, что эта ее титаническая работа — борьба с ветряными мельницами. Но вот приходит посетитель или прибывает письмо от человека, отбывшего положенное наказание либо отпущенного под честное слово. Теплая благодарность за добрый совет, за материнскую строгость рассеивает минутное колебание, придает новые силы и окрыляет не на час или два, как проклятый алкоголь…* * *
Трагический исход… Это очень страшно и очень больно для всех, в том числе, конечно, и для нее, представительницы органов власти. Когда пьяный хулиган убивает или ранит ни в чем неповинного человека; когда пьяный тиран терроризирует семью, смертным боем бьет жену, детей. К таким она не знает снисхождения. Вячеславу К. было уже под шестьдесят. Но почтенный возраст не принес успокоения его буйному нраву. Он изготовил самогонный аппарат и гнал спирт для удовлетворения собственных неуемных потребностей. Напившись, терял рассудок, избивал жену, швырял в нее посуду. Еще более изобретательным и изощренным оказался Александр Н., работавший на кожзаводе. Напившись до умопомрачения, он бросался с кухонным ножом на свою дочь, бил стекла и посуду в квартире, жену свою колотил головой о стенку. Алкоголик в семье — это пытка, мученье для домочадцев. И в таких случаях задача органов охраны общественного порядка — по возможности быстрее изолировать его. Мать двоих детей, Лидия Георгиевна всегда действует быстро и решительно. Хирургическое вмешательство с целью удаления пораженного органа оказывается порой единственным способом спасения организма.* * *
В тот день, когда она вступила на этот путь, ей казалось, что это ненадолго, что придет время — и будет другая, более интересная специальность. Теперь она знает: другой не может быть. Совсем не потому, что прошли годы и поздно переучиваться. Нет. Просто она убедилась: более интересной, более трудной и нужной профессии, пожалуй, нет. По крайней мере, для нее. Восемьдесят процентов всех преступлений совершается людьми в нетрезвом состоянии. Вот пища для непрестанных размышлений, вот нива для глубокой вспашки. На этой ниве неутомимо трудится начальник следственного отделения Октябрьского райотдела внутренних дел города Кишинева майор Лидия Георгиевна Спеян. И прежде чем поддаться на уговоры злого джина опрокинуть очередную рюмку, пусть слабовольный хорошенько прислушается к своему внутреннему голосу: не подскажет ли ему голос иное, более мудрое решение, которое избавит его от неприятной беседы с этой обаятельной, умной, доброй, суровой женщиной. Потому что снисхождения не будет!Вл. Спивак «Знать все о людях…»
«Не столько карать, сколько воспитывать, не столько раскрывать, сколько предупреждать — вот главное содержание деятельности людей, охраняющих общественный порядок в нашей стране, стоящих на страже интересов всего народа и, значит, каждого из нас».Куда смотрит милиция?.. Эту фразу все еще можно услышать на улицах города, когда разбушевавшийся хулиган или пьяница оскорбляет своих сограждан, затевает драку. «Куда смотрит милиция?» Люди уже привыкли, что там, где нарушается порядок, всегда первыми появляются его верные стражи — работники милиции. Правда, в устах обывателя эта фраза приобретает несколько иной смысл. Его «возмущение» — сродни равнодушию. Сам он палец о палец не ударит, чтобы одернуть дебошира. «Зачем мне ввязываться? Для этого есть милиция…» — рассуждает он. И возмущение воинствующего мещанина не идет дальше громогласного: «Куда смотрит…» Впрочем, таких «почитателей» законности становится все меньше и меньше. Милиция у нас потому и называется народной, что пользуется абсолютным доверием и поддержкой советских людей. В случае опасности, заметив человека в милицейской шинели, мы бросаемся к нему, что называется с автоматизмом условного рефлекса. Нам и невдомек, что он не на службе, а просто идет к друзьям или, может, торопится на свидание… Для нас он, как и врач, — человек, который всегда на посту и, следовательно, не имеет морального права отказать в помощи. Долг служебный и долг человеческий настолько тесно сплетаются, что подчас не разберешь, где кончается первый и начинается второй. Мы принимаем как должное, когда люди этой нелегкой профессии, рискуя жизнью, вступают в схватку с вооруженным бандитом, бросаются в горящий дом, чтобы спасти ребенка, идут по следу преступника, ищут и находят его. Не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни, при охране прав советских граждан и социалистического правопорядка от преступных посягательств — эти слова, записанные в Присяге личного состава, определяют моральный, а точнее — жизненный кодекс каждого работника милиции. Несомненно, мужество, доблесть, самоотверженность, романтика риска — категории, имеющие самое непосредственное отношение к деятельности стражей общественного порядка. И можно привести множество фактов их мужественного поведения, смелости и героизма. Но, если вспомнить известное выражение о двух сторонах одной медали, то это скорее лицевая, видимая сторона дела. Именно на этом материале обычно строятся довольно занимательные сюжеты детективной литературы. На самом жеделе деятельность милиции гораздо сложнее и многограннее. Но, чего греха таить, увлекаясь подробным описанием уродливой стихии преступлений, мы зачастую упускаем главное — ту, порой незаметную, повседневную и кропотливую работу, в которой и заключается гуманная и истинная суть труда сотрудников милиции. Я хочу рассказать о майоре милиции Викторе Марковиче Афанасьеве, одном из тех, кто изо дня в день пробуждает в наших солдатах порядка непримиримость ко всему фальшивому, аморальному, подлому и преступному. И здесь, нам кажется, самый раз сделать оговорку и предупредить нетерпеливого читателя, что ни стрельбы, ни погони, ни эффектных приемов самбо он не увидит. Да, детектива не будет. Потому что у того, о ком пойдет речь, основное оружие — сила слова, личный пример: нержавеющее и испытанное оружие старых комиссаров и нынешних политических воспитателей. Но всякий раз, когда люди в милицейских шинелях проявляют смелость, находчивость, верность долгу, выходят победителями в острой схватке с бандитами или умело действуют в сложной, подчас драматической обстановке, — не забывайте и их комиссаров, их незримого присутствия. На службу в милицию Афанасьев пришел несколько лет назад, когда были введены должности заместителей начальников райотделов по политико-воспитательной работе. В скобках заметим, что новая работа отнюдь не являлась «радужной мечтой его детства». Все было просто и прозаично. Как лаконично объяснил Афанасьев: «Состоялся разговор в райкоме партии… Затем вызвали в министерство… Согласился». Почему именно его? Может, потому, что знают в Рышканах Виктора Марковича как принципиального, требовательного к себе и другим человека, за плечами которого богатый опыт партийной и советской работы. Вот лишь несколько штрихов из его трудовой биографии: инструктор райкома партии, заместитель редактора районной газеты «Искра»… Трудно сейчас судить, что сыграло решающую роль, да это и не столь важно. Важно другое — это всегда была работа с людьми. Райком и учеба в ВПШ, по словам Виктора Марковича, дали ему те основополагающие знания и опыт, которые принято называть политической закалкой. Газета научила аналитически относиться к жизни, событиям и людям. Привила чувство ответственности: «Десять раз проверь, прежде чем сделать окончательный вывод», особенно если речь идет о человеке. Колония? — Именно тогда сформулировал он правило, ставшее для него неписаным законом: «Если работаешь с людьми — должен знать все об этих людях». Престиж, авторитет командира, понятно, приказами не создашь. Очень многое тут зависит от его личных качеств, того душевного богатства, которое заключается в особом умении взглянуть на себя глазами подчиненных. — Устроить «разнос», когда кто-то не досмотрел чего-то, — делю самое простое и легкое, — говорит Афанасьев. — А вот разобраться детально, проанализировать и вскрыть причину, подсказать, помочь, если нужно, — гораздо труднее. Но только так, уча и воспитывая «в рабочем порядке», на конкретных примерах и фактах, можно надеяться на успех. В Рышканском РОВД об Афанасьеве говорят так: — Подготовленный, хорошо знающий дело. Умело опирается на партийную и комсомольскую организации. Чувство гражданского долга, непримиримость к нарушителям у него органично сочетаются с педагогическим тактом воспитателя. — Это мнение «официальное», оценка руководящего состава. А вот отзыв нижестоящих товарищей, причем тех, работа которых вызывала в свое время нарекания замполита. — Промашки у нас случаются, чего там… Виктор Маркович всегда до первопричин докапывается. Требовательный — точно! Но без упора на голосовые связки. Бывает, и отругает, но так, что тебе не обидно, а стыдно становится. Словом, и строгий, и душевный, чуткий человек. — Так говорят участковый инспектор И. О. Дьяконов и инспектор уголовного розыска В. И. Думбровану. …Никак не мог четко организовать свою работу бывший участковый уполномоченный Виктор Думбровану — выпускник Кишиневской школы милиции. Вроде бы и старался, и с личным временем не считался, а значился в числе «пассивных», «тяжелых на подъем». На критику старших товарищей реагировал болезненно. Другой на месте Афанасьева, наверное, поспешил бы с оргвыводами. А тот сумел взглянуть в корень: раз трогают замечания, переживает — следовательно, никоим образом не равнодушен. То, что реагирует неправильно, конечно, нехорошо. Но и понять его как-то можно: молод еще, горяч, а может, просто излишне самонадеян или самолюбив? Все это преходяще, поправимо. Самым страшным и безнадежным человеческим недугом Афанасьев считает равнодушие. Замполит начал искать причины изъянов по службе с изучения организации и планирования работы Думбровану. Зная характер — «с кипяточком» — своего сослуживца, Афанасьев решил обойтись без официальных дознаний и рапортов. Понять, разобраться в душе подчиненного — значит наверняка найти нужную тропинку к его сердцу. Индивидуальная работа не терпит шаблона. Опытный воспитатель — всегда психолог: он хорошо понимает, что от личных качеств и настроения людей во многом зависит то, как они выполняют свои служебные обязанности. Виктор Маркович несколько раз беседовал с Думбровану, внимательно просмотрел его рабочий дневник, сделал для себя кое-какие пометки. Чтобы получше разобраться, поговорил и с коллегами лейтенанта. Теперь можно было основательно потолковать, и с Думбровану. — Давай-ка вместе разберемся, — Афанасьев закуривает папиросу и не спеша продолжает. — Во-первых, что ты должен делать. Во-вторых, что ты делаешь. И, наконец, что ты не делаешь, упустил… Разговор, прямо скажем, шел нелицеприятный, но конкретный. Состоялся обстоятельный анализ работы… Картина и в самом деле вырисовывалась неприглядная. Беда состояла в том, что бо́льшая часть времени уходила у участкового на разбор жалоб и заявлений. Текучка буквально «заедала» его. В то же время работа по предупреждению правонарушений велась из рук вон слабо, то есть упускалось главное. Когда все «пункты» были «рассмотрены», они совместно разработали подробный план профилактических мероприятий. Ушел Думбровану окрыленный… — Профилактика — золотое правило! — любит повторять Афанасьев. — Чем продуманнее и активнее будет вестись разъяснительная и воспитательная работа среди населения, с детьми и подростками, тем скорее мы сумеем устранить из жизни нашего общества преступность. Виктор Маркович убежден, что если преступление совершилось, то рано или поздно оно будет раскрыто. Безусловно, неотвратимость наказания — один из краеугольных камней ленинских принципов нашей юриспруденции. Никто не должен уйти от ответственности за содеянное зло. Но карающий меч государственной власти — не самоцель. Особое благородство работы наших стражей общественного порядка прежде всего состоит в том, чтобы не допустить, предупредить преступление. Человек не рождается преступником. И если он оступился, нужно не дать скатиться ему в пропасть. Помочь освободиться от дурных склонностей и порочных влияний, пробудить в нем добрые начала, его совесть, сознание гражданского и общественного долга — в этом как раз и заключается смысл профилактической деятельности работников милиции. Когда я спросил Афанасьева, каким образом можно предупредить преступление, он улыбнулся. — Очевидно, нужно знать о нем… Но пока еще ни один — даже потенциальный — преступник не пришел в милицию с «челобитной», что, дескать, «черт попутал» и он решил пошарить в сейфах госбанка или, на худой случай, в карманах сограждан. Так что остается одно: предупреждать преступление умелой и четкой работой сотрудников милиции. — Наверное, интуиция должна быть… — И она необходима… Думаю, что именно профессиональное чутье на опасность позволяет работнику милиции часто раньше других оказываться там, где людям необходима помощь. Но главное в другом. Подозревать о том, что готовится преступление, оперативный работник может только при условии, если он хорошо знаком с людьми, живущими на обслуживаемой территории. И прежде всего, конечно, с теми, кого, можно отнести к любителям «легкого заработка», пьяницам и тунеядцам. — Но разве может один человек знать все и всех? — Разумеется, нет. В нашем деле — один в поле не воин. Ни предупредить преступление, ни тем более раскрыть его в одиночку почти невозможно. Практика показывает, что успех борьбы против преступности в конечном счете решает слаженность действий всего коллектива сотрудников милиции при всемерной поддержке общественности. И мы всячески укрепляем эту связь. Прямо на предприятиях устраиваем прием трудящихся. Проводим лекции, беседы, вместе с дружинниками и народными контролерами участвуем в рейдах по проверке торговых точек… Замполит подробно рассказывает о том, какую большую помощь оказывают милиции общественные участковые и инспектора по паспортной работе в выявлении безнадзорных подростков, а также лиц, живущих на нетрудовые доходы, об участии сотрудников райотдела в работе местных Советов депутатов трудящихся, в их постоянных комиссиях. И, между прочим, в числе тех, кто умело строит свою работу с общественностью, Афанасьев называет и участкового инспектора Ивана Онуфриевича Дьяконова, того самого, с которым вначале ему приходилось «воевать». И чем больше я входил в круг интересов, проблем и задач работников милиции, тем глубже осознавал правоту Афанасьева. Как-то в беседе он затронул, на мой взгляд, очень злободневную проблему. — Служба в милиции требует сегодня не только высокой бдительности, самоотверженности, но и самых разносторонних знаний: правовых, педагогических, технических, экономических, — сказал Виктор Маркович. — Милиция обязана идти в ногу с интеллектуальным развитием общества. И наша задача — воспитывать в работниках высокую культуру, требовать внимательного и чуткого отношения к людям, словом, всего того, что входит в широком смысле в понятие интеллигентности. Само собой разумеется, что эти качества должны органически сочетаться со строгостью, решительными действиями по отношению к правонарушителям. Смею утверждать, что то, о чем так горячо говорил Афанасьев, не просто красивые слова. Это, если хотите, руководство к действию, о чем красноречиво свидетельствуют факты. Итак, о первом — необходимости знаний. Абсолютное большинство работников Рышканского райотдела внутренних дел учится заочно. Одни — в Киевской высшей школе МВД (например, заместитель начальника райотдела по оперативной работе Д. И. Катрук), другие — на юридическом факультете КГУ (следователь М. Г. Шкепу, старший инспектор ОБХСС И. Г. Бучучану), третьи — в Кишиневской школе милиции, в Сорокском техникуме механизации и т. д. Каждый из них сейчас своей практической деятельностью как бы сдает ежедневно экзамены: работа помогает им лучше учиться, учеба — успешнее трудиться. А в целом выигрывает общее дело, так как люди на более высоком профессиональном уровне выполняют свои функции. Второе — относительно культуры поведения и интеллигентности. Виктор Маркович не отрицает: случаи грубого, неуважительного отношения к людям со стороны отдельных милицейских работников бывают. Но с этим борются, за это строго спрашивают и наказывают. …На бывшего инспектора дорожного надзора А. Ухина поступило несколько жалоб от водителей — груб, необоснованно отбирает права. Проверка подтвердила эти факты. Поведение Ухина осудили на комсомольском собрании, серьезный разговор состоялся на оперативном совещании, побеседовали и в индивидуальном порядке. Вроде бы понял — одно время все шло нормально, а потом снова пошли жалобы. Пришлось предложить ему сменить профессию, уволили. Примерно такая же история была и с его коллегой М. Рябым, и конец столь же печальный… И поделом, ведь своими поступками они компрометировали не только себя, но и честь милицейского мундира! Мне нравится, что Афанасьев говорит о своей работе просто, как о будничном труде, без прикрас и восторженных восклицаний. Вот почему, несмотря на соблазн эффектного показа своего героя в «деле», — а Афанасьеву приходилось не раз непосредственно участвовать в раскрытии преступлении, — я не стану под занавес говорить о том, с чего обычно начинают. «Теперь, когда картина ночного преступления была ясна, встала задача — найти преступников. Но как? В сущности, никаких улик не было…» — примерно так можно было бы начать рассказ о немалом количестве дел, которые успешно завершил Афанасьев. Замечу только, что Виктор Маркович зарекомендовал себя умелым, обладающим тонкой наблюдательностью работником. Его отличает способность, сопоставив ряд логических доводов, отбросив ложные, разглядеть и ухватить ту «ариаднову нить», которая позволяет довольно быстро выбраться из лабиринта хитросплетенных изощрений преступников и выиграть исход операции. — Любое дело можно довести до конца… Если что-то не получается, начинай искать причину в себе, — сказал замполит. И это не только слова к случаю. В них весь Афанасьев, скромный и требовательный прежде всего к себе. В чем его кредо? Не абстрактная любовь к людям вообще, а стремление помочь конкретному человеку в очищении его сознания от зла и скверны. Афанасьев уверен, что граница, разделяющая преступника и общество, не всегда проходит между людьми, она пролегает и внутри самого человека. И потому «часто нам приходится бороться за человека против него же самого». Еще В. Г. Белинский писал, что «во всяком человеке два рода недостатков: природные и налепные; нападать на первые бесполезно, и бесчеловечно, и грешно; нападать на наросты — и можно, и должно, потому что от них можно и должно освободиться». «Нападать на наросты» — это как раз и является жизненным призванием майора Афанасьева. Он умеет полностью, без остатка отдать себя другим — свои знания, опыт, свою непоколебимую убежденность и верность Отчизне. Счастлив ли он, находит ли удовлетворение в своей работе? Думаю, что да. Ибо, как писал еще в молодые годы К. Маркс, самым счастливым может быть тот человек, который сделал счастливыми наибольшее число людей. Разве не этой цели подчинена в конечном счете вся работа Виктора Марковича Афанасьева — политического воспитателя и наставника тех, кто борется с человеческими «наростами», помогает людям найти свое истинное место в жизни?С. С. Смирнов,писатель, лауреат Ленинской премии.
Евгений Габуния Девять лет спустя
В очерке участвуют:
Н. Х. ДУДНИКОВ — подполковник милиции; БАРСОВ ИВАН — выпускник консерватории; Г. Е. ГРИШКИН по прозвищу Генка-боксер — бывший наладчик оборудования на швейной фабрике; ПИЧУГИН НИКОЛАЙ — бывший продавец винного подвальчика; М. С. ГОРОХОВСКИЙ — ныне покойный; СОФЬЯ ПАВЛОВНА, его бывшая знакомая; а также сотрудники милиции, дружинники и другие.Действие происходит в Кишиневе и Якутске, а началось оно теплым весенним вечером 7 мая 1957 года. В этот вечер: На квартире Генки-боксера, чья жена с ребенком уехала к своей матери, дым стоял коромыслом. От души веселились Генка, его друг Николай Пичугин с двумя малознакомыми девицами. В соседнем доме Софья Павловна, стареющая, но еще привлекательная женщина, вела степенную беседу за чашкой чая со своим гостем — тихим пожилым холостяком. Иван Барсов и его дружки-лабухи «культурно» отдыхали на вечере в филармонии, предпочитая зрительному залу буфет. Старший оперуполномоченный уголовного розыска городского отдела милиции Николай Хрисанфович Дудников в кругу семьи смотрел но телевизору футбольный матч «Торпедо» — «Динамо» (Тбилиси). Судьбы этих, еще вчера не связанных между собой и даже не знакомых людей переплелись в этот майский вечер, и распутать этот узел выпало на долю Дудникова.
* * *
Н. Х. Дудников пришел на работу как всегда чисто выбритый, подтянутый, в тщательно отглаженном сером костюме. Едва сел за стол, достал папку с очередным делом, как раздался телефонный звонок. — Дудников, зайди… Он узнал голос начальника уголовного розыска Матузенко. Начальник был немногословен. — Вчера около 12 часов ночи «скорая помощь» подобрала возле дома 86 по улице 25 Октября человека. Не приходя в сознание, он утром скончался. Видимых телесных повреждений у него не обнаружено, но на тротуаре были следы крови. Поезжай — разберись… В больнице работника милиции уже ждали. Молоденькая медсестра провела его в небольшую комнату, где лежала одежда покойного. Никанор Хрисанфович первым делом тщательно осмотрел темно-синий костюм, рубашку, белье… В карманах, кроме обычной всякой всячины, он обнаружил паспорт на имя Матвея Семеновича Гороховского, выданный в Нарьян-Маре, серебряные карманные часы, 600 рублей наличными и аккредитив на 25 тысяч (в старом исчислении). Никанор Хрисанфович задумчиво повертел в руках коричневую книжечку. С фотографии в паспорте смотрели усталые глаза пожилого человека. Из раздумья Дудникова вывел голос медсестры. Она приглашала его на вскрытие. Никанор Хрисанфович без особой охоты последовал за девушкой. Не впервые ему приходилось присутствовать при этой процедуре, но все-таки никак не мог к ней привыкнуть. Однако ничего не поделаешь: это тоже его работа, а работа — прежде всего. Судебно-медицинская экспертиза установила перелом основания черепа и двух ребер. Сомнений нет: убийство… Впервые Дудников увидел человека, умершего насильственной смертью, когда был еще совсем мальчишкой. Партизанский отряд, в котором служил разведчиком Николай, вошел вечером в одно село. Надо было пополнить запасы продовольствия. Вдруг, откуда ни возьмись, фашисты, целая колонна. Завязался бой. Немцы наседали со всех сторон. Вражеские осветительные ракеты освещали ярко, как днем, каждую улочку. Силы оказались явно неравными, и командир отдал приказ отходить. Дудников вскочил, ожидая своего друга Ивана Ледяева, пулеметчика. Кинулся к нему — а тот истекает кровью. Пуля попала в живот. Подняли пулеметчика партизаны, перевязали и понесли. Но недолго жил Иван. Хоронили его со всеми воинскими почестями, по-партизански. Дудников, не отрываясь, смотрел на бледное заострившееся лицо друга и не стыдился своих слез. Может быть, именно тогда паренек из маленького поселка, затерявшегося в Брянских лесах, еще вчера бегавший в школу, не только умом, но сердцем понял, что такое война. И жгучая, беспредельная ненависть к врагу заполнила все его юное существо. И потом, на большом и трудном боевом пути партизанского соединения от Брянских лесов до молдавских Кодр, были потери. Уходили из жизни молодые, полные сил люди. И каждая потеря острой болью отдавалась в душе партизанского разведчика. Люди гибли за правое дело, воюя против смертельного врага. А сейчас ведь мир. Этот человек еще вчера жил: думал, мечтал, грустил, радовался… И вот погиб, погиб не на войне. Значит, и это черное дело врага. Да, убийца, грабитель, вор, хулиган и прочая нечисть, что еще мешает нам спокойно жить, трудиться, творить — враги нашего общества. Знакомое острое чувство ненависти к убийце охватило Дудникова. Но не только оно овладело в те минуты офицером. Он тщательно анализировал, взвешивал, сопоставлял известные факты. Итак, Гороховский пал жертвой преступления. Вопросы возникали один за другим. Убийство с целью ограбления? Но ведь деньги, часы, наконец, аккредитив (подпись на котором преступник мог впоследствии подделать) целы. Однако это еще ни о чем не говорит. Грабители могли просто не успеть обчистить свою жертву, кто-то помешал. С подобными случаями Дудников уже встречался. Дорожное происшествие? Машина сбила переходившего улицу Гороховского, и шофер, чтобы замести следы, оттащил его на тротуар. И такое бывает. Но что-то не похоже. Характер телесных повреждений не тот, что при наезде. Пьяная драка? Экспертиза установила — убитый был совершенно трезв. Месть, сведение старых счетов, наконец, ревность? Возможно. Адресный стол на запрос милиции сообщил, что «гражданин Гороховский Матвей Семенович в г. Кишиневе никогда не проживал и не проживает в настоящее время». Судя по всему, он появился в городе совсем недавно. Но человек — не иголка. Нелегко ему затеряться даже в огромном городе, а в Кишиневе — тем более. Надо найти ответ на все вопросы. С чего начать? Логика и опыт подсказывали: необходимо поговорить с жильцами домов, в районе которых произошло преступление. Быть может, что-нибудь прояснится. Методически, одну за другой, оперуполномоченный обходил квартиры, вынимал из кармана фотографию покойного, показывал, а сам незаметно наблюдал за реакцией. Глаза опрашиваемых равнодушно скользили по фотоснимку незнакомого человека, и ответ был везде одинаков: — Этого человека я не знаю… О нем говорили, как о живом, потому что Дудников, естественно, умалчивал, что он убит. Впрочем, однажды Дудникову показалось, что в этих, ставших уже трафаретными словах проскользнула незнакомая нотка. Было это в квартире № 9 дома № 86. Здесь в скромно, но со вкусом обставленной квартире одиноко жила Софья Павловна, вдова инженера. Она дольше других рассматривала карточку и, чуть помедлив, каким-то приглушенным голосом сказала: — Нет, нет, я его вижу впервые. Но одной догадки мало. Нужны факты. И вскоре они появились. Во время одного из посещений дома № 86 какая-то женщина таинственно зашептала: — Этот человек бывал у Софьи Павловны. Я видела, как он заходил. Да, это он, — закончила она. Очень похоже, что женщина говорит правду. Ведь и Софья Павловна вела себя как-то странно. Он снова в уже знакомой девятой квартире. Хозяйка встретила сотрудника милиции с подчеркнутой вежливостью и осведомилась, чем обязана его вторичному приходу. Никанор Хрисанфович сел в предложенное ему кресло и, спросив разрешения, закурил. В комнате воцарилось нервное молчание. Софья Павловна напряженно ждала, что будет дальше. А Дудников невозмутимо дымил сигаретой и выжидал. Потом как бы невзначай произнес: — Да, помните фотографию того человека, что я показывал вам в прошлый раз? Он убит возле вашего дома вечером седьмого мая. Кстати, вспомните, что вы делали в тот вечер? И Софья Павловна не выдержала, судорожно всхлипнула. — Какой ужас, мне страшно, я боюсь, — чуть ли не закричала она. Никанор Хрисанфович постарался успокоить женщину и попросил рассказать все по порядку.Показание Софьи Павловны
Матвей Семенович Гороховский появился в моей жизни неожиданно. Вы, видимо, знаете, я хочу сказать, должны знать, что мой муж скончался несколько лет назад. Он занимал довольно ответственный пост на одном из предприятий Кишинева. Его хорошо знали и уважали в городе. Детей у нас не было. Вот и осталась одна, если не считать родственников. Так и жила — тихо, мирно. Однажды приходит ко мне давнишняя знакомая. Сначала разговор шел малозначительный, женский, для вас, то есть милиции, интереса не представляет. А потом она и говорит: — Ты, Соня, еще женщина видная, самостоятельная, и квартира у тебя подходящая. Неужто весь бабий век будешь одна? И дальше: есть, мол, у меня на примете мужчина, одинокий, недавно приехал с Севера, сам ничего, и денег много. Давай познакомлю. Я сначала отказывалась, ни к чему мне все это. Ну а потом согласилась. Но вы не подумайте, что деньги меня прельстили. Нет. Просто очень она настаивала. Так вот. На следующий вечер они приходят. Познакомились, чаю выпили, телевизор посмотрели. Все, как полагается. И стал ко мне захаживать Матвей Семенович. Не скажу, что очень мне нравился, но жалела его. Уж очень жизнь у него неудачно сложилась. В молодости нарушил закон — ну и попал в заключение. А потом, когда освободили, стал работать в леспромхозе. Счетоводом. Он, правда, не любил вспоминать обо всем этом, видно, раскаивался очень. Я его не обнадеживала, но и не гнала. Думаю, прогнать никогда не поздно. И тот вечер мы посидели дома, поговорили о том о сем, потом пошли погулять в скверик возле филармонии. Но там были недолго. Двое каких-то пьяных хулиганов пристали, мы и ушли снова домой. В начале одиннадцатого Матвей Семенович распрощался, веселый такой был, пожелал спокойной ночи и ушел. Да, хотел очень начать жизнь заново, да не довелось…Женщина хотела еще что-то сказать, но не закончила фразы и только расплакалась. Н. Х. Дудников внимательно слушал этот сбивчивый рассказ, изредка делая пометки в блокноте. Итак, лед тронулся. Не следует думать, что офицер вот так, сразу, поверил каждому услышанному слову. За годы работы в милиции он привык ко всему подходить критически. Жизнь преподносила такие неожиданности, что ни одному писателю и не придумать. Но и излишняя подозрительность была ему чужда. Факты, объективные, весомые, убедительные — вот чего он всегда упорно искал. Помогали и природная сообразительность, интуиция, опыт, который пришел с годами. Вот и сейчас он чувствовал, что женщина говорит правду. Но если даже он и ошибался — и тогда показания Софьи Павловны были ценными. Надо идти дальше. Поиск привел Дудникова в соседний дом № 88, где жил его «старый знакомый» по прозвищу Генка-боксер — карманный воришка, пьяница и хулиган. «Не мешало бы поинтересоваться, — решил он, — чем в тот вечер занимался Генка. Ведь убийство произошло по соседству». Генка — маленький, щуплый, что никак не соответствовало его громкой кличке, встретил оперуполномоченного без особого восторга, но и не удивился. — Случилось что, гражданин начальник? — по привычке называя так Дудникова, поинтересовался он. — Да, случилось. Да ты, наверное, и сам слышал, что возле твоего дома убили человека. Расскажи лучше, как провел тот вечер? Генка, услыхав такие слова, сообразил, что дело нешуточное. Наигранную развязность как рукой сняло.
Показание Генки-боксера
— Вы, гражданин начальник, меня хорошо знаете. Ну, в чердак[41] кому залезть или подраться — это я мог. Раньше, конечно. А с тех пор как вы меня тогда на бассейне застукали — помните, я бока рыжие[42] увел у одного приезжего фраера, — все, завязал узелком. Хватит. Ну, выпить, конечно, могу, но за это ведь срок не дают? А тут — мокрое дело! Что вы, гражданин начальник, да я ни в жизнь на такое не пойду. Сами понимаете — вышку[43] получить кому охота. Я еще жить хочу. Вы вечером тем интересуетесь? Хорошо, расскажу все, как на следствии. Так, значит, Мария моя с дочкой к матери уехала на неделю, а я, думаю, давай повеселюсь. Ховира[44] свободная же. Договорился с Колькой Пичугиным, есть у меня кореш такой, в винном подвальчике на углу торгует, парень свой в доску, ну, прихватили двух чувих — и ко мне. Гуляли часов до четырех ночи. Клевые попались чувихи. Вина, правда, не хватило, так мы с Колькой пошли к нему в подвал, ключи у него были, и взяли еще. Когда уходили за вином? Да около десяти было, по-моему. Но только туда — и сразу домой. Если не верите — спросите чувих, то есть девушек, и сторож нас видел, и Колька подтвердит. Нет, гражданин начальник, вы мне это дело не клейте.Дудников воспользовался невольным советом Генки. Перепуганные вызовом в милицию девицы, которых он опросил порознь, слово в слово подтвердили показания «боксера», умолчав, очевидно из скромности, о подробностях, к делу не имеющих прямого отношения. Старик-сторож также показал, что Пичугин с Генкой, действительно, приходили часов в десять, были навеселе, захватили бутылки и ушли. Наконец, настала очередь и Пичугина давать показания. Никанор Хрисанфович сразу почувствовал, что этот крепкий скуластый парень с румянцем во всю щеку нервничает. Пичугин как-то весь насторожился, подобрался. Вот что услышал от него Дудников.
Показание Николая Пичугина
Парень я, как видите, товарищ капитан, еще молодой, недавно отслужил свой срок в армии и приехал в Молдавию. Много хорошего слышал о вашем крае. Правильно люди говорят. Хорошо здесь. Устроился продавцом в винный подвал. Не скажу, чтобы работа мне очень нравилась. Но сначала надо, как говорится, встать на ноги, а там видно будет. Много разных людей приходит в подвал выпить стакан-другой. Есть, конечно, и постоянные клиенты. Этих я хорошо знаю. Генка был одним из них. Познакомились с ним поближе. Не скажу, чтобы крепко дружили, нет. Заходил, правда, к ним домой иногда, жена у него очень из себя симпатичная, тихая такая. Жалко ее, но что поделаешь… Так, значит, в тот самый вечер Генка уговорил меня составить компанию. Скучно, говорит, одному. Не хотелось мне идти, чуяло сердце беду, так оно и случилось. Посидели мы, значит, выпили, а часам к десяти смотрим — вина уже нет. Он, знаете, товарищ капитан, как его пьет. Ну, Генка мне и говорит: — Давай, Коля, сходим к тебе в подвал, еще возьмем. Такого добра там навалом. Я, извините, уже малость под градусом был. И пошли. Набрали вина несколько бутылок, я стал закрывать дверь, там, сами знаете, не один замок, а Генка все торопит: быстрей да быстрей, очень не терпелось ему, а потом вдруг как сорвется — и пошел. Я через минуты три — за ним. Иду и вижу: он с каким-то человеком остановился. Не успел я понять, в чем дело, а Генка того бутылкой по голове ка-а-к трахнет! А когда тот упал, еще и ногами стал бить. Тут я подбегаю. Генка говорит: — Здорово я ему врезал, ни одна больница не примет. Долго будет помнить, как со мной связываться. Я так думаю: этот прохожий что-то сказал обидное Генке, а может, ему спьяну показалось. И еще думаю, что Генка не хотел его убивать. Так уж получилось. Ну, потом Генка еще больше пить стал. Переживал, значит.Выслушав такое признание, Дудников крепко задумался. И было отчего. Во-первых, чувствовал он в этих показаниях предвзятость, желание обелить себя. Во-вторых, не совпадало время. Как мы помним, карета «скорой помощи» подобрала Гороховского в полночь. Друзья же выходили из дома около десяти. Ну, хорошо, рассуждал Никанор Хрисанфович. Все это так. Но подойдем с другой стороны. Стремление обелить себя вполне естественно. Пичугин ни в чем предосудительном раньше замечен не был, а тут такое дело. И зачем ему оговаривать своего приятеля? Ведь я его предупредил, что за это по головке не погладят. А время? Но ведь могло быть и так: убийство произошло около десяти, люди, принимая труп просто за пьяного, проходили мимо, пока кто-то не догадался позвонить в «скорую помощь». Все-таки показания Пичугина требовали проверки. Привели его к злополучному дому № 86, потребовали: покажи точно место, где произошло преступление. Показал. Еще раз предупредил, что от его показаний зависит судьба человека. Стоит на своем. Наконец, устроили очную ставку с Генкой-боксером. Подтвердил и при нем. Генка как услышал, так побледнел и зубами заскрипел от злости. Глянул так нехорошо на Николая и прошипел: — Не знал я, что ты такой гад. А вы, гражданин начальник, не верьте ему. Это он все к моей Марии подбирается, я давно замечал, хочет меня в тюрягу упрятать. Не виновен я, и точка. Посоветовались с руководством отдела и решили: надо брать Гришкина под стражу. Представили все материалы в прокуратуру, и прокурор выписал ордер на арест. Не избежал все-таки тюряги Генка-боксер. Его допросы неизменно заканчивались одними и теми же словами: — Вину не признаю… Прошел месяц, второй… пошел четвертый. Пора передавать дело в суд. И вдруг в один прекрасный день в кабинете старшего оперуполномоченного угрозыска появляется Пичугин. Никто его не вызывал, сам пришел, и с ходу, как говорится: — Оговорил я Генку, не виноват он. Вы уж простите, так получилось, черт попутал. Правду Генка говорил тогда: нравится мне его Маша, да и не стоит он ее. Вот и хотел… А что касается места, где тот покойник лежал, так люди показывали. Много о том случае на нашей улице говорили… Дудников встал, прошелся по кабинету, глянул на Пичугина так, что тот съежился и сразу сник. «Когда он говорил правду: тогда или сейчас? — мучительно раздумывал Никанор Хрисанфович. — Скорее всего сейчас. Совесть, видно, не всю потерял, одумался, да и боится, поди, Гришкина и его блатных дружков». Так или иначе признание Пичугина в корне меняло все дело. Придется начинать все сначала, с нуля. Ничего не поделаешь — такая служба. За отсутствием улик отпустили Гришкина, а бывший его дружок Пичугин Николай бросил свой подвальчик и в скорости отбыл искать счастье в Крым, подальше, стало быть, от Генки-боксера. На всякий случай. На всякий же случай милиция не упускала из поля зрения бывших друзей. Присматривали, проверяли знакомства, связи, занялись поглубже и личностью убитого. Увы, ничего нового выявить не удавалось. А время шло. Н. Х. Дудников успел окончить высшую школу милиции в Киеве и был назначен начальником 2-го отделения милиции Фрунзенского района. Забот сразу прибавилось. Но то дело не выходило из головы. Да и висело оно на нем как нераскрытое преступление, и не простое — особо опасное. А нераскрытое дело — брак в работе. Снова и снова возвращался Дудников к тому вечеру, закончившемуся столь трагически для Гороховского, снова и снова пытался восстановить картину событий, мысленно ставя себя и на место преступника и его жертвы. Главные вопросы, альфа и омега уголовного розыска: кто, с чьей помощью, как, с какой целью — ждали точного, исчерпывающего ответа. А он все не приходил. Преступник словно в воду канул. Из раздумья офицера вывел телефонный звонок. Дудников услышал знакомый голос товарища по уголовному розыску. — Никанор, приезжай, есть кое-что новое для тебя. Новое заключалось вот в чем. Собралась на днях в закусочной под гостиницей «Молдова» — ее еще называют «бомбоубежищем» — теплая компания шоферов, а среди них — наш старый знакомый Генка-боксер, за которым, как помнит читатель, присматривали. Когда подвыпили, языки и развязались. Шоферы вспоминали несправедливые, по их мнению, обиды, причиненные им «крючками»[45]. Вставил свое слово и Гришкин. И он, мол, тоже ни за что отсидел четыре месяца. И рассказал о том случае. Собутыльники посочувствовали, а один — Михаил Снякин — говорит: — Да, Генка, ты здорово подзалетел. И вправду зря. Когда, говоришь, тот случай был? Гришкин ответил. Уж он-то надолго запомнил число. Михаил выслушал и потом как бы между прочим проронил: — Как раз в тот вечер — мы с братом уже спали — прибегает к нам Барсов Иван — музыкант. Был такой у меня знакомый. Сейчас не встречаю. Уехал, видно. Так вот, прибегает Иван, сам под градусом, конечно, лицо красное. Дайте, говорит, помыться, ребята, подрались тут с одним. Я его здорово стукнул, он упал как подкошенный. В общежитие не хочу так заявляться. Пошел он на кухню — смотрю, что-то-долго Ивана нет. Заглянул, а он тапочки моет, как сейчас помню — белые были, и пятна крови на них. Ну, я не стал ничего расспрашивать. Скоро он ушел. Итак, в этой истории появляется новый персонаж. «Как знать, может быть, — размышлял Дудников, — ему суждено стать главным, так сказать, действующим лицом. Надо обязательно заняться этим Барсовым. Но сначала пощупаем братьев Снякиных». Прежде всего органы милиции убедились, что братья-шоферы не состоят в переписке с Барсовым. Иначе после допроса они могли предупредить предполагаемого преступника. Недолго и спугнуть. А там ищи его снова — страна большая. Братья в милиции держались независимо, однако на вопросы отвечали подробно. Правда, ничего нового, за исключением некоторых деталей, не добавили. Найти в музыкальном мире Кишинева следы Ивана Барсова не составило особого труда. В консерватории, куда привел Дудникова поиск, дали справку: Барсов окончил ее в 1957 году и сам попросил направление на Север, в Якутск. И еще сказали, что он особого рвения к учебе не проявлял, зато любил выпить и вообще… Познакомился офицер и с двумя однокашниками Барсова, узнал их поближе, можно на них положиться, помогут, если надо. И вот уже из Кишинева в далекий Якутск идет запрос. Якутские коллеги Дудникова откликнулись быстро. Они сообщили, что Барсов Иван действительно проживает в их городе, женат, работает в Доме культуры худруком. «Компров»[46] особых за ним нет, если не считать, что выпивает и отсидел 15 суток за мелкое хулиганство. Попросили якутские органы милиции поглубже заняться худруком, не спускать с него глаз. С арестом решили подождать. Лучше всего было бы задержать возможного преступника в Кишиневе. Здесь все произошло, здесь свидетели, здесь ему все напоминало бы о преступлении. Одним словом, в психологическом отношении — явный выигрыш. Это важно. Если же поторопиться, можно все дело испортить. Ведь улик было мало. Следовательно, упор делался на то, что убийца должен сам все рассказать. А в том, что он посетит Кишинев, сомнений почти не возникало. Многолетний опыт убеждал: преступника всегда тянет на место совершенного им злодеяния. Что влечет его? Среди криминологов существуют разные мнения. Так или иначе, но факт остается фактом. И вот летним днем в кабинете Дудникова, уже работавшего начальником Ленинского райотдела милиции Кишинева, раздался телефонный звонок. Звонил один из бывших приятелей Барсова: — Товарищ подполковник, вы, наверное, соскучились по Барсову? Если хотите его видеть, приходите в закусочную возле базара. Я только что с ним распрощался, а он еще сидит с одним знакомым. Приехал с женой на несколько дней. Одет в рубашку цвета хаки, серые брюки. Уже под «мухой». Никанор Хрисанфович давно ждал этого звонка. Через несколько минут в сопровождении сотрудника милиции был на месте. В закусочной толпился народ. Не сразу отыскал подполковник (разумеется, в штатском) знакомое по приметам лицо. Все совпадает: и рыжеватые волосы, и серые холодные глаза, и шрам на левой щеке. Чтобы увериться окончательно, офицеры милиции, взяв бутылку пива, подсели за соседний столик. Прислушались: разговор идет о Якутске, самолете, билетах. Что делать? Брать тут же? Нет. Надо задержать Барсова, но так, чтобы он не понял, за что. А потом, когда подозреваемый (да, еще подозреваемый, ибо улик не хватало) начнет нервничать, беспокоиться — предъявить ему обвинение. Одним словом, использовать морально-психологический фактор — союзник любого дознания. Думал он привлечь в союзники и жену Барсова, которая находилась в Кишиневе, но не участвовала в его «теплых» встречах с приятелями. Таких встреч в тот день было немало. Иван к вечеру едва держался на ногах. Наконец, он остался один и, пошатываясь, брел по проспекту. Тут-то к нему и подошли двое крепких ребят с повязками дружинников. Разговор был коротким. На оказавшейся «случайно» неподалеку милицейской машине пьяного отвезли в вытрезвитель. Жена, тщетно прождав весь день и зная привычки своего супруга, забеспокоилась. Ведь надо уезжать через два дня. Дежурный по городскому управлению милиции, куда позвонила женщина, ответил, что гражданин Барсов задержан, и посоветовал обратиться в Ленинский райотдел. Стоял уже поздний вечер, когда в кабинет начальника отдела вошла худенькая женщина с усталым, раньше времени постаревшим лицом. — Где мой муж Барсов? — был ее первый вопрос. — Не беспокойтесь, он просто изрядно выпил, и мы его отправили в вытрезвитель, — поспешил успокоить взволнованную, пожалуй, даже слишком для такой, в общем, банальной истории, женщину. Дудников постарался перевести разговор в интересующее его русло, вызвать женщину на откровенность. За многие годы работы в милиции он привык иметь дело с совершенно разными людьми и стал неплохим психологом. Вот и сейчас он посочувствовал женщине, сказал, что понимает ее, плохо, когда муж, отец двух детей, пьет. Слово за слово, и женщина расплакалась. Николай Хрисанфович поспешил успокоить ее, а потом сказал: — Придется вам ехать в Якутск одной. Барсов задержан за преступление, гораздо серьезнее, чем пьянство. — За какое же? — женщина изобразила на лице удивление. — А за то, о котором он вам рассказывал. Расчет оказался верным. — Вижу, вы все знаете, — устало произнесла она. — Скрывать не имеет смысла, да и так, возможно, лучше будет. И рассказала, как однажды в Якутске Иван в пьяной откровенности признался, что убил человека. Когда приехали в Кишинев, он показал ей место преступления. Показания Барсовой записали на магнитофон, засняли на кинопленку. На другой день, когда Барсов пришел в себя, его доставили в отдел милиции. Трудным был этот разговор. Целых шесть часов продолжался. Подполковник и следователь прокуратуры заходили и с той стороны, и с этой. Барсов упрямо отказывался. — Ваш отказ от показаний принесет вам только вред, — убеждал Дудников. — Это — не умышленное убийство, вы даже не знали покойного. Все это суд учтет. Решайте — ваша судьба сейчас в ваших руках. Наконец Барсов поднял голову и тяжело выдавил: — Не расстреляете? — Это решать не нам, а суду. Думаю, что нет. — Ну, хорошо, тогда буду говорить. …Стоял июль 1966 года.
Показание Ивана Барсова
Что уже там много говорить, гражданин начальник. Как вы, верно, знаете, учился я тогда в консерватории. Хоть и студентом был, а башли[47] водились. Сами понимаете — наша специальность прибыльная: то жмурика[48] проводишь в последний путь траурным маршем Петра Ильича, а на следующий день свадебный марш Мендельсона наяриваешь. Не все, конечно, наши ребята халтурой увлекались, но я — да. Был даже вроде старосты по левому делу. Ну, и пил много. Подхалтурили мы раз и пошли с другом на вечер в филармонию. Там наши выступали. Не помню уж, что играли. Только эти сонаты да фуга мне в консерватории во как надоели. Ну, думаю, пусть себе играют, а мы в буфете посидим. Хороший был буфет, как сейчас помню. Так весь вечер и просидели, потом смотрю — друг мой куда-то исчез. Стал его искать, вышел на улицу и увидел, что он уходит. Я — за ним. И тут показалось мне, с пьяных глаз, видно, будто встречный прохожий его, друга, значит, ударил. Ну, я подбегаю и как трахну головой в живот. Он упал, а я еще ногами добавил и — смываться. Понятия не имел, что за человек, даже лица не разглядел. Ну, а через день пришли клиенты нанимать лабухов на похороны, и ко мне. Я же главным был, как уже показывал, по этой части. Клиенты и рассказали, что убили, мол, человека на улице. Я, конечно, отказался играть. Неприятно все-таки… А тут вскоре и окончил учебу, попросился подальше на работу. Сначала боялся, а потом, вижу, никто не трогает. Ну, и успокоился. Давай, думаю, съезжу в Кишинев, чтобыубедиться окончательно, что меня не ищут. Да и как найдешь, все было шито-крыто. Но, если говорить честно, все-таки неспокойно было на душе. И точно. Когда те дружинники приклеились, почувствовал — это неспроста. Мало ли пьяных ходит по улицам. А на следующий день говорят — тебя хочет видеть подполковник. Ну, я и понял, будут плести мне лапти. Так оно и получилось. Нет, не надо было ехать сюда, хоть и девять лет прошло…На своем веку Н. Х. Дудников повидал немало преступников, разных, непохожих, наслышался всякого. Но такого откровенного цинизма, такой тупой жестокости, пожалуй, не встречал. Вот так запросто, ни за что, убить незнакомого человека. И ни тени раскаяния, только одно — сожаление, что попался. Откуда все это у молодого еще человека, выпускника консерватории? Как совместить прекраснейшее из искусств — музыку — и такое страшное моральное падение? Нелегко ответить на эти вопросы. Есть над чем задуматься. Видимо, что-то проглядели, допустили просчет и преподаватели, и общественные организации консерватории, и сокурсники Барсова. И вот горький и страшный результат. Итак, девять лет спустя справедливость восторжествовала. Преступника настигла карающая рука правосудия. Суд воздал Барсову, как говорится, по заслугам. Но мы еще не ставим точку. Предоставим слово Никанору Хрисанфовичу Дудникову.
Рассказ Н. Х. Дудникова, подполковника милиции
Вот вы, товарищ журналист, все допытываетесь, какое у меня была самое интересное дело. Я вашего брата знаю. Вам подавай что-нибудь такое особенное, необычное, позапутанней, такое, о котором я только что рассказал. Мне это понятно. Но вот что я вам скажу. Бывают дела вроде и простые, а приносят огромное, да, огромное моральное удовлетворение. Помню, арестовали мы некоего молодого человека, носившего звучное имя Артур. Влюбился он без памяти в одну буфетчицу, а она возьми да обмани парня. Он со злобы и поджег киоск, в котором торговала изменщица, чтобы, значит, на нее подозрение пало — сама подожгла. Хотела замести, мол, недостачу. Мы быстро разобрались что к чему. Горько раскаивался потом Артур в своем преступлении, да поздно. Отсидел свой срок и приходит ко мне в милицию. — Никанор Хрисанфович, помогите, на работу нигде не принимают, боятся, ведь я из тюрьмы вышел. Что мне делать, неужели опять садиться? Парень, к сожалению, говорил правду. Есть еще кадровики, сторонники гнилого правила «как бы чего не вышло». Позвонил туда-сюда, поговорил кое с кем. Приходит Артур снова. Говорю ему: — Хочешь жить честно — помогу, чем могу. Нет — забудь о том, что есть такой Дудников. Он дал слово. Устроили Артура на фабрику «Универсал» электриком, руки у парня золотые. И по сей день работает, отзывы самые хорошие. Но это не все. Главное — впереди. Является ко мне Артур несколько лет назад и рассказывает такую историю. Брат у него есть, учитель, в Комрате работает. Плохо с женой живет, пьет, обижает ее, детей, а их трое. Артур и так и эдак беседовал с ним — ничего не помогает. — Вот и решил, — заключает он, — взять жену брата с детьми к себе. Пусть у меня живут. Ни брат, ни жена его не возражают. Что посоветуете? Советовать вообще трудно, а тем более в таком деле. Я, конечно, сказал, чтобы он все хорошо взвесил. Вижу, парень настроен серьезно. Отговаривать не стал. Так и живут по сей день. С квартирой помог, помню, до Верховного Совета дошел. Вот вам и правонарушитель, а стал настоящим человеком. Когда найдешь в бывшем уголовнике человека — жить становится веселее, честное слово. А таких случаев немало. На улице иногда встречаю своих старых «знакомых» — врачей, инженеров, офицеров. Всех их знал еще юнцами, знакомились в милиции. Натворят чего-нибудь — и пожалуйста. Ну, поговоришь по душам раз-другой, третий, глядишь — парень взялся за ум. Главное — вовремя взяться. Начитается иной мальчишка детективов и ищет романтику в блатном мире. Я, конечно, далек от мысли проводить прямую связь между подобной литературой и правонарушениями. Дело значительно сложнее. Я и сам люблю приключенческую литературу, хорошую, разумеется. Вот вы спрашивали, читал ли Конан-Дойла? Отвечаю — читал, и с интересом, только не в том возрасте, когда обычно увлекаются Шерлоком Холмсом. Время не для чтения было, с семнадцати лет партизанил. Стал постарше, прочитал, когда работал в милиции. Мог кое с чем сравнить. Конечно, сыщик он великолепный, тонкий, умный, проницательный, образованный, наблюдательный. Без этих качеств вообще немыслим сотрудник розыска, в том числе и наш, советский. Но заметили одну особенность? Холмс почти всегда действует в одиночку, если не считать его друга доктора Уотсона, который играет, так сказать, второстепенную роль. Люди ему не помогают, да он и не ждет от них помощи. Это понятно. В том мире, где жил Конан-Дойл, люди сторонятся полиции, не хотят иметь с ней дела, даже если речь идет о расследовании действительно опасного преступления. Уверен — сыщики-одиночки для наших органов не типичны, чужды. Возьмите хотя бы дело Барсова. Без помощи граждан было бы намного труднее его раскрыть. Связь с населением — источник силы нашей милиции. Это не громкие слова, а факт. Люди верят нам. Большая это честь — оправдать доверие. Есть у меня приятели — один инженер, другой — летчик, третий — экономист. Иногда спрашивают: не надоело тебе, Никанор, с жуликами да с хулиганами возиться? И у вас, товарищ журналист, возможно, такой вопрос есть, только не решаетесь задать. Отвечаю: не надоело. Скажу так: день, когда бы вдруг исчез с нашей советской земли последний жулик, последний вор и хулиган, был бы счастливейшим в моей жизни. Останусь без работы? Ну и что? Переквалифицируюсь в управдомы. Нет, кроме шуток, засучу рукава — и на завод, к станку. Выучусь на токаря-универсала, разве плохо? А пока кому-то ведь нужно и жуликов ловить, верно? Чувствую, вижу: могу быть полезным на этом участке, и поэтому сил прибавляется… Одним словом, нет, не жалею, что связал свою жизнь с милицией. Скорее наоборот. А то дело, о котором вам подробно рассказал, тоже все-таки увлекательное, говоря откровенно. Почти по Александру Дюма-отцу — девять лет спустя. А хоть бы и десять или пятнадцать прошло — все равно нашли бы. Такая служба. Сами понимаете.В. Кабанов Гордость
По огромному залу машинного отделения идет коренастый парень в милицейской форме. Красный околыш его фуражки то скроется за торцом турбины, то вновь выглянет уже с другой стороны. Размеренный гул турбин заглушает шаги. Что привело сюда офицера милиции?.. Вот он остановился около парня в рабочей спецовке. Тот, не замечая, продолжает варить стык. Офицер дотронулся до его плеча: — Привет! Парень в спецовке выпрямился, отложил в сторону инструмент и крикнул соседям: — Хлопцы, Миша пришел! Крепкие пожатия рабочих рук, светлые улыбки друзей, безобидные шутки и минутный перекур. Он понимает: ребятам некогда. Они обязались досрочно подготовить турбину к пуску. Это уже шестая на Молдавской ГРЭС. Скоро она тоже даст промышленный ток. И в каждой из них заложен ударный труд слесарей бригады Евгения Азаренко. — Желаю успеха, хлопцы! — Михаил еще постоял несколько минут, ревниво поглядывая на занятых делом ребят. Еще недавно и он вот так же, прикрыв глаза щитком, варил стыки труб, так же скрупулезно выверял зазоры. А после смены шагал по поселку с красной повязкой на рукаве. Иногда говорили ему: — Брось ты, Миша, это дело. Своих же друзей-работяг помогаешь хватать… Михаил возмущался: — Хулиган мне не друг. У рабочего человека должна быть и своя, рабочая гордость. Трудом своим, делом своих рук должен гордиться рабочий человек, а не тем, сколько стекол выбил и сколько носов разбил. И скупой на слова Азаренко говорил: — Ты прав, Михаил. А когда в Днестровске решено было организовать отделение милиции, Михаилу предложили быть участковым. Так слесарь-турбинист Михаил Потайчук стал офицером милиции.У нас в Одессе…
Я встретил младшего лейтенанта Потайчука в дирекции ГРЭС, куда он заносил листки «Звонок из милиции». Недавно принятый новый Указ об усилении борьбы с хулиганством не по вкусу пришелся дебоширам и пропойцам. По карману крепко бьет. Мало того, что штраф уплатишь, так еще и премиальных лишишься. Михаил стал рассказывать о своей трудной работе, но по всему было видно, что она ему нравится. И форма милицейская тоже нравится. Даже сейчас, в свободное от работы время, он предпочел надеть именно ее. — Мы тут с ребятами уже почти полный порядок навели. А сейчас на пусковые объекты человек триста новеньких приехало. Работы прибавилось. Недавно вечером четверо здоровенных подвыпивших парней, разогнав танцующие пары, кривляясь и паясничая, дрыгали ногами посреди зала. — Ребята, так не танцуют, — сделал им замечание Михаил. — А у нас, в Одессе, только так танцуют. Понял, деревня… Разговор был продолжен в отделении. У парней действительно была одесская прописка. Правда, временная. В общей сложности они не жили там и двух месяцев. А Михаил Потайчук родился и вырос в Одессе. И это больше всего смутило «танцоров». Когда они ушли, Михаил сказал: — Эти больше не рискнут позорить Одессу.Ленька с Привозной
Письмо из одесской милиции было лаконичным:«На Привозе задержана несовершеннолетняя Тамара Сошина — продавала вещи женщине-перекупщице. Девчонка призналась, что совершила кражу в Днестровске…»Сошину Михаил знал хорошо. Она обокрала общежитие. Вещи нашли у нее дома, в селе Граданицы. Это было как раз перед амнистией, и прокурор прекратил дело. Удивился Потайчук другому: почему никто в Днестровске не заявил о пропаже вещей?.. Он стал дальше читать письмо. Ниже подписи стояли две буквы: «P. S.», а следом: «Сошина сказала, что у нее был еще фотоаппарат «Зенит», который она продала какому-то Лене», — дальше шло краткое описание его примет. Михаил отложил письмо и достал из сейфа тонкую папку, просмотрел какую-то бумагу: точно — «Зенит-3». Две недели тому назад в кабинет к участковому вбежал запыхавшийся Николай Диордиев. Работал он шофером на «Москвиче» Аптекоуправления. Михаил видел, как машина подъехала к аптеке (он как раз возвращался с патрулирования), из нее вышли заведующий Георгий Кривда и Николай. Потайчук подошел, поздоровался, помог им перенести медикаменты, которые они получили в Кишиневе со склада. И вот спустя полчаса прибегает Диордиев: — Михаил Дмитриевич, фотоаппарат украли!.. Из машины вытащили. А он не мой — брата… — Подожди, не торопись, — остановил его Потайчук. — Давай по порядку. Шофер сел, успокоился, затем начал рассказ. Брат узнал, что Николай едет в Кишинев, попросил его сдать «Зенит» в ремонтную мастерскую. И для верности на коробке написал адрес: «Кишинев, ул. Армянская, 51». Но мастерская в тот день не работала. Так и остался фотоаппарат лежать на сиденье. В Днестровске, когда они с Кривдой зашли на несколько минут в аптеку, кто-то утащил «Зенит». Это было не так уж сложно сделать — боковое стекло было открыто. Несколько дней Михаил строил всевозможные предположения, опросил многих людей — фотоаппарат как в воду канул. И вот, наконец, ниточка отыскалась. Участковый берет командировку в Одессу на три дня, но первым делом едет в Граданицу к матери Тамары. — Да, из Одессы к Тамаре часто приезжает подруга Женя, — охотно рассказала Сошина-старшая, покопалась в комоде и достала фотокарточку. — Вот эта, в центре, и есть Женя… Да, да. Вы можете взять фото. Михаил поблагодарил женщину и отправился на автобусную остановку… Начальник уголовного розыска Приморского РОВД, которому Потайчук представился, направил его к капитану милиции Кириллову, обслуживающему Одесский Привоз. Капитан выслушал Михаила, внимательно посмотрел фото, затем сказал: — Знаю такую. Рачками часто торгует… В кабинет вошел старший сержант милиции, поздоровался, завидя постороннего (Потайчук был в штатской одежде), извинился: «Зайду попозже» и повернулся к двери. — Нет, нет, Петро, не уходи, — остановил его Кириллов, — ты как раз кстати. — Он представил ему Михаила, коротко рассказал, по какому делу тот приехал, и показал фото. — Женя, говорите?.. Какой же я был бы участковый, если б не знал своих «клиентов». Она снимает угол у одной бабуси по улице… — Была, жила да вся вышла, соколики, — прошепелявила бабуся. — Вы ее поищите… Но и на другой, и на третьей, и на следующей квартире ответ прежний: «Переехала…» Поздно вечером, усталые, участковые распрощались. Договорились встретиться утром в райотделе и затем поискать Женю на Привозе. Отвык Михаил от толкотни, в Днестровске такого не случается: «Чего суетятся? Куда спешат?» — удивлялся он. Петро же чувствовал себя на Привозе, как в родной стихии, — его участок. Ходили, всматривались в лица. Особенно внимательны были в ряду, где торговали креветками. Жени не было. И на другой, и на третий день она не объявилась. — Спугнули, видать, — предположил Михаил, — а жаль, через нее я мог бы Леньку отыскать. Старший сержант насторожился: — Какого Леньку? Ты о нем мне ничего не говорил. Потайчук без всякого энтузиазма рассказал историю с фотоаппаратом и упомянул о приметах человека, купившего его у Сошиной. — Так что ж ты молчал, — возмутился одессит, — знаю я одного Леньку. Ханыга, нигде не работает, ничем не брезгует, в том числе и перепродажей вещей. Где-то в этих домах живет. Идем. Улица Привозная. Дом 28. Они вошли во двор. У колонки пожилая женщина. Набирает воду в ведра. Михаил подходит к ней, спрашивает: — Мамаша, в вашем доме есть Ленька?.. — Кучерявый, говоришь, черный и худой? — переспросила женщина. — А вы откуда будете? Михаил показал на стоящего поодаль Петра, одетого в милицейскую форму, и ответил: — Мы, мамаша, из милиции. — А-а, понимаю, сынок, понимаю, — она поменяла ведра под колонкой, затем выпрямилась и, глядя в глаза Потайчуку, развела руками: — Нет, такой у нас не живет. На улице участковые встретили дворничиху. — Знаю, милые, Леньку. Вот этот двор 30-го дома, а вы, зайдите в следующий — в 32-й. Направо первая дверь — там он и живет. Ленька был дома. При виде милиционера он было заволновался, но узнав, что это только проверка паспортного режима, успокоился. Пока старший сержант рассматривал штемпели в паспорте, Михаил изучал комнату. Его внимание привлекла коробка, лежащая на подоконнике. Он подошел поближе, на крышке коробки чернилами был выведен адрес: «Кишинев, Армянская, 51». — Откуда у вас эта коробка? — спросил Потайчук у Леньки. — Жена во дворе подобрала, — ответил он. — Но, судя по паспорту, вы холостяк, — вмешался в разговор старший сержант. В это время в комнату стремительно вошла молодая женщина, с первых же слов Михаил понял, что она подслушивала у дверей. — А мы еще не успели расписаться, — с порога начала она свою речь, затем, перейдя на высокие ноты, зачастила: — Что вы пристали с той коробкой, у нас во дворе парфюмерный склад, я вам могу двадцать таких коробок хоть сейчас принести… — Принесите две, — перебил ее Потайчук, — мы подождем. Ленькиной подруге ничего не оставалось, как отправиться за обещанным. Пока она ходила, участковые беседовали с Ленькой. — Вам эта женщина знакома? — спросил Михаил, показывая фото. — Да, — ответил Ленька, — рачками торгует. — Вы какие-нибудь вещи у нее покупали? — Нет. — А фотоаппарат за 15 рублей? — Какой аппарат? — «Зенит», — уточнил Потайчук, — вот он, на окне лежит. Ленька взял коробку, открыл ее и, усмехаясь, показал участковым: — Так это ж только тара. — А что за адрес на ней написан? — не унимался Михаил. — Не знаю, — пожал Ленька плечами. В это время «жена» вернулась, как и ожидал Потайчук, с пустыми руками. — По-хорошему решим или в райотделе продолжим разговор? — спросил старший сержант. Ленька помолчал, затем спросил: — А вы мне вернете 15 злот? — Посмотрим. Где фотоаппарат? — У матери. Она в доме 28 живет… Велико ж было удивление участковых, когда они узнали в Ленькиной матери ту женщину, которая воду из колонки брала. — Не стыдно, мамаша, обманывать, — не удержался Михаил. — Обман? — искренне возмутилась она. — Скудова? Вы спросили, живет ли Ленька в нашем доме. Я сказала: нет, в нашем доме он не живет. Если б вы спросили: а в каком доме его живет… …Через несколько дней Михаил вернул фотоаппарат владельцу.
Дорогой сыночек
С Евгением Зиновьевичем Ветчининовым Потайчук познакомился во время очередного ремонта мотоцикла. С тех пор участковый проникся уважением к трудолюбивому, немногословному мастеру. Вот и на этот раз он дружески пожал руку, усадил Ветчининова у самого стола: — Слушаю, Евгений Зиновьевич. Что привело вас ко мне? Ветчининов кашлянул в кулак, поерзал на стуле и лишь затем сказал: — Сына я, Михаил Дмитриевич, привез из Омска. — Очень приятно, — начал было Потайчук, но Ветчининов в отчаянии махнул рукой: — Мало приятного-то. Дорого он мне обходится… И Евгений Зиновьевич рассказал участковому о своей беде. В Днестровск он приехал с женой, а сына Анатолия оставили в Омске у бабушки, решили не отрывать парня от класса в разгар учебного года. Словом, хотели сделать лучше, а получилось… За восемь месяцев Анатолий с дружками в семи квартирных кражах участвовал. — Дело на него прекратили, — сокрушенно вздохнул Ветчининов, — мал еще, пятнадцати нет, а в компании были и постарше. Правда, мне пришлось уплатить за свое чадо 450 рублей, вернее, возместить убытки, нанесенные им. — Деньги, конечно, жалко, — продолжил Евгений Зиновьевич после короткой паузы, — сами понимаете, трудом, потом достаются… Но не с тем я сюда пришел, Михаил Дмитриевич, боюсь, как бы он и здесь не того… — Понимаю, — Потайчук закурил, прошелся по кабинету, затем подошел к Ветчининову, положил руку ему на плечо: — Вот что, Евгений Зиновьевич, приведите его ко мне. Через несколько дней беседа состоялась. Анатолий заверил участкового: «Больше никогда… ни за что… ни в чем…» Михаил не поверил мальчишке: «Уж больно скор он на клятвы и обещания», — но не подал вида. И даже помог на работу устроиться в ремонтно-строительный цех Молдавской ГРЭС. Бригадиром там был его друг — Саша Титоренко. Его-то и попросил Потайчук присмотреть за Анатолием. Вскоре стало известно, что Ветчининов-младший зачем-то заходил на склад. Затем видели его в мастерских, напильником какой-то металл обрабатывал. Михаил догадался. Однажды встретил Анатолия возле дома, спросил: — И не тяжело тебе столько металла в карманах носить? — Какого металла? — удивленно переспросил Анатолий. — Я имею в виду ключи… Несколько раз отбирали у юного «Нельсона»[49] связки ключей. …Прошел год. Анатолий ничего предосудительного не совершил. Лишь Саша Титоренко каждый раз упрекал Михаила: «Ну и лодыря ты ко мне пристроил…» Но вот как-то летним утром к участковому прибежала продавец продовольственной палатки: — Михаил Дмитриевич, кража!.. Потайчук внимательно осмотрел палатку: никаких следов взлома, замки открыты, отпечатков пальцев и подошв тоже не обнаружил. «Чистая работа», — подумал Михаил и даже усомнился: «Неужто пацан сумел вот так?..» Ревизия установила недостачу товаров на 120 рублей. Украдена водка и разменная монета. Дни идут, а преступник по-прежнему не найден, он ничем не выдает себя. Михаил спокоен, он терпеливо ждет. А как же иначе: не пойман — не вор. Но вот отпечатаны последние снимки, можно смело приниматься за дело. Потайчук просит Евгения Зиновьевича прийти с сыном. Анатолий не дает договорить: — Какую палатку? Знать ничего не знаю. Что вы мне шьете?.. Михаил молча достал фотографии, веером разложил их на столе. Вот Ветчининов-младший идет в сад, вот он выкапывает бутылки, перекладывает в карманы монеты… — Узнаешь? Анатолий молчит. — А теперь расскажи, как ты умудрился и следов не оставить? — Очень просто. Одел перчатки, к ботинкам привязал фанеру… Михаил отправил Анатолия домой, а сам еще долго беседовал с Евгением Зиновьевичем. — Да, дорогой у вас сыночек. Придется еще раз раскошелиться. А теперь давайте подумаем, где мы просчитались, что нужно предпринять, чтобы этого больше не случилось…Железное дело
Пока Потайчук открывал ключом дверь кабинета, телефонные звонки прекратились. «Кто бы это мог звонить?» — размышлял участковый и машинально набрал номер. — Начальник охраны Калилец, — отозвались в трубке. — Павел Яковлевич, вы звонили мне?.. Да, Потайчук. — Михаил Дмитриевич, час назад был задержан Маркин, пытался две семиметровые доски унести с объекта… «Маркин, Маркин», — Михаил отыскал нужную бумагу. Маркин Николай Васильевич. Судим за кражу. 10 лет отсидел. После освобождения поселился в Незавертайловке, нашел вдовушку лет на десять старше себя. Работал грузчиком топливно-транспортного цеха ГРЭС. Однажды при разгрузке припрятал два мешка цемента. Пытался вывезти с территории, но был пойман. Начальник цеха уволил его. Устроился рабочим котлоочистки. Спустя три месяца его разбирают на товарищеском суде за кражу 10-литрового бидона с жидким стеклом. Он клянется, божится. Ему поверили… И вот теперь — доски… Через пять минут Потайчук был на ГРЭС. — Павел Яковлевич, давайте-ка съездим к Маркину «в гости» в Незавертайловку, проверим, что у него на хозяйстве, — предложил участковый начальнику охраны. Подъехали к дому, где жил Маркин. Крыша и веранда покрыты оцинкованным железом. Им же обиты стены сарая. Возле сарая стоит тележка, такую Михаил видел на промучастке у строителей. В углу двора аккуратно уложены в штабель металлические трубы. К ограде стали подходить соседи, случайные прохожие. Некоторые даже вошли во двор. Из дома вышла Акулина Бартко, числившаяся женой Маркина. — Документы на железо есть? — спросил у нее участковый. — Нет, Коля с ГРЭС привез. — Сарай откройте, пожалуйста. — Ключи у Коли, я этим делом не ведаю, — ответила Акулина, отводя взгляд от участкового. — Михаил Дмитриевич, у меня такой же замок. Я сейчас, мигом, — сказал сосед Маркина Федор Фомич Бадюл. Вскоре он вернулся со связкой ключей. Отперли сарай и чердак. Пригласили понятых — все как полагается — и начали проверку. На чердаке лежали семиметровые доски, 14 листов кровельного железа, 50 метров электрокабеля, рулон металлической сетки. Выбросили все это во двор, сфотографировали. После тщательного осмотра усадьбы на огороде в яме обнаружили 10 рулонов оцинкованного железа. В другом месте было припрятано еще 7 рулонов. Всего железа в листах, в том числе и дюралюминия, изъяли 259 килограммов. …Делом Маркина уже занялся следователь. Но Михаила Потайчука волнует другая сторона вопроса. — Плохо, очень плохо у нас налажен учет материальных ценностей, — сетует он. — Подхожу, и заместителю начальника котло-турбинного цеха товарищу Прибытко, спрашиваю: «Как же вы не заметили утечку листового железа?». «На ремонт крыши отпущено 5 тонн, — отвечает тот, — подумаешь, 200 килограммов украли…» Вечером Михаил встретил начальника промучастка Илью Обручкова. — Илья, у тебя с участка что-нибудь пропадало в последнее время? — Да, — отвечает, — тележка и электрокабель. — Можешь завтра забрать свое хозяйство. А впредь о таких вещах необходимо сразу докладывать. — Спасибо, Миша. Откровенно говоря, думал: «Все равно не вернешь, а хлопот человеку наделаешь…» — Хлопоты эти — моя работа, — ответил Михаил, — а работать я привык добросовестно.* * *
По огромному залу машинного отделения идет коренастый парень в милицейской форме. Размеренный гул турбин заглушает шаг. Член комитета комсомола стройки младший лейтенант милиции Михаил Потайчук пришел поздравить бригаду Евгения Азаренко с новой трудовой победой — пуском шестого блока.Ел. Хмельковская, А. Гладкий Детектив не состоялся
В тесном кабинете с двумя сдвинутыми столами, дерматиновым диваном и тяжелым шкафом думалось плохо. Тут не станешь расхаживать, заложив руки за спину… Привычка школьного учителя — мыслить на ходу. Привычки приходится забывать. Только от одной никак не избавиться: стоит сесть за рабочий стол и уже машинально снимаешь часы, как будто ты по-прежнему на уроке черчения и обязан уложиться в 45 минут. Проведешь на доске линию, другую и покосишься на часы: сколько там до звонка?Похищение магнитофона
Вот-вот прозвенит звонок с последнего урока. Внизу уже ожидает машина, а Полевой безуспешно роется в ворохе бумаг и чертыхается: «Часы сотрудника уголовного розыска должны быть всегда на руке! Давно уже не в школе, а все…» Наконец «пропажа» найдена. Полевой еще раз ругнул себя за несобранность и сбежал по ступеням во двор. Усевшись на заднее сиденье машины, тронул водителя за плечо: — К школе… Может, и не стоит выслеживать Севку? Сказал же — сам принесет… Но теперь его, работника детской комнаты милиции, разбирает не столько профессиональное, сколько какое-то мальчишеское любопытство: куда Севка додумался запрятать такую махину? В горланящей толпе учеников, вывалившихся за школьную ограду, Полевой разглядел Севку не сразу. Услышал его голос и не поверил себе: показался непривычно озадаченным. — Чао! — преувеличенно бодро крикнул Севка товарищам и, засунув руки в карманы, торопливо свернул в ближайший проулок. Потом пошел, всем видом показывая, что не торопится. — Трогай, — сказал Полевой шоферу. Машина тихо двинулась за Севкой. Парень, казалось, бесцельно бродил по одним и тем же улицам. «Сколько он будет кружить? Темноты дожидается!» — смекнул Полевой. И впрямь: едва длинные тени домов и деревьев легли на мостовую, Севка, будто вспомнив что-то, решительно зашагал к школе. Полевой видел, как ловко, по-кошачьи, он перемахнул через ограду и скрылся в саду. Машина замерла невдалеке. Вскоре Севка вынырнул из темноты сада с доской в руках. Огляделся ню сторонам и, не заметив никого ни в притихшем школьном дворе, ни на улице, принялся разгребать доской листья. Извлек из ямы тяжелый ящик. Долго примеривался, как его лучше взять — под мышку или на плечо. Взял, наконец, в охапку и осторожно направился из сада. Потом вернулся — завалил яму. Машина по другой стороне улицы неслышно заскользила следом, пока Полевой не убедился: несет-таки раскопку в милицию. Шофер дал газ: Полевой торопился к себе в кабинет. Едва успел снять часы и включить настольную лампу, как в дверь не постучал, а скорее поскребся тихонько Севка. Он неловко протиснулся со своей громоздкой ношей, пытаясь поплотнее затворить дверь. — Вот! Сказал принесу — и принес! — Он положил ящик на диван и уставился на Полевого. — А-а-а, это ты, Сева? — будто оторвался тот от бумаг. — Я, видишь ли, засиделся. Ну, показывай свою музыку… — Хороша штука! — восхищался лейтенант, снимая крышку с магнитофона. — В нашей работе очень необходимая вещь… Севка удивленно вскинул белобрысые брови. — Понимаешь, вот мы с тобой, к примеру, побеседуем… Ты слово дашь: «Дядя Вася, в первый и последний раз»… А машина эта твое слово — на ленточку! Как бы увековечит клятву твою. В случае чего, я щелк-щелк — слушай собственный голос. Ты бы себя узнал? Как бы тебе стало, если б слово не сдержал? Это я к примеру говорю… — Лучше бы что другое, — буркнул Севка. — Что другое? — Ну, не клятву… А что-нибудь хорошее записать. — А клятва, брат, — дело святое! Ты знаешь, у комсомольцев двадцатых годов какое правило было? Данное слово кровью подписывать. Не сдержал, значит, дрянь человечишко!.. Ко всему был Севка готов — пристыдит, колонией припугнет и начнет выпытывать: зачем да как стащил, где прятал магнитофон? Севка готов рассказать, как влез в школьный радиоузел, как вынес и закопал магнитофон в саду, а вот зачем он ему понадобился, теперь, пожалуй, и сам себе не объяснит. Но дядя Вася не допытывался. Будто больше всего на свете его сейчас занимало — можно ли быть революционером сегодня, как в двадцатые годы. — А ты как думаешь? Севка никак не думал об этом… — Если бы спасти какие-нибудь важные документы… — оживился он, поразмыслив, — или выследить преступника! А вы могли бы меня взять в помощники? Ну, там, пробраться куда-нибудь… Или что другое. Я через любую высоту прыгаю! Полевой нарочитым зевком подавил улыбку: видел, как Севка через забор сигает… Телефонный звонок («К ужину будешь? Или опять…» — устало спросила трубка) напомнил: пора кончать. Полевой стал собирать бумаги. Севка на лету подхватил свалившиеся со стола часы, покрутил завод: — Точные? — Как в аптеке. Давай, Севка, договоримся: с этой минуты… — стукнул пальцем по циферблату. — Я становлюсь вашей правой рукой, — подхватил Севка. Они, не сговариваясь, одновременно взглянули на забытый на диване магнитофон — свидетель их договора. — А если когда-нибудь придется — щелк-щелк? — засмеялся Полевой. — Слово? — Слово! — заверил Севка. — Только, чур, — он приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Полевого, — про него, — покосился на магнитофон, — между нами. — О чем разговор! Севка проводил своего старшего друга до дому. У крыльца помялся в нерешительности и первый протянул на прощание сложенную лодочкой ладошку.В Сингапур по лотерее
Весь уголовный розыск был поднят на ноги. Автомобили в районе угоняют не так уж часто. Хозяин пропажи в который раз рассказывал… — Выпивши был, не поехал в гараж. Поставил у дома… И раньше случалось: оставлял — ничего. Ключ-то вот он, в кармане… Похитителем оказался… его собственный сын. Полевой догнал машину на окраине Рыбницы, в районе Дубоссарской горки. Мальчишка лет четырнадцати возился с мотором. Полевой затормозил мотоцикл. Пацан будто только этого и ждал. — Вот влип! — пожаловался он. — Ни туда, ни сюда. Отцу на работу надо… Ну и всыплет! — А ты давно, что ли, прогуливаешься?… — Да не прогуливаюсь! На шофера учусь. На автобазе отцу давно уж помогаю. А за руль, сколько ни прошу, не пускает. А вчера, смотрю, — машина не заперта… — Ну-ка, дай взгляну: не повредил ли чего? А это чье? — Полевой держал в руках затрепанную колоду карт и заложенную между ними трешницу. — Твое или отца? Мальчишка вмиг утратил словоохотливость. Насупился. — Вот что, карты я у тебя заберу. После школы зайдешь ко мне. Знаешь, где детская комната? — А что я сделал такого? За машину отец и без милиции вздует. Он не пришел. Ни сегодня, ни завтра. Полевой знал, где живет юный «автолюбитель», как называл про себя нового знакомца. После школы он с соседскими мальчишками гонял во дворе мяч. Но, забив последний гол, в отличие от ребят, разбегавшихся по домам, направлялся всегда на Дубоссарскую горку, где произошла их первая встреча. …Полевой оставил служебную машину, чтобы не привлекать внимания, и пошел пешком. Участок он знал хорошо. Какой из домов может привлекать мальчишку? Не в гости же сюда ходит. Интуиция привела лейтенанта к старой водокачке, мрачно глядевшей на город незастекленными окнами. Обошел ее вокруг: не похоже, чтоб была обитаема. С усилием приоткрыл дверь и замер пораженный: кучка мальцов увлеченно резалась в карты. На кону лежало 5 рублей. Игроки набросились на неловко схитрившего рыжеголового парня. В перепалке они не заметили пришельца, а он, привыкнув к сумраку, вдруг узнал «автолюбителя»: — А, старый знакомый! — присел на корточки. — Ну, здравствуй. Ребята оторопели. — Давайте знакомиться. Оперуполномоченный Полевой. А ты кто? — обратился к «старому знакомому». — Спец, — отрекомендовался тот. Мальчишки, как сидели кругом, так по цепочке и стали представлять друг друга: — Рыжий. — Биба. — Это Румын. — А он Макарон. Настоящих имен не называли. Но Полевой знал некоторых в лицо, а других и по фамилии. Компания, застигнутая врасплох, решила не запираться. Ребята один перед другим старались произвести впечатление одержимых мечтой романтиков. …Деньги сэкономили на пирожках и на сдаче от покупок. Вот пятерка и накопилась. Кто ее выиграет — купит лотерейные билеты. Может, выпадет кругосветное путешествие! — Или «Волга»! — воодушевился Спец. — А на ней до Сингапура доедешь? — Если разогнаться с Дубоссарской горки… — компания обрадовалась шутке, дружно загоготала. — А правда, что там бананы прямо на улицах растут? — явно заговаривал зубы Румын. — Да что в них хорошего-то? Я пробовал, тьфу, — сплюнул Рыжий, словно только что вкусил от тропического плода. — В Сингапур по лотерее — дело, конечно, заманчивое, — рассуждал Полевой. — Но неужели у вас одна мечта на всех? — Это коллективная. А у каждого есть еще по несколько своих мечта… Э-э, как это сказать? — смутился Спец. Ребята расхохотались и со всех сторон стали подсказывать. — Мечтей… — Мечтов! — Мечтаний, — выручил Полевой. — Мне бы, например, на классного шофера выучиться. — Это Спец. Операция «Дубоссарская горка» закончилась совершенно неожиданно для самого лейтенанта. — Ну, ладно! С вами хорошо. Но я ведь по делу. У вас бананы на уме, у меня — сахарная свекла. И поделился заботой: — Таскают из вагонов ворюги. — Это не ворюги, это самогонщики! — уверенно заявил Биба. «А ведь соображает парень», — весело подумал Полевой, а вслух сказал: — Может, и самогонщики. — И стал прощаться. — Ну, банановая республика, по домам! Кто у вас президент? Подавай команду. — Могу уступить должность! Хотите? — Спец совсем освоился и всячески подчеркивал свою старую дружбу с гостем. — А что, принимаю назначение, — серьезно ответил Полевой. — И, пользуясь высоким президентским правом, объявляю эту резиденцию закрытой до особого распоряжения.«Таинственная рука» сжимается в кулак
«Банановая республика» в полном составе явилась в милицию с повинной: в резиденции «Водонапорная башня», вопреки воле «Президента», произведен самосуд над преступниками, пойманными на краже свеклы. — Ох, и дали мы им! Полевой не находил места. Хватался то за сердце, то за голову. — Да знаете ли вы, чем это пахнет?! В райотделе встревожились. Начальник смотрел на Полевого так, будто и он был участником этой расправы. «Доигрался, воспитатель! — читал Полевой в глазах товарищей. — Вместо колонии какую-то дурацкую республику придумал!» Ребята отлично понимали, в каком положении оказался их друг. — Мы можем и помириться, — посоветовавшись со своими, заявил Спец. — Нам же тоже сдачи давали, будь здоров! Пятеро «грабителей» с побитыми носами явились по первому зову победителей и сложили к их ногам железные крючья, какими таскали свеклу по заказу самогонщиков. Теперь мальчишек было пятнадцать. Полевой вглядывался в насупленные виноватые лица: «Картежники? Ворюги?.. Да полно!» — Ну, теперь, когда вы померились силами, думаю, у вас разногласий не будет. Объявляем поход против хулиганов и прочего жулья. Кто не с нами — тот против нас! Девятнадцатый участок — район Дубоссарской горки — объект номер один. Там — гнездо самогонщиков… Шалопаи притихли. — Э-х, был у меня когда-то боевой штаб! — продолжал лейтенант, как бы рассуждая сам с собой. — «Таинственная рука» назывался. Возглавлял его отчаянно храбрый малый — Михаил Кошевацкий. Какие мы дела с ним проворачивали! Между прочим, Михаил до этого воровал кроликов, голубей… Шпана считала его своим. — Пусть и наш штаб так же называется, — запальчиво предложил Рыжий. Ему не терпелось приступить к делу. Расходилась «вольница» без ума от новой затеи. Через несколько дней Полевой получил первое донесение: «Таинственная рука» сжимается в кулак!» — Только без кулаков! — предупредил Полевой, опасаясь как бы и в самом деле чего не случилось. …На складе Горторга попались трое. Но на сей раз обошлось «без кровопролития». «Таинственная рука» накрыла их, когда они делили «добычу» — игрушечные пистолеты, надувные шарики, бенгальские огни. — Разрешите трофеи оставить при штабе? Полевой удивился: — Зачем? — Оружие и сигналы «Таинственной руке» нужны для работы!Бенгальские огни не зажигать!
— Ой, пойдемте-ка, чего покажу! — без стука и без обычного «здрасьте» с порога начал ушастый, взъерошенный парнишка. Он тяжело дышал и, глотая слова, докладывал: — Мы, это, за семечками… Ну, хотели купить. На базаре, где теплотрасса — знаете? Смотрим… Маленький гонец бежал впереди, увлекая Полевого к месту чрезвычайного происшествия: — Наши уже там! Штаб решил до вашего прихода бенгальские огни не зажигать… У траншеи, где шла теплотрасса, часовыми замерли на посту «штабисты». Их лица выражали готовность к самой рискованной операции. Бенгальские огни они держали наготове. По знаку Полевого, освещая ими дорогу, как факелами, стали по одному пробираться к колодцу. Заглянув в люк, Полевой обмер: двое не то трое детей — не различишь, сидели, прижавшись друг к другу. Они дружно ойкнули. — Не бойтесь, ребята. А ну, давайте наверх! Ух, какие чумазые! Вы как сюда попали, орлы? — У меня брат в колонии, там хорошо: кормят и одевают, — рассказывал один из обитателей колодца. — Только кого попало туда не берут. Надо, чтобы было приводов побольше. Ясно. Этот зарабатывал право попасть в колонию. Не от хорошей жизни, видать. Лейтенант вспомнил: отца у парня нет, а мать… У другого была история проще: — Батя сказал: ты мне больше не сын. Я и убег… И уж совсем просто оказался в их компании третий: — Шел я в кино, а они говорят, — кивнул на приятелей, — идем с нами… Полевой переглянулся со своими: — Ну, что будем делать? — Пускай переночуют в штабе, а завтра что-нибудь придумаем, — дружно решили члены организации. Всю ночь «найденыши» не давали Полевому покоя. В семью ни одного из них возвращать нельзя. Отправлять в колонию — нет оснований. И тут он вспомнил недавно полученное письмо от Севки — похитителе магнитофона, которому он после той истории помог поступить в профтехучилище: «И этих бы туда! Мысль!» Севка писал, как на духу:«Здравствуйте, дядя Вася Полевой. В первых строках сообщаю, что я жив и здоров. Вы правду говорили, что в училище мне будет хорошо. Только одно плохо — не пускают домой на воскресенье. Я здесь учусь на электрика и занимаюсь в седьмом классе. Дядя Вася, какой я был дурак, что связался с этим дурацким магнитофоном! Мне сейчас очень жалко родителей. Им никто не верит, что я в училище, считают, что сижу в тюрьме. Дядя Вася, помогите, чтоб меня хоть на несколько дней отпустили домой. Очень Вас прошу. Охота повидаться с родными и с Вами тоже. И еще, когда будете сюда направлять ребят, и если они не будут верить, что здесь хорошо, прочитайте им это письмо. С приветом — ваш помощник (зачеркнуто и сверху написано «Правая рука») и будущий сотрудник милиции Севка».
«Фантомас» работает геологом
Полевой видел, как у входа в райотдел разворачивался бензовоз. Водитель хлопнул дверцей, взбежал на крыльцо и спросил у кого-то: — Полевой у себя? Через минуту Полевой услышал: — Можно, Василий Владимирович? Здравствуйте! Не ожидали? Полевой шагнул навстречу, всматриваясь в лицо вошедшего. — «Фантомас!» — И тут же спохватился. — Ей-богу, запамятовал, как тебя по батюшке. — «Фантомас» сменил профессию. Он теперь работает геологом, — объявил гость. — Да ну?! — Завязал, дядя Вася! Честное слово, завязал! Кончил я автошколу по вашей рекомендации. И поступил — куда бы вы думали? — и горный институт. В Москве учусь! Да вот на практике в обвал попал. Пострадал немножко. Дали академический отпуск для поправки здоровья. Я сюда и прикатил. И вот первым рейсом — к вам… Парень не скрывал волнения. Да и Полевой растроганно слушал гостя. — Кто по приезде к любимой девушке идет, кто к учителю… — А я вот — к любимому милиционеру! Они рассмеялись. — Ну, а вы как? Не жалеете, что надели шинель? — Что ты! Поверите ли (Полевой не знал, как надлежит обращаться с «Фантомасом», если он работает геологом, — на «ты» или на «вы»?), я в детстве видел форму, аж дрожал весь! По ночам снилось, как ловко «узлы» распутываю. Одна история мне до сих пор покоя не дает. Убили у нас двух братьев… Все кажется: будь я тогда оперативным работником, — нашел бы убийцу! Но, как видишь, детектив из меня не получился. Был педагогом, собственно, им и остался. Они сидели на старом дерматиновом диване, на том самом, на котором когда-то часами играли в «молчанку». Милиционер и его бывший подследственный. Ох, и задал же тогда «Фантомас» работы! Теперь признался: — Ведь я, Василий Владимирович, уводил машины чужими руками — сам баранку крутить не умел. И как это вы догадались меня в автошколу определить? Психологический прием? — А что, сработало? — Безотказно. Помолчали. Полевой первым нарушил тишину. — Недавно приходил тут один, тоже вроде тебя… Он одному шкурнику в детстве доски воровал со стройки… За пятьдесят копеек. А потом у него же спер велосипед и укатил на Украину. Задержали, конечно. Не стал я на него дело заводить. Устроил в СУ-15 на работу. И вот получил он первую зарплату, да прямо от кассы — ко мне: «Проверь, дядя Вася, — 70 рублей как одна копеечка! Несу домой». На другой день с родителями является. Одет — с иголочки! Новые брюки, ботинки… На днях в армию проводили… — Я, может, задерживаю вас? — Да нет. Чтоб жена не ворчала, что поздно сижу, я и ее к нам устроил в отделение. Вон за стенкой, слышишь, стучит на машинке? …Гость ушел. А хозяин кабинета перекладывал бумаги, разыскивая часы: привычка педагога — снимать их за рабочим столом.Е. Баранов «Такая наша работа»
Исколесив за день почти весь Оргеевский район, капитан Руссу вернулся домой поздно вечерам. Усталый, порядком продрогший, он жадно съел разогретый женой ужин и, постепенно отогреваясь, долго пил чай. Хотелось только одного: зарыться головой в подушку и заснуть. Время от времени ветер бросал в окно охапки снега, который стучал о стекло, как сухой песок. Было слышно, как звенели провода на улице. Раскачивающийся за окном фонарь то освещал комнату неровным светом, то она снова погружалась в темноту. «Тепло-то как!» — подумал капитан, как в вату, проваливаясь в сон. А снег за окном все шел и шел, заметая следы запоздалых прохожих. …Иван Яковлевич вскочил с постели и схватил телефонную трубку: — Руссу слушает, — сказал он хриплым со сна голосом. — Что? Где? Так… Так… Ясно…I
На Пересечинской птицеферме было спокойно. В эту ночь здесь находились только девушка-птичница да старик-сторож. Сторож только-только вернулся с мороза, весь запорошенный снегом. — Ну и погодка! — бормотал он, отряхиваясь. — В двух шагах ничего не видно. Ох, и заметет нас, Наташка, за ночь! — Ну и пусть, — засмеялась девушка. Старик отошел в угол, сел на ящик, прислонившись к батарее парового отопления, задремал. Наташа листала какой-то старый журнал без обложки. Вдруг она подняла голову, прислушалась. — Дедушка, вроде машина идет, — сказала она. Старик открыл глаза, прислушался, махнул рукой: — Показалось. Какой дурак ночью, да еще в такую погоду сюда поедет? — Да нет, правда. Машина. Теперь и старик услышал шум мотора. — Кого еще черт несет, — проворчал он, кряхтя поднялся и пошел к двери. Но выйти на улицу сторож не успел. Дверь распахнулась, в помещение ворвались какие-то люди. В руках одного из них было ружье. — Стоять тихо, — сказал высокий мужчина, переводя ружье со старика и а девушку. — Что вы, что вы, ребята, — попятился старик. Он хотел незаметно ретироваться в угол, где стояло его ружье. Раздался грохот, словно лопнула лампочка. Высокий выстрелил в потолок. — Ложись на пол! — приказал он сторожу. Старик поспешно лег. Один из вошедших опустился на колени и, завернув руки сторожа за спину, стал их связывать. Потом связал и ноги. Подумал, снял с руки старика старенькие часы. Наташа, попятилась в угол. Она словно онемела. Да и кто услышит в ночи ее крик? Парень схватил ее, больно выкрутил сначала одну, потом другую руку, стал вязать их проволокой. Наташа пыталась сопротивляться, но что она могла поделать против сильных мужчин? Ее схватил за волосы, ударили головой об пол. В глазах поплыли разноцветные круги. Наташа притихла. Ей скрутили руки, притянули их к ногам, поволокли в угол и положили рядом со стариком. Кто-то накинул на них мешок. Наташа и сторож лежали, чуть живые от страха. За спиной сновали люди, стучали крыльями куры. Было слышно, как поднимали и выносили ящики с яйцами. Потом хлопнула дверь, взвыл мотор автомобиля. — Уехали. И часы, сволочи, забрали, — выругался старик и зашевелился. Наташа застонала. Проволока глубоко впилась в тело, резала руки. Девушка заплакала. — Погоди, дочка. Придумаем чего-нибудь. — Старик вертелся, освобождаясь от мешка. Потом попросил: — Повернись-ка, Наташа, попробую развязать. Наташа, громко застонав, перевернулась на бок. Старик долго возился, старался зубами развязать узел. Наконец это ему удалось, и Наташа была освобождена. Изрезанными до крови трясущимися руками она стала развязывать старика. …Когда сторож вышел на улицу, машины и след простыл. Он вернулся, бросил Наташе: — Пойду милицию звать. И ушел, хлопнув дверью.II
Руссу еще одевался, когда за окном скрипнула тормозами машина. Иван Яковлевич, на ходу надевая шинель, пошел к двери. Жена молча смотрела ему вслед. Хотела, видимо, спросить, скоро ли вернется. Но не спросила. Потому что знала — такая уж у мужа работа: вскакивать по ночам, прыгать в машину. Иногда не возвращаться домой по нескольку дней. А вернувшись, — опять куда-то уезжать. Капитан Руссу сел рядом с шофером, «газик» тронулся, набрал скорость. Ночь швыряла в стекло охапки снега — электрический «дворник» едва успевал его счищать. — В такую погоду порядочный хозяин собаку из дома не выпустит, — пробормотал шофер, выводя машину из очередного заноса. Руссу ему не ответил. Он сидел, полузакрыв глаза, думал. В такую погоду действительно работать трудно — все следы снег заметет. А погода словно издевалась над капитаном: снег шел густо, «газик» то и дело заносило, иногда машина выезжала на обочину — поди разберись в этой круговерти, где дорога. Наконец добрались до фермы. Светало. Капитан вышел из машины, огляделся. Какие уж тут следы, когда всю ночь метет метель… Осмотр места происшествия ничего не дал. Рассказ птичницы и сторожа тоже мало чем помог Ивану Яковлевичу. Ни описать, как выглядели грабители, ни даже сказать, сколько их было, ни сторож, ни Наташа не могли. Руссу сумел выяснить лишь одно — машина ушла в сторону Пересечинского озера, в сторону шоссе. И еще одну деталь заметил капитан — грабители приезжали на автомобиле «УАЗ». За фермой, рядом с ящиками, Иван Яковлевич обнаружил след протектора. Отгороженный ими, как стеной, клочок снега сохранил четкий след резины. По шоссе машина могла уйти и в сторону Оргеева, и в сторону Кишинева. Куда она ушла? Капитан Руссу, начальник отделения уголовного розыска Оргеевского РОВД, начинал поиск.III
Ревизия на птицеферме дала на первый взгляд просто ошеломляющие результаты — было украдено 500 кур и большой ящик яиц. «Как все это грабители уместили в кузове маленького «УАЗика»? — думал Руссу. Проверка машин этой модели в Оргеевском районе ничего не дала. Ни на одной из них грабители не могли в ту ночь побывать на ферме. Это подтверждалось неопровержимыми доказательствами. Версию о том, что грабители — местные колхозники, Руссу после тщательной проверки отбросил. «Нужно ехать в Кишинев», — решил он и, получив «добро» начальника райотдела, выехал в столицу республики. Другие оперативные работники были направлены в Страшены и Дубоссары. Шел день, другой, а капитан Руссу все не мог напасть на след преступников. И вот удача! «Погоди, может, это ложный след, — говорил себе Руссу, — может быть, эта ниточка оборвется?» Но шестым чувством понимал — он на верном пути. В общежитии кишиневского кирпичного завода жил молодой шофер. Работал он на автомобиле, принадлежащем птицефабрике, которая тогда только строилась. Автомобиль был марки «УАЗ». И вот в его машине были обнаружены куриные перья. Все это могло быть и совпадением. Но Иван Яковлевич осторожно разузнал, что в ночь ограбления шофер в общежитии не ночевал. Не было на месте и машины. Кроме того, некто Чуш, человек без определенных занятий, пьянчуга, ранее судимый, а теперь водящий знакомство с шофером, как свидетельствовали соседи, привез откуда-то и предлагал купить у него кур и яйца. Не слишком ли много совпадений? Но вряд ли преступников было всего двое — сторож и птичница говорили, что их было пять или даже шесть. Да и управиться вдвоем так быстро грабители не смогли бы. Значит, есть и другие сообщники. …Иван Яковлевич положил перед собой листы чистой бумаги и приказал привести Чуша. На квартире у вора были найдены пятнадцать живых, десять битых кур и двести яиц. — Так где же вы их взяли? — спросил Руссу. — Гражданин начальник, я же вам уже объяснял — брат мне их подарил. У меня такой хороший брат, чуткий, отзывчивый. Мы с ним душа в душу… — Ладно, погудите, Чуш. Сейчас мы пригласим сюда вашего брата. Чуш побледнел. Улыбочка сползла с его лица. В кабинет вошел мужчина. — Вы знаете этого гражданина? — спросил его Руссу, кивнув в сторону Чуша. — К сожалению. Это мой бывший брат. — То есть как это бывший? — А так, товарищ капитан, потому что я этого подонка и знать не хочу. — Вот как? — удивился Руссу. — А он утверждает, что вы в знак любви подарили ему двадцать пять кур и две сотни яиц. — Я? Ему? Да я ему куска хлеба не дал бы. — Значит, не дарили? — Нет. — Ну, ладно, вы свободны. И когда мужчина ушел, спросил Чуша: — Ну, так где вы их взяли, Чуш? — Ладно… Я все скажу. — Пальцы Чуша нервно теребили пуговицу на пиджаке. — Мы… …Чуш рассказал все. Умело ведя допрос, Руссу не позволял грабителю лгать, и постепенно картина вырисовывалась все яснее. Руководил «операцией» крановщик Немцан, личность темная, любитель выпить, в основном за чужой счет, и поживиться тем, что плохо лежит. Однажды он заехал к знакомому в село Микауцы. Тот-то ему и рассказал о Пересечинской птицеферме. Вызвался в «наводчики». Тогда-то у Немцана и созрел этот план. Нужна была машина. И Немцан через Чуша «сагитировал» шофера. Выбрали погодку похуже, достали ружье, запаслись мешками для кур. Были уверены, — в такую погоду следов не отыщешь. Да и кто мог подумать, что они совершили такое «турне» из Кишинева? Всего в шайке оказалось двенадцать человек. У них нашли сто сорок пять живых и около трехсот битых кур. Нашли ружье и часы сторожа. Так бесславно закончилась «операция» грабителей.IV
Не всегда жизнь человека складывается так, как ему бы того хотелось. Поначалу и Иван Яковлевич Руссу мечтал не о милицейской форме, не о розыске преступников. Его отец был лесником, и сын тоже готовился к этой профессии. Он любил лес, природу, любил с ружьишком побродить в чаще, посидеть с удочкой на берегу Днестра. После войны поступил в сельскохозяйственный техникум. Но закончить его не успел — призвали в армию. Служил в железнодорожных войсках. И когда, демобилизовавшись, ехал домой, о службе в милиции тоже не думал. А в военкомате вдруг предложили: — В милицию работать пойдете? Там очень нужны люди. Вспомнилось о лесе, задумался, но согласился, хоть и знал, что служба в милиции дело нелегкое. Решил: если не он — то кто же? Направили в Оргеев. Пришлось уехать из родного села Чинишеуцы, что в Резинском районе. Службу начал в звании сержанта. Был участковым. Оказался работником толковым — способным, инициативным. Заметили — перевели на следственную работу. Заочно закончил школу милиции. А в 1960 году стал работать в уголовном розыске. Много воды утекло с тех пор. Постепенно поднимался по служебной лестнице. Нет, не «делал карьеру», а набирался опыта, знаний. Присматривался, как работают старшие товарищи. Не стыдился попросить помощи. И ему помогали — Арсений Еустинович Михальчук, Иван Георгиевич Бабий… Прибавлялись звезды на погонах. Упорный труд отмечен орденом «Знак Почета». Первые седые волосы заблестели на висках, хотя, казалось бы, рано им пробиваться. Да что поделаешь — и детство было нелегким, военным, да и после войны не сладко поначалу жилось. Ну, а работа в уголовном розыске — все-таки не самая легкая и спокойная. Но он работал. Работал на совесть. В 1964 году стал начальником отделения уголовного розыска. Теперь вроде и сам — начальство, а хлопот не убавилось. Даже больше стало. Раньше отвечал только за себя, теперь еще и за подчиненных. А Шерлоком Холмсом не стал. Спокойный, рассудительный, понимал — «всезнающих», «всевидящих» не бывает. Розыск — это холодный ум, внимательный глаз и труд. Много труда. Так и живет человек, который не мечтал о милицейской форме. Но, надев ее, всю жизнь, все силы отдает нелегкому делу. Не ради должности, не ради звезд на погонах. Он коммунист и работает на совесть. И о лесе не забыл, любит по-прежнему. И частенько думает: вот в воскресенье возьму сынишек, Кольку с Витькой, рюкзак за плечи — и в лес. Отдохнем! Думать-то думает, да не всегда начальник отделения угрозыска находит время для отдыха. И, положив телефонную трубку, после очередного звонка виновато говорит сыновьям: — Ничего, братцы, поход переносится на следующее воскресенье. Что поделаешь, такая наша работа. И капитан Руссу уходит из дома. Туда, где он сейчас, сию же минуту, нужен людям.В. Лебедкин Даром ничто не проходит
Вряд ли кто бывает богаче чистыми, первозданными мечтами, чем мальчишки и девчонки. Им на пороге самостоятельной жизни многое кажется таинственным, неизведанным. Каждому хочется испытать трудности, совершить подвиг. Это будущее, его романтика и привлекательность многим представляется еще абстрактно, хотя некоторые уже видят себя космонавтами — как же иначе в наш век! — или моряками дальнего плавания, писателями или знаменитыми кинозвездами. Юности свойственно мечтать, и это понятно — у нее все еще впереди. И только значительно позже, когда у человека есть, как мы говорим, пройденный путь, когда он уже в жизни многое познал и что-то полезное сделал людям, тогда он, этот человек, обязательно оглянется. Оглянется, чтобы подвести первый, а иногда и последний итог. И, конечно же, приятно сознавать и чувствовать, что жизнь прожита не зря, тем более, если жизнь эта еще только в самом расцвете. Зоя Дмитриевна Кулдошина тоже мечтала. Грезились ей впереди одни только трудности. Какие — она и сама еще не знала. Но только обязательно хотелось, чтобы они были, чтоб можно было их преодолевать, побеждать. Мечтала совершить что-нибудь важное, значительное, за что люди говорят спасибо. Еще в десятом классе услышала Зоя как-то разговор о том, куда пойти после школы. Одна из девчонок сказала: — Я бы пошла на курсы стенографии. Мне нравится эта специальность. Представьте себе, что вы владеете какими-то, только вам понятными крючками-точками. Свободно успеваете записать самую быструю речь. И только потому, что каждый крючок может обозначать слово, а то и целую фразу… — И что же, кто тебе мешает? — спросила Зоя. — Трудно запомнить всю эту механику. Боюсь, что не справлюсь. И тут Зоя выпалила: — А я вот пойду и — справлюсь! Знала, конечно, что это не подвиг. Но все же трудность, которую надо преодолеть. Только не суждено ей было закончить курсы. Началась война. — Что умеешь делать? — спросили ее в военкомате. — Ненавидеть врага! — отвечала она, стараясь говорить сквозь зубы, чтобы произвести нужное впечатление. — Мы все ненавидим. — Офицер поднял на нее усталые от бессонницы глаза. — Я спрашиваю, может, ты в школьном кружке изучала радио, увлекалась стрельбой или хорошо владеешь немецким? Ни того, ни другого, ни третьего она не умела, не знала. В ту минуту ей показалось, что жизнь только тем и занимается, что на каждом шагу ставит ей подножки. Хотела на передовую — не пускают! Подумала, может, знание стенографии и машинописи поможет попасть туда. Там ведь обязательно будут допрашивать пленных фрицев, и надо же кому-то вести запись. Главное, попасть на передовую, а там она уж будет стрелять в них, гадов. Сказала — и помогло… Зою направили работать в штаб дивизии. А там работа известная: день и ночь приказы, представления к наградам, переписка с родными погибших… Недовольна была собой Зоя: не то, не этого она хотела. Какую пользу можно принести своей армии, на скучной канцелярской работе? Но ей строго сказали: — Все рвутся на передовую. Что же ты хочешь, чтобы мы посадили здесь мужчину? И она, стараясь хоть как-то оправдать себя, работала добросовестно, не покладая рук. И даже тогда, когда мало-мальски приходила в себя от страха после очередной бомбежки или вражеского артобстрела, все равно думала, что ее работа не связана с трудностями, с риском, а поэтому не очень-то нужная… С первых дней войны от родного Подмосковья прошла она путь со своим штабом до самых западных границ нашей Родины. Вместе со всеми принимала участие в Ясско-Кишиневской операции. Наградили ее медалью «За боевые заслуги» — оценили «скучную работу». И все равно она была недовольна собой — все время просилась на передовую. После изгнания врата с территории Советской Молдавии ее пригласили в штаб к главному начальству и сказали: — Вы хотели быть на передовой, так вот, исполняем ваше желание — посылаем вас на передовую… — Спасибо, спасибо! — благодарила она, решив, что наконец-то найдет полное применение своим силам. Благодарила она и не знала, что ее оставляют здесь, в Молдавии, и направляют на работу в республиканские органы внутренних дел. — Это тоже передовая, — объяснили ей потом. — Здесь работы непочатый край. На нашу жизнь вполне хватит. …С тех пор прошло много времени. Весь советский народ отметил 25-летие Ясско-Кишиневской операции по разгрому врага, а Зоя Дмитриевна вместе с этим и 25-летие своей работы в органах Министерства внутренних дел. Из них десять лет она бессменно трудится на посту начальника паспортного стола Вулканештского РОВД. Время неумолимо. Не стало мужа, и выросли дети. Сын Виктор после школы получил специальность механизатора и сейчас работает бульдозеристом в Вулканештской ПМК-8, Тамара тоже скоро выйдет в самостоятельную жизнь — заканчивает десятый класс. Глубокие складки на лбу пролегли, на висках появились сединки. Но так же, как в юности, молоды карие глаза и все тот же беспокойный характер. И с мечтою о встрече с трудностями не рассталась. Только мечта эта немного видоизменилась, стала конкретной, содержательной, появились понятия о гражданском долге, о служении народу, Родине. Многолетняя работа рядовой паспортисткой, а затем начальником паспортного стола научила многому, сделала жизнь понятней, интересней. Наряду с хорошим приходилось сталкиваться и с тем, что мы называем пережитками прошлого, что никак не вкладывается в рамки нашей морали, что чуждо нам и враждебно. И не стала от этого Зоя Дмитриевна скептиком или пессимистом. Только еще рьяней бралась за работу. По роду своей деятельности ей приходится заниматься не только выдачей паспортов, но и розыском тех, кто по каким-либо причинам потерял связь с родственниками, а также сбежавших от своих детей горе-отцов или, как их еще называют, алиментщиков. А это уже самая настоящая следовательская работа. В своей практике Зое Дмитриевне приходилась не раз заниматься розыском тех, кто укрывается от отцовских обязанностей, но не было такого случая, чтобы кто-то остался не найден, чтобы кому-то удалось скрыться бесследно. …Живет в совхозе «Победа» Вулканештского района молодая женщина. Двое детей-близнецов у нее на руках. Нелегко ей одной, больной, их воспитывать. Совхоз, правда, помогает — чуткие люди ее окружают. А ведь когда-то была здоровой и сильной, парни руку и сердце наперебой предлагали. Да прибыл на беду ее в село новый человек Анатолий Колмогорцев. Приняли его на работу в совхоз. Анатолий с первых дней с огоньком взялся за дело, все у него в руках горело. Статный, представительный, да и уж больно настойчив был. Согласилась, поженились. Руководители совхоза были довольны, думали, человек женился, значит стал своим, осел навсегда. А он, этот человек, как узнал, что жена заболела, бросил ее с двумя детишками, да и был таков. Зоя Дмитриевна почувствовала, всем женским сердцем поняла беду молодой матери. Не осталась равнодушной к чужому горю. Расспросила обо всем, о приметах сбежавшего, нет ли каких его старых писем или фотокарточек, не знает ли она о месте жительства каких-либо родственников его, словом, взяла все данные, которые могут способствовать успешному розыску. И розыск начался. Письма, письма, письма. Запросы во все концы. Пришлось немало усилий затратить для того, чтобы выяснить, что у разыскиваемого есть мать, брат и сестра. Мать проживает в Амурской области, сестра — во Владивостоке, брат — в Восточной Сибири. Ответы на письма пришли разные: мать и сестра сообщили, что не знают, где он находится, брат ответил, что получил письмо от Анатолия без обратного адреса, по всей вероятности, оно было послано из какого-то леспромхоза Читинской области. Запросы через военкоматы положительных результатов не дали — Колмогорцев нигде на учете не состоял. Тогда пришлось обратиться в паспортный отдел управления милиции Читинской области, и беглец был найден. Он преспокойненько работал бульдозеристом, причем успел жениться уже и здесь. На паспортном и военном учете, конечно, не состоял. Выяснилось, что Колмогорцева разыскивают и в Биробиджане, где он также имеет жену и двоих детей. Зоя Дмитриевна обратилась в соответствующие органы с просьбой привлечь к строгой ответственности Колмогорцева за многоженство, а руководителей леспромхоза — за ротозейство, за то, что они без элементарной бдительности приняли на работу проходимца, даже не заглянув в его документы. Беззаботная жизнь одного из представителей донжуанства закончилась… Розыском такого рода не всегда приятно заниматься. Но уж коль существует еще плохое, приходится бороться с ним, искоренять его из нашей жизни. Куда приятней, конечно, вести поиск-в других случаях… Пришла как-то в паспортный стол Лидия Александровна Долганюк, жительница села Колибаш, и попросила разыскать ее брата Ивана. Точного года рождения она не знала, но сообщила, что он должен быть старше ее года на два-три. Их родители умерли в 1946 году, когда Лидии был всего лишь один годик. Вместе с братом они попали в один из детских домов Молдавии. Потам Лида тяжело заболела и ее поместили на лечение в больницу. А когда выздоровела, была направлена в другой детский дом. С тех пор друг о друге они уже больше ничего не знали. За годы работы в паспортном столе Зое Дмитриевне многих пришлось разыскивать, и все-таки она снова задумалась — с чего начинать? По каким каналам? Начала поиск с Центрального адресного бюро. Оттуда ответили: «Не значится». Отдел школ и интернатов при Министерстве народного образования МССР установил, что Иван Долганюк в 1959 году окончил школу фабрично-заводского обучения и направлен на работу в Магнитогорскую область. Розыск через адресные бюро Союза и военкоматы никаких результатов не дал. У человека равнодушного, формально исполняющего свои обязанности, конечно, опустились бы руки и нашелся бы ответ, мол, не знаем где — и все тут. Но Зое Дмитриевне неудача только прибавила сил. Новые письма, новые запросы пошли в разные концы страны. И беспокойство, упорство щедро оплачены удачей: выяснилось, что Иван Александрович Долганюк проходит службу в рядах Советской Армии. Брат и сестра встретились после двадцати лет разлуки… Примеры, примеры… Их много. Хватило бы на целую книгу. И каждый раз, когда приходится заниматься розыском каких-либо лиц, и если приходят ответы, что эти люди по учету «не значатся», Зое Дмитриевне становится не по себе. Ведь разве трудно любому из руководителей, принимая на работу нового человека, заставить его оформить как следует все документы. Не было бы тогда таких ответов: «не значится». В свободное от работы время Зоя Дмитриевна по личной инициативе бывает в колхозах, совхозах, на предприятиях и в учреждениях района. Читает там лекции, проводит беседы. Рассказывает о порядке, правилах и необходимости паспортного учета. Неоднократно выступала она но местному радио, в районной газете. И тем не менее при проверке паспортного учета нет-нет да и встретятся один-два ротозея из числа руководителей. В колхоз «30 лет Октября» заявился некий Иван Константинович Михайлов. Представился ветврачом. Приняли. И даже документов не спросили. Иван Константинович сразу же пожелал получить, как он выразился, подъемные для первоначального устройства на новом местожительстве. Ему любезно выдали 200 рублей. Что оставалось делать жулику в таком случае? Он с превеликим удовольствием скрылся, разумеется, не помахав даже ручкой добродетельным ротозеям… Или другой пример. На винзавод пришел Дмитрий Иванович Сафта. Бродяга-бродягой. Ранее неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения. У него тоже не спросили документов и взяли на работу с непрописанным паспортом. Через две недели Сафта скрылся, обворовав квартиру. В совхозе «Победа» приняли на работу без документов некую Софью Мунтян, которая представилась Анной Савастин. Эта Мунтян-Савастин вела разгульный образ жизни и, найдя удобный случай, обворовала общежитие и скрылась. Разумеется, все, о ком шла речь, задержаны и получили по заслугам, но этих и других подобных фактов могло не быть, если руководители требовательнее подходили бы к подбору кадров. У Зои Дмитриевны много забот. С особой радостью, с большим волнением и душевным подъемам идет она в школы, к тем, кому предстоит получить паспорт. В 16 лет человек навсегда уходит из детства, становится гражданином Союза ССР. Зоя Дмитриевна знает: очень важно, чтобы день, когда молодые люди получают первый паспорт, был торжественным и запомнился им навсегда. И к таким событиям она и ее коллеги готовятся основательно, продумывают каждую мелочь, каждую деталь: следят за тем, чтобы клуб или красный уголок украсили живыми цветами, приглашают родителей, ветеранов партии и комсомола, передовиков труда, знатных людей района. Даром ничто не проходит. Щедрость души и беспокойство характера будут оплачены потом сторицей. Это доказано самой жизнью… Зоя Дмитриевна когда-то мечтала о трудностях, хотела совершить что-нибудь важное, значительное, за что люди могли бы сказать «спасибо». Что ж, мечта ее, пожалуй, сбылась — люди уже сейчас благодарны ей за многое. Бывшая комсомолка, а ныне коммунист, капитан милиции Зоя Дмитриевна Кулдошина награждена медалью «За безупречную службу» всех степеней. Президиум Верховного Совета МССР отметил ее труд Почетной грамотой, а МВД МССР неоднократно заносило ее на республиканскую Доску почета. Сделано многое. А жизнь еще только в самом расцвете. И не беда, что на висках появились первые сединки. Уже есть и смена — сын и дочь тоже мечтают о том, чтобы сделать для народа что-то важное, значительное…Я. Гуревич Следы остаются всегда
Очень часто телефонный звонок раздается ночью. Злой умысел тщательно избегает людского глаза, и преступления обычно совершаются под покровом темноты. Но в тот раз звонок раздался под самое утро. Сотрудник уголовного розыска Алексей Савельевич Попов уже готовился к сдаче дежурства по райотделу. Еще подумалось: удачно, что заканчивается дежурство в субботу утром, и дома успеешь побыть, и на рыбалку сходить, и вдруг — взволнованный голос в трубке: — Сторожа убили… Звонил Метлинский, начальник охраны в Институте орошаемого земледелия и овощеводства. Даже не спросив, кто у телефона, словно опасаясь, что кто-то перебьет и не успеет он всего сказать, торопливо зашептал в трубку: — Сад института на окраине села Суклея знаете? Ну, вот там… Сменщик пришел, а он лежит под деревом… Кровь видна… Нет, сам еще там не был, люди рассказали… Всего несколько минут понадобилось Попову, чтобы доложить о случившемся начальнику отдела подполковнику Косогорову и на попутной машине выехать к месту происшествия. В огромном саду института, неподалеку от ничком лежавшего человека в поношенной фуфайке и крепких еще ботинках толпились люди — то ли пришедшие с утра на работу, то ли привлеченные страшным известием. Из отрывочных фраз, которыми они полушепотом обменивались, Попов уловил, что сторожа здесь хорошо знали и относились к нему в общем-то благожелательно. Едва успел он распорядиться об охране места происшествия и торопливо занести в протокол первые сведения о случившемся, как подъехали подполковник Косогоров, судебно-медицинский эксперт Е. Я. Садикова и следователь районной прокуратуры А. М. Флоря. Предварительное обследование показало: смерть наступила несколько часов назад, ночью, от двух огнестрельных ран в затылок. Около соседней яблони были найдены клочки пыжей из газетной бумаги. Протокол вскрытия дополнительного материала следствию не дал. Разве только то, что обе раны нанесены из охотничьего ружья, причем выстрелы были произведены почти одновременно, с очень близкого расстояния. Есть в специальной литературе такой термин — адаптация, приспособление организма к окружающим условиям, к длительному раздражению, привыкание чувств. Говорят, что адаптация присуща врачам, что постоянное общение с больными делает их малочувствительными к человеческим страданиям. Но это справедливо только в тех случаях, когда речь идет о плохих врачах. И о сотрудниках уголовного розыска можно сказать то же самое. Адаптация возможна применительно и к ним, но опять же, если иметь в виду работников посредственных, инертных, не отличающихся ни познаниями в деле, ни любовью к нему. Будь деятельность сотрудников уголовного розыска более видимой каждому, протекай она на наших глазах — как много доказательств получили бы мы тому, что и среди них, как и среди врачей, есть великое множество творчески одаренных, страстных и самоотверженных людей, которые любое преступление, непредотвращенное или хотя бы нераскрытое, переживают глубоко, как личную вину перед обществом. За время работы Попову уже не раз приходилось расследовать дела, связанные с убийством человека. И тем не менее, каждый такой случай вновь и вновь заставлял его до предела напрягать нервы, вызывал порой ощущение почти физической боли от невозможности единым усилием воли и мысли схватить картину преступления, нащупать движущие его пружины. Как обычно, тут же была создана оперативная группа по расследованию дела. Кроме Попова, вошли в нее молодой оперативный работник В. Кириллов и участковый Е. Кифарчук. Попов был старшим, от него ждали товарищи первого слова, которое облегчило бы выбор правильного направления поиска, которое помогло бы выработать первоначальную версию. А что он мог сказать, если преступление, казалось, состояло из одних неизвестных? Месть? Можно допустить. Вероятно, были недовольные, озлобленные поведением, несговорчивостью сторожа. Может, задержал кого в саду? Может, сумку с яблоками у кого отнял или оружие в ход пустил? Втроем они опросили одного за другим остальных сторожей, начальника охраны, рабочих сада и всего подсобного хозяйства. Да, и задерживал, и сумки забирал. Хотя оружия не применял, но обязанности свои выполнял ревностно, на совесть. Один из рабочих — кто-то вспомнил — даже бросил озлобленно: — Что, думаешь, вечно здесь работать будешь?! Но особой злобы к человеку, ненависти обнаружить не удалось. По всей видимости, и не было ее вовсе. Тогда что же?! Прельстился кто даровыми фруктами, а сторож попытался помешать? Можно и такое предположить. Тогда — кто прельстился? Очень часто истоки преступления коренятся в отсутствии живого дела, в стремлении прожить полегче и беззаботнее. Для человека праздного, мечтающего о даровой наживе, сад института, такой огромный, ухоженный и обильный, не очень строго охраняемый, — кусок довольно лакомый. Проверить нигде не работающих? Интуиция подсказывала: преступник где-то здесь, неподалеку — в Тирасполе, в Суклее, в близлежащих селах. В течение последующих нескольких дней Попов, Кириллов и Кифарчук выявили и тщательнейшим образом изучили всех неработающих мужчин — почему не работает, на какие средства существует, имеет ли охотничье ружье? И эта версия ничего определенного не дала. Но ведь каждый оперативный работник знает: каким бы умудренным, каким бы хитро-изворотливым ни был преступник — след всегда остается. Может, он трудно различим, может, он совсем не там оставлен, где ищут его, может, наконец, умения не хватает взять его, но он есть, не может его не быть! Время от времени звонил телефон. На рынке у какой-то гражданки вытащили кошелек. Ночью в селе неизвестные забрались в магазин. Попов, как обычно, выезжал на место происшествия, составлял протоколы, вел допросы. Текущая работа шла своим чередом. А убийство человека все не выходило из головы. В душе Попов, конечно, не считал себя слишком чувствительным человеком, которого убийство могло бы выбить из колеи. Но приобретенный с годами опыт с логической неопровержимостью говорил, что преступник, однажды решившийся на убийство, способен пойти на него и во второй раз, и в третий. Подсознательное понимание неотвратимости наказания, животный страх за собственную участь преследуют его днем и ночью, обесценивают в его глазах чужую жизнь. Он становится социально опасным. И с этой минуты уже он, Попов, он, Кифарчук, он, Кириллов, считают себя персонально ответственными за то, что может совершить убийца, если его вовремя не обезвредить. Алексей Савельевич шаг за шагом прослеживал все действия своей группы с той самой минуты, как услышал в трубке взволнованный голос Метлинского, и чувствовал, что упущено что-то самое важное, самое существенное, что могло бы навести на след. И вдруг — как раз в то время, когда допрашивал мелкого карманника, который стащил на рынке кошелек, — мысль, вернее даже не мысль, а так, импульс какой-то, озарение мгновенное: а что, если преступник все-таки украл яблоки? Куда они ему? Для себя? Вряд ли кто ради этого пойдет на убийство. Значит, для продажи? Кириллов и Кифарчук подумали, потом один сказал: — Может, и не сулит эта версия успеха, а все-таки проверить надо… И то уж, кажется, в тупик зашли… Списки сдатчиков фруктов на приемном пункте оказались ошеломляюще пространными. Сдавали и тираспольские, и суклейские… Сначала отпала самая значительная часть — владельцы собственных садов; их трудно было заподозрить в стремлении нажиться за счет общественного сада. Потом методом исключения еще более сузили круг; отпали те, у кого не числилось охотничьих ружей. Наконец, когда уже оставалось полтора-два десятка человек, Попов, не очень-то рассчитывая на удовлетворительный ответ, так просто, на всякий случай, задал вопрос приемщице: — Скажите, а вы не припомните что-нибудь подозрительное во внешнем облике или в поведении тех, кто сдавал фрукты? Приемщица задумалась. С тех пор как стали сдавать ранние сорта яблок, перед ней прошло множество людей, разве всех в памяти удержишь. Кто-то ругался, кто-то ворчал, что продешевил, кто-то пытался сдать без очереди. Она медленно перебирала корешки квитанций, пытаясь хотя бы приблизительно восстановить в памяти внешность этих людей, характер происходивших разговоров. Вдруг она задержала один из корешков в руке, тихо, словно припоминая или разглядывая что-то трудно различимое, прочитала: «Семенова Людмила Ивановна…» Все притихли. Приемщица прочитала фамилию еще раз, уверенно сказала: — Совсем еще девочка. Лет тринадцать-четырнадцать, не больше… Я еще спросила, почему отец не привез яблоки, тут ведь килограммов девяносто-сто, не меньше, а она говорит: некогда ему, дескать, на работе занят… На тачке, правда, они были, но все равно для девчонки тяжело. Кифарчук, отправившийся по указанному в корешке адресу, возвратился поздно. Снял фуражку, вытер платком пот со лба и с затылка, удивленно развел руками: — Не проживает… Как то есть не проживает? А так, очень просто… Ни по соседству, ни на всей улице… Значит, документик фиктивный? А может, и фамилия вымышленная? Это уже становилось подозрительным. Проверили в паспортном столе. Да, Семенова Людмила Ивановна, 13—14 лет, не значилась. Лет тринадцати-четырнадцати… А что, если школьница постеснялась яблоки под своей фамилией сдать? Мало ли что… — А вы бы ее узнали? — спросил Попов у приемщицы. — А чего ж, недавно ведь дело было. В школе Попов с приемщицей ходили по коридору, во время перемены заглядывали в классы. Нет, никого похожего. Только когда возвращался какой-то класс со двора с урока физкультуры, женщина схватила Попова за руку: — Она… Точно, она… Вон, сзади идет, в голубенькой маечке… Девочку и в самом деле звали Людой. И отчество совпадало. Только фамилия и домашний адрес были другие… Яблоки? Никаких яблок она не сдавала. У них даже сада нет. Ей показали корешок квитанции. Она залилась густым румянцем, взглянула на учительницу, которая присутствовала при беседе, призналась: — Яблоки папа с дядей Володей принесли из какого-то сада. А мне велели их сдать, но только на другую фамилию, чтобы не было неприятностей… Помнит ли она, в какое время принесли яблоки? Точно не помнит. Собирались ночью. Пришли сначала дядя Володя и еще какой-то дядя, взяли мешки, а потом дядя Володя сказал отцу: «Возьми на всякий случай ружье, мало ли чего…» А утром, когда стала в школу собираться, отец еще спал… Дома оказалась двустволка — хорошо вычищенная и смазанная. И большой запас патронов, гильз, пороху, дроби, пыжей. Но Иван Петрович Шилов на первом допросе от всего отказался. И яблоки никогда не сдавал — откуда им взяться, если ни одного дерева возле хаты, и ружьишком целый век уж не баловался — по дому хлопот хватает. Ему показали запись беседы с дочерью. Он закричал: — Мало ли что можно заставить дите говорить! А ну, вызовите ее сюда, пусть при мне скажет!.. Потом, словно испугавшись, что ее и впрямь вызовут, вдруг сник, торопливо, сбивчиво зачастил: — Что правда, то правда, ходить за яблоками ходили. Два раза. Ага, в тот самый сад, институтский. Я, Володя Розован и Михаил Парван, так, случайные знакомые. За бутылкой как-то перезнакомились, разговорились. Парван недавно из заключения вернулся… Ну, в последний раз, значит, стали, это, собираться, а Володя говорит: ружьишко-то захватить надо. И Михаил подтвердил: ежели, говорит, попадемся, непременно, говорит, стрелять надо… Ну, значит, пошли мы, стали рвать яблоки. А сторож тут как тут! Стой, кричит, стрелять буду! Я бросил мешок и бежать. И Михаил со мной. А Володя остановился и сделал выстрел. Из обоих стволов…* * *
Нераскрытое преступление… Есть и термин такой, и своеобразный коэффициент полезного действия в органах уголовного розыска. Нераскрытое… Не потому, что нет никаких следов. Следы всегда остаются. Скорее потому, что преступник сумел запутать их, сбить с толку, оказался хитрым и изворотливым, а может, — даже и такое ведь случается! — опытнее, предусмотрительнее своего преследователя. У Алексея Савельевича Попова количество нераскрытых преступлений близко к нулю. И дело здесь, скорее всего, не в том, что от природы предприимчив и изобретателен он в поиске, решителен и смел в проведении операции. Дело в его умении находить контакт с людьми, опираться на множество добровольных помощников в единоборстве с преступником. Да, зачастую преступник действует не один. У него могут быть сообщники — один, два, несколько. Но ведь у сотрудника уголовного розыска помощники все, от мала до велика. Простая арифметика: живя среди нас, преступник угрожает интересам каждого в отдельности и всех вместе. И общество, естественно, ополчается против такого человека. Каким бы опытным ни был преступник, как тщательно ни маскировался бы, он заведомо обрекает себя на общественную изоляцию, он с первых же шагов неминуемо чувствует себя если не пойманным, то, по крайней мере, подобно зверю, обложенным со всех сторон флажками. …После окончания Кишиневской школы милиции Алексей Попов был направлен на скромную должность — инспектором уголовного розыска в райотдел милиции. Начальник еще вводил его в круг обязанностей (потому что «школа — это, конечно, очень хорошо, нам грамотные люди во́ как нужны, но учеба учебой, а работа есть работа!»), как вдруг позвонили из с. Гаивка. Ночью на полевом току совершена кража, похищена колхозная пшеница. — Ну, вот вам и работенка для начала, — усмехнулся начальник. — Поезжайте. Учтите, в деревне все и вся на виду, там концы спрятать трудно. Так что многое зависит от умения найти общий язык с людьми… Осень. Грязь непролазная. Добирался до села верхом. Участковый зазвал к себе, усадил за стол. Сельских всех так знает, словно бы по году в каждой семье хлеб-соль водил. О деле сразу говорить не стал и Попову не дал, перебил, спросил, когда из школы, по нраву ли новая работа. Словно и кражи никакой не бывало, а встретились так, по старой дружбе, что ли. Перехватив нетерпеливый взгляд Алексея, прикрыл глаза рукой, тихо сказал: — Тут тебе, милок, не соревнования по боксу — село. Деревня, понял? Поспешишь — людей насмешишь… И столько во всем его облике, в манере выражаться было обычной крестьянской степенности, простоты, что Попов даже засомневался: может, ошибка вышла и вовсе он не к участковому попал? А тот, покончив с расспросами, не то советуясь, не то самолично решая, вскинул брови: — На ток, пожалуй, сначала, а? Посмотреть, со сторожем потолковать… Попов собирался начать с правления, однако перечить не стал. Пусть уж делает как знает. Увидим, что за наука в местных масштабах. На току — следы колес, глубокие, хорошо различимые. Подвода, по всему видать, была нагружена тяжело. Сторож, говорливый, с хитрецой в чуть прищуренных глазах, рассказывал: — Подъехали, это, ночью на подводе… Двое, только лиц не разглядеть. Правда, я и не разглядывал, подъехали, думаю, по делу — значит, сами объявятся… А они в два прыжка ко мне, скрутили и в сторожку. И двери завязали. Никак с полчаса возились на току, а после, чую, двинулась подвода в сторону села… Как выбрался? Да как… Выдавил вон раму и вылез. А их уже след простыл… Попов внимательно наблюдал, как участковый записал рассказ, дал сторожу расписаться, переспросил: «Значит, говоришь, двое их было?», поднялся. Ни беспокойства, ни растерянности. Весь его вид словно бы говорил, что все это ему уже давным-давно известно и виновники уже найдены, но вот приехал представитель из района, значит, следует соблюсти формальности, чтобы все по правилу было. След привел в село. А дальше по грязи разве что разберешь. Да и подвод уже за день прошло вон сколько. Собрали колхозный актив — членов правления, бригадиров, звеньевых. Может, случилось кому увидеть подводу ночью? Может, хоть услышать стук колес? Где там, ночь в сентябре хоть глаз выколи, стук — какой он по грязи стук… Участковый на несколько минут задумался, потом надел фуражку, бросил с порога: — Ну, вы тут пораскиньте умом, кому так приспичило за колхозным хлебом, а я пойду с мужиками покалякаю. Не может оно произойти, чтоб ни одна душа не приметила. Вернулся он примерно через час. Отозвал Попова в сторонку. — Конечно, гарантии нет, может, и ошибка приключиться, но вроде видели ночью подводу, мешками груженную. И сидел вроде бы на мешках Семен, скотник, на том конце села проживает. Направляясь к Семеновой хате, снова смущенно пробормотал: — Никакой гарантии нет, одно только подозрение. Опять же темень проклятущая, сам понимаешь, и спутать недолго… В одной из нежилых комнат лежала пшеница. Взяли по горсти из каждого мешка — на анализ. Лаборатория подтвердила: краденая пшеничка, с колхозного тока. Случается, и после предъявления неопровержимых улик преступник изворачивается, лжет, то одно, то другое говорит. Но это редко. Семен, когда предъявили акт анализа да потребовали уточнить,где покупал пшеницу, как он сначала уверял, тут же сознался: — Была такая договоренность со сторожем. Вместе и нагружали. Ему три мешка отвез, себе пять… В личном деле Алексея Попова появилась первая благодарность. Хотя, ежели по правде, то от той благодарности немалая доля на участкового приходилась, на его умение с людьми работать, опираться на них, доверием у них пользоваться…* * *
Иногда по неведению, значительно реже по злому умыслу, люди отводят подозрение от преступника, запутывают следователя. Причем, если это делает человек, сам как-то заинтересованный в деле, еще не так страшно: показания подобного рода все равно ведь принимаются в расчет условно. Но когда заведомо ложные показания дает человек, которого ни при каких обстоятельствах нет оснований считать причастным к содеянному, трудности расследования возрастают во много раз. Как-то среди ночи у райотдела резко затормозила «Волга». Такое взвизгивание тормозов всегда как прелюдия к какому-то происшествию, к беде. И действительно, первое, что смог уразуметь Попов из путаного, взволнованно-сбивчивого рассказа водителя и влетевшего вместе с ним в кабинет парня, — убит мальчишка! Сбит на окраине села автомашиной. Годы работы в уголовном розыске вырабатывают множество умений и навыков, которые в сущности и составляют грани профессии, ее своеобразие. Одно из таких неписаных правил — ни одной напрасно потерянной минуты! Чем меньше времени прошло после получения тревожного сигнала, тем вероятнее успех поиска. Через несколько минут А. С. Попов, младший лейтенант Б. Г. Дериш и автоинспектор В. И. Чикирлан уже мчались в машине к месту происшествия, еще и еще раз мысленно взвешивая случившееся, обдумывая каждую подробность, услышанную только что из уст Валерия Баркаря… Уже совсем стемнело, когда Валерий с младшим братом возвращался домой. Толик что-то оживленно говорил. Теперь Валерий даже не мог в точности вспомнить, что именно — какой-то провал в памяти. Помнит жесты Толика, смех его еще в ушах звучит. И вдруг… Нет, не слухом, скорее всем телом ощутил какую-то упругую, тяжелую волну воздуха сзади и тут же резкий удар, швырнувший с обочины дороги в кювет. Вскочив на ноги, оглушенный, он почти одновременно увидел удалявшуюся в темноте грузовую автомашину и распростертое на земле тело Толика. Он закричал. Громко, пронзительно. Никогда в жизни не кричал он так. Из домов стали выбегать люди. Бесшумно подъехала и затормозила на полном ходу «Волга». Водитель прислушался к шуму, торопливо крикнул Валерию: «Садись в машину!» — и бросился в погоню. Один раз только, гари самом въезде в Суклею, километрах в пяти от Тирасполя, удалось издали увидеть какую-то грузовую автомашину. Потом она исчезла, словно сквозь землю провалилась… Несмотря на позднее время, люди еще толпились у дорога, спорили о случившемся, что-то ожесточенно доказывали друг другу. Попов и Чикирлан тщательнейшим образом осмотрели место происшествия. Удар оказался настолько сильным, что мальчик погиб, не приходя в сознание. Следов торможения, как это обычно бывает при непредвиденном наезде, обнаружено не было. Ни перед моментом наезда, ни позднее, когда несчастье уже произошло. Вероятнее всего было предположить, что преступление совершено под воздействием алкоголя: замедленная реакция, вернее даже отсутствие всякой реакции, и, с другой стороны, бесчеловечное решение бежать, не оказав никакой помощи пострадавшему. И еще одно: на правом крыле машины с большой долей вероятности можно было предположить наличие вмятины. То, что следов торможения, а значит, и раскаяния в содеянном не было, заставляло неотступно думать не только о несчастном случае, но и о чрезвычайной жестокости преступника, о его социальной опасности. И, следовательно, поимка его, изобличение становились делом особой важности. Многое зависит от первого шага. Сделаешь его в одну сторону — и выйдешь навстречу преступнику самым коротким путем. Сделаешь шаг в другую — и уклонишься так далеко, что и след утеряешь, так что лучше бы уж на месте топтаться. И тут опыт важен чрезвычайно. Но, быть может, не менее важна интуиция, с годами выработавшееся подсознательное чувство, которое говорит человеку: ищи здесь, и неважно, что прямых улик нет, все равно ищи! В группе Попова сработало и то, и другое. Отличное знание дела автоинспектором Чикирланом счастливо дополнилось профессиональным мастерством Дериша и тонкой интуицией Алексея Савельевича. Решено было начать с Суклеи. Раз в Тирасполь преследуемая «Волгой» автомашина не попала, почему бы не предположить, что она остановилась именно здесь, если только не свернула на одну из проселочных дорог. В Суклее два крупных гаража — «Суклейстроя» и ПМК-12. На ночь они запираются. Без ведома сторожа ни одна машина ночью не войдет в гараж и не выйдет. Во время беседы тот и другой, ни минуты не колеблясь, уверенно заявили: после восьми часов вечера ворота не открывались. Проверили автопарк. Все числящиеся за хозяйствами машины оказались налицо. Обнаруженные ночью во дворах машины тоже имели полное алиби. Теперь предстояло перенести поиск за пределы Суклеи, в колхозные автогаражи. Но, может, сторожа что-нибудь упустили? Может, на время отлучились куда-нибудь? Повторная беседа — и те же заверения: после восьми машины в гараж не прибывали. Чикирлан сказал: — Все-таки осмотрим машины. В обоих гаражах. На всякий случай. Чтобы с одной версией уж до конца покончить. В «Суклейстрое» ни одна машина не вызвала подозрений. В гараже ПМК-12 возле одной из машин Чикирлан вдруг остановился, внимательно присмотрелся. Да, вмятина на правом крыле. Он обошел машину со всех сторон, потрогал даже рукой номерной знак «МДВ 23-32», снова подошел к крылу, позвал товарищей. Вмятина как будто свежая. И снова сторож категорически отверг предположение о том, что машина могла попасть в гараж после полуночи или близко к этому. Но теперь они уже не приняли на веру его слова — вмятина на правом крыле, совсем свежая, говорила сама за себя. Когда клубок, наконец, удается распутать, у многих, не знакомых с делом, охватывающих мысленным взором только само преступление и конечный результат поиска, может утвердиться подозрение, что процесс расследования изобилует случайностями, что подчас следователю помогает нечаянное стечение обстоятельств, а то и просто слепая удача. Нет ничего ошибочнее такого предположения. И стечение обстоятельств, и удача — все это, как говорится, может иметь место. Но только в том случае, когда направление поиска определено верно, когда сила логики, аналитический ум следователя сделали свое, помогли оцепить преступника флажками. Навели справки о водителе машины. Им оказался Козьмарь Илья Иванович. Накануне, под вечер, он действительно привез из Чимишлии в Тирасполь старшего прораба ПМК-12 и сказал, что едет в гараж… День как раз выдался выходной. В конторе никого не было. Кто-то сказал: наверное, его сейчас в Тирасполе можно найти, он частенько к одной знакомой наезжает. Но и там Козьмаря не оказалось. И знакомой его тоже. Дочь хозяйки сказала, что Козьмарь действительно иногда заезжает. И вчера заскочил вечером, взял мать с собой и уехал. Вернулись, видно, за полночь, когда она уже спала… Вот, пожалуй, и все. Хозяйка позднее призналась, что ездили в Слободзею, в гости. Когда возвращались, была ночь, клонило ко сну. Она вздремнула в кабине. Сквозь дремоту как будто почувствовала какой-то удар, но точно не помнит. В гостях немного выпили… Преступника было бы легче изобличить, если бы не сторож гаража, который в ту ночь сам был пьян и легко поддался на просьбу Козьмаря ничего не говорить о его позднем возвращении в гараж и мог направить следствие на ложный путь.* * *
Вот уже более двадцати лет служит в органах милиции коммунист Алексей Савельевич Попов, начальник отделения уголовного розыска Тираспольского районного отдела внутренних дел. Годы трудной работы, исполненной высокой ответственности, самопожертвования, а подчас и смертельного риска, за плечами у этого человека. Но, рассказывая о своей службе, он никогда не употребляет таких слов, как «вдруг», «неожиданно», «внезапно», заключающих в себе эмоциональный накал борьбы, необычность положений, взрывчатость ситуаций. Он говорит как-то буднично, незамысловато, и обычное для него определение трудной ситуации — «много пришлось поработать…» Более емкой, более красочной оценки любому расследованному делу он не дает. И еще одна интересная деталь. Конечно, раскрыть преступление, найти и обезвредить преступника — это и есть тот участок работы, на который он, Попов, поставлен и за который он ответственен перед народом, перед собственной совестью. Но самыми значительными своими удачами считает он такие, когда преступление удалось предотвратить, когда довелось вовремя схватить человека, в буквальном смысле рвавшегося на скамью подсудимых. Как-то позвонила продавщица продуктового магазина: весь вечер вертится возле прилавка какой-то незнакомый парень. Купил только пачку сигарет, а высматривает что-то долгонько, непохоже, чтоб только погреться зашел. Как только стемнело, засели они вдвоем с участковым. Притаились, стали ждать. Движение на улицах села мало-помалу прекратилось, стали затихать голоса людские. А его все нет. Может, показалось женщине? У страха глаза велики. Непохоже, чтоб в гости кто собирался. Участковый уже стал нетерпеливо поеживаться. И вдруг… Шаги были торопливые, уверенные, но очень тихие. Среднего роста, плотный, в фуфайке и сапогах, он прошел к окну, полез за чем-то в карман. Участковый шепнул: — Подождем, пока начнет… Попов так же тихо, но властно возразил: — Зачем же парня под статью подводить, если он, может, по дурости полез… Молодой ведь как будто… Тот еще продолжал копаться в кармане, отыскивая что-то, как вдруг чья-то тяжелая рука легла ему на плечо, и он услышал негромкий предостерегающий голос: — Только без баловства! Пойдешь с нами… Позднее, совсем уже разобравшись в деле и устраивая парня работать на молочнотоварную ферму колхоза, Попов ворчал: — Вот, черт, не было печали… Тут и так дел невпроворот, так еще с этим бегай… Но в душе был доволен. Этот уж вряд ли пойдет во второй раз на преступление… Алексей Савельевич Попов много раз награжден. У него есть значок «Отличник милиции» и медали «За безупречную службу» всех трех степеней. В канун пятидесятилетия Советской власти он стал кавалером ордена Ленина. Родина высоко чтит заслуги своих героев.Е. Шияненко Бурям наперекор
Плавно кренясь на поворотах, стремительная «Волга» мчит по серому зеркалу шоссе Кишинев — Оргеев. Проносятся мимо километровые указатели. Вот еще один… — Тогда здесь было все иначе, — говорит госавтоинспектор Оргеевского РОВД старший лейтенант милиции Тулгара. «Тогда» — это зимой 1967 года, когда в республике разразился небывалый для здешних мест снежный ураган с резким шквалистым ветром. Пожалуй, только капризами природы был объясним тот факт, что вторую зиму подряд теплая Молдавия боролась повсеместно с большими заносами. Правда, «капризничала» природа недолго, всего три дня, но и этого могло оказаться достаточным для нанесения народному хозяйству, населению республики немалого ущерба. И так случилось бы, не прояви центральные и местные партийные, советские и административные органы должной заботы о людях, материальных ценностях. Не в меньшей, а, возможно, в большей степени, чем другим, пришлось испытать силу урагана оргеевцам — жителям района и райцентра. Как только возникла угроза заносов, в исполкоме Оргеевского райсовета депутатов трудящихся была создана специальная комиссия. Кроме представителей партийных и советских органов района, в нее вошли начальник Оргеевского райотдела, руководители предприятий и учреждений, располагающих дорожно-строительной техникой и автотранспортом, представители общественности. Начавшийся в шестом часу утра 11 февраля обильный снегопад, сопровождаемый ветром, все усиливался, и к полудню шоссе на Кишинев, примерно в 15 километрах от Оргеева, покрылось сугробами. Здесь стал скопляться автотранспорт, образовалась пробка. На различных участках шоссе застыли машины. Возникла угроза гибели многих людей, застигнутых бураном в пути. Располагая такими сведениями, на трассу, к месту заносов, выехала оперативная группа под руководством инспектора отделения уголовного розыска Оргеевского райотдела старшего лейтенанта милиции Кречуна. В опергруппу вошли сотрудники отдела старшие лейтенанты Киперь и Мокан, старшины Хондю и Данилюк, сержант Плотник, а также работники госавтоинспекции старший лейтенант Григоренко, в то время еще лейтенант Тулгара и младший лейтенант Попов. Одновременно к месту заносов были посланы снегоочистительные машины. Ехали члены группы долго. То и дело машины буксовали. Добрались только до ресторана «Ярна», что на опушке Оргеевского леса. Дальше дорога была занесена так, что застрявшие легковые такси завалило почти полностью. Вот тут и начался «бой». …Прежде всего надо было установить, кто из занесенных снегом нуждается в неотложной помощи. Метель не унималась. Сшибал с ног колючий ледяной ветер. Но если в первый день бурана дружными усилиями людей, вооруженных техникой, — одних только бульдозеров тут работало более десятка — дорогу еще можно было на 2—3 часа расчистить, то на следующие сутки и это оказалось уже невозможным. А буран все набирал и набирал силу. В двух шагах ничего не было видно. Но и в этих условиях члены опергруппы продолжали свою «снежную эпопею». Отдыхали едва ли по 2—3 часа в сутки. Спали по графику в том же ресторанчике с как нельзя более подходящим к обстановке названием («Ярна» — по-молдавски зима). Кое-как перекусив, смертельно уставшие люди забывались глубоким сном, не чувствуя ни холода, что царил в помещении, ни сырости набрякшей одежды. И после такого «отдыха» снова уходили в ненастную мглу, продолжать борьбу со стихией. Особенно большие заносы оказались на 6-километровом участке шоссе невдалеке от села Пересечино. Тут снеговой покров доходил местами до двух метров. Стоявшие в огромных сугробах грузовые машины и рейсовые пассажирские автобусы кое-где лишь угадывались по верхним частям кабины да по «колышкам» антенн. Докапываясь до машин, члены опергруппы устанавливали, кто в них находится, и, если надо, — а чаще всего бывало именно так, — оказывали извлеченным из сугробов срочную медицинскую помощь и сразу же, несмотря на неимоверные трудности, вывозили из района заноса. Самоотверженно, пренебрегая личной безопасностью, работали все. Лучшим примером для своих подчиненных был руководитель опергруппы старший лейтенант Кречун. …Вот он скрылся в сугробе. С трудом добравшись до обледенелого окошка грузного «ЛАЗа», — кто в этой машине? — прогрел дыханием «глазок». Увидел — дети, начал пробиваться, не теряя ни минуты, к соседнему автобусу, что приткнулся в кювет в нескольких метрах отсюда. И в том — тоже дети. Вместе с 4 воспитателями направлялись ребята в Кишинев на экскурсию… По команде Кречуна к этим двум автобусам и поспешили спасатели. Около 60 иззябших ребятишек вызволили из снежного плена работники милиции. Одних несли, другим помогали идти. Сами ребята, измученные и усталые, едва могли передвигаться. Только вызволили детей — сразу же стали откапывать другую машину. Насквозь промокшие, уже теряя сознание, засыпали в одном углу ее кабины шофер, в противоположном — девушка. Между ними едва пыхтела из последних силенок паяльная лампа. Приди помощь чуть позднее — все кончилось бы здесь плохо. А со стороны Кишинева тоже организованно пробивали снежные заторы, высвобождали людей из ледяных объятий урагана. Работой этой до прибытия сюда воинских подразделений Кишиневского гарнизона руководил старший лейтенант милиции Григоренко, госавтоинспектор Оргеевского РОВД. В обычных условиях спокойный и даже, быть может, чуть-чуть нерешительный, этот офицер милиции во время стихийного бедствия совершенно преобразился. Его указания были лаконичны и точны, действия решительны. …На повороте Телешово — Пересечино откопали груженый ГАЗ-51. В кабине — шофер и его спутник: видно, не захотели оставлять на произвол судьбы ценный груз. Но и противостоять разбушевавшейся стихии тоже были, не в силах. Состояние их было тяжелое. Пострадавшим тут же оказали первую помощь, но, чтобы спасти их, необходимо было срочно доставить в больницу. Короткий диалог госавтоинспектора с шофером — и дежурная машина с больными на борту уже набирает скорость. А теперь надо позаботиться о питании расквартированных в селе, согласовать вопрос с правлением колхоза, готовы ли в местной столовой кормить людей. А потом… — и всплывают десятки новых безотлагательных дел. Старший лейтенант обязан их решить немедля. И он решал… После того как пострадавшие от бурана — а таких оказалось около 800 человек — были в основном вывезены и расквартированы и за жизнь их можно было не опасаться, оперативные работники милиции сосредоточили внимание на том, чтобы не допустить хищений и порчи грузов, оставленных на погребенных в сугробах машинах. Усилия сотрудников ГАИ были направлены теперь на расчистку дорога — не менее трудное дело, чем спасение попавших в беду людей. …Вот двинулся по только что освобожденному от снега участку какой-то особенно нетерпеливый «газон», дернулся, еще раз — и заглох, развернувшись поперек шоссе, загородив с таким трудом проложенный путь. А разве такой «нетерпеливый» только один! И госавтоинспекторам ко всему еще приходилось уговаривать, убеждать шоферов до хрипоты. И все же порядок был обеспечен. Достаточно сказать, что сколь ни трудная сложилась обстановка, как ни свирепствовал ураган, благодаря умелым и решительным действиям органов милиции, воинских подразделений Кишиневского гарнизона, человеческих жертв не было. Не были допущены и кражи государственных ценностей, личного имущества граждан. Не случайно правительство республики и министр внутренних дел МССР за мужество и самоотверженность, проявленные во время стихийного бедствия, наградили тогда большую группу сотрудников МВД. В их числе оказались и многие работники Оргеевского РОВД.В. Горбачева, В. Лебедкин Куда приводит «ниточка»
В милицию поступил сигнал: в общежитиях пропадают счетчики. Самые обыкновенные счетчики электрической энергии. Кто-то неуловимый старательно соединяет провода «напрямую», а счетчик обрезает. И так поочередно «обслуживаются» общежитие за общежитием. В отделе сигнал приняли, но особого значения ему не придали: есть дела поважнее. А это, «пустяковое», поручили новичку Ивану Семыкину, только что прибывшему из школы следственных работников. Для кого, может, и пустяковое, а для него это было первым, а значит и ответственным поручением, своего рода экзаменом, проверкой тех знаний, которые получил в школе. Вопросов было много. С чего начать? По какому пути пойти? Прежде всего подумал: счетчики похищаются не для личного пользования (иначе хватило бы одного-двух), а если так, то для них нужен рынок сбыта. Решено было для начала понаблюдать за «толкучкой» и другими объектами, где обычно сбываются разные вещи. Догадка подтвердилась. Через несколько дней трое задержанных полностью признались в содеянном. Семыкин был доволен своим успехом. Сразу же написал отчет и представил своему начальству. Николай Михайлович Малодиков, заместитель начальника райотдела, внимательно познакомился с бумагами и где-то в глубине души улыбнулся: так и есть, обычная ошибка новичков. Документы оформлены неправильно. Вспомнил начало и своей деятельности. Тоже были ошибки. Ему тогда почему-то осторожно, как бы издалека, старались подсказать, помочь, боялись обидеть, что ли. А как теперь, в свою очередь, поступить с Семыкиным? Николай Михайлович задумался. Перед ним сидел строго подтянутый молодой человек, еще комсомольского возраста. В отделе с ним, по сути дела, не были знакомы. Но анкетные данные говорили о многом… Юность Ивана Семыкина так же, как и у многих его сверстников, прошагала в сапогах и солдатской шинели по дорогам войны. Разгром фашистов на Орловско-Курской дуге, Корсунь-Шевченковская операция, Ясско-Кишиневская… Словом, солдат. А потом — комсомольская путевка в органы МВД и Саратовская школа по подготовке следственных работников. Человек бывалый. С таким надо разговаривать без обиняков, напрямик, решает Николай Михайлович. — Не годится! Вы неправильно подготовили дело. Процессуальное оформление документов ведется на каждого в отдельности. Мы должны убедительно доказать степень виновности каждого. Ведь задача наша заключается не в том, чтобы осудить человека, а главное, подвести к осознанию своей вины и тем самым перевоспитать его. Придется сделать все заново! Семыкин изменился в лице, побледнел. Николаю Михайловичу показалось, что он готовится возражать и, чтобы окончательно обезоружить его, добавил: — В нашем деле мелочей нет. Запомните это. Мы работаем с людьми! Но молодой следователь и не думал возражать. Он правильно понял замечание старшего товарища. Ему просто было стыдно за свою оплошность. Он и сам знал, что в работе с людьми мелочей не бывает. В этом пришлось убедиться не раз.…На Рышкановке обокрали частный дом. В то время, когда хозяйка вышла в огород, кто-то осторожно вынул стекло в маленьком окне на веранде, проник во внутрь и похитил первые попавшиеся под руку ценные вещи. Через полчаса Семыкин был уже на месте происшествия. Заметил на стекле четко проступавшие отпечатки пальцев. Пригласил соседей в качестве понятых. Составил протокол. А вещественные доказательства направил экспертам-криминалистам. Через некоторое время работники милиции задержали в доме, за которым уже долгое время велось наблюдение, подозрительного человека. При нем оказались вещи, похищенные на Рышкановке. Задержанный категорически стал отрицать свою причастность к краже. Тогда сличили отпечатки пальцев и убедились, что следы на стекле принадлежат ему же. Все вроде бы ясно. Вору теперь не отвертеться. Иван Егорович вызвал его на допрос. Положил стекло на стул на самом видном месте. «Понаблюдаю, как он будет реагировать, увидев неопровержимую улику — стекло», — решил он. Это и была как раз та мелочь — ошибка. Задержанный вошел в кабинет и, когда ему предложили сесть, спокойно, как ни в чем ни бывало, взял стекло, перенес его на другое место, а сам сел на освободившийся стул. Семыкин сразу не придал этому значения, но, когда сказал вору, что отпираться нет смысла, так как эксперты установили на стекле именно его отпечатки пальцев, тот ощетинился и также спокойно заявил: — Моих следов на стекле быть не может по той простой причине, что я не воровал. — На стекле ясно видны отпечатки пальцев. Они ваши… — Это фальсификация. Отпечатки вы сняли с других предметов, которые так старательно специально мне вчера подсовывали… Следователь продолжал настаивать: — Но ведь на стекле есть отпечатки именно ваших пальцев, и от этого никуда не денешься. Посмотрите, они даже невооруженным глазом видны. Вор и головы не повернул. — Эти следы я оставил сейчас, когда перекладывал стекло на другой стул. Казалось бы мелочь — обвиняемый взялся за стекло, когда вина уже доказана. Ан нет. Эта «мелочь» и завела в тупик. Осложнила расследование дела. Пришлось искать выход из создавшегося положения. Помогла все та же «мелочь». Следователь показал, в каком положении стекло вынималось из рамы и как за него брался вор, когда перекладывал со стула на стул. Таким образом, получилось, что следы от пальцев есть на четырех сторонах стекла. Преступник вынужден был признаться. После этого случая Семыкин не только не пренебрегал «мелочами», но всегда старался обратить внимание на любую деталь, пусть даже самую незначительную. И это нередко ему помогало.
…На Кишиневском кожевенном заводе стала исчезать качественная кожа. И не в малом количестве. Долгое время не могли установить, кто ее крадет. Местные контролеры обратились за помощью в милицию. Сотрудники милиции решили по-своему начать расследование. Они установили наблюдение за вещевым рынком, мастерскими по пошиву и ремонту обуви и т. д. День проходил за днем — никаких результатов. …На автобусной станции царило обычное оживление. Приходили и уходили машины разных маршрутов. Толпились пассажиры у касс. Шум, суета. Работник милиции, дежуривший на автостанции, обратил внимание на женщину, которая пыталась втиснуться в переполненный автобус. В руках у нее был старый мешок, и из дыры торчал кусок кожи… — Зачем устраивать давку? — обратился к ней милиционер. — Я помогу вам сесть на другой автобус, совсем свободный. Он уходит через пятнадцать минут. — От спасибоньки, милый, — отошла в сторону женщина. — А я вже зовсим з сил выбилась. — А это что в мешке, кожа, что ли? — кивнул он головой. — Кожа, кожа, милый. Батькови на чоботы. — А где же взяли столько? — Купила, купила, милый… — У кого? — Та на базари. Дядька якийсь з-пид полы продавав… — Кожа-то ворованная, — сказал милиционер. — Придется вам задержаться. — Та що вы, милый? — запричитала женщина. — Купила я, ей-богу, купила. Хиба ж можно красты? Та провалиться мени та цьому мисци… Та хай бог накаже… Та… не брала я… Купила, кажу… Женщина действительно кожу купила. Увидела на базаре мужчину, который из-под полы предлагал кусок кожи, и спросила, нет ли еще. Он вначале недоверчиво посмотрел на нее. Но когда узнал, что она не местная и сегодня собирается уезжать, соблазнился: такой выгодный покупатель не часто попадается. Когда привел ее к себе домой, предупредил, чтобы на случай чего не говорила, у кого брала. Но женщина перепугалась и не стала скрывать — все рассказала, как было. Семыкин записал ее показания и вечерком наведался в указанный дом. На улице его встретил хозяин, мрачный, небритый, в комнату не пустил. Как и следовало ожидать, он оказался работником кожзавода. Пригласили его в милицию. Когда женщина увидела, сразу сказала: он. А мужчина категорически отказывался, мол, никому и никогда кожу не продавал и эту женщину видит впервые. — Значит, говорите, видите впервые, — задумчиво произнес следователь и обратился к женщине: «Вспомните и опишите все, что вы видели в доме этого забывчивого гражданина, какая там мебель, как расположена, как одеты детишки, какие дорожки на полу и прочее». — А теперь остается съездить к вам домой, — сказал Семыкин, поднимаясь, — и проверить, правильно ли описала женщина вашу квартиру. Небритый понял, что отпираться больше нет смысла. Так помогла делу одна, казалось бы, незначительная деталь — расстановка мебели в доме. Преступник всегда оставляет следы, всегда есть «ниточка», которая помогает распутать сложный узел. Семыкину и вначале, и много позже, когда он уже работал в республиканском следственном отделе, приходилось не раз заниматься расследованием различного рода преступлений. И даже когда дело было сложным, выручала обычно маленькая «ниточка», мелочь. …Немало времени понадобилось Семыкину для того, чтобы распутать дело с крупным хищением сырья и других материалов на Бельцкой меховой фабрике и масложиркомбинате. По заслугам получили любители легкой наживы. Как ни крутились они, как не вертелись, вывести их на чистую воду опять же помогла маленькая «ниточка», казалось бы, самая незначительная деталь. Но бывает, что и начинается преступление тоже с мелочи. Жили-были в Оргееве три женщины. Не только совместная работа сближала их. Они были примерно одного возраста, на долю которого в годы войны пришлись суровые испытания. Директор, старший бухгалтер и счетовод-кассир Оргеевской киносети. Каждый день они встречались на работе, многие вопросы решали вместе и присваивали денежные средства также вместе в течение целых шести лет. А началось-то все с «досадной мелочи» в ноябре 1963 года. Кого-то из сотрудников надо было поздравить с днем рождения, а денег ни у кого с собой не оказалось. Выписали из кассы 18 рублей прогрессивной доплаты на имя зятя директора, который в киносети не работает. Через некоторое время понадобилось уже 50 рублей. Потом еще и еще… Росла Оргеевская киносеть. Из месяца в месяц выполняла и перевыполняла план. Но премиальную доплату за перевыполнение плана получали 2—3 киномеханика. В ведомости же значилось 7—10 человек. За остальных расписывались сами, деньги ложили в общую кассу и забирали их для личных нужд в течение месяца. А еще оформляли на работу вымышленных лиц. Приходил, допустим, человек к директору, просился на работу киномехаником. Писал заявление. Ему предлагали работу, но слишком далеко от дома. Естественно, человек не соглашался. Уходил, а заявление оставалось. Тут же издавали приказ, оформляли его на работу и два раза в месяц расписывались в ведомости напротив его фамилии. Других же оформляли по совместительству и выплачивали им половину ставки. В документах же значилось, что у них работает человек на полной ставке. Это давало им возможность присваивать остальные деньги, а также прогрессивку. Так, например, П. И. Баркарь вместо 50 рублей получал 25. Через некоторое время стал получать 50, но не получал прогрессивку. Или Е. С. Мардарь. С июня 1967 по май 1968 года получал вместо 62 — 31 рубль. Брат зятя директора вовсе не работал, а зарплата ему выплачена в сумме 240 рублей 80 копеек. Все это было так ловко обставлено, что никакая ревизия в течение длительного времени ничего подозрительного обнаружить не могла, несмотря на поступавшие сигналы. Начислялись, например, А. В. Герчиу 8 рублей 23 копейки, за которые он расписывался, а затем в ведомости перед восьмеркой проставлялась цифра 5, получалась положенная сумма 58 рублей 23 копейки. Около шести месяцев потребовалось, чтобы распутать весь клубок махинаций. Надо было найти людей, опросить каждого, сверить подписи, просмотреть каждую ведомость. И — неизбежный конец — известная скамья. Запричитали те, кто долгое время грел руки возле чужих денег. А ведь знали же, что совершают преступление, и не остановились вовремя, думали, что все пройдет незамеченным. Но, оказывается, и в их деле была «ниточка». И следователь ее нашел. Так было и в Комрате. В органы народного контроля поступила жалоба — в Кочулийском сельпо продают порченые пряности. В Комрат срочно выехал Иван Егорович Семыкин. Проверили — факты подтвердились. На прилавках магазина были продукты, давно списанные и нигде не числившиеся. На первый взгляд, все вроде бы ясно: виновных нужно наказать и дело прекратить. Но опытный следователь чувствует, что если есть «ниточка», значит нужно посмотреть, куда она ведет. Не может быть такого, чтобы люди нечистые на руку ограничились только махинациями с пряностями. Нет ли еще каких злоупотреблений? Иван Егорович решил еще раз пройти по магазинам и понаблюдать. Задержался в продуктовом. Посмотрел. Люди приходят, берут покупки и уходят. Работа идет четко, слаженно. Нарушений никаких как будто не видно. И вдруг заходят двое, по виду завсегдатаи этого магазина. Один из них кивком головы поздоровался с продавцом и жестом, понятным всем выпивохам, указал на горло: — Соку! Продавец молча наклонился под прилавок и поставил перед ними два стакана с вином. Семыкина это насторожило. Во-первых, в магазине не разрешается продавать вино на розлив, а во-вторых, откуда здесь разливное вино? После предъявления удостоверения следователя и знакомства с продавцом тот признался, что вино поступает из сельпо в кислородных подушках, а больше ему ничего не известно. «Ниточка» повела дальше. Оказалось, председатель сельпо, тот самый, который распорядился продавать испорченные продукты, договаривался с заведующим винпунктом, брал у него вино и продавал, а деньги они делили между собой. Получалось уже как в пословице: «Чем дальше в лес, тем больше дров». «Ниточка» превратилась в «канат». Председатель сельпо сказал Семыкину, что продано таким способом около четырех тонн. В связи с этим возник вопрос: как на винпункте покрывают недостачу, и вообще, в результате чего появилась возможность красть вино. О том, что следственные органы заинтересовались продажей вина, стало известно руководству Комратского винзавода. Директор и особенно главный инженер почему-то стали чинить всяческие препятствия расследованию. Но ларчик, как говорится, открывался просто — главный инженер как раз и был тем самым заведующим винпунктом, который воровал вино. Главным инженером он стал совсем недавно. Новый заведующий винпунктом, по настоянию своего предшественника, срочно состряпал фиктивное заявление, в котором указал, что при передаче ему хозяйства была обнаружена недостача четырех тонн вина. Жулик решил, что отвечать за четыре тонны все же легче, чем за большее, да, к тому же, он надеялся, что следователь после такого заявления не будет назначать ревизию, которой он особенно боялся. Но следователь не отступился. Компетентная комиссия вскрыла, что акта передачи виноматериалов нет, так же как и самой передачи не было. Просто новый заведующий постеснялся потребовать оформления соответствующей документации от своего будущего начальника. А последнему это как раз и нужно было. Комиссия тщательно проверила и обнаружила на винпункте не недостачу в четыре тонны, как писалось в заявлении, а припрятанные, нигде не числящиеся излишки: 180 тонн вина и две тонны спирта! Видимо, надолго готовил себе запас «главный инженер», но недолгой оказалась его карьера… От следователя требуется огромная сила воли, выдержка, большой диапазон знаний — сегодня одним делом занимаешься, завтра другим. И везде он должен быть специалистом. Люди тоже каждый раз встречаются разные: у каждого свой характер, к каждому нужен индивидуальный подход. Следователь — и психолог, и педагог. Потому он считает дело действительно законченным лишь тогда, когда преступник понял свою вину перед обществом, перед своим народом и в дальнейшем не совершит никакого проступка. И мучает чувство неудовлетворенности, если тот, кто садится на скамью подсудимых, только на срок, определенный решением суда, прекращает преступную деятельность. В Унгенском райпотребсоюзе Семыкин раскрыл хищение 47 тонн муки. Молодой парень, жизнь у которого вся еще впереди, уходя в тюрьму, заявил ему: — Вы меня попутали по мелочи. Вот подождите, отсижу срок и тогда такое закручу, что и комар носа не подточит. Что ж, пусть себя потешит человек несбыточными мечтами. Придет время — и он поймет свою ошибку. Жаль, что поздно для него будет — жизнь не бесконечна. …18 лет Семыкин стоит на страже интересов народа. Нелегкая у него работа. Но не было за это время ни одного дела, которое осталось бы нераскрытым. Родина высоко оценила труд следователя: Иван Егорович награжден медалью «За безупречную службу» всех трех степеней. …Вечерами подолгу светятся окна в его квартире. Дома жена, взрослый сын-десятиклассник. Ждут они своего отца и мужа с работы. Сын смотрит на мать, а мать на сына — опять они не сходят сегодня в театр. Ну что ж, сходят как-нибудь в другой раз. Все вместе. А в другой раз снова долго не гаснет свет в окнах. Иван Егорович снова в пути, ждут его где-то неотложные дела.
Г. Челак Слепая любовь
Нет, черт возьми, Шерлоку Холмсу таких загадок не задавали! Виктор Николаевич Чуркаш пристально смотрел на молодую женщину, сидевшую напротив. — Послушайте, вы его любите? — спросил он. Она покраснела, опустила голову. — Да, — голос ее прозвучал тихо, задушевно. «Любит, а из кожи вон лезет, чтобы за решетку посадить… Странная женщина!» — Чего же вы от нас хотите? — развел руками Чуркаш. Она подняла голову и в упор посмотрела на него. В ее глазах было что-то непреклонное, фанатичное. Чуркашу стало не по себе. — Чего я хочу? Я хочу, чтоб вы ему разъяснили… Он не имеет права так поступать со мной! Когда она ушла, следователь вновь перелистал представленные ею в Ленинский районный отдел милиции документы. Заявление, акты судебно-медицинского освидетельствования… Много этих самых актов, из которых явствовало, что муж на протяжении трех лет измывался над нею. Чуркаш вздохнул. Ничего не поделаешь, придется взяться за это дело… Любит? Не любит? Гадай на лепестках ромашки… Если любит по-настоящему, вряд ли стала бы доносить. А если не любит? А этот систематический сбор актов судебно-медицинской экспертизы! После беседы с ее мужем Виктор Николаевич окончательно зашел в тупик. Парень с таким искренним недоумением отвергал все обвинения, что не поверить ему было просто невозможно. У него никаких оправдательных документов, разумеется, не было, но честное, открытое лицо, поведение невольно вызывали симпатию к нему. И Виктор Николаевич начал следствие по делу «о нанесении побоев гражданином Н. своей жене гражданке Н.»… Теперь, вспоминая об этом, он всегда улыбается. В жизни трагическое и комическое столь тесно переплетаются, что порой трудно провести между ними четкую грань. А работа следователя — это активное вторжение в жизнь людей, это оправдательный или обвинительный приговор. И ошибок здесь допускать нельзя. В деле супругов Н. ошибки не произошло, хотя легко было ее совершить. Десятки людей опросил следователь в течение двух месяцев. Родственники, товарищи по работе — все в один голос утверждали, что Н. — человек спокойный, уравновешенный, непьющий, смирный, что никогда он ни с кем не вздорил, никого не обижал. А вот в отношении его жены Чуркаш узнал интересные подробности. По заверениям многих свидетелей, она, будучи, в сущности, неплохой женщиной, страдала одним довольно распространенным недугом — чересчур обостренной ревностью. Стремясь мертвым узлом привязать мужа к себе, она никуда его не отпускала, следила за каждым его шагом. Несладко приходилось парню: когда его собрались поощрить на работе, она пошла к руководителю предприятия и добилась отмены этого решения; когда его хотели принять в партию, она и тут напакостила ему. Ее аргументы: он не достоин этого, потому что в быту ведет себя плохо. В подтверждение — те же акты… Слепая любовь толкала эту женщину на поступки, которые вредили любимому человеку и ей самой. И, если она могла делать такие вещи, то… Перед тем как закрыть дело, Виктор Николаевич решил поставить все точки над «i». Гражданка Н. снова перед ним. — Слушайте же, — с трудом сдерживая улыбку, сказал он. — Ваше заявление и все другие документы мы передадим в суд. Ваш муж понесет заслуженное наказание. Лицо молодой женщины побледнело, руки задрожали. — Как в суд? — упавшим голосом спросила она. — Я этого не хочу. И никакого наказания не нужно. У нас ребенок. Чуркаш развел руками: — Ничего не поделаешь. Закон есть закон. Наступило долгое молчание. Женщина сидела, низко опустив голову, по ее щекам текли слезы. — Не виноват он… Это я сама… И хотя следователь давно уже обо всем догадался, он с деланной суровостью заметил: — Вы хотите сказать, что всю историю с побоями вы выдумали? — Да. Я сама себе их делала, а потом… получала акты… Что я могу с собой поделать? Я его люблю и хочу, чтоб он был мой… Только мой… Чуркаш вышел из-за стола. — И вы не понимаете, как это глупо? Разве так удержишь любимого человека? Только оттолкнешь от себя… Он долго еще говорил с ней. Доказывал, убеждал, увещевал, советовал. И она поняла. Когда месяца через два он случайно встретил супругов Н. на улице, все трое долго смеялись над этой нелепой историей с благополучным концом. Но далеко не все дела, которыми приходится заниматься следователю, имеют такой исход. Иные из них вызывают гнев и возмущение. Иные — боль и обиду. И надо очень любить свою нелегкую профессию, очень любить людей, чтобы в моменты горечи и разочарования не бросить все, не перейти на другую работу. Такое искушение испытал однажды Виктор Николаевич, когда работал следователем в Ново-Аненском районе, хотя в этом случае он проявил себя настоящим Шерлоком Холмсом. Зимой 1964 года в магазине села Трушены была совершена кража. Через взломанную дверь вор унес несколько золотых часов, много шерстяных кофточек, костюмов, обуви. В августе этот же магазин был «очищен» вторично. Незадолго до этого, в июне, из Дома животноводов колхоза «Бируинца» (село Кожушна) украли аккордеон и телевизор. Примерно в то же время была совершена квартирная кража в селе Галилешты того же района, расположенном неподалеку от железной дороги. В каждом отдельном случае на место происшествия выезжали оперативные работники. В одной из таких поездок участвовал и молодой следователь Виктор Чуркаш — тогда студент-заочник Киевской высшей школы МВД. На нескольких предметах он нашел отпечатки пальцев вора. Все говорило о том, что четыре кражи — дело рук одного и того же «специалиста»: «почерк» во всех случаях был одинаковый. Надо было набраться терпения и искать преступника. Поглощенный другими заботами, Чуркаш нет-нет да и наводил справки, расспрашивал знакомых и незнакомых коллег. И однажды его хлопоты увенчались неожиданным успехом. В беседе со следователем из Одессы Чуркаш узнал, что в Кировограде пойман вор, некий Павел Малиновский, занимавшийся кражами, в магазинах и учреждениях. Судя по рассказу коллеги, тот же «почерк». В Одессе, куда был доставлен преступник, Чуркаш испросил разрешение на разговор с ним. При встрече, которая состоялась в городской тюрьме, он сказал, что работает журналистом в Кишиневе, но о цели своего визита умолчал. Не задавать же преступнику лобовой вопрос о том, совершал ли он кражи в Молдавии! Виктор Николаевич сказал, что собирается писать очерк о человеке, много лет сидевшем в тюрьме. Преступник — разбитной, симпатичный малый лет тридцати пяти — оказался словоохотливым, общительным собеседником. Он стал рассказывать эпизоды из своей жизни. Отец его был вором и этому «ремеслу» обучил сына. С раннего детства Павел никогда не знал, что такое коллектив, трудовая жизнь, друзья. Девятнадцать лет из тридцати пяти он провел в заключении. Следователю не положено поддаваться эмоциям. Следователь должен фиксировать факты, анализировать их, в шелухе обыденного, незначительного находить то, чтодает возможность установить истину. Эмоции только мешают этому… Но, слушая непритязательный рассказ вора, Виктор Николаевич почувствовал что-то похожее на угрызение совести. Будто он нес вину за неудавшуюся жизнь Павла. Попади тот к нему, когда был мальчишкой, он, быть может, сделал бы из него человека. Как проморгали парня? Как допустили его до такого падения? А Павел все рассказывал. И в его голосе не было ни горечи, ни раскаяния. «Кажется, я переживаю больше его самого, — подумал Чуркаш. — Он зачерствел, потерял способность различать границы добра и зла…» Внезапно следователь насторожился. Павел говорил о Молдавии. Он, оказывается, бывал в Кишиневе, в его окрестностях. Но ведь Трушены и Кожушна — это окрестности Кишинева! Павел рассказывал о Гидигиче. Что он там делал? Был там. Просто так. Где ночевал? На вокзале. Потом Чуркаш перевел разговор на молдавские вина, затем вновь заговорил о Гидигиче. И, в конце концов, решился на отчаянный шаг: — Ну, а теперь расскажи, как ты совершил кражу в Гидигиче. Они давно уже перешли на «ты», будто старые, добрые друзья. Дело было поздно вечером. То ли Павел решил сознаться, почувствовав доверие к собеседнику, хотя тот сказал ему, кем он является на самом деле, то ли, устав, думал отделаться от следователя признанием, но, к великому изумлению Чуркаша, стал рассказывать, как обокрал магазин в этом пригородном селе: ночью пробил отверстие в каменной стене подсобного помещения магазина и вынес оттуда несколько десятков пар обуви — в чемодане и в мешке. Рано утром увез все это добро в Реваку и с помощью знакомой распродал украденное. Он рассказывал это с такими подробностями, что не поверить ему нельзя было. Но ведь в милиции не было никаких сигналов о краже в Гидигиче! В тот же вечер Чуркаш связался со своим руководством. По ходатайству министра он получил в Одессе разрешение доставить Малиновского в Кишинев. Отсюда, взяв машину, вместе с преступником и понятными поехал в Гидигич. Павел шел впереди и демонстрировал то, что делал в ночь преступления. Подойдя к задней стене подсобного помещения магазина, он показал свежую кладку, которой была заделана пробитая им дыра… Все стало ясно. У продавцов магазина совесть была нечиста, и они, обнаружив кражу, решили лучше умолчать о ней, покрыть недостачу, чем подвергнуться внезапной ревизии. Допрос продавцов подтвердил эту версию. Дальше дело пошло быстрее. В кожушнянской краже Павел сознался после того, как ему предъявили отпечатки пальцев, найденные на месте происшествия. Это были его отпечатки, отпираться было бесполезно. К тому же в селе Кожушна, куда Чуркаш ездил с фотографией Павла, вора опознали некоторые местные жители. Оставалось доказать, что Павел Малиновский совершил еще и квартирную кражу. Сам он упорно отрицал это. Он не знал, что у следователя есть важная улика — обрывки комсомольского билета, который вор нашел в кармане украденного костюма и, разорвав, выбросил из вагона, уезжая из Молдавии с ворованными вещами. Эти обрывки подобрали у железнодорожного полотна мальчишки, пасшие скот, и доставили в милицию. Чуркаш разыскал мальчиков, и те без колебаний заявили, что это «тот самый дядя, который бросил обрывки билета». Следствие закончилось. В унылой тюремной следственной камере сидели двое усталых людей — нарушитель закона и представитель административных органов. — Ну и задал ты мне работы, — сказал Чуркаш. Павел рассмеялся. — А ты ничего! Молодой да ранний. Одолел меня! — Эх ты, — с горечью сказал Виктор Николаевич, — жить бы тебе да радоваться жизни на воле. А ты… И он безнадежно махнул рукой. Павел нахмурился. — А ты не отмахивайся так. Я, может, решил исправиться. Понравился ты мне, вот что. Я даже стих про тебя сочинил, вот он. Чуркаш взял протянутый листок, где в зарифмованной форме говорилось о том, какой он хороший следователь и человек и как вору хотелось бы походить на него… — Отсижу вот, — задумчиво продолжал Павел, — вернусь сюда. К тебе приду. Не отвернешься? — Не отвернусь, — твердо ответил Чуркаш. — И помогу, так и знай. И снова чувство острой жалости к этому человеку захлестнуло его. Как-то, года два спустя, при встрече со старым приятелем он стал рассказывать о своих делах. Друг внимательно слушал, потом сказал: — Ну что ж, ту гражданку, что на мужа своего клеветала, можно понять и простить; этого Павла Малиновского можно понять, но нельзя простить; ну а тебя, дружище, ни понять, ни простить нельзя. На кой ляд тебе эти хлопоты, скажи, пожалуйста? Не лучше ли жить тихо и мирно, как я? «Нет, приятель! Если уж на то пошло, я слепо влюблен. Влюблен в свою нелегкую работу, которая вся, от начала до конца, — мысль, поиск, действие, служение людям. Это жизнь. И если гражданка Н. благодарна мне за свое спасенное от разорения семейное гнездо, если Павел Малиновский, выйдя на свободу, станет честно жить и трудиться, — разве это не добрая цена за тот фосфор, который я день и ночь трачу из-за них? Нет, кто вкусил эту работу, добровольно от нее не откажется». Он ничего такого не сказал товарищу, может быть, потому, что это прозвучало бы слишком громко. Но в тот вечер он потерял друга…Михаил Гребенюк Обжалованию не подлежит Повести

Клад старого мазара

1
Мухаббат-биби не могла налюбоваться сыном, такой он стал красивый и статный. Назар-бобо в молодости был таким же. Правда, сына немного старила седая прядь над виском. Очень тяжело пережил он трагическую смерть своей девушки. Тимур стоял перед матерью высокий, стройный, загорелый. Это был всего второй приезд его после окончания школы милиции. Между тем с тех пор, как он стал офицером, прошло четыре года. — Ты хорошо себя чувствуешь, сынок? — Хорошо, матушка. Не беспокойтесь. Как вы? — Э-э, я... Что я? Мое время прошло. — Никогда не говорите так, матушка. Отец в правлении? — В правлении. — Все никак не успокоится? — Разве ты не знаешь его? — Ему скоро семьдесят пять, пора бы уже и отдохнуть. — О каком отдыхе ты говоришь, сынок? Человек, пока жив, должен трудиться. Иначе зачем он? Какой от него прок?.. Отец постарел. Не узнаешь. Кого в наши годы узнаешь! — Вы не изменились, матушка. — Полно тебе. Не обманывай себя. В голосе Мухаббат-биби послышались грустные нотки. Она поспешно отвернулась и сделала вид, что заинтересовалась шелковым сюзане, висевшим над хантахтой. Тимур почувствовал в горле предательскую горечь. Действительно, у матери и у отца уже почти все было позади. Впереди был он — их сын, Тимур, их продолжение, их радость и надежда. Они верили в него, зная его честность, доброту, полную самоотдачу в помощи людям. — Простите, матушка. — Ну-ну, сынок, что с тобой? Садись, отдохни. Сейчас чай приготовлю. — Я схожу к отцу. — Сходи, сынок. Он будет рад. — Мухаббат-биби взглянула в глаза сыну, спросила, поколебавшись мгновение: — Кариму не помнишь? — Не забыл, — машинально ответил Тимур. Затем, словно натолкнувшись на неодолимое препятствие, чуть-чуть отошел от матери, увидев, как наяву, бледное предсмертное лицо Милы. — Не забыл... Не надо о ней. — Как хочешь, сынок... Она замуж выходит. — Мухаббат-биби все же сообщила то, что вертелось на языке. — Что вы говорите? Когда свадьба? — Через месяц. Жениха-то, наверное, ты знаешь. Он из Ташкента. В милиции работает. — В милиции? Как его фамилия? — Джаббаров. — Джаббаров... Джаббаров... — Тимур прищурился, будто пытался увидеть человека, которого назвала мать. — Джаббаров... Не знаю. Мухаббат-биби улыбнулась: — Ничего, сынок, узнаешь. Он приедет на днях... Иди к отцу, иди. Порадуй старика. Только, пожалуйста, не задерживайся и его поторопи.2
Янгишахар разросся. Это был просторный современный город, застроенный высокими многоэтажными зданиями, озелененный пышными скверами и садами. Тимур шел по главной улице Янгишахара. Шел неторопливо, вдыхая полной грудью чистый осенний, прохладный воздух, наполненный ароматом цветников, между молодыми деревьями, выстроившимися по обе стороны неширокого тротуара. Немногочисленные постройки правления колхоза находились на окраине города. Они, казалось, пришли из степи, да так и забыли вернуться обратно. Так показалось Тимуру сегодня утром, когда он летел домой на самолете. Раньше, до строительства города, постройки колхоза поражали Тимура своим величием и разнообразием. Теперь они словно вжались в землю, чтобы не вспугнуть приближающиеся городские громады. Вообще, наверное, правильно говорят: города, как люди, — растут, мужают, стареют. — Ба! Кому это нужно! Ты ли это, старик? Тимур невольно остановился, увидев перед собой Ивана Мороза. Мороз был в новенькой нейлоновой сорочке, в голубоватых узких брюках, в черных лакированных туфлях. Его широкое добродушное лицо озарилось радостной улыбкой. — Я, — протянул руку Тимур. — Тебя не узнать. — Кому это нужно! — Мороз крепко пожал руку Тимура, немного задержал в своей. — В отпуск? Клянусь, ты стал человеком. Подтянулся. Значит, в отпуск? — В отпуск. — Не насовсем? — Нет. — Зря. — Мороз тряхнул кудлатой головой. — Нам нужны толковые работники милиции. Хулиганья по-прежнему много. — Значит, забот не убывает. — Не убывает. Боремся, Тимур. — Мороз снова тряхнул головой. — К сожалению, это такое отродье, которое не всегда понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Нужны административные меры. Понимаешь? — Понимаю. — Ты торопишься? — Иду к отцу. — Ясно. Найдешь время, загляни к нам. — Куда? — В штаб городской дружины. — Ты в штабе? — Кручусь... Не подумай, что я штабист. — Мороз засмеялся, должно быть, представив себя на миг в роли чиновника дружины. — Я на переднем крае, так сказать. — Молодец! — Кому это нужно? Между прочим, тебе идет форма. Не жалеешь? — О чем? — О том, что в милицию поступил? — Нет. — Жалеть вообще глупо, — сказал Мороз. — Не знаю... По-моему, жалеть надо. Без жалости человек перестанет быть человеком. Дело, правда, в том, что́ жалеть? Кого? Ты не жалеешь жену Василия Войтюка? Сколько ей сейчас? Двадцать шесть? Осталась вдовой в двадцать два. Мороз тяжело вздохнул. — По-твоему... — Ты не согласен? — Я? Иди! Иди, отец обидится! Давно не виделись. Теперешняя молодежь не очень-то жалует родителей. — Ты не принадлежишь к этой молодежи? — Я — старик, Тимур. Мне уже больше тридцати. Соображай. — Действительно, старик, — сказал Тимур. — Наверное, теперь ты не способен на благородные поступки. Мороз уловил в голосе Тимура насмешливые нотки. — Ты что имеешь в виду? — Один твой подвиг, который ты совершил, когда находился в рядах молодежи. — Ну? — Забыл? У тебя дырявая намять. Этот подвиг ты совершил ночью, будучи в шатком состоянии, во дворе Людмилы Кузьминичны. Кстати, ишак, которого ты тогда запер в кладовую, являлся личной собственностью моего дедушки. Он еще взыщет с тебя. — Не взыщет, — лукаво прищурился Мороз. — Это почему? — Мы с ним как-то в чайхане посидели. — Ясно, — засмеялся Тимур. — Дедушка чай любит. Ты, наверное, постарался на славу. — Не беспокойся. В этом отношении я имею некоторый опыт. Правда, никаких крепких напитков не было. Тут мы с твоим дедушкой были единодушны. — Неужели ты бросил пить? — Кому это нужно? Не забывай, я — дружинник. Мороз хлопнул Тимура по плечу и, не попрощавшись, неторопливо пошел прочь, комкая в кармане газету. Тимур постоял некоторое время у дерева, улыбнулся, снова вспомнив случай с дедушкиным ишаком, и тоже неторопливо зашагал по тротуару, с новым интересом поглядывая по сторонам. Был полдень. Небо заволакивали тяжелые тучи. Поднимался ветер. С деревьев летели ярко-желтые листья. Справа, в небольшом скверике, забелело продолговатое здание из стекла и алюминия. Около здания, на скамейках, сидели люди. Немного в стороне стояли легковые автомашины. «Наверное, новый горком? — подумал Тимур. — Интересно, что сейчас делает Ядгаров? Может быть, зайти к нему? Я, пожалуй, с ума ошалел от радости. Он почти не знает меня». Тимур тем не менее свернул с тротуара и направился к зданию, толком не сознавая зачем. У здания остановился, взглянул на стеклянную доску, висевшую у подъезда, невольно вытянулся, не веря собственным глазам. На стеклянной доске крупными буквами было написано: «Отдел милиции Янгишахарского горисполкома».3
— Вам кого, товарищ лейтенант? — Да я, собственно, так. Зашел посмотреть. — Пожалуйста... Может быть, заглянете к начальнику. Он сейчас здесь... Вы не узнали меня? — Откровенно говоря... — Тимур не договорил, внезапно шагнул к капитану, стоявшему перед ним, вскинул руку к головному убору. — Товарищ Шаикрамов? Капитан улыбнулся. — Рад видеть тебя. Садись, садись. Я сейчас чайку приготовлю. — Ну что вы, товарищ капитан, ничего не нужно. Я к вам на минутку. Шаикрамов повернулся к двери и позвал: — Дригола! На пороге двери, ведущей во двор отдела, тотчас появился высокий подтянутый старшина. Он ласково взглянул на Шаикрамова и, молодцевато вытянувшись, отчеканил: — Слушаю, товарищ капитан! — Слушай, слушай, Костя. — Шаикрамов кивнул на Тимура. — Узнаешь? — Сдается, Лазиз-ака... — Сдается, — передразнил Шаикрамов. — Ты должен выбросить из головы это нездоровое слово. Перед тобой столичный ас! Немедленно организуй все, что положено для подобного случая. Уловил? — Уловил, Лазиз-ака... Значит, так. Во-первых, чай. — Дригола загнул указательный палец, посмотрел на Шаикрамова, согласно кивнувшего головой, загнул средний палец. — Во-вторых, сладости: конфеты, сахар, печенье. В-третьих, лепешки. В-четвертых, арбуз, дыня. Костя Дригола вышел. Лазиз Шаикрамов взглянул на Тимура, постучал пальцами по настольному стеклу, осторожно потрогал кончиками пальцев виски, помолчал немного, щуря глаза. — Вот так и живем! — Неплохо, — сказал Тимур. — Ты думаешь? — Уверен. Нам труднее. Каждый день то одно дело, то другое, то третье. Нарушители, к сожалению, еще не перевелись. — К сожалению, — задумчиво повторил Лазиз. — Ты знаешь участкового уполномоченного Сергея Голикова? На днях пулю получил... Не пугайся, не пугайся. Рана небольшая, не опасная... Так вот мы живем, Тимур Назарович. — Прости. — Ничего, — вышел из-за стола Лазиз. — Ничего. Мы этих бандюг повыловим. Ты знаешь, кто стрелял в него? — Кто? — Эргаш. — Эргаш? Тимур вспомнил здоровенного парня, появлявшегося на улицах города почти всегда в сопровождении своих дружков-телохранителей. Тимур нередко встречался с ним, когда жил в Янгишахаре. Как-то даже сидел с ним за одним столом в ресторане. Правда, это произошло случайно, однако это было. — Эргаш, — повторил Лазиз. — Поймали? — Поймаем! Теперь у нас начальник уголовного розыска из настоящих асов. Кстати, ты должен знать его. Он из Ташкента. — Ташкент — большой, могу и не знать. — Можешь, — согласился Лазиз. — Костя, где же ты? — Тут я, Лазиз-ака, — послышался негромкий голос Дриголы. — Сейчас принесу вам свои четыре пункта. — Ну-ну!.. Этого человека ты должен знать, Тимур, — возвратился Лазиз к прерванному разговору. — Тем более, что ты сам оперативник. У него необычная фамилия. — Сорокин? — так и подался вперед Тимур. Лазиз не успел ответить. Зазвенел телефон. Он потянулся к нему и поднял трубку. — Отдел милиции... Да-да. Слушаю, слушаю, товарищ, говорите... В колхозе «Ударник»? Когда? Сегодня ночью? Почему же вы до сих пор молчали? Кто говорит? Председатель колхоза? Участкового поставили в известность? Тоже нет. Немедленно свяжитесь с ним и организуйте охрану места происшествия. Мы сейчас выедем. — Что? — спросил Дригола. Он стоял в проеме двери с подносом, на котором белели два чайника и четыре пиалы. — Убийство, — бросил Шаикрамов. — Прости, Тимур, я сейчас. — Он поспешно спрятал в сейф бумаги, лежавшие на столе, еще раз извинился и выскочил из дежурной комнаты. Азимов посмотрел на Дриголу. Дригола неопределенно пожал плечами, подошел к небольшому низенькому столику, втиснутому между железным шкафом и стеной, начал расставлять на него чайники и пиалы. — Кто у вас начальник ОУР? — Новенький. Я еще не запомнил его фамилию. — Дригола потер жесткий подбородок. — Вона якась такая... За... Заф... — Зафар? — выпалил Тимур. — Ага. Зафар... Кажись, Зафар. — Капитан? — Ни. Бери выше. Майор. — Майор? Где его кабинет? — Та ось тут, в коридоре, третья дверь справа. — Спасибо. Азимов буквально за считанные мгновения очутился у двери, на которой чернела дощечка с надписью: «Начальник ОУР майор У. Зафар», по привычке одернул китель и опустил ладонь на блестящую металлическую ручку. — Майор Зафар? Здравствуйте! Зафар, стоявший у окна, и три человека, сидевшие за приставным столом, одновременно взглянули на Азимова, застывшего у двери. Зафар быстро шагнул к Тимуру, схватил за широкие крепкие плечи, прижал к себе. — Я рад, что вы здесь, майор, — расчувствовался Азимов. — Я тоже рад, лейтенант. Зафар сказал Шаикрамову и людям, сидящим за приставным столом: — Знакомьтесь, товарищи. Лейтенант Тимур Азимов. Сотрудник уголовного розыска Ташкента. — Очень приятно. — К Тимуру подошел низкий полный человек и подал руку. — Капитан Агзамходжаев. — Младший лейтенант Цой, — отрекомендовался второй, среднего роста, с иссиня-черными короткими волосами. — Старший лейтенант Панченко, — представился третий. — Ты в отпуск к нам? Зафар так и сказал: «к нам», словно он родился и вырос в Янгишахаре. Интересно все-таки был устроен мир: это ему, Тимуру, надо было спросить Зафара, надолго ли он «к нам», потому что Тимур родился и вырос в Янгишахаре. — В отпуск. — Молодец. Отдыхай. Набирайся, как говорится, сил. Извини, больше не могу уделить тебе ни одной минуты. Дела, понимаешь. — Понимаю. Убийство. — Откуда это тебе известно? — с подозрением взглянул Зафар на Тимура. Тимур сделал загадочное лицо: — Я же работник уголовного розыска. Неужели вам это ни о чем не говорит? Ульмас Рашидович, возьмите меня на место происшествия. Может быть, я пригожусь вам? Зафар перевел взгляд на Шаикрамова. — Вы? — Он был в дежурной комнате, когда я разговаривал с председателем колхоза, — вытянулся Лазиз. — Ясно... Хвастун ты, работник уголовного розыска столицы, — дружески сказал Зафар. — Отдыхай. Ты, наверное, еще не видел родителей. — Видел... Матушку. Отца еще не видел. Вы не беспокойтесь. Он поймет. — Не могу, Тимур Назарович. — Товарищ майор, возьмите, — заступился за Азимова Шаикрамов. — Я знаю его с детства, он не подведет нас. Не забывайте, Эргаш на свободе. Этот преступник может еще что-нибудь выкинуть. Не отвлекайте Агзамходжаева. — В самом деле, товарищ майор, — несмело проговорил Агзамходжаев. — Я почти напал на след Эргаша. Что я скажу Голикову, если этот негодяй уйдет? Зафар задумался. Потом быстро сорвал трубку с рычага телефона, бросил: — Фируза? Гараж!.. Говорит начальник ОУР. Вышлите машину к подъезду! — Спасибо, товарищ капитан... Простите, товарищ майор, — улыбнулся Азимов. — Благодари своего защитника, — кивнул Зафар на Лазиза. — Если бы не он, то не быть тебе с нами... Шучу, шучу, товарищ лейтенант. Не дуйся... Товарищ Шаикрамов, свяжитесь с прокурором. Сообщите ему о преступлении... Товарищ капитан, — Зафар перевел взгляд на Агзамходжаева, — продолжайте поиски Эргаша. Поехали! — Ни пуха ни пера, — шепнул Лазиз, когда Тимур направился вслед за майором Зафаром. Азимов преувеличенно тревожно проговорил: — К черту! К черту! Тьфу! Тьфу!4
Через десять минут от здания отдела милиции отъехали две автомашины. В первой сидели Зафар, Цой, Панченко и Азимов. Во второй — Шадиев, проводник служебно-розыскной собаки. Рядом с ним лежала рослая серая овчарка. Она настороженно водила длинными ушами, то и дело поворачивала морду к окну, за которым мелькали стволы пирамидальных тополей. Над городом нависли тяжелые свинцовые тучи. Вдалеке, за городом уже было видно, шел дождь: темно-синие полосы, как широкие асфальтовые дороги, тянулись вниз к земле, туда, где толпились старые глинобитные кибитки. — Найдем? Цой ни к кому конкретно не обращался, однако Панченко и Азимов промолчали, считая, что вопрос был обращен к Зафару. Зафар уверенно ответил: — Найдем! Азимов посмотрел на Зафара в смотровое зеркало. Было все-таки чертовски здорово, что я зашел в отдел именно сегодня. Судьба, наверное, переменила свое отношение ко мне, — стала иногда баловать меня. Разве в другое время я узнал бы и увидел бы столько же за такое короткое время? Найдем! Конечно, найдем! Мы милиция! — Ну, как там Ташкент? — Стоит, товарищ майор! — Стоит, — повторил Зафар. — Ты другим стал. Возмужал, что ли? У нас в отделе не был? — Заходил. Седых изменился? Трудится? — Изменился... Я часто вспоминаю наш разговор о нем. Ты был прав, кажется. Ему пришлось хлебнуть горячего до слез. Особенно в войну. Немцы на его глазах родителей расстреляли. — Что вы говорите? — Такое, Тимур, дело... Я бы на твоем месте усы сбрил. — Нет. — Азимов потрогал пальцами кончики усов. — Поздно сбривать. Привык. Солидней вроде. — Зачем тебе солидность? — Как же! Сотрудник ОУР! Зафар помолчал с минуту, глядя перед собой задумчивыми глазами, потом посмотрел на Азимова так, словно видел его впервые, и проговорил тихо, должно быть, думая о чем-то своем: — В таком случае, без усов никак нельзя! Очевидно, в другое время Азимов обиделся бы, услышав эти слова, однако сейчас они прошли мимо его сознания. Он уловил в голосе Зафара грусть и все свое внимание обратил на своего бывшего начальника, нуждающегося, по-видимому, в дружеском участии. — Вы давно здесь? — Второй месяц. — Скучаете? — Скучаю, Тимур Назарович, скучаю. — В голосе Зафара послышались уверенные нотки, однако Азимов по-прежнему слышал в нем грусть. — Вы сами изъявили желание поехать сюда? — Да. — Знаете, что бы я сделал на вашем месте? — сделал ударение Тимур на слове «вашем», будто возвращал Зафару долг. — Что? — насторожился Зафар. — Уговорил бы кого-нибудь из отдела приехать сюда работать. — Кого? — Кого-нибудь, — уклончиво ответил Азимов. Он посоветовал бы, не задумываясь, кого пригласить в Янгишахар, только не решался, считал, что Зафар неверно поймет его. — Седых? — Почему Седых? Вам нужен энергичный помощник. Такой, чтобы делил с вами все: и невзгоды, и радости. — Кого ты имеешь в виду? Тимур, помолчав, сказал: — Башорат Закирову. — Спасибо. Подумаем. — Зафар повернулся к водителю, попросил: — Езжай быстрей, Тиша. — Есть быстрей, товарищ майор! Машина взвыла и, кажется, полетела навстречу надвигающимся темным полосам, тянувшимся с неба на землю. Деревья, стоявшие вдоль дороги, слились в одну сплошную желто-зеленую массу и заговорили о чем-то, пытаясь порой дотянуться до кузова своими длинными сильными ветвями.5
Около правления колхоза собрались люди. Одни молча глядели на работников милиции, выходящих из машин, другие громко разговаривали, обвиняя работников милиции в том, что не смогли предотвратить преступление, которое потрясло колхоз. Азимов, не выходя из машины, наблюдал за толпой. На дороге показалась «Волга». Панченко, подошедший в эту минуту к машине, в которой сидел Азимов, удивленно присвистнул, не спуская глаз с «Волги»: — Кого это нелегкая несет! — Не узнаешь? — Зафар посмотрел снизу вверх на огромного старшего лейтенанта. — Своих нужно узнавать, Тарас Григорьевич, не то когда-нибудь попадешь впросак. Понял? — Понял. Панченко уже узнал людей, подъезжавших в «Волге». Он привычно одернул полувоенный китель, откинул со лба волосы и поспешил навстречу, широко размахивая длинными руками. Из «Волги» вышли прокурор Янгишахара Нуруллаев, следователь прокуратуры Гришин и эксперт НТО Сафарова. — Давно здесь? Прокурор, должно быть, устал или не выспался. У него было бледное осунувшееся лицо. — Только что приехали, — сказал Панченко. Старший лейтенант не отходил от Нуруллаева, ждал, что он еще спросит. — Ничего не узнали? — Нет. Нуруллаев подошел к Зафару, около которого уже стоял Азимов. — Здравствуйте, Ульмас Рашидович. — Здравствуйте, Закир Нуруллаевич. — Что случилось? — Сейчас узнаем... Кто это? — кивнул Зафар на Гришина. — Следователь. Только что возвратился из Москвы. Был на практике. Толковый малый. У тебя, кажется, новенький? — Прокурор посмотрел на Азимова. — Не совсем, — улыбнулся Зафар. — Он уже понюхал порох. Вы не узнаете его? — Нет, — пожал плечами Нуруллаев. Он еще раз посмотрел на Азимова, задумчиво почесал переносицу. — Нет. — Жаль. Это Тимур... — Сын Назара Азимова? — не дал договорить Нуруллаев. — Ну и ну! Что делает время с людьми! Где работаете? — У Розыкова. — Даже так? — удивленно произнес Нуруллаев. — Рад. Весьма рад. — Он подошел к Азимову и крепко пожал руку. — Хорошо ли себя чувствует Якуб Розыкович? Все ли у него в порядке? — Спасибо, — слегка склонил голову Азимов. — Якуб Розыкович, как всегда, в норме. — Ты возмужал. Отца видел? — Нет еще. — Передай привет от меня... — Нуруллаев повернулся к Зафару. — Пойдем? — Да. Зафар пропустил вперед прокурора, помедлив немного, пошел за ним к зданию правления. Люди, столпившиеся у подъезда, нехотя расступились, не спуская глаз с двери, пока ее не закрыл Шадиев, шедший с овчаркой позади всех.6
Сторож лежал в коридоре лицом вниз. Он был убит ударом по голове тяжелым предметом. Смерть, судя по всему, наступила мгновенно. Нуруллаев повернулся к Сафаровой: — Приступайте. Эксперт склонилась над трупом. Зафар постоял немного, наблюдая за быстрыми, уверенными движениями эксперта, проследил за работой следователя, готовившегося к составлению протокола на месте происшествия, посмотрел на Панченко, остановившегося у входа. — Побеседуйте с людьми. — Хорошо, — кивнул он. — Где касса? — теперь Зафар смотрел на председателя колхоза, полного невысокого человека, следовавшего за ним, как тень. Председатель подался вперед, в глубь коридора: — Там... Пожалуйста. — Пойдемте, Закир Нуруллаевич. — Да-да, — заторопился прокурор. Касса находилась в конце коридора. Дверь в нее была сорвана с петель и приставлена к стене. На полу, у порога, валялись куски глины и кирпича. — Наверное, убийца был не один, — сказал Цой. — Наверное, — подтвердил Нуруллаев. Азимов промолчал. Председатель нервно потеребил редкую седую бороду. — Неужели можно в наше время убить человека за какие-то гроши? — За гроши? — вскинул брови Нуруллаев. — Как прикажете понимать вас? — Он стоял у сорванной двери, широко расставив ноги, словно приготовился к защите. — Как? — переспросил председатель. — Обыкновенно. Кому нужны деньги? Разве мы мало получаем? — Гм... — Нуруллаев снова посмотрел на председателя. — Сколько было в кассе денег? — Не знаю... Сейчас придет кассир... Зафар молча вошел в помещение и замер в раздумье, пытаясь сразу понять, что произошло здесь минувшей ночью. Вслед за ним вошли прокурор и председатель колхоза. Цой и Азимов остались на месте, у двери, будто стражи, перегородив коридор. Они не смотрели друг на друга; неясная скованность, неожиданно появившаяся, держала обоих в невидимой паутине. Комната, где стояли сейф и стол, была небольшой, продолговатой, с одним узким окном, выходившим в сад. У окна, справа, стоял однотумбовый письменный стол, слева чернел высокий металлический сейф, покрашенный темно-коричневой краской. Сейф был открыт. Из его четырехугольного зева выглядывали бумаги и папки. Одна папка слегка покачивалась, лежа на острие зева. Было непонятно, как она не падала на пол. — Значит, вы не знаете, сколько денег было в кассе? — нарушил молчание Зафар. Председатель не успел ответить. Вошел кассир Арал Байкабулов. Это был молодой жилистый мужчина лет двадцати восьми с черными глазами, с худым смуглым лицом, покрытым густой жесткой щетиной. Он остановился у двери, увидев в помещении кассы людей в милицейской форме и сейф с распахнутыми дверцами. Его невысокий лоб покрыли мелкие капли пота. — Что же это, а? — Наверное, вы ответите нам, что же это? — сказал Цой. Он вошел в помещение кассы вместе с Азимовым сразу, как только вошел Арал Байкабулов, слегка кривя тонкие губы. От скованности, которая только что мучила обоих, не осталось и следа. — Я? — Может, я? — Почему вы? Байкабулов закрутил головой, стараясь угадать в прибывших старшего, затем задержал взгляд на майоре. Зафар жестом остановил Цоя, пытавшегося снова что-то сказать, и обратился к кассиру, незаметно следя одновременно за председателем колхоза. — Что было в сейфе? — Что? — переспросил Байкабулов. Он будто очнулся от тяжкого сна. — Бумаги. Деньги. Я вчера получил зарплату... Украли? Нет-нет, этого не может быть. Я получил много. — Сколько? — Много, — повторил Байкабулов. — Часть роздал. Осталось около двадцати тысяч. Девятнадцать тысяч семьсот, кажется. У меня не укладывается это в голове. — Когда вы ушли отсюда? — Часов в восемь. — Вечера? — Разумеется. — Кто был в это время с вами? — Я был один. — Вы никого не подозреваете в преступлении? — Нет. — Байкабулов взволнованно огляделся. — Подозреваете! — сказал Цой. — Не-ет! — Вы не волнуйтесь, — заметил Нуруллаев. — Говорите спокойно. Может быть, вас что-то тревожит? — Ничего... Ничего не тревожит меня... То есть я, наверно, не то говорю, — взглянул Байкабулов на Зафара. — Будьте самим собою, — усмехнулся Цой. Он вел себя самоуверенно, вмешивался в разговор, не понимая, что это нетактично. Байкабулов по-прежнему нервничал: — Вы не верите мне? Почему? Я ни в чем не виноват. Ни в чем, слышите? Не зря, очевидно, говорят, что в милиции работают сухари... Я не брал этих денег. Вообще, никаких не брал! Я ни в чем не виноват! — Перестаньте! — сказал Зафар. — Вас никто не обвиняет! Байкабулов судорожно хватал воздух ртом, должно быть, снова хотел что-то сказать, только раздумал или не осмелился. Он потоптался на месте и сел на стул. Зафар подошел к сейфу. Однако ни к чему не прикоснулся. Около Зафара остановились Нуруллаев и Азимов. Цой не отходил от Байкабулова. Байкабулов нервно ерзал на стуле, несколько раз пытался завязать разговор с председателем колхоза. В окно лился тусклый дневной свет. Он слабо освещал помещение кассы. Словно хотел скрыть следы преступления. Вошел Гришин. — Все в порядке? — повернулся к нему Нуруллаев. — Относительно. — Займись кассой. — Хорошо. Денег в сейфе, естественно, не оказалось. Работники милиции и прокуратуры искали на сейфе другое — следы людей, совершивших преступление, так как от этого зависел успех расследования. — Слава, посмотри-ка сюда! Цой подошел к Зафару. — Следы? — По-моему, следы, — указал Зафар на слабые узорчатые отпечатки, видневшиеся на дверце сейфа. Цой взял лупу. — Следы... пальцев... правой руки. Следы принадлежали не одному человеку, это было видно без лабораторной проверки, однако утверждать, что среди них могли оказаться отпечатки пальцев преступника, было пока нельзя, потому что они могли принадлежать кому угодно. К сейфу в течение вчерашнего дня прикасались многие люди: во-первых, сам Байкабулов, во-вторых, уборщица и сторож, в-третьих, председатель колхоза. Не было сомнения также, что на сейфе мог оставить следы еще кто-нибудь: к Байкабулову свободно заходили друзья. — Твое мнение? — посмотрел Нуруллаев на Зафара. — Я еще не имею своего мнения, — отошел Зафар к окну. — Может, нас чем-нибудь порадует Арал Гильмутдинович? Мне кажется, ему хочется о чем-то сказать нам? Кассир быстро потер щеки длинными пальцами. — Я ничего не знаю. Напрасно вы думаете, что я что-то знаю. Клянусь именем своей матери! — Не клянитесь! — сказал Цой. — Слава! — упрекнул Зафар. Цой вышел. — Петр Сергеевич, протокол готов? — обернулся прокурор к следователю, беседовавшему с понятыми. — Заканчиваю, — приподнялся из-за стола Гришин. — Заканчивайте. Я подожду вас на улице... Пойдемте, Ульмас Рашидович. Возможно, ваши товарищи что-нибудь уже узнали? — Возможно. Азимов на минуту задержался в помещении кассы, посмотрел на председателя колхоза и кассира так, словно упрекнул в том, что произошло, потоптался у двери и медленно вышел в коридор. Вслед за ним вышел председатель. — Вы не видели моего отца? — Вашего отца? Вы — Тимур Азимов? — Да. — Здравствуйте, дорогой. Как это я сразу не узнал вас! — председатель затряс Азимову руку, заглядывая в глаза. — Вы так изменились! Слышал, слышал о вашем подвиге. Искренне рад. В наше время не каждый человек станет так рисковать! — О каком подвиге вы говорите? — удивился Азимов. — А вы не знаете? — удивился в свою очередь председатель колхоза. — Вы писали нам о нем, когда учились в школе милиции... Нет, я лично не смог бы задержать столько преступников. Вы — настоящий герой! Кстати, что вы думаете об этом преступлении? — Преступление совершили новички, — сказал Азимов. — Серьезно? — Вы не ответили на мой вопрос. — Простите, пожалуйста. Вы об отце? Он недавно был здесь. Наверное, ушел домой. — Спасибо. Азимов медленно пошел по коридору к выходу, почти тотчас оказавшись в плену самых невероятных версий.7
— Рекс, след! Джахан Шадиев едва поспевал за овчаркой, бежавшей по широкой колхозной улице. Она взяла след сразу и уверенно шла по нему, изредка застывая на месте у дождевых луж: ночью прошел дождь. — След, Рекс! Уже не раз случалось, что овчарка теряла след. Добегала до какой-нибудь очередной лужи и начинала беспомощно кружиться около нее, тревожно поглядывая по сторонам. Колхоз остался позади. Впереди, за невысокой возвышенностью, белели крыши железнодорожной станции. Шадиев подумал, что убийцы благополучно добрались до нее и уехали. — След, Рекс! Шоссе, словно река, чернело внизу, между двумя холмами, уходило вдаль, к горизонту, покрытому редкими низкими облаками. Овчарка замерла у сая[50], в который круто бежала тропа, настороженно потянула носом, щетиня на загривке шерсть. — Рекс, след! Джахан Шадиев едва устоял на ногах, когда овчарка рванулась с обрыва, побежала снова. Овчарка отлично знала свое дело и не один раз помогала работникам милиции. «Ты с ней непобедим, Джахан», — говорили друзья Шадиеву. Действительно, Рекс верно служил ему и никогда не пытался увильнуть от полученного задания. Сегодня овчарка служила особенно преданно. Должно быть, ей передалось волнение Шадиева. Она шла по следу людей, запах которых хранила земля. Этот запах нередко исчезал или забивался другими, более сильными, идущими к нему со всех сторон. Однако овчарка не сдавалась: снова и снова находила нужный запах и уверенно бежала вперед. — След, Рекс! Очевидно, на этот раз запах совсем исчез. Затерялся за выхлопами невысоких газов, оставленных машинами. Овчарка быстро закружилась на месте, заскулила тоскливо. Потом неожиданно замерла, посмотрела в сторону сая, рванулась к нему, покружилась по берегу и, уверенно добежав до шоссе, снова заскулила виновато. — След, Рекс! Шадиев дернул поводок и сильно натянул, приказал более требовательным голосом: — След, Рекс! Налетел шквал ветра, ударил в лицо холодным дождем, зашумел в могучих кронах старых деревьев, стоявших на противоположной стороне шоссе, ушел вдаль к станции, откуда доносились приглушенные вздохи тяжелого паровоза. — Ничего больше не можешь сделать? Овчарка почувствовала в голосе Шадиева дружеское сожаление и посмотрела на него грустными глазами. Он погладил ее продолговатую морду, слегка потрепал за уши. — Попадет нам с тобой от майора. Знаешь, как он злится, когда мы возвращаемся ни с чем? Давай попробуем еще разок! Овчарка рванулась к саю, где стойко хранился нужный запах, однако снова потеряла его, едва оказалась на шоссе. Джахан Шадиев отпустил поводок и направился в колхоз, внутренне готовясь к встрече с начальником ОУР. Овчарка шла рядом, беспокойно посматривая по сторонам, втягивая широкими ноздрями холодный воздух, пропитанный новыми запахами.8
Панченко подошел к толпе, спросил, вглядываясь в беспокойные хмурые лица, не может ли кто-нибудь помочь следствию. — Это в каком смысле? — поинтересовался невысокий мужчина в больших кирзовых сапогах, стоявший ближе всех к старшему лейтенанту. — В самом обыкновенном, — ответил Панченко. — Возможно, кому-нибудь известно, кто убил сторожа? — Эк, куда хватили? — почесал затылок мужчина. — Кто же вам скажет? Одному моему знакомому брюхо пропороли за язык... Уж сами ищите. Вам за это деньги платят. — Платят, — не нашел других слов Панченко. Он оглядел толпу, не зная, что еще сказать, полез в карман за сигаретами. — Вы проверьте Примова. Он нечист на руку. Все может сделать, факт, — крикнул кто-то из толпы. — Примова? Это напарника Каримова, что ли? Он овечки не обидит, — возразил еще кто-то. — Надо потревожить кассира. Это его дело. Люди заговорили разом, обращаясь к старшему лейтенанту. Панченко невольно приподнял руку, однако людей уже нельзя было остановить. — Примова пощупайте! Примова! Это он убил Каримова! Он! — Не мог Примов убить человека. Я хорошо знаю его. — Ничего ты не знаешь. Только против других идти горазд. Это в крови у тебя. Я бы молчал на твоем месте, не то накликаешь на себя беду. — Вы кассира потревожьте! — Правильно! — Не мог Байкабулов совершить такое злодеяние! — Мог! — Не мог! Панченко снова поднял руку. Толпа на этот раз умолкла. Он некоторое время задумчиво смотрел перед собой, пытаясь разобраться в том, что услышал, затем повторил вопрос. — Значит, среди вас нет желающих помочь нам? Толпа, казалось, онемела. Никто, по-видимому, не хотел нарушать тишину, повисшую над небольшой площадью. Панченко подумал, что среди собравшихся может быть человек, принимавший участие в убийстве. Преступники иногда приходят на место происшествия, чтобы своими глазами увидеть, как милиция ведет поиск. Возможно, даже это он только что так нелестно отзывался о милиции? Хотя вряд ли у него сейчас хватит смелости сделать это. Скорее всего он старался быть ниже травы и тише воды. Какой смысл преждевременно лезть на рожон? — Что же вы молчите? Ответил невысокий мужчина в больших кирзовых сапогах, который первый вступил в разговор, когда Панченко обратился к толпе. — Чего нам говорить? Хватит. Наговорились. Теперь вы говорите. Вам дано такое право. Панченко смерил мужчину недовольным взглядом и невольно решил, что нужно следить за ним, тем более теперь, когда еще не была найдена нужная ниточка. — Ладно. Разойдитесь. Мы сообщим вам, кто убил Каримова. — Сообщите ли? — усомнился мужчина в кирзовых сапогах. — Не беспокойтесь. Панченко неторопливо пошел к подъезду правления, около которого стояли работники милиции и прокуратуры, решив окончательно заняться позже мужчиной в кирзовых сапогах.9
Нуруллаев докурил сигарету, вдавил окурок в пепельницу, стоявшую на краю стола, посмотрел на Зафара. — Я не нужен тебе, Ульмас Рашидович? — Гришина оставляешь? — Разумеется. — В таком случае, до завтра. — Будь здоров. Прокурор вышел. Зафар посмотрел на работников отдела, сидевших у стены, поставил локти на стол, сдавил ладонями виски. — Джахан? Шадиев быстро поднялся, вытянул руки по швам. — Преступники, судя по всему, уехали на машине. — Преступники? — Один, очевидно, не мог совершить два преступления: убить сторожа и ограбить кассу. — Надо быть последовательным, Джахан. Итак, почему вы считаете, что преступники уехали на машине? Зафар особо выделил слово «преступники», будто принял версию Шадиева и решил выверить ее. Шадиев благодарно кивнул, однако остался недоволен собой. Действительно, последовательности в его словах не было. В самом деле, почему он так уверенно заявил, что это преступление не мог совершить один человек? Почему тут же отступил, причем, не имея для этого никаких оснований? Собственно, у него не было никаких оснований заявить, что преступление не мог совершить один человек. — Следы преступников теряются на шоссе, — сказал Джахан. — Это еще ничего не значит, — возразил Зафар. — Преступники могли пешком дойти по шоссе до станции и уехать поездом. Любым, заметь: пассажирским или товарным. Тарас! Панченко давно работал в ОУР и считал, что необязательно всегда подчеркивать субординацию, к тому же сам начальник ОУР сегодня вел себя по-домашнему: обращался ко всем по имени. — Нужно проверить Примова и Байкабулова. — Ты думаешь, что они могли совершить убийство? — Колхозники считают, что могли. Значит, нужно проверить. — Это еще ничего не значит, — повторил Зафар. — У тебя все? Панченко секунду-другую колебался, не решаясь высказать то, что тревожило его, потом сообщил о мужчине в кирзовых сапогах и о своем отношении к нему. — Выходит, он тоже может совершить убийство? — Я считаю, что его тоже нужно проверить, — сказал Панченко. — Смотри, не наделай глупостей. Мы не имеем права ошибаться. Мужчина может оказаться честным человеком... Слава? Цой пожал плечами: — Я сегодня вечером предоставлю вам отпечатки пальцев. У меня пока нет никаких предложений. — Тимур? Азимов встал и вытянулся. — Я, к сожалению, ничемне могу порадовать вас, Ульмас Рашидович. Если вы разрешите, то я встречусь с кассиром. Мне кажется, что он может направить на правильный след. — Да? — прищурился Зафар. — Да. Азимов не ответил бы, почему он так неожиданно «переметнулся» на сторону Панченко и решил, что кассир может навести работников милиции на правильный след. Очевидно, действовали какие-то подспудные пружины, или, может, приходил опыт? — Хорошо, Тимур. Действуй. — Спасибо, Ульмас Рашидович. — Не спеши. — Ясно, — сказал Азимов. Он был благодарен Зафару. Зафар между тем продолжал совещание. — Тарас, тебе, очевидно, придется заняться Примовым. — Он снова смотрел на Панченко. — Возможно, все-таки у колхозников есть основания подозревать его и Байкабулова. Заодно присмотрись и к человеку в кирзовых сапогах. Впрочем, как хочешь. — Есть, — сказал Панченко. — Джахан, ты свободен. Шадиев поднялся. — Может быть, я еще раз попробую пустить своего Рекса по следу? — Мне думается, не нужно. По-моему, Рекс последовательней нас. Зафар сказал это без тени юмора в голосе. Шадиев слегка подался вперед, не зная, как вести себя дальше, потом, увидев в глазах Зафара смех, хлопнул Цоя по плечу и, ничего не говоря, вышел из кабинета.10
— Ну-ну, рассказывай! — Что рассказывать, отец? У меня все в порядке. Работаю в уголовном розыске. У вашего спасителя — Якуба Розыкова. — Почему, сынок, ты так долго не писал нам? Нехорошо. Назар-бобо поставил на хантахту — низенький столик — пиалу с чаем, откинулся на подушки и долго сидел молча, глядя перед собой прищуренными глазами. Тимур притих. Он знал, если отец вот так откинется на подушки и уставится в одну точку, то его нельзя беспокоить. Лучше встать и уйти или заняться чем-нибудь, что не отвлекало бы его от неожиданных дум, которые никто никогда в доме не смел прерывать. Так, по крайней мере, считал Тимур. — Надо бы почаще писать, сынок. — Виноват, отец. — Виноват! Назар-бобо снова умолк. Тимур догадывался, что встревожило отца. Он вспоминал события не такой уж и далекой давности. Полковник Розыков в то время был лейтенантом, работал в уголовном розыске области. Ему поручили установить, куда исчез Амит Мухамедов. От того, будет найден он живым или мертвым, зависела судьба отца Тимура. Его подозревали... в убийстве. Это страшное слово тогда не пугало Тимура. Он был слишком мал, чтобы понять. Позже, когда в городе был убит дружинник Василий Войтюк, Тимур поехал в Ташкент, в школу милиции. — Как Якуб Розыкович выглядит? Постарел, очевидно, — задумчиво протянул Назар-бобо. — Тогда ему было лет тридцать, не больше, теперь за пятьдесят... Впрочем, пятьдесят лет — начало пути. Сто — середина. Ты говорил с ним обо мне? — Говорил. — О чем? — Так. Обо всем... Простите, отец, вы хорошо знаете Арала Байкабулова? — Кассира? — Да. — Знаю. — Он может совершить преступление? Назар-бобо медленно поднял голову, посмотрел на сына так, словно никогда раньше не видел его, осуждающе зацокал языком. — Не обижай человека, сынок. — Вы неправильно меня поняли, отец, — заерзал на ковре Тимур. — Я никого не собираюсь обижать. Понимаете, мы должны найти убийц Батыра Каримова. — Ты думаешь, что было много убийц? — Сами посудите, отец, разве один человек может совершить два преступления? — Тимур повторил мысль Шадиева. — Правда, у нас нет пока улик, которые подтвердили бы эту версию. Мы располагаем только косвенными уликами. — Значит, эти косвенные улики ведут к Аралу Байкабулову? Тимур помимо своей воли хотел сказать «да», однако поборол это нетерпение: оно нередко подводило его в начале работы в милиции. — Нет, отец! — В чем же дело? — Байкабулов может навести нас на правильный след. Я уверен, что убийцы перед совершением преступления бывали в кассе. Не могли они действовать вслепую. Тем более, что среди них должен быть опытный вор. — Ты говоришь об этом так, будто тебе уже что-то известно. — Назар-бобо налил в пиалу немного чая, сделал два глотка. — Будь откровенным со мной, сынок. Я могу помочь вам. Тимур поджал под себя ноги, надкусил конфету. — Я откровенен с вами, отец. Напрасно вы обижаетесь. Поймите меня. Те незначительные нити, которые могут привести нас к убийцам, сейчас так тонки, что мы не имеем права цепляться за них — они могут порваться. — Хитришь? — Что вы? — Ладно... Обманывай других, я твой отец, меня не обманешь. Арал Байкабулов пришел в колхоз после меня, вернее, после того, как я сдал свои председательские права. Ничего особенного я не могу сказать о нем. Уверен только, что он не может совершить тяжкое преступление. — Спасибо. Вошла Мухаббат-биби. Она быстро взглянула сначала на сына, потом на мужа, поняла, что они чем-то обеспокоены, несмело спросила: — Устали? — Ты что, мать! — вскинул голову Назар-бобо. Тимур увидел в его глазах веселые огоньки. — Где это ты слышала, чтобы йигиты уставали? С тобой что-то случилось? — Что вы, отец, аллах с вами! — замахала руками Мухаббат-биби. Тимур привалился к подушке. Он знал, что после такого вступления старики непременно затеют дружескую перепалку. При этом первенство возьмет мать и заставит отца в конце концов сдаться. Он вскочит, согнется в преувеличенно-раболепном поклоне, затем приблизится к ней и зацокает языком до тех пор, пока она не умолкнет. — Значит, все в порядке? — Все в порядке, отец. — Не хитри, мать. — Вай, разве я когда-нибудь хитрила? Побойтесь аллаха! Назар-бобо налил в пиалу чая, подал жене, улыбнулся краями губ. Мухаббат-биби взяла пиалу, однако пить не стала, посмотрела на сына, спросила с укором: — Что же, сынок, ты всю жизнь будешь ходить холостым? Тимур надеялся, что мать не возобновит утренний разговор. Поэтому решил отделаться шуткой. — Почему всю жизнь? Можно и полжизни! Мухаббат-биби поставила пиалу, опустила глаза, словно застеснялась. — Ты такой же, как и отец, наверное. — Разве это плохо, матушка? — Кто его знает! — Один — ноль, в пользу Тимура, — засмеялся Назар-бобо. — Вот-вот, я и говорю, что он такой же, как и вы, — быстро взглянула Мухаббат-биби на мужа. — Все шутками старается отделаться. Я не о себе беспокоюсь. Назар-бобо в душе одобрял разговор жены. Действительно, сыну пора жениться. Дело не только в возрасте. Если обзаведется своей семьей, сможет быстрее забыть Милу. Сейчас для него это было, пожалуй, самым главным. Образ трагически погибшей Милы постоянно преследовал его, напоминал о неисправимой ошибке, которую он совершил, находясь на практике. — О ком же ты беспокоишься, мать? — спросил Назар-бобо. — О нем сердце мое болит, о нем!.. Мухаббат-биби снова посмотрела на сына, улыбнулась слабо, словно попросила поддержать разговор. — Обо мне не беспокойтесь, мама. Я уже не маленький. Знаю, что делаю. — Знаешь? — всплеснула руками Мухаббат-биби. — Отец, вы поглядите на него, пожалуйста. Он у нас уже совсем взрослый человек, оказывается... Ничего ты не знаешь, сынок. Соседка-то день и ночь только о тебе и думает. — Э! — крякнул Назар-бобо. Разговор о женитьбе, по-видимому, все-таки завязывался. Назар-бобо решил поддержать этот разговор. — Что, отец? — с подозрением спросила Мухаббат-биби. Назар-бобо потрогал бороду, прищурил лукавые глаза: — О какой соседке ты говоришь? — О дочери почтенного Рустамбека. — Э! — снова крякнул Назар-бобо. — Разве ты забыла, что она выходит замуж. Свадьба через месяц. — Уши ваши не слышат, что говорит ваш язык, — возмущенно проговорила Мухаббат-биби. — Я имею в виду Санобар. — Санобар? — удивленно привстал Назар-бобо. — Да ты что, мать? Ей же еще нету шестнадцати лет! Кто выдаст ее замуж? Сейчас не старые времена. Рустамбек первый возмутится. — Нужные годы подойдут, отец. Пока туда-сюда... Главное, чтобы сын не был против. — Я против. Мухаббат-биби замерла на месте. Ей казалось, что сын согласился с ее предложением и ждал, когда она продолжит нужный разговор. Нет, наверно, не зря говорят: малые дети — малые заботы, большие дети — большие заботы. Разве Санобар некрасивая или ленивая? У нее все спорится в руках. Отец прав, сейчас ей рано замуж, однако никто и не собирается сватать ее завтра — пусть подрастет, время терпит. — Сынок, почему ты против? Мухаббат-биби задала этот вопрос осторожно, боясь рассердить Тимура или вызвать в нем неприязнь к женитьбе. Она все-таки надеялась на благополучное завершение начатого разговора и всем своим существом восставала против возможного краха своего плана. — Вы, знаете, мама, почему. Тимур ответил тихо, печально. Мухаббат-биби тяжело вздохнула и начала неторопливо убирать с дастархана. Назар-бобо сделал вид, что разговор, затеянный женой, не волнует его. Он налил из фарфорового чайничка половину пиалы чая и, передавая ее сыну, заговорил о преступлении, совершенном в колхозе.11
Иван Мороз быстро вошел в комнату, словно опасался, что хозяин дома передумает, не пустит его в спальню, увидел лежащего на деревянной кровати Сергея Голикова, заговорил ироническим тоном: — Валяешься? Кому это нужно? Я думал, что ты давно уже на ногах и мотаешься по участку. Слышал о ЧП? — Какое? — улыбнулся Голиков. При виде Мороза у него всегда поднималось настроение. — Какое?! — закричал Мороз. — Ты еще спрашиваешь?! Какой-то мифический случай! Или тебя выбило из колеи это глупое ранение? Говори, говори, не стесняйся. Я умею хранить тайны. Ну? — Я действительно ничего не знаю, — снова улыбнулся Сергей. — Сегодня у меня еще никто не был. Телефон не работает. — Опять? — Опять, — вздохнул Сергей. — Нет, ты сделал огромную глупость, когда решил поставить у себя эту чертовщину, — посмотрел Иван на телефонный аппарат, стоявший на тумбочке около Голикова. — Отцы нашего города не очень-то пекутся о телефонной связи. На днях встречаю начальника АТС Гуляма Шермухамедова, спрашиваю: «Слушай, отчего это в городе вороны перевелись?» — «Ты о чем?» — спросил он. — «О воронах, говорю. Разве ты не слышал?» — «При чем тут я, — возмущается, — задавай свой дурацкий вопрос орнитологам!» Ты слышишь, какое слово выкопал? Грамотный... Я, конечно, не вытерпел и заявляю решительно: «Орнитологи тут ни причем. Виноваты вы — связисты. Посмотри, сколько в городе оборванных проводов болтается. Не на чем воронам базары устраивать». Ты бы видел, как он раскричался! — Не темни, Иван. Что случилось? — Неужели тебе ничего неизвестно? Сейчас об этом ЧП говорит весь город. Знал сторожа Батыра Каримова? — Ну? — Его убили вчера ночью. — Где? — Не беспокойся, не на твоем участке. На твоем участке, как всегда, образцовый порядок. Правда, ты сам немного пострадал. Ну да это — не беда. Ты — хозяин. Тебе по долгу службы положено страдать за других. Рана нетяжелая? — Пустяк! — махнул рукой Сергей. — Скажи толком, что случилось? — Не догадываешься? Мифический случай. Тебе нужно восстановить на участке прежний беспорядок. Интереснее будет работать. Преступники и хулиганы научат тебя шевелить мозгами. Иначе они у тебя плесенью покроются. Честное слово. Не веришь? Даю голову на отсечение... — Мороз взял стул, поставил около кровати, сел. — ЧП произошло на участке Сабирова... В общем, Батыр Каримов убит, колхозная касса ограблена. Подозреваемых, судя по всему, пока нет, кроме кассира, разумеется. На месте происшествия были Зафар, Панченко, Шадиев, Азимов. — Какой Азимов? — Простота, — засмеялся Иван, — Тимур Азимов. Сын Назара-бобо! Лейтенант. Сотрудник угрозыска столицы! Улавливаешь? — Как он здесь оказался? — В отпуске... Ну работников прокуратуры я не называю. Тут ты сам можешь догадаться, кто был на месте происшествия. Прокурор, следователь... Знаешь Носа? — Кто его не знает! — Он кричал больше всех, когда приехал Зафар со своими сотрудниками. Может быть, у него нос в пуху? А? — Не думаю. Сергей сбросил с себя одеяло, сел на кровати. — Хватит об этом. Скажи, как у тебя личные дела? Как Рийя? Иван сел на стул, сцепил руки на коленях и застыл так. Сергей невольно потянулся к нему. Неужели человеку так и не повезет в любви? Рийя Тамсааре после смерти Василия Войтюка вообще не обращает внимания на мужчин. Правда, с Иваном встречается часто, особенно в последнее время, однако это совсем не то, что нужно. Катя, во всяком случае, думает так. — Ничего. У нас еще все впереди. Мороз неожиданно стал прежним неугомонным Морозом: заулыбался, хлопнул Сергея по колену, замурлыкал что-то под нос. Вошла Катя. — Ты почему, Сережа, встал? Ох, Иван, дождешься ты у меня. — Кому это нужно! — ссутулил плечи Мороз. Он отошел к окну и, посмотрев на улицу, поманил пальцем Катю. Она помедлила немного. — Что тут у тебя? — Смотри! По тротуару, ведущему к калитке их дома, торопливо шагал высокий молодой человек в костюме защитного цвета. Он то и дело поправлял седую прядь волос, падавшую на лоб, и внимательно посмотрел по сторонам. — Кто это? — Не узнаёшь? — Нет... Постой, постой! Неужели Тимур Азимов? Тимур, очевидно, был чем-то очень поглощен, потому что, подойдя к калитке, не сразу позвонил. — К вам, — сказал Мороз.12
Панченко считал, что Примов, охранявший поочередно с Каримовым колхозную кассу, был у него на крючке. Как случилось, что вместо Примова в эту ночь дежурил Каримов? Впрочем, Панченко не гадал. Лично для него было понятно, как Каримов очутился на месте Примова. Примов уговорил Каримова подежурить в эту ночь, задумав совершить это преступление. Позавчера Арал Байкабулов получил в госбанке заработную плату колхозников, часть из нее раздал, часть закрыл в сейф и ушел домой. Взламывать сейф во время своего дежурства было по меньшей мере глупо, поэтому Примов попросил Каримова подежурить вместо него. Интересно, куда Примов девал деньги? Нужно, пожалуй, сначала поговорить с женой Каримова. ...Жена Каримова ничего не скрыла. Более того, узнав, что Панченко из милиции, решительно заявила: Батыра убил Примов. Старший лейтенант, выждав минуту, спросил, почему женщина уверена в том, что ее мужа убил Примов. — Как это почему? — удивилась она. — Неужели вам неизвестно, что он все время грозил моему? Да об этом каждая ворона кричит. Поезжайте прямо к нему и арестуйте, не то он еще кого-нибудь на тот свет отправит. — У вас имеются данные? — Насчет чего? — Насчет того, что он убил вашего мужа? — Кто же еще мог убить? Ты подумай, подумай хорошенько. Может, тебе неясно, почему я, русская, замужем за узбеком? Куда от любви денешься? Никуда! Как же я теперь без Батыра? Женщина заплакала. Панченко прошелся по комнате, остановился у окна, внутренним зрением следя за женщиной. Она постепенно затихла и сообщила, как однажды Примов взял два мешка хлопковых зерен и попытался унести домой. Ее муж в это время проходил мимо склада. Он остановился, пристыдил Примова, сказал, чтобы не позорился: высыпал обратно хлопковые зерна. Примов рассердился, стал ругать его разными нехорошими словами, предупредил, что он еще пожалеет об этом, отзовутся ему мышкины слезки. — Он убил Батыра, он! — заключила женщина. — Арестуйте его! Панченко переступил с ноги на ногу, почувствовав в самом деле неодолимое желание направиться к Примову и заставить его сознаться в совершенном преступлении, однако своевременно сдержал себя, подумал, что поспешность в таких делах будет плохим помощником, тем более, что у него пока нет ни единого факта, который можно было бы предъявить Примову и заставить его сознаться в убийстве и ограблении кассы. — Когда это было? — Что? — Когда ваш муж видел Примова с хлопковыми зернами? Вчера? Позавчера? Год назад? Два? — Года полтора назад. — Примов бывал у вас? — Бывал. — Как вел себя? Дружелюбно разговаривал с вашим мужем? Может, грозил? — Вы поговорите с ним, поймете, что это за человек. Если ему чего-нибудь нужно, то он любой спектакль разыграет. Уж я-то разбираюсь в людях. — Когда вы последний раз видели его? — На прошлой неделе. — Он ничего не говорил вам? — Нет. Панченко немного помолчал, затем приступил к главному вопросу, от которого, по его мнению, зависело дальнейшее следствие. — У вашего мужа были с собой деньги? — Были. — Много? — Рубля три. В пиджаке Каримова было обнаружено четыреста рублей. Откуда у него взялась такая сумма? Панченко решил пока не говорить женщине о деньгах, найденных у ее мужа. — Я еще зайду к вам. — Заходи, заходи. Ты сейчас куда? — К Примову. — Арестуйте его, арестуйте. Панченко вышел. Оказавшись на улице, попытался поставить себя на место Примова и неожиданно пришел к выводу, что Примов не мог совершить преступления, хотя кроме него пока не было лиц, которых можно было бы подозревать в убийстве и грабеже.13
Примов волновался. Это был высокий сухощавый старик лет семидесяти с быстрыми молодыми глазами. Он часто потирал правой рукой сморщенную, будто гофрированную шею, застывал на мгновение, глядя перед собой. Панченко снова был на своем коньке. Он уверенно задавал вопросы, иногда ходил по комнате, иногда сидел напротив Примова, иногда стоял перед ним, широко расставив длинные ноги или скрестив руки на груди. Примов жил в небольшом глинобитном домике на окраине города. Детей у него не было, жена умерла в конце прошлого года. — Что вы делали сегодня ночью? — Спал. — У вас есть свидетели? — Какие свидетели? — Которые бы подтвердили, что вы сегодня ночью спали? — Бахрам, пожалуй, подтвердит. — Сосед? — Племянник. — Где он сейчас? — Уехал в Самарканд. Приезжал проведать меня. — Вы вчера должны были дежурить? — Должен, — ответил Примов. — Почему не дежурили? — Батыр попросил, сказал, что надо на базар. В Янгишахар. — Зачем? — За коровой. — За какой коровой? — За обыкновенной. — Может быть, вы объясните, что это значит? — Батыр накопил денег и хотел купить корову. Панченко внутренне воспрял. Неужели так легко объяснялось то, что у Каримова в пиджаке оказались четыреста рублей? — Значит, вы подменили Каримова, потому что он собирался поехать на базар? Так? — Так. — У него были деньги. Где он их взял? — Я сказал: накопил. Может, занял? Не знаю. — Куда вы собирались деть хлопковые семена? — Какие хлопковые семена? — Которые пытались украсть в колхозе. — Известно — куда. Скотину кормить. — Значит, вы пытались украсть в колхозе хлопковые семена? — Было дело. Чего скрывать. — Кто помешал вам? — Каримов. — Вы рассердились на него? — Рассердился. Старик почмокал губами, снова уставился перед собой. Вероятно, вспомнил, как Каримов поймал его с ворованными хлопковыми семенами. Панченко весь напрягся — вот она, та минута, когда от его мастерства зависел исход поединка. — Значит, вы рассердились? — Рассердился, — повторил Примов. — Сказали, что при случае отомстите? — Злость подвела меня. — Эта злость и после не давала вам покоя? — Не давала. — Теперь все в порядке? — Как? Панченко подошел вплотную к Примову, проговорил жестким, отрывистым голосом: — Бросьте притворяться, Примов. Рассказывайте! Примов пожал плечами: — О чем рассказывать? — Не знаете? — Подожди, подожди! Ты, наверное, думаешь, что я убил Батыра? Так, что ли? — Наконец-то! — Панченко отошел от него, сел на табурет. — Рассказывайте! Примов посмотрел перед собой остановившимися глазами, потом сказал тихо, с величайшей осторожностью: — Ты, парень, того... в своем ли уме? Панченко усмехнулся. Ему приходилось видеть всякое. Глупыми вопросами его не возьмешь. — Собирайтесь! — Куда? — Поедете со мной в милицию. — Ты, парень, может, действительно... рехнулся? — Собирайтесь! Вечерело. На небе по-прежнему чернели тяжелые тучи. Дул резкий холодный ветер. Деревья тревожно шумели, разбрасывая вокруг жухлые листья. «Что теперь делает Азимов? — подумал Панченко. — Надо бы сказать ему, чтобы он оставил кассира в покое. Впрочем, может быть, кассир действовал вместе с Примовым? Чем черт не шутит». Примов шел впереди Панченко, ссутуля свои острые худые плечи, бормоча что-то.14
Азимову везло меньше, чем Панченко. Он беседовал с Аралом Байкабуловым уже больше часа, однако еще не нашел ни одного сто́ящего факта, который бы пролил свет на преступления, совершенные в колхозе. Байкабулов, по всей вероятности, имел стопроцентное алиби, исключающее его участие и в убийстве, и в ограблении кассы. Правда, он терялся, когда вопрос заходил о сумме, похищенной из сейфа. Поэтому Азимов думал, что часть денег, оставшихся после раздачи зарплаты колхозникам, перешла в его карман, часть досталась ночному грабителю. Возможно даже, возвратился Азимов к вчерашней версии, что мужчина в кирзовых сапогах и был этим человеком. У Голикова, участкового уполномоченного, разговор о человеке в кирзовых сапогах занял не более пяти минут. Вел этот разговор Иван Мороз. — Разрешите мне заняться им, — предложил он. — Его надо проверить. — Тебе? — удивился Азимов. — Разреши, лейтенант, не пожалеешь, — сказал Голиков. — У Ивана точная хватка. Мы с ним немало подлецов вывели на чистую воду. Азимов пожал плечами: — Не знаю. Я, понимаете, сам на птичьих правах. — Брось! — оборвал Голиков. — Ты работник уголовного розыска и твое рабочее место там, где ты находишься. С Лазизом встречался? — Встречался, — с недоумением посмотрел Азимов на Голикова, не зная, чем объяснить такой переход. — Встретишься еще раз, не вздумай ныть, как сейчас. Он из тебя отбивную сделает. В общем, не отказывайся от предложения Ивана. К его услугам прибегают многие наши товарищи. Я даже не знаю, что бы делал без него. Выиграешь, в общем. «Выиграешь, — Азимов зябко поежился, будто стряхнул воспоминание, отвернулся от Байкабулова, угрюмо сидевшего за письменным столом. — Выиграю! Непременно выиграю! Иначе нельзя! Кто же ты такой, Нос? Звали этого человека Носом все — взрослые и малые. Причем, к этому прозвищу до того привыкли, что никто из колхозников ни разу даже не поинтересовался, были ли у него вообще имя и фамилия. — Вы часто встречаетесь с этим человеком? Азимов задал очередной вопрос Байкабулову только потому, что других вопросов у него не было, беседу же нужно было продолжать, так как он чувствовал, что находится на правильном пути. Байкабулов потянулся к графину с водой: — Часто? Как когда! — Он не вызывал у вас никаких подозрений? — Нет. — Подумайте лучше. — Я уже думал. — Байкабулов наполнил стакан, сделал два глотка, вытер тыльной стороной ладони рот. — Оставьте его в покое. Это безобидный человек. Мне кажется, вы зря потратите время, если будете искать преступников среди колхозников и рабочих колхоза. — У вас есть и рабочие? — Есть. Пришлые. Строят кутан. — Загон для скота? Вы хорошо знаете этих людей? — Я верю им. — Это не причина для защиты. — Полагаю, что вы немногого добьетесь, видя в людях только отрицательные стороны. — Вас никто не подозревает, — покривил душой Азимов. — Мы, возможно, вели себя резко с вами лишь потому, что вы пытались что-то скрыть. — Я ничего не скрываю. — Ладно. Допустим. Давайте возвратимся к Носу. Он заходил когда-нибудь в кассу? — Заходил. — Один? — Да. — Что интересовало его? — Ничего. — Вы уверены? — Абсолютно. — Может быть, его все-таки что-нибудь интересовало? — Нет. — Подумайте. — Когда он заходил ко мне, я интересовался... анекдотами. У него удивительный дар рассказчика. Попробуйте поговорить с ним, сами убедитесь. Азимова не интересовал Нос-рассказчик. Он хотел знать, мог ли Нос совершить преступление. — Когда вы позавчера приехали из банка? — Часов в пять. — Он заходил к вам? — Заходил, когда я кончил выдавать зарплату. — Ну? — Бросьте вы в самом деле, — снова упрекнул Байкабулов. — Не мог Нос убить человека. Понимаете: не мог! Азимов продолжал допрос с тем же упорством. — Зачем он заходил? — Спрашивал, смогу ли я за один присест выпить литр водки? — Я говорю с вами серьезно. — Вы думаете, я шучу? — вспылил Байкабулов. — Он пригласил меня выпить. В получку многие приглашают. — Вы пошли? — Я пока не сошел с ума. — Кто-нибудь еще приглашал вас в этот день? — Да. — Кто? — Роберт Степанян... Я вижу, он вас тоже заинтересовал. Возможно, рассказать его биографию? А? — В голосе Байкабулова послышались насмешливые нотки. Азимов и на это не обратил внимания. — Расскажите. — Пожалуйста. Впрочем, я мало знаю его. Он приехал из Баку. Ему не больше тридцати лет. Работает у нас недавно. — Строит кутан? — Да. Как вы догадались? Впрочем, неважно. — Ну-ну? — Собственно, все. Я с ним тоже не пошел. — Почему? — Не пью. — Он знает, что вы не пьете? — Знает. — Странно. У него есть друзья? — Наверное. Азимов расстался с Байкабуловым, переполненный противоречивыми чувствами. То он считал, что кассир был сам замешан в преступлении, то пытался оправдать его и главным виновником считал Носа, то перебрасывался к Степаняну. В конце концов подумал, что Байкабулов, Нос и Степанян действовали сообща. Потом подверг резкой критике эту версию и принялся снова тасовать полученные сведения, все больше и больше запутываясь в них.15
Вечером Тимур зашел к Лазизу. Лазиз только что поужинал и сидел на диване с трехлетним Алишером. Рядом за столом сидела дочка — Ойгуль. Она училась в первом классе и теперь старательно выполняла домашнее задание. Шазия гремела посудой на кухне. — Отдыхаете? — Наслаждаюсь семейной жизнью, — встал навстречу Лазиз. — Ты даже не представляешь, какое это великолепие. Дети, жена, сам понимаешь... Садись, садись. Тимур опустился на стул, стоявший около дивана. Оглядев комнату — книжный шкаф, телевизор, радиоприемник, быстро повернулся к Лазизу. — Я к вам по делу. — Знаю, — улыбнулся Лазиз. — Знаете? Откуда? — Пришел сам. Без приглашения. Значит, есть дело. Причем, неотложное. Так? — Почти. — Так... Мы с Дриголой кое-что приготовили... Ужинать будешь?.. Шазия! Шазия! Ты где? Иди сюда! — Я позову, — сказала Ойгуль. — Ну, позови, позови, — разрешил Лазиз. — Я здесь, — сказала Шазия. Она стояла в проеме двери — высокая, стройная, одетая в цветистый национальный халат. Тимур видел ее раза три до поступления в школу милиции. Ничего привлекательного тогда он в ней не заметил, а сейчас в ней было что-то Милино, возможно — взлет бровей, длинная тонкая шея, полукруглые плечи. — Ты здесь, мама? — сказал Алишер. — Здесь, сынок, здесь, — шагнула Шазия к сыну, сползавшему с дивана. Она легко подхватила его на руки, закружилась вместе с ним по комнате, засмеялась долгим счастливым смехом. Лазиз смотрел на жену и сына такими сияющими глазами, что Тимур, взглянувший на него, почувствовал в груди щемящую боль. «Может, мама права: мне, действительно, пора жениться. Милу не вернешь...» — Ты почему забыла нас, мама? Алишер, наверное, подражал отцу. В его голосе чувствовались нарочито суровые нотки, при этом в глазах сверкали задорные огоньки. — Что ты, сынок! Я была на кухне. Мыла посуду. Лазиз включился в шутливую игру: — Не обманывай. Мы знаем, как ты мыла посуду. Наверное, варенье ела? Сознавайся! — Сознавайся, сознавайся! — закричал Алишер. Он заколотил ручонками в грудь матери, закрутил черноволосой головкой. Ойгуль не выдержала, вскочила со стула, подбежала к матери, закричала тоже, счастливая и беззаботная, как и Алишер: — Сознавайся, сознавайся! Шазия закружилась с детьми по комнате. Лазиз, взглянув на Тимура, будто подтвердил: «Ну вот, убедился? Я в самом деле наслаждаюсь семейным счастьем», — потом взглянул на жену: — Что же ты не здороваешься с гостем? Шазия поправила волосы быстрым движением левой руки, проговорила тихим грудным голосом: — Я уже поздоровалась. — Когда? — ревниво поинтересовался Лазиз. — Утром? — Утром? Где? — В городе. — Конкретнее! — В сквере Космонавтов. — Как вы оказались в этом месте? — Случайно. — Чем вы докажете это? Шазию отвлек Алишер — потянулся к игрушке, валявшейся у дивана, закачался на неустойчивых ножках, она бросилась к нему, подхватила на руки. Лазиз вскинул голову, сдвинул густые брови, продолжал тем же полушутливо обвиняющим тоном: — Та-а-а-к... Значит, вам нечем доказать, что встреча случайная? — еще сильнее сдвинул брови. — Тимур, что вы скажете? Тимур принял игру. Он быстро взглянул на Шазию, предупредительно поднял палец к губам, слегка кивнул, затем сказал Лазизу: — Я не обязан отчитываться перед вами! — Ка-а-а-ак? — заморгал глазами Лазиз. — Вы отказываетесь отвечать человеку, который связан супружескими узами с обвиняемой? — Да. — П-почему? — Она ни в чем не виновата. — Докажите! — Пожалуйста. — Слушаю. — Ваша супруга вчера работала до семи вечера? — До семи, — кивнул Лазиз. — Я пришел к вам в отдел в пять? — В пять. — В половине шестого уехал в колхоз «Ударник». Верно? — Верно. — Возвратился поздно вечером? — Допустим. — Ваша жена была в это время дома? — Да. — Значит, вечером я не мог договориться с ней? — Да, не мог. — Сегодня утром с девяти до десяти я был у Голикова... — Что? — подскочил Лазиз к Тимуру. — У Голикова? Как он чувствует себя? Я крутился, как белка в колесе, и не мог сходить к нему. Надеюсь, у него все в порядке? Почему ты молчал? Значит, многоуважаемый детектив, у вас стопроцентное алиби. Извиняюсь! Как Сергей? — Здоров. Не беспокойтесь. Рвется на работу. — Молодец! Знаете что? — посмотрел Лазиз на жену и на Тимура. — Поедемте к нему. Нет, честное слово! Не улыбайтесь!.. Шазия? Шазия пожала плечами: — Поздно уже, Лазиз. — Ерунда. Поедемте! Я уверен, что он еще не спит... Как вы смотрите на это? — Лазиз перевел взгляд на Алишера и Ойгуль. Алишер и Ойгуль захлопали в ладоши: — Поедем! Поедем! — Подождите, Лазиз, — попросил Тимур. — Сейчас действительно поздно. Съездим завтра. Мне нужно поговорить с вами. — Поговорим у Сергея. — Поздно, Лазиз, — повторила Шазия. — Ладно. Уговорили. Расстилай дастархан, жена. Будем пировать. Никаких возражений, — повернулся Лазиз к Тимуру, попытавшемуся что-то сказать. — Ты прежде всего наш гость. Понял? — Понял, — покорно опустил голову Тимур. Шазия благодарно взглянула на мужа, затем легко повернулась и, снова поправив волосы быстрым движением левой руки, вышла из комнаты. Лазиз сказал дочери: — Возьми Алишера, Ойгуль. Уложи спать. Алишер затопал толстенькими ножками: — Не хочу! Не хочу! — Сынок! Суровый голос Лазиза успокоил Алишера. Он подошел к Ойгуль, подал ей руку: — Уложи меня спать, пожалуйста. Ойгуль увела Алишера в другую комнату.16
— Слушаю, Тимур. Лазиз проследил за женой, направлявшейся в спальню, усадил Тимура на диван, встал напротив, машинально разглаживая кончики усов. В комнате приглушенно горела настольная лампа. Вещи, казалось, отошли вглубь, притаились. Будильник, стоявший на радиоприемнике, негромко отстукивал секунды. За окнами — темнота, прошитая слабыми лучами звезд. — Понимаете, какое дело... Нам нужно побывать в гостинице. — Сегодня? — Сейчас. — Сейчас? — Лазиз бросил быстрый взгляд на будильник. — Поздно. Скоро одиннадцать. — Вам известно, что произошло в «Ударнике»? — спросил Тимур. — Отчасти. — Мы разрабатываем три версии: «Мужчина в кирзовых сапогах», «Кассир» и «Примов». Первыми двумя занимаюсь я, третьей — Панченко. У меня, кажется, кое-что определилось. — Да? — Позавчера у Байкабулова в кассе были Нос и Роберт Степанян. Они приглашали его выпить. — Ну-ну? — Нос, судя по всему, отпадает. Я был у него. Это работяга, правда, с некоторыми странностями. Остается Роберт Степанян... Дважды судим. — Это ничего не значит. — Значит, — уверенно сказал Тимур. — Почему он заходил в кассу? — Решил выпить с Байкабуловым. — Чепуха. Изучал помещение — раз. Узнавал, остались ли в кассе деньги — два. Присматривался, можно ли взломать сейф, три. Решал, когда это сделать, четыре. — Это твое личное мнение? — Да. — Майор в курсе? — Нет. — Почему? — Я приехал из колхоза поздно. Его уже не было в отделе. Домой идти не решился. — Что ты хочешь от меня? — Как — что? — Тимур от удивления даже привстал. — Вы должны поехать со мной в гостиницу. — Один дорогу не найдешь? — Степанян видел меня в колхозе. — Ясно. Есть еще одно «но». — Какое? — Я не работаю в уголовном розыске. — Ты работал, — перешел Тимур на «ты». — Работал. — В чем же дело? — Майор не одобрит моей самодеятельности. — Если мы нападем на след убийцы, то одобрит. — Если, — задумчиво проговорил Лазиз. — Кстати, как ты попал в дежурные? — Полковник Автюхович вызвал меня и принялся расписывать прелести работы в дежурной комнате. Я молча улыбался. Мне прекрасно были известны эти прелести. Работа в дежурной комнате была, пожалуй, самая тяжелая в отделе, кроме, разумеется, работы в ОУР и ОБХСС. Ты знаешь, чем он привлек меня? — Чем же? — спросил Тимур. — Полковник Автюхович сказал: «Надо, товарищ Шаикрамов, сделать так, чтобы дежурная комната стала зеркалом отдела. Сможете сделать это?» Я не ожидал такого оборота. В общем, взял бразды правления в свои руки. Четвертый год тружусь. — Поэтому и не принимал участия в розыске преступников? Ты сейчас едешь со мной? Я придаю этому посещению особое значение. Подозрение, что Роберт Степанян убийца, усилилось. Лазиз с минуту молча смотрел на Тимура: — Ну а улики? Есть? У тебя, насколько мне известно, ничего нет. Я прав? — Прав, — вздохнул Тимур. — Видишь. — К черту! Поехали! — Поехали!17
Тимур и Лазиз встретились через два часа на улице, недалеко от гостиницы. Тимур проследил, как Лазиз вышел из гостиницы. — Ну? — Все в порядке, Тимур. — Я прав? — Кажется. Лазиз взял Тимура под руку и зашагал с ним по пустынной улице, освещенной слабыми электрическими фонарями. Над городом висели тяжелые тучи. Дул холодный ветер, пропитанный дождем и гарью. Откуда-то доносился приглушенный голос диктора радио. — Не тяни. — Разве я тяну? — слегка замедлил шаг Лазиз. — Ладно, успокойся. Слушай. Роберт Степанян три дня назад принес в номер гостиницы ломик... Подожди, подожди, сгоришь! — Жду, жду! Дальше! — Позавчера вынес. — Днем? — Днем... Возвратился поздно ночью. — Без ломика? — Я, наверное, зря старался? Тебе уже все известно, — засмеялся Лазиз. — Все-таки ты руководствовался не только интуицией. Признайся, ты что-то знал? Тимур остановился: — Я тебе сказал все, что мне было известно. Ты с кем беседовал? С работниками гостиницы? — Да. — Они больше ничего не сообщили? — Нет. — Тебе надо бы поднажать. Понимаешь, я думаю, что Степанян действовал не один. Впрочем, это не моя мысль... У него должен быть сообщник. Нет сомнения, что он приходил в гостиницу. Не позавчера, конечно. Раньше. Два-три дня назад. Его кто-нибудь видел. Ясно? — Пожалуй, на этот раз ты не прав, Тимур, — сказал Лазиз. — Степанян, судя по всему, стреляный воробей. Если он является главным инициатором этих преступлений, то нам придется туго. У него, нужно полагать, все было обдумано заранее. Ты попытайся узнать, с кем он встречается. Думаю, что это нетрудно будет сделать. — Думаешь? — Да. — Может быть, он действовал с Носом? — Ты же говорил, что Нос — честный человек! — Надо проверить. — Как же вера в людей? Тебе будет тяжело, если ты потеряешь эту веру. Бери пример со своего начальника. — С Розыкова?? — С него. — Удивительный человек, — снова пошел Тимур. — Знаешь, порой мне кажется, что он может читать мысли преступников. Правда, ему тоже бывает нелегко. Порой он сомневается, ищет, переживает. Однако нам далеко до него. Мне, например. — Ты неплохой оперативник, Тимур, не прибедняйся. Вся беда в том, что у тебя пока нет опыта. Ты три года работаешь в уголовном розыске? — Два с половиной — Всего-то, — заметил Лазиз. — Он, наверное, разменял третий десяток. Это многое значит. Особенно для таких нетерпеливых, как ты... Над городом по-прежнему висели низкие тучи, между ними сверкали звезды и так же навстречу дул холодный ветер. Только теперь он, казалось, шумел тише, словно не хотел нарушать покой утомившихся жителей.18
Мороз окинул быстрым взглядом дружинников, сидевших напротив, привычно постучал по столу тупым концом карандаша, взглянул на Рийю Тамсааре, сидевшую за отдельным столиком. Дружинники перестали разговаривать. Они уважали своего командира, знали, что он никогда не подведет, кроме того с ним интересно было работать. На участке Сергея Голикова, считавшимся несколько лет назад одним из самых неспокойных, теперь царил образцовый порядок. Как утверждал участковый Карим Сабиров, благодаря Морозу. Если раньше за ним водилась такая слабость — время от времени он напивался, то после смерти Василия Войтюка никто еще в городе не видел Мороза пьяным. Рийя Тамсааре однажды, когда Мороз выпил немного, выговаривала ему: — Тебе не стыдно, Иван, скажи? Ты кто? Командир или не командир? Мы назначили тебя на этот ответственный пост, мы же и снимем тебя! Считаться с твоими заслугами не будем. Слышишь? Мороз, разумеется, слышал. Он слышал все, что говорила эта хрупкая маленькая женщина. Взглянув еще раз на дружинников, Мороз снова постучал по столу тупым концом карандаша. — Самиг! Самиг Зияев встал, по-военному одернул пиджак, вытянул руки по швам. — Я! — Послушай, Самиг, что ты скажешь, если мы сегодня изобьем твою сестру? — Э! — Зияев беспомощно огляделся, словно попросил поддержки. — Не понимаю. — Не понимаешь? Понимаешь, не притворяйся. Кому это нужно? Что вчера произошло на улице Титова? Знаешь? — Знаю. — Может, скажешь всем? — Карпенко и Медун напали на девушку. — Напали? Вы слышали? — снова быстрым взглядом окинул Мороз дружинников. — Почему же это они напали, а? Где был ты? В чайхане отсиживался? Позор! Хулиганы оскорбили сестру Подолеева! — Это кто такой? — поинтересовался Гилев, молодой дружинник, любитель сенсационных сцен. — Тебя интересует Подолеев? Зияев, введи его в курс дела! Зияев смущенно затоптался на месте, взглянул на Гилева, стоявшего у двери. — Подолеев — рабочий консервного завода. В городе живет третий год. Имеет жену и троих детей. Гилев недоуменно сморщил лоб. — Стоит ли в таком случае поднимать этот вопрос? Я думал, Подолеев — фигура. — Какую такую фигуру ты хотел бы видеть? Молчишь? Самиг, зайди сегодня к сестре Подолеева. Извинись. Ты понял меня? — Понял. Мороз кивнул. Зияев сел. — Никита! Поднялся Струев — широкоплечий блондин в темном дорогом костюме, в белой нейлоновой сорочке. — Я! — Скажи, Никита, почему ты задержал вчера Хабарова? — Как же! — Струев широко улыбнулся, поражаясь наивности своего командира. — Это же ясно, как дважды два! Он шел с водкой. Никто из нас не имеет права пройти мимо такого факта. Так что... — Значит, если ты завтра будешь идти по городу с водкой, то мы должны задержать тебя и привести в штаб? — Ты сгущаешь краски. Речь идет не обо мне. Все знают, что я веду нормальный образ жизни. С водкой шел Степан Хабаров. Человек, который в прошлом своими пьянками терроризировал всех. Я просто не мог не прибегнуть к некоторым физическим мерам. Поверь, он будет век благодарить меня. — Уже поблагодарил. Ходил к участковому и высказал все, что думает о твоих некоторых физических мерах, — заметил Мороз. — Эх, Никита, Никита! Мороз махнул рукой, повернулся к самому юному дружиннику — Андрею Мишину, сидевшему у приставного столика. — Андрей Константинович? — Я! — вскочил Мишин. — Ты вчера предупредил хулиганский дебош. Благодарю тебя от себя лично и от всей нашей дружины. Так держать! — Есть, так держать, товарищ командир! — Садись... Микола Георгиевич! — Я! — поднялся Нагнибеда — маленький, юркий паренек, окончивший в этом году десятилетку. — Ты организовал доставку угля пенсионерке Дмитриевой. Выношу тебе личную благодарность и передаю благодарность пенсионеров. — Спасибо. — Садись... Адыл Якубович! Каландаров неторопливо встал. Это был пожилой человек, с седыми усами. Он неумело вытянул руки по швам, взглянул на Мороза так, словно Мороз был «Верховным Главнокомандующим», ответил с расстановкой: — Я-я-а-а. — Вы предотвратили грабеж на улице Шодлик. Преступник находится в милиции. Начальник ОУР города майор Зафар попросил меня пожать вам вашу мужественную руку. Разрешите? Мороз подошел к Каландарову, крепко пожал руку, потом обнял, поцеловал трижды. — Что вы, товарищ командир, что вы! — смущенно проговорил Каландаров. Некоторое время после этого в помещении стояла тишина. Никто не смел нарушить ее. Все молча прислушивались к звукам, доносившимся с улицы, словно чего-то ожидали. Мороз стоял у стола, глядя перед собой, засунув руки в карманы пиджака. — Рийя! — Я. — Мы ждем тебя. Тамсааре быстро взглянула на Мороза, будто упрекнула за то, что он нарушил тишину, развернула тетрадь, лежащую на столе, откинула назад пышные золотистые волосы. Дружинники повернулись — необходимо было выслушать задание на вечер. Этого требовал порядок, установленный в дружине. От этого зависело предстоящее патрулирование, давнополучившее одобрение жителей Янгишахара.19
Улице, казалось, не было конца. Она тонула где-то впереди, будто туннель соединялась над головами, там, где небо покрывали тучи, перемигивалась одинокими фонарями. Подул ветер. Листья деревьев быстро заговорили о чем-то и замелькали, будто серебряные кружки в темноте. В стороне залаяла собака, загремела тяжелой цепью. — Ты сегодня был в ударе. — Что ты, Рийя! — Честное слово. Мороз пожал плечами. — Ты был у Сергея Борисовича? — Был. — Что же ты молчишь! — Здоров. Рана пустяковая. — Я не об этом. Это мне известно. Кто стрелял в него? — Он не знает. — Ты уверен? — Уверен, — не сразу ответил Мороз. — Нет, Рийя, ты напрасно думаешь, что в него стрелял Депринцев. — Не успокаивай меня, — попросила Рийя. — Я не пытаюсь сводить счеты. Васю убил Эргаш. Разве ты забыл? Однако Депринцев тоже стрелял. Ты это тоже забыл? Тем более, что у него есть причина, толкающая на это. Екатерина Ивановна вышла замуж за Сергея Борисовича. — Не знаю, Рийя, — отступил Мороз. — Не знаешь? Знаешь. — Рийя остановилась, сорвала с кустика веточку и задумчиво перебирала в руках листья. — Депринцев стрелял. Больше некому. — У Сергея Борисовича много врагов, Рийя. Вспомни, сколько преступников он задержал в последнее время. Думаешь, они благодарят его за это? — Я не думаю так, но в Сергея Борисовича стрелял Депринцев, — упрямо повторила Рийя. Мороз заколебался, не зная, сказать Рийе то, что уже было известно или нет... Впрочем, может быть, ей уже тоже было известно это? Просто она откладывала неприятный разговор до удобного случая? — Эргаш объявился. — Что?! Значит, это еще не было известно ей? Пожалуй, было бы лучше, если бы он промолчал. Во всяком случае, не надо было спешить с этим сообщением. — Объявился. — Подожди, Иван, подожди! Ты, наверное, что-то путаешь... Эргаша приговорили к высшей мере наказания. Сергей Борисович говорил, что его расстреляли. — Помиловали. — По-ми-ило-ова-али? За что? За что-о-о-о, Иван? — Не знаю. Рийя беспомощно припала к дереву и подняла лицо к небу, к звездам. Иван не знал, как быть? Чем утешить Рийю? — Рийя! — В Сергея Борисовича стрелял Депринцев! — Рийя! — испугался Иван. — Пожалуйста, не думай, что я сошла с ума, — отстранилась от дерева Рийя. — Я считаю, что в Сергея Борисовича стрелял Депринцев. — Ты видела его? — Да. — Где? — спросил Мороз. Депринцев сейчас его не интересовал. Он спрашивал о нем только потому, что хотел отвлечь Рийю — увести подальше от страшного разговора. — Где? — В городе. Позавчера. Я не сразу узнала его. Пьяный. Развязный. Попросил денег. Боже мой, когда все-таки мы уничтожим пьянство? Когда? — Тут дело не в этом, — нерешительно заметил Иван. — В этом! — резко бросила Рийя. — Водка сделала Депринцева таким. Водка связала его с преступниками. Водка! — Ты преувеличиваешь. — Не преувеличиваю. Не защищай. Вообще, ты часто защищаешь алкоголиков. Боишься, что кто-нибудь из них укажет на тебя пальцем? Ты тоже иногда... — Рийя!? Иван сжался весь от обиды, взял Рийю за плечи. Она приникла к нему, пожалев о том, что сказала. По улице с грохотом проехала грузовая автомашина. Лучи фар, будто живые, выхватывали то деревья, то дома, то одиноких прохожих. Фонари, казалось, погасли, небо словно разом ушло вниз, слилось с землей, утопило в свете звезды. — Прости. Иван не услышал Рийю, однако понял по движению губ, что она сказала. Ему стало больно и за себя, и за нее. Собственно, что ей было нужно? Что? Разве у него не хватило бы сил сделать ее счастливой? Разве он не сумел бы защитить ее, избавить от многих забот? Конечно, Василий Войтюк был красив. Только любил ли он ее так же сильно, как он, Мороз, любит? По-видимому, существовали между мужчиной и женщиной еще какие-то невидимые нити, которые их связывали. — Ладно. — Ваня? — Перестань! — Ты пойми, нет у меня сил забыть Васю, нет! Ты хороший, добрый, сильный... Разве мало девушек в Янгишахаре? Женись! — Кому это нужно! Любимая поговорка неожиданно отрезвила Ивана. — Ты простил меня? — Простил. Рийя не заметила фальши в ответе. Иван умел скрывать свои чувства. Много невзгод и бед пришлось перенести ему в прошлом. По всей вероятности, нелегким окажется и будущее. Собственно, он был готов к этому. Участковый Голиков сумел заглянуть в его душу и увидеть в ней то, что не видели другие. Это и отрезвило его в конце концов. — Проводишь? — Разумеется. — Пошли. Иван шагнул в полосу света, льющегося из окна небольшого дома, сунул руки в карманы плаща. Рийя догнала, зашагала рядом. Через некоторое время взглянула Ивану в лицо, улыбнулась ласковой смущенной улыбкой. Он улыбнулся ей в ответ и взглянул на открывающуюся впереди небольшую площадь, на которой стоял памятник Навои. Она неожиданно схватила его за руку. Остановилась. — Смотри! — Кто это? — Не узнаешь? — Депринцев? — Он. — Подойдем к нему? Анатолий Депринцев, судя по всему, обрадовался встрече. Он шумно поздоровался, подмигнул Рийе, будто она была для него близким его другом, приятельски пожал руку Морозу. — Гуляете, братья-кролики? Ну-ну, гуляйте, во-от. Или патрулируете? Вы, кажется, у нас деловые люди. Так сказать, поборники закона. С вами нужно держать ухо востро. Итак, гуляете или патрулируете? — Это так важно? — прищурилась Тамсааре. — Для меня — да. Если гуляете, то я могу составить компанию. Если патрулируете, то я умываю, как говорится, руки, во-от. Между прочим, хотите экспромт? — Давай, — разрешил Мороз. Рийя поинтересовалась: — О чем экспромт, Анатолий? Она приняла игру Ивана и старалась сделать так, чтобы эта игра удалась. Депринцев расправил плечи, выпятил нижнюю губу, потрогал галстук. — О чем? О любви, конечно. Вот. — Ой, правда? Как интересно! Читай! — Слушайте! Депринцев сложил руки на груди и, сморщив лоб, начал медленно, так, будто каждое слово давалось ему с огромным трудом:Я хочу о любви говорить,
я хочу о любви молчать.
Друг ты мой, подскажи, как быть,
как любовь мою позабыть,
как любовь твою удержать?
Друг ты мой, подскажи, как быть?
20
Зафар посмотрел на Примова еще раз, помедлил некоторое время, словно собирался с мыслями. — Можете идти. — Спасибо, товарищ начальник. — Извините. — Ничего, ничего. Мы люди маленькие. Придем еще, ежели надо. — До свидания. Примов потоптался у порога, запахнул полы ватника, однако не вышел, снова приблизился к столу. — Товарищ начальник, наверное, Батыра убил этот... Примов замялся, по-видимому, не знал, как назвать человека, которого имел в виду. Зафар спросил: — Кто? — Появился в колхозе один. Лет тридцати или больше. Высокий. Много пьет. Я еще не видел его трезвым. — Ну-ну? — Он все крутился около правления, приглядывался. Заговаривал со мной. Я не отвечал. Не люблю пьяных. Батыр разговаривал. — О чем? — Не спрашивал. — Когда вы в последний раз видели этого человека? — Вечером... Когда это несчастье случилось... Был вроде трезвый. Попросил закурить. — Вы можете узнать его? — Могу. — Батыр ничего не говорил о нем? — Да как будто ничего. Только стихи наизусть говорил. — Хорошо. Идите. Мы сообщим вам, если вы потребуетесь. Примов вышел. Панченко, сидевший около стола начальника ОУР, тотчас вскочил и заходил по кабинету, комкая в руке недокуренную сигарету. Азимов и Шаикрамов переглянулись, однако ничего не сказали. Они прекрасно понимали состояние коллеги. Порой очень тяжело примириться с тем, что твой труд, в который ты вложил всего себя, не приносит нужных результатов. Панченко был уверен, что Примов является участником преступления: слишком много было в его поведении белых пятен. Они наверняка скрывали загадку убийства. Зафар неторопливо листал настольный календарь и незаметно посматривал на старшего лейтенанта. Наконец, Панченко остановился, бросил остатки сигареты в корзину и, повернувшись к Зафару, с отчаянием произнес: — Вы все-таки зря отпустили его! — Нет, Тарас, не зря. Зафар жестом указал на стул, стоявший слева у стола. Панченко сел и потянулся к портсигару, лежащему рядом с вентилятором. — Почему ты думаешь, что я зря отпустил его? — Товарищ майор, неужели вы не понимаете, что этот человек может совершить преступление? — Ты можешь подтвердить свою версию хотя бы одной серьезной уликой? — Могу. — Ну-ну? — Нет, пожалуй, улик у меня нет... Товарищ майор, — приложил Панченко руку к сердцу, — поймите, я чувствую, что Примов преступник. Интуиция еще никогда не подводила меня. Скажите, почему он не дежурил позавчера? — Ты знаешь. Потому что дежурил Каримов. Ты знаешь также, почему дежурил Каримов. Он собирался утром поехать на базар, чтобы купить корову. — Откуда вам известно это? — Из беседы с Примовым. — Странно. — Не ерунди, Тарас. — Вы забыли о деньгах? — Думаю, что ты сумеешь все-таки узнать, откуда появились у Каримова деньги. В общем, действуй. Уверен, что ты сможешь сам разобраться во всем до конца. Только не лезь на рожон, прошу тебя, Тарас. Договорились? — Все-таки, я думаю, что Примов — преступник... — поспешил еще раз сказать Панченко, боясь, что начальник ОУР прервет его. — Вы думаете, что около правления действительно появился неизвестный человек? Если бы это было так, то я бы сейчас не сидел здесь — искал бы этого человека... Молчу, молчу. Я узнаю, откуда у Каримова появились деньги. Не беспокойтесь. — Рад. — До свидания. — До свидания... Кстати, проверь все-таки: появлялся ли около правления неизвестный человек? Думаю, что это нетрудно будет сделать. — Сделаю. Панченко направился к двери. Зафар посмотрел на Азимова и Шаикрамова, однако ничего не сказал — думал о вышедшем старшем лейтенанте. Пожалуй, неплохо, когда работник уголовного розыска с такой настойчивостью добивается реализации собственной версии. Плохо только то, что он отбрасывает в это время все, что говорит в пользу подозреваемого. У Панченко, очевидно, с юных лет неприязнь к тем, кто вольно или невольно пытался прожить нечестным путем. Во всяком случае, два мешка хлопковых зерен дорого обойдутся Примову. В кабинете стоял полумрак. За окнами шумел дождь. Крупные капли бежали по стеклам, оставляя за собой прямые зеленоватые полосы. — Вы все рассказали мне? Зафар снова посмотрел на Азимова и Шаикрамова, взял сигарету. — Все... — ответил Азимов. — Значит, вы считаете, что убийца Роберт Степанян? Шаикрамов пожал плечами. Азимов разогнал дым, потянувшийся к нему от Зафара, улыбнулся виновато. — Пожалуй, сейчас я не решусь утверждать это категорически. Подозрение появилось у меня после того, как товарищ Шаикрамов побывал в гостинице. — Судя по всему, версия Азимова наиболее приемлема. Если вы разрешите, то я с удовольствием приму участие в ее разработке. У меня имеется для этого время, — сказал Лазиз. Зафар улыбнулся: — Разрешаю, Лазиз... Кстати, ты ничего не будешь иметь против, если я договорюсь с Автюховичем о переводе тебя в ОУР? Временно, — поднял палец Зафар, видя, как разом напрягся Шаикрамов. — Пока идет расследование по этому делу. — Не надо. — Почему? — Сейчас нет в отделе человека, который бы заменил меня. — Ну смотри... «Обиделся, — подумал Зафар. — Очевидно, неправильно понял меня. Решил, что я хочу забрать его к себе. Вообще-то не мешало бы. Неплохо бы и Тимура перетянуть...» Смотри, — повторил Зафар. Шаикрамов усмехнулся: — Смотрю. — Что вы собираетесь делать в первую очередь? — Зафар снова смотрел на Шаикрамова, который задумчиво пощипывал подбородок. Однако ответил Азимов: — Во-первых, попытаемся узнать, где был Степанян позавчера ночью? — Во-вторых? — Во-вторых, проверим его друзей. — В-третьих? — В-третьих, пороемся в его биографии. Вернее, узнаем, за что он дважды попадал за решетку. Может быть, за кражу? Это важная деталь. — В-четвертых? — В-четвертых, еще раз проверим мужчину в кирзовых сапогах. — Носа? — Носа. — Смотрите, как бы вы не остались с носом с этим Носом, — скаламбурил Зафар. Ему нравились предложения Азимова и Шаикрамова. Во всяком случае, они были существенны и могли навести на след. Азимов сказал: — Может, кто-нибудь и останется с носом, только не мы, товарищ майор. — Рад за вас! Шаикрамов неожиданно вскочил и, ничего не говоря, выбежал из кабинета. — Куда это он? — Не знаю, товарищ майор. — Метеор! Шаикрамов возвратился минут через десять, с красным сияющим лицом. Азимов недоуменно кивнул, встретившись с его взглядом; Зафар насупил брови. — Что случилось? — Товарищ майор, не сердитесь, — упал Шаикрамов в кресло. — Как это я сразу не догадался, не понимаю. В общем, человек, с которым говорил старик Примов, существует. Я прекрасно знаю. Зафар невольно подался вперед: — Ну? — Это Анатолий Депринцев. Он действительно много пьет и действительно любит читать стихи. — Анатолий Депринцев... Подожди, подожди, Лазиз Шаикрамович. Это тот стихоплет, который ошибочно обвинялся в убийстве дружинника Войтюка? — Да-а, товарищ майор. — Ты уверен, что это он? — Уверен на все сто процентов. Я только что говорил с Примовым. Он еще не уехал, топтался на автобусной остановке... Понимаете, товарищ майор, у Депринцева есть одно любимое слово, он часто повторяет его в разговоре. «Во-от». Ну вот... Тьфу ты! — махнул рукой Шаикрамов. — Так вот... Нет, какое-то наваждение. Можно с ума сойти, честное слово. Прямо боюсь рот раскрывать... Есть еще одна примета. — Какая? — Самая главная. Депринцеву на правой руке, чуть повыше локтя, Эргаш оставил небольшую метку ножом. Человек, крутившийся около правления колхоза, имеет подобную метку. — Это тебе Примов сказал? — Да. Зафар помолчал немного. Слишком неожиданным был поворот этого сложного дела. Сразу все не укладывалось в сознании. Депринцев, разумеется, не мог совершить в одну ночь два тяжких преступления. С ним был еще кто-то, если принять за основу эту версию, то кто? Степанян? Кассир? Нос? Может, Примов? Ситуация постепенно вырисовывалась. — Твое мнение, Лазиз Шаикрамович? — Я могу привести в отдел Депринцева. — Тимур Назарович? — По-моему, нужно установить за Депринцевым наблюдение. Привести в отдел всегда успеем. — Правильно, — отказался Шаикрамов от своего предложения. — В таком случае, так и сделаем, — хлопнул Зафар ладонью по столу. Лазиз и Тимур вышли. Зафар встал и, подойдя к окну, долго стоял молча, глядя на проходившие мимо машины.21
Тимур и Лазиз без особого труда нашли людей, с которыми встречался Роберт Степанян. Они, будто сговорившись, отзывались о нем как о великолепном человеке, отличавшемся исключительной порядочностью. Правда, один из них не без раздражения заметил, что Роберт Степанян только с виду добрый да честный. На самом деле он постоянно носит за пазухой камень и при случае пускает его в ход, независимо от того, кем доводится ему человек, вставший на его пути. — Значит, Степанян может убить? — спросил Шаикрамов этого человека. — Может, — подтвердил тот. — Вы не знаете, где находился Степанян, когда был убит Каримов? — поинтересовался Азимов. — Не знаю. Вы поговорите с его братом, он может вам кое-что рассказать. Он язык не держит за зубами. Пьяница. — Где он? — Здесь. — В колхозе? — Да. Кутан строит. — Как его фамилия? — Так же, как и Роберта, — Степанян. Лазиз и Тимур посмотрели друг на друга. Нет, наверное, не зря бытовала в народе пословица: век живи, век учись. Если бы они сразу просмотрели список рабочих, строивших загон для скота, то не получилось бы такого конфуза. У них сейчас, пожалуй, было бы больше сведений о Роберте Степаняне. Возможно, даже знали бы уже точно, кто убил Каримова и ограбил кассу? — Как его звать? — продолжал беседу Шаикрамов. — Брата Роберта? Аршавер. — Молодой? — Лет двадцать пять. — Вы встречались с ним? — Только на работе. — Как он ведет себя? — Обыкновенно. Вообще, парень — неплохой. Лучше брата. Только закладывает много. — С кем дружит, знаете? — Многие встречаются с ним. — Все-таки? — Думаю, что вам ничего не даст перечисление людей, с которыми он дружит. Вы побывайте у Лиды Бариной. Она, пожалуй, сумеет ответить на вопросы, которые помогут вам разобраться в том, что вам нужно. Очередной вопрос задал Азимов, так как Шаикрамов умолк. — Возможно, вы скажете несколько слов о самой Лиде Бариной? — Что о ней скажешь? — Кто она? — Женщина. Красивая. Работает в колхозе. Аршавер живет у нее. — Давно? — Месяца три. — Она замужем? — Была. Лазиз и Тимур решили, что эти сведения могут ускорить расследование дела, поэтому не стали долго дискутировать. Когда остались одни, сразу решили, что делать дальше. — Ты встретишься с Бариной, я схожу к Носу, — сказал Лазиз. — Хочу понять до конца, что это за человек. Согласен? — Согласен.22
Лида Барина настороженно встретила Азимова. Она провела его в комнату, усадила на диван, сама села за стол, находящийся посередине комнаты, по-видимому, машинально разглаживала край скатерти. — Вы из милиции? — Да. — Еще не нашли убийцу? — Нет. — Какой ужас! Я до сих пор не могу прийти в себя. У женщины был тихий, нежный голос, который очаровывал присутствующих. Она действительно была красивой и, очевидно, прекрасно знала, какое впечатление производит на мужчин. Азимов решил быть откровенным. — У вас живет Аршавер Степанян. Так? — Так. — Вы бываете с ним... вечерами? — Он — мой любовник. Прямолинейность женщины на мгновение выбила из колеи Азимова, неискушенного в любовных делах. Он пробормотал, как школьник, уличенный в обмане: — Да-да! — Вы подозреваете его в убийстве? — пришла Барина на помощь. — Я хочу знать, где он был позавчера ночью? — Дома. Значит, они снова были на неправильном пути. Впрочем, Роберт Степанян мог совершить преступление без брата, один или с Носом. Интересно, удастся Лазизу еще что-нибудь узнать или не удастся? Где он сейчас? Нашел Носа или не нашел? — Он никуда не отлучался? — Не знаю. — Даже так? — Я уходила на дежурство. Это было уже неплохо. Аршавер мог встретиться с братом и совершить с ним преступление. Жаль, конечно, что Барина уходила на дежурство и не видела, отлучался ли он ночью из дома. — Вы никакой перемены в нем не замечаете? Барина ответила не сразу. Она помолчала, по-видимому, пытаясь до конца осмыслить новый вопрос. — Пожалуй, в нем что-то появилось. — Что? — Я не могу сказать. Это почти неуловимо. Возможно, мой брат что-нибудь скажет. Поговорите с ним. — Он живет в этом же доме? — Да. Барина неожиданно метнулась к Азимову: — Нет! Нет-нет! Аршавер не мог убить человека! Вы ошиблись! Как же так? Дмитрий Барин тоже настороженно встретил Азимова. Его, очевидно, тоже угнетало то, что Аршавер Степанян заинтересовал милицию. — Ничего плохого я не могу сказать о нем. Парень положительный. Свое место в жизни знает. — Вы крепко спите? — Когда как... Зачем вам? — Позавчера ночью был убит Каримов. — Слышал. — Возможно, Аршавер выходил ночью из дома? — Вы что? Думаете, что он убил Каримова? — у Барина покраснели глаза. Он сильно наклонился вперед и смотрел на Азимова, не отрываясь, не то со страхом, не то с недоумением. Тимур чуть-чуть задержал ответ: — Он мог участвовать в убийстве. — Нет, не мог, — уверенно сказал Дмитрий. — Вас ввели в заблуждение. Впрочем, не знаю. — Вы не ответили мне: выходил ли он позавчера ночью из дома? — Выходил. — Когда? Азимов задал очередной вопрос обычным спокойным голосом, однако ему хотелось кричать: наконец-то он подошел к тому, что могло пролить свет на убийство и ограбление кассы. — Когда? — задумался Дмитрий. — Часов в двенадцать, наверное. Не помню точно. Я уже был в постели. — Он ничего не сказал вам? — Нет. — Больше вы не видели его? — Видел. — Когда? — Когда? Они дважды повторили одно и то же слово. При этом дважды посмотрели друг на друга, словно поразились чему-то. Правда, внешне снова ничем не выдали своих мыслей, только у Тимура на этот раз забилась жилка у левого глаза. — Ну? — Часов в пять утра. — Вы говорили с ним? — Нет. — Что он делал? — Ничего. Лежал. — Спал? — Наверное. — Вы видели его утром? — Нет. — Как он отнесся к известию об убийстве? — Возмущался. — Вы знаете его брата? — Роберта? — Разве у него еще есть брат? — Не слышал... Роберт был как-то у нас. Скользкий человек. По-моему, он способен совершить преступление. Есть в нем трусоватость. Может быть, я ошибаюсь? Первое впечатление не всегда бывает точным. Тем более, что у меня не было намерения понять его. — Вы знаете, что он был судим? — За что? — За кражу. — Аршавер тоже? — Нет. — Слава богу. — Вас что-то пугает? — Я боюсь за сестру. Сами посудите: не очень-то приятно оказаться сожительницей преступника. Вы ничего не говорите ей про Роберта. Она может прогнать Аршавера. У нее вспыльчивый характер. — Как бы Аршавер сам не ушел. — Вы все-таки считаете, что он убил Каримова? — Я считаю, что ему все известно. Азимов снова уклонился от прямого ответа, хотя сейчас, после того, что он узнал, у него почти не было сомнения в том, что Аршавер принимал участие в убийстве. — Невероятно. — Когда он появляется у сестры? — Часов в восемь. — Я подожду его у вас. — Как хотите... Ужинать будете? — Не откажусь. Барин устало поднялся, вышел из комнаты и вскоре загремел на кухне посудой. Азимов потрогал усы и взглянул в трюмо, стоявшее почему-то у двери, неторопливо прошелся по комнате.23
В семь часов в дом к Бариной и находившемуся в нем Азимову пришел Шаикрамов. Он, по-видимому, очень устал, однако держался бодро и буквально засыпал Тимура вопросами. Азимов охотно отвечал, хотя после сытного ужина, он, как правило, любил помолчать. Барин не мешал работникам милиции. Он сидел на веранде и любовался огненным закатом. — Значит, у тебя дело на мази? — наконец пришел Шаикрамов к выводу. — Я рад. — Почему — у меня? У нас, — поправил Азимов. — Пусть так... Черт возьми, неужели мы сегодня закончим это дело? Непостижимо! — Непостижимо? — Разумеется. — Не понимаю. — Нелегко раскрыть такое преступление, Тимур Назарович. — Ты что узнал о Носе? — Считай, что майор прав. Занимаясь Носом, я остался с носом. Однако я не расстраиваюсь. Рад, что Нос оказался честным человеком. Мне было бы очень жаль, если бы оказалось наоборот. Ты знаешь, что он сказал мне? — Что? Шаикрамов засмеялся, по-видимому, представив на мгновение один из моментов беседы с Носом, хлопнул себя по коленям. — Меня чуть инфаркт не хватил от его слов. «Не умеете вы работать!» Слышишь? «Мотаетесь по колхозу третий день и все без толку. За что вам только деньги платят?» Видал? Прямолинейно. Без тени страха. Нос, действительно, нос... Кстати, у него сегодня утром был один наш общий знакомый. — Кто? — Не догадываешься? — Мороз? — вспомнил Азимов разговор у Голикова. — Он. — Шаикрамов помолчал чуть-чуть, словно собираясь с мыслями. — Между прочим, они чем-то похожи друг на друга. Я не говорю о внешности, нет. У них, по-моему, одни привычки и наклонности. Оба не терпят равнодушия и бюрократизма. Оба, как говорится, режут правду-матку в глаза. Оба не лезут в карман за словом. Оба в прошлом основательно прикладывались к белой головке. Нос сейчас не пьет? — Пьет. Изредка. Знаешь, кто заинтересовал Мороза? Депринцев. — Почему? — удивился Шаикрамов. — Очевидно, ему что-то стало известно. Давай сегодня съездим к нему. Так, между прочим, будто в гости, — предложил Азимов. — Успеем? — усомнился Шаикрамов. — Ты думаешь, что Аршавер задержится? — Может быть, — согласился Шаикрамов. — Это я так... Извини. Очевидно, все-таки Депринцев замешан в этом деле. Возможно, даже он принимал участие в этих преступлениях. Рука у него нечистая. Ты знаком с делом об убийстве Василия Войтюка? — Знаком. — Такие, брат, дела. Панченко не видел? — Нет. — Неладно получилось у него с Примовым, — помолчал еще немного Лазиз. — Не мог старик совершить тяжкое преступление. Никак не мог. Я уверен... Что будем делать? — Ждать Аршавера, — сказал Тимур. — Это само собой разумеется. Будем брать? — Увидим. — Может быть, он не придет? — Может быть. — Послушай, давай сделаем так. Ты жди, я поеду в гостиницу, к Роберту. Возможно, он попытается удрать. Это дело надо предупредить. — Только будь осторожен. — Не беспокойся. Ты, между прочим, тоже не лови галок. — Я не один. — Не один? — Со мной Барины. — Думаешь, они помогут тебе? — Конечно. — Ни пуха ни пера, как говорится. Встретимся в отделе. Хорошо? Я на всякий случай пришлю тебе участкового Сабирова. Лазиз будто вылетел из комнаты. Через минуту его гибкая атлетическая фигура промелькнула у окна и исчезла за деревьями, которые почти вплотную подходили к дому, защищая его от холода и зноя. «Метеор», — с любовью подумал Тимур, вспомнив, как это слово произнес Зафар, когда Лазиз убежал за Примовым. На веранде загремел ведром Барин. Азимов неторопливо поднялся и пошел к нему. — У вас есть шахматы? — Сыграем? — тотчас оживился Дмитрий. — Сыграем. — Отлично! — Давай, — сказал Тимур. Лида Барина подсела к мужчинам в девятом часу. Она долго, не шевелясь, следила за игрой большими задумчивыми глазами, однако, судя по всему, ничего не видела.24
Аршавер Степанян появился перед утром. Он был пьян и, увидев в комнате Тимура, разразился потоком отборной матерщины. — Заткнись! — крикнул Барин. — Что? Ты запрещаешь мне говорить? Да? Лидуха, ты тоже запрещаешь? Значит, я вам не нужен? Да? Не нужен? Лида кивнула на Тимура: — Он из уголовного розыска. — Из... уголовного розыска? Должно быть, Аршавер частично отрезвел. Он замер посредине комнаты и внимательно посмотрел на Тимура. В его остановившихся глазах заметался неприкрытый страх. — Здесь расскажете все или поедем в отдел? — спросил Азимов. — Я не понимаю вас. — Жаль. — Что поделаешь: дефект извилин. Азимов повернулся к Бариным: — Оставьте нас. Лида вздрогнула, будто перед ней неожиданно появилась пропасть, прижала руки к груди и, сильно склонив голову, вышла. Дмитрий бросил Аршаверу: — Если виноват, не крути! Понял? — Понял, — автоматически повторил Степанян. — Я буду у себя, Тимур. — Хорошо, Дмитрий. Барин вышел. Азимов жестом указал на стул. Аршавер сел, сжал ладонями голову, закачался из стороны в сторону. — Где вы были? — Гулял, — не сразу ответил Аршавер. — С кем? — С друзьями. — У кого? Только прошу вас, не вздумайте меня обманывать. Это к хорошему не приведет. Я все равно узнаю правду. Поняли? Итак, у кого? — У брата. — В гостинице? — Нет, у его знакомой. — Как ее фамилия? — Не знаю. — Не знаете или не хотите говорить? — Не знаю. Он недавно познакомился с ней. Ее зовут Сонькой. Живет одна. В частном доме. Недалеко от гостиницы. — Перечислите друзей. — Зачем? — тупо уставился Аршавер в пол. — Впрочем, пожалуйста. Сабир Якубов, Сергей Смирнов, Вано Георгадзе, Адыл Гулямов... Хватит? Или еще? — Перечислите всех! Я хочу знать, где вы провели ночь? — У знакомой брата. Разве вы не слышали? — Аршавер попытался встать, однако не смог. — Лидка! Где ты? Приготовь нам что-нибудь! Слышишь? — Не кричите. Она не придет. — П-почему н-не п-придет? К-кто т-ты такой? — В честь чего ваш брат устроил гулянку? — Как это — в честь чего? У него позавчера... нет, послепозавчера... б-была получка. Разве мы не имеем права повеселиться? — Имеете. Вы много получаете в месяц? — Много. — Все-таки? — Семьсот-восемьсот. — Много. — Нет, вы неверно поняли меня. Это я с братом столько получаю. Один столько не заработаешь. Жилы тонковаты. — Расходы большие? — Немалые. — Сколько пропили сегодня? — Рублей сто, наверное. — Значит, вас было человек десять-пятнадцать? — Не считал. — Вы часто так собираетесь? — Почти каждую неделю. — На это нужно много денег. — Лидка, где ты?! — снова закричал Аршавер. — Сообрази нам что-нибудь... Значит, ты из милиции? — обратился он тут же к Азимову, должно быть, забыв о том, что только что звал Барину. — Из милиции, — терпеливо повторил Тимур. — Что тебе надо? — Я пришел узнать, куда вы с Робертом дели деньги, которые украли из колхозной кассы? — Из какой кассы? Из колхозной? Ты брось! Это, где кто-то убил... того... что ли? Лидка! Вошла Барина. — Нализался? — Она повернулась к Азимову и обреченно улыбнулась. — Пожалуйста, оставьте его. Все равно сейчас вы ничего не добьетесь. Видите, какой он. Аршавер поднялся, подошел к Бариной, попытался обнять: — Лидок, д-дай я тебя поцелую. Ты — мировая баба! Клянусь! — Иди спать. — Спать? Мы сейчас будем пить. Правда, Гришка? Тебя Гришкой звать, да? — потянулся Аршавер к Тимуру. — Собственно, как ты здесь оказался? А? Скажи, как ты здесь оказался? Кто тебе нужен? — Я приехал к тебе. — Что же ты не знакомишься со мной? — Аршавер снова обращался к Тимуру. Азимов решил увести его в отдел милиции, решив, что доро́гой он немного протрезвеет и сможет отвечать на вопросы вполне членораздельно. — Поедем пить, Аршавер. — Поедем. — Скажите, Лида, Дмитрию, чтобы он нашел нам машину, — обратился Азимов к Бариной. — Только, пожалуйста, пусть поторопится.25
Доро́гой, как Тимур и предполагал, Аршавер протрезвел и, должно быть, поняв, что его ожидает, умолк и не проронил ни слова, пока не был доставлен в кабинет начальника ОУР. Зафар некоторое время занимался своими делами и не обращал внимания на прибывших. Он, по всей вероятности, плохо спал в эту ночь. Под глазами синели круги, уголки губ опустились. — Шаикрамов еще не был? — поинтересовался Тимур. Его томило молчание Зафара. Он думал, что начальник ОУР был недоволен тем, что Аршавер Степанян еще окончательно не протрезвел. Очевидно, не нужно было сейчас привозить его в отдел. — Был. — Как у него дела? — Неплохо. Зафар отвечал, не поднимая головы, чертя красным карандашом по листу бумаги, который лежал перед ним. Аршавер рассматривал кабинет. Судя по всему, он успокоился и принимал все, что происходило, как какую-то забаву, не больше. На его тонких губах дрожала полупрезрительная улыбка. — Что у вас в карманах? — У меня? — У вас. Вопрос Зафара, должно быть, ошарашил Аршавера. Он не думал, что начальник ОУР начнет беседу таким образом. — Ничего. — Все-таки? — Разная ерунда. — Ну-ну? — Расческа, носовой платок, сигареты, спички. — Деньги? — Есть. — Сколько? — Немного. Рубля три-четыре. Зафар посмотрел на Тимура, сидевшего напротив Аршавера. — Проверьте. Аршавер вскочил. — Не имеете права! — Вы в милиции, — не изменил тона Зафар. — Все равно не имеете права! Я буду жаловаться. Где ордер? — Вас пугает обыск? — Я протестую! Зафар снова посмотрел на Тимура. — Проверьте! В карманах Аршавера, кроме перечисленных вещей, оказалось четыре пачки новеньких пятерок. — Вы, оказывается, неискренни, — сказал Зафар. Он отложил карандаш в сторону, отодвинул туда же лист бумаги. — Откуда у вас эти деньги? — Как — откуда? Я работаю. Получил. — Так много? Аршавер оглянулся, словно хотел увидеть позади поддержку, затоптался на месте, потом приблизился к столу и, не спрашивая разрешения, взял графин с водой и прямо из горлышка стал пить. — Я обманул. — Знаю, — сказал Зафар. — Мне эти деньги дал брат. — Роберт? — Да. — Он — миллионер? — У него хорошая специальность. Дай бог каждому такую. Строитель. Слышите? Сейчас рабочие руки ценятся. — Возможно вы скажете, сколько он получает в месяц? — Семьсот рублей. — Порядочно. — Врет он, — не стерпел Тимур. — Послушай, Аршавер, ты же говорил мне, что вы вместе с братом получаете в месяц семьсот-восемьсот рублей. — Вместе мы получаем тысячу двести. — Проверим, — сказал Зафар. — Проверяйте... Можно? — Аршавер снова посмотрел на графин с водой. — Все во рту пересохло. — Можно. На этот раз он выпил немного, однако с прежней жадностью. — Я обманул. — Ничего, — сказал Зафар. — Эти деньги мне дал один человек. — Кто? — Я его не знаю. Понимаете, — быстро заговорил Аршавер, — иду я вечером по улице, думаю, что бы купить Лидке, вдруг слышу: «Молодой человек, во-от, можно вас на минутку?» Я оглядываюсь, вижу мужчину лет тридцати пяти, здорового, в коричневом плаще, подхожу к нему: «В чем дело?» Он посмотрел по сторонам, потом выхватил из кармана пистолет, направил на меня: «Деньги есть?» У меня были, говорю: «Есть». «Давай, во-от!» — Ну? — Ну я вытащил все, что у меня было. Он взял, посчитал, потом достал из другого кармана вот эти четыре пачки и дает мне: «Это тебе, говорит, вместо твоих старых». Я вижу, что дело так оборачивается, сказал ему, что новые еще лучше старых. Он криво улыбнулся: «Не всегда новые лучше, старик, во-от». Тут меня будто током ударило, я подумал, что он ограбил кассу и убил Каримова, поэтому говорю: «Ворованные?» «Это не твое дело», — нахмурился он. — «Вот тебе еще деньги. Спрячь. Я приду когда-нибудь к тебе. Только смотри, не проболтайся, во-от. В случае чего, говорит, я тебя всего изрешечу». — Дальше? Что дальше? — Я пошел домой, положил деньги в ящик с гвоздями и спрятал в кладовку, под дрова... Поедемте, увидите, что я не вру. Вообще, с какой стати мне врать? Тем более вам. Правильно? — Роберт знает об этом случае? — Нет. Я ничего не сказал ему. — Почему? — Он жадный. Еще присвоил бы деньги... Поедемте. Зафар вскинул глаза на вытянувшегося Тимура: — Проверьте!26
Нос сильно пригнулся, скользнул вдоль старого глинобитного дувала, притаился. Мужчина, за которым он следил, прошел почти рядом. От него сильно несло водочным перегаром. Старый плащ был в глине. Кепка с мягким козырьком была надвинута на самые глаза. Правая штанина черных брюк, распоротая, очевидно, по шву, оголяла тонкую волосатую ногу. «Так. Так. Вай-вай!» Нос глядел на небольшой сверток, белевший под мышкой мужчины. Собственно, только этот сверток и заставил его потащиться вслед за мужчиной. Он догадался, что было в этом свертке. Стояла холодная предрассветная пора. Небо, усыпанное крупными звездами, казалось, удалялось от земли, время от времени посылая к ней своих беспечных гонцов, которые сгорали высоко в атмосфере, оставляя после себя недолгий шлейф. Луна, будто турий рог, висела на краю неба. Она слегка подрагивала, должно быть, хотела дотянуться до крошечной пылинки, белевшей над ней. «Так. Так. Вай-вай!» Нос повторил ничего не значащие слова с прежней интонацией и, помедлив минуту-другую, осторожно двинулся вдоль дувала. Мужчина перестал оглядываться. По-видимому, решил, что здесь, вдали от города, за ним никто не следит. Правда, иногда останавливался, поднимал голову, будто прислушивался к звукам пробуждающегося утра. У развалившегося старого строения, обнесенного ветхой стеной, остановился. Нос подумал, что он собирается в этом месте спрятать свой сверток, притаился. «Ничего. Ничего. Ты никуда от меня не уйдешь. Никуда». Впереди, там, где начинался мазар, закричала сова, громко захлопала крыльями и, взлетев, села на сухое дерево, стоявшее недалеко от Носа. Мужчина обернулся, с минуту настороженно следил за птицей, будто ждал чего-то. Не дождавшись, прижал к бедру сверток и пошел к мазару. Он снова озирался по сторонам и останавливался. Потом сразу куда-то исчез, словно провалился сквозь землю. Нос испугался. Бросился вперед, позабыв об осторожности, налетел на камень, торчавший на узкой тропинке, расшиб колено. «Дьявол! Ну, подожди!» Мужчина оказался в неглубокой крутой расщелине. Расщелина шла в пологий холм сначала прямо, затем короткими полукружьями. В ее конце стоял полуразвалившийся мавзолей, построенный лет триста назад. К мавзолею давно никто не ходил: вокруг него росла высокая колючая трава, едва помятая только у тропинки, уходящей в глубь мазара. Нос настороженно следил за мужчиной из-за надгробия, лежа грудью на сырой холодной земле. Мужчина не спешил. Оглядывал со всех сторон мавзолей, постукивал по нему. Наконец, юркнул в темный проем, зиявший внизу, из проема тотчас брызнул свет электрического фонарика. «Порядок, — потер руки Нос. — Порядок». Он приподнялся и, отойдя в сторону, слился со стволом огромного векового карагача. Небо из темного постепенно стало синим, с огненными подпалинами у горизонта, откуда вот-вот должно было появиться солнце. Оно, по-видимому, сразу войдет в тучу, повисшую над городским садом. Это задержит рассвет на минуту-другую. Мужчина вышел из пролома незаметно, будто был нематериален, так же, как и прежде, огляделся, медленно обошел мавзолей, потом вылез из расщелины, не спеша закурил и, махая руками, направился к старинной каменной арке, темневшей у входа на кладбище. Нос не двигался до тех пор, пока мужчина не исчез. Он не стал спускаться в расщелину, не стал осматривать подвальное помещение мавзолея, потому что видел — мужчина удалился без свертка, значит, сверток остался здесь...27
Голиков взял Тамсааре под руку, отвел в сторону, под дерево, сел с нею на скамейку, посмотрел на здание ресторана, желтевшее в конце аллеи. В третьем окне от двери темнели две, пододвинутые друг к другу, фигуры. Тамсааре невольно подалась вперед и проговорила с отчаянием, громко хрустнув всеми пальцами. — Сергей Борисович, ну почему вы медлите? Он же может начать все сначала! Неужели вы не понимаете такой простой истины? — Не беспокойся, Рийя, он не запьет. Я хорошо знаю его. — Не знаете. Он еще ребенок. У него никакой воли. Уверяю вас! — Рийя! — упрекнул Голиков. — Вы неправильно поняли меня. Я говорю совсем одругой воле... Простите, я, кажется, говорю что-то не то... Зайдите в ресторан. Остановите его. Депринцев уже все равно ничего не добавит. — Добавит. — Вы уверены? Боже мой, откуда у вас эта уверенность? Депринцев — конченый человек. Это понятно даже ребенку. На что вы надеетесь, Сергей Борисович? Я боюсь за Ивана. Понимаете, боюсь. — Подожди, Рийя. Голиков, помимо своей воли, испытывал терпение Тамсааре. Тамсааре неожиданно схватила Голикова за руку, сжала ее так, что он попытался высвободить руку. — Смотрите! По аллее в больших кирзовых сапогах шагал Нос. У него, очевидно, было отличное настроение. Он громко насвистывал какой-то мотив, широко улыбался. — Остановится? — Не думаю. Наверное, все в порядке. По-моему, тебе надо зайти сейчас, — Голиков кивнул на дверь ресторана. — У тебя больше шансов найти с ним общий язык. Не забывай, ты еще и красивая женщина. Тамсааре умоляюще посмотрела на участкового: — Не могу, Сергей Борисович. — Можешь, Рийя, — сказал он. Она больше не сопротивлялась, решив в конце концов, что ей, действительно, нужно зайти в ресторан. Иван может напиться. — Не остановился, — прошептал Голиков. Нос поспешно вошел в ресторан. — Нашли того, кто стрелял в вас? — Нет, Рийя. — Это был Депринцев. — Нет, Рийя, — повторил Голиков. — Почему? — Он не станет стрелять в меня. Зачем? Тамсааре хотела сказать, что Депринцев был как раз тем человеком, который может поднять на него оружие, однако промолчала — нелегко было Голикову выслушивать версию, к которой невольно имела отношение его жена Катя... — Сергей Борисович! — Да, Рийя? — Я слышала, Эргаш на свободе. Это правда? — Правда. — Что же получается, Сергей Борисович? Выходит, у нас можно убивать безнаказанно? — Не фантазируй, пожалуйста. Произошло недоразумение. Мы исправим его. — Голиков нахмурился так, что брови сошлись у переносицы. — Я был в горкоме партии, у самого Ядгарова. Он пообещал разобраться во всем. — Разберется? — Ты что? Ядгарову не веришь? — Ему верю. — Голос у Тамсааре стал жестким. — Не верю другим, стоящим на страже наших законов. — Перестань, Рийя! — Ядгаров, конечно, разберется. Автюхович и Зафар позавчера тоже были у Ядгарова. Тоже говорили об Эргаше... Нет, правду нельзя сломать. — Я пошла, Сергей Борисович. — Иди, Рийя. — Вы будете у себя? — Да. Звони. — Мы зайдем. Тамсааре поднялась и неторопливо направилась к ресторану. Голиков не спускал с нее глаз, пока она не скрылась за дверью ресторана.28
Тамсааре не сразу подошла к столу, за которым сидели Мороз, Депринцев и Нос: некоторое время постояла у входа, пытаясь унять волнение. Потом, поправив сумочку, висевшую на плече, подошла к зеркалу, потрогала кончиками пальцев брови, шагнула из вестибюля в зал. Она сначала увидела Депринцева. Он сидел к двери лицом, положив руки на стол, сильно втянув голову в плечи. Ему что-то доказывал Нос, сидевший к двери спиной. У Носа была большая взлохмаченная грива. Он откинулся назад, словно глядел мимо Депринцева, в потолок, разрисованный прямыми синими линиями. Затем бросился в глаза Мороз — его сразу трудно было узнать. Он сидел к двери боком, у самого окна. Яркие лучи солнца, падающие сверху, будто окутывали его невидимой кисеей. Хорошо были видны только его ноги — длинные, вытянутые вперед, вдоль стола, что-то отбивающие в такт негромкой музыки, льющейся из транзистора, который стоял на подоконнике. В зале сидело человек пятнадцать. В основном, это были молодые люди, пришедшие сюда, по-видимому, недавно. Одни из них были заняты только собой, другие с интересом посматривали по сторонам, третьи молча ели. Тамсааре не спеша прошла между столиками и, подойдя к Морозу, опустилась на стул. Мороз, должно быть, не думал увидеть ее в ресторане, да еще в дневное время. Он некоторое время не то с недоумением, не то с восхищением глядел на нее. — Спасибо. Она неожиданно растерялась, задвигала стулом, сняла с плеча сумочку и снова надела. Может быть, обрадовалась, поняв, что Мороз не пьян, может быть, просто не знала, как вести себя с ним, когда рядом были чужие люди. — Пожалуйста. Нос перестал говорить. Он с недоумением оглядел неожиданную посетительницу, скривил тонкие, будто ниточка, губы, потянулся к рюмке с водкой. Депринцев заулыбался, захлопал в ладоши, протянул руку над столом. — Добро пожаловать, шахиня, во-от... Почему это вы так долго не приходили? Вот командир чуть с ума не сошел. — Некогда было, Анатолий, — кокетливо склонила голову Тамсааре. — На свидание ходили? А? — Депринцев снова захлопал в ладоши. — Сознавайтесь, во-от, иначе мы рассердимся. Рассердимся, правда, Иван? Нос? Нос деланно пожал плечами: — Я незнаком. — Незнаком? — воскликнул Депринцев. — Как это так — незнаком? Это самая красивая женщина в Янгишахаре! Кроме того, во-от, слушай внимательно: это — самая опасная женщина в Янгишахаре. Ясно? — Неясно, — признался Нос. — Что тебе неясно? — Как может один и тот же человек быть самым красивым и самым опасным? — Темнота! — Депринцев почти лег на стол, сказал, сильно кося глаза на Тамсааре: — Дружинница! Теперь ясно? — Теперь ясно. — Молодец!.. Выпьем?.. Позвольте, мадам, я поухаживаю за вами? Кстати, не хотите ли экспромт? Пожалуйста, во-от, — не стал дожидаться разрешения Депринцев. —Я третий день хожу в ударе,
все не могу в себя прийти
от вас,
шахиня Тамсааре,
о, дай припасть к твоей груди!
29
Зафар с интересом посматривал на Голикова. Он неоднократно встречался с участковым, хорошо знал его привычки и наклонности. — Как рана? — Пустяки. Зажила. Наверное, мой доброжелатель не отличается особой меткостью? — Может быть, наоборот? — Не понимаю? — Зачем ему убивать вас? За это, как говорится, по головке не погладят. Не лучше ли предположить так: выстрел потребовался для отвода глаз от более тяжкого преступления. — От... убийства? — Возможно. — Зафар постучал карандашом по настольному стеклу, помолчал немного, словно решал, говорить то, ради чего, собственно, и попросил Голикова зайти. — Депринцев может совершить преступление? — Не думаю. Кроме того, прошу, увольте меня от решения этого вопроса. Я, очевидно, не смогу быть объективным. Депринцев — бывший муж моей Кати, моей жены. Вошел Шаикрамов. — Все в порядке, товарищ майор. — Получил? — так и подался вперед Зафар. — Нет. — Ты во все издательства звонил? — Да. — Не мог ли он заключить договор в другой республике или, скажем, в Москве? — Вы говорите о Депринцеве? — О нем, — ответил Зафар. — Вы зря беспокоите издательских работников. Никто никогда не возьмет его примитивные стихи в печать. Деньги дал ему Роберт Степанян. — Правильно, — поддержал Шаикрамов. — Кстати, где он? — Степанян? У Панченко. — Тимур еще не вернулся? — Нет. — Пригласите Депринцева. — Хорошо. Шаикрамов вышел. Зафар прошелся по кабинету, постоял немного у окна, глядя на облака, застывшие вдали, за редкими деревьями, затем повернулся к Голикову. — Если бы я вас пригласил работать к себе? — Меня? — Да. Вы прекрасно знаете город. У вас хорошее оперативное чутье. Не век же вам быть участковым. Плохой тот солдат, который не мечтает стать генералом, — улыбнулся Зафар. — Надо подумать. — Подумайте, подумайте... Мороз мог бы заменить вас. Знаете, я однажды присутствовал на заседании штаба. Любопытно, весьма любопытно. Я не спешу с ответом, дорогой, ты подумай, — перешел Зафар на «ты». — У нас достаточно времени впереди. Кстати, подполковник не против. — Вы Лазиза пригласите в ОУР. — Пригласил. — Обрадовался? — Опечалился. — Серьезно? — Подполковник против. — Ясно. — Ничего, — снова прошелся по кабинету Зафар. — Ничего. Подполковник поддержит меня. Я уверен. Можешь не сомневаться. Открылась дверь. — Можно? На пороге показался Депринцев. Он был помят, страшно бледен. Волосы, будто клочья, прикрывали лоб. — Войдите, — сказал Зафар. — Здравствуйте, во-от. — Здравствуй. Проходи. Садись. Депринцев увидел Голикова, слабо улыбнулся ему, словно попросил прощения за то, что по-прежнему причинял хлопоты. — Вы тоже здесь? — Отдохнул? — спросил Зафар. — Во-от. — Садись. Садись, садись. Думаю, что разговор у нас будет долгий. Устанешь. — Ладно, — Депринцев сел, беспомощно огляделся, нервно потрогал запекшиеся губы. — Воды можно? — Можно. Зафар взял с тумбочки графин, наполнил стакан, протянул Депринцеву. Депринцев взял, поднес ко рту и отстранил: рука предательски дрогнула, вода выплеснулась из стакана, залила грудь. — Где вы были в субботу ночью? — Зафар перешел на «вы». — Не знаю. Где-нибудь валялся. — Вы были пьяны? — Я не бываю трезвым. — Никогда? — За исключением вот таких случаев. — Почему вы пьете? — Потому, что мои так называемые коллеги не дают мне ходу. Захватили всю власть в свои руки и делают, что хотят. Я не могу видеть их тупые морды. Между прочим, я не один. Нас много таких. Униженных и оскорбленных. Я еще и поэт. Не верите? Не надо. Другие верят. — Те, что финансируют ваше существование? — Никто не финансирует меня. — На какие же средства вы живете? — Продаю стихи. — Кому? — Кому придется. — У нас есть частные издательства? — Это как хотите, так и понимайте. Голиков не принимал участия в разговоре. Порой ему хотелось встать и выйти из комнаты, зайти в дежурную комнату к Лазизу, поболтать с ним о каких-нибудь пустяках. Депринцев облизывал белым языком сухие потрескавшиеся губы, с жадностью посматривал на стакан с водой, то и дело вытирал грязным платком вспотевшее лицо. Затем схватил стакан, опрокинул трясущимися руками в рот, облегченно вздохнул. — Давайте, Депринцев, поговорим, как мужчина с мужчиной. — Давайте, начальник. — В субботу ночью вы были в колхозе «Ударник». — Допустим. — В субботу ночью один человек вручил вам приличную сумму денег. — Та-ак. — В субботу ночью этот человек убил сторожа Каримова. — В-вот. — В субботу ночью этот человек ограбил колхозную кассу. — Интересно. — Скажите, какие обязанности выполняли вы в это время? — Вы берете меня на мушку? — Бросьте, Депринцев, вы же умный человек... Не разочаровывайте меня. Кто этот человек? — Роберт... — Степанян? Спасибо. Какие обязанности вы выполняли? — Так. Никаких. Бродил по колхозу. Задирался. Пил. — Кто был с Робертом Степаняном? — Наверное, брат. — Почему — наверное? — Похож на него. — Вы все сказали? — Все. — Мы нашли у вас сто рублей. — Так мало? — удивленно протянул Депринцев. — Неужели я за два дня размотал полтыщи? Странно. — Подумайте. Депринцев откинулся на спинку стула, долго морщил лоб, глядя перед собой, шептал что-то, два раза приподнимался и снова садился. — Я больше ста рублей не мог потратить. — У вас было пятьсот рублей? — Да. — Может быть, потеряли? — Исключено. — Значит, кто-то вытащил? Депринцев метнулся к Зафару: — Роберт? — Или Аршавер? — Нет, он... Сволочь! Он! Не сомневайтесь! Он все жилы вытянул у меня. Теперь здесь покоя не дает. Избавьте меня от него. Я, понимаете, хотел начать другую жизнь, да во-от не вышло. Снова запутался. Я ведь любил Катю. Вот какие стихи написал ей ко дню рождения.Я любил тебя, может быть, разно,
может быть, иногда презирал —
вел себя до того безобразно,
что по году покоя не знал.
С днем рожденья, мой друг!
С днем рожденья!
Много горя тебе причиня,
я с большим беспокойным волненьем
поздравляю сегодня тебя.
30
В кабинет ворвался яркий луч света, лег широкой полосой на стол, запутался в стекле. Зафар оглянулся — в окне голубело небо. Тучи стояли низко, у самого горизонта, сдавленные с двух сторон высокими зданиями. — Я пойду тоже. — Хорошо. Голиков не простился, возможно, собирался еще зайти. Азимов проговорил: — М-мда. Зафар широко распахнул ставни — в кабинет ворвался холодный воздух, выветрил запах сивухи, оставленный Депринцевым. — Чем порадуешь? — Ничем. — Не нашли деньги? — Нет. — Не беспокойся. Все в порядке. Где Аршавер? — У Цоя. — Давай его сюда. — Есть. Степанян сильно осунулся, потемнел, стал будто ниже ростом. Под глазами резче обозначились синие круги. — Где же деньги? Зафар задал вопрос тихо, словно боялся вспугнуть луч света, улегшийся на столе. Аршавер заговорил громко, с надрывом, не спуская глаз с Зафара. — Не думайте, что я обманул вас. Я говорю правду. Ящик из-под гвоздей на месте. Черт его знает, что произошло! О деньгах никто не знал. — Возможно, все-таки кто-нибудь знал? — Нет, — замотал головой Степанян. — Никто, кроме меня, не знал об этих деньгах. — Значит, вы обманули нас. — Я не обманул вас. — Значит, кто-то обманул вас. — Меня? — Да. — Вы шутите? — Нет. — Кто меня мог обмануть? — Подумайте. Аршавер закрутил головой — остановил взгляд на Тимуре, словно попросил его помочь вывести из затруднительного положения. Тимур прищурился, дотронулся легонько до усов. Зафар спросил: — Ну? — Вы ошибаетесь: меня никто не мог обмануть. — У вас есть брат? — Есть. — Вы верите ему? — Как самому себе. Вы думаете, что он взял деньги? Этого не может быть! — Почему? — Я спрятал деньги один. Ему ничего не было известно. — Вы могли бы узнать человека, который дал вам эти деньги? — Конечно. Я за версту узна́ю его. Из-за него мне приходится терпеть эти лишения. Вы уже поймали его? — Поймали. — Здорово! Сознался? — Сознался. — Здорово, — повторил Аршавер. Его лицо порозовело. — Хотите поговорить с ним? — Особого желанья нет. Он возвратил деньги? — Вы считаете, что он побывал у вас в кладовке? — Вы не считаете так? — Мы считаем, что у вас в кладовке побывал другой человек. — Кто? — Роберт. — Опять вы за свое! — Давайте закончим наш затянувшийся разговор, — подошел Зафар к Степаняну. — Деньги взял ваш брат. Ему хорошо было известно, где вы спрятали их. Знаете, где они теперь? — Где? — машинально спросил Аршавер. — На кладбище. — На кла-адби-ище-е? — Удивлены? — Зафар почувствовал, наступил момент, когда можно вырвать у Степаняна признание, поэтому сказал то главное, к чему вел его. — Мы узнали также, что вам никто не угрожал и не просил вас спрятать деньги. Эти деньги вы взяли с Робертом из колхозной кассы. Степанян вздрогнул, словно услышал за собой выстрел, попятился назад, со стулом, к двери. — Нет! — Вы взяли с братом деньги из колхозной кассы, вы убили Каримова, Аршавер! — Не-ет! — Вы! Степанян внезапно сжался. На его перекошенных губах, покрытых белым налетом, застыл отчаянный крик.31
Кажется, дело подошло к концу. Те точки над «и», которые необходимо было поставить во время следствия, твердо покоились на своих местах. Правда, Роберт Степанян еще мог перепутать карты и оттянуть на время неизбежный конец завершающегося следствия. Зафар был готов к любым неожиданностям. Тем не менее в этом варианте он не видел подвоха. Хотя и полностью не отвергал возможности такового: у преступника, каким бы он ни был, старым или молодым, опытным или неопытным, всегда имелась в запасе какая-нибудь пакость. Роберт Степанян быстро окинул кабинет узкими, близко посаженными глазами, задержал взгляд на Зафаре, широко расставил ноги. Азимов невольно подался вперед, поняв, что предстоит нелегкий поединок. Он, казалось, возмужал, во всяком случае, глядя на него, нельзя было сказать, что ему всего двадцать четыре года. — Садитесь — Благодарю. Роберт вытащил из кармана пиджака носовой платок, неторопливо вытер лицо и руки, взял стул, на который указал Зафар, поставил к стене и сел с величайшей осторожностью, словно боялся, что стул не выдержит. — Я вас слушаю. Зафар приступил к допросу не сразу — решил парализовать Степаняна его же методом: медлительностью и недоверием. Он задал свой вопрос только после того, как Роберт снова напомнил о себе. — Я вас слушаю. — Ку́рите? — Что вам нужно? — У вас есть брат? Роберт не успел ответить — зазвенел внутренний телефон. Зафар взял трубку, неторопливо поднес к уху. — Товарищ майор? Говорил Шаикрамов. Зафар узнал его и попросил зайти в кабинет. — Вы уже допросили Роберта Степаняна? — Нет еще. — Бегу. Кстати, тут вам письмо из Ташкента. — Неси. Шаикрамов появился почти тут же, словно стоял за дверью. Он молча прошел вперед и положил перед Зафаром розовый конверт с несколькими марками. «От Башорат? Странно!» Зафар взял конверт, повертел в руках, однако распечатывать не стал — обратился к Степаняну с прежним вопросом: — Итак, у вас есть брат? Губы Степаняна скривились в полупрезрительной улыбке. — Есть. — Как его звать? — Аршавер. — Вы вчера встречались с ним? — Встречался. — Когда? Где? — Днем. На работе. — Вечером не встречались? — Вечером ко мне пришел вот он, — кивнул Роберт на Шаикрамова. — Между прочим, научите своих сотрудников разговаривать с людьми вежливо. Лазиз проговорил спокойно: — Может, скажете, в чем проявилась невежливость моего сотрудника? — Зафар сделал ударение на слове «моего», будто всерьез принял обвинение. — В чем? — Роберт прищурился еще сильнее. — Во-первых, в том, что пришел без разрешения, во-вторых, в том, что мучил меня весь вечер своими дурацкими вопросами, в-третьих, в том, что притащил сюда. Впрочем, сюда я пришел бы и сам. Не мог спокойно жить, не выяснив наших отношений. — Даже так? — сказал Лазиз. Зафар продолжал допрос: — Значит, вчера вечером вы никуда не ходили? — Это ясно, как дважды два, — развалился на стуле Роберт. — Вы могли бы даже не задавать этот вопрос. — Аршавер сказал, что вчера вечером гулял с вами у одной вашей знакомой. — Мальчишка, — скривился Роберт. — Вы намного старше его? — Это не имеет значения. Что он еще сказал? — Сказал, что вы дали ему деньги. — Какие? — Свои. — Сколько? — Четыреста рублей. — Еще что? — Может быть, вы сами ответите на этот вопрос? — Я не прорицатель. — Не нужно быть прорицателем, когда знаешь, что может сказать брат, который еще не научился по-настоящему лгать. — Я, по-вашему, лгу? — Думаю, что это вам лучше известно. — Зафар молча перелистал документы, лежащие в тонкой папке, перевел взгляд на Роберта. — Итак, вы хотите знать, что сказал Аршавер? — Да. Роберт внешне почти ничем не выдавал своего состояния. Судя по всему, ему неоднократно приходилось беседовать с работниками милиции, и он умел сдерживать себя, когда это было необходимо. — Аршавер сказал, где вы были ночью четыре дня назад. — Интересно. — Разумеется... Сказал он также, что вы делали прошедшей ночью и как договорились вести себя, если мы заинтересуемся вами. — Мне кажется, что вы хотите пришить мне чужое дело? — Роберт неестественно громко рассмеялся. — У вас ничего не выйдет, начальник. Я тоже кое-что знаю и кое-где побывал. — В тюрьме тоже? Роберт сорвался с места: — Хватит! Я протестую! — Садитесь, Степанян, — сказал Зафар. — Поберегите нервы. Вы должны хорошо знать: нас криком не возьмешь. За что вы отбывали наказание? — Ни за что! — Все-таки? — За кражу. — Может, за ограбление кассы? — Да! Да-да! Что вы хотите от меня? Что? — Роберт снова рванулся к письменному столу, за которым сидел Зафар. — Я ни в чем не виноват! Всё! — Где ломик? — К-какой ломик? — Которым вы открывали двери и взломали сейф? — Я-ясно. — Роберт снова развалился на стуле. — Вы подозреваете меня в убийстве сторожа Каримова. Мне бы нужно было догадаться еще вчера, когда ко мне пожаловал ваш сотрудник. Наверное, вы здорово измельчали, если прибегаете к избитому приему, терроризируя тех, кто отбывал наказание. Ничего у вас не выйдет, говорю вам еще раз. — Где все-таки ломик? — Нет у меня никакого ломика. — Итак? Зафар вышел из-за стола, остановился перед Степаняном, поймал мечущийся взгляд. — Вас видели с ломиком. — Кто? — Работники гостиницы. Роберт хлопнул по коленям ладонями и захохотал, наклонившись вперед так, что едва не задел головой за край стола. — Я так и думал, что вы будете расспрашивать обо мне всех, с кем я встречался. Не было у меня никакого ломика. Вас ввели в заблуждение. Вернее, я ввел в заблуждение ваших стукачей. Нет, это чертовски забавно. Они подумали, что я приносил в номер ломик. Это был обыкновенный резиновый жгут. — Да? — Не верите? — Не кривляйтесь, Степанян, это все равно не поможет вам, — Зафар возвратился на место. — У нас есть улики, изобличающие вас. — Липовые? — Настоящие. — Предъявите! — Потерпите немного. — Потерплю. Курить можно? — Кури́те. — Благодарю. Роберт достал сигарету из портсигара, который вертел в руках, театрально похлопал по карманам, морща высокий лоб. Зафар кивнул на зажигалку, лежащую на столе. — Берите. — Вы очень любезны. Лазиз тоже закурил. Кабинет наполнился густым сизым дымом. Зафар поднял телефонную трубку и попросил НТО. — Слушаю, — послышался в трубке хрипловатый голос. — Цой? Отпечатки готовы? Принесите, пожалуйста. Цой зашел минуты через три с небольшой коричневой папкой. Он развернул ее перед Зафаром, искоса поглядывая на Степаняна. Зафар взял первый лист. На нем ясно выделялись отпечатки пальцев. Они были сняты с колхозного сейфа и с бутылки, за которую брался Роберт. Зафар сразу отметил, что отпечатки принадлежат одному и тому же человеку. Впрочем, это мог легко увидеть даже не специалист, так четко была воспроизведена каждая линия. Роберт по-прежнему внешне ничем не выдавал своего волнения. Он все так же самоуверенно посматривал по сторонам. — Где вы были вчера ночью? Вас не было в гостинице. — Есть свидетели? — Есть. Вечером, разумеется, вы никуда не уходили. Были на виду у всех. Ночью же... Возможно, вы сами скажете, где были? — Я уже сказал. — Вы были на кладбище. — Где-где? На кладбище? — Роберт снова захохотал. — Интересно, что я там делал? Беседовал с мертвецами? Зафар быстро вытащил из сейфа небольшой сверток и положил на стол, глядя на Степаняна: — Ваш? Роберт рванулся к столу, стиснул зубы так, что под скулами вздулись огромные желваки, медленно принял прежнее положение. — Вы хотите отдать мне этот сверток? — Буду откровенным: не хочу, — сказал Зафар. — Я хочу только, чтобы вы подтвердили, что он — ваш. — К сожалению, я не могу сделать этого. Не обессудьте, пожалуйста. С некоторых пор у меня отпала охота присваивать чужие вещи, даже если они имеют определенный ценный вес. — Вас вчера видел с этим свертком один человек. — Кто? — Нос. Роберт снова выдал себя — рванулся к столу: — Нос? — Да. — Чепуха! — Я устрою вам свидание. — Сделайте одолжение. Только прошу вас, сначала сводите его в баню, иначе я не могу быть с ним в одном месте. Вам, конечно, не привыкать, как говорится. Милиция! Зафар не успел ответить — Лазиз подскочил к Роберту, рывком поднял его со стула, бросил в лицо, с отвращением: — Мы сначала тебя помоем, гад! Степанян оторопело заморгал глазами. — Что вы, что вы, я ничего. К слову пришлось. Шаикрамов отвернулся — устало возвратился к Азимову. Тимур молча подбодрил его, указал глазами на стул. Зафар не думал, что Лазиз сорвется, поэтому не сразу продолжил допрос, мысленно осуждая Шаикрамова. — Итак, Нос видел вас с этим свертком. — Где? — На кладбище. — Ловко! — К Роберту возвратилась прежняя самоуверенность. — Сначала вы спросили, что я делал на кладбище, потом — мой ли это сверток, потом вы стали утверждать, что Нос видел меня с этим свертком, теперь я, наконец, узнал, где он видел меня. Интересно, что я делал с этим свертком на кладбище? Возможно, вы ответите мне на этот вопрос? — Пожалуйста. — Благодарю. — Вы прятали на кладбище деньги, которые взяли из колхозной кассы четыре дня назад. Роберт болезненно сморщился: — Дальше можете не продолжать... Неужели вы думаете, что кто-нибудь поверит этой вашей сказочке? Неужели вы считаете, что Нос имеет право давать свидетельские показания? Это подонок. Пьяница. Зафар не возмутился. Он часто допрашивал преступников, хорошо изучил финты этих «законников». Шаикрамов кипел от возмущения. Он снова то и дело вскакивал, правда, больше не прерывал допроса, не подходил к Степаняну. — У нас есть, Степанян, еще один свидетель. — Кто? — Ваш брат. — Аршавер? Какой же он свидетель, если сам... — Ну-ну, договаривайте, — попросил Зафар. — Если сам — что? Вместе с вами совершал преступления? Так? — Не ловите на слове. Зафар покопался в папке, которую принес Цой, посмотрел на Роберта, настороженно застывшего на стуле. — Подойдите сюда. — Зачем? — Подойдите, подойдите. Не стесняйтесь. — Ну? — недовольно проговорил Роберт. Он встал, вяло приблизился к Зафару. — Видите? — кивнул Зафар на лист бумаги с отпечатками пальцев. — Что? — Не узнаёте? Мы не так наивны, Степанян, как вам кажется. Мы имеем веские улики, доказывающие вашу виновность в совершении нескольких преступлений. Убийство сторожа — раз, — вышел Зафар из-за стола. — Ограбление колхозной кассы — два. Ранение участкового уполномоченного — три. — Нет, это не я ранил его, не я! — Вы, Степанян, бросьте притворяться, — повторил Зафар. — Мы не приняли версию, которую вы старались навязать нам... Анатолий Депринцев, разумеется, будет наказан. Он был связан с вами, очевидно, знал о всех ваших делах. Ему следовало бы своевременно сообщить нам об этом. — У него не было времени, — засмеялся Шаикрамов. Азимов с недоумением посмотрел на него. — Нужно было сначала пропить деньги. Меценат мог в любой момент залезть в карман. Кстати, что заставило вас изъять у этого подопытного деньги? Жадность или новый тактический ход? Роберт не ответил.32
«...Так у нас все в порядке. Особых изменений нет. Седых остепенился. Не знаю, надолго ли? Порой мне становится жалко его. Нам, очевидно, нельзя до конца понять старших. Мы все время что-то ищем в них. Что? Может быть, хотим, чтобы они, как и мы, лихо отбивали ча-ча-ча? Или подчинялись нам? Тимур по-прежнему работает в уголовном розыске города. Сейчас в отпуске. Уехал, кажется, домой, к родителям. На днях у нас был полковник Розыков. Мы сейчас расследуем одно запутанное дело. Собственно, суть не в этом. Он тепло отозвался о Тимуре. Будто у него настоящий оперативный нюх или что-то в этом роде. Тут без тебя в городе было совершено несколько магазинных краж, занимались гумовцы[51], в том числе и Тимур. Сам, как всегда, отечески суров и бодр. Он чем-то напоминает мне моего отца. Порой кажется, что я знаю его с детства. Вчера ездила на кладбище. Была на могиле Наташи. Как ты? Трудишься? Черкни несколько слов. Я до сих пор не верю, что ты уехал от нас. Каждый день, приходя в отдел, жду тебя. Это тоже, наверное, глупо? Будь счастлив. Башорат». «Башорат. Башорат». Зафар сложил вчетверо тетрадный лист, исписанный крупным ровным почерком, вложил в конверт, несколько минут сидел молча, глядя перед собой задумчивыми глазами. Он находился один в кабинете. Был час заката. Солнце, опалив пожаром грани черных туч, смотрело в окна из-за негустых деревьев. В воздухе плавали огненные пылинки. Двери, казалось, вот-вот вспыхнут жарким пламенем. Зазвенел телефон. — Говорит Автюхович. Вы свободны? — Да. — Зайдите, пожалуйста, ко мне. — Есть. Зафар осторожно положил трубку на рычаг телефона, спрятал письмо во внутренний карман пиджака, шагнул в огонь, бушевавший у двери. — Башорат. Башорат. Дверь легко подалась вперед. Из коридора в кабинет хлынула полутьма. Зафар вошел в нее и снова, должно быть, машинально повторил имя далекой сотрудницы...1964 г.
Перед вторым ударом

1
Полковник Розыков вышел из-за стола, пожал капитану Джаббарову руку, горячо сказал: — Счастливого пути, Касым Гулямович! — Спасибо, Якуб Розыкович! — Только чур: не забывай о нас. Пиши сразу, как только приедешь в Москву. Кариму берешь с собой? — Беру. Она у меня еще нигде не была. Прямо, как дикарка. Розыков еще раз пожал руку Джаббарову, дошел с ним до двери. — О работе пока забудь. Отдыхай. Передай Кариме поклон. Джаббаров вышел из кабинета начальника ОУР и неожиданно почувствовал, что никуда ехать ему не хочется. Домой не пошел — повернул в коридор, чтобы зайти проститься с товарищами. Азимов радостно улыбнулся, увидев Джаббарова. — Никак не можешь уйти? — Не могу, Тимур, — согласился Джаббаров. — Понимаешь, что-то происходит со мной. — Бывает, — сказал Азимов. Все, что нужно было решить, они решили вчера. Сегодня Джаббаров зашел в ОУР, чтобы проститься перед дорогой. Зашел на полчаса, да так и задержался до вечера. То ему казалось, что он не все еще объяснил Азимову, который принял у него дела, то, казалось, что начальник отдела не все сказал ему. Азимов неожиданно хлопнул себя ладонью по лбу: — Чего же это я молчу? Тебя Карима разыскивала. — Давно? — забеспокоился Джаббаров. Он словно увидел смуглое тонкое лицо Каримы. — Что она сказала? — Сказала, чтобы ты не остался ночевать в отделе, — снова улыбнулся Азимов. Джаббаров улыбнулся тоже: — Это она скажет. Он вышел из кабинета. Вечерело. Над городом розовели легкие тучи. Дул теплый ветер. По улицам тесным потоком шли автомашины — наступал час пик. На троллейбусной остановке толпились люди. — Привет стражу порядка! — обратился к Джаббарову мужчина лет сорока, встав на его пути. Джаббаров поднял голову: — Здравствуйте. — Ты что? Не узнал меня? Это же я! Колька Крась! Узнал? — Узнал! Джаббаров в самом деле узнал мужчину. Это был медвежатник Николай Красов. В свое время он попортил немало крови оперативникам города. Его поймали с поличным и привлекли к уголовной ответственности. — Узнал? Молодец! Может, посидим где-нибудь? А? Покалякаем о том о сем. Джаббаров посмотрел на приближающийся троллейбус, увидел нужный номер, однако с места не сдвинулся, перевел взгляд на Красова, открывающего пачку сигарет. — Когда вышел? — В январе. — Работаешь? — Подожду. Куда торопиться? Впереди вечность. Успею: намылю холку. Может, посидим все-таки? У меня сегодня питейное настроение. Не пожалеешь, клянусь! Кого-нибудь ловишь? — Ловлю. У меня должность такая, — усмехнулся Джаббаров. Он проводил взглядом еще один троллейбус. — Прописался? — Прописался. Не беспокойся. Береженого бог бережет. Зачем рисковать зря? Ты все в лейтенантах? — В лейтенантах. — Что же так? Плохо борешься с нашим братом? Поднатужься. Красов скривил губы, покачался на тонких ногах и, запустив руки в карманы, зашагал по тротуару в сторону Урды. Джаббаров вспомнил о своем «подопечном» Иване Рябцеве, пропустил очередной троллейбус и тоже зашагал по тротуару — только в другую сторону, к скверу Революции. Рябцев жил в двухкомнатной квартире на улице Карла Маркса. Он обрадовался, увидев Джаббарова, усадил на диван, заходил по комнате, не скрывая волнения. Обрадовалась и жена Рябцева. Она тут же ушла на кухню, чтобы поставить чайник на газовую плиту и приготовить ужин. — По гроб жизни не забуду вашу помощь, Касым Гулямович, — сказал Рябцев. Джаббаров тоже величал бывшего карманника по имени-отчеству, говорил, что у него все лучшее еще впереди и что он еще сослужит добрую службу народу. Жена Рябцева была другого склада. Она пренебрегала «выканьем» и смеялась над «излишней вежливостью» двух «вполне взрослых мужчин», замечая нередко с любовью: —Чумовые вы, ей-богу, чумовые! Не нашлось у нее других слов и сегодня. — Ты, Настасья Ивановна, помалкивай, — притворно-грозно предупредил Рябцев. — У нас с Касымом Гулямовичем — особые отношения. Тебе, по твоей бабьей натуре, этого сроду не понять. — Где уж мне понять. Только ты у меня можешь все понять. Министр! — Ладно тебе. Джаббаров невольно вспомнил время, когда впервые встретился с Рябцевым. Тогда это был другой человек: замкнутый, ненавидящий всех, кто пытался учить его уму-разуму. Он не стыдился ни крепких слов, ни плохих поступков. Мир представлялся ему скопищем бездельников и болтунов. Особенно озлобляли его встречи с работниками кадров, которые не принимали его на работу, узнав, что он вышел из заключения. — Бюрократы! Заелись! Так вашу!.. Джаббаров сердился: — Ведите себя прилично, Рябцев! Вы же взрослый человек! Честное слово, мне стыдно за вас. Неужели вы не понимаете этого? Рябцев вел себя прилично до следующей встречи... с кадровиками. — Касым, что же ты так плохо ешь? — прервала Анастасия Ивановна мысли Джаббарова. — Ты попробуй мои вареники. Попробуй, попробуй. Плов-то, поди, надоел? Или он, как у нас, картошка: в еде главный? Моя покойная матушка говаривала о картошке: варишь её, печешь её, жаришь её, всюду — она. Без неё — никуда!2
Карима с упреком посмотрела на мужа, приближавшегося к дому. На ней было темное платье, туго обтягивающее тонкую стройную фигуру, черные туфли на высоких каблуках. Она стояла у калитки под старым ветвистым дубом. — Ты что? В гости собралась? — Да. Джаббаров забеспокоился: уловил в голосе жены печаль. — Что с тобой? — Ничего. — Не обманывай! — Чудак! Она прошла в дом. Он догнал ее, взял за руки, повернул к себе: — Пойдем в кино? У неё дрогнули губы: — С ума сошел! Кто же сейчас ходит в кино? У нас есть телевизор. — Пойдем! Улица встретила молодых супругов тихим шелестом листвы, ярким светом электрических фонарей, далеким неумолчным гулом большого города, провалом бездонного темного неба. Они долго шли молча прямо посередине улицы, занятые только друг другом. Карима простила мужу поздний приход. Не могла она долго сердиться на него — понимала, что сегодня ему нужно было побывать у друзей, решить с ними необходимые вопросы. Он уходил в отпуск на два месяца. — Что волнует тебя, Карима? — Ничего... Ты! — Я? Чудачка! Они замедлили шаги и снова долго молчали. Впереди по-прежнему весело перемигивались фонари, вокруг все так же тихо о чем-то своем шелестела листва, вверху таким же загадочным провалом темнело небо.Ночью Джаббаров проснулся от неясной тревоги. Он полежал некоторое время, глядя на застывшие силуэты мебели, едва вырисовывающиеся на фоне белой стены, тихонько поднялся и вышел во двор. Светало. Звезды, будто испуганные светлячки, пронизывали пространство слабыми лучиками. Глубокая тишина сковывала дома и деревья. Джаббаров закурил и, повернувшись к калитке, изумленно вскинул голову. Впереди, как грозовой всполох, поднялось огромное розовое зарево. Под ногами что-то загрохотало и покатилось куда-то вниз. «Что это?» — огляделся Джаббаров. Страшный толчок, последовавший тут же, отшвырнул его к дереву. Он схватился за оголенную ветвь, с трудом удержался на ногах, рванулся к двери. — Карима! Голос жены потонул в страшном грохоте: — Касымджан! Налетел ветер. Унес пыль, взметнувшуюся к небу желтым столбом. Обнажил дом. «Что это?» — снова застыл на месте Джаббаров. Дома, собственно, уже не было. Было покосившееся глинобитное сооружение из трех стен. Четвертая стена валялась рядом с искореженной дверью. — Карима?! — А-а-а-а-а! — отозвалось эхо. Джаббаров кинулся к пролому, перелез через груды кирпичей в комнату, метнулся, будто помешанный, к кровати. Жены на кровати не было. — Ка-арима?! — Ка-асымджан?! Они встретились в темноте. Она еле держалась на ногах. Он поднял ее и, осторожно ступая, вынес из комнаты во двор. — Пусти. У него не нашлось слов ответить ей. Он остановился на миг у дерева, прислушиваясь к голосам, доносившимся из-за дувала. — Что это было? — Землетрясение. — Землетрясение? — У нее расширились глаза от ужаса. — Касым, у наших, наверно, дом тоже развалился? Может быть... Она не решилась сказать то, что готово было сорваться с языка. — Не беспокойся, пожалуйста. Янгишахар далеко. Твои родители живы. Эпицентр где-то здесь. Возможно, даже под городом. Не беспокойся. Родители живы. Я уверен. — Уверен? Это землетрясение, Касым! — Пожалуйста, не беспокойся. Отдохни... Отдохни, Карима, прошу тебя. Он говорил спокойно, словно был уверен в том, что с родными жены ничего не случилось. Однако у него так же, как и у нее, было тревожно на душе. Ему хотелось сейчас же бросить все и полететь в Янгишахар. Они вышли на улицу. На улице толпились соседи. В воздухе стоял все усиливающийся гул потревоженного города. Беспокойно, с надрывом лаяли собаки. Кто-то совсем рядом голосил истошно: — Вай дот, вай дот, вай дот! Джаббаров остановился — к нему сразу со всех сторон кинулись люди: в пижамах, в трусах, босиком. — Касым-ака, что же это? Что, Касым-ака? Землетрясение, да? Землетрясение? Скажи, как быть? Что делать? Что, Касым-ака? Джаббаров посмотрел на женщину, которая требовала ответа, внимательно оглядел собравшихся соседей. Они, по-видимому, ждали слова поддержки, помощи от него. — Землетрясение, Халида-апа. — Землетрясение? Ты не ошибаешься? — Нет. — Слава аллаху! Я думала — война, — молитвенно сложила руки женщина. У нее было темное, землистое лицо. — Слава аллаху! — Стихия, — дрогнувшим голосом произнес юноша в очках, стоявший рядом с ней. — Стихия? — переспросил старик в чалме. — Ты еще юн говорить о таких вещах... Правоверные, всё в руках аллаха! — обратился старик к людям. — Аллах разгневался и наказал нас! Идите в мечеть, правоверные. Молитесь. — Отец, что вы такое говорите. Как можно? — сказал юноша. Старик выступил вперед, вскинул руки к небу: — Аллах не простит нас, если мы не покаемся. Обрушит на нас новые беды. В толпе зароптали. Послышались разноречивые голоса. Загудел ветер в проводах, пересекающих улицу. Юноша стал успокаивать старушку, причитающую рядом. — Это землетрясение, биби, понимаете, землетрясение! — Все в руках аллаха, сын мой. Как он захочет, так и будет. Достопочтенный Садык-бобо прав. Позабыли мы обычаи своих предков, вот аллах и покарал нас. Джаббаров сжал локоть жены. — Пошли, Карима. — Пошли. Толпа притихла. Над полуразрушенными дувалами и домами повисла звонкая тишина. — Скажи что-нибудь, Касым! Джаббаров снова сжал локоть жены, словно поблагодарил за совет, остановился и, повернувшись, посмотрел на старика в чалме. — Я думаю, что вам лучше поговорить с аллахом с глазу на глаз. Оставьте соседей в покое. У них сейчас и без вас немало хлопот. Идите, товарищи, по домам. Скоро на работу. Еще опоздаете. Через несколько минут улица опустела.
3
Город гудел. Полыхало за деревьями зарево. В домах то вспыхивали, то потухали испуганные огни. По-прежнему надсадно лаяли собаки. Люди выбегали из калиток, торопливо шли вдоль глинобитных дувалов к высокому административному зданию. За ним была площадь. В нее, как реки, вливались улицы. — Слышишь? Трамвай. Джаббаров услышал скрежет колес, доносившийся издалека. Мимо проехали одна за другой две «Волги», переполненные пассажирами. Потом неожиданно появился из-за поворота троллейбус, почти пустой. Джаббаров проводил его взглядом и неожиданно замер, будто натолкнулся на невидимое препятствие: к магазину, стоявшему под высокими деревьями, пригнувшись, бежали два человека. — Подожди. Я сейчас. Карима не успела ответить. Джаббаров резко повернулся, перепрыгнул через широкий арык и, задержавшись на мгновение, кинулся к магазину. — Касым, наш автобус! — крикнула Карима. Магазин был залит светом электрических ламп. На его желтых стенах темнели глубокие неровные трещины. Деревянные двери перекосились и, казалось, чудом держались на петлях. Из витрин с разбитыми стеклами выглядывали товары. Джаббаров подбежал к этим двоим, уже находившимся у магазина. У одного чернел на шее бугристый рубец, должно быть, след от ножа, другой, судя по всему, накурился анаши — смотрел безумным, отсутствующим взглядом. — Я постою на атанде, а ты поработай, — тоном приказа сказал тот, что с рубцом. У Джаббарова привычно сжались кулаки, однако он сдержался, огляделся, надеясь, что его заметит кто-нибудь и придет к нему на помощь. — Что будешь делать? — спросил мужчина с рубцом. — Темнота, — махнул рукой анашист. — Видишь дыры? — Он указал на разбитые окна. — Бери хрусталь, часы, сапоги... Понял? — Понял, — жадно повторил первый, тот, что был с рубцом. — В общем, давай, действуй, пока мусор не привалил. Я дам знать, если что. Только бери самое ценное. Не мельчи. Он быстро юркнул под навес небольшого сооружения, стоявшего в стороне, застыл у стены, напряженно поглядывая на прохожих. Анашист шагнул к разбитому окну. — Подожди, — сказал Джаббаров. — Что случилось? — Тебе придется «поработать» в другом месте. Я — сотрудник уголовного розыска. — Кто? Ты? — Глаза анашиста налились кровью. — Брось пугать честных людей. Джаббаров резко схватил грабителя за руку, когда он потянулся к окну, с силой завернул за спину. Грабитель мгновенно присел, крикнул сообщнику, страшно скаля зубы: — Чего стоишь? Бей гада! Однако сообщник не откликнулся — метнулся за строение и, перебежав улицу, скрылся за полуразрушенной кирпичной стеной. — Предал, сволочь, — зло выругался анашист. — Пусти, слышь, пусти! Джаббаров огляделся — к магазину спешили люди. Среди них увидел жену. «Подкрепление ведет... Карима, Карима. Трудно тебе со мной». Грабитель, должно быть, тоже понял, что к его неожиданному противнику идет подкрепление. Это ничего хорошего не сулило ему, поэтому он решил поиграть на чувствах толпы — зло взглянул на Джаббарова и закричал: — Задержите этого гада, граждане! Он пытался ограбить магазин. К счастью, я успел. Задержите, граждане! — Не старайся, — предупредил Джаббаров. — Заговорил, заговорил... Задержите его, граждане. На нашей беде решил нажиться... А-а-а, пусти руку! Пусти руку, слышь? Граждане, что же это получается? Почему вы стоите? Граждане?! — Не надрывайся! Джаббаров оттолкнул от себя грабителя в руки подступивших людей, достал из кармана удостоверение, показал людям: — Я из уголовного розыска... — Молчи, — подошел к грабителю мужчина лет пятидесяти. — Дай ему хорошенько, Денис Макарыч, — крикнул из толпы старик с короткой белой бородой. — Дай ему, гадюке ползучей! Мужчина, очевидно, не нуждался в совете — он наотмашь ударил грабителя по лицу и возвратился на место. Грабитель схватился грязными руками за окровавленный рот, подскочил к Джаббарову, сжался в комок, не сводя с людей испуганных глаз. — Ты еще дай ему, Денис Макарыч, — снова посоветовал старик. — Раньше за такие вещи к стенке ставили. — Поставим и сейчас, не сомневайся. Джаббаров поднял руку, увидев отделившихся от толпы двоих рослых парней, которые, судя по всему, собирались «поставить к стенке» грабителя. — Прошу вас, товарищи, успокойтесь! Мы накажем его... Карима, побудь здесь. Я съезжу в отдел. Отвезу его. Карима растерянно огляделась: — Как же я одна? — Почему одна? Смотри, сколько у тебя помощников. — Убирай его отсюда, убирай, — сказал мужчина. — Мы подежурим здесь, у магазина. Не тревожься. Джаббаров толкнул грабителя в спину: — Пошли! — Возвращайся скорее, — попросила Карима. Джаббаров повел грабителя через улицу. Из переулка минуты через полторы на большой скорости выехала машина и резко затормозила на перекрестке. В дверцах машины показался Рябцев. — Касым Гулямович, доброе утро! Как у вас? — Здравствуйте, Иван Семенович, — остановился Джаббаров, не выпуская руку грабителя. — Настасья Ивановна выгнала из дому. Езжай, говорит, к Касыму Гулямовичу. Может, говорит, помощь нужна. Дом, говорит, может развалился, так к нам вези. — Дом у меня, конечно, уже не дом: три стены да крыша. Не об этом сейчас речь — активизировались нечестные люди. Уже растопырили карманы — ищут, где что плохо лежит. — Что вы говорите, Касым Гулямович? Неужели? Рябцев быстро повернулся к спутнику Джаббарова. Джаббаров приподнял руку. — Это один из охотников. Пытался ограбить магазин. Рябцев сразу шагнул к грабителю: — Что же ты, падла, делаешь? Может, не знаешь, какая беда обрушилась на город? Чего рыло воротишь? Касым Гулямович, разрешите съездить ему один раз по фотографии? В порядке профилактики. — Отойди, отойди, — неожиданно заорал грабитель, видя, что Рябцев намеревается выполнить угрозу, не дожидаясь разрешения. — Не марайте рук, Иван Семенович... Давайте его сюда, товарищ, — обратился шофер к Джаббарову. — Нечего ему по городу разгуливать. Джаббаров сел с грабителем в машину, однако тут же вышел, отозвал Рябцева в сторону, попросил: — Иван Семенович, пожалуйста, позвоните в Янгишахар, к родителям Каримы. Узнайте, все ли у них в порядке. Мы шли на переговорный пункт. Немножко не дошли, как видишь. — Не тревожьтесь, Касым Гулямович, я все сделаю... Вы думаете, что землетрясение в Янгишахаре тоже... — Рябцев не договорил, схватил Джаббарова за руку. — Где? Карима? Вы что-то скрываете? Да? — Ничего с ней не случилось. Она у магазина, охраняет... Подождите, может быть, мы сделаем наоборот, — оживился Джаббаров. — Вы подежурите у магазина, а она пойдет на переговорный пункт. Как это я сразу не догадался. Или вы заняты? — Нет. — В таком случае, не медлите, идите... Идите, идите, Иван Семенович, у нас нет времени. Ну? — Куда? — будто не понял Рябцев. Джаббаров хотел показать, как пройти к магазину, однако, встретившись взглядом с Рябцевым, невольно сделал шаг назад, увидев безвольное, испуганное лицо Рябцева. — Брось, Иван Семенович, слышишь, брось! — перешел Джаббаров на «ты». — Иди. Скажи Кариме, чтобы шла на переговорный пункт. — Касым Гулямович... Касым Гулямович... — Что это с ним? — спросил шофер, когда Рябцев наконец побежал к магазину. Джаббаров обернулся, сказал шоферу: — Вспомнил юность... Поехали. — В ГУМ[52]? — Да. «Волга» рванулась с места и вскоре затерялась в потоке машин. Из нее хорошо просматривались покосившиеся дувалы и потрескавшиеся дома. Над городом вставало жаркое апрельское солнце, подернутое свинцовым туманом.4
В отделе было шумно. Сотрудники обходили кабинеты, рассматривали трещины, появившиеся на стенах, громко комментируя последние события. Повсюду валялись кирпичи, разбитые графины и люстры. Воздух был насыщен запахом пыли, которая густым слоем покрывала полы, столы, шкафы, подоконники, стулья. С потолков свисали оголившиеся провода и искореженные фанерные листы. Слышались возбужденные голоса. Вспыхивали короткие горячие споры. — Здорово все-таки тряхнуло. — Я не хотел бы находиться здесь в пять двадцать шесть[53]. Бррр! — У тебя дома было лучше? — Ни одной трещины. Кроме, разумеется, вывалившейся стены. Это же сущий пустяк! — Есть ли жертвы, не слышали? — Наверное, есть. — Теперь к нам не только энтузиасты-строители приедут, пожалуй, но и кое-кто из тех, кто неравнодушен к чужому добру. — Видели? Джаббаров уже привел одного субъекта. Джаббаров в это время переступил порог кабинета начальника отдела. Розыков сидел у приставного стола и хмуро тер щетинистый подбородок, глядя на сотрудников, сидевших напротив. «Забыл побриться, — отметил про себя Джаббаров. — Этого никогда не случалось с ним». — Джаббаров? Прибыл? — поднял голову Розыков. — Садись... Надеюсь, у тебя все в порядке? — Да. — Джаббаров сел на диван, стоявший у стены. — У меня, к сожалению, дом потрескался, — сказал Розыков. — Сейчас жена с детьми подпорки ставят. — Если еще раз тряхнет так же, то никакие подпорки не помогут, — заметил Азимов. Он сидел около полковника, подтянутый, в темно-синем полувоенном костюме. Его черные усы, как всегда, были аккуратно подстрижены. — Не паникуй, Тимур Назарович, — вскинул глаза Розыков. — У меня нет оснований для паники. Я живу на Чиланзаре. Знаете, какие у нас дома? — прищурился Азимов. — Даю голову на отсечение — двенадцать баллов выдержат. Последнее слово техники. — Ладно, — встал Розыков. — О личных переживаниях и впечатлениях поговорим в более благоприятное время. Сейчас за работу, товарищи. Только не увлекайтесь. Помните, сейчас от каждого из нас требуется максимум сил. Касым Гулямович, разве вы еще не уехали? — словно впервые заметил начальник отдела Джаббарова. — Вы же говорили, что уезжаете рано утром. — Мой поезд уже ушел, — посмотрел Джаббаров на часы. — Карима уехала? — Звонит к родителям в Янгишахар... Мы не поедем, Якуб Розыкович. Я не могу, ну вот так не могу! Отдохнем после. Когда земля успокоится. — Боюсь, что вам придется долго ждать, — улыбнулся Азимов. — Подождем. Зазвенел телефон. Розыков повернулся к нему, как к живому существу, и, помедлив мгновение, потянулся к трубке. — Розыков слушает... Что? Да-да! Обязательно... Спасибо, у меня все в порядке. Желаю успеха. Офицеры, будто по команде, проследили за рукой начальника отдела, державшего некоторое время руку над рычагом аппарата, потом одновременно посмотрели на его изменившееся лицо. — На Асакинской кража! — Началось, — тяжело вздохнул Григорьев. — Преступление было совершено до землетрясения, товарищ Григорьев, — сказал Розыков. — Товарищ младший лейтенант, — обратился полковник к Батраеву, — займитесь этим делом. Предварительно свяжитесь с дежурным по городу. Сообщение о краже поступило к нему. Вечером доложите обстановку. — Есть! Разрешите идти? — вытянулся Батраев. — Да. Младший лейтенант вышел. Снова зазвенел телефон. Розыков выждал немного, затем взял трубку. — Слушаю... Здравствуйте, Джура Касымович... Хорошо. Хорошо-хорошо. Офицеры переглянулись: звонил начальник управления милиции. Он отдыхал в санатории, находящемся недалеко от Ташкента. — Спасибо, Джура Касымович. Не беспокойтесь, мы не подведем... Приступайте к работе, товарищи. — Розыков положил трубку, оглядел вытянувшихся офицеров. — Меня вызывает комиссар. — В санаторий? — настороженно спросил Азимов. — Почему в санаторий? Комиссар у себя.5
Джаббаров прошел вместе с Азимовым в кабинет. — Да, здорово тряхнуло, — Азимов посмотрел на осколки плафонов, валявшиеся на полу, остановился посредине кабинета. — Ты что собираешься делать? Примешь руководство? Или все-таки уедешь в Москву? — Приму... Только не сейчас, Тимур, — поднял руку Джаббаров, видя, как потянулся Азимов к сейфу. — Я в отпуске. Разве ты забыл? Через два месяца, пожалуйста, я к твоим услугам. — Ты что? Не будешь работать? — Буду. — Не понимаю. — Командуй парадом ты, я похожу в рядовых. Только прошу, сегодня не загружай меня. Постарайся обойтись наличными силами. Я сначала устрою некоторые домашние дела. Кстати, ты не знаешь, где будут давать палатки? — В райисполкоме. — Туда я и направлюсь. — Послушай, Касым. Может быть, вам лучше пока перейти ко мне, — предложил Азимов. — Правда, у меня не хоромы. Однако за прочность дома ручаюсь. Вам мешать не буду. — Спасибо, Тимур, — поблагодарил Джаббаров. — Если мне придется туго, то я с радостью обращусь к тебе. В кабинет заглянула секретарша Розыкова — Машенька. — Касым Гулямович, к телефону. — Кто? — невольно подался вперед Джаббаров. — Жена. — Спасибо, Машенька. — Пожалуйста. В приемной хозяйствовало солнце. Оно будто специально заглянуло сюда, чтобы подбодрить Джаббарова. Джаббаров некоторое время молча прислушивался к хрипам, которые доносились из трубки, затем среди этих хрипов раздался голос Каримы, снимая с лица Джаббарова заботливые морщины. — У них все в порядке, Касым, родной, не беспокойся. Толчок был слабый — всего два балла. Папа выехал к нам. Мама передает тебе поклон... Касым, ты почему молчишь? — Слушаю, Карима. Говори, говори! В трубку хлынул поток встревоженных слов. — Ты что будешь делать, Касым? Останешься в отделе или поедешь домой? Послушай, не забудь дать телеграмму в Москву. Друзья будут беспокоиться. Сообщи, что мы живы и здоровы. В общем, сам знаешь. Касым, родной, если можешь, приезжай поскорее домой. — Хорошо, Карима. Машенька вопросительно посмотрела на Джаббарова. «Что это с ним? — подумала она. — Может быть, с родными что-нибудь случилось?» — У вас все в порядке, Касым Гулямович? — Все в порядке, Машенька. До свидания. — До свидания. Азимов ждал Джаббарова. Когда он вернулся — прикрыл окно и забарабанил пальцами по столу, следя за солнечным зайчиком, дрожавшим на оголенной сырцовой стене. Джаббаров заметил это и невольно улыбнулся. — Никто не спрашивал меня? — Нет, — сказал Азимов. — Карима звонила. В Янгишахаре все в порядке. — Я знаю. — Звонил? — Утром. Говорил с Голиковым. До родителей не дозвонился. Он проведает... Потом я позвоню еще. Ты иди домой. Приведи свое хозяйство в порядок. Будешь нужен — позовем. — Хорошо, — улыбнулся Джаббаров. — Между прочим, как бы поступил ты, если бы оказался на моем месте? Только не криви душой, пожалуйста. — Я бы уехал в Москву. — Да ну? — Уехал бы. — Неужели действительно уехал бы? Фу, дьявол, — увидел Джаббаров в глазах Азимова смешинки. — Как тебе не надоело портить людям нервы! Не понимаю. — Состаришься — поймешь, — сказал Азимов.6
На третий день после землетрясения в отдел поступило сообщение об ограблении квартиры. Полковник поручил расследование этого преступления Азимову и Джаббарову. Они немедленно выехали на место происшествия. Дом барачного типа встретил работников милиции глухой тишиной. Около него на проезжей части улицы стояли армейские палатки. Во дворе, у каждой двери, возвышались горы домашнего скарба: шифоньеры, тумбочки, столы, стулья, кровати. Из открытых окон выглядывали телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, аквариумы. На крутой глиняной возвышенности, желтевшей у дощатого забора, стоял деревянный идол. Джаббаров невольно залюбовался творением неизвестного мастера: подошел к идолу, словно приехал сюда только для того, чтобы увидеть его. Азимов попросил проводника служебно-розыскной собаки старшину Гафурова оставаться пока на месте. Квартира, из которой были похищены вещи, находилась в середине дома. Хозяйка квартиры увидела работников милиции, когда они подходили к крыльцу, молча открыла двери и отступила в сторону. — Вы Королева Анна Дементьевна? — спросил Азимов. — Да. — У вас произошла кража? — Да. В квартире ничего не напоминало о краже — всюду царил порядок. Полукруглый стол покрывала белоснежная скатерть, на окнах висели голубоватые прозрачные занавески, у кровати, покрытой шелковым зеленым покрывалом, стоял торшер. Рядом с ним, на тумбочке, белел бюст Чайковского. В углу чернел тяжелый гранитный четырехугольник. На нем четко обозначался желтоватый круг. — Что было на этом четырехугольнике? — поинтересовался Азимов. Он стоял у двери, задумчиво пощипывая левой рукой усы. — Идол, — с неохотой отозвалась Королева. — Это он во дворе? — Да. — Вы вынесли его? — Да. — Это было необходимо? — Трясет. Азимов быстро взглянул на Королеву. Слишком много горечи было в слове «трясет». — После того, как вас обокрали, вы убирали в квартире? — спросил Азимов. — Убирала. — Жаль. — Простите, я не знала. Здесь был такой беспорядок. Неприятно. «Неприятно, — подумал Азимов. — Попробуй теперь, найди нужные следы». — У вас кто-нибудь был сегодня? — Был... Нет-нет, в квартире никого не было, — поспешно добавила Королева. — Не беспокойтесь, пожалуйста. — Спасибо. — Азимов подождал секунду-другую, решая, как быть дальше, затем повернулся к проводнику, застывшему у двери с овчаркой. — Товарищ старшина, прошу вас! — Есть, товарищ лейтенант! Гафуров натянул поводок — овчарка взглянула на него, навострила уши, вытянулась, будто увидела впереди человека, осквернившего квартиру своим присутствием. Гафуров подвел овчарку к шифоньеру, открыл дверцы, приказал строго: — След! След, Найда! Овчарка обнюхала вещи, находящиеся в шифоньере, прошла к трельяжу, замерла у места, где стоял гранитный четырехугольник, рванулась к двери, резко обогнув стул. Гафуров подбодрил: — Молодец, Найда! Молодец! Азимов тронул за рукав практиканта Аденина, прибывшего с Гафуровым, кивнул на дверь: — Действуй! — Есть, товарищ лейтенант! Аденин лихо козырнул и, круто повернувшись, вышел из комнаты. Азимов невольно улыбнулся — вспомнил себя, таким же вот желторотиком, самоуверенным и наивным, попортившим немало крови капитану Сорокину. Гафуров встретил Аденина вопросом: — Бегать умеешь? — Умею! — Не отставай... Найда, след! След! Овчарка натянула поводок. Через несколько минут Гафуров и Аденин обогнули возвышение во дворе, на котором стоял идол, пересекли двор и, выйдя на улицу, устремились вслед за овчаркой в узкий переулок, ведущий к стадиону «Динамо». Около квартиры Королевой собрались люди.7
— Подождите, подождите! Говорите по очереди! Давайте начнем с вас... Пожалуйста, товарищ! Мужчина, на которого смотрел Джаббаров, только что кричавший громче всех, внезапно умолк, словно воды в рот набрал. Азимов видя, что Джаббаров попал в затруднительное положение, проговорил, покалывая мужчину насмешливым острым взглядом: — Что же вы испугались? Говорите! Ваше показание может помочь. Судя по всему, вы опытный поборник истины. Это делает вам честь. Вы видели преступника? Мужчина не успел ответить: из толпы выделилась полная, пожилая женщина. Она приблизилась к мужчине и запальчиво произнесла, уперев руки в бока: — Опять молчишь? Давеча тоже молчал? Почему ты не задержал ворюгу? Испугался? — Ты, Авдотья, не очень-то командуй! — оскорбился мужчина. — Сама бы задерживала! Ручищи вон какие! Ударом любого мужика свалишь! — Да ты что! Бабье ли дело ворюг задерживать? — Вернемся к преступнику, — прервал перепалку Азимов. Джаббаров молчал. Он стоял рядом и глядел на собравшихся внимательными прищуренными глазами. Это повторялось всякий раз, когда рядом с ним оказывался Азимов. Азимов мысленно благодарил его за это, брал «вожжи в свои руки» и торопил события, боясь упустить момент. — Пусть она расскажет о нем, — указал старик, оказавшийся рядом с пожилой женщиной. — Глаза у нее острые, как у кошки. Все видит. — Не умею я рассказывать, — неожиданно смутилась женщина. — У него лучше получится, — кивнула она на мужчину, с которым только что повздорила.В полдень во дворе появился высокий блондин лет тридцати с коричневым чемоданом в руке. Он неторопливо подошел к водопроводной колонке, напился спокойно, точно был в собственном дворе, посмотрел вокруг и направился к подъезду, в котором жила Королева. Многие знали, что она в это время на работе, однако никто не придал этому особого значения: уверенность незнакомца загипнотизировала людей. Молча, пожалуй, даже с любопытством, наблюдали они за ним и тогда, когда он вышел из квартиры Королевой. Все были подняты на ноги позже — после того, как сын Королевой, вернувшись из школы, обнаружил на столе записку с таким текстом:
«Уважаемые хозяева, прошу извинить меня за экспроприацию некоторых ваших вещей. Если мне удастся разбогатеть, то я не останусь в долгу. Если же судьба не смилостивится надо мной, то вам придется экспроприированные вещи купить снова. С искренним уважением...»Далее следовала непонятная подпись-закорючка. — Всё? — Что же еще? — Женщина посмотрела на Азимова, словно удивилась, услышав его вопрос. — Как был одет блондин? — Просто. — Может, уточните? — В костюме он был, товарищ начальник, — сказал мужчина. — В коричневом. В шляпе, конечно. Тоже в коричневой. В туфлях, черных, узконосых. Это я хорошо запомнил, на днях купил себе такие туфли. В новом универмаге. Около гостиницы «Ташкент». — Когда купил-то? Когда пьяный приплелся, что ли? — насмешливо поинтересовалась женщина.
Азимов и Джаббаров отошли в сторону и некоторое время молча смотрели на идола, темневшего на стальном фоне неба. К ним вскоре подошла Королева. Она устало вскинула на Джаббарова глаза, спросила тихим извиняющимся голосом: — Найдете... вещи? Джаббаров ответил не сразу. Подождал минуту, словно решал: быть откровенным с потерпевшей или не быть? Он тоже беспомощно сузил плечи. — Найдем... вора. — Вора? — повторила Королева. — Зачем мне вор? Вы найдите мне вещи. Даже не все. Не надо все. Найдите статуэтку Лепешинской. Боже мой, откуда у нас берутся такие люди? — Не расстраивайтесь. Мы используем все наши возможности. — Спасибо. Королева пошла к себе. Джаббаров и Азимов направились к машине, стоявшей у дома, недалеко от калитки. — Поехали? — Поехали, — сказал Джаббаров, не глядя на шофера. Он сел на заднее сиденье, распахнул перед Азимовым дверцу. — Прошу, маэстро! — Вы очень любезны, — расправил усы Тимур. Через полчаса они подъезжали к площади имени Пушкина.
8
— След, Найда! След! Овчарка тревожно нюхала землю, кружилась на одном месте, заискивающе глядя на людей. — След, Найда! След! Гафуров и Аденин находились напротив арки стадиона «Динамо». Позади них шумела многолюдная Ново-Московская улица. В небе собирались тучи — тяжелые, обложные, с иссиня-черными краями внизу. — Найда, след! След! Овчарка ткнулась еще несколько раз в выбоины на земле и снова заискивающе посмотрела на людей. Гафуров ослабил поводок, поняв, что овчарка потеряла след. — Всё! — Попробуйте еще раз, — предложил Аденин. — Бесполезно. Вор, по-видимому, здесь остановил машину и уехал, — сказал Гафуров. — Вы уходите? — Моя миссия, к сожалению, окончена. — Возможно, поможете мне? — Чем? — Давайте осмотрим стадион. Это займет немного времени, — поспешил заверить Аденин Гафурова. — Дело не во времени. Уехал вор, понимаете? Если бы он направился на стадион, то Найда привела бы нас к нему. Это как дважды два. Я хорошо знаю ее. Не первый год работаем вместе. — Ладно. Я осмотрю один. — Подождите. Какие-то вы, оперативники, ненормальные... Пойдем, Найда, — обратился Гафуров к овчарке. — Поможем этому юному Пинкертону. Может, действительно, снова нападем на след. Чем черт не шутит. — Спасибо, — поблагодарил Аденин. Через два часа они возвратились на Ново-Московскую. Найда не оправдала надежд курсанта — не напала на след вора. Аденин нервничал. Гафуров, напротив, торжествовал. Он был рад, что Найда «не разбрасывается» — вернулась к прежнему следу. — До свидания, — вздохнул Аденин. — Ты остаешься здесь? — Я должен найти преступника. — Как хочешь... Найда, пойдем. — Гафуров прошел несколько метров вдоль арыка, неторопливо обернулся. — Может, пойдешь со мной? Только зря время потратишь. Вор уехал на машине. Он сейчас где-нибудь на другом конце города. — Знаешь пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»? — Ну? — Я отмерю сто раз, только свое дело выполню точно, без зазубринок. Уловил? — Уловил. Оставшись один, Аденин довольно долго стоял у плакучей ивы, глядя на мутные воды Салара. Неспокойно было у него на душе. Он перебирал в памяти аналогичные дела, прослушанные в школе милиции, взвешивал и анализировал. Впрочем, возможно, Гафуров прав: преступник действительно уехал на попутной машине. Возможно, Азимов и Джаббаров уже задержали его и доставили в отдел? Аденин круто повернулся и почти побежал к зданию дирекции стадиона. — Я из угрозыска, — представился он симпатичной крашеной секретарше. — Разрешите воспользоваться вашим телефоном? — Пожалуйста, — с опаской отодвинулась от телефона секретарша. Ответила Машенька. Нет, ни старшего оперуполномоченного, ни оперуполномоченного в отделе еще не было. Они тоже звонили и спрашивали, не было ли известий от практиканта Аденина. — Серьезно? — Серьезно. Так что ты давай знать о себе, — сказала Машенька. — Может, ты уже напал на след? — Нет, что вы, Мария Демидовна! — Не отчаивайся. У тебя всё впереди. Какие твои годы. Ты еще поймаешь свою жар-птицу. Только не спеши. До свидания. — До свидания. Аденин вышел на улицу несколько ободренный разговором с Машенькой. В самом деле, для отчаяния у него не было никаких оснований. К тому же у Джаббарова и у Азимова тоже не все клеилось. Преступник знал, на что шел и, конечно, сделал все, чтобы замести следы. Нужно только по-настоящему взять себя в руки и продолжить поиск — нераскрытых преступлений не бывает. Об этом не раз говорили на уроках криминалистики. Должно быть, судьба все-таки смилостивилась над практикантом. Когда Аденин решил покинуть стадион, то увидел у старого вяза, на берегу Салара, молодого человека с коричневым чемоданом. Молодой человек сидел на траве, прислонившись спиной к дереву, держа правую руку на коричневом чемодане. — Ваши документы? — строго спросил Аденин. — Документы? Пожалуйста, — встал молодой человек. — Только вы не думайте... ничего такого. Я уеду сегодня же. Увидите. Он торопливо зашарил по карманам, напряженно хмуря лоб. По его длинной бледной шее поползли крупные капли пота. — Так, так, — просмотрел паспорт Аденин. — Не прописан. Судим. Так, так. Фамилия? — Балов. — Балов. Правильно. Имя? — Аркадий. — Отчество? — Аркадьевич. — Аркадий Аркадьевич, значит, — криво усмехнулся Аденин. — Так, так. Вполне возможно. Ничего, как говорится, не имею против. Что в чемодане? — Вещи. — Чьи? — Мои. — Откройте. — Чемодан? — Нет, рот! — закричал Аденин. — Ты мне брось эти штучки! Я тебя насквозь вижу! Советую быть откровенным. Иначе снова окажешься там, откуда пожаловал. Ясно? — Ясно... Пожалуйста. Балов открыл чемодан. Вверху лежала яркая желтая косынка. Аденин удовлетворенно присвистнул, бросив на Балова насмешливый взгляд. — Косынка тоже твоя? — Моя... Собственно... — Вот именно: собственно... Можешь не продолжать дальше, — милостиво разрешил курсант. — Давно на стадионе? — Нет. Только что пришел. Хотел искупаться. — В такой холод? — Я привык. — На Колыме? — На Колыме... Тебе-то какое дело? — внезапно озлился Балов. — Чего ты прицепился ко мне, как банный лист? Что я тебе сделал? Может, хочешь пришить какое-нибудь дело? Аденин стоял, как бог, уверенный в себе, в своей непогрешимости. Он откровенно любовался вспышкой Балова и с удовольствием слушал его, не вникая, впрочем, в суть. — Закрывай чемодан, пошли. — Пошли, — с прежним ожесточением сказал Балов. — Только не вздумай бежать. — Аденин расправил китель, потрогал погоны. — Уловил? — Уловил. Можешь не беспокоиться. Не убегу. — Молодец. Знаешь, с кем имеешь дело. Кстати, где «фомич»? — Какой «фомич»? — Которым ты взламывал дверь? В чемодане или выбросил? Я слушаю. Ну? Чего же ты молчишь? А, Балов Аркадий Аркадьевич? — Выбросил. — Напрасно. Ладно. Иди. Найдем, если надо будет. Балов закрыл чемодан, взял его на плечо и медленно зашагал к воротам, желтевшим вдали. Аденин пошел за ним, не без гордости посматривая по сторонам.9
Азимов и Джаббаров возвратились в отдел поздно вечером. Они устали и сразу пошли в кабинет. Здесь, не глядя друг на друга, сняли пиджаки и сидели молча, прислушиваясь к глухому людскому говору, доносившемуся из коридора. Минут через десять в кабинет вошел Аденин. Он был сильно возбужден и, не ожидая разрешения, сел в кресло, стоявшее напротив Джаббарова. — Неужели нашел? — Нашел, Касым Гулямович, — встал и тут же сел снова Аденин. — Понимаете, иду, гляжу, он — сидит. Я иду прямо к нему и вот... такое дело. — Ты беседовал с ним? — Беседовал. Сознался во всем. Ничего не утаил. Не хватило, как говорится, пороху. Растратил на пустяки. Может, здесь, может, в другом месте. Между прочим, у него в чемодане я обнаружил косынку Королевой. — Даже? Где он сейчас? — У следователя Макарова... Балов. Аркадий Аркадьевич Балов. Джаббаров взял трубку внутреннего телефона, набрал трехзначный номер. — Макаров? Здравствуй. Джаббаров. У тебя Балов? Что-что? Хорошо. Сейчас приду. Да-да! — Что? — спросил Азимов. — Разве ты не знаешь Макарова? — Джаббаров тихонько положил трубку на рычаг аппарата. — Он всегда сомневается. Сказал, что Аденин зря задержал человека. — Как это — зря? — вскочил курсант. — Он же сам мне во всем сознался. Я нашел у него косынку потерпевшей. Не могла же эта косынка сама попасть к нему в чемодан. Интересно! — Ты не обижайся, Василий, — успокоил Джаббаров. — Не ошибается тот, кто ничего не делает.— Что же все-таки вы думаете о нем? — спросил следователя Джаббаров. Следователь пожал плечами: у него пока не сложилось определенного мнения о задержанном. — Григорий Максимович, расскажите все по порядку. Макаров придвинул к себе протокол допроса. В раскрытии любого преступления важно все, что имеет хоть какое-либо отношение к данному преступлению. Ничто не должно ускользать от внимания тех, кто пытается установить справедливость. Скрупулезно нужно проверить показания свидетелей и показания подозреваемых. В данном случае, например, показания свидетелей раздвоились: одни утверждали, что Балов был в квартире Королевой, другие, напротив, говорили, что в квартире Королевой был другой человек.
Джаббаров ждал, когда Макаров изложит свои соображения. Ему нравился этот уже немолодой напористый следователь, который распутал за годы работы в органах немало «больших» и «малых» дел. Он обладал способностью неоспоримой логикой и неумолимыми фактами заставлять допрашиваемого сознаться в совершенном преступлении. Сейчас с Макаровым что-то случилось. Рассказав Джаббарову о беседе с Баловым, о том, что ему было известно об этом человеке, о том, что сообщили свидетели, он не мог точно определить: виноват Балов или нет. — Все-таки, что вы думаете о нем? Макаров пожал плечами: — Не знаю, что и сказать. Скорее всего, он не виноват. Джаббаров подсел к приставному столику. — Вы не поинтересовались: в Саларе не обнаружено вещей? — Вы думаете, что Балов выбросил вещи Королевой в воду? — вопросом на вопрос ответил Макаров. — У вас тоже возникло такое подозрение. — Хорошо. Я проверю. — Ладно. Зовите Балова. — Джаббаров всем своим видом хотел показать Макарову, что дело было не таким уж безнадежным, несмотря на то, что сам еще не знал, какие препятствия окажутся на пути. — Учтите, Касым Гулямович, парень с характером, — поднял Макаров телефонную трубку. — Характер характеру — рознь... Посмотрим. Макаров набрал нужный номер. — Это ты, Нетудыхата? Приведи ко мне Балова... Нет, потерпевшая пока не нужна. Развлеки ее чем-нибудь. В кабинет вошли Азимов и Аденин. — Разрешите, товарищ капитан? — взглянул Аденин на Джаббарова. Джаббаров хотел побеседовать с Баловым «с глазу на глаз», однако, встретив умоляющий взгляд курсанта, молча кивнул на стул, стоящий недалеко от двери. — Я тоже могу присутствовать? — спросил Азимов. — Ты теперь мой начальник, — пошутил Джаббаров. — У меня даже язык не повернется отказать тебе. Если вот Макаров откажет... Макаров поднял обе руки: — Сдаюсь!.. Касым Гулямович, вы только посмотрите на них! Богатыри! В два счета положат на лопатки!
10
Макаров предложил продолжить допрос Балова Джаббарову. Балов смотрел на Джаббарова исподлобья. Аденин и Азимов присутствовали на допросе. — Ну что вам от меня нужно? Что? Ну был в заключении! Ну отсидел срок! Ну приехал в Ташкент! Ну и что? — Успокойтесь, Аркадий Аркадьевич, — попросил Джаббаров. — Мы хотим знать правду и только правду. — Какая правда нужна вам? Скажите, какая? — все больше озлоблялся Балов. — Разве вы сможете понять человека? Не сможете! Джаббаров сел напротив Балова: — Как вы оказались в Ташкенте? — Это важно? — Важно, Аркадий Аркадьевич. — Для кого? — В первую очередь, конечно, для вас... Будьте с нами откровенны. Прошу вас. Балов настороженно посмотрел на Джаббарова. — Я уже был однажды откровенен с вами. Это не очень помогло мне. Наоборот, повредило. — Не преувеличивайте, Аркадий Аркадьевич. По-видимому, вы что-то не учли или упустили. Откровенность необходима вам, как воздух. Итак, как вы оказались в Ташкенте? — Приехал к другу. — В гости? — Может, в гости, может, нет... Это другой вопрос. — Вас обнаружили на стадионе, — сказал Джаббаров. — Наверное, между вами что-то произошло? — Сволочь! — сжал кулаки Балов. — Не стал слушать. Выгнал, как собаку. — Почему? — Выгнал да и все! Что говорить об этом? Кому нужны чужие заботы? — Ну а вы выгнали бы? — Нет. — Где живет этот ваш приятель? — Толька? — Балов назвал адрес. Джаббаров взглянул на Азимова и Аденина. Балов назвал улицу, около которой была совершена кража. — Почему все-таки приятель выгнал вас? — Джаббаров решил пока не спрашивать, как Балов очутился на стадионе. Балов недобро усмехнулся. — Зачем же вы приехали к нему? — Собственно, я приехал не к нему, — заерзал на стуле Балов, затрудняясь сказать то, что его тревожило. — Так. — Ну-ну? — подбодрил Джаббаров. — Понимаете, везде говорят о землетрясении. Со всехсторон едут к вам, чтобы восстанавливать город, ну и я поехал. Не думайте, что меня потянула легкая нажива. Я — маляр-штукатур. Приобрел специальность в колонии. Решил: пригожусь здесь. Вышло, к сожалению, наоборот. Попал в заваруху. Пришиваете какое-то дело. Глупо! Азимов воспользовался молчанием Джаббарова. — Мы хотим установить истину. Что у вас в чемодане? Балов посмотрел на Азимова так, словно решал, отвечать ему или не отвечать. — Вещи... Костюм. Туфли. Разное тряпье. — Успел, изучил, — перешел Азимов на «ты». — Ничего я не изучал. — Балов вскочил, рванул ворот рубашки. — Это мои вещи. Мои! Вот этими руками заработал! — Все? Косынку тоже? — Я нашел косынку, будь она трижды проклята! Неужели вы никогда ничего не находили? Ну почему вы не верите мне? Шел и нашел! — Где? — У входа на стадион. — Вы говорили, что косынка ваша, — вмешался в разговор Макаров. — Почему вы обманули меня? — Сглупил. — Прочтите это, — подал Джаббаров Балову записку, найденную в квартире Королевой. Балов прочитал: — Что это? Джаббаров не ответил — протянул Балову чистый лист бумаги и авторучку: — Напишите что-нибудь. — Что? — Все, что хотите. — Пожалуйста. — Балов склонился над столом, поджал нижнюю губу и написал: «Человеку свойственно ошибаться, глупцу — настаивать на своей ошибке». Джаббаров вгляделся в неровные строчки, тщетно пытаясь отгадать, кому принадлежит афоризм, написанный Баловым, затем передал лист бумаги Макарову. Макаров, должно быть, тоже пытался узнать, кому принадлежит афоризм. Во всяком случае он заговорил не сразу, долго держал лист в руке. — Почерк другой, как и нужно было ожидать. Однако... Кому же принадлежат эти слова? — Цицерону. — Кому-кому? — иронически переспросил Азимов. — Цицерону. — Не Герострату? — с усмешкой проговорил Азимов. Джаббаров осуждающе посмотрел на Азимова, когда Балов перевел взгляд на Макарова. Азимов возвратился на место, недовольно задвигал стулом, привычно разгладил усы. Аденин сочувственно пожал ему локоть, прошептал убежденно: — Ты здорово срезал его, клянусь! — Ладно тебе. Джаббаров укоризненно покачал головой, обращаясь к Балову: — Эх, Аркадий Аркадьевич, много еще у вас ложного рыцарства. Думаете, это хорошо? Вы решили принять участие в восстановлении Ташкента. Приехали издалека. Очевидно, вас побудили к тому добрые чувства. Как можно совместить все? Мне стыдно за вас, честное слово! — Никакого ложного рыцарства у меня нет; напрасно вы так думаете, — глухо произнес Балов. — Есть! Просто вы не хотите признаться в этом. Не хватает смелости... Тимур Назарович, пригласите, пожалуйста, потерпевшую. Азимов вышел. Балов опустил голову. Какие мысли волновали его? Как он воспринял просьбу Джаббарова? Грозила ему чем-то встреча с Королевой или нет? Вызвали Королеву. Она оглядела всех и, словно устыдившись чего-то, замерла у дверей. — Садитесь, Анна Дементьевна, — сказал Джаббаров. — Спасибо. Королева села осторожно на свободный стул и снова оглядела всех — теперь внимательно, будто хотела понять каждого человека. — Ваша? — кивнул Джаббаров на косынку, лежавшую на столе вместе с вещами, извлеченными из чемодана Балова. — Моя, — не сразу ответила Королева. — Что еще ваше? — Больше ничего. Я уже говорила товарищам, — Королева все-таки встала, приблизилась к столу, близоруко переворошила вещи. — Ничего. — До свидания, — приподнялся Джаббаров. — Как же с моими вещами? — Найдем. — Найдете ли? Найдите статуэтку Лепешинской. Это подарок, понимаете? Мне он очень дорог. Королева зябко поежилась, постояла с минуту, вроде хотела еще что-то спросить, потом медленно вышла из кабинета. Через некоторое время пришел милиционер и увел Балова. Еще раз пригласили свидетелей. Они давали разные показания. Кто из них говорил правду, установить пока было невозможно. Так в этот день оперативные работники и следователь к четкому выводу не пришли: и обвинить Балова в краже не могли и признать его совершенно невиновным — тоже не могли. Подобная неуверенность была вызвана еще и некоторыми сведениями, полученными Джаббаровым и Азимовым во время поиска, который они начали с площади Пушкина. Вот как это было.11
Прибыв на площадь, Азимов и Джаббаров зашли к диспетчеру и поговорили с ним, затем поговорили с двумя лотошницами, торговавшими — одна продуктами, другая — овощами: никто из этих людей не видел человека с коричневым чемоданом. Джаббаров и Азимов решили пройти по скверу. У памятника Пушкину, покосившемуся после первого подземного толчка, увидели юношу лет двадцати, на всякий случай проверили его документы. Он оказался студентом политехнического института. — Ты давно в сквере? — спросил Азимов. — Часа полтора. Азимов задал еще несколько вопросов и будто между прочим поинтересовался, не проходил ли по скверу молодой человек с коричневым чемоданом. Студент задумчиво потер лоб, неуверенно проговорил: — Проходил. Азимов так и рванулся к студенту: — Когда? — Минут сорок назад. Сел вот в такой же новый трамвай, подходивший к остановке. Уехал в сторону Сквера Революции... Извините, пожалуйста. — Он неожиданно забеспокоился. — Моя девушка. Я пойду. Мы опаздываем в кино. До свидания. — Подождите. У фонтана стояла невысокая стройная девушка, лет семнадцати, с книгой в руке. Она, по-видимому, только что пришла и с нетерпением поглядывала на машины, огибавшие фонтан бесконечным потоком. — Как ваша фамилия? — спросил Азимов. — Протокин. Сергей Гурьевич. — Где вы живете? — Ново-Звездная, двадцать пять. — Возможно, вы будете еще нужны, — сказал Джаббаров. — До свидания. — До свидания. Азимов проводил студента задумчивым взглядом. — Счастливый. Когда-то и я был таким. Как быстро летит время! Ты любил Кариму? Джаббаров посмотрел на Азимова с удивлением: — Любил? Люблю! — Прости... Наш трамвай. — Азимов ускорил шаг навстречу подходившему трамваю, мысленно ругая себя за вопрос, который задал Джаббарову. Джаббаров, взглянув на студента, пересекавшего с девушкой дорогу, направился за Азимовым. Начались «хождения по мукам». Эти слова, в шутку сказанные Азимовым, повторил после и Джаббаров. Многочисленные встречи с кондукторами и водителями трамваев до того утомили их, что они в конце концов еле волочили ноги. Хорошо, что труд не пропал даром: следы парня с коричневым чемоданом опять были обнаружены, причем дважды. — Здесь, милый, здесь он сошел. Как только трамвай остановился, так он и сошел. Высокий такой. Представительный, — сказала кондукторша, пожилая женщина, с которой Азимов заговорил на остановке у театра оперы и балета. Джаббаров, как и на площади Пушкина, почти не принимал участия в разговоре. Он целиком полагался на Азимова. — Вы не заметили, в какую сторону он пошел? — Чего, милые, не заметила, того не заметила, — с охотой продолжала кондукторша. — Поди, пошел туда, где такси. К гостинице. — Почему? — Торопился он. Я сначала думала, ищет кого-нибудь из пассажиров, потом вижу, нет, больше в окно посматривает. — Спасибо за сообщение. Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? — Моя фамилия? Может, я сделала что-нибудь не так? — Вы ничего плохого не сделали, сделали важное сообщение, — поспешил успокоить женщину Азимов. — Вы будете нужны нам, когда мы найдем преступника. — Преступника? Нет-нет, боже упаси! Обойдитесь без меня, — замахала руками кондукторша. — Это такие бандюги! Отомстят! Нет-нет, вы уж как-нибудь без меня! — Хорошо. Постараемся обойтись без вас, — примирительно сказал Азимов. — Только фамилию все-таки сообщите нам. Не бойтесь! Ну что вы в самом деле! Ничего с вами не случится! — Колодина Марфа Семеновна. Женщина, должно быть, хотела еще что-то сказать, однако, увидев подходившего вагоновожатого, поспешно распрощалась и поднялась в вагон. Джаббаров и Азимов направились к подземному переходу, темневшему у центрального универмага. — Почему люди боятся преступников? — Азимов остановился у входа в тоннель. Джаббаров тоже остановился: — Не все боятся, Тимур. Вспомни, как в начале года жители рабочего городка задержали рецидивиста Гафурова? Между тем, он был вооружен. Не испугались преступника и жители дома двадцать шесть на Полторацкой. Они спустились в тоннель и, выйдя на противоположной стороне, пошли к остановке такси. Здесь, побеседовав с водителями, снова напали на след парня с коричневым чемоданом: часа полтора назад он взял такси и, доехав до экскаваторного завода, смешался с людьми, толпившимися на автобусной остановке. Дальнейшие поиски никаких результатов не дали.12
Джаббаров посмотрел на карандаш, который вертел в руках Розыков, затем перевел взгляд на его лицо. — Вот, пожалуй, и все. Розыков осторожно положил карандаш на письменный прибор и некоторое время молчал, глядя в окно, за которым солдаты разбирали разрушенный землетрясением жилой дом. — Ваше мнение, товарищ капитан? — Мнение у меня одно, товарищ полковник, — сказал Джаббаров. — Продолжать поиски человека с коричневым чемоданом. Из угла кабинета раздался возбужденный голос Аденина: — Человека с коричневым чемоданом мы уже нашли. По-моему, следователь Макаров поторопился с заключением. Я считаю, что это преступление совершил Балов. Косынка потерпевшей, найденная в его чемодане, красноречиво говорит об этом. Оперативники переглянулись — послышались смешки, кое-кто проговорил беззлобно: — Ты зря, Аденин, поступил в школу милиции. Однако Аденин упорно настаивал на том, что Балов и парень с коричневым чемоданом, за которым охотились позавчера Азимов и Джаббаров, один и тот же человек. — Не фантазируй, пожалуйста, — возразил Аденину Джаббаров. — Балов не причастен к этой краже. Мы должны извиниться перед ним и отпустить его. Кроме того я считаю, что надо помочь этому человеку, причем, немедленно, иначе он может снова оступиться. Сотрудники отдела сидели в кабинете Розыкова. Кабинет был заставлен столами и сейфами, принесенными из других кабинетов, которые считали наиболее опасными. Землетрясение сильно повредило здание — оперативники почти ежедневно меняли рабочие места. Наиболее «дальновидные» уже переселились в палатки, поставленные во дворе. Те же, кто не хотел покидать «насиженные места», остались в помещении. Розыков сначала пытался убедить таких сотрудников «переселиться» в палатки, затем махнул рукой и больше не вмешивался в «кабинетные дела», тем более, что председатель горисполкома пообещал дать отделу новое здание, в котором уже шли отделочные работы. На этом же совещании сообщили, что в квартире Ахмедовой, проживающей в доме по улице Байнал-Минал, была совершена аналогичная кража; это наталкивало на мысль, что действовал один и тот же человек. Следовательно, Балов, вернувшийся недавно из заключения, не мог принимать участия в этих кражах. Судя по всему, он не обманывал, говоря, что нашел косынку. Свидетели, утверждавшие, будто они видели его выходившим из квартиры Королевой, могли ошибиться. — Таким образом, — подвел итог Розыков, — мы должны раскрыть, причем на этой неделе, две кражи. Надеюсь, вам не нужно говорить о том, что мы сейчас находимся на особом положении? Минутную тишину, наступившую после этого, нарушил оперуполномоченный Григорьев: — Плакала моя путевка в Кисловодск! — Поедете в следующем году, — сказал Розыков. Григорьев смущенно улыбнулся: — Товарищ полковник, я пошутил, что вы так! — Ладно, не обижайтесь. Каждой шутке — свое время. — Розыков взглянул на часы. — Через тридцать минут развод постовых милиционеров... Товарищ лейтенант, — посмотрел полковник на Азимова, отправляйтесь в свой отдел и сообщите приметы парня с коричневым чемоданом... Товарищ капитан, — Розыков перевел взгляд на Джаббарова, — сделайте это же завтра на инструктаже участковых уполномоченных Куйбышевского райотдела. — Есть, товарищ полковник, — вытянулся Джаббаров. Розыков помолчал, пытаясь вспомнить, что еще не сказал, потом добавил, ни на кого не глядя, однако каждый сотрудник понял, что полковник по-прежнему говорил Джаббарову и Азимову: — Не забудьте напомнить милиционерам и участковым, что подозреваемый может появиться в районе экскаваторного завода. У меня все, товарищи! Сотрудники поднялись, задвигали стульями, направились к выходу. Азимов пошел рядом с Адениным, взял за руку, заговорил с ним о чем-то горячо. Джаббаров замешкался у приставного стола, словно почувствовал, что Розыков хочет поговорить с ним. — Садитесь, Касым Гулямович. Что вы думаете делать с Баловым? Джаббаров сел. — Надо помочь человеку. Мне кажется, что сейчас в Ташкент вместе с честными людьми, искренне желающими принять участие в восстановлении города, хлынет и разный сброд. Если мы не вмешаемся своевременно, то Балов снова окажется среди преступников. — Так. — Сегодня «Правда Востока» сообщила о создании «Главташкентстроя». Схожу в отдел кадров. Думаю, что меня поймут и дадут Балову работу. Он маляр. — Пожалуйста, не выпускайте этого человека из виду. Жизнь настолько сложна, что порой в некоторых ситуациях не всегда разберешься. В общем, вручаю судьбу Балова в ваши руки. — Спасибо. — Не знаю, благодарят ли за это, — улыбнулся Розыков. — Дома все в порядке? — Относительно. — Это уже неплохо. Палатку достали? — Достал. — Приду на новоселье. Знаете, я в последние дни стал завсегдатаем новоселий, — доверительно сообщил Розыков. — Вчера, например, был на новоселье у Прозорова. У него изумительная мать. Угостила меня пареной калиной. Вы пробовали когда-нибудь пареную калину? — Нет. — Объеденье... Азимов занимался с Прозоровым магазинными кражами. По делу проходила Валентина Фролова. Помните? — Да. — Найдите ее. — Хорошо. — Только, пожалуйста, не говорите об этом Прозорову. Он может неверно понять нас. — Ясно. — Ждите в гости. — Приходите, Якуб Розыкович. Будем рады вас принять, хоть живем как неандертальцы: без света и газа. Готовим пищу во дворе, в обыкновенной глиняной печке. Печку, между прочим, клал сам. По-моему, из меня вышел бы неплохой печник, — засмеялся Джаббаров. — Вот только дым почему-то упрямо не хочет идти из трубы. Предпочитает дверцы и щели. — Наверное, у него такой же упрямый характер, как и у вас, — подал руку Розыков. — Сегодня приду посмотрю... Нет-нет, никаких приготовлений. Дело в том, что у меня тоже нет газа. Вы как специалист по печному делу должны проконсультировать меня. Будьте здоровы. — До свидания. Джаббаров вышел. Розыков возвратился на прежнее место, взял авторучку и, перелистав несколько страниц настольного календаря, записал: «Спросить К. Г. о Балове».13
Тимур не верил своим глазам. Нет-нет, этого не может быть. Он только вчера говорил с Андреем по телефону. Андрей сказал, что начал одно интересное дело и с утра до вечера мотается по Барнаулу, как угорелый. — Понимаешь, не могу приехать к вам. Извини, пожалуйста. — Ничего, ничего. Мы пока обходимся без тебя. Не переживай Андрей уловил в голосе Тимура насмешку, однако не стал упрекать его за это. — У тебя все в порядке? Или тоже без угла остался? У нас тут ходят разные слухи. — С каких это пор ты стал верить слухам? — Я не верю, что́ ты! Просто так сказал. Ты все-таки не сердись, ладно? Я обязательно приеду к вам, вот только немного освобожусь. — Ладно. Конечно, после такого разговора не поверишь своим глазам, если даже ты совершенно трезв. Андрей теперь стоял в дверях и широко улыбался, запустив большие пальцы рук за широкий армейский ремень. Тимур тоже улыбался и по-прежнему не верил своим глазам. — Здорово, ч-черт! Андрей наконец шагнул к Тимуру, крепко сжал в объятиях, вытащил на лестничную площадку, закружился с ним на месте. Тимур с минуту находился во власти Андрея, почти ничего не видя и не слыша, потом неожиданно оттолкнул его и замер у стены. На лестнице, опершись о перила, стояла тоненькая девушка с небольшим чемоданчиком и хмурила черные густые брови. Ей было не больше семнадцати лет. Она, как подумал Тимур, видимо, хотела подняться на следующий этаж или зайти к кому-нибудь на этом этаже, и ждала, пока освободится площадка. Впрочем, возможно, Тимур ошибался: может быть, она просто так стояла и смотрела на них. — Простите, вы ко мне? — Не знаю. — Не знаете? — Не знаю. Тимур пожал плечами. Странно начинался день. Будто с неба свалился Андрей. Как по щучьему велению появилась девушка. Кто еще постучится в дверь? Див? Фея? — Кто вы? — Я? — У девушки был ясный чистый голос. — Сестра Андрея. — Да? Тимур, радостно оторопевший, смотрел на Андрея: — Лита? Девушка кивнула: — Лита! — О аллах, как это я сразу не догадался! Вы же точная копия брата! — Тимур еще раз взглянул на Андрея, словно хотел убедиться, действительно ли девушка похожа на него. — Проходите, пожалуйста. Вы надолго к нам? Андрей, что же ты стоишь? Возьми у Литы чемодан. — Ты не можешь? — Что? Ах, да. Простите, пожалуйста. — Тимур взял у девушки чемодан, левую руку протянув в сторону двери. — Прошу! Он был взволнован: приезд Андрея, да еще с Литой! Вообще-то Лита такой и представлялась ему раньше: стройной, голубоглазой, тонкой. Правда, он думал, что она пониже ростом, как Мила, например. — Пожалуйста, проходите в комнату. Лита вошла в комнату, прижимая к груди небольшую красную сумочку, и замерла в двух шагах от порога, увидев трещину в стене у окна. — Вы не боитесь? — обратилась она к Тимуру. — Кого? — не понял Тимур. — Ну... Трясет. — А! — махнул рукой Тимур. — Не обращайте на это внимания. Этот дом выдержит все девять баллов. — Неужели вам нисколько не страшно? — Лита сжала лицо ладонями. — Боишься? — удивился Андрей. — Боюсь. Тимур хотел как-то успокоить гостью: ну что она в самом деле. — Не бойтесь, пожалуйста. Все будет в порядке. Я защищу вас, если снова тряхнет. Глаза у Литы расширились, она подалась к Тимуру, по-видимому, безотчетно схватила за пуговицу пиджака. — Может тряхнуть? — Конечно, — сказал Тимур как нечто само собой разумеющееся. — Слушай, Литок, не позорь наш род, — нарочито сурово произнес Андрей. — Будь, как говорится, на высоте. В конце концов, ты сюда не навсегда приехала. — Боже мой, Андрюшка, ну что ты говоришь?! — снова воскликнула Лита. — Ладно, молчу, — поднял руки Андрей. Он деловито прошелся по комнате, оглядел ее так, словно никогда раньше не был в ней. — Богатеешь? — С чего это ты взял? — Ну-ну, не притворяйся. Магнитофон. Приемник. Гири... Двухпудовые? Богатеешь! Ты что собираешься делать сегодня? Пойдешь на работу или уже отбарабанил свое? Тимур развел руками. — Ясно, — подхватил Андрей. — Тогда давай проедем по городу — посмотрим его достопримечательности. — Андрюшка, я с вами! Я почти ничего еще не видела. — В таком случае готовьтесь к путешествию! Я буду вашим гидом, — сказал Тимур. — Только сначала попьем чаю. Андрей, ты не забыл аромат цейлонского чуда? — Нельзя ли после путешествия? — несмело попросил Андрей. — Ни в коем случае! — запротестовал Тимур. — Во-первых, вы с дороги, во-вторых, я с работы, в-третьих, пора ужинать, в-четвертых, не хочу нарушать законы гостеприимства. Можно и в-пятых, если хотите? — Не хотим, — сдался Андрей. — Литок, скажи, наше чудо не разбилось? — Нет, — вспыхнула Лита. — Ставь на стол. Пусть к цейлонскому чуду прибавится наше. Лита достала из чемодана банку малинового варенья и подала Андрею. Андрей, взяв банку, гордо расправил несуществующие усы. — Запомни, — обратился он к Тимуру, — это чудо готовила Лита! — Андрюшка! — попросила Лита. — Ясно... — Андрей подошел к Тимуру, протянул банку. — Принимай. От Алтая. Тимур ушел на кухню. Лита взглянула на брата с укором. — Ну почему ты такой хвастунишка, Андрюшка? Мне стыдно за тебя, честное слово! Андрей сделал испуганное лицо. — Я вел себя плохо? Ай-яй-яй-яй! Нехорошо! Нехорошо! Что теперь подумает Тимур? Может, мне извиниться? Прямо сейчас? В глазах у Андрея прыгали чертики. Лита бросилась к нему, застучала маленькими кулачками по груди, проговорила со слезами, хотя чувствовала себя удивительно легко и радостно: — Вечно ты шутишь, Андрюшка! Ей-богу, это не приведет к добру. Возьми себя в руки, пока не поздно. Тут такое несчастье! — Всё, всё, всё, — поднял руки Андрей. Ему тоже было удивительно легко и радостно.14
Долго в эту ночь в квартире Тимура не гас свет, никак не могли успокоиться, познакомившись с городом, Андрей и Лита, увидев развалившиеся кибитки, отошедшие стены, отвалившиеся кирпичи, осыпавшуюся штукатурку, палаточные городки, взбудораженных жителей, которые продолжали заниматься повседневными делами. — Ты, Тимур, оптимист. Город сильно пострадал. Здесь, на Чиланзаре, все в порядке. Ты посмотри, что творится в центре. — Не паникуй, Андрей. Мы не из таких положений выходили. К нам едут со всех сторон строители, поставляют стройматериалы: кирпич, цемент, шифер, мрамор... Понимаешь: мрамор! Значит, город изменит облик. Станет светлей и шире. Я уверен, что у нас будет даже метро! — Заговорился, клянусь, — засмеялся Андрей, взглянув на Литу. — При этой-то сейсмичности! Тимур тоже засмеялся, однако без того недоверия, которое появилось у Андрея. — Разве на земле нет городов, находящихся в таком же сейсмическом положении, как и Ташкент, между тем, имеющих метро? Лита незаметно посмотрела на Тимура: «Боже мой, как он любит Ташкент. Вообще, это — прекрасный человек, не зря Андрей так тянется к нему. А как он был взволнован, увидев меня!» Незаметно разговор зашел о работе. Андрей пожаловался на текучку, на отсутствие серьезных дел. Лита прервала брата: — Андрюшка, как тебе не стыдно! Ты уже забыл, да? В тебя же стрелял бандит! Самый настоящий! Андрей махнул рукой: — Ну какой это бандит, да еще самый настоящий! Ты не видела бандитов, Литок, вот и фантазируешь. Алкаш, понимаешь, Тимур. Обыкновенный рядовой алкаш. — Алкаш? — удивленно протянула Лита. — Вы не верьте ему, Тимур. В книге «Записки следователя» еще есть повесть о таком преступнике... Медведь? Нет? — Медвежатник, — сказал Тимур. — Вот-вот: медвежатник! Какой же это алкаш? — посмотрела Лита на брата. — Какой, а? Молчишь? Медвежатник! Преступник. Знаете, Тимур, он у них сбежал. Да-да, Андрюшка. Не возражай, пожалуйста. Я знаю. — Ничего ты не знаешь, — возразил Андрей. Он встал и заходил по комнате. Тимур потянулся к чайнику, взглянул на Литу, откинувшуюся на спинку стула. — Будете? — Всё-всё! Спасибо! Андрей остановился, обернулся к Тимуру — глаза его заискрились радостью, по-видимому, он уже не думал о разговоре, который затеяла сестра. Лита неожиданно сказала: — Я останусь в Ташкенте. Ладно, а? Она обращалась сразу к Тимуру и к Андрею. Они переглянулись, не ожидая, по-видимому, от Литы такого решения. — Ты что? В своем уме? — натянуто улыбнулся Андрей. — В своем. Ты считаешь, что я несерьезный человек? — Ты еще вообще не человек, понимаешь? Ты ребенок, Литка!.. Хорошо, хорошо, молчу, ты уже не ребенок, но ты о маме подумала? — Подумала. Я говорила с ней. Перед отъездом. Она не такая, как ты. Сознательная. Андрей с недоверием посмотрел на сестру. — Ну, если говорила, тогда, конечно... Чем же ты будешь заниматься здесь? — Как чем? Буду строить Ташкент! Лита с особым уважением произнесла слово «строить». — Что же вы умолкли? Скажите что-нибудь. Тимур, ты устроишь меня на работу? Ну, какие вы чудны́е! Неужели вы думаете, что город воскреснет сам? Андрей неуверенно пожал плечами: — Никто так не думает. Ты посмотри на себя. — Перестань, Андрюшка, — слегка скривила губы Лита. — Тимур, ты не ответил мне. Тимур поставил на стол пиалу, посмотрел на Литу так, словно знал ее давным-давно, потрогал усы и сказал, тоже перейдя на «ты»: — Считай, что ты уже работаешь у нас. — У вас? — опередил Литу Андрей. — Не пугайся. У нас, значит, в Ташкенте. Хотя я ничего не имею против, если Лита станет работать в милиции. — Тимур, ты с ума сошел! Я страшная трусиха. Ты устроишь меня на стройку. Понял? Надеюсь, мне дадут персональную палатку? Я не прошу большую, не беспокойся. Меня устроит маленькая. Совсем маленькая. — Все будет в порядке, — встал Тимур. — Ты получишь персональную палатку. Я беру это на себя. Договорились? — Договорились. Лита тоже встала. Она была рада, что Тимур поддержал ее. Андрей обреченно махнул рукой.15
Джаббаров был приятно удивлен, увидев в вестибюле «Ташкентстроя» Тимура с девушкой. Тимур смутился и, не выпуская локоть девушки, направился к Джаббарову. — Здравствуй, Касым Гулямович. — Здравствуй, Тимур Назарович. Джаббаров тоже назвал Тимура по имени и отчеству, решив, что для Тимура сейчас это важно. — Что ты здесь делаешь? Не собираешься ли поступить на работу в «Главташкентстрой»? — Я хочу задать тебе этот же вопрос, — улыбнулся Джаббаров. — Может, познакомишь меня с девушкой? — Прости, пожалуйста. Лита. Сестра Андрея. — Он обратился к Лите. — Мой начальник. — Ничего подобного, Лита, — возразил Касым. — В данный момент, наоборот, он — мой начальник. Я хожу в подчиненных с двадцать шестого апреля. — Ладно, пусть так, — охотно согласился Тимур. — Ты у кого был? — У начальника отдела кадров. — Всё в порядке? A-а... Балов? Так? — Да. По лестнице спускался Балов. Увидев Джаббарова еще сверху, направился к нему. — Всё, Касым Гулямович, всё! Джаббаров знал, что Балова примут на работу, все же спросил, будто не понял, что хотел сказать Балов. — Не говорите загадками, Аркадий Аркадьевич. — Я — строитель! — Поздравляю. — Джаббаров крепко пожал руку Балову. — Познакомьтесь. Лита. С Тимуром Назаровичем, надеюсь, вас не нужно знакомить? — Не-ет. — Балов взглянул на Литу, слегка склонив голову. — Рад познакомиться с вами. — Лита... Я тоже рада. Тимур насупил брови. Касым, конечно, переборщил, знакомя Балова с Литой. Кому это нужно? Лита — чистая, искренняя девушка. Балов — человек запятнанный, бывший вор. Касым Гулямович понял, что Тимур не хотел знакомить Балова с Литой, поэтому поспешил сгладить свою невольную вину: — Тимур Назарович, ты совсем забыл нас. Карима сегодня спрашивала о тебе. Приходите послезавтра к нам. У Каримы — день рождения. Лита, убедительно прошу вас. — С огромным удовольствием приду, Касым Гулямович, — пообещала Лита. — В таком случае, я вас больше не задерживаю. Лита подала руку Касыму Гулямовичу и посмотрела на Балова, который в это время усердно изучал плакаты, развешанные в вестибюле. Судя по всему, она не знала, как поступить: самой проститься с Баловым или дождаться, когда он сделает это. На выручку пришел Касым — он тронул Балова за рукав: — Может, вы проявите джентльменство и проститесь с этими очаровательными людьми? — Извините. — Балов неуверенно протянул руку. — До свидания. Лита тоже подала руку и, почувствовав, как Аркадий взволнован, быстро повернулась к Тимуру. Тимур взял Литу за локоть и повел на второй этаж.16
Джаббаров и Балов долго шли молча. Они в этот день побывали еще в горисполкоме. Джаббаров надеялся получить для Балова какую-нибудь комнатушку. К сожалению, ничего не было. Все, что имелось в горисполкоме, заняли люди, оказавшиеся без крова. Не удалось Джаббарову и подселить Балова к какой-нибудь семье: узнав, что он отбывал наказание за воровство, люди отмахивались от него, как от прокаженного. Вечерело. Улица, по которой шли Джаббаров и Балов, тонула в пыли. Еще неделю назад на этой улице царили покой и чистота, теперь ее не узнать — некоторые дома покосились, некоторые разрушились, некоторые сносились. Деревья, еще недавно гордо охранявшие дома, никли к земле, словно в том, что происходило вокруг, были виноваты и они. — Вы где были, когда тряхнуло? Джаббаров не сразу отозвался — он находился во власти воспоминаний о пережитом землетрясении. — Где я был, когда тряхнуло? Дома. — Интересно было? — Не очень. — Еще тряхнет? — Трясет все время. — Нет, не так. Так, как в первый раз? — Не знаю. Старики говорят, что так уже не тряхнет: или сильнее, или слабее. — Интересно. Балов посмотрел вокруг, будто еще ничего подобного не видел, пошел тише, прислушиваясь к звукам, доносившимся откуда-то справа. По всей вероятности, там, за этими вот большими домами, работали дорожники, потому что звуки напоминали удары отбойных молотков. Касым Гулямович не понял, что вложил в слово «интересно» Балов: любопытство или страх, однако разговор этот не оставил: — Интересно? Балов не ответил. Он остановился и, глядя на развалившийся дом, долго молчал. Какие мысли волновали его? — Пойдемте. Касым Гулямович устал ждать — собственно, он устал и мотаться по городу. Захотелось домой. Карима, по-видимому, уже волновалась. Ему так и не удалось в течение дня позвонить ей и сказать, что придет поздно. — Вы что? Идемте! — Куда? — Ко мне. — К вам? Балов отступил в сторону, к дереву, прислонился к стволу, опустив руки. — Ко мне... Не беспокойтесь, я не съем вас, — улыбнулся Касым Гулямович. — Вы не помешаете нам. — Он взял Аркадия за руку, отстранив от дерева. — Через месяц-другой все уладится, и вы будете жить в собственном доме. — Так уж и собственном доме? — проговорил Аркадий. — Ну, может, не в доме, я преувеличил, однако собственную комнату будете иметь. В худшем случае, получите собственную палатку или собственную кровать. Это временно, — повел Касым Гулямович Аркадия вперед. — Понимаете, временно! В будущем вы непременно получите квартиру. Из нескольких комнат! — Ну и дела! — Не верите? Чудак-человек! Вы не всегда будете холостяком. Пойдемте-пойдемте, не упирайтесь! Аркадий не упирался — в его голове никак не укладывалось, что «большой начальник» пригласил его домой, как равного. Джаббаров догадывался, что происходило с Баловым, однако вида не подавал: только немного ускорил шаг. Карима встретила Балова приветливо, гостеприимно, тотчас захлопотала у печки, стоявшей в глубине двора, весело загремела посудой. Балов остановился на аллее, сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Касым Гулямович отвернулся, дал возможность Балову прийти в себя. Начал наводить порядок на тахте. «Наверное, нелегкой была судьба у этого человека», — подумал Касым Гулямович. Он не ошибся. Когда Аркадию было семь лет, умерла мать. Отец, не отличавшийся силой воли, запил и вскоре пропил все, что было в доме. Потом начал воровать, и то, что попадало под руку, пропивал. Если же не мог ничего достать сам, то посылал на «промысел» соседских мальчишек, награждая каждого за это мороженым. Года через три как-то вечером сказал: — Ну, Аркаша, пора и тебе браться за дело. Ты уже большой, нечего на отцовской шее сидеть. Балов точно не помнит, в этот вечер или в другой взялся за дело: вышел на улицу, увидел во дворе чье-то белье, висевшее на веревке, незаметно снял и принес отцу. Отец не стал спрашивать, чье белье, засунул под пиджак и отправился в пивную — около нее всегда торчала бабка Фешка, скупавшая за бесценок вещи у пьяниц. Отец возвратился домой скоро — поставил на стол две бутылки вина, бросил ломоть хлеба и кусок колбасы. — Садись, Аркаша, за стол, попируем малость. Заслужил, чего уж там говорить. Я не думал, что ты такой проворный. До сих пор становится не по себе Балову, когда он вспоминает этот «пир». Отец налил стакан вина и грубо потребовал: «Пей!». От вина сначала закружилась голова, затем его швырнуло куда-то в ничто, как в пропасть, и будто из-за толстой глухой стены доносился смех отца. Отец пил до тех пор, пока не свалился со стула и не захрапел на полу. Балов не помнит точно, пил ли он еще в тот день. Наверное, все-таки пил. Больше четырех лет продолжалась такая жизнь. Она окончательно доконала отца: он в конце концов спился в конце зимы и окоченел недалеко от дома. Дальнейшая жизнь почти ничего нового не принесла Балову. Он уже пристрастился к вину, уже лазил по чужим квартирам. Правда, работники милиции оказались расторопнее его: поймали с поличным и отправили в детскую колонию. Можно сказать, что с этой поры жизнь Балова изменилась. Воспитатель отряда, в котором находился Балов, сделал все, чтобы отучить его от пагубных привычек и, обучив его нелегкому ремеслу штукатура-маляра, заставил учиться в школе. Может быть, выйдя из колонии, Балов начал бы честную жизнь, если бы его не вовлек в свою компанию рецидивист Крась. Балов сначала отчаянно сопротивлялся, порой даже открыто шел против Крася, потом сдался и стал его первым подручным в новой преступной профессии: Крась был медвежатником. Они долго «работали» вместе — вскрывали сейфы, как консервные банки. Правда, в сейфах не всегда были крупные деньги. Хотя наводчик Лис всякий раз перед «операцией» убеждал, что из сейфа можно выудить тысчонки три-четыре. После этих «операций» их сбережения росли. Особенно у Крася, который мечтал купить дачу под Москвой и зажить в свое удовольствие, когда уйдет «на пенсию». Крась был силачом и отчаянным человеком. Он гнул подковы и медные пятаки, делал отмычки, резал, как жесть, броню сейфов. — Тебе бы с такой силой, Николай Палыч, мировые рекорды ставить, — не раз убежденно говорил Лис. Крась довольно улыбался: — Я независтливый: пусть мировые рекорды другие ставят. Меня устраивает и то, что я делаю. Запомни, Лис: в этом мире тот чемпион, кто имеет толстый карман. — Так-то оно так, — соглашался Лис. — Однако вроде и не так. Тут тебя кто знает? Я да Аркан? Да еще два-три человека. Там тебя знал бы весь мир. Улавливаешь разницу? По телеку показывали бы твою физиономию. — Вот-вот, мне как раз только этого и не хватает, — иронически улыбнулся Крась. — Нет уж, уволь. Как-нибудь проживу в тени. Правда, порой с деньгами чувствуешь себя не спокойно: что-то червит и червит душу; деньги-то не твои — принадлежали другим — тем, кто их честно заработал. Крась не осуществил свою мечту: как-то Лис нализался так, что ничего не соображал, устроил в ресторане дебош и попал в милицию. Из милиции уже не вышел — направился прямым ходом в пересылку. Во-первых, в милиции извлекли из его карманов больше двух тысяч рублей, во-вторых, обнаружили паспорт без прописки, к тому же липовый. Дальнейшие события разворачивались как в детективном кино: Лис рассказал о своих ночных похождениях, не забыв упомянуть при этом Крася и Аркана. Милиция поблагодарила его за этот джентльменский шаг и забрала Красова и Балова в тот момент, когда они досматривали третьи сны, радуясь покою и свободе. На этот раз Балов очутился в колонии для взрослых. Сейчас, стоя на аллее и глядя на Джаббарова и его жену, Балов чувствовал себя разбитым и раздавленным. Нет, он никогда не докатился бы до скамьи подсудимых, если бы на его пути раньше встретились такие люди. Балов еще раз посмотрел на Джаббарова и на его жену. Неужели вечно на Земле будут существовать красы и лисы? Разве нельзя сделать так, чтобы они исчезли навсегда? — Ничего, Аркадий Аркадьевич, ничего. Все будет в порядке. Балов вздрогнул — рядом стоял Джаббаров. Когда это он подошел? Только что был около тахты. — Понял? — перешел на «ты» Касым Гулямович. — Вот и отлично! Снимай пиджак. Пойдем мыть руки. Хозяйка уже накрыла на стол. Балов молча последовал за ним. Кто-то в это время громко постучал в калитку. У соседа беззлобно залаяла собака. — К вам? — остановился Балов. — Да, — Касым Гулямович тоже остановился. — Вон у дувала умывальник. Видишь? Держи направление к нему. Я посмотрю, кто пришел.17
Пришли Иван и Анастасия Рябцевы. Двор тотчас наполнился радостными голосами. Иван выучил традиционные узбекские приветствия и, ежеминутно прикладывая руки к груди, говорил: — Яхшимисиз? Ахволинг яхшими? Сизмисиз? Тинчликми? Касым Гулямович отвечал с улыбкой, любуясь коренастой фигурой товарища: — Яхши, Иван Семенович, жуда яхши! Анастасия обнимала Кариму, которая оставила печку, как только услышала знакомые голоса. Она, как и муж, была искренне рада гостям. — У вас, оказывается, уже есть гость, — увидел Иван Аркадия, застывшего у дувала с полотенцем в руке. — Есть, — сказал Касым Гулямович. — Ты опоздал сегодня. Наверное, Анастасия Филипповна задержала? Кстати, слышал выступление Уломова по радио? Его, должно быть, не зря назначили начальником сейсмической станции? Щедрейший человек. Пообещал подарить нам в этом году не менее четырехсот толчков. — Многовато, — произнес Иван так, словно речь шла не о повседневной их жизни, а о стихии, бушевавшей на Луне или на Марсе. — Очередной крестник? Касым Гулямович проследил за взглядом Ивана. — Угадал. — Рад за тебя... Вор? — Вор. — Толк будет. Иван считал, что воры быстрее осознают, к чему может привести связь с преступным миром и, если уж завязывают, то завязывают навсегда. — Познакомь. — Пожалуйста. Аркадий стоял напротив Ивана, протянув руку, он почувствовал свою вспотевшую ладонь в крепком рукопожатии этого человека, разволновался и с трудом отвечал на вопросы, которые задавал Иван. — Что же мы стоим? Касым, приглашай гостей к столу. Касым Гулямович с благодарностью взглянул на жену. Она как всегда появилась вовремя, словно чувствовала, что он не разрешит без нее возникшую трудность. Возможно, женщины вообще острее ощущают затруднения других и быстрее находят выход из положения? — Прошу! У стола Иван, как опытный иллюзионист, вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку водки и с блеском заправского официанта поставил рядом с бутылкой сухого вина. — Иван Семенович, ну зачем вы это? — упрекнула Карима. — Сколько раз я говорила вам — не приносите водку. Вы обижаете нас, честное слово. — Дорогая Карима Сабировна, могу согласиться с вами, — раскланялся Иван. — Но прошу в порядке исключения — разрешить. Думаю, что в данном случае она не повредит нам... Что ты скажешь об этом, Аркадий Аркадьевич? Аркадий неуклюже пробормотал: — Думаю, что не повредит. Анастасия внимательно посмотрела на Аркадия и на мужа, сощурила смеющиеся глаза, поправила на груди косынку: — Пьяницы несчастные! — Что ты, Настасья Филипповна, что ты! — быстро проговорил Иван. — Какие мы пьяницы? Сознаю: водка — враг человека. Однако же... не всегда. В данном случае, например, она — друг. Касым Гулямович, поддержи! — Поддерживаю, — сказал Касым Гулямович. — Хватит уж вам, садитесь, — улыбнулась Карима. — Аркадий, что же вы стоите? Касым, приглашай гостя! Очутившись за столом, Аркадий снова разволновался. Никогда еще за всю свою жизнь не видел он к себе такого душевного, внимательного отношения. Никогда еще ему не приходилось сидеть вот так, за столом, с людьми, которые ничего не требовали от него. Ему казалось, что он спал и стоило только ущипнуть себя, как мрачная действительность с прежней жестокостью швырнет его в преступный мир. Касым Гулямович хорошо понимал своего гостя и всячески старался отвлечь его от мрачных мыслей. Не «отставал» от Касыма Гулямовича и Иван. Он расхваливал завод, на котором работал, называл лучших рабочих, мечтал о будущем. — Наша продукция известна всему миру, — не без гордости говорил Иван. — На днях получили заказ из Латинской Америки. Стараемся вовсю! Как же иначе! Мы — советские люди — и все, что делаем, должно быть советским, то есть — лучшим! Поступай, Аркадий Аркадьевич, к нам на завод. Не пожалеешь! — Поздно уже, — улыбнулся Касым. — Неужели вы опередили? — преувеличенно удивленно спросил Иван. — Опередил... Аркадий Аркадьевич теперь рабочий «Главташкентстроя». С завтрашнего дня начинает восстанавливать наш город. Вернее, свой город. Это не мое влияние. Абсолютно, — добавил Касым Гулямович. — Не ваше? Серьезно? — с недоверием спросил Иван. — Серьезно. — Касым поднял глаза на Аркадия, крутившего в руке вилку, уважительно добавил, зная, что это доставит ему удовольствие: — Он специально приехал в Ташкент. У него хорошая профессия. — Какая же именно? — Аркадий Аркадьевич, скажи! — Ну что вы, Касым Гулямович, — покраснел Аркадий. — Расхваливаете меня, будто я чего стою... Вор я! Ничего хорошего не сделал людям. — Брось, Аркадий Аркадьевич. — Касым Гулямович наклонился над столом. — Брось! Всё у тебя ясно! Всё! Жить начинаешь. Запомни: жи-ить! Аркадий сжался, сдавил в руке вилку так, что побелели пальцы. Нет, не все еще было ясно, хотя, казалось, все встало на свои места. — У тебя есть в городе знакомые? — воспользовался Иван паузой. — Есть, — Аркадий отвернулся, с трудом проглотил слюну. — Есть. Был я у него. Вместе когда-то на дело ходили... На складе работает. Живет, как министр. Чего только нет в квартире... Выгнал. Говорит... В общем, черт с ним. Не хочу в такой вечер вспоминать о нем. — Вы только не падайте духом, Аркадий, — вступила в разговор Карима. — У вас вся жизнь впереди. Осенью поступите в вечернюю школу. Потом — в вуз. Найдете себе хорошую подругу. — Да-да! Аркадий притих: показалось или на самом деле позвала Лита? Он оглянулся. Никого не было. У самого дувала увидел дерево, озаренное бледным светом выщербленной луны. Иван решительно сказал: — Пойдем к нам. Будешь жить у нас... Всё, всё! — Он поднял обе руки, заметив, как разом вскинул на него глаза Касым Гулямович. — Мы так решили с Настасьей Филипповной... Точка! Решение окончательное и обжалованью не подлежит. Правда, Настасья Филипповна? Анастасия сверкнула молодыми глазами: — Правда, Ваня! — Видите, — обвел всех торжествующим взглядом Иван. — У вас ему неудобно будет. — Теперь он обращался и к Касыму Гулямовичу и к Кариме, зная, что они поймутего. — Сами посудите: палатка у вас одна. В доме жить опасно. Еще придавит. Не будет же он спать под деревом. Нет, ему вечером будет нужен покой. Строить новый Ташкент — не на прогулку ходить. Так, Аркадий Аркадьевич? — Так, — сказал Аркадий. — Видите... На новоселье пригласишь? — На какое новоселье? — Как это на какое? Тебе дадут квартиру. Строитель! — Пригласит, — сказал Касым Гулямович. У Аркадия глаза заволокло слезами. Карима неожиданно заторопилась — почувствовала, что надо вмешаться. — Я принесу чай. Касым Гулямович поднял рюмку: — Подожди. Давайте выпьем за дружбу. — За мужскую дружбу, — поправил Иван. Он тоже взял рюмку и, чокнувшись с Касымом Гулямовичем и Аркадием, выпил залпом, глядя перед собой, в темноту сада.18
Поиски человека с коричневым чемоданом между тем продолжались. Временами казалось, что он почти найден, осталась самая малость — найти улики и предъявить обвинение. Временами опускались руки — казалось, что дело зашло в тупик, человек с коричневым чемоданом потерялся. По улице шли три преступника: Степанов, Пулатов, Каранов. Они спешили — несли ворованные вещи, уложенные в темные объемистые чемоданы. Главарем этой необычной тройки был Каранов, высокий брюнет, одетый в синий добротный костюм. Он шел позади, следя за улицей и за своими однодельцами. Пулатов не вызывал у него подозрений, а за Степанова он опасался. Парень только что начал ходить на дело и мог в любую минуту засыпать обоих. Дойдя до кинотеатра «Искра», преступники смешались с толпой: огромный танк вгрызался в развалившиеся пристройки кинотеатра, на противоположной стороне собирались люди. — Кажется, все идет нормально, — сказал Пулатов. — Не каркай! — оборвал Каранов. Он не любил без дела чесать язык. — Сопи в две ноздри молча. Усек? — Усек. У здания цирка стоял милиционер. Преступники на секунду замерли, пересекая дорогу, за которой возвышалось здание цирка. — Если остановит, отвечаю я, — шепнул Каранов. — Да вроде бы не должен остановить, — заметил Пулатов. — Разве ты не знаешь этих мозгокрутов? — скривился Степанов. — У них особый нюх на нашего брата! — Опять? — зашипел Каранов. Степанов опасливо втянул голову в плечи. Милиционер не остановил — только кивнул, как старым знакомым, весело спросил: — Из командировки? — Не отгадал, старшина, — чуть-чуть замедлил шаг Каранов. — Приезжие. Строители. Идем в гостиницу. — В «Зерафшан»? — В «Зерафшане» нет мест. Мы только что оттуда. Хотим попасть в «Ташкент». Говорят, не гостиница — дворец! Милиционер приложил руку к козырьку фуражки: — Желаю удачи! Каранов бодро ответил: — Спасибо! Пулатов и Степанов улыбались — они считали, что опасность миновала. Не зря, наверно, Каранов взял их под свое крыло: у него голова варила. Каранов похвастался: — Со мной не пропадете. — Мы понимаем, — заискивающе ответил Степанов. — Надо бы заглянуть в гостиницу, — предложил Пулатов. — Уж играть так играть до конца. Нечего на середине останавливаться. К добру это не приведет. Как пить дать. Я не впервые на дело хожу. — Давай, давай, — засмеялся Каранов. — Держи хвост пистолетом! Сейчас возьмем такси и... покажем спины. Каранов переоценил свои силы. Милиционер не просто так заговорил с ворами. Он еще издали выделил их из толпы, узнав Каранова, обвинявшегося в прошлом в квартирной краже. На остановке «такси» было многолюдно. Начался час «пик». Воры заняли очередь. На время они позабыли об опасности. Стояли спокойно, перебрасываясь шутками. Особенно уверенно вел себя Каранов. Он закурил и, втягивая в себя дым, поглядывал на хорошенькую молодую женщину, стоявшую впереди. Милиционер подошел к ворам, когда они пытались сесть в очередную машину. Он встал у дверцы и, приветливо улыбаясь, поинтересовался: — Вы не нашли гостиницу «Ташкент»? — То есть? — Каранов не сразу понял, что хочет милиционер, потом сделал огорченную гримасу, метнул в сторону гостиницы негодующий взгляд. — Мест нет. — Может, вы не были в гостинице? — Как это не были? — возмутился Каранов. — Были... Они подтвердят! — Он кивнул на Пулатова и Степанова, которые топтались рядом, не зная, как вести себя дальше. — Они подтвердят. — Милиционер внимательно посмотрел на дружков Каранова. — Они подтвердят, я не сомневаюсь в этом. — Он снова перевел взгляд на Каранова и с прежней приветливой улыбкой попросил: — Документы!.. — Документы? Мои? Пожалуйста! — воскликнул Каранов. Он, казалось, даже обрадовался этой просьбе. — Вы удивительный человек, старшина. Зачем вам понадобились мои документы? Что- то вы нашли во мне примечательного? Сознавайтесь, старшина. — Хочу познакомиться с вами поближе. — Вот как! Рад. Очень рад. Пожалуйста. Каранов положил в открытую машину чемодан, запустил руку во внутренний карман пиджака и неожиданно, ударив головой милиционера в грудь, резко метнулся в сторону, вдоль здания гостиницы. Не медлили Степанов и Пулатов. Они побежали к трехэтажному зданию, стоявшему напротив театра оперы и балета. Милиционер выдержал удар Каранова и, машинально схватившись за кобуру, бросился за Степановым, который оказался ближе всех. ...Степанов четыре дня не давал никаких показаний, на пятый рассказал все — ничего не скрыл. Воры действовали сообща. Узнав, где можно было хорошо «заработать», они несколько дней находились поблизости намеченного дома, изучали, как говорится, обстановку, затем днем, на глазах у соседей, приступали «к делу». Степанов обычно оставался на улице. Пулатов и Каранов заходили в дом. Они открывали дверь «фомичом» и забирали самые ценные вещи. Причем старались сделать так, чтобы не нарушить порядок, царивший в квартире. Хозяева, возвратившись вечером с работы и обнаружив просто прихлопнутую, но не закрытую на ключ дверь, в первый момент удивлялись, обнаруживая вроде все на своих местах. — Где вы жили? — спросил Седых, занимавшийся «святой троицей». — Где придется, — сказал Степанов. — Постоянного места у нас не было. — У вас есть родные? — У меня нет. Круглый сирота. У Каранова и Пулатова, кажется, кто-то есть. В Самарканде. Точно не знаю. — Они не собирались к ним? — Вроде нет. — Больше вы ничего не сообщите? — Нет. После длительных безуспешных поисков Седых направил запрос в Самарканд. Через некоторое время Пулатов был задержан и этапирован в Ташкент. Пулатов оказался более крепким орешком. Он знал, где находится Каранов, однако не сказал, хотя и ненавидел этого человека. Каранов так и не был найден. Вскоре состоялся суд. Степанов и Пулатов были осуждены на различные сроки.19
— Ты заметил, Касым Гулямович, парень с коричневым чемоданом действовал так же, как и Каранов? — Заметил, Тимур Назарович. Они шли по Братской улице. Мимо них разноцветным потоком бежали автомашины. Теплый ветер перебирал листья деревьев, выстроившихся вдоль арыка. Над городом плыли легкие облака. Низко, у самого горизонта, стояло огромное красное солнце, затемненное внизу. Джаббаров любил вечера. В такое время хорошо мечталось: то, что волновало днем, приобретало свой особый смысл. Часто трудные дела, долго не дававшие покоя всему отделу, в такое время прояснялись, приобретая четкие контуры. — Эту версию нужно проверить... Сколько в Ташкенте Карановых, как ты думаешь? — Фамилия не очень распространенная. Думаю... — Пойдем, — не дал договорить Джаббаров. — Смотри, — сказал он Азимову, — повернувшись к поврежденному одноэтажному зданию, белевшему в начале улицы. Азимов запротестовал: — Куда? — В кустовое адресное бюро?.. Э, ч-черт, поздно! — остановился Джаббаров. — Зайдем завтра. — Ты думаешь, он прописался? — Надо проверить. Что еще? О квартирных кражах было известно всем работникам отдела. Знали все и приметы человека с коричневым чемоданом. Если завтра через кустовое адресное бюро удастся узнать адрес Каранова, то, возможно, через день-другой будут раскрыты кражи. Судя по всему, парень с коричневым чемоданом и Каранов одно и то же лицо. Вообще, это дело порядком потрепало нервы Азимову. Ведь он какое-то время считал, что Балов и есть парень с коричневым чемоданом. Хорошо, что Джаббаров сумел вовремя найти Седых, который занимался «делом Степанова». Джаббаров был сегодня в светло-сером костюме и в бежевых лакированных туфлях. Короткие черные волосы непослушно падали на его широкий лоб. — Не знаю, что тебе сказать еще, — признался Азимов. — Неужели? — обернулся Джаббаров. — Честное слово. — Ладно. Сходи завтра в НТО, поговори с сотрудниками, возможно, они уже сталкивались с «фомичом»? — Что еще? Теперь интересовался Азимов. Джаббаров отвечал. Они нередко делали так. Особенно, когда дело затягивалось. Оба будто читали мысли друг друга, принимая самые неожиданные решения, выходя из непредвиденных тупиков. — Кто проверяет рынки? — вопросом ответил Джаббаров. — Бондаренко и Григорьев. — Послезавтра воскресенье. Вещи Королевой могут оказаться у скупщиков. Попытайтесь обнаружить эти вещи. — Кроме того, может быть, зайти в штаб дружины? — Конечно, зайдите — побеседуйте с дружинниками. Кстати, — обратился он к Азимову с новым вопросом. — Что ты сделал с Закировым? — С кем? A-а, с Закировым... который недавно освободился из заключения? Ничего. Отпустил. Он у нас и одних суток не пробыл. — Да нет. Я не о том. Как он устроился, как живет? Азимов пожал плечами. — Благоустройством преступников занимаются общественные организации. У нас своих дел невпроворот. — Что с тобой? В голосе Джаббарова послышалась тревога. Азимов нахмурился: кажется, он переборщил. Не нужно было так отвечать. Многие работники милиции интересуются судьбой бывших преступников, помогают им устроиться на работу. В прошлом месяце, например, сам Розыков помог определиться в новой трудовой жизни бывшему карманнику Федьке Рыжему. Немало крови попортил Прозоров, вызволяя Шкваркина, оказавшегося в сетях Тарзана. Недавно Джаббаров устроил на работу Балова. Теперь следил: как бы человек не сорвался. — Что с тобой? — уже мягче спросил Джаббаров. — Ничего, Касым Гулямович, — поспешно ответил Азимов. — Я позабочусь о Закирове. Вам не придется краснеть за меня. — Хорошо, Тимур Назарович. Только не тяни. А то можем потерять человека. — Не потеряем. Азимов хотел спросить, как идут дела у Балова, однако промолчал, считая, что Джаббаров сам расскажет обо всем, когда сочтет нужным.20
Был ветреный день. С севера, громоздясь друг на друга, шли тяжелые черные тучи. В воздухе кружилась крикливая стая ворон. По неширокой кривой улочке неторопливо шагали два человека. Один в темно-синем милицейском костюме, другой в легком коричневом плаще. Оба внимательно смотрели по сторонам, иногда перебрасываясь короткими фразами. С ними почтительно здоровались встречные, очевидно, жители этого квартала. Молодая худенькая женщина, торопливо оглядываясь, направилась к ним. — Товарищ участковый, тут недалеко, у одного дома, какие-то парни околачиваются, — сказала она человеку в милицейском костюме. — Я уже третий раз вижу их. — Дригола? Нина Васильевна? Правильно? — Правильно, товарищ участковый. Через четверть часа мужчина в плаще и участковый уполномоченный у высокого дома, отгороженного деревянным забором, обнаружили людей, о которых сказала Нина Васильевна. Они были пьяны: нескладный длинный мужчина наклонялся к парню и пытался что-то объяснить ему. — Предъявите документы, — произнес стереотипную фразу работник милиции: он хорошо знал свою территорию и обоих видел впервые. — Разве это необходимо? — спросил мужчина. Участковый уполномоченный повторил: — Предъявите документы! — Оставь, старик, — вяло проговорил парень. — Не видишь, с кем имеешь дело. Вы, очевидно, кого-то ищете. — Он лениво посмотрел на участкового, вывернул карманы брюк. — Нет у нас документов. Дома оставили. На рояле. Такая ситуация. Хотите, поедемте с нами. — Хорошо, — согласился участковый. Мысль его напряженно работала, нервы были на пределе. Он видел: парень походил на того самого, о котором говорил на разводе оперуполномоченный Азимов. — Идемте. — Это далеко, — предупредил длинноногий. — Ничего, доберемся. Только давайте сначала зайдем ко мне. Я надену плащ, что-то знобит. — Старик, ты слышишь, лейтенант замерз, — с усмешкой обратился парень к длинноногому. — Может, погреем его? Как у тебя с бумажками? Все в порядке? Лейтенант, опрокинем по сто пятьдесят? — Парень перевел взгляд на участкового. — Может, тебе нельзя? — Почему нельзя? Разве я похож на язвенника или на гипертоника? — Поддубный! — захохотал мужчина. — Метко, старик, метко, — ободрил парень. — Вперед. Так, что ли? В ближайший питейный дворец? — Сначала все-таки разрешите надеть плащ? — сказал участковый. — Неужели выпьешь? — усомнился длинноногий. — Выпьет, старик, выпьет. К тому же он в самом деле, как Поддубный. Я бы на его месте... Пойдемте, лейтенант! Доро́гой парень начал рассказывать анекдоты, подтрунивая над длинноногим, подмигивая встречным женщинам. Когда до оперативного пункта оставалось несколько десятков шагов, длинноногий ссутулился и, схватившись за живот, подбежал к арыку, сделав вид, что его тошнит. Через некоторое время послышался слабый стук падающего предмета. Участковый обнаружил у арыка ломик....По-прежнему дул ветер. Все так же тревожно шумели деревья. Вокруг были те же дома: то низенькие с полуразвалившимися дувалами, то высокие, четырехэтажные. Только теперь наступила глубокая темная ночь. — Ты не замерз? — Что ты, лейтенант! Посмотри, посмотри, звезда! — Метеорит... Слышал, между Юпитером и Марсом была планета? Фаэтон? Метеорит — осколок от нее. Она взорвалась несколько миллионов лет назад. — Сама? — Возможно, сама, возможно, нет. Некоторые ученые считают, что ее взорвали. — Смотри, смотри, еще... метеорит. Интересно, узнали в угрозыске или нет, что это за люди? Длинноногий какой-то странный. Заплакал. — Да. Голоса постепенно стихли. Говорили два человека: мужчина в плаще и человек в форме милиции. Они шли по улице, на которой встретили женщину, сообщившую о незнакомцах. Это были участковый уполномоченный Абдувалиев и дружинник Сафин.
21
Муравьев изворачивался, как уж: то с преданностью заглядывал в глаза Джаббарову, то отворачивался, то делал вид, что заинтересовался какой-нибудь вещью, находящейся в кабинете. Его путаный, сбивчивый рассказ был переполнен многочисленными фразами: «так сказать», «как водится», «это такое дело». Джаббаров терпеливо выслушивал Муравьева, поддакивал, когда он чересчур часто сорил вводными словами, кивал головой, слушая его вымышленные истории. Минут через сорок, достаточно наслушавшись и поняв, что Муравьев не так уж изворотлив, как показалось вначале, Джаббаров переменил тактику: вышел из-за стола, остановился напротив Муравьева, потребовал: — Говорите правду! Это подействовало. Муравьев сразу обмяк, заморгал глазами, начал неуверенно, положив руки на приставной столик. Джаббаров откинулся на спинку стула и внимательно слушал Муравьева, отбирая из его показаний то главное, что решало исход следствия.С парнем Муравьев познакомился случайно. Возвращаясь домой с работы, Муравьев зашел в пивную, прилепившуюся у ворот Паркентского рынка. В воскресенье у жены был день рождения, Муравьев перепил и весь день чувствовал себя неважно: сильно болела голова. Две кружки пива не принесли облегчения. Муравьев захотел выпить еще. Пошарил по карманам — нашел две копейки и с тоской посмотрел на мужчин, разместившихся у стойки, надеясь увидеть знакомых. Знакомых не было. Морщась от досады, Муравьев шагнул к выходу. В это время кто-то положил на плечо тяжелую руку. Он нехотя обернулся. — Чего тебе? — Ничего. Давай выпьем. Парень, сказавший это, стоял возле пивной бочки. Муравьев не любил случайных знакомств, тем не менее принял приглашение парня. — Садись за столик. Я организую что-нибудь крепкое, — сказал парень. — Не стесняйся. В следующий раз ты угостишь меня. Такова жизнь, старик. — Я ничего. Угощу, конечно. Полуразрушенные старые дувалы, пыльная извилистая тропинка, высохшие арыки и ни одного огонька вокруг. Наклонясь вперед, Муравьев то бежал, то шагал устало, не останавливаясь, тупо глядя под ноги. Он не мог сказать, как очутился среди этих дувалов и арыков, сколько времени шел по этой тропинке, когда расстался с парнем, о чем говорил с ним, где был. Некоторое облегчение пришло к Муравьеву, когда он, наконец, добрался домой. Муравьев увидел плачущее испуганное лицо жены, уцепившихся за подол ее платья детей. Жена помогла ему лечь на тахту, и он уснул мертвым сном. На следующий день Муравьев опять оказался в пивной и встретил вчерашнего парня. — Старик, привет, — радостно приветствовал он Муравьева. — Как голова? Не трещит? Я чувствую себя превосходно. Пропустил два раза по сто... Представь, до сих пор перед глазами стоит этот мужчина. Крепко мы его обработали. Не правда ли? Муравьев промолчал, не поняв даже, на что намекает парень, с тоскливым желанием посмотрел на прилавок, заставленный бутылками. Парень продолжал, схватив Муравьева за пуговицу пиджака: — Не мычи, как тысяча коров. Скажи что-нибудь членораздельное. Может, совесть мучает? Брось, старик! Совесть — пережиток проклятого прошлого. — Я... Ты... — Ну-ну, телись, телись. — Парень внезапно засуетился, потащил Муравьева в угол, к свободному столику. — Что будешь пить? Вино? Водку? Пиво? — Всё! Муравьеву казалось, что у него вот-вот развалится голова от адской боли. — Может, возьмем коньяк? Муравьев покачнулся — о чем говорит этот пижон? Кому он нужен? Лучше взять водку или портвейн, на худой конец, пиво. Хотя ладно. На худой конец можно и коньяка выпить. — Бери коньяк, если хочешь. Только быстрее. Вообще, лучше давай водку. Не мудрствуй. В ней — корень жизни! — Ну если так... Садись. Я сейчас. Они выпили по стакану водки и по две кружки пива. Муравьев снова почувствовал себя в «тарелке», однако не хотел больше сидеть в пивной — заторопился домой: нужно было поговорить с женой, объяснить все, извиниться. Парень захохотал, выслушав Муравьева, встал, сдавил плечи сильными руками. — Сиди! На столе снова появились водка и пиво. — Жена подождет. Ничего с нею не случится. Вообще, старик, ты — молоток! — наклонился над столиком парень. — Я не ожидал от тебя такой сноровки. Клянусь Иисусом Христом!.. Пей! Пей, чего ты!.. Четыре сотни. Целое состояние!.. Ты не потерял свою часть? Нет? Вижу, что не потерял. Молоток! Муравьев непонимающе оглядел парня. О чем это он? О каком мужчине говорит? — Ты что? — улыбнулся парень. — Может, еще выпьешь? — Потом. Выйдем. — Выйдем. На улице накрапывал дождь. Электрический фонарь, висевший у входа в пивную, тускло освещал землю. От железнодорожного полотна шел трамвай — его четкий перестук гулко отдавался в пустых закоулках огромного рынка. — Я дал тебе двести пятьдесят рублей. — Подожди, — прервал Муравьев. — Ты скажи прямо, что я натворил? Ну? — Ничего особенного. Ограбил того мужика. Чуть руку ему не оторвал, когда снимал часы... Муравьев испуганно затоптался на месте: «Я грабитель? Что за чертовщина!» — Врешь! — Пусти, дурак! — оторвал парень руку Муравьева от лацкана пиджака. — Я не люблю таких штучек! Муравьев не послушался — снова схватил парня за лацканы пиджака. Парень на этот раз ударил Муравьева коленом в живот. Муравьев взвыл от боли, шарахнулся в сторону. Парень раскатисто захохотал. — Ладно. Не дрейфь. Со мной не пропадешь. Я все обделаю так, что комар носа не подточит. Пойдем, пропустим еще. Закрепим, как говорится, дружбу. В этом есть практический смысл. В дальнейшем он назвался Крыловым и они еще неоднократно встречались и выпивали. Неделю назад после очередной попойки Крылов сказал, что мирному времени наступил шабаш и предложил заняться серьезным делом. Муравьев не стал противиться, боясь, что Крылов заявит в милицию об ограблении мужчины. Они начали появляться на Кладбищенской улице, у дома, который решили ограбить.
22
Джаббаров задал Муравьеву еще несколько вопросов, затем отвел его в КПЗ и попросил к себе Азимова. Тимур зашел минут через десять. У него было хмурое, осунувшееся лицо. Он много работал в последние дни. — Устал? — Устал, Касым Гулямович. Ты не устал? — Я железный. — Так вот, Тимур, — сказал Джаббаров, — Муравьев заявил, что вместе с Крыловым ограбил мужчину. Нам никто не сообщал об этом. Проверь, пожалуйста. Возможно, в райотделы поступало заявление. — Не думаю. — Почему? — Крылов, очевидно, шантажировал Муравьева. — Я тоже думал об этом. Пожалуй, так и было на самом деле. Однако мы не должны руководствоваться только собственной интуицией. Семь раз отмерь — один раз отрежь. — Ясно. — Как поживает твой племянник? — Закиров? — Тимур улыбнулся, привычно потрогал усы. — Ничего. Работает. На экскаваторном заводе. Пока жалоб нет. Джаббаров молча кивнул. Подумал о своем подопечном — о Балове.23
Балов неторопливо шел по пыльному тротуару: сносили квартал, и пыль густым слоем ложилась на деревья, приглушая зеленый цвет и вызывая грустные мысли. Вообще-то Балов не жаловался на судьбу. Он работал на строительстве дома в центре города. Его бригадиром был энергичный рослый мужчина — украинец Виктор Хижняк с тяжелым неуживчивым характером, как считали многие. Однако люди к нему тянулись — видели, что он справедлив и в беде не оставит. Понимал и уважал Хижняка и Балов. Правда, вида не подавал, просто при случае обращался за советом или за помощью, зная, что получит и добрый совет, и дружескую помощь. Сам Хижняк относился ко всем как будто одинаково, никого не выделяя и никому не давая поблажек, хотя чувствовалось, что к Балову и некоторым другим товарищам он относится с душевным расположением. Приятным для Балова оказалось присутствие Литы, работавшей в соседней бригаде. Она заходила к Балову — то приносила что-нибудь почитать, то делилась обедом, то рассказывала какую-нибудь интересную историю, связанную с ней или с братом. Балов не знал, что привлекало ее в нем — может, умение слушать, с затаенным дыханием ловить каждое ее слово и зачарованно не сводить с нее глаз. Порой Балову казалось, что она заходила к нему потому, что этого хотел кто-то из милиции, например, тот же Азимов. Однако он тут же упрекал себя за эту мысль, слишком разило от нее прошлым, тем прошлым, с которым уже ничего общего у него не было. Сегодня Лита дольше обычного пробыла в бригаде. Она сидела на небольшом деревянном ящике и смотрела, как работал Аркадий. Он заканчивал отделку комнаты и был, казалось, целиком поглощен этим кропотливым занятием. Лита следила за его мастерком, который будто пел в его руках. Аркадий чувствовал, что ее внимание было обращено к нему: к его фигуре, к его движениям, к его мыслям... именно к мыслям! Это мешало — мастерок незаметно терял свою песню, руки тяжелели, появлялись ненужные движения, Аркадий терял прежнюю уверенность — Ты шо? Пэрэпив вчора? Появился неожиданно Хижняк, будто только и ждал, когда Балов сорвется. Аркадий не успел ответить: вмешалась Лита. Она взволнованно сказала: — Захар Кононович, ну что вы такое говорите? Вы ведь знаете, Аркадий Аркадьевич не пьет. — У нее в последнее время появилась добрая привычка — она стала называть своих знакомых по имени и отчеству. Может, брала пример с Тимура. Может, сама поняла, что это красиво. — Вы лучше посмотрите, как Аркадий Аркадьевич вывел колер. Это же великолепно! — Побачив уже, — прежним тоном произнес Хижняк. — Звиткеля ты взялась на мою голову? Слухай, Балов, не мордуй стену. Працюй, як працював до этого. Выгоню! Снова Аркадий не успел ответить: или не захотел ответить, потому что боялся, что может нагрубить. Попробуй потом — восстанови контакт, никакой дипломатии не хватит. Снова ответила Лита: — Захар Кононович, ну что вы, честное слово, разве Аркадий Аркадьевич делает что-нибудь не так? У него же мастерок поет. Вы напрягите слух, Захар Кононович! Боже мой, мне бы такие руки! У меня вот ничего не получается. Ничего! Честное слово, Захар Кононович! Хижняк внезапно предложил: — Приходь до нас в бригаду. Не злякаешься — чоловиком станешь! Пожалуй, Хижняк и самому себе не ответил бы, почему он предложил этой девушке перейти к нему в бригаду. Свои новички порой доводили его до белого каления. Может, она приглянулась ему своей непосредственностью или вниманием к этому непутевому парню, к которому он питал почти отеческое чувство? Лита так и встрепенулась. — Приду, Захар Кононович! Обязательно! Хижняк ушел. Встретив вечером Балова, посоветовал: — Займись с дивчиной, научи ее своему мастерству. Видать, вона с головой. — Конечно, Захар Кононович, — обрадовался Балов. — Я научу ее, Захар Кононович. — Ну вот и добре. Балов пошел еще медленнее. Конечно, он научит Литу своему мастерству. Жаль только, что она заинтересовалась его профессией. Разве на свете нет других профессий? Более интересных и более нужных? Может, прошлая никчемная жизнь до того опустошила его, что ему уже во всем виделись «ловушки»? Вообще-то, все шло у него хорошо. Он был счастлив, пожалуй, впервые в жизни. Может, такое время было и раньше, только давно, когда он ходил пешком под стол. Балов попытался вспомнить лицо матери. Сначала, будто из света, выплыли глаза. Они, казалось, заглянули в душу и потеплели, увидев в ней что-то важное и значительное. Он остановился посередине тротуара, боясь нарушить призрачные секунды. Наверно, еще долго жило бы это видение, если бы Балова не остановил человек. Он бесцеремонно толкнул Балова в грудь и захохотал, раскачиваясь на толстых коротких ногах. Балов не сразу понял, что произошло, потом невольно сжал кулаки и замер, чувствуя, как застучало в висках. — Не узнаёшь? — Узнаю́. — Я думал, не узнаёшь. Здравствуй. — Здравствуй. — Балдеешь? — Что тебе нужно? — Может, я буду задавать вопросы? — Что тебе нужно? — повторил Балов. — Все-таки ты? Наверное, тебе вправили мозги. Ладно, не дуйся. Пойдем опрокинем по стопарю. — Не пью. — Не пьешь? Может, завязал? — Что тебе нужно? Балов знал, что хочет от него этот человек, однако снова задал тот же вопрос, ощущая одно желание — освободиться от этого человека, и в то же время не зная пока, как вести себя — пройти мимо него или поговорить с ним. Впрочем, ни то и ни это уже не изменит его жизнь. — Ты забыл, что мне нужно? — Ну, допустим, не забыл. Но я есть я, ты есть ты. Комментарии не требуются. — Ты думаешь? Балов промолчал. Он понял: нужно уйти. Никаких дел с этим человеком у него не может быть. Хватит и того, что уже было. — Я не хочу видеть тебя. Достаточно и того, что было. У нас разные дороги. Слышишь? — Не глухой. Только ты не виляй задом. Я все равно не оставлю тебя. Нас одна веревочка связала до гробовой доски. Выкинь из головы бред о разных дорогах. — Не пугай. — Я не пугаю, предупреждаю, Аркан! Еще вот что: брякнешь своим новым дружкам обо мне — получишь перо в спину. Так и знай. Я не бросаю слов на ветер. — Не пугай, — повторил Балов. Он решительно шагнул вперед и уверенно пошел дальше, стараясь не думать о том, что случилось. Человек, остановившийся на тротуаре, с трудом сдерживал гнев. Это был Красов.24
Лита не могла понять Андрея. Ну какое дело ему до ее чувств? Ну понравился ей Аркадий, ну полюбила она его, ну и что же из этого? При чем здесь Тимур? Никто не спорит: он красивый и умный парень. Только сердцу не прикажешь. Оно тянется к другому, если даже этот другой не такой привлекательный, и не такой красивый, и не такой умный. Наверное, какие-то иные пружины управляют чувствами? Андрей сказал: — Ты пойми: Балов не пара тебе. Он вор, не забыла? Доходит это до тебя или не доходит? — Не доходит, — упрямо стояла на своем Лита. — Во-первых, Аркадий никакой не преступник, во-вторых, мне лучше знать, с кем строить жизнь. Андрей оторопел: — Ты что, серьезно? — Нет, нарочно, — не сбавила тона Лита. — Я люблю его, понимаешь? Может, в уголовном кодексе есть статья, которая запрещает любить? — Литка, ты еще девчонка, — улыбнулся Андрей. Он хотел до конца разобраться во всем, что происходило с ней — к нему в первую очередь предъявят претензии родители. — Нет, Литок, ты действительно еще девчонка. Не смотри на меня так сурово, прошу тебя. Разве не тебе только что исполнилось семнадцать лет. Балову, наверное, тридцать, если не больше. Молчишь? — Не больше. Тридцать. — Видишь, тридцать. Улавливаешь разницу? Целых тринадцать лет. Эпоха! Эра! — Ты, оказывается, ничего не понимаешь. — Лита тоже улыбнулась. — Мужчина должен быть старше. Иначе зачем он? Представь: мне семнадцать, мужу семнадцать лет. Детский сад! — Ты что! Собираешься за него замуж? — Разве он так безобразен, что за него нельзя выйти замуж? Лита начинала дерзить. Андрей внутренне сжался. Неужели она в самом деле влюбилась? В таком случае, ее уже не переубедишь. Она умела настоять на своем. Он не один раз убеждался в этом. — Я полагаю, что ты должна прислушаться к моему совету. — Андрей оглядел Литу так, словно видел впервые, внутренне усмехнулся, представив ее в роли жены. — Ты знаешь, как я отношусь к тебе. Знаешь также, что ты у меня одна. Одна, понимаешь? В общем, не глупи! — Будь проще, пожалуйста, не усложняй то, что ясно, как день. — Я ничего не усложняю. Ты забыла, кто он. — Кто? — Лита резко подалась вперед. — Кто? Андрей невольно отпрянул назад. — Ты не знаешь? Ладно, ладно, успокойся. Может, я не прав. — Может? Никаких «может»! Ты неправ! Совсем неправ. Он такой же, как все — как ты, как Тимур... Почему ты считаешь себя лучше? Потому что работаешь в милиции? Тебе известно, как он жил? В детстве? В юности? Неизвестно. Андрей скрывал от Литы, что в Ташкент его привело не землетрясение, хотя и оно сыграло определенную роль в этой поездке. Он прибыл в Ташкент, зная, что сюда уехал Красов. «Ты прожил в этом городе три года, тебе и карты в руки, — сказал Запорожец. — Только смотри: не увлекайся и не донкихотствуй. Свяжись с уголовным розыском». Розыков заверил: «Найдем. Красов не иголка. Если, конечно, он у нас». «У вас. Точно». Андрей был уверен, что Красов в Ташкенте, поэтому произнес эти слова твердо. Розыков слегка улыбнулся и попросил зайти через два-три дня. Конечно, этого Лите не нужно было говорить. Тем более, не нужно ей говорить о том, что Балов был в банде Красова и мог снова попасть в его лапы. Судя по всему, Балов не так уж и тверд, как считает Джаббаров, если Красов настоит на своем, то он может сдаться. Нет-нет, этого Лите нельзя было говорить. В то же время нельзя и молчать. — Ладно, поступай, как знаешь. Только будь осторожна. Я прошу тебя. Все-таки у человека позади неясное прошлое. — Пощади меня, пожалуйста, не говори больше! У тебя нет сердца! Андрей отошел к этажерке и застыл около нее, сделав вид, что заинтересовался книгами, стоявшими на средней полке. Пожалуй, надо завтра поделиться своими опасениями с Розыковым. Он может установить наблюдение за Баловым и оградить его от Красова, если в этом появится необходимость. Хотя еще неизвестно, где находится сам Красов. Может, он уже уехал из Ташкента — почувствовал, что появился «хвост», принял необходимые меры и укатил, куда глаза глядят. Впрочем, вряд ли он сделает это. В Ташкенте был Балов, вскрывший с ним не один сейф, а значит, нужный ему, как воздух. Может быть, поговорить об этом с Тимуром? Ему, кажется, нравится Лита, он оградит ее от Балова. Жаль, что она не увидела в нем то, что увидела в Балове. Это была бы замечательная пара. Андрей незаметно посмотрел на сестру, словно неожиданно почувствовал рядом с ней Тимура, они, действительно, могли бы составить замечательную пару. Пришел Тимур. Он устал, это сразу бросалось в глаза. Наверно, день был нелегким. — Сидите? Скучаете? Позор! — Позор! — сказал Андрей. Лита поднялась с дивана: — Ужинать будешь? — Буду, Литок. Непременно. Тимур прошел в комнату, оглядел ее так, словно не был в ней добрую неделю. Андрей улыбнулся — бодрость Тимура успокоила его. — Всё в порядке? — Конечно! Разве у нас может быть что-нибудь не в порядке? Розыковцы! — вытянулся Тимур. — Это что-то новое! — Новое? Наоборот, старое. Розыковцы! Спроси любого милиционера республики, что это за люди, клянусь, услышишь такие слова, что захочешь примкнуть к нам. Розыковцы! Это звучит здорово! — Не слишком ли? Это сказал Андрей. Тимур быстро повернулся к нему и, прощупав глазами каждую черточку на его лице, с прежним жаром заверил: — Не слишком! Лита решила не мешать им. — Ладно, мальчики, я пошла на кухню. Поговорите без меня. — Что ты, Лита, не спеши, — попросил Тимур. — У нас впереди уйма времени, еще поужинаем. Кстати, может, сходим в кино? — Я готов, — сказал Андрей. — Мальчики, идите без меня. Я сегодня лягу пораньше спать. Завтра еду в Чимган. — Одна? — насторожился Андрей. — С ним. — С н-и-и-м? — С ним. — Литка! — Всё, всё, Андрюшка, ни слова больше! — Это же неразумно, ты понимаешь, неразумно. Он... Нет, ты сумасшедшая. Клянусь! Тимур, должно быть, догадался, с кем Лита едет в Чимган, но все же спросил, не сводя с нее настороженных глаз: — Ты едешь с Баловым? — Да. — Я-ясно. — Ты тоже против? — Ну что ты, Лита, что ты! Я не против, — поспешно сказал Тимур. Он разволновался и заходил по комнате, ненужно прикасаясь то к шкафу, то к тумбочке. — Спасибо. — Ну что ты! Андрей отвернулся, не в силах смотреть на Тимура. Таким потерянным и беспомощным Андрей еще не видел его. Лита вышла. Тимур сказал: — Слушай, Андрей Павлович, тебя завтра Розыков просит. Ты был у него, что ли? Андрей пожал плечами — он по-прежнему не знал, рассказать Тимуру, что привело его в Ташкент, или не нужно. Вообще-то, ничего страшного не случилось бы, если бы Тимур узнал правду. Он работал в уголовном розыске, то есть в такой организации, которая, собственно, решала судьбу Красовых и Баловых. — Был. — Ты что-то скрываешь? — Откуда ты взял? — Вижу. Андрей все-таки не рассказал Тимуру, что привело его в Ташкент: решил, что для этого еще не настал момент. Конечно, уезжая в Барнаул, он расскажет все, ничего не скроет: в Ташкенте останется Лита, она работает вместе с Баловым, в одной бригаде, встречается с ним, завтра вот едет с ним в горы — за ней нужен присмотр, очень нужен. Можно не сомневаться, Тимур сделает все так, как надо. Только сначала нужно поговорить с Розыковым. Он просил пока ничего никому не сообщать. Вошла Лита. — Мальчики, кушанье готово. Извольте пройти на кухню. — Как? — притворно-грозно спросил Андрей. Он чувствовал себя разбитым от постоянного напряжения и хотел как-то сбросить с себя тяжесть, тем более, что это нужно было и для Тимура, который едва владел собой. — Как? — повторил тем же тоном Андрей. — Ты приглашаешь нас на кухню? Разве ты не можешь накрыть дастархан в этом зале? Мы требуем к себе должного внимания. Прими необходимые меры, иначе мы не ручаемся за себя. Тимур, должно быть, принял слова Андрея всерьез. Он с осуждением посмотрел на него и, покачав головой, повернулся к Лите, застывшей у порога. — Ты не слушай этого краснобая. Поступай, как тебе удобней. Договорились? — Договорились, — с милым задором сказала Лита. Она была очень симпатична в эту минуту.25
Розыков одобрил Андрея: правильно сделал, что ничего не рассказал Азимову. Нет-нет, Азимов великолепный работник, он отлично знает свое дело, однако в данном случае все-таки лучше будет, если этим займутся другие сотрудники, менее занятые. Андрей не мог не согласиться с Розыковым, но и оставить Тимура в полном неведении тоже не считал правильным. — Мы скажем ему все, не волнуйтесь, — заметил Розыков. — Только не сейчас. Пожалуйста, будьте благоразумны, ничего не говорите и сестре. Андрей беспокоился за Литу и хотел, чтобы около нее постоянно находился кто-нибудь из работников милиции, тот же Тимур, например. Нет, он верил Балову, вернее, чувствовал, что Балову можно верить, однако был еще Красов. Этот человек ни перед чем не остановится, когда почувствует дичь. Не дрогнула же у него рука в Барнауле: поднял оружие. Хорошо, что промахнулся. Наверное, поспешил. В другой раз наверняка не промахнется. — Вас еще что-то тревожит? Розыков задал очередной вопрос, не глядя на Романова, словно был занят еще каким-то делом. В действительности же он хотел дать Романову время для ответа, так как видел — этот вопрос насторожит его, во всяком случае, не оставит равнодушным. — Пожалуй, ничего. — Ну-ну, — слабо улыбнулся Розыков. — Не играйте со мной в прятки, Андрей Павлович. Я вижу: вас что-то еще тревожит. Возможно, вы боитесь за сестру? — Да, боюсь, Якуб Розыкович. — Напрасно. — Вы еще не все знаете, Якуб Розыкович. Она сегодня поехала с Баловым в Чимган. — Ну и что же? Я и вам посоветовал бы побывать в Чимгане. — Якуб Розыкович, вы, наверное, не представляете, чем это может кончиться. Всё гораздо сложнее и запутаннее. Порой мне кажется, что вообще нет выхода из этого тупика. В голосе Андрея послышались тревожные нотки. — Что пугает вас? — Не знаю, Якуб Розыкович. Голова идет кругом. Может, вы знаете? — Не хитрите, Андрей Павлович. Розыков догадывался, что волнует Романова. Однако он не хотел говорить об этом. Конечно же — они предприняли необходимые меры: установили за Баловым наблюдение... чтобы оградить его от Красова. Балов после того, как устроился на работу, подробно рассказал Джаббарову о своей жизни. Джаббаров внимательно выслушал его, вспомнил недавнюю встречу с Красовым и решил, что Красов не случайно появился в городе. Он наверняка знал, куда отправится Балов, когда окажется на свободе. Ему нужны были люди и именно такие, как Балов, испытавшие на себе взлеты и падения преступной жизни. С ними легче было договориться, во всяком случае риск стоил игры. Джаббаров не сказал Балову, что видел Красова в городе, и организовал наблюдение за Баловым. Впрочем, возможно, в данном случае Джаббаров преследовал иную цель. Он не знал адреса Красова и, организуя наблюдение за Баловым, расставил ловушки на пути Красова. По-видимому, так поступил бы любой оперативник. Это был наиболее верный и наиболее безопасный шаг. Не случайно он получил одобрение на совещании. Романов внезапно заторопился: — Извините, Якуб Розыкович, я, наверное, отнимаю у вас время? — Скорее всего я у вас, — сказал Розыков. — Мне некуда девать время. — Счастливчик. — Розыков произнес это слово, чтобы побороть неловкость Романова. Он ведь не бездельничал — разыскивал Красова. — О Лите не беспокойтесь. Кстати, она не собирается домой? — Нет. Пожалуй, не-ет, — не сразу ответил Романов. — Ее дом теперь здесь. — До свидания. Не рискуйте напрасно. — Ну что вы! Я не новичок в ОУРе. — Поэтому и не рискуйте, — сказал Розыков. — Почему вы не поехали в горы? Романов замялся: — Ну, во-первых, меня никто не пригласил, во-вторых, вы попросили меня к себе, в-третьих, Тимур рассоветовал. Простившись с Розыковым, Андрей решил съездить к знакомому Балова, который выгнал его в первый день приезда в Ташкент.26
Допрос Крылова вел следователь Макаров. Установив необходимые анкетные данные, он внимательно наблюдал за Крыловым, стремясь вести допрос тактично — не давить своим присутствием. Джаббаров стоял у окна, прислонившись к стене, тоже незаметно наблюдая за Крыловым. Рядом с ним, на тумбочке, мирно гудел «подхалим»[54]. Напротив, под портретом Дзержинского, темнела трещина. — Будем откровенны до конца? — Как вам угодно, — выдержав взгляд Макарова, с дежурной улыбкой ответил Крылов. — Признаете ли вы себя виновным? — В чем? — В краже вещей из квартиры Королевой? — Странный вы человек, гражданин начальник. Как же я могу сознаться в том, чего не делал. Вы сначала докажите мне мою вину. Вам за это платят деньги. Макарова покоробило такое циничное заявление, однако он сделал вид, что это только позабавило его. — Что же, и докажу. — Макаров взял трубку телефона, набрал нужный номер. — Товарищ Якубов, пригласите, пожалуйста, свидетельницу Майорову. В кабинет торопливо вошла пожилая женщина, та, что несколько дней назад, во дворе, где жила Королева, отчитала мужчину, проявившего трусость, когда стало известно, что незнакомец, заходивший в квартиру Королевой, преступник. — На очной ставке, которую проводил капитан, — кивнул Макаров на Джаббарова, — вы сказали, что видели этого человека. — Он посмотрел на Крылова. — С коричневым чемоданом у вас во дворе. Так? — Так, так, — быстро отозвалась Майорова. — Он, ей-богу, он! — О чем говорит эта старая перечница? — продолжая улыбаться, поинтересовался Крылов. — У меня что-то неладно со слухом. Повторите! Сделайте, пожалуйста, такую милость. Джаббаров вдавил окурок в пепельницу, стоявшую на подоконнике, повернулся к Крылову: — Перестаньте паясничать! Майорова быстро оценила обстановку и немедленно перешла в наступление. — Ах ты, идол проклятущий, это я — старая перечница? У тебя еще молоко на губах не обсохло, пес паршивый! Он это, он! — посмотрела она на Джаббарова. Не было других мнений и у остальных соседей Королевой. Все подтвердили свои прежние показания: студент, встретившийся Азимову и Джаббарову на площади Пушкина, кондукторша и шофер такси. Когда эта очная ставка была закончена, Крылов с некоторой раздражительностью сказал: — Допустим, все они говорятправду, какой от этого толк? Не пойманный — не вор. Прямых улик у вас нет. Раздражение Крылова обрадовало Макарова. Он понял, что преступник выдыхается, и, помедлив, усилил наступление, использовав два главных козыря: показания Муравьева и «фомич», которым была открыта квартира Королевой.27
Муравьев зашел медленно, нехотя опустился на стул. Он заметно осунулся, стал, кажется, еще длиннее и нескладнее. Крылов внешне спокойно встретил Муравьева. Если бы не Джаббаров и не Макаров, то он наверняка не сдержался бы, и Муравьев, пожалуй, не устоял бы, не смог бы устоять. — Здорово, старик. Что ты хочешь сообщить этим приятным молодым людям? Здесь все понимают наоборот. Не забывай. Джаббаров и Макаров догадались: Крылов предупреждал. Как отнесется к этому Муравьев? Сдастся? Атакует? Муравьев не испугался Крылова и ничего не скрыл. Крылов сначала нервничал — пытался перебить Муравьева, потом начал успокаиваться, и вскоре на его лице появилась прежняя дежурная улыбка. Склонив голову так, чтобы глядеть на Муравьева снизу, он то и дело говорил: «Молодец, старик!» Джаббаров и Макаров с интересом наблюдали за обоими. Они видели: Крылов и Муравьев ненавидели друг друга, хотя Крылов внешне был любезен. Значит, усилия работников ОУР не были напрасными. Цель была близка — через час-другой все встанет на свои места. Одни будут реабилитированы, другие, наоборот, уличены в преступлении. Дело уйдет в архив. Может, на год или на два, может — навсегда. Смотря по тому, как станут вести себя люди, причастные к этому делу. Крылов неожиданно захохотал: — Мели, Емеля, — твоя неделя. Врать ты, вижу, здоров. Наверное, специальные курсы закончил. А, старик? — Значит, я вру, да? — вскочил Муравьев. — Вру, да? Ты говоришь правду? Э-эх, ты! Дураком прикинулся! Таких, как ты, надо... — Нервишки не выдержали? — Не выдержали! — Гад! Тебя первого надо к стенке! Тебя! — Крылов грузно, всем телом повернулся к Муравьеву, стиснув зубы так, что на щеках вздулись темно-красные бугры. — Тебя! Ты ограбил мужчину! Ты! Как он умолял тебя! Забыл? — Он повернулся к Джаббарову, вытянул шею, напрягся. — Пишите, гражданин следователь. Пишите, ладно. Я тоже был с ним. Нужно бы обо всем раньше рассказать. Пожалел человека. Думал, в тюрягу попадет — натерпится горя. Пишите. — На его лице опять появилась дежурная улыбка. — Только не мудрите, гражданин следователь. Не пришивайте чужое дело. Я свое отстрадал. На этот грабеж пошел по глупости. Пьяным был. Ничего не соображал. Вообще-то я не пью. Эта длинноногая цапля меня совратила. — Ах ты, мать твою... Значит, я совратил тебя? — еще раз вскочил Муравьев. — Ты, выходит, ни того... не пьешь? А? — Подождите, Муравьев, — сказал Джаббаров. — Не кипятитесь. Побудьте пока в коридоре. — Хорошо. Муравьев вышел. Джаббаров кивнул вслед: — Когда вы познакомились с ним? Крылов подумал немного, потер вспотевший рукой лоб: — Дней двадцать назад. — Он называет число. Двадцать девятое апреля. — У него память лучше. Макаров положил перед Крыловым ломик «фомич», получив взглядом у Джаббарова разрешение, продолжил допрос: — Узнаете? — Видел. — Где? — У Муравьева. — Муравьев утверждает, что ломик ваш. — Врет. Крылов еще что-то хотел сказать, однако не успел: казалось, кто-то пнул здоровенной ногой здание. Оно вздрогнуло, заскрипело, как старое дерево, заходило ходуном. С потолка посыпалась штукатурка, замигала настольная лампа, запрыгала на столе, как живая. С тумбочки на пол полетел графин с водой. Во дворе что-то ухнуло. «Ну вот, снова началось», — с досадой подумал Джаббаров. — Семь баллов, — посмотрел на него Макаров. — Не меньше. Крылов неожиданно сорвался с места: метнулся к выходу, заорал, как помешанный: — А-а-а-а! А-а-а-а-а-а!! Макаров шагнул за ним. —Не беспокойся, Григорий Максимович, — остановил его Джаббаров. — Никуда он не уйдет. Сегодня дежурит Якубов. У него нервы железные. Пост не бросит. Вообще-то тряхнуло здорово. Я не завидую тем, кто сейчас находится в эпицентре. Когда это кончится? — Не скоро, говорят. Слышали выступление Уломова? — Слышал... Как там Карима? — Так же, как и вы. Судя по всему, у вас характеры одинаковые. Такой толчок не испугает ее... О, вот и наш гость, — вскинул Макаров глаза на входившего в кабинет Крылова. — Куда это вы убежали? Мы уже забеспокоились. Нельзя же так. Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Крылов сел: — Стихия. — Стихия. А нервишки у вас, оказывается, с надрывом. Не мешало бы подлечить. Джаббаров посмотрел на следователя. Макаров продолжал спокойно сидеть. Чего там таить — такой толчок многих сорвал бы с места. Макаров между тем продолжал: — Квартиры на Луначарском шоссе и на улице Байнал-Минал были открыты вот этим ломиком. Возможно, вы объясните, кому он принадлежал в то время? Последняя кража была совершена двадцать восьмого апреля. Первая — пятнадцатого марта. — Интересно. — Голос у Крылова дрогнул, — Не собираетесь ли вы пришить мне все преступления, которые висят на вашей шее? Ничего у вас не выйдет из этого. — Вы уверены? — Да. Ломик не мой. — Ваш. — Макаров положил перед Крыловым записку, оставленную в квартире Королевой. — Что вы скажете об этом? Крылов взял записку, повертел в руках, сказал с ухмылкой: — Не умею читать. Неграмотный. Разве вы забыли? — К сожалению. — Вы хотите, чтобы я знал, о чем говорит этот клочок бумаги? — юродствовал Крылов. — В таком случае, прочтите вслух. Я с удовольствием послушаю. Знаете, мне нравится, когда кто-нибудь читает вслух. — Вы, оказывается, неплохой артист, — сказал Джаббаров. — Мы все, гражданин следователь, артисты. Только почему-то боимся признаться в этом. Играем эдаких стойких государственных мужей, прекрасно зная, что мы — круглые нули. — Вы не боитесь? — Я? Крылов пожал плечами. Должно быть, мысль, которую он только что высказал, пришла к нему случайно, он еще не успел по-настоящему вникнуть в нее, поэтому и пожал плечами, не зная, что ответить. Джаббаров не переспросил — не хотел спорить с Крыловым, потому что видел: все равно сейчас ничего не докажешь ему. Он решил продолжить допрос, сделав упор на слабую сторону Крылова, — это сулило успех. — Нам известно, что вы увлекаетесь древними скульптурными работами. Значит, вас интересует история земли, не так ли? Может, определенный период, связанный с искусством и культурой? Крылов не выдержал. Проявляя осторожность при ответах на вопросы Макарова, Крылов позабыл об этом, отвечая Джаббарову. Он с самодовольной улыбкой взглянул на него и проговорил не без гордости: — Не думаете ли вы, что простой человек может воспринимать только вкус пищи и запах алкоголя? Все лучшее, что хранится на земле, создано такими людьми, как я. — Спасибо за откровенность, — слегка склонил голову Джаббаров. — Вы, очевидно, не сами увлеклись древними творениями? Кто-то привил вам эту любовь? Отец или мать? Может, друг? Крылов вздрогнул, словно услышал позади себя удар кнута, с испугом обернулся, пригнув большую красивую голову. Что встревожило его? Воспоминание об отце или матери? Воспоминание о человеке, с которым когда-то дружил? Кто это был? Мужчина? Женщина? — Я жду, — напомнил Джаббаров. — Друг, — сказал Крылов. — Женщина? — Да. — Вы не хотите встретиться с ней? — Зачем я ей такой? — Не все же время вы будете «таким»? Вы еще молоды. Стать честным человеком никогда не поздно. Кстати, возвратите Королевой статуэтку Лепешинской. Я уверен, что она сохранилась у вас. Вы не могли продать ее. — Нет у меня никакой статуэтки. — Есть. — Опять вы за свое! — устало проговорил Крылов. — Прошу вас, не навязывайте мне чужих дел. Попробуйте побыть в моей шкуре. — Мы не навязываем вам чужих дел. Это не в наших правилах. Мы хотим, чтобы вы сознались в преступлениях, которые совершили. — Я совершил только одно преступление: ограбил мужчину. — Крылов возвратился к прерванному разговору. — Вы помните: ограбил не один. Вместе с Муравьевым. Ничем больше не могу порадовать вас. — Бросьте, этого преступления вы не совершали, — сказал Джаббаров. — Вы совершали другие преступления — обворовывали квартиры. Последняя жертва — Королева. Вы видели у нее деревянного идола. Думаю, что он тоже произвел на вас впечатление. Во всяком случае, не оставил вас равнодушным. — Идол? — Идол... Григорий Максимович, — обратился Джаббаров к Макарову, — дайте, пожалуйста, отпечатки пальцев. Следователь вытащил из сейфа несколько плотных листов бумаги: — Пожалуйста, Касым Гулямович. Джаббаров положил листы перед Крыловым. — Вот отпечатки ваших пальцев, вы оставили их на идоле у Королевой. Видите идентичность рисунка? — Джаббаров поймал бегающие глаза Крылова. — Любовь к красоте оказалась сильнее вас. Вы позабыли об осторожности и несколько раз прикоснулись к скульптуре. Может быть, объясните нам, как вы очутились около нее? — Ч-черт! — выругался Крылов. Макаров воспользовался паузой: — Я напомню вам еще об одной краже, которую вы совершили с Пулатовым и Степановым несколько лет назад в нашем городе. Крылов с недоверием посмотрел на следователя: — Неужели вы и это узнали? — Узнали, — сказал Макаров. — Мы также узнали и вашу настоящую фамилию. Вы — Каранов Лев Борисович.28
Зазвенел телефон. Трубка слегка вздрагивала, словно землетрясение еще не кончилось. Джаббаров выпрямился, сбросил с себя оцепенение, снял трубку, около которой валялись комья обвалившейся штукатурки. — Джаббаров. Из трубки вырвался радостный голос Каримы: — Джаббаров, добрый день! Что же ты не отвечаешь? Я чуть с ума не сошла... Ты почему не звонишь мне? Что-нибудь случилось? — Нет. Все нормально, Карима. Не беспокойся. Как у вас? — У нас тоже. Ты когда приедешь домой? — Не знаю. — Постарайся приехать пораньше. Я так давно тебя не видела. Нет, честное слово. Почему ты смеешься, Касым? — Что ты, не смеюсь, Карима. Я радуюсь... Потому что ты есть у меня, потому что люблю тебя. Карима ответила тихо, словно боялась, что ее может услышать еще кто-нибудь: — Все услышала, все поняла, Касым. Джаббаров положил трубку, когда в ней послышались короткие гудки, присел в кресло и долго сидел, прислушиваясь к стуку собственного сердца, думая о жене, о времени, прожитом вместе с нею, о людях, с которыми встречался в эти тревожные дни. Вывел его из задумчивости Азимов. Войдя в кабинет, он сказал отрывисто: — К полковнику! Розыков был не один. В кресле, придвинутом к столу, сидела женщина лет тридцати пяти в темном костюме. Она смотрела перед собой печальными глазами, словно задавала кому-то невидимому вопрос: «Стоит ли вообще жить на свете?» — Садитесь, — указал Розыков на свободные стулья. Джаббаров и Азимов сели. — Касым Гулямович, это жена Муравьева, Александра Дмитриевна. Пришла к мужу... Можем ли мы разрешить ей свидание? Джаббаров посмотрел на полковника. Странно, почему он спрашивает об этом? Он начальник, сам решает, что делать в каждом конкретном случае. Впрочем, к мнениям подчиненных Розыков всегда прислушивался и принимал, если видел, что они полезны. — Я думаю, что мы можем отпустить Муравьева домой. Розыков вскинул на Джаббарова глаза: — Даже так? — Мы можем отдать его на поруки. В коллектив, где он трудится. Это к тому же послужит хорошим уроком для тех, кто не прочь выпить за чужой счет. — Согласен... Ваше мнение, Тимур Назарович? — Я... согласен тоже, — покраснел Азимов. Ему было приятно то, что Розыков обратился к нему по имени-отчеству. — Эти два дня я посвятил Муравьеву. Думаю, что он небезнадежен и коллектив согласится взять его на поруки. Жена Муравьева, не в силах больше сдерживать себя, громко разрыдалась.29
Они подошли к открытому окну: начальник отдела уголовного розыска, старший оперуполномоченный и оперуполномоченный. Подошли молча и стояли тихо, глядя на Муравьевых, которые неторопливо пересекли улицу и так же неторопливо пошли по тротуару, вдоль высокого деревянного забора, за которым маячил подъемный кран. — Итак? Азимов повернулся к Розыкову, отходившему от окна, неуверенно предложил: — По-моему, пора по домам. Уже десятый час. — Да-да, — тотчас заторопился Джаббаров. — Карима просила приехать пораньше. Пора по домам. — Ну что ж, раз пора, значит, пора, — возвратился Розыков к столу. — Кстати, Тимур Назарович, присмотритесь к курсанту Аденину. Мне кажется, из него выйдет неплохой криминалист. — Хорошо, Якуб Розыкович. Из здания вышли вместе. На крыльце остановились, с жадностью вдохнули прохладный вечерний воздух. — Касым Гулямович, завтра можешь идти в отпуск. Я говорил с начальником управления. Он не против. Обрадуй жену. Джаббаров отказался: — Нет, Якуб Розыкович, я не могу сейчас уехать из Ташкента. Это будет равносильно предательству. Уеду, когда успокоится земля. — Не придется ли тебе ждать несколько лет? — засмеялся Азимов. — Ничего. Подожду. — Ладно. Уговорил, — протянул Розыков руку. — Всего хорошего. Передай Кариме Исраиловне привет. — Спасибо, Якуб Розыкович... Когда же вы приедете к нам? Она все глаза проглядела. Между прочим, печка у меня уже не дымит. Работает, как часы. — Сам исправил? — Сам. Правда, не всё. Кое-что сделал сосед. — Печник? — Да. — Ясно. — До свидания. Джаббаров легко сошел с крыльца и вскоре скрылся за большим пятиэтажным зданием, темневшим на углу улицы. Розыков повернулся к Азимову. — Нам, кажется, по пути, Тимур Назарович? — Нет, Якуб Розыкович. Сегодня я иду на именины друга. — Один? — С Андреем. — Литу не берете? — Возьмем, если согласится. Я еще не говорил с ней. Рано ушла на работу. Розыков протянул руку: — До свидания. Азимов пожал руку, энергично тряхнув головой: — До завтра, Якуб Розыкович! Розыков закурил и, взглянув на окно, за которым маячила высокая фигура дежурного офицера, не спеша зашагал по тротуару вдоль покосившихся старых домов.30
Каранов все-таки переломил себя — сказал, где хранится статуэтка Лепешинской. Джаббаров сам съездил за ней и в этот же день повез к Королевой. Королева, казалось, помолодела на несколько лет, как только увидела знакомую фигурку, потянулась к ней. — Боже мой, неужели это она? — Она, Анна Дементьевна, она! Наверное, Королева не слышала Джаббарова. Она прошла в глубь комнаты, присела на стул и прижала статуэтку к щеке. Джаббаров поспешно повернулся и, не прощаясь, вышел на улицу. Вечером, на следующий день, к Джаббарову в кабинет заглянул старшина Нетудыхата, дежуривший в этот день в здании. У него был виноватый вид. — Вы еще здесь, товарищ капитан? Там до вас рвется громодянка Королева. Шо сказаты ей? — Як шо? — невольно по-украински произнес Джаббаров. — Ну як? Сказаты, шо вы тут али нэма? Вона хоче с вами побалакать. Може, пожертвуете для ии хвылыну? Сдается, шо вона дюже растривожена? — Пожертвую, конечно, пожертвую. Зови ее сюда... Подожди, подожди, Нетудыхата. Я сам. Джаббаров выскочил из-за стола, выбежал из кабинета, чуть не свалив на ходу тумбочку с графином, прыжками сбежал по крутой лестнице и остановился у широкого низкого входа в вестибюль. Королева стояла у стены с большим продолговатым свертком. — Я к вам, Касым Гулямович. — Что-нибудь случилось? — Нет-нет! В кабинете Королева неторопливо огляделась, подошла к тумбочке, сняла с нее графин и вентилятор, быстрыми ловкими движениями развернула сверток. — Пусть она здесь стоит! Джаббаров не верил своим глазам — на тумбочке, будто вестница иного мира, белела статуэтка Лепешинской. Гордо вскинутая головка балерины смотрела прямо на него. Королева положила руку на руку Джаббарова, заглянула в его взволнованные глаза. — Примите ее, не отказывайтесь. Нет-нет, ничего не говорите. Умоляю вас! Она медленно повернулась и так же медленно вышла из кабинета. Джаббаров остался один. Он не побежал за неожиданной посетительницей — знал, она действительно обидится, если сейчас попытаться возвратить ей статуэтку. — Дела́! Джаббаров снова посмотрел на статуэтку и будто только теперь по-настоящему понял, как был необходим людям его тяжелый труд.31
Зазвенел телефон. — Капитан Джаббаров? — Да. — Говорит ответственный дежурный. Только что звонил лейтенант Азимов. Он напал на след Красова. Сообщаю адрес. Через несколько минут из ворот здания управления милиции выехала оперативная машина. В ней сидели Джаббаров, Григорьев и Савицкий. Впереди, у самого горизонта, висел белый рог луны.1966 г.
Потерпевших не было

1
Секретарь суда — миловидная голубоглазая девушка — внимательно оглядев зал и положив руки на папку, негромким строгим голосом сказала: — Встать! Суд идет! Люди торопливо поднялись. Двери, ведущие в зал из коридора, отворились, и в них появились судья и народные заседатели. — Прошу садиться. Подсудимые Аганов, Гадаев, Халилов, Гроссман, Гринберг опустились на скамью одновременно, будто спешили избавиться от множества глаз, устремленных на них. Судя по всему, они готовились к этой минуте, поэтому довольно искусно изобразили на лицах смущение и раскаяние, зная, что это трогает людей. Зал был переполнен. Пришли свидетели, родственники и знакомые подсудимых, а также любители занимательных историй и праздные гуляки. Кому не нашлось места в зале, стояли в подъезде и под окнами здания. Два парня пристроились на крыльце, расстелив газеты прямо на ступеньках. Они мусолили в зубах потухшие сигареты, бесцеремонно рассматривали свидетелей и изредка бросали фразы, никому вроде не адресованные. — Достанется сегодня некоторым, — говорил грузный, широкоплечий блондин своему щуплому рыжему приятелю. — Улавливаешь? Рыжий улыбнулся в тонкие, как ниточка, усики: — Еще бы не уловить. Улавливаю! Безразличным ко всему, что происходило вокруг, казался только один человек. Он сидел на скамейке, врытой в землю у дерева, водил небольшим прутиком по песку и время от времени резким кивком головы откидывал прядь седых волос, спадающих на лоб. Это был Тимур Азимов. — Свидетель Соломин! Голос секретаря суда прозвучал для многих неожиданно. Прежде всего для самого Соломина, стоявшего на крыльце. Он торопливо вошел в зал. — Веревочку захватил? — грубо спросил широкоплечий блондин. — Что? — оторопел Соломин. — Какую веревочку? — Язык подвязать. Чтоб не болтался. Блондин не договорил. Азимов, взяв его за локоть, отвел в сторону. — Поговорим? — Поговорим! — вызывающе бросил блондин. — Хочешь вместе с этим типом схлопотать? Я щедрый! Рыжий встал рядом с Азимовым, выразительно похлопал рукой по карману. — Может, некоторым надоело жить? А! — с одесским акцентом поинтересовался Рыжий. Азимов показал удостоверение. Лица дружков моментально вытянулись. — Товарищ... Я... понимаете... пошутил... — закрутил головой блондин. — Пошутил? — переспросил Азимов. — Честное слово! — поддержал блондина Рыжий. — Он без шутки дня прожить не может. — Документы! — Документы? — снова закрутил головой блондин. — Пожалуйста. Разве мы против? Это можно. Садык, у тебя есть что-нибудь? — Кто в наше время носит с собой документы? — хихикнул Рыжий. — Ты прав. У меня тоже, к сожалению, ничего нет. Вы не подумайте, что мы какие-нибудь бродяги, — заискивающе посмотрел блондин на Азимова. — Мы студенты. Садык учится в политехническом, я — в педагогическом. Можете проверить. — Фамилия? — Моя? Иськов. — Имя? — Марат. — Вы? — перевел Азимов взгляд на Рыжего. — Я? Гулямов Садык. Азимов хотел еще что-то спросить, однако не успел — в дверях появилась девушка — секретарь суда и повторила громко: — Свидетель Соломин!2
Яков Карпович Соломин возвратился домой поздно вечером и, поужинав, попросил жену постелить постель. — Уж не заболел ли ты? — встревожилась Дора Михайловна. Яков Карпович не любил жену, считал, что судьба обидела его, когда привела в ЗАГС. Однако он не проявлял неприязни к настойчивой и решительной Доре Михайловне, напротив, заискивал перед ней, даже побаивался ее. — С чего ты взяла, что я заболел? Здоров! — Уж я-то лучше знаю, когда ты здоров, когда болен! — строго взглянула на Якова Карповича Дора Михайловна. — Иди. Ложись. Отдохнуть Якову Карповичу не удалось — младшая дочь Софочка сообщила, что пришел Григорий Рыжевский. Яков Карпович болезненно поморщился. — Пошли его ко всем чертям! — Пожалуйста, сделай это сам, — слегка наклонила голову Софочка. — Это твой знакомый, ты и решай, как поступить с ним. Я бы, например, не пустила его даже за порог. — Чем это он не угодил тебе? — удивился Яков Карпович. Ему не нравилось, когда домашние слишком откровенно судили о его друзьях. — Всем! — бросила Софочка. Софочка недовольно повела узкими плечиками. Ей не нравился этот щеголеватый дядька с лысиной... Что еще? — Ты куда? — Скажу, что ты заболел. — Не смей! Заговорил дух противоречия. Возможно, у гостя какое-то важное дело? — Ты выйдешь? — Да. Софочка снова пожала плечиками и выскользнула из спальни. Яков Карпович стал одеваться, однако галстук повязывать не стал — решил, что гость рад будет видеть его и без галстука. Григорий Рыжевский вскочил навстречу с кресла, протянул Якову Карповичу длинную худую руку. — Добрый вечер, Яков Карпович. — Здравствуй, Гриша, — ответил Яков Карпович, пожимая влажную ладонь Рыжевского. — Что это тебе не сидится дома? Жена выгнала? — О, если бы у меня была жена! Вообще-то я бы женился, — расплылся в улыбке Рыжевский. — Непременно бы женился, если бы встретил свою Дору Михайловну. — Встретишь. — Вы думаете? Спасибо. — Не за что. — Как же — не за что. Вы вдохнули в меня надежду. Вы — удивительный человек, Яков Карпович. Вам, с вашими способностями, не на складе быть, а артель возглавлять. — Хватит с меня и того, что имею. Правда, в душе он был согласен с Рыжевским. Действительно, склад — совсем не то. Обувное предприятие или трикотажное — иное дело. Только почему, собственно, артель? Он мог бы справиться и с фабрикой. — У вас вся семья талантливая, — продолжал Рыжевский. — Возьмите Софочку! Это чудо! — Не преувеличивайте, Гриша, — перешел Яков Карпович на «вы». — Я не преувеличиваю. Так скажет каждый. Я слышал, вы советуете ей поступить на юридический факультет? — Что вы, Гриша, я никогда не давал ей глупых советов. Разве девушка может быть юристом? Это тонкое психологическое занятие. — Ну, допустим, ей не вечно ходить в девушках. Не в этом дело, Яков Карпович. — Что вы этим хотите сказать? — встревожился Яков Карпович. — Вы не догадываетесь? — изобразил недоумение на лице Рыжевский. — Странно. Мы взрослые люди и должны понимать друг друга с полуслова. В общем, вчера вечером я взвесил все «за» и «против», чаша весов качнулась — решил жениться. Мне думается, что я нашел свою Дору Михайловну. У Якова Карповича похолодело сердце. Значит, он не ошибся? Рыжевский ходил в дом ради Софы. — Что ж, поздравляю, — с трудом выдавил из себя Яков Карпович. — Спасибо. Может, вы хотите узнать имя моей избранницы? Яков Карпович боялся ответа Рыжевского. — Не все сразу, Гриша, скажешь в другой раз. — Он снова перешел на «ты». — Давай лучше сыграем в шахматы. — Мне не до шахмат. Я люблю вашу Софу. Яков Карпович боялся сердечного приступа, однако этого не произошло. Видимо, разговор с претендентом на роль зятя был не так уж и страшен, как ему казалось. — Постой, постой, Гриша, — сказал Яков Карпович довольно спокойно. — Ты, кажется, чего-то не учел. Софа еще ребенок. Ей только что исполнилось семнадцать лет. Тебе же, по моим скромным подсчетам, за сорок. — Мне тридцать четыре года, Яков Карпович, — оскорбился Рыжевский. — Тридцать четыре — не двадцать четыре. Не обижайся, Гриша: Софа тебе не пара. Рыжевский, по-видимому, хотел возразить. Он даже откинулся на спинку стула и поднял негодующе брови. Однако заготовленные на такой случай убедительные слова не прозвучали. В гостиную вошла Софочка. На щеках ее горели розовые пятна. Она была взволнована. — Папа, к тебе пришли. — Кто? — Какие-то товарищи из... милиции. Яков Карпович встал, зачем-то потушил настольную лампу и снова сел, беспомощно опустив руки, должно быть, не зная, как поступить: выйти в коридор или остаться в гостиной.3
Брови Рыжевского удивленно взметнулись вверх. Он шагнул навстречу пожилому мужчине, вошедшему в гостиную с молодым человеком. — Товарищ подполковник! Так это вы из милиции? Здравствуйте. Вот неожиданность! Прямо как в сказке. Даже самому не верится. — Гриша? — удивился пожилой мужчина. — Добрый вечер. Ты как сюда попал? На судьбу, надо полагать, не жалуешься? Растолстел. Смотри, живот начнет расти. — Не начнет, товарищ подполковник, — расплылся в улыбке Рыжевский. — В мои годы жаловаться на судьбу — смешно. — Подожди, Гриша, — охладил пыл Рыжевского мужчина. Он достал из кармана пиджака красную книжечку, развернул ее, показал Якову Карповичу, представился: — Борисов. Сотрудник ОБХСС. — Оч-чень п-приятно, — произнес дрожащими губами Яков Карпович. — Не думаю, — строго, с ледяной ноткой в голосе, заметил Борисов. — Гражданин Соломин? — Да, — кивнул Яков Карпович. — Собирайтесь. Яков Карпович побледнел: — К-куда? — Поедем в управление милиции. Захватите с собой на всякий случай что-нибудь поесть, возможно, вам придется немного задержаться у нас... Собирайтесь.«Волга», в которой ехали Борисов, Семенов, Рыжевский и Соломин, неторопливо скользила по широкой асфальтированной улице, перерезанной трамвайной линией. Соломин, сидевший между Рыжевским и Семеновым, опасливо поглядывал на Борисова и тихо вздыхал. Он пытался восстановить в памяти события своей жизни, которые могли бы заинтересовать милицию. Но ни на чем не остановился. Не было в его биографии «черных пятен», хотя мелочи кой-какие существовали: ведь работа у него была такая... Машина круто повернула. Огромный четырехэтажный дом, стоявший на углу, качнулся и будто начал падать. «Неужели конец?» — подумал Соломин. Ему показалось, что «Волга» переворачивается. Он сжался, втянул голову в плечи. — Я помогу. Не беспокойтесь. Кто это? Чей это голос? Рыжевского? Кажется, его. Чем он поможет? Поговорит с этими людьми? Это ничего не изменит. Впрочем, подполковник, судя по всему, уважает его. Неисповедимы пути господни. — Это ты, Гриша? — Я. Все будет в порядке. Слышите? — Да. — Только, наверное, кое-что понадобится. Соломин понял намек: — Сколько? — Узнаете. — Спасибо, Гриша. Соломин поймал руку Рыжевского и крепко сжал ее. Рыжевский заговорщически подмигнул, достал из кармана блокнот и карандаш, написал что-то мелким почерком и, подавшись вперед, дружески похлопал шофера по плечу, попросил громко: — Остановись, браток. Мне сюда. В этот переулок. «Волга» затормозила.
4
Клара Боброва с удовольствием поставила точку, размашисто подписалась. Наконец-то, очерк был закончен. Он доставил ей немало хлопот. Тема была не ее — она выручала Надю, работающую в отделе сельской жизни. Надя торопилась в отпуск и попросила сделать за нее что-нибудь читабельное о звеньевой Фирюзе Хасановой. Обычно Клара писала о милиции. Это был ее конек, на котором она довольно уверенно поднималась по крутым журналистским тропам. Правда, иногда он упрямился, этот скакун, ей приходилось нелегко. Особенно страдала Клара на резких поворотах. Впрочем, в этом виновен был не конек, скорее всего она сама. Ей хотелось поразить читателя необыкновенным событием, чтобы с первых строк замирало сердце в ожидании встречи с таинственным «похитителем». Однако необыкновенных событий становилось все меньше, таинственные похитители оказывались, увы, не таинственными, приходилось с помощью фантазии заполнять этот «пробел» в реальной действительности. Тут-то, собственно, она и «вылетела из седла». Клара оглядела письменный стол, привычно сложила в две стопки рукописи и книги, задержала взгляд на телефоне. Пора, пожалуй, позвонить в редакцию — узнать, когда пойдет очерк о Прозорове. Этот человек достоин внимания читателей. Жаль только, что она ничего не рассказала о его личной жизни. Рассоветовал полковник Розыков — сказал, что не нужно бередить рану человеку: Илья Прозоров полюбил девушку — Валю, которая сейчас находилась в заключении. Клара подошла к телефону, взяла трубку и, услышав гудок, набрала номер редакции. — Теплов? Здравствуй, Теплов. Ты еще не заверстал мой очерк? Я, я... Боброва. Завтра выходит? Спасибо. Ты настоящий друг. При случае расцелую тебя... Трубка легла на рычаг телефона. Клара возвратилась к письменному столу. Итак, завтра выйдет очерк о Прозорове. На этот раз она сделала то, что хотела. Читатели узнают о своем хорошем земляке — человеке долга, а не об уголовной истории. В коридоре раздался звонок. Через секунду — второй и третий. Клара подскочила к двери, сдвинула защелку вправо — дверь открылась. В коридор, не спрашивая разрешения, вошла худенькая девушка. Она облегченно вздохнула и сказала взволнованно: — Думала, что не застану вас дома. Здравствуйте. — Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. — Спасибо. Вы, наверное, не помните меня. Я — Софа Соломина. В этом году окончила школу. Сейчас сдаю экзамены в ТашГУ. Думаю стать юристом. Вы были у нас на вечере выбора профессии. Рассказывали о милиции. — Да-да. Откровенно говоря, Клара не помнила эту девушку — на встречу пришло так много учеников! В комнате Софочка, машинально опустившись в кресло, рассказала о появлении в доме двух мужчин в штатском и об аресте отца. Клара внимательно выслушала Софочку. — Вашего отца, судя по всему, не арестовали, а пригласили на беседу в милицию. — Клара Евгеньевна, я не требую от вас невозможного. Только выясните, где находится отец и в чем его обвиняют. Мне кажется, что они совсем не из милиции. Софочка не могла объяснить, почему решила, что люди, забравшие отца, аферисты. Просто каким-то особым чувством угадывала обман, думая в это время почему-то о Рыжевском. Расхваливая отца, он не выражал своего истинного отношения к семье — преследовал какую-то цель. — Вы взволнованны, — выслушав Софочку, сказала Клара. — Поэтому все представляется вам в ином свете. — Может быть, — согласилась Софочка. — Я все-таки могу рассчитывать на вашу помощь? Не отказывайтесь, пожалуйста, я знаю: вы все можете! — Приходите завтра, — сдалась Клара. — Завтра? Что вы! Завтра будет поздно. Позвоните в милицию. Вас поймут. Я уверена в этом. — Нет, Софа, я никуда не буду звонить. Вечером возвратится с работы муж, поговорю с ним. Возможно, он в курсе дела. Загляните часиков в семь. — Спасибо, Клара Евгеньевна! — лицо Софочки просветлело. — Я знала, что вы поможете мне. До вечера.5
Сорокин прекрасно чувствовал себя. Очередное дело было закончено блестяще, намечалась пауза для отдыха. Это было удивительно и необычно. Не так уж часто в работе оперативников выпадали дни, когда нечем было заняться. Клара открыла дверь сразу, как только услышала звонок, удивленно и радостно спросила, словно сомневалась: — Ты? Николай чуть-чуть задержался у двери, прищурился и ответил нарочито-суровым басом: — Я! — Ты? — прежним тоном спросила Клара еще раз, будто все еще сомневалась. — Боже мой, я-то думала, что это Софа! — Какая Софа? — застыл Николай у вешалки. — У тебя появилась новая подруга? Или ты скрыла от меня старую? Боишься, что она отобьет меня? Признавайся сейчас же, не то я устрою такой содом, что ты до ста лет не забудешь! — Страх-то какой, боже мой! Уж не завернул ли ты по пути в какое-нибудь пиво-водочное заведение? — Разве я похож на человека, который не может завернуть в пиво-водочное заведение? Ты страшно компрометируешь меня. Клара обняла Николая за шею, и он так и внес ее в комнату. Все-таки Клара здорово тогда сделала, что пришла к нему, не послушав родителей, немножко гордая и немножко растерянная, до боли родная. Вот уже пять лет как она с ним. Между тем ему казалось, что они встретились только вчера. Клара снова прильнула к Николаю и долго молчала, прислушиваясь к стуку его сердца. — Кто же эта неизвестная Софа? — Заинтересовался? — Профессиональная привычка. Клара рассказала о приходе Софы Соломиной и о ее просьбе, сообщила, что она обещала прийти еще раз сегодня вечером. — Ну? — Не знаю, Клара... Мне кажется, тебе не нужно вмешиваться в это дело. — Ник, я и не собираюсь вмешиваться, — сказала Клара. — У меня просто не хватило мужества отказать Соломиной. Ей нужно помочь, ты понимаешь? — Как? — Ты — работник милиции! — В таком случае, я ничего не могу сделать, — развел руками Николай. — Давай прекратим этот разговор. Кстати, во сколько она придет? — Часов в семь, наверное. — В семь нас не будет дома. Мы уйдем в театр. — Боже мой, Ник! Ну откуда я знала, что ты купишь билеты в театр? Может, сходим в театр в другой раз? — осторожно спросила Клара. Николай удивленно отступил. Наверное, не зря все-таки говорят, что понять женщину невозможно, если даже призовешь на помощь всех богов. — Ладно. В другой — так в другой. — Ты поможешь? — Я поговорю с ней. — Спасибо. Раздался звонок. — Она? — спросил Николай. — Не знаю. Я сейчас. — Клара быстро вышла в коридор и радостно воскликнула, открыв дверь: — Тимур, родной! Здравствуй! — Здравствуйте, Клара Евгеньевна, — послышался взволнованный голос Тимура. — Николай Аркадьевич дома? — Дома, дома. Заходи, пожалуйста.6
Николай выскочил в коридор и обнял Тимура. Тимур не сразу сел на предложенный стул, сначала огляделся, словно никогда не был в этой комнате, заметил в углу новый телевизор, проговорил, не то осуждая, не то одобряя: — Богатеете? Николай ответил в тон: — Богатеем. — Ну богатейте! Хотя я, знаете, враг вещей, — в голосе Тимура прозвучало одобрение. — Ладно тебе, враг вещей, — прищурился Николай. — Садись, пожалуйста. Тимур сел, еще раз оглядел комнату, поправил волосы, спавшие на лоб. Клара отвернулась, чтобы не видеть седую прядь. Слишком остры еще были воспоминания, связанные с этой прядью. Они уносили в прошлое и сталкивали с Милой, погибшей так дико и глупо. Снова зазвенел звонок. Клара и Николай одновременно встали, чтобы выйти в коридор. Они не сомневались, что сейчас за дверью была Софа Соломина, и, не осознав еще по-настоящему то, что решили, согласно кивнули друг другу и пошли вместе, словно боялись упустить что-то главное, совершающееся сию минуту. Только у двери комнаты к ним будто пришло прозрение: Николай остановился, пропустил Клару вперед, возвратился на место, стараясь не глядеть на Тимура. Тимур заметил это, спросил с присущей ему прямотой: — Что вы сегодня такие... Кого-то ждете? Николай попытался изобразить на лице удивление: — Фантазируешь? — Я не фантазирую, Николай Аркадьевич. Вы в самом деле кого-то ждете. Причем, это тяготит вас. — Перестань! — Николай Аркадьевич, я же не первый год знаю вас, — с прежней прямотой упрекнул Тимур. Николай не успел ответить — возвратилась Клара с газетами и журналами. Она посмотрела на Николая так, словно извинилась, и, остановившись у письменного стола, сказала: — Приходила почтальонша... Зачем ты только выписал столько газет и журналов? Не вмещаются в почтовый ящик. — Я же о тебе беспокоюсь, Клара. Хочу, чтобы ты была в курсе всех дел. Журналистка! Тимур снова откинулся на спинку стула, снова положил руки на колени и восхищенно проговорил: — Хорошо у вас! — Правда? — подхватила Клара. Она была рада этой по сути дела дежурной фразе, ухватилась за нее, невольно выдав свое состояние. — Ну вот, я уже стал похож на обманщика! У вас действительно хорошо. Честное слово, Клара Евгеньевна! — Ладно. Не клянись. Николай взглянул на часы, стоящие на телевизоре, помедлил немного и перевел взгляд на свои наручные часы. — Скоро шесть, не пора ли нам подкрепиться? — Я за, — сказала Клара. — Я против, — подался вперед Тимур. — Только что из кафе, сыт, как говорится, по горло. Даже в сон клонит. — Между прочим, в сон клонит и от голода, — заметил Николай. — Клара! — Сейчас будет все готово! Клара поспешно вышла из комнаты. Тимур посмотрел на Николая и осуждающе покачал головой. Николай обреченно пожал плечами. — В данной ситуации, я — пас. К тому же — ты оказался в меньшинстве. В общем, готовься к испытанию. Клара прошла специальные кулинарные курсы. Кстати, у тебя все в порядке? — Да. — Ты как будто чем-то недоволен? — Что вы, Николай Аркадьевич. Мы только что закончили интереснейшее дело. У меня нет никаких оснований для недовольства. — У тебя хорошие учителя, Тимур... Розыков, Прозоров, Джаббаров. Я когда-то работал с ними. — У вас та же школа, Николай Аркадьевич. — Наверное. Но главное, что мы честно и добросовестно выполняем свой долг. Я верю: настанет время, когда мы дадим бой последнему преступнику. — Это случится нескоро, Николай Аркадьевич. — Конечно, к сожалению, нескоро. Николай взглянул на Тимура и сказал: — Ты все-таки чем-то недоволен! — По-моему, полковник Розыков что-то недопонимает. — Даже так? — Так, Николай Аркадьевич! Вызвал меня вчера и говорит: «За успешное окончание дела предоставляю вам трехдневный отпуск!» Слышите? Ребенок я, что ли? Осталось только погладить по головке. С утра места себе не нахожу. Впереди еще два дня! — Суббота и воскресенье, — напомнил Николай. — Разве это меняет дело? Может быть, вы что-нибудь предложите? — Отдыхай. — Тяжелый вы человек, Николай Аркадьевич! — Так уж и тяжелый? — Тяжелый! — Не выдумывай. — Николай снова посмотрел на часы, стоящие на телевизоре, тут же снова посмотрел на наручные часы и, должно быть, машинально повторил: — Не выдумывай. Тимур насторожился, словно напал на нужный след. — Если вы не ждете кого-то, то куда-то торопитесь? — С чего это ты взял? Вошла Клара и стала накрывать на стол. Тимур некоторое время молча следил за ней, ничем не напоминая о себе, затем сказал, поднимаясь с места: — Клара Евгеньевна, не лучше ли нам отложить пиршество на следующий раз? Вы можете опоздать сегодня. — Нет-нет, Тимур, мы не пойдем сегодня в театр. Не имеем права, понимаешь? Это такая впечатлительная девушка! — Клара! — позвал Николай. — Да? Она слишком поздно поняла, что попала в ловушку, однако отступать не стала. — Разве ты ничего не сказал ему? Николай покачал головой: — Ничего. — Прости. — Теперь ответьте, почему вы сегодня не имеете права идти в театр, Клара Евгеньевна? Клара взглянула на Николая, словно спросила, рассказать ли, почему они решили побыть сегодня дома. Николай поощрительно кивнул. Клара не стала больше испытывать терпение Тимура — рассказала все, ничего не скрыв, поделилась даже сомнениями, которые возникли после ухода Софы, сообщила о своем выступлении в школе, на вечере, посвященном выбору профессии. Тимур неожиданно приказал: — Собирайтесь! Клара неуверенно пожала плечами: — Удобно ли? — Удобно. Не беспокойтесь. Я побеседую с Софой Соломиной и выясню все, что нужно. — Ну что ж, Тимур, собираемся. — Николай хотел еще что-то сказать, однако, встретившись взглядом с Тимуром, решительно повторил:— Собираемся! Тимур расправил усы. Судя по всему, дело связано с похитителями людей. Вообще-то, он не верил в существование подобной категории преступников. И все же чем черт не шутит, когда развлекается.7
«Волга» въехала в квартал частных одноэтажных домов с приусадебными участками. Дом, у которого остановилась машина, ничем не отличался от других, одинаковы были и деревья — стройные высокие тополя, тянувшиеся в белое полдневное небо. — Следуйте за мной, — сказал Борисов Соломину, когда они вышли из машины. — Разве это милиция? — удивился Соломин. — Вы соскучились по решетке? Соломин потрогал вспотевшую лысину и вошел вслед за Борисовым в калитку. Семенов помедлил — что-то сказал шоферу — и машина, рванувшись вперед, исчезла в узком переулке. Борисов остановился у крыльца, взглянул из-под черных нахмуренных бровей на Соломина, строго предупредил: — Ведите себя благоразумно. — Я... На окнах комнаты, в которой они оказались, висели тяжелые зеленые шторы. Шторы плохо пропускали свет, в комнате царил полумрак, пронизанный яркими тонкими лучами, выходящими из среднего окна. Борисов громко произнес: — Товарищ полковник, разрешите доложить? Приглядевшись, Соломин увидел двух мужчин, сидевших у небольшого круглого столика и игравших в шахматы. — В чем дело, Борисов? Я ведь просил не приводить сюда задержанных. — Мужчина, сказавший это, с трудом оторвался от шахматной доски, он держал в руке пешку. В его угловатой костлявой фигуре, наклонившейся в сторону Борисова, было что-то хищное. — Такие дела нужно решать в отделе... Это Соломин? — спросил он, переводя взгляд. — Так точно! — вытянулся Борисов. — Хорошо, — мужчина повернулся к своему партнеру. — Степанов, фотокарточка у тебя? — С того дня, как завели это дело, ношу с собой, — быстро ответил партнер. Он вынул из внутреннего кармана пиджака фотокарточку и положил на столик. Всесклонились над фотокарточкой, о чем-то тихо заговорили, поглядывая на Соломина. У Соломина снова похолодело сердце. Он не знал, что подумать, как отнестись к тому, что происходило. Грехи молодости давно были преданы забвению. Работники ОБХСС, которые заводили на него дело, сказали довольно ясно: дело прекращаем, советуем в дальнейшем жить честным трудом. «Сейчас меня не за что было привлекать к уголовной ответственности, — подумал Соломин. Я не позволил себе ничего такого...» — Ладно, — наконец, отодвинув фотокарточку в сторону, нахмурился мужчина. Он закурил и, щуря глаза, глядел на Соломина, затем бросил, ни к кому не обращаясь: — Отвезите его в управление милиции. Поговорим завтра. Борисов нехотя приложил руку к головному убору: — Есть! Во дворе Борисов и Семенов задержались у приземистого строения, примыкавшего к глухой стене соседнего дома, помолчали немного. — Вот так, Яков Карпович. Дело оборачивается худо. Придется везти вас в управление милиции. Так сказать, изолировать от общественности, как вредный элемент. Ничего не попишешь, такова жизнь, — будто сожалея, проговорил Борисов, и голос его прозвучал так безжалостно, что Соломин легко представил себе, чем это все может кончиться, хотя он по-прежнему не чувствовал за собой никакой вины. — Меня может оправдать суд, — все-таки не смолчал Соломин, попытался отвести от себя удар. — Суд? Вы шутите! Факты слишком красноречивы! — О каких фактах вы говорите? — Побеседуйте со своим помощником, — посоветовал Семенов. Борисов безнадежно махнул рукой: — Вряд ли удастся сделать это. Помощник, судя по всему, скрылся. Во всяком случае, в городе его нет. Соломин привалился к стене. «Если помощник сбежал, то все его грехи падут на мою голову, — подумал он. — Мне придется отвечать. Не лучше ли откупиться?» — Сколько вы хотите? — Хочу?! — сделал удивленное лицо Борисов. — Я не понимаю вас, Яков Карпович. Единственное мое желание — отправить вас в управление. Так, майор? — Именно так, — подтвердил Семенов. — Может быть, вы поступите по-другому: не отправите? — теперь уже умолял Соломин. — То есть как это? — Ну отпустите... Прекратите дело! Борисов пытливо посмотрел на Соломина: — Вы занятный человек, Яков Карпович. Толкаете на преступление должностное лицо. Понимаете, чем это обернется для меня и майора, как расценят такой поступок люди, доверившие нам вашу судьбу? Борисов обиженно отвернулся: — Лично мне не нужно ни копейки. Разговор идет о тех, кто завел дело. Это крупные люди. — Сколько? Опять ушла минута на раздумье. В течение этой минуты Соломин трижды видел себя за решеткой и трижды избавлялся от нее. Наконец, прикинув все, Борисов ответил: — Тысяч десять. — Что? — побледнел Соломин. — У меня нет столько. — Нет, так нет... Товарищ Семенов, ведите арестованного! — Подождите! — вцепился Соломин в локоть Борисова. — Пятьсот рублей найду. Больше нет, хоть убейте! — Ведите, Семенов! — Ладно. Тысячу. Это уже всё! — Семенов? — Полторы! — Десять! Видимо, решетка для вас милее денег? Садитесь за нее, с богом! — Да нет у меня столько! — Семенов! — Нет! Правду говорю, — заупрямился Соломин. Наконец, когда Семенов взял его за руку и потянул к калитке, сдался. — Четыре тысячи найду. Это все, что у меня есть. Копил на машину. — Ладно, — нехотя согласился Борисов. — Четыре... Попробуем уговорить на четыре. Товарищ майор, — Борисов посмотрел на Семенова, — отвезите Якова Карповича ко мне на квартиру. Сделайте все, чтобы он не скучал. — Разве вы не отпустите меня домой? — ужаснулся Соломин. — Отпустим. Завтра утром. Часов в одиннадцать. Сегодня вам нужно побыть одному. Возможно, вы найдете еще тысячи две. Право, это в ваших интересах.8
Дора Михайловна бросилась к Якову Карповичу: — Господи, что они с тобой сделали? На тебе лица нет! Яков Карпович отстранил руки жены, прошел на кухню, открыл холодильник, достал баллон с квасом и жадно припал к нему, словно не пил по крайней мере целую неделю. — Яша, неужели у нас в доме нет стакана? — возмутилась Дора Михайловна. — Ладно. — Они тебя били? — Что? — не понял Яков Карпович. — Я говорю о тех мужчинах, которые забирали тебя... Не перебивай меня, я знаю, что говорю, — предупредила Дора Михайловна. — Не городи глупости, Дора... Где Софа? — Ушла. — Куда? — болезненно поморщился Яков Карпович. — Тебя искать. — Меня? — Кого же еще? Разве ты ей чужой? — Глупая девчонка! — Яков Карпович поставил баллон с квасом на место, закрыл холодильник, устало опустился на кушетку. — Испугались? — Конечно! — Зря. — Ой, Яша, не говори так! — Дора Михайловна села рядом. — Ты тоже испугался, я тебя прекрасно знаю. Лучше скажи, как ты оттуда вырвался? Они же не отпускают. — Отпускают. — Не темни, Яша. Расскажи! Яков Карпович рассказал жене все, что было, ничего не скрыв, сообщил о Борисове и Семенове, о квартире, в которой пробыл эту ночь, о том, что пережил в ней, не зная, как поступить лучше: дать этим людям деньги или сходить в милицию. Дора Михайловна внимательно выслушала мужа. И спросила вдруг о том, что меньше всего относилось к делу. — Ты один был в этой ужасной квартире? — Да... Подожди, подожди, ты что? — Там никого больше не было? — Дора, что ты имеешь в виду? Это глупо. — Не оправдывайся. Вам, мужчинам, доверять нельзя. Так почему же они отпустили тебя? — Я пообещал шесть тысяч. — Такую сумму! Не посоветовавшись со мной? — Вот теперь советуюсь, — вздохнул Яков Карпович. — Идти мне в милицию или не идти? — Прямо к ним в руки? Яков Карпович растерянно пожал плечами. Все-таки эти люди не были работниками милиции. Почему они не отправили его в управление? Какой смысл было держать его целую ночь в каком-то частном доме? — Я ни в чем не виноват! — повторил Яков Карпович. — Не виноват... Может, все-таки виноват? Лучше лишиться денег, чем сидеть в тюрьме. Тюрьма никому еще не приносила радости. — Я ни в чем не виноват, — еще раз повторил Яков Карпович. — Ты работаешь на складе. Может, не утерпел — взял что-нибудь? Откуда у тебя иногда бывают деньги? — Какие деньги? — Ты еще спрашиваешь меня! — Это премиальные. — Яша, я тебе не враг, ты все-таки подумай, может, это не премиальные? — Перестань! — попросил Яков Карпович. — Ну хорошо, я перестану. У тебя склероз, Яша. Пожалуйста, не перечь мне. Может, эти деньги тебе кто-нибудь давал? — Дора! — Ты не волнуйся, Яша, я хочу тебе только добра. У тебя на складе бывают дефицитные товары... Кому-то нужны эти дефицитные товары. Ты мог сделать любезность. За это, сам понимаешь... — Да перестань же! Дора Михайловна вняла, наконец, просьбе мужа — умолкла, однако ненадолго. — Скажи, что ты о них думаешь? — спросила она шепотом. — О ком? — Не притворяйся ребенком, Яша. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. — Это нехорошие люди. — Говори яснее, Яша! — Вымогатели. — Вымогатели, — повторила Дора Михайловна. — Наверное, ты прав. Скажи, Яша, еще: могут ли в нашей милиции работать вымогатели? — По-моему, не могут. — Конечно, не могут. — Значит, это не работники милиции. Я тоже думал об этом. Кто они? — Откуда мне знать? — пожала плечами Дора Михайловна. — Аферисты? — Может, аферисты, Яша. — Я пойду. — Куда? — В милицию. — Это опасно. — Почему? — Они за тобой следят. — Чепуха! — Яша, тебе надо сидеть дома. Ты меня слышишь, Яша? Отдай им эти несчастные шесть тысяч и забудь обо всем. Обойдемся без машины. — Я не виноват. — Виноват, — вздохнула Дора Михайловна. — Они бы не пришли к тебе, если бы ты не был виноват. Это не так трудно уяснить, Яша. Отдай им эти несчастные шесть тысяч. Я тебе плохого не желаю. — Я не узнаю́ тебя. — Неудивительно. — Дора! — Что — Дора? Сделай уже так, как я говорю: отдай эти несчастные шесть тысяч. — Они нелегко мне достались. — Отдай. Яков Карпович заерзал на кушетке. — Когда ушла Софа? — перевел разговор Яков Карпович. — В двенадцать часов. — Пора бы уже вернуться. — Пора. — Может, с ней что-нибудь случилось? — Господи, Яша, что у тебя на уме? Ничего с ней не случилось. Дора Михайловна постояла некоторое время у кушетки, не спуская с мужа близоруких глаз, потом быстро вышла из кухни и загремела тазами в ванной. Яков Карпович хорошо знал, что́ значит, когда жена в подобные минуты проявляет излишний интерес к тазам, поэтому положил под голову подушку и стал терпеливо ждать. Дора Михайловна возвратилась через четверть часа. Она села на кушетку, положила руки на свои полные колени, сказала так, что возражать было бесполезно: — Я уже все взвесила: иди в милицию. Выведи на чистую воду этих мерзавцев. Видишь, чего захотели — шесть тысяч. Может, еще на блюдечке? Страхи и сомнения, терзавшие Якова Карповича, все-таки сделали свое дело — ослабили решимость идти в милицию. Он сказал: — Может, сначала посоветуемся с Гришей? — С Рыжевским? — вздрогнула Дора Михайловна. — Нечего с ним советоваться! Наверняка, такой же подлец! Если не почище! — Не греши, Дора, пожалуйста, прошу тебя. Это тихий порядочный человек. Я верю ему. — В тихом болоте черти водятся. Не будь размазней, Яша. Решил идти в милицию — иди, ради бога. Сейчас же иди. Слышишь? — Ладно.9
Джаббаров внимательно слушал Азимова. Очевидно, он перегибал, хотя и работал в уголовном розыске пятый год. Повсюду ему мерещились преступники. — Ты решил, что я того? — Азимов покрутил пальцем у виска. — Зря, Касым Гулямович. — Не знаю. — Ты пойми, что-то тут есть. Я чувствую! — Чувствовать мало, надо еще иметь факты. — О каких фактах ты говоришь, Касым Гулямович? Дело сейчас совершенно в другом. Надо вывести на чистую воду проходимцев. Немедленно! — Подожди, Тимур Назарович, не горячись. Почему ты считаешь, что этого твоего Соломина взяли не работники милиции? Азимов обиженно засопел: — Во-первых, Соломин — никакой не мой, во-вторых, я обзвонил все отделы города — нигде неизвестно об аресте Соломина. В-третьих, я проверил у нас, в ОБХСС. — Тоже ничего? — Тоже ничего. — Может быть, его взяли работники областного управления? — Касым Гулямович, ну что ты, право, как ребенок. Извини, пожалуйста, за это сравнение. Соломин живет в Ташкенте, понимаешь? Ни в Янги-Юле, ни в Чирчике, ни в Бекабаде, ни в Ангрене... Значит, его должны были взять работники милиции Ташкента. Это же ясно, как дважды два. — Не думаю. — Не думаешь? Ну и ну! — Представь, что Соломин взял на складе партию дефицитных товаров и передал спекулянтам для реализации. Спекулянты решили реализовать эти товары в области. Скажем, в Бекабаде или в Ангрене, в Янги-Юле или в Чирчике... Кто займется этими спекулянтами? Таким образом, Соломина могли задержать работники милиции области. — Да, может быть, — не сразу ответил Азимов. — Ты беседовал с Соломиным? — Нет. — Почему? — Я пока не имею на это права, так как не совсем уверен в собственной версии. — Азимов немного помедлил, прежде чем произнести эти слова. — Ну вот видишь, — подхватил Джаббаров. Он вышел из-за стола, остановился перед Азимовым. — Давай примем за рабочую версию второй вариант: Соломина забрали аферисты. Что ты можешь сказать по этому поводу? — Ты считаешь, что Соломин виноват? — Возможно, в прошлом у него были какие-то грешки. Аферисты должны иметь зацепку. — Разумеется. — В общем, ты правильно поступил, что не поговорил с ним. Это могло бы повредить делу, если, конечно, его шантажировали аферисты. — Чем бы это могло нам повредить? — Не догадываешься? — Нет. — Представь такую ситуацию: Соломин все-таки не совсем чист. Что-то натворил. Может, недавно, может, давно. Не в этом суть. Ребята из ОБХСС пока ничего не узнали... Скажи, зачем ему самому начинать разговор о том, что он натворил? Есть ли в этом резон? — Я затрудняюсь сказать, потому что еще не занимался им. По-моему, нам надо установить наблюдение. Мы должны точно знать: кто арестовал его. Предположим: милиция. Видишь, я беру второй вариант. Софа могла ввести тебя в заблуждение. Джаббаров улыбнулся: — Ты не понял меня, Тимур Назарович. Может быть, Софа в чем-то ошиблась. Давай подождем до завтра. Хорошо? — Что это даст? — Увидим. — Ждать да догонять — хуже всего. Может, я займусь Рыжевским? — Тимур Назарович! — Ладно. Молчу. — Кстати, что это за герой, о котором сегодня пишет «Вечерка»? Ты не интересовался? Азимов пожал плечами, всем своим видом показывая, что ему абсолютно нет никакого дела до того, что пишет «Вечерка». — Ты все-таки прочти. Джаббаров взял с тумбочки газету, протянул Азимову, указав на небольшую информацию. Азимов сел, откинул назад волосы, склонился над газетой.БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
Вчера, купаясь на озере в Центральном парке, С. Соломина начала тонуть. К счастью, в это время поблизости оказался офицер милиции. Он, не задумываясь, бросился на помощь С. Соломиной и спас ее. Собравшиеся горожане горячо поблагодарили его за благородный поступок. Мы не смогли узнать фамилию офицера. Он не счел нужным называть ее. Сказал, что ничего особенного не совершил. Просто выполнил свой гражданский долг... Спасибо вам, товарищ!— Ну? — Какая-то сумасшедшая! — Кто? Соломина или Оленина? — Оленина. Азимов отодвинул от себя газету. Все-таки чудеса случаются на этом белом свете! В четверг он еще не знал эту самую С. Соломину. В пятницу познакомился с ней у Сорокиных. В воскресенье пошел с ней на озеро. В понедельник, то есть сегодня, какая-то Л. Оленина уже написала, что ее спас офицер милиции, пожелавший остаться неизвестным. Я, конечно, спас, сказал самому себе Азимов. Вообще, любой бы человек спас, если бы оказался рядом с ней. Она же совершенно не умела плавать — прямо сразу пошла ко дну, даже не успела позвать на помощь. Азимов усмехнулся: она пригласила меня на озеро. Мне бы нужно было сказать ей, что у меня нет времени, ну и побыть дома: не тащиться за ней на озеро... Не сказал и не остался дома. Хотел больше узнать о ней и о ее семье, в первую очередь, разумеется, об отце. — Конечно, Оленина. — Азимов еще дальше оттолкнул от себя газету. — Наверное, из начинающих... Герой! Смешно! Я сидел на берегу, вдруг слышу: «Человек тонет!» Не будешь же гадать: как быть? Герой! — Значит, эта заметка о тебе? — прищурился Джаббаров. Азимов умоляюще посмотрел на него: — Прошу тебя — никому ни слова! Знаешь, какие у нас в отделе люди — засмеют! Нет, честное слово, я не преувеличиваю. Кстати, ты ничего не слышал о Кларе Бобровой? — О жене нашего Сорокина? — Да... Я у него практику проходил. Оперативник! Экстра! Между прочим, в этом номере есть материал и Клары Бобровой. Можешь прочесть. На третьей странице. Думаю, что он заинтересует тебя. — Джаббаров снова протянул Азимову газету. — Держи. — О чем же она написала? — Не догадываешься? — Нет. — О нашей работе. — О нашей работе? Значит, о нас? — О Прозорове. — Что ты говоришь? Азимов схватил газету, быстро развернул, пробежал глазами по заголовкам, снова склонился над ней. Джаббаров прошелся по кабинету, вытащил из стола сигареты, закурил. Нет, Тимур, пожалуй, мало изменился с тех пор, как надел офицерскую форму. Сколько по-настоящему интересных и запутанных дел было у него позади, сколько раз вступал в неравные схватки с преступниками, а не появилось у него еще того самолюбования, что ли, которое нередко можно увидеть у молодых криминалистов. Критически относился он к каждой своей удаче и все еще называл себя «учеником». — Здорово написала. Правда, не совсем точно. Прозоров более сдержан, более опытен. У него отличная хватка. — Ты скажи ей. — Скажу... Собственно, почему я заговорил о ней? Она в первое время писала такие же вот заметки, как эта, — Азимов кивнул на информацию Олениной. Джаббаров сел за стол. — Не сразу Москва строилась. — Очевидно, не сразу. Ничего сразу не строится. Все требует немалых сил и терпения. Я вот никак не научусь по-настоящему работать... Ладно, пошел. Встретимся во вторник. Привет Кариме. — Спасибо. Азимов поднялся, помедлил, словно не хотел уходить, потянулся к «Вечерке». — Ты не возражаешь, если я возьму ее? — Бери, — разрешил Джаббаров. — Не думай, что я хочу вырезать из нее информацию Олениной. Зачем мне эта восторженная болтовня? Мне нужна статья Бобровой. Отнесу ее матери Прозорова. Старушка век благодарить будет... Ты почему улыбаешься? — Так. Азимов вышел. Джаббаров потушил сигарету, воткнул в пепельницу и снова улыбнулся, подумав все-таки, что газета понадобилась Тимуру не только для матери Прозорова, но и потому, что в ней опубликована информация Олениной. Чего греха таить, человек любит, когда его хвалят, особенно в печати. Тимур, пожалуй, не исключение.
Л. Оленина
10
Соломин с надеждой взглянул на работников уголовного розыска. Наконец-то он почувствовал облегчение. Страх, мучивший его в последние дни, исчез. — Вы ничего больше не желаете добавить? — Нет. — Когда должны передать деньги? — Завтра. В полдень. — Где? — Встретимся у Госпитального рынка. Может быть, они и деньги здесь возьмут? — Может быть. Джаббаров перевел взгляд сначала на Азимова, потом на Прозорова, сидевших в стороне, пододвинул к себе настольный календарь, записал размашисто: «Госпит. рынок. Соломин. Полдень. Аф-сты». Азимов подтолкнул Прозорова: — Пришел. Молодец. — Твоя работа? — спросил Прозоров. — Что ты! — Не скромничай. — Я ни при чем, Илья Кириллович, ну что ты! Он сам. Честное слово. Ты погляди, какой у него вид, — кивнул Азимов на Соломина. — Обыкновенный, — заметил Прозоров. — Нет. Ты погляди лучше, — попросил Азимов. Если уж быть откровенным, то, конечно, он тоже сделал все, чтобы Соломин пришел в уголовный розыск. Правда, ему не пришлось лично беседовать с Соломиным. По-видимому, это сделала за него Софа. Это она убедила отца прийти в уголовный розыск. Вообще, у нее голова на плечах. Ну и девушка! Азимов улыбнулся и незаметно взглянул на Соломина. Он, судя по всему, еще не пришел в себя после того, что с ним произошло, однако держался хорошо. Джаббаров задал очередной вопрос: — Что вы скажете о Григории Рыжевском? — Ничего плохого, — пожал плечами Соломин. — Он довольно часто бывал у нас. Приходил, как правило, вечером. Приносил подарки — то мне, то жене, то Софочке. У него, знаете, недурной вкус на красивые безделушки... Хорошо играет в шахматы. — Вы играли с ним? — Да. — Он проигрывал? — Чаще я. — Вы хорошо играете? — Не знаю. — Вы что-то скрываете? — Понимаете: порой мне казалось, что он специально проигрывает партию, — снова пожал плечами Соломин. — Жалеет мою старость, что ли... Не знаю. — Сколько вам лет? — Пятьдесят пять. — Рано говорить о старости... Он моложе? — Ему тридцать четыре года. Впрочем, может, и больше. Я не заглядывал в паспорт. — Напрасно... Что еще интересует его? — Не знаю. Джаббаров кивнул: — Что вас связывает с ним? — Тоже не знаю. Может быть, шахматы? Может быть, привычка? Хотя мы встречаемся недавно. Месяца полтора. — Как вы познакомились? Соломин задумался. — Это довольно неприглядная история. Мне бы не хотелось возвращаться к ней. — Вы пришли в милицию, — напомнил Джаббаров. — Простите... Было воскресенье. Я отправился на рынок по поручению жены со списком, что купить и сколько. Увидел пивную, решил заглянуть. Накануне был на именинах у сестры, немного перебрал, болела голова. — Дальше. — В пивной мы и познакомились. Рыжевский подсел ко мне. Мы разговорились. Я редко пью, так, от случая к случаю, ту́т же со мной какая-то оказия приключилась — снова перепил. — На вас повлиял Рыжевский? — Возможно. — Потом? — Потом... Я сказал ему, где работаю, дал свой телефон и адрес. Через несколько дней, возвратившись после работы, увидел его дома. — Обрадовались? — Поставьте себя на мое место... Мы познакомились в пивной. Это заведение неприглядное. Заводить знакомство таким путем — верх глупости. — Ясно, — усмехнулся Джаббаров. — О чем вы говорили? — Почти ни о чем. Играли в шахматы. В другие вечера, признаться, тоже больше играли в шахматы. Говорили мало, о разных пустяках. Иногда о моей работе. Он убеждал меня, что мне по плечу более ответственный пост. — Это вам льстило? — Вообще-то — да. Не улыбайтесь, — попросил Соломин. — Мы все в какой-то мере тщеславны. — Если нам это внушают, — заметил Джаббаров. — Не казалось ли вам, что Рыжевский захваливал вас с какой-то целью? Соломин пожал плечами: — Вряд ли. Правда, перед тем, как эти люди увезли меня, он попросил руки Софы. — Как вы расценили этот факт? — Откровенно говоря, растерялся. Ему немало лет. Лысый. — Вы знаете отношение дочери к Рыжевскому? — спросил Джаббаров. — Что может думать о пожилом человеке ребенок? Впрочем, вы лучше сами поговорите с ней. Кто-то из вас, по-моему, уже говорил. — Да. Джаббаров незаметно взглянул на Азимова. Ему все больше и больше нравился этот сильный, честный парень. — Дочь у меня с заскоками, — сказал Соломин. — Что? — поднял недоуменно брови Джаббаров. — Да вот собирается поступить на работу к вам, в уголовный розыск. Кто-то рассказал ей о следователе. О Бельской, кажется, погибшей в схватке с бандитами. Ну она и вбила себе в голову, что тоже будет следователем. Сейчас сдает экзамены на юридический факультет. Может, не поступит. Конкурс большой: тридцать человек на одно место. — Поступит, — заверил Джаббаров. — Значит, с заскоками, говорите. Выходит, мы тоже с заскоками? Работаем в уголовном розыске? Соломин смутился: — Она же девочка. Ей ли с бандитами воевать? — Почему бы не ей? У нас много женщин. Есть и следователи. Есть и оперативники... Ладно. Вернемся к Рыжевскому. Где он живет? — Не знаю... Не удивляйтесь. Я, действительно, точно не знаю. Где-то недалеко от вокзала. Не то на улице Белая, не то на улице Серая. — Вы сами решили прийти к нам или вам посоветовали сделать это домашние? — Все было, — слабо улыбнулся Соломин. — Ясно. Вы сможете заглянуть к нам сегодня, скажем, часиков в шесть или в семь? — Сюда не так-то легко попасть. — Не беспокойтесь. Кстати, что вы думаете о своем помощнике? — По-моему, он честный человек. — Вас ничего не смущает? Соломин помялся: — Да вот эти... не знаю, как их назвать, доказывали мне, что он — жулик. — Как его фамилия? — Музафаров. — Где он сейчас? — В командировке. Вернется через неделю. — Сообщите своему начальнику, что вы сегодня не сможете прийти на работу... Товарищ лейтенант, организуйте машину. — Есть! — встал Азимов. — Если у вас окажется Рыжевский, то, пожалуйста, ничего не говорите ему о нашей встрече. — Джаббаров снова обращался к Соломину. — Попытайтесь осторожно узнать, где он живет. Это очень важно. Договорились? — Договорились, — не сразу ответил Соломин.11
Азимов проводил Соломина и вернулся в кабинет. — Все в порядке, товарищ майор. — Садись... Шофера проинструктировал? — Да. — Ты чем-то расстроен? — Ранен Романов. Я сейчас встретил Дмитриева, он сказал. — Где он? — В госпитале. Джаббаров сорвал с рычага телефона трубку, торопливо набрал номер госпиталя МВД. Он знал, что значил для Азимова Андрей Романов. Они вместе окончили школу милиции, вместе проходили практику. — Госпиталь МВД? Регистратура? — Я вас слушаю. Джаббаров узнал голос терапевта Ларисы Никольской — молодой белокурой женщины, недавно окончившей медицинский институт. — Говорит майор Джаббаров из управления милиции. Скажите, в каком состоянии находится лейтенант Романов? — Ему только что сделали операцию. Не беспокойтесь. Всё в порядке. — Спасибо. В трубке раздались гудки отбоя. Джаббаров отстранил ее от уха и медленно перевел взгляд на Азимова. — Что? — подался вперед Азимов. — Сделали операцию, — улыбнулся Джаббаров. — Опасность миновала. — Он был не меньше Тимура рад тому, что сообщила Лариса Никольская. — Тебе дать машину или поедешь автобусом? — В госпиталь? — Да. Узнай, кто его ранил? Надеюсь, не Красов? — Не думаю. Азимов ответил неуверенно. Вообще-то, он думал, что Андрея ранил Красов. Жаль, что они упустили его в ту среду. Черт знает, что произошло! Азимов прикусил губы и пристально посмотрел перед собой, словно хотел увидеть себя со стороны. Пожалуй, я еще не готов к работе в ОУРе. Он исчез на моих глазах. Словно провалился сквозь землю. — Не переживай, Тимур Назарович. — Ты о чем, Касым Гулямович? — Знаешь, о чем. В следующий раз будешь повнимательней. Конь на четырех ногах и то спотыкается. — Так то конь, Касым Гулямович, — обреченно проговорил Азимов. — А я не имею права спотыкаться. Это может принести несчастье не только мне. — Ладно. Отправляйся в госпиталь. Может, Андрея ранил другой человек. Лита встречается с Баловым? Азимов смущенно пожал плечами: — Наверное, встречается. Как же дело? Заводим или нет? Прозоров спросил: — Что тебя так тревожит? Судьба Соломина? Может, судьба Софы? — Какой Софы? — не понял Азимов. — Ты о дочери Соломина? При чем тут она? Речь идет совсем о другом. Нечестным людям вершить свои темные дела не позволим, мы должны пресечь это зло... Я узнаю, обязательно узнаю, кто стрелял в Андрея. Пройду сквозь ад, если надо. Ну так как, заводим дело? — Заводим. Ответ Джаббарова прозвучал больше вопросительно, чем утвердительно, будто он хотел услышать мнение товарищей, прежде всего Прозорова, который прекрасно знал оперативную обстановку в городе. — Заводим, — повторил Азимов, — Илья Кириллович? Прозоров поднял обе руки: — Я — за! — Значит, заводим, — уже твердо сказал Джаббаров. — Давайте назовем дело так... Ну, скажем, «Иностранцы». Согласны? — Подходяще, — заметил Прозоров. Азимов никак не отреагировал на это. Ему было безразлично, как будет названо дело, главное, чтобы оно было заведено и скорее началось расследование. Его кипучая натура не терпела медлительности. Он готов был немедленно, сию же минуту, начать действовать, не жалея ни самого себя, ни тех, кто будет окружать его. — В таком случае, начнем. В тоне Джаббарова снова проскользнула нерешительность. Вроде бы чего-то не хватало ему. Очевидно, четкого плана. Он любил начинать дело, когда в голове уже созрел план операции и вырисовывался полностью. Сейчас же наметилась, по-видимому, только предварительная схема. Собственно, вскоре он изложил ее, правда, с некоторой осторожностью. — Илья Кириллович, свяжитесь с районными отделами милиции города. Поговорите с работниками ОУР и ОБХСС. Думаю, что вам удастся что-нибудь узнать... Тимур Назарович, выясните в отделе БХСС управления, когда было заведено дело на Соломина, кто его вел, почему оно было прекращено. — Есть, — сказал Азимов. — Будет время, побывайте в ОБХСС области. Может быть, дать вам Батраева? Вдвоем быстрее докопаетесь до истины. Он сегодня свободен. — Теперь Джаббаров уже уверенно давал указания. Азимов ревниво ответил: — Справлюсь один. — Смотрите... Попробуйте сегодня же побывать на работе у Соломина. Установите, как относятся к нему сотрудники. Не забудьте побеседовать с соседями. — Теперь Джаббаров обращался сразу к двоим — к Азимову и Прозорову. — Действуйте осторожно. Не привлекайте к себе внимания. Прозоров и Азимов поднялись. Джаббаров с минуту стоял неподвижно, глядя на закрывшуюся дверь, затем снова поднял телефонную трубку, неторопливо набрал нужный номер. — Да, — ответил четкий женский голос. — Адресное бюро? — Да. — Джаббаров... Посмотрите, пожалуйста, проживает ли у вас Григорий Рыжевский? — Григорий Рыжевский? Отчество не знаете? — Нет. — Возраст? — Лет тридцать пять. — Вам позвонить? — Я подожду. В трубке что-то прохрипело и раздались гулкие отрывистые звуки: Джаббаров понял, на том конце провода положили трубку на стол. — Вы слушаете? — Да-да! — У нас нет ни одного Григория Рыжевского... Есть Семен, Владимир, Михаил, даже Акакий... — Спасибо. — Пожалуйста, товарищ майор. Джаббаров положил трубку на место и снова вернулся к прерванным мыслям.12
Начальник отдела БХСС управления милиции подполковник Артемов сказал Азимову, севшему напротив него, к приставному столику: — Слушаю вас. — Проверьте, пожалуйста, Константин Иванович, фигурировал ли в ваших делах Соломин Яков Карпович. Артемов нажал кнопку под крышкой стола, увидел входившую в кабинет секретаршу, попросил: — Анна Петровна, пригласите, пожалуйста, оперуполномоченного Хамидова. — Хорошо, Константин Иванович. Хамидов вошел, четко, по-военному доложил: — Товарищ подполковник, старший лейтенант милиции Хамидов прибыл по вашему приказанию! Артемов секунду-другую молча смотрел на оперуполномоченного — любовался его безупречной офицерской выправкой, затем кивнул на Азимова, тоже не спускавшего глаз с оперуполномоченного: — Ты знаешь этого человека? — Так точно, товарищ подполковник! — снова по-военному отчеканил Хамидов. Чувствовалось, что цену себе он знает. — Мы, кажется, когда-то заводили дело на Якова Карповича Соломина. Посмотри, пожалуйста, в чем мы обвиняли его. — Артемов строго взглянул на Хамидова. — Действуйте! — Есть! На Соломина действительно несколько лет назад в ОБХСС было заведено дело. Однако оно не получило соответствующего хода, так как не было достаточно улик для привлечения Соломина к уголовной ответственности. Ничего не было известно о Соломине и в районных отделениях БХСС, с которыми Азимов связался по телефону. Никаких компрометирующих высказываний о Соломине не услышал и Прозоров, побывавший у соседей Соломина и на предприятии, где он работал. — Яков Карпович? Это один из лучших работников. Знаю его не первый год. Вас кто-то ввел в заблуждение. Так сказал Прозорову о Соломине начальник предприятия. — Премилый мужчина. Мухи не обидит. Никогда не позволяет себе ничего лишнего. Порядочный семьянин. Эту мысль в разных вариациях неоднократно повторяли соседи Соломина. Начальник уголовного розыска Центрального районного отдела милиции капитан Манский сообщил: — По-видимому, вы напали на след Аганова. Он давно занимается мошенничеством. К сожалению, мы пока не можем разоблачить его. Буду искренне рад, если вам удастся сделать это. — Сделаем, — заверил Прозоров. — Кстати, в деле есть фотокарточка Аганова. Она может пригодиться вам. Думаю, что в само́м деле вы тоже найдете что-нибудь интересное. Полистайте. Ничего интересного, к сожалению, Прозоров в деле не нашел. Аганов действовал с величайшей осторожностью и почти не оставлял после себя следов. — Жидковато, товарищи, жидковато! Джаббаров произнес это укоризненно, однако Азимов и Прозоров поняли, что он был доволен проделанной работой. Тех сведений, которые имелись в их распоряжении, для начала было вполне достаточно. Нужно только правильно воспользоваться ими. — Жидковато? Не думаю, — сказал Прозоров. — Серьезно? — прищурился Джаббаров. — Возьми. Полюбуйся. — Что это? — Прочти! Прозоров взял лист бумаги, который подал Джаббаров, пробежал взглядом текст. — Значит, в городе нет ни одного Григория Рыжевского? — Как видишь. — Не получится ли так, что Золотов и иже с ним тоже не прописаны? — Может быть, наоборот? — прищурился Джаббаров. — Мошенники использовали вымышленные имена? Через несколько минут придет Соломин. — Джаббаров посмотрел на наручные часы. — Нужно как следует проинструктировать его. От того, как он будет вести себя, во многом зависит успех дела... Илья Кириллович, где фотокарточка Аганова? — У тебя в столе. — Извини. — Джаббаров вытащил из стола фотокарточку, положил перед собой. — Может быть, Соломин узнает в нем кого-нибудь из своих «благодетелей»? — Было бы хорошо, — сказал Прозоров. — Во всяком случае, это облегчило бы нашу задачу, — согласился Джаббаров. — Придется установить наблюдение за домом Аганова. — Я готов! — объявил Азимов. — Нет. Поручим это дело Савицкому и Батраеву... Ты завтра утром съездишь в госпиталь, навестишь своего друга Андрея Романова, потом поступишь в мое распоряжение. Для тебя есть более ответственное дело.13
Тимур торопливо надел больничный халат, взял со стола пакет с фруктами и лепешками, прошел по коридору влево, разглядывая номера на дверях палат и вглядываясь в лица больных, встречавшихся в коридоре. «Андрюха, Андрюха, как же это ты не уберегся? Что же произошло? Назови негодяя, который ранил тебя? Я разыщу его? Обязательно! Мы все-таки слишком гуманны к преступникам. Нужно применять к ним более строгие меры. Не щадить, если они поднимают оружие на человека. Кажется, мне в эту палату?» Андрей лежал у окна. Он увидел Тимура не сразу, по-видимому, дремал. Тимур застыл у дверей, почувствовав в горле предательскую горечь. Этого давно не было с ним — с того дня, как в такой же вот палате умерла Мила. — Андрюшка! Андрей вздрогнул — открыл глаза, заулыбался, потянулся к Тимуру. — Тимурджан, ч-черт! Ты? — Я, Андрюшка, я! Ничего? — Всё в порядке. — Дышать можешь? — Могу. Садись. Тимур взял стул, поставил около кровати и, положив пакет с фруктами и лепешками на тумбочку, сел. — Кто тебя? — Длинная история. — У меня есть время. — Может, потом? — Ладно, давай потом. Скажи только: не Красов ли тебя? — Не-ет. — Ты что-то скрываешь? — Не фантазируй. — Я не фантазирую. Красов скрылся. Причем, скрылся внезапно, в то время, когда Тимур считал, что он «попал на крючок». Неизвестно: через сколько дней или недель снова отыщется его след и кто отыщет этот след. Тимура это постоянно угнетало. Он думал, что оперативники, знавшие о провале операции, считали его плохим криминалистом. Поэтому он с такой ревностью и отнесся теперь к словам Андрея. Андрей не сразу понял, что так неожиданно сковало разговор. Он любил Тимура, любил, как брата, готов был сделать для него все, что мог. Готов был и как-то смягчить этот разговор, вернее, забыть его вовсе, тем более, что Тимур вообще-то не был виноват в том, что произошло. Не его беда, что Красов оказался гораздо опытнее и сумел незаметно уйти в укрытие. — Как ты? — Тружусь! — Что-нибудь интересное встретил? — Кажется. — Тимур произнес это слово с некоторой заминкой, словно усомнился в том, что говорил. — Ладно, — махнул рукой Андрей. — Мы еще потолкуем с тобой обо всем. Врач уверяет, что я через неделю смогу участвовать в международном забеге на десять километров. Рана пустяковая. Пуля прошла, как говорится, за молоком... Я тут кое-что накропал. Читал соседу — в восторге! К сожалению, он ничего в поэзии не понимает. Ты — мой единственный строгий судья! Послушай... Это очень важно для меня. Тимур осторожно попросил: — Может, в другой раз? Тебе вредно разговаривать! — Кто тебе сказал? — Медсестра. — Она ничего не смыслит в таких вещах. — Андрей запустил руку под одеяло, вытащил блокнот, полистал. — Милицейская жена. — Неужели она замужем? По-моему, ей нет еще семнадцати лет. — Ты о ком? — О медсестре. Жене милиционера. Ты так, кажется, отрекомендовал ее мне. Андрей с минуту смотрел на Тимура, не понимая, о чем он говорит, потом рассмеялся, вяло замахав руками. — Тебе, наверное, нужно мозги проверить... «Милицейская жена»... Я так назвал свое стихотворение. Сообразил? — Так бы сразу и сказал, — пододвинулся поближе Тимур. — Читай. — Слушай.Ты опять ушел в разбуженную ночь,
я опять одна окошко стерегу.
На кроватке рядом тихо дремлет дочь.
Дом напротив в лунном свете,
как в снегу.
Ты опять ушел в разбуженную ночь.
Кто тебя сегодня разлучит со мной?
С кем сведет тебя незримая тропа?
Ты ушел на службу,
как уходят в бой,
у тебя большая трудная судьба.
Кто тебя сегодня разлучит со мной?
Ты не дрогнешь в битве,
не свернешь с пути,
заслонишь собой попавшего в беду.
Мне легко с тобою по земле идти,
я люблю твою бесстрашную звезду.
Ты не дрогнешь в битве,
не свернешь с пути.
Только не рискуй напрасно, дорогой,
береги себя.
Молю тебя.
Прошу.
Ты ушел сегодня в ночь моей тропой,
я по ней незримо за тобой спешу.
Только не рискуй напрасно, дорогой.
Знаешь,
я, наверно, чересчур смешна:
мне бы с дочкой сны досматривать теперь...
Ты прости, я — милицейская жена,
я живу иными мерами, поверь...
Знаешь,
я, наверно, чересчур смешна.
14
Джаббаров инструктировал сотрудников отделения, собравшихся в его кабинет перед началом операции. — Действуйте осторожно, слишком не увлекайтесь. Мы должны взять группу с поличным. Оружие применяйте в крайнем случае. Товарищ капитан, я целиком полагаюсь на ваш опыт. — Не беспокойтесь, товарищ майор, — вытянулся Прозоров. Через час работники ОУР были возле дома, в котором три дня назад произошла встреча Соломина с Золотовым и Степановым. Правда, в дом не вошли — свернули в переулок, вымощенный булыжником, постучали в первую калитку. Калитку открыл невысокий кряжистый старик. Он молча пропустил всех во двор и провел в небольшую комнату с двумя окнами — отсюда хорошо были видны улица и нужный дом. — Когда они приедут? — пододвигая стул к окнам, спросил один из оперативников Прозорова, задержавшегося в дверях. — По-видимому, в полдень, — ответил Прозоров. Он прошел вперед, положил на стол портсигар и спички, осторожно раздвинул шторы. ...Джаббаров и Азимов вышли к «Волге», стоявшей у подъезда управления милиции. — Машину заправил? — спросил Джаббаров Муртазина, плотного высокого водителя с рыжей взлохмаченной головой. — Заправил, Касым Гулямович. Азимов и Джаббаров сели в машину. Прежде чем захлопнуть дверцу, Джаббаров выглянул и сказал работникам отделения, устраивавшимся в ЗИМе, который стоял позади «Волги»: — Ни пуха ни пера. — К черту! — ответил по традиции старший оперуполномоченный Дмитриев. Азимов с трудом унял дрожь: — Все в порядке, товарищ майор. — Трогай, Равиль, — Джаббаров положил руку на плечо Муртазина. «Волга» плавно качнулась и поехала к воротам. — Не рано ли выходим? — за воротами спросил Муртазин. Джаббаров или не услышал вопроса, или не счел нужным объяснять водителю причину раннего выезда на операцию. Ответил Азимов. — Не рано, Равиль. В самый раз. — Ладно. — Как бы Батраев и Савицкий не прозевали Аганова. Азимов обращался к Джаббарову, хотя, казалось, продолжал разговор с Муртазиным. Джаббаров на этот раз откликнулся сразу, очевидно, сомнение Азимова неприятно кольнуло его. — Не прозевают, товарищ лейтенант. — Они еще ничего не сообщили? — Нет. Воцарилось молчание, не прерывавшееся до тех пор, пока «Волга» не приблизилась к воротам Госпитального рынка.15
Рынок гудел. Непрерывный людской поток устремлялся в ворота и растекался за ним по бесчисленным рядам. Кто спешил к фруктам и овощам, кто в молочный павильон, кто к горам арбузов и дынь. Трудно было приметить в этом потоке, пестром и многоликом, двух мужчин, вертевшихся около ворот. Это были Семенов и Борисов. Они изображали из себя покупателей и старательно разглядывали в витринах товары, приценивались к тканям и обуви, словом, играли роль рыночных завсегдатаев, тяжелую и скучную роль, к тому же обременительную. Она отвлекала от входа в ворота, в которых вот-вот должен был появиться Соломин. — Он куда-то дважды уходил из дома, — как бы между прочим бросил Семенов. — Не в милицию, не беспокойся. У него на это не хватит духу. Поверь мне, — ответил Борисов. — Я хорошо изучил его. Труслив, как заяц. Собственной тени боится. — Не фантазируй. Был бы он труслив, не полез бы в государственный карман. Даю голову на отсечение. — Побереги голову, может, она еще пригодится... Именно такие и лезут. Ты плохой психолог. — Они же и доносят, — добавил Семенов. Борисов рассердился: — Что ты сегодня милицией бредишь. Не к добру это. Возьми себя в руки. — Попытаюсь, — поежился Семенов. Борисов взглянул на часы: — Через двадцать минут прибудет Соломин. Приготовь мешки для купюр. Шесть тысяч — в карман не уместишь. — Тише! — Нас никто не слышит. Мы у глухой стены. — У стен тоже есть уши. — Опять ты за свое! Не нравится мне это, понимаешь. Так можно угодить в божий домик. — Ты на что это намекаешь? — На психиатрическую... Сначала мнительность, потом бессонница. Семенов вздрогнул: — У меня бессонница. Которую ночь мучит. — Плохо, — встревоженно проговорил Борисов. — Надо принимать меры. Причем, немедленно. — Что еще за меры? — Лечить! Запустим — свихнешься. Куда чокнутого девать? В утиль-сырье — жалко, оставить на попечение милиции — опасно, выдашь. Кумекаешь, что к чему? Ну-ну, не бледней! Все в твоих руках, не распускай нервы. — Попробую. — Только не медли: пробуй прямо сейчас, — строго предупредил Борисов. — Иначе завалишь дело. Некоторое время оба молчали, глядя на движущийся людской поток, который то сужался, то расширялся, потом Семенов снова заговорил, позванивая в кармане ключами. — Вчера «сам» нервничал. Наверное, не все предусмотрел. — Стареет, — сделал вывод Борисов. — Пятьдесят пять лет — самый расцвет мужчины. Дело в другом. — Не каркай. — Я не каркаю, — рассердился Семенов. — Ладно. — Рыжевский с утра у дома Соломина, — опять начал Семенов. — Как бы его не засекли оуровцы, у него мозги всмятку — сразу засыплется. Даже сомневаться нечего. Попадет, как кур во щи! — Нет, тебе определенно надо лечиться. Сегодня же поговорю с «самим». Пусть займется тобой, пока не поздно. Лицо Семенова болезненно сморщилось. — Сам проверю... Надо хорошо обдумать дело, прежде чем браться за него. Тут один туман с Соломиным. — Ерунда, — заверил Борисов. — Мы взяли хороший темп. Вот передаст Соломин свою сумочку, туман и рассеется. Ты только не хнычь. Пусть потом этот меценат раздумывает о смысле жизни. Полагаю, что ему это не повредит. Мы сегодня же вечером сорвемся. — Скорее бы, — вздохнул Семенов. — Самого себя не обгонишь. Давай-ка пропустим по стаканчику, чтобы время не так тянулось. — Пожалуй, — согласился Семенов.16
Дора Михайловна подошла с Яковом Карповичем к двери, поправила ему ворот рубашки, внимательно взглянула в глаза. — Ты всё взял, Яша? — Всё. — Ничего не забыл? — Нет. — Может, все-таки забыл что-нибудь? — Сказал нет, значит, нет. — Иди. Яков Карпович взялся за ручку, вяло повернулся к жене, изобразил на лице бодрую улыбку. — Не тревожься. Дора Михайловна заметила в этой улыбке неуверенность. — Подожди... Номера переписал? — Переписал. — Все? — Все. — Это же не люди — возьмут деньги, потом скажут, что не брали. Только не расстраивайся. Валидол в кармане? — В кармане. — Иди. — До вечера. — Подожди. — Ну что еще? — Я тебя просила — не расстраивайся, ты все-таки расстраиваешься. Может, тебе уже никуда не надо ходить? Ты совсем больной. Милиция сама разберется во всем. — Дора! — Ладно, ладно. Тебе прямо-таки ничего нельзя сказать. Знаешь, жизнь прожить — не поле перейти. Вчера тебя один вариант устраивал, сегодня — другой. Я боюсь. — Перестань! — Они могут убить тебя! — Перестань! — снова попросил Яков Карпович. Признаться, у него тоже появлялась такая мысль. Он отгонял ее, думая в это время о чем-нибудь другом, или убеждая себя в том, что его жизнь никому не нужна, однако прежнего покоя не находил. — Где Софа? — Ушла к подруге. — Ты держи ее около себя. Не позволяй долго задерживаться. В общем, ты знаешь, что делать. — Яша? Уже ради бога! — Всё! В голосе Якова Карповича прозвучала решительность. Дора Михайловна, наконец, отпустила его.Софочка не удивилась, заметив у дома Григория Рыжевского. Она знала — кто-нибудь должен следить за ее отцом. В том, что этот человек был связан с мошенниками, Софочка уже не сомневалась. Рыжевский стоял у ветвистого карагача. Он смотрел перед собой, поверх проходивших мимо людей, словно его интересовала высотная стройка за дорогой. На него никто не обращал внимания: был час «пик» — каждый жил своими заботами, каждый куда-то спешил. Софочка незаметно прошла к старому глинобитному дому, разрушенному во время землетрясения, зашла в него, облюбовала одну из покинутых комнат, примостилась у окна, из которого хорошо был виден карагач, и стала наблюдать за Рыжевским. Она легко догадалась, что Рыжевский следит за их домом. Он то и дело поворачивал голову в сторону калитки и пристально вглядывался. Должно быть, ждал, когда выйдет отец. Зачем нужен был ему отец, Софочка не знала. Знала только — он следит за отцом, значит, отцу угрожает опасность. Это обеспокоило ее. Она вспомнила, что на автобусной остановке есть таксофон, и, оглядевшись, осторожно выбралась из разрушенного дома. Таксофон был раскулачен: кто-то с корнем вырвал трубку и диск. Софочка растерянно посмотрела на людей, толпившихся на остановке и, не найдя сочувствия, так же осторожно возвратилась в покинутое укрытие. Из калитки дома в это время с портфелем в руке вышел отец. Рыжевский сразу уткнулся в газету и сделал вид, что читает. «Ну вот и круг замкнулся, — подумала Софочка. — Я не ошиблась: ты преступник, то есть сообщник негодяев, забиравших отца». Софочка прильнула к щели в стене, боясь что-нибудь упустить, строя в уме самые невероятные планы, разоблачающие Рыжевского. Отец не спешил: постоял с минуту у калитки и медленно зашагал к автобусной остановке. Он был взволнован и, пожалуй, напуган, это Софочка заметила сразу. К автобусной остановке, лениво размахивая газетой, направился и Рыжевский. Увидев, что отец садится в рафик, он пересек улицу и подошел к такси, стоявшему у дерева. Водитель тотчас протянул руку к дверце, потрогал смотровое зеркало и сел за руль. Рыжевский поправил галстук, словно в этом была необходимость, взглянул на ручные часы и, как только тронулся рафик, юркнул в такси. Такси в ту же секунду рванулось с места. Софочка выскочила из своего укрытия, выбежала на дорогу и подняла руку, увидев военный «газик». «Газик» остановился, из него выглянул солдат. Софочка открыла дверцу и, не спрашивая разрешения, села рядом с солдатом. — Следуйте за этой машиной! — За голубой «Волгой»? — машинально спросил солдат, осознав внезапно, что выполнит любое приказание незнакомки. — Кто в ней? — Преступник. — О! «Газик» взревел и, обойдя остановившийся автобус, помчался за «Волгой». Софочка сказала: — Пожалуйста, сделайте так, чтобы ни таксист, ни тем более преступник не заметили, что мы следим за ними. Это очень важно. Впрочем, вы это сами, очевидно, понимаете... Как вас звать? — Слава... Вас? — Софа. Вам все ясно? — Не волнуйтесь. Не первый день кручу баранку. «Волга» сбавила скорость, пошла рядом с рафиком, потом отстала — рафик приближался к остановке. Солдат поинтересовался: — Вы из милиции? Софочка ответила скорее всего автоматически, не вникнув по-настоящему в смысл вопроса: — Из милиции. — Здорово! — Не отвлекайтесь! — Есть! — сказал солдат. Он остановил «газик» у перехода, в хвосте такси, сделав вид, что заинтересовался проходившими мимо пешеходами. Софочка подумала — хороший парень, надо узнать его адрес. Может, Тимур спросит.
Борисов и Семенов сразу заметили Соломина, вышедшего из рафика, однако ничем не выдали этого, напротив, постарались не смотреть в его сторону — с озабоченным видом заговорили о ценах на фрукты и овощи, прошлись вдоль торгового ряда, повернули к молочному корпусу, миновали его и оказались у буфета, потонувшего в шашлычном дыме. — Рыжевский «на хвосте?» — Да, — ответил Семенов. — Иди к Соломину спроси: принес ли товар? Если принес, бери такси, поезжай. Только будь осторожен. У мечети, в старом городе, пересядешь с ним в мою машину. Дальше — знаешь, что делать. Главное — не теряйся. Действуй! — Ага. — Давай. Борисов зашел в буфет, Семенов покрутился у входа, выкурил сигарету и, бросив окурок в урну, направился к мебельному магазину. Здесь его поджидал, по уговору, Соломин. — Привет, молодой человек! Какими судьбами? — протянул руку Семенов. — Здравствуй, — принял игру Соломин. — Ищу книжный шкаф. Объездил почти все магазины. — Ничего подходящего нет? — Представь. — Не горюй, всему свое время. — Семенов похлопал Соломина по плечу, наклонился, спросил шепотом: — Принес? — Принес, — вздохнул Соломин. — Сколько? — Шесть. — Поехали. Соломин покорно последовал за Семеновым к воротам рынка.
17
Джаббаров толкнул Азимова, проговорил тихо, следя за удаляющейся зеленой «Волгой»: — Кажется, все идет по расписанию? — Да, — ответил Азимов. Он впервые участвовал в подобном деле и заметно волновался, не пытаясь даже скрыть это. Софа вторглась в дело, абсолютно не думая о том, к чему это может привести. Азимов хотел выйти из машины и отправить ее домой. Остановил Джаббаров — сказал, что с ней ничего не случится, потому что за Рыжевским следит оперуполномоченный Кумков, который в нужный момент примет соответствующие меры для ее безопасности. — Трогай, — попросил Джаббаров Муртазина. На улице Тараса Шевченко Азимов спросил: — Интересно, почему они уехали на разных машинах? — Путают следы. — Конспираторы, — усмехнулся Муртазин. — Меня беспокоит другое, где произойдет передача денег: в машине или на улице? Не зря ли мы устроили засаду у дома Степанова? — Не зря, товарищ майор, — заметил Азимов. — Они все равно сегодня встретятся у Степанова. Заметили, самого Степанова не было. — Не было и Золотова, — сказал Джаббаров. Несколько минут ехали молча, глядя на зеленую «Волгу», идущую впереди, рядом с «Победой». — Ты был у Романова? — Был. — Как он? — Ничего. Читал мне стихи. Настоящие... Джаббаров с интересом посмотрел на Азимова: — Каждый человек должен быть поэтом в душе. Хорошо, если он способен к тому же передать свои чувства другим, в стихах, например... У Романова есть талант. Он и оперативник настоящий. Кто ранил его? — Хулиганы, — нахмурился Азимов. — Не Красов? — Нет. Джаббаров откинулся на сиденье. Где же все-таки теперь Красов? В Ташкенте или в другом городе? Скорее всего, он в Ташкенте. Здесь и Балов. Этот человек ему нужен. Значит, мы еще встретимся? Джаббаров потрогал пистолет, словно уже увидел Красова, еще раз посмотрел на Азимова. Азимов сидел, слегка пригнувшись, не спуская глаз с дороги. Зеленая «Волга» неожиданно остановилась недалеко от троллейбусной остановки. Из нее вышел Борисов. Он постоял у дверцы, шагнул к заднему колесу, постучал концом ботинка по крышке. — Проезжай мимо, — сказал Джаббаров шоферу. — Остановишься у аптеки... Тимур, отвернись: твои усы известны всем уголовникам. — Шутишь? — усмехнулся Азимов. — Почему — шучу? Уголовники изучают нас, запоминают. Усы бросаются в глаза, тем более, такие, как у тебя... — Сбрею! — Сбрей! Борисов не спешил — еще раз обошел машину, опять постучал по покрышке, присел на корточки. — Страхуется, — сказал Муртазин. — Наверное, заметил слежку. — Наверное, — согласился Джаббаров. — Надо отвлечь внимание, — заволновался Азимов. — Я схожу в аптеку. Со стороны все покажется правдоподобно. — Сиди. Схожу я. Джаббаров вышел из машины и направился в аптеку. В аптеке взял флакон корвалола и принялся рассматривать инструкцию. Минут через пять вышел, не спеша подошел к машине, сел снова рядом с Муртазиным. — Стоит, — кивнул Азимов назад. — Вижу... Равиль, трогай. Прямо на улице, за этим зданием остановишься. Мне почему-то кажется, что он поедет вправо — на Лобзак. Зеленая «Волга» в самом деле поехала по улице, ведущей к Лобзаку. Азимов удивленно присвистнул. — Как это ты угадал? — Интуиция, — улыбнулся Джаббаров. Загудел зуммер телефона. Джаббаров взял трубку — узнал голос Дмитриева. — У вас все в порядке? — спросил оперуполномоченный. — Кажется... Вы где? — Огибаем Комсомольскую площадь, направляемся в сторону старого города... Вы? — Приближаемся к кольцу десятого трамвая. Очевидно, едем с вами в одно и тоже место. Будьте внимательны. Не разоблачите себя. Зеленая «Волга» снова остановилась, теперь у газетного киоска. Борисов приоткрыл дверцу — изнутри, из-за стекла наблюдая за проезжающими машинами. — Сверни в этот переулок, Равиль, — сказал Джаббаров. Муртазин не успел выполнить этот приказ — зеленая «Волга» неожиданно рванулась с места и, обогнав самосвал, помчалась по улице, ведущей в старый город. — Мудрит, — поправил усы Азимов, полуобернувшись к Джаббарову. — Интересно, что он еще придумает. — Пожалуй, ничего. Его ждет Семенов. — Джаббаров взял трубку, вызвал Дмитриева. — Как дела? — Мы метрах в трехстах от мечети, — ответил Дмитриев. — Может, они здесь возьмут «товар»? — Следи. В случае чего, вызывай. Однако Дмитриев больше не звонил. Собственно, в этом уже не было необходимости. Зеленая «Волга» подошла к мечети и остановилась напротив входа. — Дмитриев здесь, — сказал Азимов. — Вижу... Поворачивай влево, — обратился Джаббаров к Муртазину. — Думаю, что Дмитриев обойдется без нас. Дмитриев действительно обошелся без помощи товарищей. Едва Муртазин подрулил к тротуару, как загудел зуммер — Дмитриев сообщил, что зеленая «Волга» с «клиентами» отъехала от мечети и направилась в новый город. — Мы нужны вам? — спросил Джаббаров. — Следуйте к скверу, — посоветовал Дмитриев. — Я свяжусь с вами, если произойдет что-нибудь непредвиденное. — Хорошо. Вызов Дмитриева прозвучал, когда машина Джаббарова объезжала здание ЦУМа, взметнувшееся недавно на месте старых глинобитных домов. — Миновали вокзал. Направляемся в сторону Тезиковой дачи. Азимов недоуменно пожал плечами: — Судя по всему, они едут на квартиру Степанова. Зачем им понадобился этот спектакль? Ничего не могу понять. — Поймешь. На улице Тараса Шевченко Джаббаров еще раз поднял телефонную трубку. Дмитриев сообщил, что Соломин и Семенов вышли из зеленой «Волги» и направились к парку Железнодорожников. За ними следили оперуполномоченные Садыков и Будаев. «Волга» подошла к дому Степанова. Борисов спокойно сидел за рулем, не обращая внимания на машины, следовавшие за ним. — Что вы собираетесь делать? — Проеду мимо, если Борисов остановится у дома Степанова. Буду ждать вас на параллельной улице. Может, у вас есть другое предложение? — Принимаю ваше. Джаббаров снова повесил трубку. Азимов вопросительно посмотрел на него. Приближалась минута, от которой зависел исход операции.18
Соломин, наконец, понял, что Семенов подводил его к дому, в котором несколько дней назад произошел торг. Это успокоило его: в доме наверняка была засада и никому из его обитателей не удастся скрыться; работники милиции, по-видимому, хорошо знали свое дело. — Что это вы все время молчите? — спросил Соломин. — О чем говорить, — пожал плечами Семенов. — Слово свое вы сдержали. Значит, всё в порядке. — Я-то сдержал слово, сдержите ли вы? Что с моим делом? — Прекратим. — Как я узнаю об этом? Семенов задумался: не все было, оказывается, учтено в плане. Сразу и не сообразишь, что ответить. — Узнаете по тишине, которая восстановится в вашем доме. Никто больше не вызовет вас и не станет допрашивать. — Впрочем, было ли дело-то? Я ни в чем не виноват. Никаких грехов не числится за мной. — Ну, если вы так уверены, то мы можем аннулировать наш джентльменский уговор. Возвращайтесь домой и займитесь сушкой сухарей. Попросите Дору Михайловну выстирать смену белья. Оно понадобится вам очень скоро. — Извините. — Соломин понял, что пересолил. — Я просто интересуюсь своей судьбой. Может человек интересоваться тем, за что платит деньги? Семенов внезапно резко повернулся к Соломину, схватил за руку, сжал ее с такой силой, что он едва не вскрикнул. — Вы задаете слишком много вопросов! — Отпустите руку! — Нет уж. Теперь я поведу вас под оружием. — Семенов опустил левую руку в карман, сделал вид, что достает пистолет. В кармане действительно было что-то тяжелое, оттянувшее штанину вниз. — Впрочем, куда вы убежите? — Я не собираюсь бежать, — струхнул Соломин. — Зачем бежать от своих спасителей? — Мне тоже так кажется. Недалеко от дома Степанова показался Борисов. — Здравствуйте, — произнес он, поравнявшись с Семеновым и Соломиным и заглядывая поочередно обоим в глаза. — Всё в порядке? — Почти, — сказал Семенов. — Вот как! Капризничаем, Яков Карпович? — Что вы! Я принес то, что обещал. — Знаю. Только последний идиот садится за решетку, когда есть возможность гулять на свободе. Между прочим, я с трудом уговорил шефа пощадить вас. Он удивился, что вы еще на свободе. — Товарищ Семенов не так понял меня, — сказал Соломин. Хозяина дома, по-видимому, не было. Борисов провел Соломина в комнату, выходившую окнами во двор. Она была значительно просторней и светлей той, в которой он встретился несколько дней назад с Золотовым и Степановым. Семенов остался на улице, у зеленой «Волги». — Вы примете деньги? — Нет, — сказал Борисов. — Вы кого-то ждете? Борисов не успел ответить, как в комнату вошел Золотов. Он приблизился к Соломину, цепким взглядом оглядел его с ног до головы, жестом пригласил сесть на стул, стоявший у стола. Соломин не сел — поставил на стол портфель, вытащил из него шесть пачек десятирублевых купюр, протянул Золотову. У Золотова дрогнули губы. — Пересчитывать не нужно? — Как хотите! — Ладно... Теперь вас никто не будет беспокоить. Идите домой. Спите спокойно. — Золотов спрятал деньги в свой портфель. — Мои ребята прекратят дело. То, что произошло дальше, удивило даже Соломина, хотя он и был готов ко всему. Едва Золотов шагнул к двери, как она открылась, в ее черном проеме тотчас возникли два человека с пистолетами в руках. — Ни с места! Вы арестованы! Борисов, пригнувшись, метнулся к другой двери, ведущей на кухню, — там, он хорошо знал, в окне не было решетки и можно было уйти, однако из кухни в это время вышел мужчина и преградил дорогу. Борисов обреченно замер. Золотов понял тоже, что скрыться не удастся. Он быстро выхватил из портфеля деньги и швырнул в угол. Это заметил четвертый мужчина, оказавшийся в дверях спальни. — Вы, кажется, что-то уронили, — усмехнулся он. — Поднимите, пожалуйста. Не стесняйтесь, прошу вас.19
В кабинете стояла деловая тишина. Было слышно, как в приемной уверенно стучала машинка, как в коридоре кто-то ходил, тяжело припадая на одну ногу. — Устал, Илья Кириллович? — Нет. — Неужели? Тимур Назарович, ты тоже не устал? — Устал, Касым Гулямович. — Странно, странно. Вместе работали и такие противоречивые результаты. Может быть, я ослышался? А? Тишину, снова наступившую в кабинете, теперь нарушил хохот. Секретарь отделения Маша Чуковитова, войдя тут же в кабинет, удивленно застыла у двери. Такой дружный хохот был непривычен для нее. — Что же ты, Машенька, проходи, — позвал Джаббаров. — Не обращай на нас внимания. Мы сегодня в особом настроении. — Отпечатай эту справку, — протянул Джаббаров Чуковитовой лист бумаги. — Только, пожалуйста, побыстрее. — Хорошо, Касым Гулямович. Чуковитова вышла. Некоторое время в кабинете снова стояла тишина. Джаббаров задумчиво выводил красным карандашом на газете какие-то замысловатые знаки. Азимов следил за его рукой. Прозоров перелистывал журнал «Советская милиция», оказавшийся рядом, на тумбочке. — Погорели приятели на Соломине, — усмехнулся Азимов. — Теперь лапки кверху. Греются. — Рано веселишься, Тимур Назарович, — сказал Прозоров. — Они не сдались. Готовься к трудному бою. — Ничего. Мы не новички в ОУРе, — заметил Джаббаров. — Выше голову, Илья Кириллович. Не тебе вешать нос. Азимов внезапно сжал кулаки, вскочил с кресла. — Подлецы! Нет, какие подлецы, а? Я бы их! — Перестань, — дружески попросил Прозоров. — Эти подлецы сослужили нам неплохую службу. — Как же обман? Дискредитация милиции? Они действовали от нашего имени, представляешь? Позорили нас! Это самое страшное преступление, за которое нет и не должно быть пощады! Прозоров отложил журнал в сторону: — Ты не понял меня, Тимур Назарович. Я не имел в виду эту сторону вопроса. — Не имел, — немного тише произнес Азимов. — Я вижу в действиях этих людей только эту сторону. Это же диверсия! Да-да! Самая настоящая диверсия! — Сдаюсь, — признал себя побежденным Прозоров. Джаббаров сказал: — Ты иногда чересчур горяч, Тимур Назарович. Учись сдерживать чувства. — Я не понимаю, — внезапно остыл Азимов. — Ладно. Давайте поговорим о деле. — Давайте, — оживился Прозоров. — Итак, что нам известно об «иностранцах»? — Джаббаров воспользовался словом, которое сам предложил вчера перед операцией. Ответил Азимов: — Мало, Касым Гулямович. Мы знаем только фамилии и адреса. — Это не так уж и мало, — сказал Прозоров. — Касым Гулямович, ты обратил внимание на фамилии, которыми «иностранцы» назвали друг друга? Вот взгляни. — Прозоров протянул Джаббарову листок из блокнота. — Борисов — Гадаев Борис Афанасьевич. Семенов — Гроссман Семен Семенович. Степанов — Халов Степан Иванович. Фамилии образованы от собственных имен. Иначе поступил только главарь — Золотов, то есть Аганов Виктор Александрович. — Прозоров умолк, не спуская глаз с Джаббарова. — Интересно, — посмотрел Джаббаров на листок из блокнота. — Тебе это ни о чем не говорит? — Говорит, — сказал Прозоров. — О чем? — О мелком тщеславии этих людей. — О чем, о чем? — О тщеславии... Они оставили часть своего «я» в фамилиях. — Гмм, — постучал Джаббаров пальцем по столу. Азимов удивленно потянулся к Прозорову. — Если верить твоей версии, то Аганов должен первый сознаться во всем? Он не сохранил свое «я». — Не знаю, — задумался Прозоров. — Может быть, наоборот: он окажется наиболее крепким орешком. Джаббаров спросил: — А фамилия Рыжевского — Григорьев? Прозоров пожал плечами: — Это не трудно узнать. Жаль, конечно, что мы вчера потеряли его. Возможно, Соломина выручит нас? Она, по-моему, довела дело до конца. У этой девушки крепкая хватка. — Я схожу к ней, — сказал Азимов. — Оперуполномоченному Кумкову, который следил за Рыжевским, нужно посоветовать действовать так, как действовали оперуполномоченные Батраев и Савицкий, следя за квартирой Аганова. Они проследили за каждым его шагом. — Джаббаров поставил карандаш в металлический стаканчик, вынул из сейфа листы допроса. — Я думаю, кто-нибудь из задержанных назовет фамилию Рыжевского. Илья Кириллович, пришли Аганова. — Ты собираешься начать с главаря? — Возможно, Аганов — не главарь, не будем пока гадать. Я просто хочу проверить твою версию. — Я-я-ясно, — растянул слово Прозоров.20
Золотов-Аганов был высокого роста, худ, с длинным острым носом, небольшими глубоко посаженными глазами. Просторный темный костюм мешком висел на его костлявой фигуре. Сел он осторожно, будто боялся, что стул не выдержит, огляделся, положив руки на острые колени. — Вы знаете, где находитесь? — начал допрос Джаббаров. — Знаю. — Советую вам быть с нами откровенным. Это облегчит ваше положение. Вы задержаны с поличным на месте преступления. Соответствующий акт и показания свидетелей лежат в этой папке. — Скажите, что привело вас в дом Халова? — Дела, — пожал плечами Золотов-Аганов. — Какие? — Мне нужно было устроить на работу Семена Семеновича. — Гроссмана? — Да. — Разве это делается на квартире? — Иногда. — Разъясните. — Стоит ли отнимать у вас время на такие пустяки? — Кто должен был устроить Гроссмана на работу? — Джаббаров с минуту внимательно смотрел на Золотова-Аганова. — Халов. — Где он служит? — На резиновом заводе. — Кем? — Начальником отдела кадров... Извините, пожалуйста, нет ли у вас валерьяновых капель? У меня больное сердце. — Вы получите медицинскую помощь, если в этом появится необходимость... Шесть тысяч предназначались ему? — Мне это неизвестно. — Вы видели деньги? — Я не понимаю, о чем вы говорите! — Даже так? Золотов-Аганов скривил губы. Джаббаров подумал, что этот человек наверняка попортит ему немало крови, однако не подал вида — с прежним спокойствием продолжал допрос. — Какую роль в вашем деле играл Рыжевский? — Может, вы скажете, кто это? — Вы не знаете? — Нет. Джаббаров перевел взгляд на милиционера, стоявшего у двери. — Уведите. — Есть, товарищ майор, — шагнул к столу милиционер. — Приведите Халова. Степан Халов начал с порога: — Меня решили скомпрометировать. Я бы все равно не принял Гроссмана на работу. Я требую наказать виновников. Надо же дойти до такой страшной низости! Я до сих пор не могу прийти в себя. Будто обухом ударили по голове. — Садитесь, — сказал Джаббаров. — Спасибо... Никогда, слышите, никогда я не шел против совести и закона. Мне не семнадцать лет. Слава богу, знаю, что такое жизнь. — Однако своих друзей вы, очевидно, не знаете? Степан Халов тяжело вздохнул: — Очевидно. — Зачем они привели к вам Гроссмана? — Я же говорю вам: хотели скомпрометировать мое честное имя. Аганов метил на мое место. Понимаете? — Вы не ошибаетесь? — преувеличенно удивленно протянул Джаббаров. — На вид Аганов вполне порядочный человек. Я бы никогда не подумал, что он способен на подлость. — Внешность обманчива. — Пожалуй, вы правы. Минуты полторы в кабинете стояла тишина. Прозоров и Азимов с любопытством смотрели то на Джаббарова, то на Степана Халова — ждали, чем закончится этот затянувшийся диалог. — Может, мы все-таки поговорим откровенно? — Я совершенно откровенен с вами. — Степан Иванович, — встал Джаббаров, — забудьте вашу нелепую легенду. Она шита белыми нитками. У кого из вас появилась идея шантажировать людей? — Ни у кого, — помедлил с ответом Халов. — Аганов сказал, что это идея ваша. — Он не мог так сказать. — Степанов-Халов сдавил ладонями голову. — Я ничего не знаю. Уверяю вас. — Вы знаете Рыжевского? — Это знакомый Гадаева. — Как его настоящая фамилия? — Рыжевский... Впрочем, не знаю. Не интересовался. Не имел такой надобности. Спросите у Гадаева. — Может быть, Рыжевский-Григорьев? — Оставьте меня в покое! — Это ваше последнее слово? — спросил Джаббаров. — Да. — Кого вы боитесь? Аганова? Степанов-Халов не то вздрогнул, не то пожал плечами, повторил еще раз, правда, без прежней настойчивости. — Оставьте меня в покое! — Уведите, — приказал Джаббаров милиционеру. — Приведите Гадаева. Борисов-Гадаев не кричал, не изворачивался, не делал удивленных глаз: он смотрел прямо перед собой и беспрерывно повторял, как молитву, одним и тем же голосом: — Я ни в чем не виноват! Я честный советский человек! Его тоже увел милиционер и привел Семенова-Гроссмана. Тот осторожно сел на стул и, оглядев кабинет, пригладил редкие пушистые волосы. Он, по-видимому, неважно чувствовал себя: то и дело прикладывал ладонь к левому виску. — Дайте, пожалуйста, сигарету. Джаббаров протянул пачку. — Благодарю вас. Семенов-Гроссман жадно затянулся, откинув голову назад, долго глядел в потолок, словно увидел на нем свое изображение. Джаббаров решил не торопить события — взял свой любимый красный карандаш и принялся чертить на чистом листе бумаги квадраты и треугольники. Прозоров тоже сделал вид, что его вовсе не интересует следствие, потянулся опять к журналу «Советская милиция», перевернул несколько страниц. Азимов внимательно следил за Семеновым-Гроссманом. Он чувствовал, что именно этот человек может рассказать все о себе и о своих сообщниках. Семенов-Гроссман, действительно, мог рассказать о себе и о своих сообщниках все. Он давно тяготился их обществом. Сначала легкомысленно впутался в мошеннические сделки новых приятелей, не задумываясь над последствиями. Потом, когда ему стало ясно, что провал неизбежен и что его уже ничто не спасет — ни связи, о которых постоянно говорил Аганов, ни деньги, полученные нечестным путем, он тяготился происшедшим, но не мог уже ничего изменить. — Я вам все расскажу. Только, пожалуйста, еще сигарету, если можно. В горле что-то першит. — Прошу. Семенов-Гроссман снова жадно затянулся, помолчал еще немного, взглянул на часы, висевшие за спиной Джаббарова, нервно потер лоб.21
— Как мы действовали? Узнавали, кто имеет грешок, накидывали петельку и начинали тянуть. Иногда операция удавалась, иногда — нет. Одной из удачных операций Семенов-Гроссман считал «обработку» начальников из «Главметаллпосуды». Собственно, с нее и началось все. Во-первых, сколотилась группа, действовавшая по единому плану и подчиненная единой дисциплине, во-вторых, нашелся ее вдохновитель — Аганов, человек, прошедший, как он выражался, настоящую джентльменскую школу. Несколько лет назад сотрудники базы «Главметаллпосуды» Данов и Петровский привлекались к уголовной ответственности за кражу листового железа. По каким-то неизвестным причинам они не были осуждены. Это стало известно Аганову, и он вместе с Гадаевым и Халовым явился на базу в конце рабочего дня. — Из ОБХСС, — сунул Аганов под нос Данову красную книжечку. Потом повернулся к Гадаеву: — Заберите обоих! Данов и Петровский растерялись. Они разрешили увезти себя домой и дали согласие на обыск квартир. — Тысяч по десять одолжили? — спросил Прозоров. — По пять... Был другой случай, мастер сиропного цеха Гориц охотно поделился с нами, — продолжал Семенов-Гроссман. — Он отдал нам тридцать тысяч. Работая мастером сиропного цеха общепита текстилькомбината, Гориц хорошо знал технологию изготовления напитка; добрую половину сиропа реализовывал налево, получая за это в месяц по пять-шесть тысяч рублей. — Рискнем? — спросил Аганов. — Безусловно, — поддержал Гадаев. План операции разработали вместе и стали ждать удобного случая. Вскоре стало известно, что Гориц подготовил машину с сиропом для незаконной реализации. — Держитесь смело, — напутствовал Аганов Халова и Гадаева. Гориц от страха потерял дар речи. Он только кивал головой, когда на него набросились с вопросами Аганов и Халов. Гадаев стоял в стороне, у старого дерева, недалеко от ворот комбината: он должен был предупредить в случае опасности. — Опечатайте машину! — распорядился Аганов. — Слушаюсь, товарищ подполковник! — вытянулся Халов. Он с быстротой фокусника проделал необходимые манипуляции и снова вытянулся перед Агановым. Аганов взглянул на часы. — Теперь в Управление милиции... Хотя постой. Сначала произведем обыск на квартире. Дело не терпит отлагательств. До обыска не дошло. Доро́гой Халов подсел к Горицу и предложил уладить дело без шума... договорились за тридцать тысяч. — Деньги нужны немедленно, — потребовал Халов. Гориц сдержал свое слово, не обманули и «работники ОБХСС» — они отпустили машину с «левым сиропом» и больше не тревожили расхитителя. — Что вы еще можете сообщить? — поинтересовался Джаббаров. — Нужно ли? — устало закрыл глаза Семенов-Гроссман. — Нужно! — У меня очень болит голова. Перенервничал. — Понимаю, — сказал Джаббаров. — Я пока не буду утомлять вас, дайте только мне маленькую справку: как фамилия Рыжевского? — Гринберг. — Какая роль была отведена ему в ваших «операциях»? — Он не состоит в нашем клане. Это мой старый знакомый. Я однажды выручил его, теперь ему захотелось помочь мне. Во всяком случае, его не следует впутывать в это дело. Он в сущности неплохой человек. Думаю, что вам и без него хватит работы. Впрочем, как хотите. Я боюсь быть назойливым. Возможно, Аганов давал ему какие-нибудь поручения. Тайно от меня и от других членов клана. — Аганов — ваш крестный отец, — сказал Прозоров. — Выходит, так, — криво усмехнулся Семенов-Гроссман. — У меня тоже есть один вопрос: имя-отчество Гринберга? — Лев Маркович. — Семенов-Гроссман перевел взгляд с Прозорова на Джаббарова. — У вас, очевидно, нет его адреса? — Нет, — ответил Джаббаров. — Ново-Ташкентская, двадцать пять, квартира двенадцать. — Спасибо. — Я могу идти? — Да. Семенов-Гроссман медленно поднялся, постоял у стола, словно решал что-то очень важное, потом не спеша направился к двери, за которой ждал его милиционер.22
— Ваше мнение? Джаббаров не стал комментировать только что услышанное от Семенова-Гроссмана, ему хотелось, чтобы это сделали подчиненные, в первую очередь, Азимов. — Надо встретиться с Гринбергом, — предложил Прозоров. — Причем как можно скорее, — добавил Азимов. — Что ж, я согласен, — сказал Джаббаров. — Поддерживаю также ваше желание, Тимур Назарович. — Мое? — поразился Азимов. — Какое? — Неужели я ошибся? По-моему, вы хотели поехать на Ново-Ташкентскую улицу? — Да-да, — поспешно согласился Азимов. — Возможно, я все-таки ошибся? — Нет-нет, Касым Гулямович. Азимов вышел из кабинета. Прозоров спросил: — Что прикажешь делать мне? — Сам не знаешь? — спросил в свою очередь Джаббаров. — Вообще-то знаю... Надо срочно доставить в отдел тех, на ком мошенники погрели руки. — Прозоров не совсем уверенно произнес последние слова, будто усомнился в чем-то. Джаббаров поспешил на помощь: — Ты имеешь в виду потерпевших? — Я бы не назвал их потерпевшими. Они скорее всего преступники. — Может быть... Кого возьмешь с собой? — Если не возражаешь — Батраева и Савицкого. — Пожалуйста. Кстати, будь осторожен. Расхитители могут оказаться опаснее самих вымогателей.23
Гринберг-Рыжевский осторожно прошел в квартиру, запер дверь на замок, прислушался к звукам, доносившимся с улицы. Кажется, за ним никто не следил. Дернул же его черт связываться с этими проходимцами! Нужно было срочно что-то решать. В комнатах стояла глубокая тишина. Гринберг-Рыжевский остановился посредине гостиной, посмотрел вокруг невидящими глазами. Надо было действовать немедленно. Милиция могла нагрянуть с минуты на минуту. Хорошо еще, что никого не было дома — жена с детьми гостила в Одессе у родных, мать уехала к сестре в Киев. Они помешали бы ему осуществить план. Собственно, о каком плане он думал? У него пока не было в голове ни одной подходящей мысли. Аганов и его дружки, наверное, все сделали, чтобы обелить себя. У Гринберга-Рыжевского закололо в боку. Он тяжело опустился на стул. Глупо было надеяться на честность этой компании, особенно на Аганова. Он шел на все и не отступал, пока не добивался своего. Боль в боку усилилась. Стало труднее дышать. Гринберг-Рыжевский откинулся на спинку стула. Затем вскочил и заметался по квартире. Минут через пять в коридоре раздался звонок. Звонок подействовал на Гринберга-Рыжевского, как электрический разряд. Милиция? Конечно, милиция! Больше некому прийти в это время. Что же делать? Уйти через окно? Высоко. Рискнуть? Гринберг-Рыжевский кинулся к окну, распахнул ставни, выглянул на улицу и, увидев на противоположной стороне мужчину в военной форме, отпрянул назад. Всё. Конец. Из-за двери послышался женский голос: — Гринберг, откройте! «Кто это? Софочка? Как она очутилась здесь? Наверное, прислал отец? Что ему нужно? Прислал объясниться? Глупо!» — Гринберг, вы слышите? Откройте! Это я — Софа! Софа Соломина, слышите? Мне нужно поговорить с вами. Это в ваших интересах. Слышите, Гринберг? Он снова приблизился к окну: мужчины в военной форме не было. Это немного успокоило его. По-видимому, за ним не следят. Софочку, возможно, в самом деле прислал отец с добрыми намерениями. Гринберг-Рыжевский отпрянул от окна, вышел в коридор, открыл дверь, натянуто улыбнулся: — Входите. Софочка впорхнула в прихожую, задержалась мгновение у вешалки, прошла в гостиную — высокая, длинноногая, в голубом платье выше колен, в туфельках на высоких каблучках, с книжкой в руке. — Вы спали? — Спал. Садитесь. — Благодарю. — Садитесь, садитесь. Гринберг-Рыжевский пододвинул Софочке кресло, отошел к телевизору, на котором стояли фарфоровые безделушки, сделал вид, что заинтересовался ими. — Что тебе нужно? — спросил Гринберг-Рыжевский. Оставив безделушки в покое, подошел к окну, посмотрел на улицу. Ничего подозрительного на этот раз не увидел, сел на диван, неторопливо распечатал пачку сигарет. — Ну? Софочка повторила: — Что мне нужно? Я пришла за вами. — За мной? Не понимаю. — Понимаете, Гринберг. Не притворяйтесь... Скажите, вы давно связаны с ними? — С кем? — С вымогателями. — Подожди, Софочка, подожди. —Значит, ей уже что-то было известно. Она пришла не по заданию отца. Может, уже побывала в милиции? — Подожди... О каких вымогателях ты говоришь? Я действительно не понимаю тебя. — Вы не понимаете меня? С каких это пор вы стали таким несообразительным? — Софочка, неужели ты думаешь, что я могу связаться с вымогателями? Посмотри на меня внимательно. Разве я похож на преступника? Ты меня просто смешишь. Похож? Софочка отошла к стене, смерила Гринберга-Рыжевского критическим взглядом, сказала резко: — Похож! — Софочка! — Похож! Гринберг-Рыжевский попятился назад. Надо как-то заставить ее замолчать. Может, предложить какую-нибудь золотую безделушку? Перстень или медальон? — Как ты узнала мою фамилию? — Узнала, — сказала Софочка. — Вы, кажется, один? Жена еще не приехала? Гринберг-Рыжевский невольно попятился назад — значит, Софочке было известно и то, что он женат и то, что жена в отъезде. — Ты что? Дуэнья? — Дуэнья, — машинально произнесла Софочка. — Собирайтесь, собирайтесь. Я жду. Вы что? Оглохли? — Послушай, Софочка, ты уже не маленькая, тебе скоро исполнится восемнадцать лет. Не шути! Ты выбрала неудачный объект для шуток. — Откуда вы взяли, что я шучу с вами? Собирайтесь немедленно. Вы должны ответить за все, что натворили. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. — Софочка! — Собирайтесь! Гринберг-Рыжевский снова попятился назад, к трюмо, выдвинул средний ящик, выхватил первую попавшуюся коробочку, шагнул к Софочке. — Возьмите это. Возьмите, я знаю, вам понравится. — Что... это? Гринберг-Рыжевский открыл коробочку. На темном бархате засверкали крошечные золотые серьги. — Это вам. — Мне? — Софочка не знала, как отнестись к тому, что происходит. Еще никто не предлагал ей таких драгоценностей. — Мне? Вы что? В своем уме? За что? — За что? — Гринберг-Рыжевский изобразил на лице удивление. — Вы такая красивая, Софочка. Нет-нет, пожалуйста, не думайте обо мне плохо! Я люблю вас! — В-вы? Гринберг-Рыжевский решил, что настало время действовать более решительно. — Вы удивились? Почему, скажите? Разве я не могу полюбить вас? Вы прекрасны, молоды, чисты. Я день и ночь только и думаю о вас. Даже говорил о вас с вашим отцом. Не верите? — О чем вы? — с трудом вымолвила Софочка. — Верьте, верьте, — подхватил Гринберг-Рыжевский. — Пожалуйста, наденьте эти серьги. Они понравятся вам. Софочка неожиданно отскочила назад, прижалась к стене, сгорбила узкие плечи, скрестила руки на груди. — Нет! — Не беспокойтесь, я купил эти серьги на трудовые деньги. Они ваши, понимаете? Ваши, Софочка! Ну? Чего же вы испугались? — Нет! — Софочка! — Не приближайтесь ко мне, слышите, слышите, Гринберг, не приближайтесь! Вы — жалкий, подлый трус! Я ненавижу вас! — Ах, так! Гринберг-Рыжевский одним прыжком приблизился к Софочке, схватил за руки и сжал с такой силой, что у нее потемнело в глазах. Она рванулась, попыталась высвободиться, однако не смогла. — Отпустите! Слышите, Гринберг? Отпустите, мне больно! — Тебе больно? Думаешь, мне не больно? Дай слово что сейчас же отправишься домой! — Я закричу! — Только закричи! Софочка закричала: — Помогите!!!24
Азимов услышал крик Софочки. — Гринберг, откройте! Откройте немедленно! Иначе взломаю дверь! Гринберг! В квартире снова стояла тишина. Будто в ней вообще не было ни одной живой души. Азимов подождал немного и начал стучать в дверь. Из соседних квартир показались люди. Кто-то грубо спросил: — В чем дело, гражданин? — Я из милиции. — Азимов привычно достал из кармана удостоверение. — Нужно срочно открыть дверь в эту квартиру. Может произойти несчастье. Люди забеспокоились. — Вчера у меня была одна девушка, интересовалась Гринбергом, — сказала пожилая женщина. — Жулик он, этот Гринберг, вот что я вам скажу! — Товарищ, чем я могу помочь? — К Азимову подошел мужчина лет шестидесяти. — Не нужен ли ломик? А? Я мигом! — Ломик? — Азимов спрятал в карман удостоверение. — Давайте. Мужчина исчез в соседней квартире. — Гринберг, откройте! Вы слышите меня, Гринберг? Мужчина принес ломик, быстро взглянул на Азимова. — Я мигом, товарищ. В один секунд. — Действуйте. Люди подошли еще ближе. Снова заговорили, не спуская глаз с мужчины, пытавшегося открыть дверь. — Ты снизу, снизу давай! — В щель суй, куда суешь-то? В щель, говорю! — Нет его, поди, уже, Гринберга-то! В окно убег! — С четвертого этажа? Что-то, бабка, ты мудришь! — Ежели надоть, с десятого сиганешь. За дверью послышались шаги, робкие, нетвердые, щелкнула задвижка, и по двери зашарили торопливые руки. На площадке воцарилась напряженная тишина. Наконец, дверь распахнулась. На пороге, с чугунной пепельницей в руке, стояла Софочка. Она глухо сказала: — Я убила его! Никто не проронил ни слова. Тишина на площадке стала еще ощутимее и напряженнее. Азимов, отстранив Софочку, шагнул через порог, побежал в открытые двери, ведущие в гостиную. В гостиной остановился, оглядел все: шифоньер, книжный шкаф, аквариум, задержал взгляд на колеблющихся занавесках; метнулся к ним, быстро раздвинул, замер у входа в спальню. Гринберг-Рыжевский лежал на широкой деревянной кровати, свесив с нее правую руку и правую ногу, повернув окровавленное лицо к окну. — Видите, товарищ лейтенант, видите! Азимов обернулся к Софочке, сурово сдвинув брови, сказал: — Гражданка Соломина, помолчите! Азимов подошел к кровати, склонился над Гринбергом-Рыжевским, потянулся к правой руке — рука дрогнула. Азимов взволнованно потрогал усы, громко покашлял в кулак, склонился снова и провел ладонью по опущенным векам Гринберга-Рыжевского. Он открыл глаза и уставился на Тимура, словно увидел привидение. — Ка-ак вы с-сюда п-попали? Азимов не успел ответить. К Гринбергу-Рыжевскому приблизилась Софочка и произнесла не то с сожалением, не то с недоумением: — Жив?!25
Через три дня в уголовном розыске появились «потерпевшие»: Данов и Петровский. Допрос снимал Прозоров. Данов не поднимал глаз. Он хорошо знал законы и понимал, что ему придется отвечать за преступление, которое вынудили его совершить мошенники. Прозоров спокойно наблюдал за Дановым. За многолетнюю работу в уголовном розыске ему доводилось встречаться с преступниками самых различных «специальностей» — с домушниками, с наводчиками... Одни сразу рассказывали о совершенных преступлениях, другие отрицали всё, несмотря на улики и показания свидетелей. Данов, кажется, относился ко второй категории. Он сразу начал отпираться. — Значит, вы никому не давали денег? — Не давал. — У вас в квартире никто не производил обыск? — Никто. — Я бы не советовал вам обманывать. — Я не обманываю. — Вспомните, может, все-таки, вы давали деньги? Это очень важно. — Для кого? — Для вас. — Для меня? Не давал. — Вас никто не арестовывал? — Никто. Прозоров вынул из стола фотокарточку Аганова и положил перед Дановым, внимательно следя за его лицом. — Узнаете? Данов посмотрел на фотокарточку, устало пожал плечами, переведя взгляд на Прозорова: — Кто это? Прозоров заколебался: может быть, Гроссман обманул? В таком случае, зачем? Чтобы обелить себя? Или чтобы оттянуть время? У него все равно не было никаких шансов. Зазвенел телефон. Данов вздрогнул, нервно сцепил руки на коленях, втянул голову в плечи, словно почувствовал опасность. Прозоров поднял трубку: — Да. — Здравствуйте, товарищ капитан. — Здравствуйте, товарищ майор. — Прозоров узнал голос Джаббарова, хотя в трубке и раздавались резкие шорохи. Джаббаров был официален. По-видимому, кто-то уже успел испортить ему настроение или в его кабинете находились посторонние люди. — Вы один? — Нет. — Данов? — Да. — Не сознается? Мне показалось, что вам без особого труда удастся расположить его к себе. Очевидно, я что-то не учел. — Все будет в порядке, товарищ майор. Прозоров скосил глаза на Данова. Данов внимательно прислушивался к телефонному разговору, должно быть, догадывался, что речь идет о нем. — С Петровским беседовали? — Нет еще. — Я уезжаю в министерство. Буду часа через два. Думаю, что к этому времени вы порадуете меня. Прозоров положил трубку на рычаг телефона и возвратился к прерванному допросу. — Давайте все-таки уточним: знаете вы этого человека или нет, — Прозоров снова показал Данову фотокарточку Аганова. — Не знаю. — Нам известно, что вы давали ему деньги, — сказал Прозоров. — У нас есть люди, которые подтвердят это. Неужели вы думаете, что мы пригласили вас сюда, не имея достаточных фактов, чтобы изобличить вас? Данов медленно наклонился вперед: — Кто эти люди? — Кто? — Прозоров положил на стол вторую фотокарточку. — Вот. — Вахтер? — Да. — Он не имеет права давать показания. — Почему? — Родственник. — Ваш? — Моя сестра замужем за ним. — Двоюродная? — Д-да. У Данова расширились глаза. Он, по-видимому, не ожидал от Прозорова такой осведомленности — считал, что у него нет изобличающих фактов, что ему просто хотелось подчеркнуть, что милиция все видит и все знает, поэтому нет смысла запираться. Прозоров положил на стол третью фотокарточку. — Этот человек тоже может кое-что сказать. — Кто это? — Не узнаете? — Нет. — Неужели? — Простите. — Данов взял фотокарточку, повертел в руках, презрительно скривил губы. — Рыжевский? — Узнали. Очень приятно. — Он тоже не может быть свидетелем. — Почему? Тоже родственник? — Тамбовский волк ему родственник, — положил Данов на место фотокарточку. — В чем же дело? — Ни в чем. — Понимаю. Вам стыдно признаться в том, что этот человек обвел вас вокруг пальца. Не беспокойтесь, вы не один. Между прочим, фамилия у него другая. Гринберг. Я могу устроить вам свидание. Не желаете? — Воздержусь. Прозоров достал из стола еще одну фотокарточку — четвертую, тоже положил перед Дановым. — Еще один свидетель обвинения. Прошу. — Петровский. — Да. — Какой же это свидетель, если сам... — Ну-ну, договаривайте, что же вы? Будьте смелее, Данов! По-моему, вы не из робкого десятка. Итак? — Я устал. — Хорошо, — согласился Прозоров. Он встал, попросил милиционера, дежурившего в коридоре, увести Данова и привести Петровского. Петровский зашел тихо, словно переступил порог больничной палаты, медленно опустился на стул, посмотрел на Прозорова внимательными, преданными глазами. Прозоров понял, что Петровского «не взять голыми руками» — нужны веские факты, которые бы сразу поставили всё на свои места. Собственно, такие факты у Прозорова были. Они в конце концов заставят Петровского признаться в совершенном преступлении. — Мы встречаемся с вами второй раз, — сказал Прозоров. — Вчера вы отрицали всё. Возможно, сегодня вы будете благоразумнее? Мы задержали аферистов, которые получили от вас крупную сумму денег. Они подтвердят это на очной ставке. — Не думаю, что это произойдет. — Вы уверены в этом? — Уверен. — Напрасно. — Прозоров вытащил из сейфа три сберегательные книжки, положил перед собой. — Это мы нашли у вас при обыске. Может, вы скажете, откуда у вас деньги, которые вы храните сразу в трех кассах? — Это длинная история. — У меня есть время. Петровский откинулся на спинку стула, положил руки на колени, устало закрыл глаза. Что беспокоило этого человека? Возможно, он перебирал в памяти минувшее? Возможно, искал выход из создавшегося положения? Трудно порой понять людей, оказавшихся по тем или иным причинам в преступной среде. Чем объяснить, например, добровольное признание Гроссмана? Какие мотивы побудили его рассказать о прошлых махинациях? О получении денег с Данова и Петровского? С Горица? Может, понял, что работники милиции все равно докопаются до истины — тогда уж ничто и никто не поможет, какие бы усилия он ни прилагал. — Итак? Прозоров задал этот вопрос, чтобы прервать затянувшееся молчание. Петровский не ответил. Он, по-видимому, даже не услышал вопроса — сидел так же неподвижно, не открывая глаз, не снимая с коленей рук... Прозоров позвал милиционера.26
— Отлично, отлично, — похвалил Розыков Джаббарова. — Передайте Прозорову и Азимову от меня поздравление. Я полагаю, что теперь можно вторично допросить Аганова. Кстати, какие показания дает Гориц? — Никаких. Утверждает, что никого не видел и никому никаких денег не давал. Когда свели с Гадаевым, стал кричать, что это шантаж. — Что думают о нем в ОБХСС? — спросил Розыков. — Я только что беседовал с Артемовым. Они еще не закончили ревизию, — взял Джаббаров под защиту своих коллег. — Цех огромный. Сразу не установишь, всё ли в порядке. — Управляющий трестом в курсе? — Да. — Надеюсь, он не пытался взять под защиту Горица? — Пытался, товарищ полковник, — сказал Джаббаров. — Причем, довольно энергично. Гориц, по его мнению, один из лучших работников треста. — Странно. — Розыков посмотрел на стенные часы, посидел некоторое время молча, словно прислушивался к стуку машинки в приемной. — Поговорите с рабочими цеха. Только, пожалуйста, не медлите. — Хорошо, товарищ полковник. — Как чувствует себя Соломина? — Прекрасно. Сегодня сдает последний экзамен. — Из нее, пожалуй, выйдет неплохой следователь. Если в этом году не сможет поступить в университет, то попробуйте привлечь ее к нам. Вы уточнили, почему она очутилась у Гринберга? — Хотела доставить его в милицию. — Джаббаров усмехнулся, проговорил тихо: — Чудачка! — Чудачка? — прищурился Розыков. — Я бы гораздо спокойнее чувствовал себя, если бы у нас было больше таких чудаков. — Пожалуй, — согласился Джаббаров. Розыков отложил в сторону папку, которую держал в руках, снова посмотрел на стенные часы. «Устал полковник, — подумал Джаббаров. — Конечно, устал. Еще бы, столько забот! Один Аганов может сна лишить. Вторую неделю водит за нос и уголовный розыск и прокуратуру. Меняется ежедневно. То отпирается, то начинает признаваться и очищать себя от грехов. То молчит часами, то разговорится — не остановишь. Только всё вокруг да около. О главном — ни слова. — Понятые подтверждают показания Соломина? — спросил Розыков. — Да. — Кто производил обыск у Аганова? — Прозоров и Батраев. — Что думаете делать дальше? — Искать новые улики... — Не отделывайтесь общими словами, товарищ майор. Придумайте что-нибудь действенное. Вы не новичок в уголовном розыске. — Простите. — Мне кажется, вы не совсем удачно произвели обыск у Аганова. Проверьте еще раз все ходы и выходы. У него должны быть еще деньги. Возможно, есть драгоценности. Такие люди, как он, живут и с оглядкой, и с прицелом на будущее. Вы поняли меня? — Да.27
Розыков оказался прав. На квартире Аганова во время второго обыска была обнаружена спрятанная под половицей железная банка. В ней хранились облигации трехпроцентного займа и крупная сумма денег. Кроме того, были найдены золотые и серебряные вещи. — Больше не станет отпираться, — сказал Дмитриев. — Утопающий хватается за соломинку, — ответил на это Прозоров. — Мы еще немало крови попортим с этим Агановым. — Вот увидишь, при первом же допросе у него сдадут нервишки, — рассердился на Прозорова Азимов. — Аганову — крышка. — Если допрос поведет Розыков или Джаббаров. — Не обязательно. Этот допрос может провести с успехом любой оперативник отдела. Аганов — в капкане. Он может только защищаться, мы же — наступаем. — Пока только прощупываем, — уточнил Прозоров. — Ты стал слишком осторожным, Илья Кириллович. Помнишь, с каким блеском ты закончил дело о магазинных кражах? Ты тогда наступал с самого первого шага! — Наступление без подготовки может окончиться провалом. — Подготовка проведена. Пора в атаку. Прозоров внимательно посмотрел на Азимова. — Уж не ты ли собираешься атаковать Аганова? Азимов вспыхнул. Он действительно считал себя способным «положить» Аганова на обе лопатки. — Ну? Что же ты? Атакуешь? — Разве я решаю такие вопросы? На губах Прозорова мелькнула лукавая улыбка: — Ну-ну! Решение Джаббарова назначить Азимова провести допрос Аганова стало известно вечером. Азимов растерялся, подумав неожиданно, что не сумеет организовать допрос, хотя до этого сам этого очень хотел. Джаббаров рассердился, строго приказал: — Готовьтесь к допросу, товарищ лейтенант! Азимов попытался еще раз отказаться. — Поручите допрос Прозорову, товарищ майор. Могу испортить всё. Честное слово, товарищ майор. Джаббаров остыл. Он не мог долго сердиться на Азимова. Слишком многое сближало его с этим человеком. Ему хотелось, чтобы он, как и Прозоров, научился на лету схватывать то главное, что необходимо каждому работнику милиции, особенно работнику уголовного розыска, встречавшемуся чаще всех лицом к лицу с преступником. — Тимур Назарович, ты сможешь. Вспомни прошлые дела. Вспомни, как ты трудился с Сорокиным, с Закировой, с Зафаром. В общем, засучивай рукава, — прежним дружеским тоном сказал Джаббаров. — Аганов не устоит. В этом не сомневается даже полковник. Азимов невольно подался вперед: — Правда? — Полковник сказал, что ты будешь как раз тем человеком, который положит Аганова на обе лопатки. — Ладно тебе, — перешел Азимов на «ты». — Снова не веришь? Азимов не ответил... Если даже сам Розыков не сомневался в его успехе, значит, все будет в порядке. — Итак, готовьтесь к допросу, товарищ лейтенант! Азимов вытянулся, бойко щелкнул каблуками: — Есть, готовиться к допросу, товарищ майор!28
Дора Михайловна поцеловала дочь, проводила до двери, попросила еще раз: — Ты не задерживайся, пожалуйста. Иначе мы с отцом будем волноваться. — Не задержусь, — пообещала Софочка. — Ты к нему? — О ком ты? — Не притворяйся. Я по глазам вижу, что ты знаешь, о ком я говорю... Не красней, он неплохой парень, с ним не пропадешь. Только вот у него другая... вера. — Перестань, мама! — закричала Софочка. — Молчу, доченька, молчу, — поспешно сказала Дора Михайловна. — Тебе видней, с кем дружить. Сейчас не те времена... Отец будет расстраиваться, если узнает, что ты с ним встречаешься. — Конечно, — скривила губы Софочка. — Еще с горя напьется. Тебе известно, чем это может кончиться. Появится в доме новый Рыжевский. Предложит мне руку и сердце. — Софа! — До свидания. Софочка выскочила за дверь, быстро сбежала со второго этажа, в подъезде задержалась на секунду-другую, огляделась и не спеша вышла на улицу. На улице было солнечно и тихо. В небольшом скверике, примыкавшем к дому, играли дети. За ними следили взрослые, в основном, старушки. Они сидели на деревянных скамейках под тенистыми деревьями, сонно щурили глаза. Что же это, что? Неужели я действительно люблю Тимура? Я все время думаю о нем. Может, это не любовь? Софочка остановилась, прижала сумочку к груди, словно прикрыла сердце, которое внезапно тревожно забилось. Из переулка вышли парни и девушки. Они, по-видимому, были чем-то сильно увлечены и не обращали внимания на то, что происходило вокруг. Софочка решительно тряхнула головой, проводив их взглядом, посмотрела на окна своей квартиры и пошла по тротуару, беспечно помахивая сумочкой. Вообще-то у Софочки не было оснований для печали. Она успешно сдала экзамены и стала студенткой ТашГУ. У нее были трудности, ну и что же? Без трудностей совсем неинтересно жить. Софочка побывала в милиции и подробно рассказала о столкновении с Гринбергом в его квартире. Тимур нервничал, слушая ее. Очевидно, потому, что хотел поскорее расследовать дело. Может, сходить к нему в милицию? Как он встретит ее? Позади заскрежетали тормоза остановившейся машины. Софочка оглянулась и увидела военный газик, на котором преследовала Рыжевского. — Слава? Солдат выпрыгнул из машины: — Здравствуйте, Софа. — Здравствуйте. Софочка протянула солдату руку. Он осторожно пожал ее, показал на машину: — Садитесь. — Мне далеко, Слава. — Ничего. У меня есть свободное время. Садитесь. — Спасибо. Несколько минут ехали молча. Софочка незаметно следила за солдатом. У него были голубые глаза, светлые, вьющиеся волосы, полные губы. Он, наверное, нравится девушкам, подумала Софочка. — Ну как ваш знакомый? Сознался? — Какой знакомый? — Ну тот, за которым вы следили? — Куда ему деваться! — Вы отчаянная девушка, честное слово... Я не смог бы работать в милиции. Люблю поговорить. Это у меня с детства. Понимаете? — Где находится ваша часть? — В городе. — Где именно? — В городе, — снова широко улыбнулся Слава. — Подробности высылаю по почте. Черкните, может, отвечу. — Я хочу, чтобы вы сейчас ответили. — Больше вы ничего не хотите? — Хочу... Есть ли в вашей части секретное оружие? — Что-что? — Слава с такой силой нажал на тормоз, что Софочка едва не стукнулась лбом о смотровое стекло. — Зачем тебе знать, есть в нашей части секретное оружие или нет? Софочка прищурилась: — Мы уже на «ты»? — Ты не ответила на мой вопрос! — Ого! — Софочка прищурилась еще сильнее. — Не такой уж ты любитель поговорить! Значит, сможешь работать в милиции! — Э! Слава не нашелся, что ответить — переключил скорость и вывел машину на улицу Лахути. Софочка попросила: — Остановитесь вон у того здания. Я сойду. — Милиция? — Да. Слава остановил машину у широких ворот, из которых в это время выходил взвод курсантов школы милиции. — Может, вы дадите мне свой адрес? — Мы снова на «вы»? — выпрыгнула Софочка из кабины. — Извините, — сказал Слава. — Вы знаете мое имя, знаете мою фамилию, зачем вам еще мой адрес? Достаточно и этих данных, чтобы найти меня. Кстати, я не работаю в милиции и не работала. Только что закончила школу и поступила в ТашГУ на юрфак. — Спасибо, — просиял Слава. — За что? — оторопела Софочка. — Теперь я непременно найду вас... «Газик» фыркнул, рванулся с места и через минуту исчез за четырехэтажным зданием школы. Софочка поправила волосы и подошла к милиционеру, стоявшему во дворе, сразу за воротами. Милиционер привычно приложил руку к козырьку фуражки. — Мне нужно увидеть товарища Азимова. — Он вызывал вас? — Нет. — В таком случае, я ничем не могу вам помочь. — Милиционер снова приложил руку к козырьку фуражки. — Разрешите, я позвоню товарищу Азимову. — Пожалуйста. — Благодарю. Софочка позвонила по телефону, висевшему у окошечка проходной будки. Ответил Прозоров. — Будьте добры, пригласите Азимова, — попросила Софочка. — Его нет. — Не-ет? Возможно, вы скажете, когда он будет? Мне необходимо поговорить с ним. Я — Соломина. — Соломина? Что-нибудь случилось? — Нет-нет. Мне нужно поговорить с ним, — поспешно сказала Софочка. — Минутку. В трубке наступила тишина. Прозоров, вероятно, узнавал, куда ушел Тимур, или, может, решал, что ответить, если нельзя сказать, где он. — Алло! — позвала Софочка. Прозоров отозвался не сразу — в трубке некоторое время еще стояла тишина. — Вы слушаете? Позвоните в Центральный райотдел милиции. Он у капитана Сорокина. — Спасибо. Софочка повесила трубку, молча кивнула милиционеру и вышла на улицу. Капитан Сорокин... Это же муж Клары Евгеньевны. Как это я сразу не догадалась. Значит, Тимур вечером может быть у него? Мы можем увидеться. Интересно, что подумает Клара Евгеньевна? Она проницательна. Журналистка! Только бы Тимур пришел... Софочка взглянула на свои ручные часики, недоуменно подняла брови: обе стрелки стояли на цифре «три». До вечера можно было сто раз умереть...29
Софочка «не умерла». В половине седьмого она сидела за небольшим круглым столиком и не спускала глаз с Клары. — Я уже думала, что вы забыли нас. У вас все в порядке? — Да, Клара Евгеньевна, — улыбнулась Софочка. — В университет поступили? — Да. — Поздравляю. — Клара помолчала, словно не знала, о чем говорить дальше. — Значит, ваша мечта осуществляется? — Да. — Вы всё продумали? — Всё, Клара Евгеньевна, — горячо сказала Софочка. — Я обязательно буду работать в милиции. Может быть, ваш муж устроит меня к себе... в отдел? Клара, помедлив немного, ответила: — Он вообще-то за то, чтобы в милиции работали мужчины. — Разве ему ничего неизвестно о Наташе Бельской? О ней до сих пор говорят в городе. Простите, Клара Евгеньевна, он, наверное, феодал? — Кто? — не поняла Клара. — Ваш муж. — Ник? Клара засмеялась. Она не представляла Николая в роли феодала. — Скорее всего, я у него феодалка, — снова засмеялась Клара. Софочка не поняла Клару — обиженно, по-детски, надула губы, сделала вид, что заинтересовалась ковровой дорожкой, идущей в другую комнату. — Ник — феодал... Ах, Софа, Софа, дай бог вам такого феодала... Он считает, что тяжелую работу должны выполнять мужчины. Понимаете? Наташа Бельская — исключение. — Я все равно не отступлюсь, — сказала Софочка. — Вы отступились бы от своей мечты? — Нет. — Выступая у нас в школе, вы защищали тех, кто упорно идет к своей цели. Разве что-нибудь изменилось с тех пор? — Простите, я не хотела вас обидеть, — прикоснулась Клара к руке Софочки. — Я верю в вас и желаю вам добра. Николай, конечно, поможет вам. Сейчас просто не время говорить об этом. А через пять лет, возможно, вам уже не нужна будет его помощь. — О чем вы? — с удивлением спросила Софочка. — Вы не догадываетесь? Пять лет — срок немалый. Вы можете за это время выйти замуж. Муж окажется противником вашей мечты. Не смотрите на меня так осуждающе. Софочка уверенно сказала: — Я выйду замуж только за работника милиции! — Вы — наивная девочка, Софа. Нельзя заранее загадывать, кем будет ваш муж. Может быть, вам понравится летчик или рабочий? Возможно, вы полюбите журналиста или ученого? «Клара Евгеньевна все-таки в чем-то была права. Пять лет, действительно, большой срок, — вздохнула Софочка. — За это время все может произойти». — Нет-нет, я выйду замуж только за работника милиции! — сжала кулачки Софочка. Клара решила испытать Софочку. — Впрочем, помощь Николая вам, вероятно, не потребуется, потому что вам поможет Тимур. — Тимур? — у Софочки остановилось сердце. — Почему? — Вы снова не догадываетесь? — Клара Евгеньевна! — Он может стать за это время начальником. Софочка нервно засмеялась: — Что же из этого? Я для него ничего не значу. — Так уж прямо ничего не значите?! — воскликнула Клара. — Он считает, что вы решительная и красивая девушка. — Правда, Клара Евгеньевна? — Правда. Зазвенел телефон. Клара встала, подошла к письменному столу, сняла трубку. Звонил Николай. — Скучаешь? — Нет. — У тебя гости? — Как ты догадался? — Профессиональное чутье, — привычной фразой отделался Николай. — Софа? — Да. — Чудесно. Ты не отпускай ее. Я приеду с Тимуром. — Он у тебя? — Вышел. Вообще, в отделе. Целую. Клара, дружески улыбнувшись Софочке, спросила, словно не прерывала с ней разговора: — Он вам небезразличен? Софочка покраснела. — Тимур? Небезразличен, — даже с некоторым вызовом сказала Софочка. — Только у нас с ним, наверное, ничего не получится. Мы разные люди. Во всяком случае, он так думает. — Подождите, ну что вы! Клара попыталась вложить в эту фразу уверенность, однако сама не была уверена в том, что сказала. Софочка встала: — Я пойду, Клара Евгеньевна. — Нет-нет, — Клара тоже встала. — Я не отпущу вас. Сейчас приедет мой муж. Мы с вами почаевничаем. Он обидится, если вы уйдете. — Мне надо. С Софочкой что-то произошло. С мужем Клары Евгеньевны приедет Тимур. Она нисколько не сомневалась в этом. Ей стало страшно оттого, что он приедет. Это мог быть конец ее надежде. Клара взяла Софочку за руку: — Останьтесь! Софочка сказала еще раз: — Я пойду! Она все-таки ушла. Минут через пятнадцать приехали Тимур и Николай. Николай понял по лицу Клары, что гостьи уже нет и, осуждающе покачав головой, жестом пригласил Тимура сесть в кресло. Клара пошла на кухню готовить ужин.30
Тимур сказал: — Я не отступлюсь, сделаю все, чтобы разоблачить Аганова. Это прожженный рецидивист, и он должен получить по заслугам. Но дело не в этом: имею ли я право вести этот допрос? Николай не понял: — Объясни! — Я недавно работаю у Розыкова, сами знаете. Мне неудобно перед Джаббаровым и Прозоровым. Что они подумают? Джаббаров, конечно, доказывал, что этот допрос должен провести я. — Доказал, — согласился Николай. — Вот видите! — подался вперед Тимур. — Прозоров вообще готов совершить для меня всё. Он ни за что бы не упустил этот допрос, если бы его поручили не мне. Джаббаров мой земляк, он из Янгишахара. Считает, что неудобно зажимать инициативу земляка. Правильно? Пойдут ненужные разговоры. — Тимур вздохнул. — Николай Аркадьевич, скажите, как мне быть? Николай усмехнулся: — Прозоров, судя по всему, очень расположен к тебе. Джаббаров — твой начальник, к тому же — земляк. Я — твой крестный отец... Значит, ты решишь, что я не смогу по-настоящему оценить тебя. — Николай помолчал, глядя на Тимура, дружески посоветовал: — Не думай, что Джаббаров и Прозоров доверяют тебе этот допрос, потому что ты нравишься им. Дело в другом: они верят в тебя! — Да? — Конечно, — сказал Николай. — Ты сумеешь провести этот допрос так, что Аганов сдастся. Ты у нас не новичок. Главное, тщательно проанализируй все, что у тебя есть, еще и еще раз обдумай каждый шаг и действуй! — Так? — Кстати, ты знаком с прошлым Аганова? — В общих чертах. — Узнай о нем всё, что можешь. Это облегчит твою задачу. Аганов трижды отбывал наказание за мошенничество, — сказал Николай. — Он хорошо знает законы и будет яростно защищаться. Я несколько раз встречался с ним. Испытал на себе его волчьи повадки. — Больше не встретитесь. Они сидели на диване в столовой. Клара, поужинав, ушла к себе в комнату. Ей нужно было завтра утром сдать в редакцию очерк. Шел двенадцатый час. С улицы доносился затухающий шум города. В верхних рамках окон виднелись слабые звезды. На тумбочке, в углу, тихо шелестел вентилятор. — Сейчас все зависит от тебя, — сказал Николай. — Ты должен провести этот допрос так, чтобы Аганов, наконец, понял, что у него остался только один путь в жизни — честный! — Ясно! — Ты сумеешь сделать это, — убежденно произнес Николай. — Кстати, как это удалось Соломиной свалить Гринберга? — Он пытался закрыть ее в спальню и убежать. Финал, как говорится, вполне закономерен. Она в самом деле могла проломить череп преступнику. Не забывайте, он, кроме всего прочего, еще лысый донжуан. — Ты думаешь, что он мог надругаться над ней? — Разве вы не думаете так? — Тимур встал, поднял руку, взглянул на часы. — Ого! Кажется, пора! Николай тоже встал. — Может быть, останешься у нас? — Спасибо. — Тимур кивнул в сторону комнаты Клары. — О ком она пишет? — Не знаю. — Так я вам и поверил! — сказал Тимур. — Напомните ей об Андрее. Она обещала опубликовать в своей газете его стихи. У него хорошие стихи. Напомните. — Сам сделай это. — Сейчас? — Да. — Нет. Творческий процесс сложен и хрупок. Его нельзя нарушать. Вы напомните. До свидания. Тимур ушел.31
Андрей обрадованно встал, увидев входившего в палату Тимура, шагнул навстречу. — Здравствуй, дорогой. Что это тебя не видно? Неужели все еще возишься со своими мошенниками? Тимур обнял Андрея. — Здравствуй, Андрюха... К сожалению, вожусь. Как ты? У тебя уже все в порядке? — В порядке, — заверил Андрей. — Завтра выписываюсь. Не дождусь. Ад! Чем так жить, лучше... — Не согласен, — не дал договорить Тимур. — Не согласен, — повторил Андрей. — Ты вообще был когда-нибудь с чем-нибудь согласен? У тебя вечно тысячи возражений. В одном только мы сошлись с тобой — приняли решение, удовлетворившее обоих. Правда, это было слишком давно. — Что ты имеешь в виду? — Не догадываешься? — Нет. — Пошли работать в милицию. — Андрей улыбнулся. — Впрочем, это было и не так уж давно. Тимур вынул из-под халата пакет с фруктами, осторожно положил на тумбочку. — Ты что? — удивился Андрей. — Не понял меня? Я завтра выписываюсь. У меня тут всякой всячины... Забирай обратно. — Как это забирай? Так не бывает. Больным нужны витамины. Наполняй себя разными А Б В Г Д и так далее. — Тоже мне врач! — засмеялся Андрей. — Ладно, приму твои А Б В Г Д, только с условием... Стихи будешь слушать? Честно! — Конечно! Стихи Андрея волновали Тимура, заставляли то радоваться, то грустить... Что-то необыкновенно чистое и светлое каждый раз наполняло душу, когда звучал взволнованный голос Андрея: Андрей взял с тумбочки блокнот. — Ты слышал о гибели начальника уголовного розыска города Нукуса Джумы Таджиева? — Нет. — Серьезно? Плохо, — сделал вывод Андрей. — Полистай подшивку «На посту». В газете есть статья... Его убил один гад, из ружья, понимаешь? Пьяный. Остались дети, жена, мать... — Ты написал о нем? — Я посвятил ему стихи. Андрей развернул блокнот, однако не посмотрел в него, стал читать на память.Он в этот день цветы дарил
Друзьям своей семьи большой.
Он в этот день гулял с женой
По берегу Амударьи.
Жена сплела ему венок
Из трав,
Напоенных росой,
Густой и терпкой, как вино.
Потом,
Когда беда пришла,
Когда качнулся шар земной,
Она иной венок сплела
Судьбы
Совсем-совсем иной...
Он в этот день смеялся.
Пел.
Он в этот день мечтал.
Любил.
Он был.
Вы понимаете?
Он бы-ыл!
32
Внешне Азимов казался спокойным, даже равнодушным, однако внутри у него все напряглось до предела. Казалось, тронь грубым словом — взорвется, не выдержит напряжения. Ввели Золотова-Аганова. — Садитесь, Виктор Александрович. — Благодарю вас. — Как вы себя чувствуете? — Скверно. — Почему? — Устал. — Устали? — Устал, Тимур Назарович. Золотов-Аганов тяжело вздохнул, медленно опустился на стул, стоявший у приставного столика, пригладил обеими руками волосы. Азимов машинально потрогал усы... Что готовил ему этот поединок? Друзья верили в его успех. Собственно, он тоже верил в свой успех. Иначе и не согласился бы проводить этот допрос. — Значит, устали, Виктор Александрович? — Устал, Тимур Назарович, — повторил Золотов-Аганов. — Не для меня этот спектакль. Поймите: я уже немолод. — Нам необходимо установить истину. Золотов-Аганов махнул рукой: — Задавайте вопросы. Азимов выдвинул средний ящик письменного стола и начал рыться в бумагах, чтобы как-то унять волнение. Неужели Аганов не выдержал — решил сознаться? Может, ему стало известно о повторном обыске? Золотов-Аганов сидел, откинув назад голову. Он заметно похудел и осунулся за эти дни. Заключение, хотя и предварительное, не приносило радости. — Вы еще долго будете копаться в столе? — Извините, — Азимов поднял голову, смущенно улыбнулся. — Искал одну фотокарточку. Наверное, забыл дома. Итак, признаете ли вы себя виновным? — В чем? Золотова-Аганова, по-видимому, занимал этот допрос. Во всяком случае, в его глазах было что-то похожее на любопытство. Это Азимов заметил сразу, как только перестал рыться в столе. — Вы не знаете, в чем мы обвиняем вас? — Представьте. — В мошенничестве. — В мошенничестве... Не тревожьтесь, Тимур Назарович, я уже говорил об этом с вашими товарищами. Поинтересуйтесь. Я полагаю, что они поделятся с вами моей информацией. — Уже поделились, — сказал Азимов. — Вы все отрицали. — В самом деле? — удивился Золотов-Аганов. — Простите великодушно. Память начала сдавать, очевидно, старею. В общем, давайте вопрос о виновности пока оставим открытым. — Ну что ж, — Азимов настроился на тон Золотова-Аганова, хотя ему и нелегко было сделать это. — Вы знаете Соломина? — Встречались. — Где? — Здесь. — Он давал вам деньги? — Мне? — Да. — Если можно, то отложите, пожалуйста, также и этот вопрос. — Хорошо, — снова согласился Азимов. — Когда вы были у Данова и Петровского? Я надеюсь, вам известны эти фамилии? — Вы говорите о тех приятных пожилых людях, которых я видел в кабинете у вашего симпатичного начальника? Или, может быть, вы имеете в виду других людей? Пожалуйста... — Я понял вас, не утруждайте себя. Вы хотите, чтобы я тоже пока не спрашивал о них? — Браво! Вы очень проницательны! — Спасибо. На какой же вопрос вы ответите немедленно? — Знаете что, Тимур Назарович, катитесь вы к чертовой бабушке со всеми своими вопросами! Азимов наклонился над столом, долго молчал, даже не пытаясь скрыть своего удовлетворения. Нервозность Золотова-Аганова, как ни странно, произвела на него хорошее впечатление. Он понял, что главарь выдыхается и что допрос удается, поэтому с новой силой продолжил наступление. — Какую роль в вашей компании играл Гринберг? Золотов-Аганов отвернулся, по-видимому, не хотел отвечать вообще или устыдился своей минутной слабости. Азимов повторил вопрос. — Я не знаю никакого Гринберга, — после продолжительной паузы ответил Золотов-Аганов. — Не знаете человека, который расчищал для вас дорогу? — Не знаю. — Значит, вы сами расчищали себе дорогу — подготавливали людей, которые могли дать вам порядочную сумму денег? — Не ловите меня на слове. — Хотите правду? — Слушаю. — Вы боитесь. — Вас? — Меня. Моих коллег. Своих друзей и знакомых. Себя. Вы боитесь всех, кто вас окружает. Кто вольно или невольно связал с вами свою судьбу. Мне искренне жаль вас. Честное слово. — Пожалел волк кобылу, — криво усмехнулся Золотов-Аганов. — Напрасно иронизируете. Мне действительно искренне жаль вас. Вы умный энергичный человек. У вас когда-то были добрые увлечения. Признаться, мне не совсем удобно снимать с вас допрос. Говорить вам, что такое хорошо и что такое плохо. — Хватит. — Не нравится? — Не нравится, — признался Золотов-Аганов. Он с прежней снисходительностью смотрел на Азимова, однако в его глазах уже не было прежней уверенности. Видно, Азимов сумел все-таки затронуть в нем какие-то неведомые для него струны. — Не нравится, — повторил Азимов. — Вы действовали, мягко говоря, смело. Откуда у вас это, скажите? — ТимурНазарович, сколько можно толочь воду в ступе? Золотов-Аганов порылся в карманах, вытащил носовой платок, вытер вспотевший лоб, потянулся к стакану с водой. Азимов положил руки на стол, легко откинулся на спинку стула: лед все-таки тронулся. — Итак? — Я думаю, что вы слишком спешите, Тимур Назарович. Не лучше ли нам поговорить о чем-нибудь другом? Например, о вас... Между прочим, сколько вам лет? Если не секрет, разумеется. — Двадцать пять. — Двадцать пять! — воскликнул Золотов-Аганов. — Неужели вам двадцать пять лет? Я считал, что вам еще нет семнадцати. Значит, вы уже совершеннолетний. Наверное, имеете офицерское звание? — Да, имею. Лейтенант. — Лейтенант? Смотри! Похвально. Весьма похвально. Усы. Свои или нет? Реквизит? — Свои. — Рад... Я, видите ли, полагал, что вы еще младенец. Касым Гулямович заболел? — Здоров. — Так... Простите, Тимур Назарович, простите, — склонил голову Золотов-Аганов. — Вы, оказывается, уже свободно можете заменять опытных криминалистов. В таком случае, это меняет положение. Я поступаю в ваше полное распоряжение. Делайте со мной, что хотите. Кстати, разрешите закурить? — Курите. Азимов не курил, однако всегда в столе держал папиросы или сигареты, заботясь не столько о друзьях, томящихся без курева, сколько о посетителях, попадающих к нему в кабинет не по собственному желанию. Золотов-Аганов неторопливо закурил и долго молча тянул ароматный дымок. Какие мысли волновали его в это время? Азимов многое бы отдал, чтобы получить ответ на этот вопрос. Он вчера после свидания с Романовым ездил к жене Аганова. Это была старая забитая женщина. Она с неохотой приняла его. Собственно, того разговора, о котором мечтал Азимов, не получилось. Это был скорее короткий сухой диалог. Правда, из него можно было извлечь кое-что для разоблачения Аганова. Азимов спросил жену Аганова: — Вы давно живете с Виктором Александровичем? — Давно. Двадцать лет, — ответила женщина. — Когда вы узнали, что он преступник? — Почти сразу после свадьбы. — Вы не пытались уйти от него? — Пыталась. Даже уходила. Потом возвращалась. — Почему? — Не знаю. Наверное, любила. — Он тоже вас любил? — Нет. Он любил деньги. — Что вы думаете делать? — Я? — Женщина устало пожала плечами. — Буду ждать. Вы ненадолго посадите его? Хотя это не имеет значения. Я все равно буду ждать. Это как алкоголизм. Не вылечишься. Значит, Аганов любил деньги и только деньги. Эта страсть наверняка поможет сдвинуть дело с мертвой точки, решил Азимов. Во всяком случае, Аганов не останется равнодушным, узнав, что деньги и драгоценности, которые он хранил в тайнике, обнаружены. — Итак? Золотов-Аганов вдавил окурок в пепельницу, с улыбкой взглянул на Азимова и просто, как другу, сказал: — Спрашивай. Азимов повременил немного, словно проверял, был ли с ним искренен Аганов, потом продолжил допрос с еще большим натиском, убежденный в том, что Аганов до поры до времени по-прежнему будет все отрицать, пока не увидит, что игра проиграна. — Признаете ли вы себя виновным? — Нет. — Знаете ли вы Соломина? — Нет. — Может, все-таки знаете? — Нет. — Встречались ли вы с Дановым? — Нет. — Встречались ли с Петровским? — Нет. — Встречались ли с Горицем? — Нет. — Знаете ли вы Гринберга? — Нет. — Знаете ли вы Соломина? — Нет. — Предлагал ли вам деньги Данов? — Нет. — Петровский? — Нет. — Гориц? — Нет. — Не хотите ли вы видеть однодельцев? — Нет. Задавая вопросы, Азимов незаметно для Золотова-Аганова вытащил из-под стола железную банку с деньгами и облигациями, найденную у него во время второго обыска, и, прикрытую газетой, поставил на стол. Золотов-Аганов обратил внимание на газету немного позже. Он понял, что под ней находится какой-то изобличающий его предмет. — Я не ослышался: вы не хотите видеть своих однодельцев? — Нет. — Значит, они у вас есть? — Нет. — Вы противоречите сами себе. — Нет. — Сколько денег обещал вам Соломин? — Я не знаю, о ком вы говорите. — Знаете. — Не знаю. — Вы знаете Данова и Петровского! — Не знаю. — Вы знаете Горица! — Не знаю. — Эти люди вручали вам деньги. — Не знаю. — Знаете... Данов вручил вам пять тысяч, Петровский — тоже пять тысяч. Гориц оказался щедрее — он дал вам тридцать тысяч... Ну? — Не знаю. — Соломин принес вам шесть тысяч. Правда, его деньги вам не удалось реализовать. Это, очевидно, до сих пор тревожит вас? Шесть тысяч все-таки на улице не валяются. Золотов-Аганов снова сорвался: — Чего вы от меня хотите? Я ничего не знаю и не хочу знать! Я живу, как все: никого не граблю и не убиваю! Вы делали у меня обыск? Делали? Что нашли? Ши-иш! Азимов ждал этой минуты, ждал терпеливо, сдерживая себя, стараясь вести допрос так, чтобы Золотов-Аганов сам заговорил об обыске. Это была та минута, которая поворачивала допрос на сто восемьдесят градусов. — Правильно, во время первого обыска мы ничего не нашли, зато во время второго — натолкнулись вот на это. — Азимов снял газету с банки. — Узнаете? — Нет!.. А-а-а-а-а! — Кажущиеся сонными глаза Золотова-Аганова мгновенно расширились. — Нашли? Нашли! Думаешь, теперь сдамся? Не сдамся! Нет! Это мои деньги! Мои! Нажил! Сам! Вот этими руками! Понимаешь, сам!!! Сам! Са-ам! Са-а-а-ам! Азимов положил ладонь на банку: — Сколько вы получаете в месяц? — Это не ваше дело. Я копил, слышите? Недосыпал. Недоедал. Соседи подтвердят. Жена подтвердит. На одном хлебе сидел. — Золотов-Аганов схватил ворот рубахи, рванул со всей силы, на пол, как горох, посыпались пуговицы. — Душно! Воды! Во-оды! — Пожалуйста... Соседи уже подтвердили. Жена — тоже, — сказал Азимов. — Хотите знать, что они думают о вас? — Не надо. Дайте бумагу и ручку. — Прошу. — Уберите. Не могу писать. Пишите сами. Пишите, пишите. Пока не передумал. Очевидно, я что-то упустил. Очевидно. Не знаю. — Вы не знаете, что упустили? — Пишите. — Вы упустили, Аганов, то, что мы называем жизнью. Не улыбайтесь. Решив пожить за счет других, вы поставили себя вне общества, если хотите — даже вне времени. Вам казалось, что вы правильно поступаете. Один вы, понимаете? Всё — мимо. Мимо ваши родные — отец, мать, ваши дети. Финал, как говорится, не блестящ — решетка. — Пишите.33
Розыков после работы прилег отдохнуть. Взглянув на жену, приоткрывшую дверь спальни, улыбнулся, хотя на душе было неспокойно — сегодня на одной из центральных улиц города был ограблен магазин. Прибывшие на место преступления оперативники пока, к сожалению, не напали на след. — У тебя неприятности? — Что ты, Гульчехра, что ты, дорогая, — снова улыбнулся Розыков. — У меня всё в порядке. Гульчехра оглянулась, прикрыла дверь, приложила палец к губам. — К тебе пришла одна... девушка. Ты выслушай ее внимательно. Для нее это необходимо. Понимаешь? — Нет. — Прошу тебя, прежде чем отказать, взвесь основательно всё. Ты не погрешишь, если в чем-то переступишь черту закона... Иди. — Что случилось? — Иди-иди. Узнаешь... Причешись, пожалуйста. Посмотри на кого ты похож. Розыков, надев китель, вышел в гостиную. Девушка сидела в кресле, у газетного столика. Она сразу встала, смущенно посмотрела на Розыкова, по-видимому, машинально провела ладонью по густым черным волосам, падающим на покатые плечи. Ей было не больше шестнадцати лет. По виду, во всяком случае, не больше. — Якуб Розыкович. — Халима. — Прошу вас, садитесь. — Благодарю. Она села в кресло, как-то неестественно повела плечом, будто неожиданно почувствовала боль. Розыков сделал вид, что не заметил этого — сел в кресло, стоявшее напротив. — Я слушаю вас. — Не знаю... Только вы, пожалуйста, поймите меня правильно... Я долго думала об этом. Не сразу решилась прийти к вам... Я хочу работать у вас... — У меня? — Ну... в уголовном розыске. — А-а-а! Розыков с трудом сдержал улыбку. Он думал, что девушка пришла к нему, чтобы похлопотать о каком-нибудь знакомом, оказавшемся в беде. Даже внутренне где-то был готов к такому разговору и заранее знал, что ответит. Однако ему и в голову не приходила мысль, что девушка может обратиться с подобной просьбой. В уголовном розыске работали сильные люди, которые могли в любое время вступить в единоборство с преступниками и хулиганами. Собственно, ей еще нужно было учиться и учиться, да и подрасти не мешало бы. Что это со мною? Может, старею? Не я ли еще недавно предлагал Джаббарову присмотреться к Соломиной и взять ее в уголовный розыск после окончания университета? Розыков смущенно улыбнулся. — Вы не беспокойтесь. Я не подведу вас. Халима будто прочитала его мысли и сказала то, что нужно было сказать. Розыков снова посмотрел на нее, подумав, что она упряма и, пожалуй, добьется своего. — Сколько вам лет? — Семнадцать. — Вы слишком молоды для нашей работы... Поймите меня тоже правильно, — поспешно проговорил Розыков, видя, как разом помрачнело лицо Халимы. — У нас вам будет тяжело. Вы же только что со школьной скамьи! Куда вы спешите? — Как... это... куда? Розыкову не нужно было задавать этот вопрос. На этот раз она не сумела сдержать себя. — Не сердитесь, Халимахон. — Я не сержусь, Якуб Розыкович, что вы! — воскликнула девушка. — Могу ли я сердиться на вас? Вы не сердитесь на меня. Ладно? Я все равно добьюсь своего. Не думайте, что я начиталась приключенческих книг. Меня потрясла гибель Наташи Бельской. Вы работали с ней, правда? Я хочу заменить ее. Неужели это плохо, Якуб Розыкович? — Вы все-таки еще слишком молоды! — Ну что вы говорите, — подалась вперед Халима. — Разве дело в возрасте? Гайдар командовал полком, когда ему было шестнадцать лет. Эйнштейн открыл теорию относительности, когда ему было двадцать два года. Македонский создал огромную империю, когда ему было тридцать лет... Боже мой, почему вы не хотите понять меня? Почему, Якуб Розыкович? Не обращайте внимания на мой возраст. Не обращайте, пожалуйста... Дело совсем в другом! — Ну-ну! Глаза Халимы заблестели от пока не пролитых слез. Розыков поднялся и отошел к окну, чтобы дать Халиме собраться с духом. По-видимому, она действительно не отступится, пока не добьется своего. Собственно, что он терял, принимая ее в уголовный розыск? В конце концов, с нею можно было расстаться, если она не оправдает надежд. В отделении Джаббарова сейчас как раз не было секретаря. — Где вы живете? — У матери Наташи Бельской, — сказала Халима. — У Степаниды Александровны? Вы давно знаете ее? — Вообще-то давно. Правда, познакомились только позавчера. Раньше знала заочно. Простите, она просила кланяться вам и вашей жене. Еще просила передать вот это. — Халима вытащила из сумки поллитровую стеклянную банку с вареньем, поставила на столик перед креслом, за которым сидел Розыков. — Возьмите. — Спасибо, — сказал Розыков. — У нее всё в порядке? — Да. — Что вы делаете завтра? — Ничего. Может, пойду в музей. Говорят, в нем есть полотна художников восемнадцатого века. Розыкова чем-то насторожил ответ Халимы, и он спросил, глядя в ее открытые глаза: — Разве вы еще не были в нем? — Я недавно приехала в Ташкент. — Даже так? Откуда? — Из Самарканда. — Простите. Степанида Александровна, насколько мне известно, никогда не бывала в Самарканде. Как вы узнали о ней? — Ну что вы! — удивленно произнесла Халима. — Я же вам сказала, что хочу заменить Наташу Бельскую. Вы возьмете меня, ладно? — Да-да! Розыков ответил утвердительно скорее всего машинально, думая в это время о Степаниде Александровне. Халима вскочила с кресла, схватила Розыкова за руки. — Якуб Розыкович, большое вам спасибо! Вы даже не представляете, что делаете для меня! Я никогда не забуду это. Никогда! — Ну-ну! Успокойтесь! Вошла Гульчехра. — Я не помешала вам? — Что ты, дорогая. Халима смутилась. Может, оттого, что стояла рядом с Розыковым и все еще держала его за руки. Гульчехра улыбнулась ей доброй, приветливой улыбкой. — Я пойду. Ладно? — Что ты, милая, — сказала Гульчехра. Она подвела Халиму к креслу, усадила ее снова. — Сейчас будем пить чай. — Гульчехра-апа, что вы! Я пойду! — Ну-ну! Гульчехра произнесла это так, как произносил муж, правда, в ее голосе было больше сердечности и теплоты, и Халима осталась.34
Был теплый августовский полдень. Над городом висела пелена пыли, пропитанная дымом и гарью. Между двумя подъемными кранами, маячившими впереди, бледнело одинокое облако. Где-то, по-видимому, на Урде, надсадно ревел трактор. На площади ярко вспыхивали огни электросварки. — Досталось городу, — сказал Джаббаров. — Досталось, — не сразу отозвался Прозоров. Азимов промолчал. Они шли по улице Лахути, по бывшей улице Лахути — теперь это была строительная площадка. — Какой будет она через несколько лет? — Красивой, Касым Гулямович. — Прозоров закурил, обошел рухнувшую стену, повернулся в сторону площади, на которой возвышалось огромное административное здание, похожее на океанский корабль. — Видишь? — Здание? — Да... Это будущее улицы. Впрочем, не только улицы — всего города. Мы воздвигнем на месте старых лачуг высокие современные дома, для которых не будет страшна никакая подземная буря. Этот день недалек. Я уже ясно вижу его контуры. Нет, честное слово, Касым Гулямович. Ты напрасно улыбаешься. — Я не улыбаюсь, Илья Кириллович, — сказал Джаббаров. — Просто по-хорошему завидую тебе. — Завидуешь? — Я как-то не нахожу времени, чтобы подумать о будущем города. Тебе бы встретиться с моей Каримой. Она сейчас работает в «Главташкентстрое» и занимается проектами. Город, по ее мнению, станет одним из самых красивых городов мира. — Молодец! — воскликнул Прозоров. У трамвайной линии, выбежавшей из Первомайской улицы, они остановились. Азимов взглянул на Прозорова и Джаббарова. — Мне сюда. До свидания. — До свидания, — сказал Прозоров. — Подожди, — попросил Джаббаров. — Я сегодня познакомился с одним интересным постановлением. Отныне из милицейского лексикона изымаются слова «оперуполномоченный», «старший оперуполномоченный», «участковый уполномоченный» и вводятся слова «инспектор», «старший инспектор», «участковый инспектор». Ясно? — Ясно, — козырнул Азимов. — Ясно, — вытянулся Прозоров. — Кстати, разрешите сообщить вам еще одну приятную новость, — чуть-чуть прищурился Джаббаров. — С завтрашнего дня в нашем отделении будет работать Халима Нурманова. — Халима Нурманова? — переспросил Азимов. — Кто такая? — Молодая и красивая, — помедлил с ответом Джаббаров. — Плохо, — сделал вывод Азимов. — Не будет из нее толка. Я бы брал в милицию только некрасивых. — Ты противоречишь себе, инспектор Азимов, — улыбнулся Прозоров. — Вспомни, как ты расхваливал Бельскую. — Бельская не в счет, — сказал Азимов. — Старший инспектор Прозоров, ты, кажется, тоже в свое время не одобрял решения Розыкова принять в уголовный розыск Башорат Закирову, — напомнил Джаббаров. — Неужели? — изумился Прозоров. — По-моему, ты что-то путаешь. Я как раз был «за». Джаббаров улыбчиво переглянулся с Прозоровым, потом хлопнул по плечу Азимова, залюбовавшегося проходившей мимо вереницей малышей, наконец, сообщил еще одну новость: — Вчера закончился суд. Прозоров и Азимов одновременно посмотрели на него. — Никого не оправдали? — поинтересовался Азимов. — Нет. Джаббаров назвал сроки, на которые были осуждены Аганов, Гадаев, Гроссман, Халилов и Гринберг. — Аганову нужно было дать больше, — сказал Прозоров. — Правильно, — согласился Азимов. — Ничего, — сказал Джаббаров. — Это тоже немалый срок. Я думаю, что его хватит для того, чтобы переоценить ценности. Азимов воспользовался моментом, чтобы получить ответ на давно волновавший его вопрос: — Объясните, пожалуйста, почему Гроссман и Гадаев не сразу повезли Соломина к Халилову? Какая необходимость была в автопробеге, который они устроили? Может быть, хотели взять деньги в другом месте, у мечети или у железнодорожного парка? — По-моему, мы должны принять за основу показания Аганова, — воспользовался Прозоров молчанием Джаббарова. — Он сказал, что автопробег понадобился для того, чтобы испытать характер Соломина, — понял Азимов, о каком показании Аганова говорил Прозоров. — Это неубедительный аргумент, Илья Кириллович. — Касым Гулямович, ты тоже так считаешь? — посмотрел Прозоров на Джаббарова. — Я считаю, что они струсили, — ответил Джаббаров. — Это и вызвало очередную их ошибку. Нам было бы гораздо труднее изобличить их, если бы Соломин отдал деньги в машине. — Ты полагаешь, что они могли свалить все на Соломина? Скажем, посоветовать ему положить деньги на сиденье, потом заявить нам, что он сделал это умышленно. Так? — Так. — Джаббаров проследил за левой рукой Азимова, откидывающей назад волосы, поинтересовался в свою очередь: — Ты докладывал о двух парнях, пытавшихся запугать Соломина, когда начинался суд. Помнится, у тебя было желание выяснить, что заставило их проявить такое внимание к Соломину... Выяснил? — Да. Подвыпили как следует, вот и возник повышенный интерес к Соломину. Марат Есиков — студент пединститута, Садык Гулямов — студент политехнического института. У здания суда оказались случайно. Сейчас раскаиваются. — Раскаиваются. Вы слышите, старший инспектор Прозоров, эти невинные мальчики, оказывается, раскаиваются? Возможно, даже думают извиниться перед Соломиным? — Джаббаров снова посмотрел на Азимова. — Пригласите их в отдел. Завтра, в четыре часа. — Есть, товарищ майор! Они не разошлись, а пошли вместе дальше. В сквере, в кафе «Снежок», выпили по стакану холодного коктейля, разыскали на главной аллее свободную скамейку, сели и долго сидели молча, прислушиваясь к неумолчным звукам большого города.1970 г.
Последние комментарии
7 часов 1 минута назад
7 часов 3 минут назад
13 часов 45 минут назад
13 часов 53 минут назад
20 часов 6 минут назад
20 часов 10 минут назад