Грузии сыны [Ольга Ивановна Романченко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сборник «ГРУЗИИ СЫНЫ»

ОТ РЕДАКЦИИ
Эта книга — первая в серии «Жизнь замечательных людей», которая на своих страницах рассказывает о жизни многих поколений древнего народа. Стремясь раздвинуть рамки серии, дать возможность читателям познакомиться с большим количеством биографий замечательных людей, редакция наряду с монографическими книгами предпринимает выпуск разнообразных биографических сборников. Книгой «Грузии сыны» открывается цикл сборников о выдающихся деятелях братских народов, населяющих нашу многонациональную Родину. История грузинского народа, народа древней культуры и славных традиций, насчитывает великое множество замечательных деятелей, о жизни которых интересно и поучительно узнать нашим читателям. Но в одной книге не расскажешь обо всех, и редакция поместила в книге только 29 биографий, на наш взгляд, раскрывающих наиболее важные моменты истории и культуры грузинского народа. Книгу «Грузии сыны» нужно рассматривать как составную часть серии «ЖЗЛ». Ряд крупных деятелей грузинского народа, биографии которых намечаются к выпуску отдельными книгами, намеренно не включены в сборник. Серия «ЖЗЛ», как известно, серия историческая. Этим и объясняется небольшое число очерков в сборнике, посвященных современности. Редакция сейчас ищет свое место в освещении деятельности современных героев. И, безусловно, найденные редакцией формы вместят в себя и биографии наших современников. Настоящая книга — всего только первый опыт редакции в создании сборников подобного масштаба. В ней неизбежны пробелы и упущения. Редакция с благодарностью примет все замечания и предложения читателей и постарается учесть их при подготовке новых сборников о национальных героях других братских народов.
Гр. Нуцубидзе ДАВИД СТРОИТЕЛЬ

В старинном Гелатском монастыре, что около Кутаиси, в маленькой церкви есть фреска. Около нее подолгу стоят туристы. Студенты-художники часами срисовывают потемневший от времени портрет. Со стены прямо и сурово смотрят черные проницательные глаза. Высокий лоб обрамляют темные кудри. Прямой, чуть с горбинкой нос, тонкие, изогнутые, крепко сжатые губы, весь облик человека, простой и мужественный, говорит о суровой и трудной жизни. Под фреской надпись: «Давид Строитель, великий царь». Юноша-художник поставил раскладной стул на каменный пол, уселся поудобнее и задумался. Пожухлые краски тускло отсвечивали — на них косо падал вечерний свет из высоких окон. Казалось, что лицо человека на фреске дрогнуло и в глазах затрепетали живые огоньки… Говорят, что стены могут слышать. О, если бы они могли говорить! Сколько чудесных легенд и правдивых историй рассказали бы эти фрески! Рассказы фресок перенесут нас в глубь времен, в XI век, в начало второго тысячелетия. Что было на земле в те далекие времена? Кто он, этот царь, что запомнился на долгие годы потомкам? Что совершил он, почему память о нем не умирает в веках? Сначала немного истории. Во второй половине XI века Грузия представляла собой небольшое феодальное государство на берегу Черного моря. Так называемая Западная Грузия, то есть земли от Черного моря до Сурамского хребта, полностью была в руках грузинского царя. В состав царства входила также часть Южной Грузии, известная под названием Тао-Кларджети, а из Восточной Грузии — только часть внутреннего Картли. Столицей Грузии — Тбилиси еще со времен арабского халифата владели арабские эмиры. Этот эмират подчинялся туркам-сельджукам. Кахети и Эрети (в Восточной Грузии) представляли небольшое, независимее от грузинского царя царство, находящееся в вассальной зависимости от сельджуков. В Южной и Восточной Грузии немало земель и крепостей принадлежало сельджукам и феодалам, находящимся в вассальной зависимости от турецкого султана. Международная обстановка была также неблагоприятной. В XI веке из Средней Азии в Малую Азию хлынули неисчислимые полчища тюркских завоевателей. Во главе их стоял хан Али-Арслан из рода сельджуков. Они обрушились на некогда могущественный Иран и быстро овладели им. В 1071 году сельджуки разгромили греческие войска и вытеснили Византию из Малой Азии. Одновременно они пошли войной и на народы Закавказья. Первое нашествие на грузинское царство было совершено в 1065 году. Таким образом, к концу XI века с юга над Грузией нависла громадная мусульманская держава сельджуков, раскинувшаяся, как необозримый океан, от Китая до Египта. Оставаясь формально независимой, Грузия принуждена была выплачивать сельджукам большую и унизительную дань. На севере, за Кавказским хребтом, в Южно-Русских степях появились полчища половцев, известных в Грузии под именем кипчаков (народ тоже тюркского происхождения), которые сильно потеснили кочевников печенегов. Последние вторглись в византийские владения на Балканах. В результате сильно ослабела некогда могущественная Византия, теснимая сельджуками и печенегами. Неоднократные нашествия сельджуков, большая дань, ежегодно выплачиваемая султану, распри феодалов, грабежи и беззакония ослабили страну. «Картли так была разорена, — писал историк того времени, — что в деревнях не было ни души и никакого строительства!» А тут еще одна страшная беда. В 1088 году на Грузию обрушилось ужасное землетрясение. Погибли десятки городов и крепостей, сотни, деревень. Кто мог думать, что не устоит и неприступная Тмогвская крепость на берегу Мтквари (Куры)? Огромная гора обрушилась на деревню возле Тмогви, похоронила ее под обломками скал, а крепость превратилась в развалины. Сильно разрушен был и город Кутаиси, тогдашняя столица. Землетрясение вызвало множество россказней и легенд. Говорили, что крепость эристава Вараза устояла лишь потому, что строил ее сам нечистый. В стране начался голод. Люди, оставшиеся без крова, бродили по лесам и горам. Слабый и малодушный царь Георгий II, сын Баграта IV, не мог справиться с бедствиями, постигшими страну. Он занимался охотой, приручал зверей, пировал и философствовал, отмахиваясь от государственных дел. И вот собрался совет. Долгую ночь заседали старейшины, обсуждая дела пришедшего в упадок царства. И, наконец, вынесли решение: соправителем царя Георгия II, а фактически полным хозяином и царем страны, назначался его сын, шестнадцатилетний Давид, внук Баграта IV. Было это в 1089 году, в конце XI века. Юный царь вступил на престол. Как начиналось его царствование? Кто нам расскажет об этом? По всей стране, то прячась в ущельях, то возвышаясь на скалах, разбросаны грузинские монастыри. Они были центрами христианского вероучения и центрами книжной премудрости. В монастырях Грузии, в Сирии, Палестине, Византии, Болгарии сотни монахов грузин трудились, не разгибая спин, создавали оригинальную церковную литературу, переводили десятки, сотни рукописей с арабского, сирийского, греческого. Это были ученые «книжники», переводчики, и среди них немало замечательных писателей. Тогда-то и появились известные до сих пор памятники литературы: филологические труды Евфимия Афонского и Ефрема Мцире; энциклопедия церковного, гражданского и уголовного права «Малая кормчая книга», «Мудрость Балавара»; сборник сказаний о Будде вызывал горячий интерес у просвещенных читателей Европы. К тому времени существовала уже «Летопись Грузии» — «Матиане Картлисаи». Существовало множество хроник, церковных и философских книг и трактатов. Правда, большинство этих рукописей, документов, материалов не дошло до наших дней, погибло при бесконечных катастрофах: нашествиях, внутренних междоусобицах. По крупицам собирают теперь историки и писатели детали жизни и быта тех времен, характеры людей, живших и правивших в ту эпоху. Какой же он был, Давид Строитель? Фреска в монастыре, несколько хроник, летопись Грузии — вот и все свидетели славной и трудной жизни. Вокруг его имени создавались сотни легенд. Историк того времени писал: «Он был так сладостен при встрече, такой любимый в помыслах и желанный в молчании, прекрасный с виду, стройный телосложением, мощный телом и сильнейший сообразительностью, мудрый в высказываниях и мудрейший в советах, хваленый ученостью, высокий для более высших и простой для более простых, он был желанным даже для врагов». Хроники рассказывают: юный Давид, сын Георгия II, воспитывался архиепископом Георгием Чкондидели и лучшими учеными того времени. Царь и Чкондидели по-разному воспитывали царевича. Один учил истории, дипломатии и языкам, прививал христианские добродетели: терпимость, веру, доброту. Другой обучал воинской премудрости: учил ездить на коне, разить врага, вытравлял из сердца Давида ненужную воину жалость. Он вырос образованным и храбрым юношей. Знал несколько языков: греческий, персидский, арабский, и пристрастился к чтению, изучал военное дело, философию, историю, астрономию. В походе с ним была всегда его библиотека. Большой и ясный природный ум, смелость, дар политического предвидения и опыт предшественников помогли Давиду стать одним из передовых правителей своего времени. Никогда он не страдал слепою религиозностью, терпимо относился к иноверцам и. чужеземцам. Исходя из интересов государства, он умел поступиться личными интересами, непоколебимо идти к достижению намеченной цели, не зная утомления, никогда не падая духом. Простые и правдивые факты, описанные в «Истории Грузии» и во множестве восточных и европейских хроник, говорят о сильном человеке, мудром правителе, отважном воине и прогрессивном мыслителе. Они подробно, шаг за шагом, описывают неустанную, трудную работу Давида Строителя по созданию единого грузинского государства. Давид начал царствование с того, что собрал разбежавшееся население и водворил его на старые места. После этого царь поставил своей основной целью воссоединение грузинского царства, экономическое, политическое, военное усиление государства. Основными виновниками слабости своей страны Давид справедливо считал феодалов, ставящих свои местнические интересы выше общенациональных. Вражда между царями и феодалами не прекращалась. В этой борьбе феодалы не раз прибегали к помощи врагов, которые, пользуясь случаем, грабили грузинские земли. Первым и главным врагом своим Давид справедливо считал эристава Липарита IV Триалетского из рода Багваши-Орбелиани. Это был умудренный опытом, хитрый и властный человек. Он притворялся другом Багратионов, но тайно договаривался с султаном Бархиароком о совместной борьбе с Давидом. Сын его Рати повел открытую войну с царем. Долго готовился Давид к планомерной осаде Триалетского эриставства, обучал войско, собирал оружие и снаряжение. Смущало его одно обстоятельство: в детстве дружил он с дочерью эристава Липарита, прекрасной Дедиеимеди и считал ее своей невестой. Но любовь не остановила Давида. В это время Липарит IV Орбелиани тайно принял магометанство, надеясь на помощь сельджуков. Это было на руку Давиду. Против изменника веры и родины легче было поднять и народ и феодалов. Царь окружил Триалетское эриставство. Он овладел крепостью Клдекари, где укрепился мятежный эристав, и разбил его войска. Самого Липарита Давид сначала посадил в темницу, а потом и вовсе выслал из Грузии. Разбил он и его сына Рати. Победив своих самых сильных врагов, Давид стал царем единого государства.
* * *
Давид еще в юности показал свое умение собирать вокруг себя молодежь, которая, правда, не отличалась благородством происхождения, но зато была верна идеям царя, прогрессивна, жадно тянулась к знаниям, была талантлива в государственных и военных делах, умела терпеливо переносить тяготы бесчисленных походов и вести бои с численно превосходящими врагами. Благодаря этой молодежи царь, немалого достиг. Вот уже пала Зедазенская крепость, опорный пункт Кахети. Вот уже азнауры, приближенные царя, во время охоты изловили и привели к Давиду пленника — царя Кахети Агсартана. Проходят победоносные годы 1110–1118, и Давид изгоняет сельджуков из Рустави, Самшвилде, Гиши (в Азербайджане) и из всех крепостей Триалетского эриставства. Только Тбилиси еще оставался под властью эмира. Был у Давида еще один враг. Враг тайный, пожалуй, наиболее зловредный из всех. Царь сам боялся себе признаться, что пора начинать с ним войну. Но иного выхода не было. Этим врагом была церковь, вернее — ее верхушка. Царь Давид всегда слыл примерным христианином. Правда, ходили слухи, что по ночам он читает книги врача и философа Ибн-Сины (которого впоследствии в Европе прозвали Авиценной) и языческих мудрецов — Аристотеля и Платона, но все же Давид был христианским воином'и усердно молился по вечерам, а в Гегутском замке, где он жил, чтили и совершали все обряды. Да и верным другом, помощником и первым министром его был архиепископ Георгий Чкондидели. Но борьба была неизбежна. Она началась давно, еще до Давида. Крупные церковные иерархи-епископы, как только начиналась борьба царя с феодалами, строили против него козни, действовали заодно с эриставами. Да и не мудрено. Они сами были крупными владетельными феодалами, знатными князьями, и владения их не уступали по размерам владениям маленьких царей. Еще во времена царя Георгия прибыл в Грузию монах Георгий Афонский. Ездил по монастырям и деревням и в проповедях своих требовал, чтобы пастыри Христа отрекались от богатств и земель, а если не хотят, то сменить их как недостойных и на их место избрать иных, бедных, но преданных делу царя и вере. Запомнились Давиду проповеди Георгия Афонского. Исподволь готовил он решительную церковную реформу. В 1103 году Давид созвал Руис-Урбнисский собор. Это был день торжества Давида. По постановлению собора с высших церковных должностей смещались все, кто имел сан не по личному достоинству, а лишь благодаря происхождению и богатству. У церковной власти стали люди бедные, но преданные царю. Так мятежные эриставы лишились своей самой сильной поддержки — церкви. Давид хорошо понимал: церковь — огромная сила. Силу эту, как течение реки, надо повернуть и направить на пользу государству. Надо, чтобы монахи, эти одетые в черное «книжники», разносили по стране ученость, проповедовали в грузинском народе дух свободы и единения. Давид понимал: каждый монастырь — очаг культуры. И он стал восстанавливать монастыри и лавры, разгромленные сельджуками, а в Гелати и около Мцхета выросли новые монастыри: Гелатский и Шио-Мгвимский. «Быть здесь в Гелати академии», — решил Давид. И сюда потянулись лучшие писатели и ученые Грузки. Возглавил академию известный ученый и философ Иоане Петрици, вернувшийся из Болгарии. Его учеником и последователем стал через много лет Шота Руставели. Царь понимал, что стране нужны ученые. Он послал сорок юношей в Византию для изучения иностранных языков. Действия Давида не замедлили сказаться: в стране начался расцвет науки, литературы, стенной живописи, архитектуры. Деятельность Давида отвечала интересам самых широких народных масс, и народ поэтому поддержал царя в его начинаниях, предопределив тем самым их успешное завершение. Грузия снова стала усиленно торговать, и царь Давид понимал, что в оживлении торговли, в развитии хозяйства ему помогут купцы, ремесленники, про; стой люд, а вовсе не надменные эриставы. Он всячески поддерживал их, ломал таможенные барьеры между княжествами, защищал купцов и крестьян от притеснений феодалов. Сельское хозяйство в стране понемногу налаживалось, развивались ремесла, торговля, Царь строил дороги, мосты, храмы, сооружал неприступные крепости. Тогда-то и прозвали Давида Строителем. Давид сделал еще одно важное преобразование. Он учредил новую должность: мцигнобарт-ухуцеси, что соответствовало должности главного министра — канцлера. Мцигнобарт-ухуцеси стоял во главе всего государственного аппарата. Канцлером же этим назначил архиепископа Чкондидского, соединив в одном лице светскую и духовную власть. Архиепископами назначались по постановлению собора не родовитые дворяне, а лица, достойные этой, должности по уму, образованию, честности. К тому же Чкондидели, как монах, не мог иметь семьи и не был заинтересован в богатстве. Так Давид поставил во главе государства человека, обладающего высокими личными качествами и не связанного с землевладением. Давид Строитель учредил также верховный суд, который контролировал весь судебный аппарат страны. Верховным судьей стал тот же канцлер, архиепископ Чкондидский. Это было очень важное преобразование. Оно положило конец судебному самоуправству феодалов. Все эти реформы обеспечили укрепление центральной власти государства, укрепили экономическую и политическую силу страны. Улучшилась и международная обстановка. Ослабленная сельджуками Византия уже не могла препятствовать усилению грузинского царства. По приглашению византийского императора Алексея Комнина на Малую Азию устремились крестоносцы. Это были походы колонизаторов, прикрытые ширмой освобождения от неверных Гроба Господня. Сотни тысяч крестоносцев из всех стран Западной Европы напали на сельджуков. Десятки тысяч их гибли в сражениях с турками, но им все же удалось взять Антиохию, Иерусалим и ослабить турок. Крестовые походы, безусловно, отвлекли внимание сельджуков от Кавказа. Начались междоусобицы и внутри сельджукской империи. Этим объясняется, что сельджуки долго не обращали внимания на действия Давида, который не только перестал выплачивать им дань, но и освобождал целые области и крепости от их владычества. Удачно сложилась обстановка и на севере. Русский князь Владимир Мономах нанес половцам поражение. Это способствовало исполнению плана Давида о создании сильного централизованного войска, подчиненного только центральному правительству. Для этого Давид решил переселить в Грузию кипчаков (половцев). После понесенного поражения половцы стали сговорчивее. Давид через своих посланцев вел переговоры с половецким ханом Атраком. Атрак согласился дать Давиду войско, но поставил жесткое условие: — Царь Давид должен жениться на дочери половецкого хана. Атрак желает породниться с царем. В замке царя было созвано экстренное заседание совета старейшин. «Мы хотели вначале взять заложников. Но мы никому не верим, — сказал Шараганович, — вы можете обмануть нас. Наша дочь была просватана за русского князя, но теперь между нами кровь. Пусть царь Давид женится на нашей дочери, иначе не пошлю к нему своих воинов». Бледный как мел молча слушал Давид речи посла. Шептались возмущенные епископы: «Христианский царь женится на неверной, осквернит свой дом, свое ложе, опозорит церковь! Мы попадем в ад!» И тогда заговорил старый друг и советчик царя, седой канцлер Георгий Чкондидели: — Горько мне говорить тебе, мой государь, эти слова. Только знаем мы — нет у нас иного выхода. Никогда еще не стояли мы перед такой грозной опасностью. Избранным богом приходится приносить себя в жертву. Враги раздавят страну, если не будет у нас войска. Ты должен пожертвовать личным твоим счастьем, мой духовный сын… — Пусть будет так, как ты сказал, владыка! — тихо, но твердо сказал Давид и вышел из зала совещания. Породнившись с Атраком, Давид переселил в 1118 году на жительство в Грузию сорок пять тысяч кипчакских семей. Бывшие кочевники стали заниматься земледелием, а на случай войны у Давида была под рукой отлично снаряженная сорокатысячная конная армия кипчаков. Конница царя — его личная гвардия — состояла из пяти тысяч всадников. В 1118 году грузинские войска овладели самым сильным укрепленным пунктом на границе Армении и Грузии — Лоре. Этим было закончено окружение Тбилиси. Отныне тбилисский эмир был оторван от сельджуков. Победоносное наступление Грузии сильно потревожило сельджуков. Султан Ирана и Не-Ирана, как себя именовал Абу Музафер Рукн Эд-Дин Бархиа-рок, заключил союз со своими братьями против христиан и, таким образом обезопасив тыл, начал готовиться к походу на Грузию. Давид, будучи в курсе султанских мероприятий, также. решил обезопасить свой тыл и фланги. Он занял Ширван и крепость Кабалу (восточный Азербайджан), уничтожил бродячие сельджукские отряды вплоть до Каспийского моря. В то время он усиленно обучал половецких всадников, готовя их к решительным боям. Султан собрал войска всех своих эмиров. По данным некоторых иностранных историков, Бархиарок двинул на Грузию 400–600 тысяч бойцов. У Давида под рукой было 60 тысяч человек. Враг, вторгшись в пределы Грузии, направился не к Тбилиси, а 12 августа 1121 года подошел к городу Манглиси. Намерения султана нетрудно было разгадать. Он стремился перебраться через Триалетский хребет, чтобы отрезать Давида от Западной Грузии. Внезапное нападение и правильно избранный маршрут, безусловно, давали некоторые преимущества туркам. На Картлийских равнинах многочисленная турецкая, кавалерия развернулась бы в грозную силу. Но Давид, как пишет его историк, «не вздрогнул». Он быстро двинулся навстречу врагу. К северу от Манглиси в Дидгорских горах грузины встретили турок. В теснинах ущелья турки не могли развернуться. Давид принудил противника совершенно неожиданно для него принять бой 15 августа. Давид направил сильные соединения во фланги врага. Густой лес скрывал передвижение отрядов. Когда позиции были занята, в стане грузин началось непонятное движение, бряцание оружием. Вдруг отряд в 200 всадников, преследуемый криками возмущения, оторвался от грузинской армии и направился к стану врагов со вложенными в ножны клинками. Турки, привыкшие к частым изменам феодалов, приняли отряд перебежчиков и пропустили в середину стана. Но как только 200 смельчаков очутились среди вражеских войск, они молниеносно обнажили шашки и начали рубить ошеломленных турок. Давид, видя расстройство в стане врага, стремительно атаковал его в лоб и с флангов. Огромная армия, дрогнув, смешалась и бросилась в бегство. Турки в теснине давили друг друга. Армия Бархиарока была разгромлена. Летописец пишет о Давиде: «Сам царь, как другие, не стоял сзади своих войск и не подбадривал их криком издали, а раньше всех устремлялся впереди своих всадников и львиным кличем увлекал в бой высоко поднятым клинком, и бурей носился по полю брани, и, как богатырь, крепкой рукой рубил и уничтожал встречных великанов врагов». После дидгорского боя Давид штурмом взял Тбилиси, затем направил свои войска в Южную Грузию, двинулся на Шемаху, столицу Ширвана (Азербайджан), и освободил ее, а 20 августа 1123 года изгнал турок из Ани — столицы Армении. Шестьдесят лет бесчинствовали в Ани враги. Знаменитый Анийский собор, построенный армянской царицей Катроните, турки превратили, в мечеть. Ани был важен и в стратегическом отношении и как центр культурной жизни Армении. Войска под командованием Давида за три дня овладели городом, пленив турецкий гарнизон. Так закончил Давид Строитель свою войну с сельджуками. Удивительная воинская доблесть в сочетании с отличным владением наступательной, тактикой помогла военачальникам и бойцам грузинского войска победить многочисленные рати врагов. После победы столицей государства стал город Тбилиси. Четыреста лет томился город под властью захватчиков арабов и турок, и вот, наконец, он свободен! И словно в ознаменование своей блестящей победы, царь учредил в Тбилиси дом для людей искусства: здесь отныне собирались писатели, музыканты, певцы, художники, обменивались мнениями, спорили, читали стихи, и слуги обносили их тонкими яствами и винами. Уж давно нет в Тбилиси этого дома, где собирались лучшие люди Грузии. Погибли от времени и от нашествия врагов многие крепости и города, и ветры разнесли по ущелью пыль от их камней. Прошли века со времен царя Давида, и о великих деяниях его рассказывают нам лишь хроники, книги да старые фрески на стенах монастырей. Но память о замечательном царе-воине, царе — собирателе грузинских земель не померкнет в народе. Он первым воссоединил раздробленные земли Грузии, первым доказал, что с иноземными захватчиками можно сражаться и можно их победить.
Тени сгустились в углах старой церкви, свет уже почти не проникал в узкие щели окон, и фреска на стене казалась совсем черной. Не стало видно выражения глаз, стерлись очертания лица. Только блестела серебром крестообразная рукоять меча да сверкала кольчуга цвета соколиного крыла. Юный художник встал, поднял с каменного пола складной стульчик и ящик с красками. Сложил мольберт. Последний раз взглянул на портрет царя Давида Строителя и едва заметно кивнул ему. Потом вышел из церкви, спустился по узкой тропинке к шоссе, которое вело к Кутаиси. Большой город зажигал навстречу ему свои бесчисленные огни.
Н. Микава ЛЕГЕНДА О РУСТАВЕЛИ

…Его судьба так же печальна, как судьба Сервантеса, Шекспира, Данте, как судьба многих великих поэтов и мыслителей… Старость его прошла в изгнании, вдали от родины… Его поэма прозвучала в веках, как неповторимая музыка эпохи, прозвучала и осталась вечным памятником! Кем же был этот гениальный поэт и философ? На этот вопрос не отвечает история, об этом умалчивают древние пергаменты летописцев. Народ Грузии как знамя пронес «Витязя в тигровой шкуре» через столетия, сохранив уцелевшие рукописи поэмы; из уст в уста передавались ее драгоценные строки, и легенды, созданные о поэте, ее творце, сохранили для потомства бессмертную силу его гения.
* * *
В 1958 году украинский писатель Григорий Плоткин в качестве туриста побывал в Израиле. «…Мы с нетерпением готовились, — писал он, — к осмотру древнейшего города Иерусалима. Здесь проходят следы трех религий мира: христианства, иудейства, магометанства. В Тель-Авиве, узнав, что мы литераторы, сказали: — Вероятно, вам будет особенно интересно в Иерусалиме. Там ведь похоронен Шота Руставели!.. Должен признаться, я впервые слышал об этом. С детства поклонялся гению автора «Витязя в тигровой шкуре», но, к сожалению, ничего не знал о его жизни. По приезде в Иерусалим мы связались с постоянным представителем Академии наук СССР, и с его помощью нам удалось посетить монастырь Святого креста, где находится могила великого поэта. Правда, все оказалось гораздо труднее, чем мы думали, так как монастырь находится в зоне особого стратегического значения. Но сильное желание преодолело трудности. Монах рассказывает, что монастырь Святого креста построен грузинами и с XII века по XV принадлежал им. А с XVI века он перешел во владение греческой православной церкви. По преданию, Шота Руставели добровольно отказался от мирской жизни, постригся в монахи и босиком пришел в Иерусалим… Здесь он расписал стены монастыря замечательными фресками. Мы с волнением осматривали эти фрески, изображающие пейзажи и отдельные моменты истории Грузии…»
* * *
Сообщение Г. Плоткина взволновало всю Грузию. В Палестине, недалеко от Иерусалима, действительно существует один из самых замечательных памятников грузинского зодчества — монастырь Святого креста, построенный известным грузинским деятелем XI века Прохоре. Вот с этим монастырем связывали имя Шота Руставели, об этом говорил народ, об этом рассказывалось в легендах. Но не только в легендах — известный грузинский путешественник XVIII века Тимоте Габашвили писал, что на стене Крестового монастыря есть изображение Шота Руставели. Неведомый портрет поэта был также описан в XIX веке профессором Петербургского университета А. Цагарели. Существует предание, в котором рассказывается, что прах поэта покоится под одной из колонн, поддерживающих свод этого храма. Прошло столетие, и портрета Руставели в этом храме никто уже больше не видел. Чья-то рука замазала изображение Руставели, кто-то постарался уничтожить источник, питающий легенду о могиле Шота. Эти мысли уже много ночей не давали покоя поэту и академику Ираклию Абашидзе, во сне и наяву он грезил о могиле Руставели. Его решение — поехать в Палестину, собрать достоверные сведения о Руставели, а может быть, — кто знает, все ведь возможно, — привезти останки поэта из далекого Иерусалима, — было непоколебимо. Это и послужило причиной того, что осенью 1960 года в Москве в одной из комнат гостиницы «Москва» собрались трое: поэт Ираклий Абашидзе, академики Акакий Шанидзе и Георгий Церетели. За широким окном была обычная московская ночь. Тысячи электрических лампочек таяли в черной бархатной глубине, на мокром асфальте, как в прозрачном озере, мерцали красные и желтые огни убегающих автомашин. — Почему молчат о нем летописи Грузии, почему ничего не говорят историки? — который раз задавал себе вслух этот вопрос Абашидзе и вопрошающе вглядывался в глаза ученых друзей. — Значит, произошли в его жизни такие события, о которых нам пока ничего не известно, — сказал Акакий Шанидзе. — Да, он написал «Витязя в тигровой шкуре» и этим все сказал о себе, — с философским спокойствием добавил Георгий Церетели. — Неужели все сведения о нем были утеряны навсегда? — не успокаивались друзья. — Неужели все уничтожили тысячи завоевателей, не дававшие покоя Грузии?.. Вот он идет рядом с историей, витязь, ученый, великий поэт… А кто он, не знаем до сих пор! — Все же мне непонятно: почему так зловеще молчит о нем история?.. — повторял Ираклий Абашидзе. Действительно, почему молчит история?!.
* * *
У художника Давида Какабадзе есть картины, где не видно неба, одни горы, такие высокие, что закрывают небосвод. Художник назвал эти картины имеретинскими пейзажами. Недалеко от Кутаиси, на одной из таких высоких гор, Давид Строитель в XI веке построил Гелатский монастырь. Он и сейчас высится как замечательное творение грузинского зодчества, как нетронутая страница истории. Здесь же Давидом Строителем была основана академия. На протяжении столетий исторический процесс развития культуры Грузии шел от усвоения античной философии, и центром ее была академия в Колхиде — Гелатская академия. Это была колыбель грузинской культуры. Именно здесь, в Гелати, преподавал и творил замечательный ученый и философ Арсений Икалтоели и многие, многие другие. Почти все они вышли из Месхети и Черноморского побережья Грузии — Колхиды. Месхети — очаг культуры и передовых идей — был родиной и Шота Руставели. Семнадцатилетнего юношу Шота, страстно влюбленного в жизнь, привезли в Гелати. Сын знатных родителей, здесь он получил всестороннее образование и сделался рыцарем, одинаково владеющим как оружием, так и разумом своим. Вот что рассказывают легенды. Прекрасный гимнаст, охотник, художник и поэт, — он с малых лет проявлял интерес к философии, любил читать, разбирался в старинных рукописях. Еще юношей он стал победителем на поэтическом турнире. Это и решило его судьбу. В числе лучших юношей Шота оказался в Гелати. В то время в академии безраздельно господствовало учение философа V века — Петра Ивери. Здесь было в почете все эллинское, все классическое. Сам Петр Ивери разработал целую систему пантеистического материализма. Нигде в мире, кроме Гелати, не разрабатывалась тогда эта система идей, которая была усвоена Руставели и положена в основу его поэмы. Правда, в Париже в IX веке переводилась «Книга о причинах» Петра Ивери, но дальше дело не пошло, а сама книга была осуждена Парижским церковным судом 1210 года. Здесь Шота ознакомился с нотными знаками для записи музыки Георгия Мерчуле; учился живописи у лучших художников Грузии; изучал основы зодчества и познакомился с изумительными творениями Бека и Ашкена Опизари. Ночами он часто и подолгу простаивал на крепостной стене монастыря и задумчиво смотрел вниз. Там, в синеватой дымке, по берегам бурной Риони, расстилалась богатая колхидская долина с прозрачными речушками и столетними деревьями, густыми лесами и зелеными лугами. Вероятно, по этому солнечному Риони плыл челнок Язона за «золотым руном». Шота казалось, что он видит просторы синего моря. Море!.. Он с детства полюбил море, много читал о мореплавателях, читал греческих историков, так часто посещавших Колхиду. Еще там, у Черного моря, начал он писать стихи. Там впервые раздался его поэтический глас, и с тех пор избрал он своим богом Аполлона. Часто мечтал он, когда стоял вот так, как сейчас, на крепостной стене после бессонной ночи, проведенной за чтением пожелтевших от времени фолиантов. Но юноша из Месхети не был схимником. И хотя настоятели в академии не отличались суровостью, все же его ненасытное жизнелюбие порою пугало наставников. Любил он охоту. Никто не стрелял из лука лучше Шота; иногда он целыми днями пропадал в лесу, охотился, плавал, наслаждаясь дикой природой. В честь окончивших академию ученых витязей был объявлен турнир, на который приехала сама царица Грузии — молодая Тамар. И легенда гласит: …Была весна. Гелатская гора возвышалась, как одинокая гордая сосна на широкой равнине. Казалось, она была одета в легкий, прозрачный газ — из розовых цветов персика и белых лепестков миндальных деревьев. Солнце сияло на лазурном небе, и синеватая дымчатая парча тонкого тумана покрывала долины и горы. Раздался торжественный звон колокола, возвещавший о начале состязаний. Тамар, окруженная свитой, сидела на возвышении под пурпурным балдахином. Началось состязание в верховой езде, метании копий, в борьбе, в игре на разных инструментах. Руставели был героем дня. Как лучший наездник, он отличился в джигитовке, а игрой на кнари очаровал слушателей. Когда началось чтение стихов, творения Шота Руставели поразили всех. Никогда еще грузинский стих не лился так легко, так музыкально, никто еще не показал такие неиссякаемые богатства родного языка, никому еще не удавалось с такой силой донести до слушателей чеканность грузинской речи. И сам Руставели был похож на юного античного бога. Царица восторгалась и не в пример другим царицам бурно выражала свой восторг. Когда победителям раздавались первые награды— кинжалы и шашки в дорогих оправах, бархатные одежды и многое другое, Тамар приказала вестникам объявить, что высшую награду — золотой венец — получит тот, кто стрелой пронзит яблоко, которое она будет держать в своей руке. Вестники объявили об этом, но в народе поднялся ропот: царица не должна подвергать себя опасности — неверно пущенная стрела может поразить ее.. Лучшие стрелки, посоветовавшись между собой, подошли к Тамар и, преклонив колени, умоляли ее отменить это состязание. Если же оно не будет отменено, то они заранее просят простить их за отказ участвовать в нем! Тамар, улыбаясь, отвечала: — Тут нет никакого дерзания, никакой опасности! Но витязи по-прежнему молили ее отменить состязание. Тогда выступил вперед Шота и сказал: — Возьми, солнцеликая, в руку яблоко свое, я решаюсь пронзить его моей стрелой. Все поразились смелости Шота; витязи начали его отговаривать. Но он, не слушая их, глядел на яблоко, которое царица, держа указательным и большим пальцами, подняла над головой. Неужели безумец Руставели будет стрелять? Но неожиданно для всех, взяв в руки стрелу, он подошел к царице, левой рукой придержал яблоко, а правой воткнул в него стрелу и пронзил его насквозь. Царица выпустила яблоко. Шота высоко поднял его на острие. Тогда все поняли, что царицей была задана загадка, которую разгадал Шота. — Победил Руставели! — провозгласила царица. — Он заслужил золотой венец. Я же говорила вам, мои добрые витязи, что в этом состязании нет ничего опасного. Вы упустили из виду, что я предлагала пронзить яблоко, а расстояние, с которого следовало это сделать, я не назначила! После этих слов царица собственноручно надела на голову Руставели золотой лавровый венец и протянула ему руку для поцелуя. Молодой витязь смущенно подошел к Тамар, стал на колени и поцеловал руку солнцеликой. Потом он посмотрел в ее глаза и на всю жизнь лишился покоя. Руставели в тот же день получил приглашение во дворец — быть придворным поэтом царицы. Разве он мог отказаться? Так началось для Руставели величайшее счастье и самое большое горе его жизни.
* * *
При дворе жизнь была богата событиями, изысканна и интересна. Руставели повезло. Он родился в такую эпоху, когда его талант мог получить широкое, всестороннее развитие, когда его гений вместе со всей Грузией питался античной культурой, поэтическими и философскими творениями эллинов. К этому времени Грузия достигла вершин самобытного, мощного культурного развития. Много сделали Иоане Петрици и его философская школа; его учение отличалось Независимостью мысли, широтой мировоззрения и отрицало церковный догматизм. С каждым днем все шире, все глубже становился кругозор поэта-философа. Его талант развивался на богатой почве, в окружении лучших поэтов и мыслителей того времени. Государственным секретарем при царице был Шавтели — философ, ритор, сочинитель стихов, известный подвижничеством своим. Не одну ночь Шота провел над его «Абдул-Месия».
* * *
Это было на охоте, в окрестных лесах древней столицы Грузии — Мцхета. После церковного праздника Свети-Цховели царица объявила охоту и со своим девичьим отрядом в сопровождении Руставели помчалась галопом вперед, туда, где сливаются воедино воды степенной Куры и бурной Арагви, и вдруг Остановила своего скакуна. Тамар с восхищением глядела на высокую гору на противоположном берегу, вершину которой украшал храм, построенный еще в VII веке, — Джвари. — Я преклоняюсь перед зодчим, нашедшим такое решение для своего творения… Это не храм, а продолжение горы, ее вершина… — сказала Тамар. — Венец ее… — добавил стоящий рядом Шота. — Ты прав, мой поэт… Именно венец! — заметила она и устремилась в лес. Шота догнал ее. Они ехали рядом, и ничто не нарушало окружающую тишину. Царица еще не объявляла о начале охоты. — Расскажи сказку, Руставели! — вдруг нарушив молчание, сказала солнцеликая. — Какую, царица моя? — Самую короткую… — не глядя на него, как бы про себя ответила она. Шота задумался и через двадцать конских шагов начал: — Это будет печальная сказка, солнцеликая! — Ответа не последовало, и он продолжал: — У одного царя была дочь неописуемой красоты. Из многих стран приезжали к ней рыцари, юные царевичи, чтобы завоевать ее любовь, но тщетно… Царевна решила выйти замуж за того, кто по-настоящему полюбит ее и кто вызовет взаимность в ее сердце. В одной из зал дворца стоял малахитовый столик с небольшим хрустальным кубком, наполненным слезами царевны. Слезы, прозрачнее утренней росы, переливались в кубке. Ищущий руки царевны должен был, стоя перед кубком, сочинить стихи о любви. Предание гласило: если стихи будут искренними, слезы в кубке запенятся. Искатель руки царевны должен вылить их при ее появлении. Время шло, слезы в кубке не закипали, и царевна не выходила замуж. Надоели царю капризы дочери, и он приказал запереть ее за девятью замками. Печаль воцарилась во дворце. Как ни старались прислужницы развлечь царевну, она тосковала, как птичка в золотой клетке. Задумала она однажды написать свой портрет. Села перед зеркалом и на бумаге изобразила свое лицо. Трудно было угадать, что было прекраснее: сама царевна или ее изображение. Портрет она привязала к шее голубя и выпустила его из окна. За семью царствами жил поэт — камни и те, казалось, плакали, услышав его песни, Но поэт ждал настоящей любви, и все труднее было ему сочинять стихи без подлинного чувства. Наконец вовсе умолкли его струны, и скорбь одолела его. И вдруг неожиданно белый голубь из неведомой страны принес ему портрет красавицы. Пламенем любви загорелось сердце поэта, и решил он пуститься на поиски незнакомой девушки. Долго ли, нет ли шел он и пришел в известное нам государство. Здесь он узнал о странных условиях царевны и ради забавы решил попытать счастья — не знал он, что царевна была той, которую он искал! Множество людей собралось в назначенное время. Какой-то неизвестный бедный поэт хотел завоевать сердце царевны! Поэт подошел к столику, на котором стоял кубок, наполненный девичьими слезами. Вспомнил он о портрете, запел песню, подобно которой не слышал еще человек, и слезы в кубке закипели. Наконец появилась царевна. Поэт взглянул на нее и оцепенел: это была она! Он шагнул к ней, но мрак окутал его глаза, и он ослеп — забыл вовремя вылить кипящие слезы. Не испугавшись гнева отца, царевна вышла замуж за своего слепого поэта: она любила его и не могла поступитьиначе. Царь изгнал их из своего государства. Они обеднели, но были счастливы, так как сильно любили друг друга… Тамар не сказала ни слова. Воцарилось гнетущее молчание, и вдруг откуда-то донесся крик совы. Днем — и крик совы! Конь царицы рванулся вперед, поскакал… и остановился. Руставели догнал Тамар — и замер: на ее глазах, как алмазы, повисли две слезинки. — Зачем ты рассказал такую сказку, разве ты не знаешь?.. — не закончила фразу царица. Шота побледнел. Конечно, он знал, он все знал. Он понял свою ошибку. Как мог он забыть историю царицы? Ее отец — могущественный царь Георгий III Львиное Сердце невзлюбил своего племянника Демна за то, что тот заикнулся о женитьбе на единственной дочери царя — Тамар. Георгий заточил ее в Каджетскую крепость; царевич Демна, наследник престола, объединив сторонников, попытался отстоять свои права. Но Георгий разбил его и ослепил. Тамар и Демна с детства любили друг друга. Как Шота мог забыть об этом?.. Значит, она все еще помнит о нем!.. Он еще большим уважением проникся к ней.
* * *
Корабль приближается к Босфору. На палубе стоит юноша. Его фигура как бронзовое изваяние на фоне пурпурных лучей заходящего солнца. Горит весь небосвод. Говорят, необычайно красив заход солнца на Босфоре. Шота много раз слышал его описание от своих друзей. Особенно увлекательно рассказывал Чахрухадзе. Он прав! Не горит ли великолепная столица Византии, колыбель изысканности и коварства, высшей культуры и самых низменных чувств? Кажется, Константинополь объят огнем, будто солнце хочет поглотить его, унести с собой! Как хорошо, что он избрал Элладу, а не этот Рим современного мира! Солнце уже зашло. Шота вглядывался в спокойные волны, и душа его была полна болью. Невыносимой становилась разлука с той, которая, как божество, владела всем его существом… Он вспомнил свое детство, Месхети, годы учебы в Гелати. Вспоминал пастухов и крестьянских парней — своих друзей. Он вспоминал Мествире — бродячего музыканта, который на своей дудке напевал остроумные и легкие шаири; вспоминал народных сказителей и поэтов. Как она сказала?.. Написать об этом, изложить поэму любви на пергаменте! Прав был философ Петр Ивери, утверждая, что реально только добро, а зло недолговечно, преходяще.
* * *
…Прошло около месяца. Поэт Ираклий Абашидзе и ученые Акакий Шанидзе и Георгий Церетели вернулись из Палестины. В номере, где они жили, днем и ночью не умолкали телефонные звонки; днем и ночью приходили друзья и товарищи, писатели и художники, историки и ученые, заинтересованные результатами их поездки. В то утро в гостинице «Ленинградская», как ни странно, у Ираклия Абашидзе, кроме журналиста Н. М-на, никого не было. М-н брал интервью, а я с удовольствием слушал — уже в который раз — повесть о поездке в Иерусалим. — Наши ученые, — рассказывал Ираклий, — обстоятельно изучили местность и Крестовый монастырь. Они установили, на какой именно из колонн может сохраниться портрет, и, очистив густой слой краски, которой давным-давно была покрыта колонна, обнаружили изображение Руставели… Взгляните на эти снимки. Фотографии, цветные и черно-белые, начали переходить из рук в руки. — Кто является автором портрета, как он исполнен? — спросил М-н. — Очистив первоначально колонну от слоя зеленой краски, мы неожиданно увидели проступающий алый цвет. Дальнейшая работа позволила нам освободить весь портрет Руставели и следующую сохранившуюся на нем надпись на древнегрузинском языке: «Расписавшему это — Шоте да прости Бог (грехи). Аминь». Как полагают наши ученые, автор надписи обращается к богу с просьбой простить Шота, украсившего собор своими фресками. Портрет также снабжен и отдельной древнегрузинской надписью «Руставели». Выполненный в красках портрет является поистине превосходным произведением искусства Руставели изображен рукой талантливого живописца. Здесь же, в монастыре Святого креста, академикам А. Г. Шанидзе и Г. В. Церетели удалось сделать более двухсот фотографий с фресок, изображающих многих грузинских деятелей, а также прочесть и расшифровать большинство других грузинских надписей, которыми покрыты стены монастыря и которые также старательно замазаны и стерты неведомой рукой. — Удалось ли вам познакомиться с древнегрузинскими рукописями, хранящимися в Иерусалиме и, возможно, содержащими какие-либо иные, новые сведения о Руставели? — опять спросил М-н. — К сожалению, эти рукописи, находившиеся прежде в Крестовом монастыре, ныне оказались в старой части Иерусалима, в Иордании. Они были для нас недоступны. Я хочу подчеркнуть это обстоятельство, потому что изучение рукописей является необходимым условием для решения вопроса о месте погребения Руставели. Этому, конечно, в значительной степени может способствовать и археологическое изучение окрестностей монастыря. …Пройдет, быть может, еще немало лет, но, бесспорно, настанет день, когда наука ответит на вековой вопрос о судьбе Руставели.
Г. Джамбурия ВЕЛИКИЙ МОУРАВИ

Октября третьего дня 1629 года в Османской Турции по приказу великого визиря Хусрев-паши был предательски убит правитель Конийского вилайета Мехмед-паша. Вместе с ним великий визирь приказал обезглавить его сына и пятьдесят человек приближенных. Так на чужбине трагически оборвалась жизнь большого государственного и военного деятеля Грузии Георгия Саакадзе. В течение тридцати лет героически боролся он за восстановление единой Грузии, единого грузинского государства. И только благодаря этой борьбе грузинский народ сохранил свою свободу и независимость.
* * *
Великий Моурави — Георгий Саакадзе родился в 1582 году в селении Ноете, родовом имений дворянина Сиауша Саакадзе. Здесь были дворец, церковь, замок. Род Саакадзе принадлежал к сословию азнауров — мелкопоместных дворян, однако Саакадзе владели несколькими сотнями крепостных крестьян, служилых людей и даже имели своих азнауров. Фамилия Саакадзе впервые встречается в истории Грузии в начале XV века. Пращур Георгия — Иване Саакадзе в 1421 году был правителем царского села Кавтисхеви и приближенным лицом при, дворе. Впоследствии род Саакадзе усилился. В XVI веах предки Саакадзе и сам Георгий всегда принимали сторону царя. Победа царя в этой борьбе способствовала централизации страны, тогда как победа крупных феодалов приводила к дальнейшей ее раздробленности. После смерти отца в 1594 году Георгий служил вначале царю Симону I, а затем сопровождал Георгия X и участвовал в тех войнах, которые тот вел. После, когда молодой Луарсаб II взошел на картлийский престол (1606 г.), Саакадзе стал его первым советником и помощником. Вскоре его назначили верховным эмиром Тбилиси, а вслед за этим он получил должность моурави в Цхинвали и в Двалети (Осетия). С этого времени Георгий Саакадзе выступает на широкой политической и военной арене.
* * *
В первые годы XVII века, к которым относится начало деятельности Георгия Саакадзе, Грузия уже не представляла собой мощного единого государства, как, например, во времена царствования Тамар (XII в.), когда на всем Ближнем Востоке не было более сильной монархии. Грузия времен Саакадзе была экономически отсталой и политически раздробленной. Она делилась на мелкие царства (Картли, Кахети, Имерети) и княжества (Гурия, Абхазия, Мегрелия, Сванетия). Южную часть Грузии, Самцхе, захватила Турция. Внутри страны шла междоусобная война: наиболее сильные феодалы — князья — боролись против центральной власти за свою полную независимость. Это было время феодальной анархии. Один историк того времени так характеризует внутреннее положение страны: «Князья захватывали для себя отдельные части страны, крепости и поместья». Так постепенно мельчали национальные интересы крупных феодалов и князей, и, наконец, они продали родину ради сохранения своих поместий. Измена царю и отечеству стала обычным явлением. От междоусобных войн внутри страны больше всего страдал трудовой народ. Еще сложнее было внешнее положение Грузии. Турция и Персия старались завоевать ее. Грузинский народ героически боролся против захватчиков. «Один леопард, а другой барс», — так называли грузины эти страны. Тяжелое поражение потерпела Грузия на рубеже XVI и XVII веков. Турки после кровопролитной войны поработили одну часть Грузии Самцхе-Саатабаго, и приступили к ее отуречиванию. Большая часть населения погибла в этой войне, часть бежала В горы, оставшихся в живых вынудили принять магометанство. Грузия искала союзника, от которого могла бы получить реальную поддержку. Таким союзником оказалась Россия, и грузины обратились к ней за помощью. Между Россией и Кахети уже существовал договор, другие царства Грузии тоже искали союза с Россией. Еще раньше персы были встревожены появлением русских на берегу Каспийского моря, и поход на Грузию стал неотложной задачей для обеспокоенного Шаха-Аббаса. Целью «иранского льва» было окончательное истребление Восточной Грузии (Картли и Кахети) и переселение туда мусульман. В 1602 году началась война между Персией и Турцией. Шах-Аббас приступил к осуществлению своего плана. От Картли он отрезал Лоре и Дебадасское ущелье, поселил там магометан и организовал ханства. У Кахети отнял Энисели и обосновал султанат. Таким образом разрушил он оборонительные рубежи Картли и восточной Кахети. По повелению шаха был отравлен картлийскнй царь Георгий X и убит в 1605 году кахетинский царь, сторонник сближения с Россией, Александр II. Он погиб от руки собственного сына Константина, который рос в Персии и был мусульманином. Константин убил также своего брата — наследника престола и сторонника политики отца. Кахетинцы восстали против Константина и убили его. Сторонники Александра послали его племянника Баграта Батонишвили в Россию с просьбой о помощи. Щах был вынужден пойти на уступки, и в 1606 году в Грузии утвердились христианские цари: в Кахети Теймураз I, а в Картли — Луарсаб II. Это было временное отступление. В 1612 году был заключен мирный договор между Турцией и Персией, согласно которому Западная Грузия входила в сферу влияния Турции, а Восточная — Персии. Однако Шах-Аббасу по-прежнему не давала покоя идея покорения Грузии и превращения ее в свое ханство. Он стал готовить новый поход против Грузии и привлек на свою сторону не только враждебных Луарсабу и Теймуразу феодалов, но и многих князей Кахети и Картли. В это время при дворе Шаха появился изгнанный из Грузии Георгий Саакадзе.
* * *
Георгий Саакадзе был исключительно популярной личностью не только в Грузии и в Закавказье, но и в соседних с ними странах. Казалось бы, не осталось ни одного историка и путешественника того времени, который так или иначе не коснулся личности Георгия Саакадзе. «С кем бы он ни сражался, — говорит о нем его современник, армянский историк Аракел, — он всегда выходил победителем, потому что он был умным, сильным и неутомимым войной». «Высокий и сильный, он был мужествен, как лев. Его благородство не имело границ», — так пишет о Г. Саакадзе известный турецкий историк Мустафа Нахим. Грузинский историк XVIII века Батхуши Багратиони свидетельствует: «Моурави Георгий был мощный, представительный, сильный и бесстрашный смельчак». Впервые полководческий и организаторский дар Саакадзе проявился в битве у села Квишхети. В июле 1609 года по Ахалцихской дороге в Грузию ворвалась многочисленная османская армия, которая намеревалась покорить страну. Молодой, двадцати летний царь Луарсаб II стоял с небольшим отрядом царских охранников в своей летней резиденции в Цхирети, находящейся примерно в трех километрах от резиденции Саакадзе в Носте. Османская армия прошла Джавахета, Триалети, сняла грузинские караулы и по манглисской дороге направилась к Цхиретской крепости. Турки намеревались захватить Луарсаба и прорваться в сердце Картли. Показывать дорогу на Цхирети османы приказали священнику Тедоре из села Квелта. Он повел их по дальней лесной дороге, благодаря этому Луарсаб сумел укрепиться. За свой патриотизм Тедоре поплатился жизнью — османы отрубили ему голову. Узнав о наступлении врага, Георгий Саакадзе с присущей ему быстротой, в течение нескольких часов, набрал в ближайших селениях четыреста воинов и во главе их неожиданно напал на передовые отряды турок. Враги повернули и направились в сторону Гори. Жители города, опасаясь, что большая османская армия укрепится в городе, разрушили мост через Куру и до прихода отряда Георгия Саакадзе не давали восстановить его. К этому времени в отряде Саакадзе насчитывалось уже около шести тысяч воинов, собравшихся со всех уголков Картли. Турецкая армия численностью превосходила отряд Саакадзе в несколько раз. Решающее сражение произошло у входа в Боржомское ущелье у селения Кбишхети, где турки успели укрепиться. На военном совете приняли смелый план Георгия Саакадзе; ему же поручили командование. Битва началась на рассвете. Первыми напали грузины. Георгий умело воспользовался утренним ветерком, который нес на позиции врага дым, поднятый ружейной стрельбой. За завесой дыма незаметно подошли грузинские отряды и неожиданно напали на позиции турок, смяв их ряды. Георгий лично участвовал в первой атаке. Сражение, в котором принял участие и царь Луарсаб, длилось до вечера и закончилось блестящей победой грузин. Вражеская армия была полностью разбита. Отряды Саакадзе три дня преследовав ли ту небольшую часть турецкой армии, которая надеялась спастись бегством. Как передает летопись, спасшихся от меча Саакадзе турок ловили и брали в плен мирные жители, даже женщины и дети. В результате этой победы сильно возрос авторитет Георгия Саакадзе. Великий Моурави завоевал еще большее влияние в Картли. Однако он прекрасно понимал, что эта победа не обеспечивала в конечном счете безопасности страны. Для укрепления ее обороноспособности и. экономики Саакадзе считал необходимым усиление центральной власти, установление мира и улучшение жизни крестьян. Поэт Иосиф Тбилели в поэме о жизни Г. Саакадзе вкладывает в уста своего героя следующие слова:
(Перевод В. Черняка)
(Перевод В. Черняка)
(Перевод В. Черняка)
* * *
В 1614 году Шах-Аббас объявил о своем намерении начать войну с Турцией. Он собрал большую армию и выступил в поход. Однако неожиданно его войска свернули с дороги и вторглись в Кахети. Кахетинский и картлийский цари укрылись в Имерети. Саакадзе, находившийся в ставке Шах-Аббаса, разгадал замысел персов. Он решил заключить мир с князьями, напуганными мнимым союзом Георгия и Шах-Аббаса. К Шаху присоединились только кровные враги Саакадзе — Парсадан Цицишвили и Шадиман Бараташвили. Этот последний помог Шаху пленить Луарсаба. Впоследствии в 1622 году в Иране по приказу Шаха грузинский царь был удушен. После возвращения Шаха в Иран Кахети восстала, и оставшиеся здесь иранские войска потерпели поражение. В 1616 году Шах-Аббас предпринял второе крупное вторжение в Грузию. Он решил полностью уничтожить Кахетинское царство. Царь Теймураз вновь бежал в Имерети. Часть реакционно настроенных князей перешла на сторону Шаха. Народ прятался в горах и искал убежища в крепостях. Борьба длилась год. Грузины героически сражались, но потерпели поражение в неравной борьбе. До ста тысяч человек погибло, столько же иранцы забрали в плен и поселили во внутренних областях Ирана. Кахети потеряла две трети своего населения. «Вся Кахети попала в такое ужасное положение, — писал иранский историк того времени Искандер Мунши, — какого никогда не создавали христианам мусульмане с тех пор, как появилось на земле мусульманство». Европейский путешественник того времени Пиэтро Делавале так описывает переселение кахетинцев в Иран: «В каких ужасающих условиях проходило это переселение, сколько смертей от ужасающей нужды, сколько убийств, грабежей, разбоя, насилия, сколько грудных детей задушили и утопили отцы своими руками, чтоб не видеть их страдания и мучения, так как они были совершенно измучены. Скольких отставших и тех, кто не мог идти, уничтожила иранская охрана. Скольких детей оторвала она от груди матери и бросила в пути, на съедение зверям, на растоптание лошадям, буйволам. Скольких родителей и детей, жен и мужей, братьев и сестер разлучили, разбросали по дальним странам, так что они навеки потеряли надежду увидеться друг с другом. Сколько мужчин и женщин продавались дешевле животных. Сколько еще происходило ужасных вещей, но всего не перечесть!» Саакадзе окончательно убедился в коварстве Шаха. Он выжидал и готовился к восстанию, хотя по-прежнему делал вид, что верен Персии. Это было нужно ему, так как владетельные князья снова пытались его убить. Саакадзе не стал мстить им. Он считал, что силы Грузии должны быть объединены для предстоящей борьбы. Шах-Аббас упорно проводил свой план раздробления Картли и Кахети. С этой целью «назначил он магометанских управляющих, которым было поручено заселить Грузию мусульманами, турками, иранскими и горскими племенами-магометанами. Собрав многотысячную армию, Шах-Аббас снова отправил ее в Грузию. Командующим он назначил своего приближенного — Корчи-хана, поручив ему разорить Кахети и переселить картлийцев в Иран. Советником и помощником Корчи-хана Шах назначил Георгия Саакадзе. В начале 1625 года иранское командование вызвало отборные кахетинские части, якобы для войны против турок на западе Грузии. Встреча была назначена на Агаианском поле у селения Мухрани. Грузинские войска решено было уничтожить здесь. Но решение не осуществилось. Догадавшись, что это сделал Саакадзе, Шах-Аббас потребовал от Корчи-хана голову грузинского полководца и ускорения военных действий. Об этом приказе стало известно и Саакадзе. Он хорошо использовал письмо Шаха: показал его своим противникам князьям — и перетянул их на свою сторону. Саакадзе выработал очень смелый план восстания. В указанное время восставшие с картлийскими войсками должны были напасть на иранский лагерь, чтобы Георгий, который находился в лагере, мог истребить военачальников иранских войск. В лагере врага вместе с Георгием находилось еще четверо воинов — его свита: восемнадцатилетний сын Саакадзе — Автандил, князья Элиа Диаеамидзе и Паата Херхеулидзе и неразлучный слуга Георгия Папуна Вашакашвили. Все четверо были смелыми и сильными воинами. В этом восстании Саакадзе рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своих сыновей. Старший сын Паата был заложником у иранского шаха. Георгий знал, что как только начнется восстание, Шах обезглавит Паату. Третий сын, Зураб, находился у своего дяди Зураба Эристави, являющегося одним из руководителей восстания. Зураб вместе с дядей должен был напасть на вражеский лагерь. 25 марта 1625 года ранним утром отряд грузинских воинов приблизился к Марткобской долине, где находился лагерь иранских войск. Заметив его, вражеские караулы подняли тревогу. В ставке Корчи-хана собрались иранские военачальники. Вызвали и Саакадзе. Георгий и его люди были наготове. Когда Корчи-хан садился на коня, Георгий убил его. Воспользовавшись суматохой, Автандил убил сына Корчи-хана. Иранцы растерялись. В это время в лагерь ворвались грузинские войска. Оставшиеся без полководцев иранцы не смогли оказать им сопротивления, ряды их дрогнули, а через некоторое время отступление превратилось в беспорядочное бегство. Из многочисленной иранской армии удалось спастись лишь единичным воинам. «Доблестные грузинские воины, воодушевленные победой, гнались за кизилбашами (иранцами) до границ Карабаха, и еще много голов кизилбашей катилось по земле. …Схватка продолжалась непрестанно с рассвета до поздней ночи. Несколько тысяч кизилбашей были изрублены», — рассказывает нам турецкий историк Мустафа Нахим. «В это время, — пишет другой турецкий историк, Ибрагим Печеви, — исполнилось сорок лет со дня воцарения Шаха-Аббаса. За эти сорок лет он не знал еще такого огромного урона. По вине Моурави в этой битве погибло и оставило этот мир семь знаменитых ханов, подобных которым в стране кизилбашей уже не было». Грузины во главе с Георгием Саакадзе одержали блестящую победу. За несколько дней они почти полностью очистили Картли и Кахети от оставшихся войск Шах-Аббаса. На царский престол объединенной страны Георгий Саакадзе пригласил царя Теймураза, который в это время находился в изгнании в Турции. Саакадзе послал послов турецкому султану и попросил у него помощи в борьбе против Ирана. Турция в это время готовилась к войне с Багдадом, и просьба Георгия была отклонена. В отместку за поражение Шах приказал обезглавить старшего сына Георгия. Потом он снова собрал большую армию и под водительством Иса-Хана Корчибаша направил ее в Грузию. Грузины готовились к встрече врага. Они собрали двадцатитысячное войско. Иса-Хан Корчибаш вторгся в Грузию и разбил свой лагерь в Марабдской долине, в Нижнем Картли. Грузины заняли горные позиции в окрестностях Коджори. На военном совете Саакадзе предлагал подождать, пока враг сам не начнет атаку и не войдет в узкое Коджорское ущелье. Грузинским воинам здесь было бы легче сражаться с многочисленным противником, чем на открытой Марабдской долине. Но нижнекартлийские князья требовали начинать военные действия немедленно, потому что враг находился в их владениях и разорял их поместья. План Саакадзе отвергли. Решено было начать атаку. Главнокомандующим выбрали царя Теймураза. В ту же ночь грузинские воины расположились на Марабдской долине. На заре началась битва. Первые часы сражения принесли успех грузинам, но в дальнейшем на помощь врагу подошли вспомогательные силы, а изменники распустили ложные слухи о том, что убит царь Теймураз. Ряды грузинских войск смешались. Грузины потерпели поражение. Четырнадцать тысяч иранцев и девять тысяч грузин пали на поле битвы. В числе погибших оказались известные грузинские военачальники и воины: Херхеулидзе — девять братьев, девять Мачабели, семь Чолокашвили, полководец Баадур Цицишвили, епископы Харгашнели и Руставели. Особенно пострадали крестьяне-пехотннцы, сражавшиеся в первых рядах и не имевшие возможности отступить с поля битвы. Но спину врагам они все же не показали. Собравшись вместе, они не прекращали сопротивления. Все они погибли до последнего человека. Грузины были побеждены, но не сложили оружия. Саакадзе продолжал партизанскую войну маленькими отрядами. В течение десяти дней сдерживали герои натиск главных сил противника, не давая им возможности вторгнуться в сердце страны, чтобы население успело укрыться. Во время одной из стычек Саакадзе проявил легендарное геройство: с шестьюдесятью воинами он уничтожил семьсот персов.
(Перевод В. Черняка)
(Перевод В. Черняка)
(Перевод В. Черняка)
(Перевод В. Черняка)
Г. Леонидзе СУЛХАН-САБА ОРБЕЛИАНИ
Саба-Сулхан сын Орбели Поднялся мудростью выше орлов.Неизвестный поэт XVIII века

1
«Ему 60 лет, он высок ростом, бодр и сильного телосложения; у него прекрасное лицо и… длинная борода, которая очень ему идет». Так описывал внешность Сулхан-Саба один итальянец, встречавшийся с ним в городе Тоскане. Современники называли автора «Мудрости вымысла» «великим исследователем, глубоким мудрецом», «ученым и философом», «источником, рекой мудрости». Окруженный ореолом, стоит в пантеоне грузинской литературы и культуры великий просветитель и гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат Сулхан-Саба Орбелиани. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Сулхан-Саба принадлежал к знатнейшему феодальному роду, который дал в свое время немало славных национальных деятелей — писателей, поэтов, каллиграфов и полководцев. Многие представители рода Орбелиани играли выдающуюся роль в общественно-политической и культурной жизни Грузии средних веков. Сулхан Орбелиани родился 4 ноября (по новому стилю) 1658 года. Сохранилась запись, в которой точно указана дата рождения писателя. «Родился Сулхан-Саба Орбелиани в 1658 году, октября 24, в воскресный день, в полуночное время». Родина Сулхана — село Тандзиа (Южная Грузия, ныне Болнисский район), наследственное владение Орбелиани. Сын крупного феодала, Сулхан имел широкие возможности получить блестящее по тому времени образование. Отец его считался человеком ученым. Между прочим, он был в то время одним из немногих, владевших так называемым «заглавным округлым письмом». «Заглавные буквы, — писал один из сыновей Вахтанга, известный каллиграф и духовный поэт Николоз Тбилели, — издревле были приняты у грузин, но в наше время никто не был им обучен, кроме старшего брата моего, Сулхана-Саба. Он же научился им у отца моего, а затем обучил и меня». Сам Саба упоминаёт, что он воспитывался и обучался у царя Георгия. Подтверждает это и Вахтанг VI, который так прямо и называл Сулхана «воспитанником царя Георгия». Именно по инициативе Георгия создал Орбелиани свой известный словарь. Мы полагаем, что годы учения Сулхан провел при дворе грузинского царя Вахтанга V, или Шах-Наваза (1658–1675 гг.). Будущему придворному, сановнику, дипломату и государственному деятелю необходимо было заранее ознакомиться со всей системой управления государством. Здесь же он мог удовлетворить и свою любознательность, получив доступ к богатой царской библиотеке, в которой хранились редчайшие грузинские и персидские фолианты. Ведь Сулхан, по собственным его словам, «был очень большим любителем учения». В великолепном дворце Шах-Наваза постоянно толпились поэты, ученые, риторы, благодаря им литературная жизнь столицы била ключом. В своем «Путешествии» Шарден подробно рассказывает о посещении им покоев Шах-Наваза и описывает свадебное пиршество — у нас есть основания думать, что это праздновалась свадьба самого Сулхана. «Свадебный пир, — пишет Шарден, — происходил на террасе дворца, окруженной помостами высотою в два фута и шириною в шесть. Терраса сверху была затянута большим пологом, укрепленным на пяти колоннах… Подбой так искусно и мастерски был сделан из золотой и серебряной парчи, бархата и узорчатого полотна, что при огнях казалось, будто он соткан из цветов и моресков. Посредине находился большой бассейн воды… Пол был устлан красивыми коврами, и все помещение освещалось сорока большими факелами… Князь сидел в глубине на более высоком помосте, под балдахином в виде купола. По правую руку сидели его сын и братья, а по левую — епископы… На этом пиру присутствовало более ста человек… Когда они (новобрачные) заняли свои места, то родственники князя подошли поздравить их и поднести подарки…» Сведения об этом обнаружены лишь недавно. По счастливой случайности уцелела древняя рукопись из библиотеки Сулхана с припиской, сделанной, несомненно, его рукой. В этой приписке говорится: «Я, Сулхан, первородный внук Каплана, великого Орбели Бараташвили, и сын верховного судьи Грузии Орбели Вахтанга, еще юношей начал разучивать ирмосы и другие церковные песнопения с большим желанием… и по повелению несравненного моего духовного отца… Обучал меня Берука из дома Зедгенидзе. из Мцхета, а к совершенству песни приобщил меня Георгий Яшвили. Воспитывали меня в неге и в баловстве, как подобает княжеским сыновьям. И если кто-либо, будь то старик или юноша, священник или воин… встретит этот купленный нами сборник песнопений, пусть благословит бога и помолится за меня, неуча и грешника… А кто произнесет благословение, тому бог воздаст должное». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Берука Зедгенидзе считался вассалом одного из крупнейших грузинских феодалов — Мухрана-Батони, дочь которого стала впоследствии женой Сулхана. Можно предположить, что по существовавшей традиции Сулхан еще в детстве был обручен с дочерью Мухрана-Батони, возможно даже, что Сулхан и Дареджан росли вместе. В грузинских школах той эпохи обязательно обучали грамоте, церковному пению, составлению проповедей (риторика), стихосложению (поэтика), истории, грамматике, географии, математике, иностранным языкам (греческий, армянский, персидский), философии, астрономии и другим наукам. Немалое значение в процессе воспитания придавалось и физическому развитию. Уже с пятилетнего возраста мальчика приучали к физическим упражнениям (джигитовка, игра в мяч, охота и затем военные упражнения). Царь и крупные феодалы даже выделяли для своих детей область или общины, где в окружении воспитателей, рыцарей и ритов ребенок обучался управлению ими. Сулхан, как сын крупного феодала, также получил майорат — Дманисское ущелье. Доверие царя к Сулхану было столь велико, что он, и сам еще почти юноша, был назначен воспитателем Вахтанга — наследника престола. А поскольку Сулхан проявил при широком общем образовании и богатые лингвистические способности, ему, также по желанию царя, было поручено чрезвычайно ответственное дело — составление словаря грузинского языка. Отроческие и юношеские годы Сулхана прошли в неустанных трудах. По словам писателя, он проделал над словарем «огромную работу именно в пору отрочества и юности». О редком трудолюбии молодого Сулхана свидетельствует хотя бы тот факт, что первую редакцию словаря он закончил в возрасте 27 лет (то есть в 1685 году, как сообщает сам Саба в введении к «Словарю»). Судя по введению к «Словарю», Сулхан хорошо был знаком с философией и теологией по «глубокомысленным книгам». «Что знал я, то и написал, — замечает он, — а трудные слова, какие мне были незнакомы, я отыскал в глубокомысленных книгах». И далее: «А которые не нашел в писаниях, те взял частью из богословских сочинений, а некоторые из глубокомысленных философских книг, из Прокла, платоников, из «Категорий» Диодоха Порфирия, описал обороты платонической речи Иоанна Дамаскина». Однако «заимствование слов из иностранных книг» происходило с посторонней помощью, при участии осведомленных специалистов и под их контролем, как сообщает сам Саба во введении к «Словарю». «Я постарался истолковать слова, сверив их значение с писаниями эллинскими, латинскими, итальянскими, армянскими, русскими и арабскими, но большую часть пришлось оставить, ибо другого языка, кроме грузинского, я не знал, а из этих языков я заимствовал то, что мне правильно разъяснили и в чем меня убедили…. Вначале я не мог найти латинского и эллинского лексиконов, а то бы написал лучше». Впрочем, как выясняется, составитель словаря все же располагал кое-какими познаниями в области древних и иностранных языков: он частично владел греческим, армянским и турецким языками. И если по скромности своей Сулхан утверждал, будто не знает их, то это нужно понимать в том смысле, что он не владел ими в совершенстве. Что же касается персидского языка, то трудно себе представить, чтобы знатный грузинский феодал XVII века мог не знать его. Персидский язык был весьма распространен в феодальных кругах и играл в то время в Грузии роль интернационального языка. Вспомним хотя бы, что Сулхан по просьбе царя Вахтанга основательно поработал над переводом «Калилы и Димны». Позже Сулхан ознакомился и с французским языком. Семье Орбелиани принадлежали дворцы в Тандзии и Тбилиси, однако Сулхан большую часть времени проводил в Дманиси — в своем поместье. Перед пострижением он подарил братьям свою долю наследства — Дманисское ущелье. «До вступления в монахи, — сообщает один из спутников Сулхана, сопровождавших его в Рим, — он оставил своим братьям обширную провинцию, которая была его собственностью»..
2
Сулхан по традициям рода очень рано отдался государственной деятельности. Как старший сын мдиванбега, он должен был унаследовать и отцовскую должность. Однако, если вспомнить, с какой иронией отнесся он в одной из басен «Мудрости вымысла» к словам лисы-мдиванбега: «Лев, царь зверей, назначил меня верховным судьей» («Человек и змея»), станет ясно, что Сулхана нисколько не привлекала карьера мдиванбега. Любовь к народу побудила писателя высмеять именно тот институт права, во главе которого стоял один из членов его семьи. К сожалению, не сохранилось конкретных сведений относительно официального положения Сулхана при дворе Георгия XI и Вахтанга VI, хотя о его государственной деятельности с похвалой и уважением отзываются высокопоставленные родственники. «Очень много послужил он дяде моему и отцу», — говорит брат Вахтанга VI Кайхосро о Сулхане Орбелиани. Ясно, что Кайхосро имеет здесь в виду службу Сулхана при дворе царей Георгия XI и Левана. Сам Леван упоминает о «заслугах» Сулхана, а Вахтанг VI неоднократно ссылается ка его преданность грузинскому престолу. Известно также, что Георгий XI, оценив «различные заслуги» Сулхана, пожаловал ему в награду поместье и несколько деревень. «Усердно послужил он царям», — повторил впоследствии и автор «Калмасоба» Иоанн Багратиони (1772–1830 гг.). Действительно, достаточно вспомнить хотя бы поездку Сулхана-Саба в Персию (1711 г.) с особым поручением царя Кайхосро или же его длительное и трудное путешествие в Европу (1713 г.) с дипломатической миссией к Людовику XIV, чтобы ясно представить себе размах деятельности этого одаренного и глубоко принципиального государственного человека. Сулхан и сам подчеркивал, что «был очень занят мирскими делами», а. миссионер Ришар прямо сказал французскому министру (1712 г.), что «вся Грузия считает его (Орбелиани) своим отцом». Об этом же свидетельствует и один парижский документ, датированный 1714 годом, где указано, что «Сулхан-Саба пользуется в Грузии большим влиянием и в народе и при царском дворе». А Доменико делла Рока в бытность Саба в Париже обратился из Константинополя к правительству Франции со специальным письмом, в котором просил как можно скорее закончить переговоры е Сулханом и обещать помощь Грузии, так как «братья и важные особы в Грузии… срочно его вызывают, желая выслушать советы и поучения, в которых они нуждаются». И все же, несмотря на влияние, каким пользовался Сулхан-Саба Орбелиани в Грузии, ему рано пришлось испытать горечь опалы и преследования. Дело в том, что наследникам Вахтанга V — Георгию XI и Арчилу — не удалось смирить непокорных феодалов. В Картли воцарилась анархия. Большинство феодалов-сепаратистов открыто выступало против царей, и только некоторые из них, в том числе члены семьи Сулхана Орбелиани, сохранили верность царю Георгию. Отношения между царем и крупными феодалами обострялись с каждым днем. Георгий в конце концов уничтожил кое-кого из заговорщиков, однако до полного успокоения было еще далеко. И как раз в это время шах потребовал, чтобы Георгий, как его вассал, прислал к нему в качестве заложников царевича Левана и наследника престола Баграта. Царь отказался. Он решил выступить против Ирана, опираясь на поддержку Кахети. Однако внутренние неурядицы сорвали его план. Воспользовавшись неблагоприятной для Георгия ситуацией, заговорщики перешли к решительным действиям под руководством арагвинских правителей, агентов Ирана. Георгий бросил свое войско против мятежников, вступил в их владения, сжег Базалети и Душети, но, не добившись решительного успеха, повернул обратно. Между тем шах давно уже задумал лишить Георгия престола. Выступление царя против преданных Ирану арагвинских правителей послужило поводом для осуществления этого замысла. Находившемуся при иранском дворе кахетинскому царевичу Ираклию[3],— первым принявшему после долгих колебаний мусульманство, — был пожалован шахом престол Картли — Кахети. Ираклий (1688–1703 гг.) при вступлении на престол принял имя Назар-Али-хана. Ему тоже никак не удавалось нормализировать положение в стране. В Восточной Грузии все более укреплялось влияние Ирана. Шахский гарнизон в Тбилиси жестоко притеснял жителей, широкие размеры приняла торговля пленными. Персы — солдаты Тбилисского гарнизона — убивали или угоняли людей вместе с женами и детьми. «Они беспрепятственно похищали жителей Тбилиси, Гори и Сурами и продавали их в рабство», — писал историк Вахушти. «Торговля пленными распространялась даже среди грузин. Изменились нравы грузинские, их всё больше вытесняли нравы и обычаи персов». Теперь феодалы начинают плести нити заговора против Ираклия I (Назар-Али-хана). Они призывают из Ахалцихе плененного янычарами Георгия XI и в 1691 году провозглашают его царем Картли. В течение четырех лет Георгий вел упорную партизанскую войну против ставленника Ирана — Ираклия. Однако из-за предательства он так и не добился успеха. Узнав, что на помощь Ираклию прибыли вспомогательные иранские войска, Георгий вынужден был бежать в Имерети (1695 г.). Престол остался за Ираклием. В этой упорной борьбе Сулхан Орбелиани стоял на стороне Георгия XI. Он неизменно находился возле царя и даже в самые трудные минуты не покидал своего «воспитателя и патрона». Когда Георгий под натиском превосходящих сил противника был вынужден отступить, а затем и бежать вместе с женой и детьми в Имерети, Сулхан, естественно, последовал за ним. Сулхан, как близкий родственник Георгия XI и видный государственный деятель, также не избежал мести. Уже в то время, когда войска Георгия стояли на Клдекари в ожидании битвы, Ираклий и представитель Ирана «вступили в Сомхити и Дманисское ущелье», а ведь Дманиси, как сказано выше, было собственностью Сулхана. Конечно, Ираклий разорил его поместья, так как опасался неожиданного удара со стороны преданных Георгию XI Орбелишвили и в первую очередь Сулхана.
 Давид Строитель.
Давид Строитель.
 Храм Свети-Цховели в Мцхете (XI в.). Зодчий Арсукидзе.
Храм Свети-Цховели в Мцхете (XI в.). Зодчий Арсукидзе.
 Я. Николадзе. Портрет Шота Руставели.
Я. Николадзе. Портрет Шота Руставели.
После победы Ираклия сторонники Георгия были рассеяны. Одни последовали за царем, другие покинули родину. Сулхан, по свидетельству одного из документов, также предпочел эмигрировать; преследуемый Ираклием, он вынужден был укрыться в семье своего тестя — ахалцихского паши (Ахалцихе, находившийся в то время под властью Турции, управлялся пашами из грузинского владетельного дома бывших атабагов, омусульманившихся в XVII веке). Однако и в Ахалцихе Сулхан не успокоился, продолжая поддерживать царя Георгия. После продолжительных переговоров он заключил прочный союз ахалцихским пашой, склонив его полностью на сторону Георгия. Вскоре Ираклий I простил Сулхана и вызвал его из Ахалцихе. Почему же смягчился шахский ставленник и что заставило его простить «государственного преступника», которого он так преследовал? Чтобы выяснить этот вопрос, необходимо снова вернуться к злоключениям царя Георгия. Дело в том, что сторонники опального царя стали постепенно отводить от него, многие из них поспешили в Тбилиси и явились с повинной к Ираклию. Но Ираклий их не простил, а, приказав схватить, отправил всех до единого в Иран. К этому времени и Георгий решил склонить голову и подчиниться шаху в надежде, что тот вернет ему Картли. В 1696 году он добровольно отправился в Иран и предстал перед шахом. Из Имерети за царем последовали некоторые его сторонники. Шах благосклонно отнесся к приезду Георгия, приказал простить вину всем его сторонникам и возвратить им поместья.
3
В 1698 году произошел резкий перелом в жизни Сулхана Орбелиани. С этого времени придворный, феодал и баснописец становится «смиренным монахом Саба». Какие переживания, какие потрясения могли привести великого Орбелиани к воротам монастыря Иоанна Крестителя в пустыне Давид-Гареджи 18 марта 1698 года? Монашеский клобук надевает крупнейший мыслитель Грузии, гениальное творение которого — книга «Мудрость вымысла» полна солнечной радости, эротики и сарказма по отношению к христианскому фанатизму и церковно-клерикальным книгам. Вспомним одну из басен Сулхана, в которой автор с убийственной насмешкой отзывается о фарисействующих аскетах: «Всю свою жизнь провел я в грехе, а теперь взялся за ум, отрекся от мира, постригся в монахи и хочу пойти в Иерусалим» (басня «Лис-исповедник»). По старой официальной версии, Сулхан постригся в монахи в связи с постигшим его горем — смертью жены: «Когда умерла его жена Тамар, дочь атабага Хали-паши, тогда он и постригся под именем Саба». Соображение это лишено всякого основания. Сулхан постригся в монахи в 1698 году, между тем как в эпистоле, посланной папе Клименту XI (1709 г.), он говорит о своей супруге как здравствующей. Таким образом, даже спустя двенадцать лет после пострижения Орбелиани его супруга была жива. И все-таки Сулхан-Саба действительно овдовел до пострижения. Однако это произошло не в 1698 году, а гораздо раньше — в 1683 году. Дело в том, что Сулхан-Саба, как видно из документов флорентийского архива, был женат дважды. Известно также, что в поздний период жизни Саба его спутницей была «дочь атабага Тамар». Или, может быть, царь Ираклий I (Назар-Али-хан), опасаясь интриг со стороны Сулхана Орбелиани, решил изолировать его и сослал в далекую от Тбилиси обитель? В те времена подобные случаи, как известно, бывали, да и нередко. Однако не сохранилось никаких сведений, которые давали бы основание считать, что Сулхан был подвергнут такому заточению. Наконец, если верить утверждению католического миссионера, проживавшего в Грузии, Саба стал монахом, чтобы добиться большей свободы действий в борьбе за соединение грузинской православной и римско-католической церкви. Такое решение Сулхана диктовалось политическими соображениями. По мнению Саба, таким путем можно было освободить Грузию от магометанского ига и поднять ее благосостояние. Сулхан поселился в пустынной местности Давид-Гареджи, вблизи монастыря Иоанна Крестителя. На этой безводной, голой равнине водились лишь джейраны и во множестве змеи. Монахи-отшельники, связанные с монастырем, жили в расселинах скал поблизости от него. Выросший в царских палатах Саба стойко переносил летний зной и жестокие морозы, строго соблюдал монастырские каноны, требовавшие аскетического образа жизни, и время от времени обращался к соотечественникам с проповедями. Позже он надолго покинет монастырь и отправится с дипломатической миссией сначала в Иран, затем в Рим и Париж. И даже в проповедях поры сурового отшельничества явно прорываются его национально-политические тенденции. В них Саба предстает перед нами как непреклонный моралист и пламенный трибун. С гневом и болью видит он разорение своей отчизны. Хищнические инстинкты феодалов, их эгоистические расчеты, анархия, вызванная борьбой претендентов за престол, непрерывные войны, торговля пленными — все это подрывало национальную экономику. В огне пожаров исчезали целые города и села. Народу грозила гибель. Известно, что ради политической карьеры и сохранения своих прав некоторые феодалы-честолюбы готовы были на все, в том числе с легкостью отказывались от веры своих предков. Даже за номинальный переход в магометанство иранский шах жаловал крупными поместьями, наделял вновь обращенных широкими правами, которые использовались главным образом для угнетения народа. В результате население Грузии в XVII–XVIII веках значительно сократилось за счет постыдной торговли людьми на невольничьих рынках Стамбула, Испагани и Алжира. В такой-то атмосфере и приходилось жить и бороться Сулхану Орбелиани. Своим суровым и резким словом он беспощадно разоблачал изменников веры и отечества. «…Вы продаете веру за мелкую мзду или из зависти к соседу! — восклицал Сулхан. — Стоит вам увидеть блестящий наряд на ком-либо из богачей, парчу или золотистую ткань, как вы исполняетесь завистью к нему, предаетесь стяжательству, грабежам, творите всякие беззакония». Саба подробно рассказывает о гонениях, которым он подвергался со стороны грузинского духовенства. «Грузинские епископы и священники стали преследовать меня за то, что я был в Риме, — пишет он. — Духовенство пожелало созвать собор и сокрушить меня. Созвали собор во Мцхете и потребовали, чтобы я произнес хулу на папу. Я не мог отречься… Они пытались причинить мне много зла». Мы уже упоминали о том, что начиная с XIII века конгрегация пропаганды веры в Риме энергично добивалась подчинения грузинской церкви папе римскому. Грузия, в свою очередь, искала в Западной Европе при поддержке католических кругов прежде всего сильного и культурного покровителя. Эфемерные надежды на помощь Европы особенно ярко проявляются с первой половины XIII века, то есть в тот период, когда Грузия была политически в крайне тягостном положении. Наиболее гибкие политические деятели страны рассчитывали благодаря содействию папы получить помощь европейских государств. «Сердца наши и взоры устремлены к тебе, и мы смотрим на тебя с большой надеждой… Вырви нас из волчьей пасти, не обрекай на гибель», — писал Георгий XI папе Инокентию XI. В этих словах ясно выражены стремления определенных общественных кругов Грузии, выдающимся представителем которых был Сулхан-Саба Орбелиани. Поэтому мы полагаем, что правы были те римские миссионеры, которые считали, что Саба стал монахом, желая свободнее действовать в целях объединения грузинской и римско-католической церкви. А в конечном счете эти его помыслы были направлены к освобождению Грузии от постоянных посягательств со стороны персидских и турецких захватчиков.
4
Из введения к «Калиле и Димне» мы знаем, что Саба, приходившийся дядей царю Вахтангу, стал его воспитателем и вообще был очень любим царской семьей. Миссионер Джустин Ливорнский также сообщает в одном из своих донесений папской канцелярии, что Саба воспитал Вахтанга и его супругу — царицу Русудан. Авторитет Сулхана-Саба, особенно в первый период царствования Вахтанга (1703–1712), казался незыблемым. Саба снова становится кормчим родного корабля, притом в очень тяжелое время. Грузия была разорена правлением Ираклия, междоусобиями и происками феодалов, набегами иранских захватчиков. Необходимо было приложить много усилий, чтобы возродить экономику страны. Разумеется, юный, неопытный царь, хотя и получивший широкое образование, не справился бы с этой сложной задачей, если бы его воспитатель, испытанный политик и государственный деятель, не расстался с тесной кельей в Давид-Гареджи и не выступил в официальной роли регента. Коренное улучшение народного хозяйства, достигнутое в период кратковременного царствования Вахтанга VI, литературные, исторические, географические и юридические памятники тех лет наглядно говорят о том, что страна, направляемая опытной рукой Сулхана-Саба Орбелиани, вступила на верный путь. Однако царствование Вахтанга оказалось недолговременным. После смерти Кайхосро I он вместе с Саба отправился в Иран. Шах принял Вахтанга с большими почестями, но все же потребовал от него перехода в магометанство, на что получил решительный отказ. Тогда Султан-Гусейн назначил правителем Картли брата Вахтанга — Иасе, принявшего магометанство, а самого Вахтанга приказал схватить и отправить в Кирман. И Картли снова страждет от предательства и кровавых столкновений. Саба не отступился от своего воспитанника даже в этой, казалось бы, безнадежной ситуации. Именно ради спасения Вахтанга он и предпринял позже трудное путешествие в Париж и Рим и, опираясь на свои католические связи, добивался там материальной и моральной поддержки против исконных врагов. Дипломатическая деятельность, которой Саба отдал волей-неволей последние годы своей жизни, стала известна главным образом в связи с этой его миссией в Европу. Однако, как выясняется, это было далеко не единственное дипломатическое поручение, доверенное ему правителями Грузии. Поездка же ко двору Людовика XIV и папы Климента XI выдвинула его в число крупнейших дипломатов того времени. В послесловии к «Словарю» дается следующая характеристика его жизни и особенно путешествия в Европу: «Помяните в молитвах ваших составителя этой книги Сулхана-Саба Орбелиани — того, кто был царя Арчила, царя Георгия и Леона, всех троих их, двоюродным братом, — сына грузинского судьи господина Орбели. По повелению упомянутых царей написана эта книга, в которую вложено много труда и много внимания. Так как в Картли не было других лексиконов, то он трудился над составлением этого словаря и пояснений к нему в течение тридцати лет… После этого (в 1698 г., марта 18) постригся в монахи и поселился в Гареджском монастыре святого Иоанна Крестителя. В 1710 г., декабря 1, отправился в Хорасан. Был приглашен царем Кайхосро, который отпустил его февраля 20, одарив многими подарками. Мая 11 он прибыл в Картли. В 1712 г., апреля 23, он отправился к Испагань вслед за царем Вахтангом. Ноября 2 он вернулся обратно. Декабря 20 прибыл в Картли. В 1713 г., августа 17, отправился тайно во Францию. Побывал во Франции, Генуе, Сицилии, Риме. Французский король, римский папа и грандук ему удивлялись и отлично приняли его. Показали ему все, что только было в тех странах редкого и необыкновенного. Святой папа соизволил вручить ему часть святого креста, голову святого мученика Климента и много других мощей. Августа 18 он отпустил его. По дороге он останавливался помолиться многим святым местам. Октября 20 прибыл на Мальту. Декабря 8 зашел за ним корабль французского короля, на котором он прибыл в Константинополь в 1715 г., января 19. Там он находился в продолжение того года у французского посла, при его же поддержке». Нет сомнений, что Саба тайно отправился в дальний путь по поручению Вахтанга. По нашему мнению, Вахтанг и Саба решили просить Францию о помощи во время своего пребывания в Иране, то есть когда положение правителя Картли до крайности осложнилось. В этой связи небезынтересен и тот факт, что Саба спустя три месяца после приезда в Иран неожиданно покинул Испагань и вернулся в Картли, тогда как другие приближенные царя оставались при нем до 10 марта 1714 года, то есть до момента ссылки Вахтанга в Кирман. Ожидая в Картли распоряжений царя, Саба, вероятно, уже деятельно готовился к отъезду во Францию. Он посылает письмо Вахтангу и получает ответ от царя через Ришара, который должен был в ближайшее время вернуться в Европу. Опасаясь вызвать гнев сторонников Ирана, Саба вынужден был соблюдать самую строгую конспирацию, поэтому-то он и уехал тайно из Грузии. Задержавшись на обратном пути в Константинополе, Саба жаловался министру Франции: «Оставаться здесь долго мне невозможно, ибо, если весть обо мне распространится и станет общим достоянием, это может повредить многим делам». В апреле 1714 года Саба был принят в Версале королем Франции Людовиком XIV, рассказал ему о тяжелом положении Грузии и просил освободить Вахтанга из плена, для чего, по мнению Орбелиани, необходимо было вручить триста тысяч экю в качестве «подарка» влиятельным лицам Персии. За это грузинский посол обещал французским коммерсантам открыть удобный торговый путь через Грузию и приобщить всю страну, в том числе мелкие племена Закавказья (24 провинции), к римско-католической церкви. Однако солнце Версаля клонилось к закату. Людовик XIV подписывал Утрехтский и Раштадтский мирные договоры. Разоренная в период длительного царствования, старая, разбитая государственная машина двигалась только по инерции. Безрезультатные разорительные войны за испанские владения, не оправдавшая себя внешняя политика, баснословные расходы двора, государственные долги, угроза английского господства — все это сильно затрудняло оказание Грузии реальной помощи, сводило на нет все помыслы о внедрении католицизма в отдаленной Картли, об использовании торговых путей из Константинополя в Грузию и дальше в Персию, Людовик XIV дважды принял Саба, дозволил ему осмотреть Версаль и Париж, с готовностью обещал деньги для выкупа Вахтанга и свою моральную поддержку. Успокоенный его заверениями, Сулхан-Саба Орбелиани все свободное время Отдавал изучению не знакомой ему страны, ее богатой культуры. По словам Ольги Ильиничны Грузинской, внучки Ираклия II, грузинский дипломат, находясь во Франции, «научился французскому языку и светскому обращению в таком совершенстве, что, когда последовал за царем Вахтангом в Россию, прослыл здесь за образец любезности, учености и тонкого придворного обращения». Обнадеженный и обрадованный милостивым приемом, Саба в первых числах июня отплыл на королевском корабле в Рим. Французское правительство заранее сообщило о его приезде Ватикану и просило оказать Саба особое внимание. Действительно, посла Грузии приняли в Риме как желанного и почетного гостя. Казалось, все сильные мира сего во главе с папой сговорились внушить Сулхану-Саба твердую веру в добрую волю Запада: и кардиналы, и грандук, и римская знать. Ватикан был в самом деле глубоко заинтересован в дальнейших шагах Саба. Недаром лапа Климент XI при свидании обещал ему всяческую помощь в деле освобождения царя Вахтанга. Саба поместили в монастыре святого Лазаря, окружив вниманием и заботами. Папская карета была предоставлена в его распоряжение на все время пребывания в Риме. Саба с большим интересом осматривал дворцы, храмы, книгохранилища, музеи, школы, сады, памятники, акведуки и другие достопримечательности Вечного города. А в богатых книгохранилищах Ватикана он с особой настойчивостью разыскивал грузинские рукописи. Любознательный путешественник весьма интересуется памятниками древней культуры, которыми так богата Италия. «…На одной мраморной плите, — пишет он, — обделанной с чудным искусством, была высечена бегущая девушка, языческая богиня, которую преследует мужчина; он нагоняет девушку, но в эту минуту она превращается в лавр. Словами нельзя описать дивные произведения древности… Тут же рядом померанцевые сады, и необыкновенные деревья, и серны с их детенышами, разнообразные арки и увеселительные места». «Путешествие» Сулхана-Саоа Орбелиани свидетельствует о широте его кругозора как мыслителя, о многогранности его интересов. Приглядываясь к раскрывавшемуся перед ним новому миру, Сулхан-Саба невольно сравнивал его с многострадальной Грузией. Окрестности Флоренции напоминают ему пейзажи Мегрелии (Западная Грузия), итальянское вино — живительную влагу атенских виноградников (близ Гори). Язык «Путешествия» Саба выразителен и ясен; от восторженных описаний он переходит к ровному, спокойному изложению, оставаясь везде искренним выразителем охвативших его чувств и впечатлений. Как видим, Саба проявил себя искуснейшим дипломатом. Он видел перед собой только одну цель: добиться поддержки борьбы грузинского народа со стороны европейских государств. Успокоенный лицемерными заверениями папы, Саба 18 августа «с первым криком петуха» покинула Рим и 2 сентября прибыл на родину Данте и Боккаччо — во Флоренцию, где был встречен чрезвычайно торжественно. Из Флоренции он направился на Мальту. Здесь его по-царски принял великий магистр Мальтийского ордена и правитель острова. На Мальте Саба задержался до 5 декабря, откуда на специальном королевском корабле продолжал свое длительное путешествие. 19 января 1715 года Саба благополучно прибыл в Константинополь. Ему навстречу французский посол выслал специальный корабль. В Константинополе его застала страшная весть о жестокостях царя Иасе в Картли, а также письмо Вахтанга из Ирана. Царь сообщал, что его положение ухудшилось, и просил ускорить решение дел в Европе. Но из Версаля Саба не получал пока конкретного ответа. И вновь полетели письма в Париж с просьбой о помощи. Точно так же умолял Саба и Рим, и столь же безуспешно. Окончательный удар его надеждам нанесла смерть Людовика XIV, последовавшая 1 января 1715 года. Таким образом, Грузии еще раз пришлось убедиться в своем полном одиночестве, а грузинским дипломатам — в тщете их политических иллюзий. После длительного путешествия Сулхан-Саба возвращался в Грузию с теми настроениями, с какими и прежде неизменно возвращались грузины-дипломаты. Уже во время пребывания в Европе начинал угасать их энтузиазм. Вместо крестоносцев с мечами их сопровождали босоногие капуцины и францисканцы с папской буллой, где было немало извинений и еще больше утешительных слов. 13 мая 1716 года старый дипломат, утративший все свои политические иллюзии, с подобной же «душеспасительной» буллой, в сопровождении нескольких капуцинов покинул Константинополь, чтобы плыть в Грузию. По пути из Стамбула в Тбилиси, который длился полтора года, его ожидали еще более тяжкие испытания, а на родине — гнев царя Иасе и козни православного духовенства. Этот суровый путь Саба ярко изобразил в своем «Путешествии». Так закончилось знаменитое путешествие Сулхана-Саба Орбелиани в Европу.
5
Мы узнали во всех подробностях, как Сулхан-Саба Орбелиани всю жизнь верой и правдой служил царю Вахтангу VI. И Саба в самом деле был добрым гением страны в годы его царствования. Но феодальная оппозиция, происки духовенства и слабохарактерность царя привели к катастрофе. Вскоре, притом совершенно неожиданно, при дворе Вахтанга произошло непонятное событие: последовал разрыв между царем и Сулханом-Саба. «Коварство мира сего отдалило их друг от друга, а любители междоусобий всячески стремились еще более разжечь возникшие между ними разногласия». Гнев Вахтанга был так неистов, что обрушился даже на головы братьев Саба, на весь род столь преданных ему Орбелишвили. А между тем, по словам Саба, ни он, ни его братья ни в чем не были грешны перед царем: «Царя попросту распалили против меня и моих братьев…» Без конца строили козни близкие, казалось бы, Сулхану люди, «им воспитанные или им исцеленные», люди, «заботами о коих и просьбами Сулхан столько раз надоедал царю, что тот, наконец, разгневался». Эти явные и тайные враги забыли о заслугах Саба перед страной, иные из них «подло ему завидовали, обезумев от этой зависти». Поскольку Вахтанг был по натуре вспыльчив и грозен, а к тому же разум людей могущественных легко поддается нашептываниям злых языков, враги Саба легко достигли желаемой цели. Воинствующие церковники-мракобесы, объединившись с политическими интриганами из высших светских кругов, обвинили Саба в ереси, в отступничестве от православия. Против измученного, отчаявшегося в осуществлении своих надежд защитника отечества поднялись все темные силы высшего сословия и духовенства. Великий человек мужественно и стойко сносил клевету, травлю, оскорбления. Но тяжко ранила его неблагодарность царя, которого клеветникам удалось привлечь на свою сторону. Этот трагический момент своей биографии Саба запечатлел в введении к «Калиле и Димне», в трех баснях, в которых мастерски отражены столь угнетавшие его события. Вот что говорится, например, в басне «Про царя и его гончую». У некоего царя была гончая. Честно и преданно служила она своему хозяину, искусно выслеживала и настигала дичь. Царь очень любил ее, холил, баловал, кормил из своих рук. И все же собака не возгордилась, не кичилась царской любовью, делилась пожалованным ей добром со своими близкими. Однако движимые завистью сородичи задумали ее погубить! Они подло оклеветали верную собаку. Поверив клеветникам, царь прогнал любимую гончую со двора. С тех пор прошло немало времени. В стране появилась какая-то диковинная дичь. Царь загорелся желанием добыть ее, но его новым гончим не под силу оказалось выполнить царское желание. Царь опечалился, вспомнилась ему впавшая в немилость гончая, и стал он искать и звать ее. Старая, обездоленная, голодная собака доживала где-то на задворках свой век. Однако, услыхав голос любимого хозяина, она забыла огорчения и обиды, забыла и. про свою старость. Бросилась к хозяину, стала ласкаться, готовая служить по-прежнему, и если понадобится, то хоть жизнь отдать за него. Но поймать эту редкостную дичь у нее уже не хватило сил. Нетрудно догадаться, что в басне «Про царя и его гончую» Саба аллегорически рассказывает о своей судьбе, о своей любви и верности Вахтангу и о недоброжелателях, которые оклеветали его перед царем. Кто же были враги Саба Орбелиани, кто организовал травлю столь известного мыслителя и гуманиста? Одним из них был Иасе, он же Али-Кули-хан, при турках ставший Мустафой. Мы говорили выше, что царь Иасе неприязненно встретил возвратившегося из Европы Саба и питал к нему враждебное чувство как к человеку, преданному Вахтангу. Иасе был жестоким и мстительным человеком, узурпатором престола, коварным врагом Вахтанга. Пытаясь укрепить свое положение и затем захватить власть, он вначале становится шиитом, затем суннитом. Именно Иасе в свое время восстановил против Вахтанга персидский гарнизон в Тбилиси и даже побудил солдат открыто выступить против царя. Он послал шаху донос, обвиняя царя в сожжении корана и вообще в притеснении магометан. В обмен на царский трон Иасе обещал шаху переселить в Иран жену и детей Вахтанга, а также семьи пятисот знатных грузин. Неудивительно, что, воцарившись в Картли, Иасе раньше всего потребовал от Вахтанга немедленного отъезда в Кирман. Однако царствовать Иасе пришлось недолго: он не выполнил взятых на себя обязательств, и шах не только лишил Иасе престола, но выдал его Вахтангу, который в течение трех лет держал свергнутого царя-ренегата в заточении. По истечении этого срока Вахтанг освободил его, вернул ему полностью имущество и пожаловал высокую должность. Однако Иасе не успокоился — он и после этого поражения продолжал свои происки против Вахтанга. По его вине не была осуществлена коалиция Картли и Кахети, что повлекло за собой падение Тбилиси (1723 г.) и окончательное переселение Вахтанга в Россию. После того как турки нанесли поражение персам, Иасе становится вассалом нового господина — турок — и до самой смерти считается правителем Картли. Другим врагом Саба был брат Вахтанга Свимои, которого Вахтанг, уезжая в Иран, оставил в Картли своим заместителем. Воспользовавшись долгим отсутствием царя, Свимон попытался захватить престол. Он создал сильную группу феодалов, поставивших себе целью во что бы то ни стало свергнуть Вахтанга. Заговорщики прибегли к испытанному способу — клевете. Шах решил проверить предъявленные, Вахтангу обвинения и с этой целью послал в Грузию своего приближенного Холофа. Узнав об этом, заговорщики убедили Холофа ходатайствовать о низложении Вахтанга и доложить: Свимон, мол, и знатные вельможи Картли объединились и просят передать шаху: «Мы не желаем Вахтанга, пришли нам Иасе». До прибытия Иасе государственными делами Картли управлял Свимон, который ради личного благополучия не гнушался изменой. Известно, что лезгины весной 1723 года неожиданно осадили Тбилиси. Свимон не предпринял никаких мер к обороне столицы. Он даже не привел впорядок укрепления, содействуя таким образом успеху противника. Не менее ярым врагом Саба являлся глава грузинской церкви католикос Доментий, который видел в нем лишь «отступника от правой веры», не понимая, что все действия Саба диктуются преданностью родине. Добиваясь свержения Вахтанга, заговорщики не могли не ополчиться и против Саба, преданного и близкого царю человека. Воспользовавшись его приверженностью к католицизму, они объявляют беспощадную войну престарелому дипломату. Редкую неблагодарность проявил и молодой царевич Бакар. Если уезжавшего в Европу Саба он провожал со слезами на глазах, то теперь, вместо того чтобы с благодарностью встретить стареющего писателя и государственного деятеля, перенесшего столько страданий ради Бакаровой семьи, царевич отвергает его и принимает участие в недостойных интригах. И так поступает Бакар в то самое время, когда мечта Саба осуществилась, когда Вахтанг снова занял престол, когда Саба по многолетней традиции и личным заслугам должен был находиться возле царя и помогать ему в управлении государством. Однако происходит обратное: против Саба ополчается не только духовенство, но и правящие круги, включая самого Бакара. Чем же была вызвана столь не мотивированная вражда к Саба? Формально — его приверженностью к католицизму. Но ведь других же не карали так строго и не обездоливали за перемену религии. Можно не сомневаться, что борьба против Саба велась не только и не столько во имя разногласий религиозного порядка, но была обусловлена политическими и личными мотивами. Католикос казнил не «заблудшую овцу», а близкого царю Вахтангу человека, сильную политическую личность, угрожавшую интересам заговорщиков. Оппозиция не могла простить Саба того, что он фактически управлял государством, поддерживая и претворяя в жизнь мероприятия Вахтанга. Саба мешал непокорным феодалам, и они решили устранить стража, бдительно оберегавшего престол. «Мою преданность они злостно извратили», — говорит Саба. А поскольку «язык обманет и старого мудреца, а не только неопытного человека», с Саба расправились без суда, даже без какой-либо проверки вражеских измышлений. Очевидно, клеветники хорошо знали, как и чем можно уязвить Вахтанга. Возможно, что Саба приписывалось намерение организовать заговор, к которому он будто бы привлек и своих влиятельных братьев, или нечто подобное, иначе трудно объяснить эту гневную вспышку Вахтанга. Сам Вахтанг, возвратившийся из Ирана в 1719 году, недолго усидел на картлийском престоле. Главной причиной всех его бед было столкновение интересов трех великих государств — Ирана, Турции и России — на территории Закавказья. В период внутреннего распада некогда могущественного Иранского государства Россия стремилась помешать Турции в ее захватнических планах против Закавказья. При этом русские политические деятели использовали поддержку передовых кругов Грузии, ориентировавшихся на Россию. В результате переговоров был разработан план создания сильной объединенной Грузии во главе с Вахтангом VI под покровительством России. Император Петр I сообщил Вахтангу, что считает его главой всех христианских народов Закавказья. 15 июня 1722 года русское правительство объявило о начале военных действий против Ирана. Вахтанг во главе тридцати тысяч бойцов выступил в Ганджу, где в течение трех месяцев ожидал прибытия русских войск, пока царский гонец не привез ему сообщение, что поход откладывается до будущего года. В дальнейшем положение в Закавказье продолжало осложняться. Шах лишил Вахтанга картлийского престола и передал Картли царю Кахети Константину. Следует отметить, что к тому времени Петр I, желая поддержать Вахтанга, перебросил к границам Грузии две тысячи солдат с артиллерией, но помощь эта запоздала: Тбилиси был занят лезгинами-кизилбашами, а затем арзрумским пашой. А в то же время Турция приступила к захвату иранских владений в Закавказье. В таких условиях Россия уже не могла вмешаться и повлиять на ход событий, и Вахтангу пришлось покинуть родину. В июне 1724 года с многочисленной свитой он эмигрировал в Россию, где рассчитывал добиться более основательной помощи для освобождения Грузии. Однако судьба его сложилась иначе — из России он уже не вернулся. Продолжал ли Саба после примирения с царем оставаться его ближайшим советником и, в частности, принимал ли он участие в решении такого важного политического вопроса, как вопрос об ориентации на Россию? По нашему мнению, тот факт, что Саба последовал за Вахтангом в Россию, говорит о том, что он по-прежнему принимал близкое участие в государственных делах. За нашествием лезгин последовало вторжение турок. Грузия была разгромлена. «Страну разорили, — писал Вахтанг Петру I, — все селения вокруг города разорены и постройки разрушены. Множество людей угнано в плен, язык не в состоянии описать наших бедствий. Ведь Кахети вся занята лезгинами». Потерпев поражение, Вахтанг через Гори — Цхинвали — Рачу вместе с двухтысячной свитой направился в Россию. «В Грузии мы больше не могли оставаться, — писал он, — нас бы не пощадили…» Вахтанг желал лично побеседовать с Петром Великим и добиться основательной военной помощи для спасения грузинского народа. В преданной Вахтангу многочисленной свите находился и шестидесятисемилетний старец Сулхан-Саба Орбелиани. Полностью отрезвившись от иллюзорных надежд на помощь со стороны западных держав, Вахтанг прочно и окончательно связал свою судьбу с судьбой Российского государства. В этом решении его поддерживал Саба Орбелиани. Как Вахтангу, так и Саба союз с Россией представлялся единственным надежным путем спасения страны. В составленном Вахтангом списке своей свиты (1724 г.) упоминается «сын князя Саба, его брат Зосиме, оба — монахи-послушники, с пятью слугами и одним сыном азнаура». Еще в 1714 году, будучи в Риме, Саба жаловался на физическую слабость: «Я был стар и болен». Возвращаясь из Европы, он по дороге в Гонию повторяет: «Ведь я был стар и болен». И еще задолго до этого, в 1713 году, в Марселе, его спутника Ришара беспокоили «пожилой возраст Саба» и страх, что он «заболеет от тягостей путешествия». Не может быть сомнений в том, что его физические силы и крепкий организм надломили жестокие условия жизни в определенные периоды: годы подвижничества и аскетизма в монастыре, бедность, гнев царей, наконец весьма трудные путешествия сначала в Европу, затем в Россию. Особенно тяжек был для Саба последний путь из Тбилиси в Москву. Чего стоили шестидесятисемилетнему старику хотя бы перевалы через Кавказские горы, «подобные аду, где шумели быстрые реки и водопады. Как трудно было старикам, женщинам и детям переходить через ледяные бездны, такие бездонные, что даже орел и тот не смог бы взлететь оттуда», — рассказывает один из участников этой экспедиции, Габриел Геловани. Странникам угрожали разбойники, но они не сдавались и упорно шли все вперед и вперед. Только осенью 1724 года достигли они, наконец, Сулакской крепости, где их встретил командующий русским гарнизоном Кропотов. Сразу же по прибытии в Сулакскую крепость Вахтанг решил отправить вперед своего испытанного вестника Саба Орбелиани к императору. Вахтанг прибыл в Сулак 31 августа 1724 года, и уже 12 сентября, то есть почти не отдохнув, Саба спешно выехал в Москву и Петербург по ордеру генерал-майора Кропотова. Не успел Саба покинуть Сулак, как на него обрушились новые испытания. Путь преградили горцы, которые жестоко ограбили старика. В результате этого нападения Саба пришлось голодать и страдать от холода. Русское правительство снабдило Саба средствами для найма восьми подвод, и 20 октября Саба выехал из Астрахани в Москву. Астраханский комендант Митрофанов дал ему в провожатые капрала местного гарнизона Ивана Воробьева. Любопытно, что Саба, как рядовому монаху, выдавали в пути всего по пять копеек «суточных», между тем как сопровождавший его архимандрит получал по двадцать пять копеек. В дальнейшем правительство было информировано, что Саба приходится родственником царю Вахтангу, и после Царицына ему было выдано на питание четырнадцать рублей (на тридцать дней). Саба и его брат Зосиме прибыли в Москву в первых числах ноября. Приехав в Москву, Сулхан-Саба поселился у Да-реджан — последней оставшейся в живых представительницы большой когда-то семьи царя Арчила. Почти с детства Дареджан была оторвана от родины. И только неустанная деятельность по укреплению русско-грузинских отношений, покровительство эмигрантам скрашивало ее печальное одиночество. Остановившись у Дареджан, Сулхан-Саба рассчитывал в ближайшие дни выехать в Петербург с письмами царя Вахтанга. Но он заболел. О поездке в Петербург нечего было и думать. Выпавшие на долю старика испытания оказались свыше его сил. 26 января 1725 года сердце великого грузинского патриота перестало биться. Через два дня, 28 января, скончался Петр I. Сохранилась следующая приписка очевидца на «Словаре» Орбелиани: «Саба скончался в 1725 году, января 26, вечером, в Великой Москве, во Всехсвятском, во дворце Арчила, и был погребен там же в церкви, повелением, иждивением и в присутствии царевны Дареджан». Вахтангу VI не пришлось воздать последних почестей своему воспитателю; оплакать престарелого Саба выпало на долю Дареджан, дочери его любимого дяди Арчила. Всехсвятское[4], где похоронен Сулхан-Саба Орбелиани, стало значительным культурным центром грузинской эмиграции в России. Свою беспокойную жизнь Сулхан-Саба Орбелиани посвятил всю до последнего вздоха делу объединения и возрождения родины. Он подвергался тяжким преследованиям со стороны современного ему общества, которое мстило мыслителю за его политические и литературные взгляды. И, как Данте Алигьери, ему пришлось испытать «горечь чужого хлеба». Он много ездил по свету, видел Испагань, Рим, Париж, Стамбул и Москву — политические центры тогдашнего мира — и нашел место последнего упокоения в московской земле, рядом со своим воспитателем и другом Арчилом, с которым его связывали годы отрочества и юности.
Книга Орбелиани «Мудрость вымысла» поистине достойна бессмертия. Мало того: триста лет спустя после рождения ее автора и двести тридцать шесть после его смерти она как бы переживает вторую свою молодость. Не говоря уже о грузинских изданиях, книга «Мудрость вымысла» вышла в больших тиражах на русском языке, на языках народов СССР, а также на польском, венгерском, английском, немецком и переводится на чешский. Как замысел, так и построение «Мудрости вымысла» чрезвычайно своеобразны. В книге сюжетно объединены басни, параболы, анекдоты, которые рассказывают друг другу царь Финез, визирь Седрак, евнух Рукха, царевич Джумбер и его воспитатель Леон. Этот авторский замысел обусловил не менее своеобразную композицию произведения, которое является одновременно и повестью и сборникам басен. Автор мастерски связывает между собой отдельные звенья, приводя их к органическому единству. Основные текстуальные части «Мудрости вымысла» являются как бы художественными иллюстрациями к тем или иным положениям автора. И в то же время они приобретают вполне самостоятельное идейно-художественное значение. «Мудрость вымысла» — аллегорическое произведение. И хотя действующими лицами отдельных звеньев являются не только люди, но и представители животного мира (как это принято в баснях), читателю ясно, что и в этих случаях речь идет о людях, о представителях различных классов, слоев и прослоек, об их общественных интересах, о характерных чертах их быта. Произведение Сулхана-Саба в первую очередь является яркой политической сатирой. Автор живо и проницательно откликается на общественные события своего времени, и в этом отношении книга «Мудрость вымысла» представляет собой замечательный памятник общественно-просветительного движения. В сборнике ясно видны тенденции, выраженные в иронических замечаниях о царях, феодалах, мдиванбегах и других представителях власти. Сулхан-Саба не щадит никого, начиная с царя и кончая простоватым сельским десятником. Он смело выступает против современных ему нравов. Вспомним, например, иронические слова лисы о правовых отношениях того времени. «Лев, царь зверей, назначил меня верховным судьей» («Человек и змея»), Конечно, это саркастическое замечание приобретает особую цену, если вспомнить, что сложил его не кто иной, как родственник и наследник верховного судьи — мдиванбега. Или же высказывание о царях: «Есть много пастухов, которые лучше плохих царей». Жадным, эгоистичным и жестоким царям противопоставлены простые люди, честные и человечные выходцы из народа. Не только рядовым представителям правящих кругов, но и царям приходится склонять голову перед их мудростью и справедливостью («Царь и живописец», «Дук и дворянин из Бечи», «Бугданский вельможа» и др.). Нетрудно заметить, что все симпатии автора на стороне этих простодушных и морально чистых людей. Он без колебаний ставит их намного выше неразумных и невежественных монархов. Не проходит Сулхан-Саба Орбелиани и мимо социального неравенства, таящего в себе столько зла. Сатирическое перо баснописца не щадит ни коварных и льстивых царедворцев, ни жадных стяжателей-купцов, ни взяточников-судей, ни вероломных посредников, ябедников, лжесвидетелей, клеветников, ни гордых и глупых евнухов, ни мелких сельских управителей (старшин, десятников). Басня за басней, притча за притчей — автор откровенно и резко выступает против господствующей морали. В то же время в произведении отражена и современная ему эпоха — бурное время падения нравов и политических потрясений. Дидактический сборник Саба — порождение эпохи; он целиком направлен против общества, которое уже достаточно разложилось, чтобы ясно стало, какого оно заслуживает приговора. Книга «Мудрость вымысла» — острое жало, беспощадно вонзающееся в язвы больного общественного организма. И все же автор этой обличительной книги не впадает в пессимизм. Для него характерна большая любовь к человеку, к природе. Через все произведение Сулхана-Саба проходит золотой нитью идея победы добра над злом. Глубокую веру в силу добродетели, веру в возможность устройства разумной, счастливой жизни Саба противопоставляет нигилизму физически и нравственно искалеченного евнуха. Саба не только любит человека, но и верит в него и его силы. Горячий патриот, он смело выступает против сепаратистов-феодалов, защищает единство нации. Книга «Мудрость вымысла» по свободной трактовке теневых сторон жизни — явно антирелигиозное произведение, блестящий сатирический памфлет. Как мощное боевое оружие, направленное против реакционных тенденций, книга Саба является уникальным проявлением пытливой мысли далекого XVII века. Сколько яда и иронии скрыто в баснях, обличающих знать и дворянство, церковь и духовенство! Осуждая их, Сулхан прибегает к аллегориям. Грузинское духовенство он выводит в магометанской одежде. Выжившие из ума, одряхлевшие, тупые и блудливые взяточники-кадии, коварные муллы — под их личинами выведены на суд поколений представители грузинской церкви. Разве не являются, например, пародией на непроходимое ханжество духовенства лживые слова лиса: «Всю свою жизнь провел я в грехе, а теперь взялся за ум, отрекся от мира, постригся в монахи и хочу пойти в Иерусалим»? Сатирическое жало Сулхана не знает пощады. «Чем злой мулла лучше свиньи?» — вопрошает он. А чего стоит разоблачение Садра: «Человек такой достойный и святой, что весь народ держится его молитвами… и по слову его бывает дождь и урожай… Вот ой — вор, разоривший этот город!» Или обращение нищего к богу: «Поистине ты полон милосердия, но ничего не. даешь человеку, пока не заставишь его заплатить своей кровью». Легко себе представить, какие негодующие отклики должен был вызвать саркастический тон этих замечаний в монастырско-схоластических кругах. Несмотря на преследования, которым раньше или позже должна была подвергнуться книга «Мудрость вымысла», она стала одной из популярнейших книг грузинской общественности XVIII века. К тому же книга эта — подлинно художественное произведение, написанное простым, ясным разговорным языком. Сулхан-Саба Орбелиани не только черпал творческий материал (например, сюжеты) из сокровищницы народной поэзии, но и учился меткому, образному народному языку. Сознательно отказавшись от искусственной церковнокнижной традиции, он внес неоценимый вклад в развитие и утверждение новогрузинского литературного языка. Таково бессмертное творение большого просветителя и гуманиста Сулхана-Саба Орбелиани.
Н. Челидзе ПАТАРА КАХИ

История Грузии писалась кровью. С древнейших времен через эту страну, вклинившуюся между Азией и Европой, проходил единственный торговый путь в края фантастических богатств — сказочную Индию, в жестокий Иран и цивилизованный, мудрый Китай. Этой дорогой пользовались эллины и римляне, византийцы и итальянцы, скандинавы и русские. Большие природные богатства, здоровый климат, выгоднейшее географическое положение делали Грузию приманкой для разного рода завоевателей. За нее с одинаковым ожесточением дрались персы и византийцы, арабы и монголы, турки и горские племена. Отвага и доблесть грузинского народа, его страстное стремление к свободе и независимости, позволили ему сохранить свою родину. Среди ее деятелей, боровшихся за физическое существование Грузии, одно из почетнейших мест занимает Ираклий II, или, как его называли за небольшой рост, Патара Кахи — Маленький Кахетинец. XVIII век был одним из самых кровавых в истории Грузии, и герою Аспиндзы и Крцаниси пришлось нести свой венец, как тяжелый крест по Голгофе грузинской истории. Каждый грузин с малых лет знает, кто такой Ираклий — человек необычайной энергий, который в сутки отдыхал всего лишь четыре-пять часов. Все свое время он занимался государственными делами. Часто он даже не успевал пообедать или поужинать — приходилось молниеносно надевать кольчугу, садиться на арабского скакуна, чтобы изгнать лезгинские банды из. ближайших селений, которые утром нападали на Дигоми, а вечером появлялись в Табахмела[5]. Он до глубокой старости был не только полководцем, но лично возглавлял даже малочисленные отряды, отражавшие набеги горских племен. Половину своей долгой жизни он провел на поле брани: ночевал на голой земле, и единственная роскошь — седло служило ему подушкой. Чиновники Ираклия, по обязанности сопровождавшие его везде и всюду, больше двух лет не могли выносить тревожную и мятежную жизнь своего царя. Война, защита своего отечества от бесчисленных врагов являлись для Ираклия обычной ежедневной работой. Так прожил он все свои восемьдесят лет. Русский генерал Павел Потемкин (двоюродный брат знаменитого екатерининского вельможи) в своих воспоминаниях рассказывает о нем: «Царь Ираклий среднего роста, характер у него горячий. Во время беседы смотрит из-под нахмуренных бровей, может быть потому, чтобы уловить выражение лица собеседника. Чуть сутулый — ему уже шестьдесят два года, но он еще вполне бодрый. Царь Ираклий принадлежит к тому числу людей, которые отвечают так, что этот ответ можно принять и как согласие и как отказ. Это человек необыкновенного ума, с редким терпением и удивительно энергичный. Почти все ночи он бодрствует, не спит, ибо сам лично руководит всеми государственными делами. Прекрасно разбирается в азиатской политике, в этой области имеет большой опыт. Старается дать своему народу передовое образование, по-европейски устроить его жизнь». Таков беглый портрет этого интересного человека, воина и патриота. Чтобы глубже разобраться в его жизни и в современной ему эпохе, необходимо перелистать страницы исторического прошлого Грузии… Грузия с древнейших времен искала дружбы и сближения с единоверной Россией. Именно поэтому еще в XII веке царица Тамар вышла замуж за русского князя — Юрия Боголюбского. С течением времени эта тяга к сближению становилась насущно необходимой. Особенно после падения на Западе христианской цитадели — Византии и усиления Османской Турции. Маленькая Грузия теперь уже со всех сторон была окружена врагами, и, естественно, она искала союза с единоверной страной, чтобы сохранить свою национальную независимость и государственную власть.
…На портрете неизвестного европейского художника царевич Ираклий, дед Ираклия II, изображен в костюме русского боярина, с длинными волосами и жезлом в руке. Он не похож на воина. Как видно, главным достоинством предка Ираклия II была его внешность — красивая, представительная и полная обаяния, что в феодальную эпоху давало человеку больше преимуществ, чем, например, сегодня. Происхождение этого портрета объясняется так: царевич Ираклий жил и воспитывался при дворе русского царя Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Когда после пятидесяти лет тяжелой героической борьбы царь Теймураз I был вынужден поехать в Иран, где он и умер в 1663 году пленником в Астрабадской крепости, его внук царевич Ираклий вернулся из России, чтобы вступить на престол, по закону принадлежащий ему. Но Ираклию пришлось скрываться в горах в Тушети, ибо страной фактически правили тогда ставленники персидского шаха — Шах-Наваз (Вахтанг V) и его сын Арчил. Останки царя Теймураза, привезенные из Астрабада, покоились в Крцаниси. Чтобы привезти их в Аллаверди и предать земле, царевич Ираклий пошел войной с отрядом горцев против незаконного царя. Этот неравный бой хорошо описан в парижских хрониках, тех времен. Царевич Ираклий потерпел поражение и опять временно поселился в Тушети, а его мать царица Елена укрылась в Торгской крепости. Шах-Наваз осадил крепость, но в течение семи месяцев не мог ее взять. Осажденные находились в ужасающих условиях: голодали, болели, умирали, но не сдавались. Когда положение крепости стало угрожающим, царица пошла на хитрость: она переоделась в одежду простого кахетинского крестьянина, а ее преданный тушинец Бацашвили тайно выбрался из крепости, подполз к вражескому караулу и поднял шум. За ним погнался отряд. В это время переодетая царица с двумя спутниками благополучно вышла из крепости и пешком ушла в Тушети. Бацашвили поймали, привезли к Шах-Навазу, пытали, требуя, чтобы он указал местонахождение бежавшей царицы. Большой отряд воинов следовал за связанным по рукам Бацашвили, а тот, как Иван Сусанин, повел их по совершенно другому направлению. Когда отряд присел передохнуть под одной высокой скалой, пленник упросил стражу немножко ослабить веревки. Как только это было сделано, он высвободил руки, раскидал сидящих рядом стражников, спрыгнул со скалы и бежал. Эту зиму царевич Ираклий и его мать-царица провели в Тушети в жилищах простых пастухов. Борьба против Шах-Наваза и Арчила не принесла желаемых результатов, и царевич был вынужден поехать к шаху Ирана, чтобы вернуть себе наследственные права. У Парсадана Горгисджанидзе интересно описан прием иранским шахом грузинского царевича: «В Казвинский дворец кахетинского царя сопровождала многочисленная свита приближенных. Шах распорядился принять царевича с царскими почестями; по его приказу все население Казвина вышло навстречу высокому гостю. Так вступил во дворец царевич Ираклий со своей свитой. Все они были одеты в грузинские одежды. Молодые витязи — прекрасные и осанистые, но лучше всех выглядел сам царевич: ростом он был выше остальных, хорошего сложения и осанки, на его лице только что пробивались усы и борода… Шах три раза подзывал его К себе и расспросил о русском царе, о том, как царевич проводил время при русском дворе, расспрашивал вообще о русских… Поинтересовался, как он путешествовал… Шах очень полюбил царевича и приблизил его». Все это объясняется тем, что Иран находился на ч пути к упадку, он уже не мог, как прежде, вести бескомпромиссную агрессивную политику. Для Ирана особое значение имело Кахетинское царство. Достаточно ознакомиться с историей Грузии, чтобы убедиться, что это так. Без Кахети невозможно было владеть сердцем Грузии — Тбилиси. Через несколько лет пребывания в Иране царевич Ираклий вернулся царем Кахети и под именем Назарли-хана взошел на престол. У него было трое сыновей — Давид, Константин и Теймураз. Последний — отец героя нашей повести Ираклия II. Но об этом ниже, а пока бегло ознакомимся с историей Картлийского царства того времени. На картлийском троне — просвещенный и широкообразованный Вахтанг VI. За свое короткое трагическое царствование он попытался направить Грузию на путь национального возрождения и много сделал для экономического и культурного возрождения страны. Вахтанг распорядился собрать ранее действовавшие в Грузии законы и создал Великий кодекс. Законы этого кодекса отличались тем, что были свободны от магометанского влияния и являлись продуктом переработки греческого, армянского и грузинского права. Он запретил торговлю пленными, обновил оросительные каналы, построил новые деревни и города, основал небольшое наемное войско. По его инициативе были собраны все памятники-летописи и написана история Грузии. В Тбилиси была основана типография, где под его редакцией вышло первое печатное издание «Витязя в тигровой шкуре». Но Вахтанг VI знал, что его реформаторская деятельность окажется безрезультатной, если он не получит поддержки сильного христианского государства в борьбе против соседних магометанских империй. И поэтому, когда дипломатическая миссия посланного им Сулхан-Саба Орбелиани во Францию и Рим не принесла желанных результатов, он согласился с предложением Петра Великого и заключил с ним военный союз. Таким образом, Вахтанг Багратиони продолжил политическое направление, которое было начато кахетинскими Багратиони в XVI веке. Поэт Давид Гурамишвили так описал установление военного союза между Вахтангом VI и Петром Великим. «…Однажды вечером на веранде своего дома сидел в одиночестве царь Вахтанг. Он, как всегда, думал о судьбах Грузии. Ему было грустно — безысходное горе овладело страной. Вдруг он заметил незнакомого человека, который как бы подпрыгивал, двигался по широкой лестнице дворца. Оказывается, это был посланец императора. Он привез письмо от Петра. Русский царь предлагал военный союз против магометанских государств. В честь посланца был устроен торжественный прием в чудесном дворце Вахтанга с беломраморными колоннами, с фонтанами и зеркальной анфиладой. Когда зажгли свечи в хрустальных подсвечниках, казалось, что весь зал горит, как бы объятый огнем». (Этот дворец в 1725 году был разрушен турками.) Вахтанг с большим грузинским войском ждал Петра I, который к этому времени уже занял Тарк, Дербент и Баку, у Гянджи. Император готовился к походу в Индию. Но внутренние и внешние политические обстоятельства не дали ему возможности осуществить свое намерение. Русские войска вернулись на родину. Вахтанг остался во вражеском кольце: с одной стороны на него напала султайская Турция, а с другой стороны — иранский шах. А вскоре грузинский царь был вынужден уехать со своими приближенными в Россию. Таково было положение в Грузии, когда юноша Патара Кахи готовился принять корону грузинских царей. Его отца, Теймураза II, по политическим соображениям, в целях объединения Грузии и сближения двух ветвей династии Багратионов, еще в юности женили на дочери царя Вахтанга VI — Тамар. 7 ноября 1720 года в Телавском дворце у них родился сын. В честь дедушки ему было дано имя Ираклий. В жестоких условиях провел свое детство будущий царь объединенной Восточной Грузии. Но эти трудности, как это свойственно людям больших человеческих достоинств, не сломили его, а, наоборот, выработали в нем железную волю и выносливость. Грузинские царевичи с малых лет получали спартанское воспитание: жили в суровых условиях среди простого народа, обучались верховой езде (вскакивать на коня надо было без помощи рук), стрельбе из лука, игре в мяч, метанию копья, а также военному делу. Так воспитывались не только царевичи, но и дети дворян, князей и азнауров. Помимо спортивной и военной подготовки, они получали широкое всестороннее образование: изучали философию, литературу, астрономию, логику, риторику, экономику, теологию и т д Знакомились они также с античной философией эллинов и римлян. Такое же воспитание получил царевич Ираклий, несмотря на то, что все свое детство вместе с родными он провел в крепостях, скрываясь от многочисленных внутренних и внешних врагов. Друзьями маленького Ираклия были дети крестьян, пастухов и ремесленников. Вместе с ними царевич занимался фехтованием, охотой, ловил рыбу, гонял мяч, ездил верхом. И народ уже тогда сложил о нем стихи:
(Перевод В. Черняка)
* * *
Надир-шах был почти на тридцать лет старше Ираклия. Он попал в Иран из далекой Туркмении и, по утверждению летописцев, происходил не то из пастухов, не то из семьи простого ремесленника. Но благодаря своему уму и твердости характера он еще в молодости стал вождем племени. У него был врожденный талант полководца, и поэтому персидский шах назначил его главнокомандующим всех вооруженных сил одного из сильнейших мусульманских государств — Персии. Надир-шах всегда находился в первых рядах своих войск и вместе с ними переносил все невзгоды и трудности. Он был жесток, но справедлив и после победы широко одаривал каждого воина. Надир-шах справедливо считался большим стратегом. Остроумными хитростями, ложными отступлениями, обходом вражеских позиций с флангов, ударами с тыла он вынуждал врага к бегству. Так же, как впоследствии Наполеон, Надир-шах составлял перед боем короткие, вдохновляющие прокламации для поднятия духа армии и успокоения народа. Когда Надир-шах во главе персидского войска вторгся в пределы Кавказа, цари Картли и Кахети Теймураз и Ираклий, трезво оценив обстановку, примкнули к этому полководцу, вышедшему из народа, считая, что он избавит Грузию от набегов турок и лезгин. Народ и дворянство поддержали своих царей. Но Надир-шах лишь частично оправдал эти надежды. Да и трудно было ожидать большего от человека, на серебряных монетах которого были выбиты слова: «Пусть миру будет известно о начале царствования его будущего завоевателя». Вскоре Надир-шах по наущению врагов Грузии вызвал к себе Теймураза. Шах не причинил ему вреда, но потребовал, чтобы царь привез из Грузии своих детей — сына Ираклия и дочь Кетеван.
 Ираклий II
Ираклий II
 Георгий Саакадзе.
Георгий Саакадзе.
 Ладо Гудиашвили. Портрет Сулхан-Саба Орбелиани.
Ладо Гудиашвили. Портрет Сулхан-Саба Орбелиани.
 Ладо Гудиашвили. Портрет Давида Гурамишвили.
Ладо Гудиашвили. Портрет Давида Гурамишвили.
Теймураз II, как и его предок Теймураз I, был неплохим поэтом, и свое горе он с болью описал в следующих стихах:
(Перевод В. Черняка)
* * *
Молодой Ираклий получил разрушенное царство. Нужно было принять срочные, неотложные меры, чтобы спасти страну от гибели, народ от полного вымирания, государство от уничтожения. Самым страшным бичом была торговля людьми, достигшая необычайных размеров, в особенности в Западной Грузии: в Гурии, Мегрелии, Имерети. Невольничьи рынки Стамбула и Алеппо, Багдада и Тегерана вели оживленную торговлю пленными юношами и девушками из Грузии. Из молодых грузин в султанской Турции было создано знаменитое войско янычар. Гаремы шаха и султана, ханов и мусульманских правителей были полны красивыми грузинками. Крестьянин не мог спокойно обрабатывать землю — стоило ему появиться на своем поле, как его хватали воины собственных князей, не говоря уже о лезгинах, турках и персах. Не брезгали даже стариками. Кого не могли продать — убивали, бросали в реку. В течение тридцати лет Ираклий II потратил четыреста тысяч рублей для выкупа грузинских пленников. Но их число было так велико, что казны самого богатого государства не хватило бы на выкуп всех страдальцев. Нищета и голод приняли угрожающие размеры. Отец продавал сына, брат — сестру, чтобы прокормить семью, детей. В первую очередь Ираклий попытался улучшить положение крестьян, спасти от гибели народ. Он постарался смягчить жестокое крепостное право, по которому все имущество крепостного принадлежало феодалу-владетелю. Вместе со своим отцом Ираклий II в 1748 году основательно реорганизовал высший судебный орган и во главе его поставил одного из своих соратников, Мзечабук Орбелиани, знатока древней и современной философии, ученого и ритора. Нужно было прекратить междоусобную войну в стране, защитить ее от внутренних и внешних врагов. Крепости Нарикала и Метехи стоят, как витязи Голиафы, как посланцы истории, и украшают старую часть Тбилиси. С древнейших времен защищали они столицу Грузии от бесчисленных орд завоевателей. Но тогда, в середине XVI века, они находились в руках врага и превратились в орудия порабощения и гнета Грузии. Ираклий освободил их от врагов и возвратил грузинскому народу. В честь этого народ вырезал на стене Метехского собора благодарственные строки:
(Перевод В. Черняка)
* * *
Молодые влюбленные, дочь владетельного князя Гиви Амилахвари и двоюродный брат Ираклия — Теймураз, сидели на веранде летнего дворца князя Амилахвари в деревне Чала, развлекаясь игрой в нарды, когда подкрались к ним посланные Надир-шахом стражники. Они увезли в шахский гарем красавицу княжну. Вскоре после этого убитый горем Теймураз ушел в пустынь Давида Гареджи и постригся в монахи. Впоследствии этот монах стал писателем и общественным деятелем под именем католикоса Антона I. Католикос сыграл огромную роль в части просвещения и культурного развития страны. Политический деятель с широким горизонтом, он обладал железной волей и ясным разумом. Своей государственной и литературно-научной деятельностью Антон способствовал не только упрочению власти Теймураза и Ираклия, но и ослаблению влияния персидской культуры, возврату грузинского народа к своим национальным традициям. Ираклий II не был счастлив в семейной и личной жизни. После смерти своей жены Анны Абашидзе он женился на дочери князя Дадиани — Дареджан. Это была очень ограниченная и тщеславная женщина; в свои молодые годы она не вмешивалась в государственные дела, но в старости своими интригами могла посоперничать с кем угодно, особенно после того, как возмужали ее тщеславные и непослушные сыновья. Но у Ираклия был преданнейший друг, соратник и единомышленник — католикос Антон I, которого царь называл не иначе, как братом. Их идеи и мысли были настолько родственны и близки, что порою казалось: они исходят от одного лица. Первое, что сделали Ираклий и Антон, — это восстановили типографию, которую еще Вахтанг VI привез из румынской Валахии и которая была закрыта после его отъезда в Россию. В течение двух лет было напечатано семь тысяч четыреста различных книг — огромный тираж для того времени! В народе пробуждается интерес к европейской философии и науке. Сыновья аристократов едут в Россию для овладения военным искусством и для изучения разных наук. В списке приданого грузинских девушек наряду с «Витязем в тигровой шкуре» и другими поэмами числятся равные философские книги. Русский офицер, побывавший в те времена в Грузии, пишет: «Грузинские девушки из благородных семейств хорошо образованны и начитанны». В 1755 году по инициативе Антона I в Тбилиси была основана философская семинария. Первым ее ректором царь назначил просвещенного священника Филиппа Кайтмазашвили, армянина по происхождению, прекрасно знавшего грузинский язык, «доктора философии», друга католикоса и сотрудника его по составлению учебника философии. Он много сделал для воспитания грузинской молодежи. Сам Антон I составил учебник первоначальной грузинской грамматики. Когда умер царь Картли Теймураз, Ираклий стал единым царем Восточной Грузии. В 1772 году с сыном Ираклия царевичем Леоном Антон поехал в Петербург и благодаря своей дипломатической прозорливости подготовил заключение трактата, в силу которого Картлийско-Кахетинское царство, становилось вассальной частью Российской империи. К этому времени в Грузию вернулся незаконный сын царя Вахтанга VI — царевич Паата. Он получил образование в Англии и путешествовал по странам Западной Европы. Владетельные князья и дворяне, недовольные крутой и демократической политикой царя Ираклия, сде-лали царевича Паата знаменем своего заговора. Но заговор был раскрыт их слугами, людьми из простого народа, которые были преданы Ираклию. Для абсолютистской, централистской политики Ираклию не хватало твердой экономической основы: промышленность и торговля пришли в упадок, страна была разорена бесчисленными войнами. Если сравнить описания Тбилиси того времени иностранными путешественниками Шарденом, Турнефором и Гульденштедтом, то мы увидим, как неузнаваемо изменился облик страны в течение одного века. Шарден в 1671 году считал Тбилиси одним из лучших городов Востока. Он был изумлен его дворцами, садами, базарами, магазинами и палатами. А через тридцать лет француз Турнефор описывал одни только развалины этого города. Немецкий путешественник Рейнекс так описывал Картли того времени: «Иберия — это уже не страна, которую с восторгом описывал греческий историк Страбон, говоря о прекрасных и богатых городах, о мраморных дворцах и богатых форумах, где можно было достать все, что пожелает человек; о богатой и зажиточной жизни грузин. И вот сегодня лезгины, тюрки, персы и монголы превратили эту страну в пустыню. Народ Грузии думает только об одном — о мире». В такую пору царствовал Ираклий, и он всячески старался вывести страну из разрухи и нищеты. Он строит фабрики, способствует развитию торговли, земледелия. На его медной монете изображение весов — символа справедливости. Но все труднее и труднее приходится ему. Присоединение к России стало единственным путем к спасению страны. Грузинский народ, испытавший за свою историю столько горя из-за агрессивных вожделений Ирана и Турции, испытывал естественные чувства дружбы и доверия к великому северному соседу. Союз с Россией отвечал историческим чаяниям народа. Ираклий был уверен в поддержке народа, когда обратился к России за военной помощью. Легендарная слава полководца, которая сопровождала Ираклия, создала в России преувеличенное представление о военной мощи Грузии. Может быть, этим и объясняется то обстоятельство, что в 1769 году из России был прислан экспедиционный корпус в составе только одного пехотного полка, около тысячи конных карабинеров, гусар, донских казаков и калмыков, а также артиллерия в составе двенадцати пушек. Командовал корпусом бездарный полководец граф Тотлебен, не» владевший ни русским, ни грузинским языками, человек с авантюристическими наклонностями, с подозрительным и темным прошлым. Войска Восточной и Западной Грузии, подкрепленные русским экспедиционным корпусом, готовились к походу против турок. Но во главе войск стояли два полководца, и это портило все. Бездарной стратегии графа Тотлебена Ираклий противопоставил блестящий план военных действий. Он предлагал прежде всего с трех сторон (Сурами, Садгери и Ацкури) идти на Ахалцих, к главной турецкой цитадели в Грузии, а не по Черноморскому побережью, как это предлагал граф. Со взятием Ахалциха русско-грузинское войско получало сразу большое преимущество — город тогда являлся значительным политическим и экономическим центром. Потеряв Ахалцих, враг терял возможность наступления на Имерети и Картли. А русско-грузинскому войску открывался путь к Артаани и Карсу. Первоначально этот план Тотлебен одобрил, но испугался при первой же трудности — осаде Ацкурской крепости и со своим войском отступил. Никакие уговоры не подействовали. Ираклий остался один лицом к лицу с врагом. Объединенное турецко-лезгинское войско решило перерезать путь отхода Ираклия у Аспиндзы. Но царь не дал им опомниться — Он перешел в молниеносное наступление и разбил врага. Эта блестящая победа (1770 г.) вошла в военную историю под названием Аспиндзской битвы. Враг потерял больше половины своих войск. Ираклий собственноручно убил полководца Кохта Белади. Но никаких политических выгод не получила Грузия после этой победы. Наоборот, еще больше усилилась опасность новых нашествий мусульманских орд. Зато засияла полководческая слава Ираклия, и не только в Азии и России, но и в Западной Европе. О нем было напечатано множество известий и статей в тогдашних европейских и русских журналах и газетах. Известный немецкий драматург и критик Лессинг в своей пьесе «Мина фон-Барнхельм» сказал об Ираклии, что «он неустрашимый герой, который согнул Иран и не сегодня-завтра займет Турцию». Русский историк Бутков писал, что «царь Ираклий своим блестящим умом, личной духовной бдительностью, смелостью поднял на такую высоту Грузию, что о ней заговорили во всем мире…». Особый поверенный российского правительства Языков писал, что «царь Ираклий способный полководец, он ходит всегда с ружьем и в боях вдохновляет грузинское войско личным примером геройства и отваги — он с обнаженной шашкой первым врывается во вражеские ряды». В создавшейся обстановке огромное значение имел идейно-политический и организационный союз, установленный в эти годы царем Ираклием с армянами и с другими соседями. Деятель армянского национального движения Иосиф Эмин родился в Индии, но еще в юности переселился в Лондон. Там он получил европейское образование и заинтересовал судьбой своей родины английских политических деятелей. Но как трезво мыслящий человек он скоро убедился, что без грузинской помощи невозможно было говорить об освобождении Армении. В 1758 году Эмин из Лондона писал Ираклию: «Твое имя услышал в Индии, но только в Англии узнал о твоих победоносных делах». Впоследствии он лично встретился с Ираклием. Интересны его записи: «…Царь Ираклий ниже среднего роста. Его смуглое лицо покрывается то зеленым, то желтоватым цветом; он хорошо сложен, силен духом и телом. Беседовать с ним так же приятно и поучительно, как с ученым английским джентльменом. Он лишен всякой горделивости, надменности, принужденности и заносчивости, столь характерных для других азиатских государей; он обладает большим остроумием и никогда не хвастается; его голос так мелодичен, что кажется голосом ангела». «Однажды Ираклий вместе со своим священником Тер-Филипе пригласил меня в Телавский дворец, продолжает Эмин. — Во время беседы он сказал, что после того, как два братских народа — грузины и армяне — разошлись в части религиозной догматики, они оказались в одиночестве и попали под иго неверных. Нужно им объединиться. Это необходимо…»
Ираклий потерял надежду получить военную помощь извне и начал вводить военную реформу, создавать регулярную армию, наподобие армии России и европейских стран. Основал военный завод. Выработал воинский устав, ввел закон о воинской повинности. И все эти нововведения внес на обсуждение и утверждение совета старейшин. Но несчастье, как неусыпный враг, стерегло этого железного человека: погиб его самый талантливый из шестнадцати детей — царевич Леон. Был вскрыт новый заговор Заала Орбелиани. Вслед за этим еще один заговор — царевича Александра. И вот наступило относительное спокойствие. Наладились отношения с Турцией. Ираклий ведет переписку с виднейшими в то время государственными деятелями Европы. Его окружают умные и блестящие сыны Грузии: Гайоз, только что вернувшийся из России; ученый-философ Соломон Леонидзе — двадцатитрехлетний канцлер царя; Давид Орбелиани, бургомистр Тбилиси и литератор, поэт Саят-Нова; актер Мачабели. Но Ираклий хорошо знал, что это затишье перед бурей, и стремился во что бы то ни стало, несмотря на сопротивление даже некоторой части своих приближенных, завершить дело присоединения к России. И он завершил свой замысел, который считал делом всей своей жизни. В 1783 году, 24 июля, в крепости Северного Кавказа в Георгиевске между Российской империей и Картлийско-Кахетинским царством был подписан трактат. По этому трактату картлийско-кахетинский царь отказывался быть в вассальной зависимости от Ирана либо какого-нибудь другого государства и вступал под защиту России; Грузия отказывалась вести самостоятельную внешнюю политику, а цари грузинские, вступая на престол, получали от русского императора инвеституру. Заключение трактата вызвало смятение в лагере мусульманских государств, — они считали это ударом ножа прямо в сердце; они чувствовали, что с появлением новой сильной Российской империи их господству приходит конец. Османская Турция ничего не могла предпринять, она готовилась к защите своих границ от русской армии, но зато Иран… После смерти Керпи-хана Зендского в Иране началась гражданская война. Шахским троном завладел Ага-Магомед-хан. Его отца убили когда-то по приказу Керпи-хана. Ага-Магомед-хана кастрировали еще в детстве. Это был энергичный, тщеславный и просвещенный в священном писании человек. Личная трагедия обозлила его и сделала человеконенавистником. Узнав о заключении трактата, он пришел в ярость и призвал все мусульманские царства объявить грузинам газават — священную войну. «Уничтожить эту кучу грузин, как каменщики разрушают старое здание», — выбросил он клич. С огромным войском двинулся Магомед-хан на Грузию. Против отлично вооруженной тридцатипятитысячной армии персов Ираклий мог выставить только пять тысяч человек. Но иного выхода не было, нужно было дать бой. Знаменитый Крцанисский бой на подступах к Тбилиси останется в истории Грузии как одна из самых героических страниц. Почти все грузины-воины пали в бою. Героически погибли поэт Саят-Нова и актер Мачабели. Сам Ираклий со ста пятьюдесятью воинами — все, что осталось от пятитысячного войска, — заперся в городе. Но больше половины вражеского войска было уничтожено. Ага-Магомед-хан, отчаявшись, что не сумеет взять Тбилисскую крепость, уже собирался к возвращению в свою неспокойную страну. Но на помощь ему пришла измена. Кто-то предательски открыл ему городские ворота, и столица Грузии была предана огню и разгрому, население — поголовному уничтожению. Огонь, слезы, смерть и ужас овладели народом. Уничтожив Тбилиси дотла, Ага-Магомед-хан вернулся назад. Все эти трагические события с большой художественной силой изложены в поэме Николая Бараташвили «Судьба Грузии», написанной в 1839 году. В приведенном отрывке дается беседа Ираклия со своим канцлером Соломоном Леонидзе:
Н. Микава ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ
Как объяла ночь меня, — Так и утро озарило.Д. Гурамишвили

Великий грузинский поэт, углубивший и расширивший народно-национальные традиции грузинской поэзии, певец, ученый, гуманист и патриот, провозвестник дружбы народов, с именем которого тесно связана демократизация грузинской поэзии, — таков этот философ и воин, чья необычайная жизнь легла поэтической Одиссеей на кровавые страницы восемнадцатого столетия. Гурамишвили еще в начале прошлого века стал любимым поэтом народа, его стихи знали наизусть даже совершенно неграмотные люди. Книга его «Давитиани» заменяла в Грузии букварь. Каждая мать перед началом учебы напутствовала своего ребенка словами Давида Гурамишвили:
* * *
Послушаем самого поэта[6]: «…Много десятков лет прошло с тех пор, Малороссия стала моей второй родиной… А свой родной край все же не могу забыть… Вижу горы, вершинами уходящие в небо, любимый Арагви. На груди всегда ношу горсть моей земли, земли Картли, моей многострадальной и измученной родины. Эх, судьба, судьба!..
(Перевод В. Черняка)
(Перевод В. Черняка)
* * *
В конце 1729 года Давид Гурамишвили явился ко двору царя Вахтанга VI. В Москве проживала многочисленная грузинская колония. Благодаря знатному происхождению и поэтическому таланту Гурамишвили занял в ней видное место. Двадцатипятилетнего Гурамишвили царь назначил «оружейным надзирателем» в своем Московском арсенале. Это доверие означало многое: Вахтанг готовился к походу против врагов своей родины и не мог поручить арсенал случайному человеку. «…В граде московском ждали мы солнца…» — говорит поэт. Но где, в каких районах, на каких улицах жили тогда эмигрировавшие с родины грузины? На старой Мясницкой (ныне улица Кирова) стояло Рязанское архиерейское монастырское подворье. В 1678 году на этом месте был устроен первый военный госпиталь. Во времена Петра I здесь находилась секретная канцелярия; когда Вахтанг VI приехал в Москву, это подворье передали ему, и отныне там находилась его резиденция. А многочисленная свита Вахтанга, около двух тысяч человек, разместилась по обоим берегам речушки Пресни, которая с начала XX века заключена в подземные трубы. Здесь и жили грузинские эмигранты, мечтая об освобождении своей родины. Ныне здесь улицы — Большая и Малая Грузинская. В начале XVIII века здесь была деревня Воскресенское. После того как Петр выдал грузинам строительный материал для постройки новых домов и десять тысяч рублей, поблизости, на том месте, где сейчас находится зоопарк, выросла Грузинская слобода. Жили грузины и в селе Всехсвятском (ныне район Новопесчаной улицы). Это село Петр подарил своему любимому другу — Александру Арчиловичу Багратиони. После смерти Александра оно перешло к Вахтангу VI и его сыновьям. Грузины в Москве пользовались особыми привилегиями. В их дома не вселяли солдат, их не могли привлекать на государственную службу без соответствующего приказа грузинского царя. В Москве Давиду Гурамишвили не трудно было устроиться еще потому, что в то время его старший брат, Христофор Гурамишвили; был организатором грузинской типографии, он непосредственно руководил изданием библии на грузинском языке, печатал в Москве и Петербурге учебники. Христофор принимал деятельное участие в литературной жизни России, и вполне понятно, что младший брат мог около него многому научиться, расширить и обогатить свой умственный горизонт. Давид с головой ушел в службу, учебу, был занят общественной деятельностью, а свободное время полностью посвящал поэзии. Жизнь опять обрела свои прелести, свое значение, она стала вновь приятной и желанной. Вахтанг не забывал исконных традиций грузинских царей. При его дворе часто устраивались меджлиси — торжественные приемы, на которых читали стихи, пели, играли. Послушаем самого поэта: «…Который месяц я уже здесь, и мне все не верится, я ли это, не во сне ли я… Вдруг перед глазами промелькнет Усункул и камышовые заросли, дагестанские пустыни и страшная яма, невольничьи рынки и безропотное рабство… Но это только на мгновение… И я опять здесь, среди своих, занимаюсь оружием и своим конем, арсеналом и книгами… Пишу стихи… Царь узнал о моих стихах сейчас же после моего приезда. Призвал меня, велел прочесть и слушал так внимательно, что мне стало даже неловко. Неужели так интересно слушать мои стихи после того, когда он ночами сидит над божественным творением Руставели?! — Скоро у нас будет меджлиси, — сказал царь, — устроим турнир, шаироба… Слова царя взволновали меня, я почувствовал страх. — А не будет ли это дерзостью с моей стороны, Мепео[9], — ответил я еле слышно. — Дерзать необходимо не только на поле брани, но и соревнуясь с Джавахишвили… Да, я знаю этого Джавахишвили с исхудалым лицом и тощим телом, но я не думал, что он пишет стихи… Ну что же, соревноваться так соревноваться… …Наступил день Надими[10]. Недалеко от Кремля находился дворец Вахтанга — беломраморное здание. В этот вечер он как бы утопал в огнях — тысячи свечей горели в хрустальных подсвечниках. Гостей прибывало все больше и больше: здесь были лучшие люди из грузинского царства, вся знать Москвы… Наступил момент состязания. Сказать правду, я немножко боялся и волновался, но скрывал свое настроение и крепился. Сначала выступил Джавахишвили, его появление встретили аплодисментами… Читал он великолепно, да и стихи были хорошие… А я сидел забытый в углу и вдруг услышал, как назвали мою фамилию. Все повернулись ко мне — моя фамилия им ничего не говорила, но все же с любопытством оглядывали меня. Я начал читать. Сначала невнятно, но постепенно я оправился, голос зазвучал свободнее, сильнее; я читал как бы для близких друзей и видел, что все слушают внимательно, доброжелательно. Теперь я ни о чем не думал: я весь был во власти поэзии… Кончил читать. Царила тишина… И только через минуту раздались хлопки, возгласы одобрения, а еще через час объявили, что я победитель. Царь Вахтанг собственноручно надел мне на голову лавровый венок… Но мы приехали сюда не для того, чтобы устраивать поэтические турниры, шаироба, не для меджлиси проделали мы путь, длившийся год. Наше веселье— одна только видимость, минутное забытье между отчаянием и ожиданием…» Царь не сидел сложа руки. Он вел деятельную переписку с Картли. Благодаря ей он был в курсе событий своей страны и всей Азии. А в политической жизни Азии происходили бурные события — наконец началась война между Турцией и Ираном, Россия решила воспользоваться этим случаем, чтобы пойти войной на Турцию. Радости Вахтанга не было границ. Он вернулся в Москву и со своим сыном Бакаром начал готовиться к походу. Горячо откликнувшись на добрую весть, Гурамишвили написал свое новое стихотворение — «Мы ждали солнца в Москве». В течение месяца московские грузины построили шесть лодок, спустили их на Волгу и поплыли вниз по великой русской реке к каспийскому побережью. Гурамишвили сопровождал Вахтанга как воин и как начальник амуниции. Но путешественников подстерегала неудача: во-первых, водный путь оказался очень трудным. Обычно его проходили за месяц, они затратили на это целых три месяца. Во-вторых, им встретились послы Российской империи, следовавшие в Петербург с плохими известиями. О падении турецкой мощи хорошо знал и сам Вахтанг VI, поэтому он и спешил сюда. Но он не предполагал, что безвестный бродяга Надир-шах может стать властелином Ирана. Надиркул захватил русские гарнизоны на каспийском побережье. Русские войска отступили к Кизляру. И вот старый враг — Иран вновь угрожает Грузии! Спасение Картли стало опять иллюзией, надежда на возвращение рассеялась. Отчаявшийся царь не пожелал вернуться в Москву, решил поселиться в Астрахани, а грузинских эмигрантов поручил своему сыну Бакару. В 1737 году скончался царь Вахтанг. Горькими слезами оплакивали его соотечественники, плакал и Гурамишвили. Может быть, тогда он, предчувствуя новые испытания, написал свои замечательные строки:
(Перевод В. Черняка)
* * *
Гурамишвили стал солдатом русской армии, которая обратила в бегство янычар и заставила убраться восвояси шведов. Грузинский гусарский полк — подобных полков в России было четыре: Грузинский, Сербский, Венгерский и Молдавский — участвовал в составе русской армии в войнах против Турции, Швеции, Пруссии. О храбрости и стойкости грузин в войне с турками неоднократно свидетельствовалось в официальных донесениях. Русский фельдмаршал Миних сообщал в сенат: «Определенные в службу грузины службу свою весьма храбро оказывают, так что более требовать невозможно… Дабы более таких людей было весьма желательно». Среди грузинских гусар отличался мужеством и отвагой Давид Гурамишвили. Вступив на военную службу в 1738 году рядовым, он в 1739 году проявил героизм при взятии турецкой крепости Хотин, в Молдавии. Несколько раз он был ранен в бою. Так и не дождался он спокойной жизни для творчества.
* * *
В 1759 году, освободившись из плена, Гурамишвили приехал в Петербург, чтобы уйти в отставку. Поэт жаловался: «Здоровье мое сильно расшатано ранениями. На один глаз вовсе ослеп, другим вижу плохо. Страдаю от шума в голове, плохо владею рукой, крайне ослаб… Шутка ли сказать, двадцать два года лучшей части моей жизни я провел на военной службе, потратил на нее всю свою молодость…» В 1760 году за заслуги в прусской войне ему дали чин поручика и вычеркнули из списка полка. Наконец он вернулся в свой дом, в свое имение, чтобы жить и работать на земле, писать новые стихи. Бесконечное бродяжничество, неустроенная жизнь помешали ему со всей силой развернуть свои поэтические способности. Поэт очень поздно остался наедине со своей музой. Имение он нашел в запущенном состоянии, но он любил трудиться и с помощью своей молодой жены Татьяны Васильевны стал приводить в порядок хозяйство. Он тосковал по родному краю. Бескрайные украинские степи нисколько не напоминали красоту природы Грузии, его родные горы. Своеобразно красивая, степенная и ленивая река Хорал не могла заменить бурную, стремительную и неугомонную Арагви. Гурамишвили мечтал о Шио-Мгвиме, о Зедазени, о Картли, но больше не надеялся вернуться на родину. Ничто не связывало его с этим светом: не было у него ни надежд, ни детей, ни родственников. Только труд вдохновлял и облегчал трагедию всей его жизни. Труд на земле, труд на бумаге… Гурамишвили был всегда с народом, любил, понимал его, шел ему на помощь и был глашатаем его мыслей и чаяний. Он интересовался наукой, неплохо разбирался в ней, сельское хозяйство знал отлично, не хуже любого мудрого крестьянина. Его отношение к труженикам земли — крестьянам отличается гуманностью, сердечностью, горячим стремлением поднять их благосостояние. Он мечтал «досыта накормить страну». Именно это и побудило ученого поэта использовать в целях ирригации богатые полноводные реки. Чтобы избавить украинский народ, от бедствия страшных засух, поэт изобрел машину, поднимающую уровень воды. Эта машина должна была подводить воду к оросительным каналам. Он пытался применить на Украине грузинскую оросительную систему. Изобрел механическое приспособление для орошения степей во время засухи; составил проект усовершенствованной водяной мельницы. Без всякой помощи сам выполнил все технические чертежи, снабдив их подробной объяснительной запиской. С большим волнением готовился он к испытанию своих изобретений, но ему не хватало для этого средств. Постоянно, всю жизнь, симпатии поэта оставались на стороне простого народа:
В конце описания чертежей, приложенных к «Давитиани», Гурамишвили просит царевича Мириана ходатайствовать о выдаче ему ссуды в двести рублей и присылке в помощь механика для испытания изобретений в марте — апреле 1788 года, после освобождения Хорала от льда. Неизвестно, каковы были результаты этого ходатайства, серьезно ли встретил его царевич Мириан или не придал ему значения, считая замыслы Гурамишвили плодом «стариковского чудачества». Но хорошо известно другое: Мириан получил список «Давитиани», и он зачитывался прекрасными стихами Гурамишвили в длинные скучные осенние и зимние ночи. Он мог их оценить по достоинству, ибо сам был ценителем поэзии и писал стихи. Он сохранил «Давитиани» для потомства, и эта знаменитая автобиографическая рукопись является сегодня драгоценным экспонатом-сокровищем музея Грузии.
Н. Микава АЛЕКСАНДР ЧАВЧАВАДЗЕ

В марте русские войска вступили в Париж. Потонувший в клочьях серого тумана, огромный город казался мертвым. Молча проходили колонны по безлюдным улицам Сент-Антуанского предместья, направляясь к центру. Скрипели колеса повозок, гулко громыхали пушки, заглушая раздававшиеся в сыром воздухе слова команды. Но постепенно город оживал. То здесь, то там слышалась французская речь: мальчишки, любопытные и бесстрашные жители бедных кварталов, высыпали на улицы. Ветераны, прошедшие Бородино и Березину, Вильно и Лейпциг, устало улыбались в седые усы… Среди офицеров русской армии находился двадцатишестилетний грузинский поэт, адъютант Барклая де Толли князь Александр Чавчавадзе — высокий, сухощавый юноша с гордой посадкой головы. Его бледное лицо с тонкими губами и высоким, открытым лбом (волосы он зачесывал назад) могло показаться надменным, но чистые, слегка прищуренные глаза излучали столько тепла и внутренней силы, что первое впечатление исчезало. Он чуть прихрамывал. Рана, когда-то полученная в Грузии, еще не совсем зажила, но это не мешало ему жадно знакомиться е городом. Владея французским языком не хуже родного, он был здесь как дома. Ранняя весна не чувствовалась еще на парижских улицах; французы не щеголяли присущим им веселым остроумием, — они горделиво и молча несли тяжесть поражения. Наполеон еще не сдался, он со своими генералами и преданным ему войском стоял в Фонтенбло. Макиавелли тех дней Талейран с ловкостью искусного мастера готовил сенат к ликвидации императорской власти. В воздухе пахло миндалем и порохом. Но молодой поэт забыл обо всем на свете — он отправился к заутрене в Нотр-Дам и с благоговением слушал музыку Баха; никогда раньше не испытывал он такого чувства. Ему казалось, что небесные, чарующие звуки приобщают его к вечности, наполняют неземными силами; эти звуки стирали грани между бытием и бесконечностью. Куда-то далеко-далеко уходили все мирские заботы, мелочи повседневности… В этом храме, бессмертном творении зодческого искусства, все было подчинено одной цели: сближению человека с воображаемым богом. Своды храма, как бы уходящие в небеса, его камни, поющие вместе с органом. «Не случайно, — подумал Александр, — католическая церковь имеет такое влияние на свою паству». А вечером спектакль в «Комеди франсез». На сцене знаменитый Тальма… Сегодня он в ударе. Молодой офицер Ширханов, искушенный в парижских; делах, нашептывает Александру анекдоты из жизни прославленного трагика, — Однажды Тальма попросил Наполеона высказаться по поводу его игры. Император долго не отвечал, потом вдруг сказал: «Тальма, приходите иногда во дворец ко мне утром. Вы там увидите принцесс, потерявших возлюбленных, государей, которые потеряли свои государства, бывших королей, которых война лишила их высокого сана, видных генералов, которые надеются получить корону или выпрашивают себе корону. Вокруг меня — обманутое честолюбие, пылкое соперничество, вокруг меня — катастрофа, скорбь, скрытое в глубине сердца горе, которое прорывается наружу. Конечно, все это трагедия; мой дворец полон трагедий, и я сам наиболее трагическое лицо нашего времени. Что же, разве мы поднимаем руки кверху? Разве мы изучаем наши жесты? Разве мы испускаем крики? Принимаем позы? Нет, не правда ли? Мы говорим естественно, как говорит каждый, когда он воодушевлен интересом или страстью; Так поступали и те лица, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли трагедию на троне. Вот примеры, над которыми стоит подумать…» — Ответ, достойный Наполеона… — заметил Александр. Все здесь было удивительно — в городе, где когда-то метрдотель князя Конде заколол себя шпагой, увидев, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу, и где в грозные дни французской революции народ казнил и короля и принцев. Здесь были французы, которые до последней капли крови боролись за свободу, и французы, готовые лечь костьми за своего императора. Это был город удивительных противоречий. Чавчавадзе часами бродил по улицам, посещал кафе поэтов; музеи живописи. Долго стоял перед картинами Пуссена, перед «Коронованием» Давида, слушал Берлиоза и Россини, смотрел игру знаменитой Рашель, восхищался сокровищами искусства в Лувре и Версале. Версаль!.. Здесь его соотечественник, мудрый Сулхан Саба Орбелиани, посетил «Короля-солнце» и просил о помощи своей родине. Чавчавадзе полюбились красивые берега Сены, целые дни простаивал он на набережной, а ночами переводил на грузинский язык Гюго, Лафонтена, Корнеля, Расина и… Вольтера. Да, он чтил Вольтера, этого доброго циника. Александру и его друзьям казалось, что они в гостях у старого просвещенного друга, с которым приятно посидеть, поговорить, выпить чашку крепкого кофе. Для него пребывание в Париже имело столь же огромное значение, как и жизнь в Петербурге, дружба и общение с блестящими представителями северной столицы. А между тем история шла своим чередом, одни события сменялись другими. 6 апреля Наполеон подписал акт отречения. Кто мог предполагать, что пройдут годы и служивший в то время в Тифлисе современник поэта, К. А. Бороздин, напишет в своих воспоминаниях: «Главная заслуга Александра Чавчавадзе заключалась в том, что он успел дом свой сделать прочным звеном между обществом грузинским и русскими людьми, ехавшими служить на Кавказ… Князь Александр довершал в полной мере дело, начатое его отцом. Гарсеван политически приобщил Грузию к России, а сын его благодаря своему личному характеру сблизил грузин с русскими. Всякий русский, занесенный на дальнюю чужбину, дышал у него родным воздухом, всякий грузин шел к нему с душой нараспашку; тут они встречались и научились понимать и любить друг друга…» А главнокомандующий на Кавказе сообщит в своем секретном донесении в Петербург: «Князь Чавчавадзе образован в Пажеском корпусе, потом, служа у нас, принял всю европейскую образованность… и, будучи тестем покойного Грибоедова, имел средство утвердиться в правилах вольнодумства…»
* * *
Небольшая площадка перед церковью с утра была запружена народом. В длинный ряд построились экипажи. Не прошло и получаса, как на улице остановилась карета — из нее вышла императрица Екатерина II. А в церкви была уже готова купель, и князь Гарсеван Чавчавадзе, полномочный министр царя Ираклия II при русском дворе, держал здорового голенького мальчугана в ожидании крестин. Мальчика, родившегося в 1786 году в Петербурге, нарекли Александром. Императрица стала его крестной матерью. Согласие быть крестной матерью младенца было исключительным знаком внимания, оказанным императрицей грузинскому министру за его особые заслуги: в 1783 году князь Гарсеван подписал в Георгиевске так называемый трактат о дружбе, по которому Кахетино-Картлийское царство приняло протекторат России. Летописцы той эпохи, противники воссоединения е Россией Давид Багратиони и его братья под рубрикой 1811 года записали: «Апреля месяца дня пятого умер Чавчавадзе Гарсеван в Петербурге, предатель царя и неверный сын своего отечества». Так излили они свою злобу, хотя Гарсеван, подписывая трактат, выполнял волю царя Ираклия и народа Грузии. Это мнение о родном отце черной тенью легло на всю жизнь поэта, хотя он вполне сознавал, что предки его и царь совершили дело огромной важности, они спасли родину от физического и духовного уничтожения. Мысли Александра Чавчавадзе по национальному вопросу отличались дальновидностью и глубиной. Широко образованный, воспитанный на лучших традициях России, Франции, Ирана, знакомый с немецкой философией и литературой, он знал, что Грузии нужна новая, прогрессивная культура, широкое просвещение, образование, и с этой целью делал все, чтобы сблизить передовое русское общество с грузинским. Он хорошо понимал, что только эта дружба, только эта общность может вывести его родину на широкий путь. Александр Чавчавадзе любил Россию и нисколько этого не скрывал. Двери его тифлисского дома всегда были открыты для русских и большей частью для тех, кто за служение передовым мыслям ссылался на «дикий Кавказ». Только этим объясняется большая дружба Александра Чавчавадзе с Грибоедовым, радушный прием Пушкина, Кюхельбекера, Одоевского, Лермонтова. О поэте ходила слава эпикурейца, певца розы и соловья… Но это поверхностная оценка человека, чья жизнь и творчество, тесно переплетенные между собой, соединяли старую поэтическую культуру с новым направлением.
* * *
Александр Чавчавадзе до тринадцати лет жил в Петербурге. С раннего детства мать обучила его родному языку, а позднее его учителем стал дядя Георгий Авалишвили, прививший ему любовь к родной литературе. В 1799 году семья Чавчавадзе переехала в Тифлис. Уже тогда тринадцатилетний мальчик воспринимал мир глубоко и остро, но был еще слишком молод для философских обобщений, не умел еще анализировать факты, и поэтому холодное, почти враждебное отношение многих соотечественников к его отцу воспринимал с горечью и душевной болью. Временами, теряя голову в отчаянии, он готов был считать себя обязанным «искупить вину» отца. В 1804 году, восемнадцатилетним юношей, он примкнул к восстанию горцев в Мтиулети, которое возглавил царевич Парнаоз с целью восстановления династии Багратионов. Любопытно рассказывает об этом эпизоде Александр Орбелиани: «Среди участников восстания находился один юноша, князь Ал. Чавчавадзе. Его отец Гарсеван Чавчавадзе» любимец и первое доверенное лицо царя Ираклия II, отдал Грузию русским. Отец родную страну отдал чужим, а его юный сын пролил кровь, чтобы вновь завоевать свое отечество». Эти острые противоречия необходимо постоянно иметь в виду, чтобы понять, в каких трудных условиях формировалось мировоззрение будущего поэта. Юного повстанца простили и отдали в Пажеский корпус. Здесь он получил блестящее образование, углубил знания во французском, немецком и персидском языках. Многое он переосмыслил, многое оценил трезво и убедился в своем заблуждении. Он понял, что не этим путем нужно помогать родине. В 1809 году Чавчавадзе окончил Пажеский корпус. Общей образованностью, воспитанностью, знанием языков он выгодно отличался от многих своих сверстников. Годы, проведенные в северной столице, не прошли для него даром и сыграли весьма важную роль в формировании его литературно-эстетических взглядов. Именно в России, на его второй родине, он приблизился к передовой русской культуре. Достаточно сказать, что Александр Чавчавадзе одним из первых перевел на грузинский язык стихи Пушкина, и это в те времена, когда имя великого русского поэта произносилось в высших кругах общества с оглядкой. Пушкинская поэзия оказала большое влияние на творчество грузинского поэта. В 1811 году А. Чавчавадзе — адъютант маркиза Паулуччи; в 1812 году он принимает участие в подавлении кахетинского восстания и получает тяжелое ранение. После выздоровления в том же 1812 году мы видим его уже адъютантом Барклая де Толли. Через два года в составе коалиционной армии союзников он вступает в Париж. Молодой грузинский аристократ в этот период уже полностью разделяет освободительные идеи своего века, революционный дух которых так глубоко проник в среду передового русского офицерства в Западной Европе, особенно в Париже. Социальные моменты, волновавшие поэта, отразились и в его творчестве:
* * *
По возвращении из Франции Александр Чавчавадзе был назначен командиром Нижегородского кавалерийского полка, стоявшего в Кахети. Он вернулся на родину. Его особняк в Тифлисе стал блестящим салоном, где собирались передовые люди того времени — грузины и русские: поэты, писатели, философы, актеры, счастливые и несчастные, вольнодумцы и гонимые. Здесь читали свои произведения Григол и Вахтанг Орбелиани. Здесь делился новыми и интересными мыслями молодой философ Соломон Додашвили. Сюда приходили Грибоедов, Пушкин, Кюхельбекер, Денис Давыдов, Лермонтов, Бороздин, художник Гагарин… Их было много, и для всех были открыты двери этого гостеприимного дома. Может быть, здесь впервые читали и даже играли в семейном кругу «Горе от ума», пели романсы Глинки, исполняли его вальсы. Здесь впервые на грузинском языке прозвучали мятежные строки Байрона и промчался во весь опор таинственный конь «Лесного царя». Здесь читались в оригинале, на певучем персидском языке, произведения Омара Хайяма, Гафиза, Саади. Таков был этот дом. Таким был его хозяин — поэт Александр Чавчавадзе, такими были его обитатели — юные, очаровательные дочери: умная, полная женского обаяния Нина и гордая красавица Катя — Екатерина Чавчавадзе, будущая царица Мегрелии и фрейлина императорского двора. В эти годы начался расцвет поэтического таланта Александра Чавчавадзе, бесспорно первого представителя нового, романтического направления в поэзии. Романтизм стал школой Чавчавадзе, а он его грузинским отцом. В его творчестве можно найти и следы иранской поэзии, но только лишь следы. По существу, оно явилось синтезом восточной и западной поэтических культур. Да, он поклонялся Эпикуру, но никогда не следовал его девизу: «Проживи незаметно». Поэт далек от эпикурейской сдержанности, наоборот, он ищет бурной жизни, ищет борьбы, ищет победы. Он — один из основателей направления патриотической лирики, получившей широкое распространение в грузинской поэзии XIX века:
Человек все должен иметь: молодость, дружбу, любовь. Поэтому:
* * *
Нет, Грибоедов окончательно убедился, что не может жить без Тифлиса, без весенних берегов Арагви, без древнего Мцхета, без этих карабкающихся вверх улиц, без многобалконного, знойно-каменного города. Он Колумб Грузии. Кто до него раскрыл, полюбил эти сказочные красоты, этот рай, затерянный в горах? «Природу Грузии не опишешь, никакими словами нельзя изобразить ее красоты!» — в который раз повторял он про себя. Никогда не забудет он первого впечатления, которое произвело на него Дарьяльское ущелье — эта узкая щель, пробитая между высоченными стенами гор, куда с трудом проникает- дневной свет и дно которого недосягаемо для человеческих глаз. Шум необузданной реки, храм на горе Казбеги, крутой спуск с Крестового перевала в Кайшаурскую долину, Ананурская крепость, верховья бурного Арагви, в волнах которого таятся зеркальные форели. Да, действительно, здесь все создано для человека, для радости, для счастья. С жадностью юноши стал он изучать историю, литературу, культуру страны. Он безмерно полюбил страну, «где темные ночи были как сказки, а дни напоминали рай». Особенно любил он Восточную Грузию» Кахети, где часто бывал у своего друга и тезки — поэта Александра Чавчавадзе. Правда, Александр был старше его на девять лет, но, пожалуй, это только способствовало усилению их дружбы, ибо, выражаясь словами А. С. Пушкина, Грибоедов, «один из образованнейших людей эпохи», часто не находил общего языка со своими сверстниками. А пока что он спешил к своему другу, поговорить с ним о Петербурге, о Москве, о Париже… Париж, он так хотел побывать в этом городе! Июльский день 1826 года был очень жарким. Люди ждали наступления сумерек, не покидая своих прохладных покоев и ажурных висящих балконов, утопающих во вьющихся ветвях винограда, а налитые солнцем, но еще зеленые гроздья напоминали о приближении золотой осени. — Гаспадин дарагой, купи землю для цветов, харошая земля, — Грибоедов вдруг очнулся от дум. Перед ним стоял кинто с осликом, нагруженным землей. Это была явная шутка. Для чего ему земля для цветов? — Землю куплю потом, когда буду уезжать, чтобы всегда носить с собой Грузию… А пока что отсчитай-ка мне эти розы. Сколько там? — сказал он, указывая на пурпурно-красные розы. — Что розы, их все покупают, а вот земля… — бурчал себе под нос кинто, с изысканностью рыцаря отбирая цветы. И вот Грибоедов уже у знакомого дома. Ему открыли двери. Он бросил швейцару головной убор, перчатки, вручил хозяину розы и вошел в просторную, богато и со вкусом обставленную приемную. Здесь было прохладно. — Ну как, что там случилось?.. — тревожно спросил хозяин. — Не говори… — хорошее настроение исчезло. За стеклами очков затуманились серые умные глаза. — Я всегда говорил, что эта затея несерьезная… В Тифлисе только недавно стало известно о судьбе декабристов, и Чавчавадзе был очень огорчен. — А я надеялся. Трудно дышится. — Я разделяю их мысли, идеи, но… — Ты всегда скептически относился к их затее… — Пойми, друг Саша, сто прапорщиков не могут изменить весь государственный строй… Народ не принимал участия в их деле, народ для них как будто и не существовал… А без народа такие дела не творятся… — А ты как?.. Все в порядке? — тревожно спросил хозяин. — Чудом, мой дорогой, чудом, — если бы мой родственник — проконсул Кавказа, — так они называли генерала Ермолова, — не предупредил меня и я бы не принял кое-каких мер, то хлебнул бы Сибири… Да, помнишь офицера Якубовича? — Это с которым ты дрался на дуэли? — спросил князь. Ну как же, как он может забыть эту нашумевшую во всем Тифлисе светскую дуэль 1818 года! Раненного в руку Грибоедова привезли сюда, к нему домой, они с женой ухаживали за ним. — Тот самый. Тоже оказался декабристом. Наступила пауза. Тишину нарушил бой часов, привезенных из Парижа. — В Петербурге я уже не вел веселой жизни со светской молодежью, да и молодость давно прошла… Мне кажется, что я глубокий старик и что тень смерти преследует меня всюду… Александр Чавчавадзе сам был в плохом настроении, но этот человек с пылким, южным характером сумел подчинить страсти внешнему, кажущемуся спокойствию. — Почему я так стремлюсь сюда? Почему я так люблю Грузию? — задумчиво сказал Грибоедов. — Потому что тебя здесь любят, ждут. — Я люблю многострадальный Картли и музыку твоей страны. Здесь как-то легко дышится. Хочу поселиться здесь навсегда, Александр. Открыть бы здесь уездные училища для лиц свободного состояния и училища восточных языков, коммерческий банк, публичную библиотеку. Издавать газету «Тифлисские ведомости»… — А твои планы о перестройке Тифлиса? — с легкой иронией заметил Чавчавадзе. — А ты не смейся, будет и это… Вдруг распахнулись двери, и в комнату вошла девушка. Изумительная грациозность, женственность, все говорило о ее юности, и только глаза, большие, красивые; умные глаза выдавали в ней не по возрасту развитую женщину. Боже мой, неужели это Нина, крошка, которую Грибоедов брал на руки, ласкал, играл с ней?!. Да, это была она, и чтобы скрыть смущение от девушки, он по-французски обратился к ее отцу: — За такой очаровательной Медеей я приплыл бы даже с севера!.. — Вы опоздали, сударь. Увы! Медеи наших дней не являются обладательницами золотого руна, — ответила девушка тоже по-французски. — Потому что они сами обратились в золотое руно, — сказал уже по-русски Грибоедов и поцеловал ей руку. Она присела в легком реверансе, и столько было непринужденной грации в этом движении, что Грибоедов почувствовал легкое головокружение. — Не желаете ли прохладительного, Александр Сергеевич? — предложила девушка. — Лимонад на льду… «Боже ты мой, Александр Сергеевич! Как важно! Да неужели это она, крошка, маленькая Нина!» — Только цинандальского, — сказал он, улыбаясь. Не прошло и минуты, как на большом серебряном подносе она внесла хеладу, наполненную вином, и два высоких бокала, на которых красовалась буква «Е» с короной. Чавчавадзе выпил залпом, Грибоедов пил смакуя. — Мне кажется, что я пью солнце, — сказал, поставил бокал на поднос и подсел к фортепьяно. — Привезли что-нибудь новое? — спросила Нина. — Сыграй свое, ты же обещал «Там; где вьется Алазань»… — напомнил хозяин дома. — Я привез вам новый романс Глинки, я ему напел, а он написал, называется «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной…» Он играл так, как мог играть только автор. И вдруг Нина запела красивым низким голосом, и казалось, будто она пела этот романс с рождения. Потом пришел Денис Давыдов с Бороздиным. Вспоминали Кюхельбекера, который тоже побывал на Сенатской площади. Большой друг этой семьи, а стало быть, и друг Грузии, он тоже любил «яростный, кипящий Терек», «Берега волшебного Кира (Куры)» и ее «Живые острова» (Орточальские сады), «Высококаменный Тифлис» и крепость Аванури… Где он теперь, этот милый Кюхля, любимец друзей-лицеистов?! Грибоедов попросил хозяина прочесть свои новые стихи. Александр встал и, держа в руках рог, начал полунапевно читать. Грибоедов тихонько переводил содержание стихотворения Денису:
* * *
* * *
Весной 1828 года Грибоедов получил новое назначение в Иран по дипломатической линии. Свою новую службу он называл со злой иронией «политической ссылкой». «Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить», — отшучивался он. В этом же году, в октябре, в маленькой часовне в Цинандали Грибоедов обвенчался с Ниной Чавчавадзе. Осень в Кахети была исключительной. Парк в Цинандали напоминал палитру художника: такое буйство красок, цветов, оттенков… Дорога от часовни до дома была усыпана розами. Нина и Александр шли под аркой перекрещенных сабель, которые держали юноши в белых черкесках. В этот вечер в Цинандали собралась вся знать Тифлиса, лучшая часть аристократии, высшее чиновничество, поэты, писатели. Александр Чавчавадзе был действительно счастлив— в лице своего друга он приобретал и сына. Он был тамадой, от души веселился, пел. Потом он поднял азарпешу, полную ярко-красного вина, прочитал свое новое стихотворение. И, опорожнив сосуд, передал его своему зятю Александру Сергеевичу Грибоедову. А через неделю Грибоедов с женой, штатом посольства и казачьим конвоем выехал в Персию.
* * *
В жизни Александра Чавчавадзе наступила творческая зрелость. Все больше и больше проявляется его оригинальный созидательный гений. К этому времени относится его знаменитое «Озеро Гокча». В этом поэтическом шедевре он воспринимает действительность как философ, поэтическим языком выражая глубокие мысли о жизни и ее законах. Поэт рисует сложную картину исторического развития и общественного бытия своей родины. В этом стихотворении слышны также и пессимистические мотивы. Но пессимизм его — это грусть о судьбе возлюбленной, родине. Это пессимизм патриота, но не только, нет, он вызван и мыслями о социальном неравенстве, рабском положении человека, будь он русский или грузин. В его творчестве совершенно ясно слышны социальные мотивы. Это протест против существующего строя, против рабства; это отрицание родового неравенства. Влияние декабристов, дружба с Грибоедовым, бунтарство Байрона и идеи Сен-Симона, отголоски французской революции и ужасающая реакция Николая I. Да, было над чем задуматься! Не в результате ли таких дум появилось его необычайное для тех времен стихотворение?
* * *
Сегодня в отличие от обычного не был ярко освещен один из самых знаменитых Орточальских садов. И безлюдная темнота майской ночи 1829 года нарушалась только желтовато-синим фосфорическим блеском светлячков, иногда освещавших черную, как деготь, бархатную поверхность реки. Вода застыла. Иногда этот мрак и тишина нарушались размеренными ударами весел, и огонек, мерцающий на корме рыбачьей лодки, напоминал фонарь Харона. Прямо на берегу Куры разостлан широкий персидский ковер. Принц ашугов, так называли в Тифлисе Александра Чавчавадзе, принимал сегодня здесь сосланного на Кавказ русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Старый Вануа суетился и готов был пролезть в игольное ушко, чтобы угодить любимому ашугу и именитому клиенту. Он предупредил своего помощника Сакуа и нескольких карачогели, чтобы об этом «кутеже не болтали зря»: князь принимает какого-то русского ашуга, «нехорошо упомянувшего в своей песне русского царя», и эта таинственность еще больше усиливала любопытство простых людей. Гости сидели в беседке из живого виноградника. Молодой рачинец, немного припудренный мукой, разложил горячие торнис пури, точно сорванные с неба молодые луны. Тут же неподалеку, на ветке огромного орехового дерева, висел только что зарезанный баран, и Вануа отрезал от него куски для шашлыка. На столе лежали слизистые головки зеленовато-серого овечьего сыра — мотали, а рядом обрызганная росой зелень: душистый тархун, весенний цицмати, редис, душистый киндза, ниахури, праса… Деревянная миска наполнена джонджоли. Снятые на глазах у гостей с раскаленных камней цыллята-табака лежали на больших виноградных листьях перед каждым из гостей. Тут же на ковре плетеные корзины с фруктами и гроздьями винограда прошлогоднего урожая. Льется из бурдюков в рога кроваво-красное кварели, розовое кахетинское, золотисто-янтарное цинандали. Сидящий во главе стола красивый человек с гордой осанкой читал стихи, вернее — пел их. А все остальные слушали его, принца ашугов, точно менестреля, на шесть веков опоздавшего на этот пир. Рядом, как тополя, стояли красавцы юноши; опустив головы над азарпешами, вглядывались они в красное вино…
* * *
После гибели Грибоедова траур надолго поселился в семье Александра Чавчавадзе. Сам поэт стал почти нелюдим, большей частью он жил в Цинандали. Все больше думал он о превратностях судьбы, об участи народа, о будущем. Однажды вечером, когда он сидел на балконе своего дома и любовался величественной красотой Алазанской долины, к воротам его дома прискакал всадник. Это был Луарсаб Орбелиани, его товарищ, посланец от князей, которые просили его принять участие в заговоре против русского царя, за восстановление независимости Грузии. Александр долго не отвечал, мучительно думал, вымеряя шагами комнату. Вспоминал он слова Грибоедова о декабристах, о том, что затея декабристов заранее была обречена — народ не шел с ними, хотя заговор декабристов был, безусловно, прогрессивным явлением. А тут! Тоже без народа, один царь сменится другим, пусть даже своим, но будет ли легче от этого грузинам? Опять маленькая страна окажется стиснутой со всех сторон врагами. А он верил, что счастье Грузии все-таки с Россией. Но, сторонник национальной независимости» он все же не мог не сочувствовать заговору. В 1832 году Александра Чавчавадзе обвинили в причастности к тайному заговору верхушки грузинского дворянства и арестовали. На следствии он держался достойно, не выдал никого, не отрицал, что причастен к заговору, хотя эта причастность не была доказана. В январе 1834 года, после следствия и суда, его сослали в Тамбов. Через два года он был помилован и вернулся на родину. Положение поднадзорного не помешало ему принимать у себя Лермонтова, Одоевского. В эти годы он сам был, как «демон, дух изгнанья», как мцыри в Джварском монастыре. В 1838 году его назначили членом совета при главноначальствующем на Кавказе, в 1841 году присвоили звание генерал-лейтенанта. 6 ноября 1846 года несчастный случай нелепо оборвал жизнь Александра Чавчавадзе, жизнь, полную энергии и созидательного труда.
Э. Елигулашвили МУХАМБАЗИ

Тенистая аллея перед дворцом наместника полна народу. Два жандарма в голубых мундирах несколько раз пытались разогнать толпу, но проходило несколько минут, и люди вновь собирались под развесистыми, спутавшимися кронами двумя рядами лип. Всегда шумные и оживленные жители Тифлиса на этот раз вели себя необычно: молча стояли и смотрели на сверкающие окна. Во дворце грохотал военный оркестр. В этот душный августовский вечер все окна были распахнуты настежь — звуки музыки многократно повторялись в десятках дворцовых комнат и вырывались на улицу нестройным, беспорядочным шумом. Наместник, Кавказа, великий князь Михаил Николаевич, принимал гостей. На улице было темно и тихо. Толпа стояла молча и неподвижно, разглядывая тени, мелькавшие в окнах, стараясь в нестройных обрывках музыки уловить нежную мелодию. Внезапно откуда-то издали донеслась быстрая дробь копыт. Пара вороных, запряженная в старинный экипаж, галопом промчалась по небольшому подъему и, осаженная туго натянутыми вожжами, остановилась у самого подъезда. Всем в городе хорошо была знакома пара вороных и эта манера мчаться во весь дух, не замедляя галопа даже на самых крутых поворотах извилистых тифлисских улочек. — Григол Орбелиани! — узнали в толпе. Жандарм подскочил, откинул подножки экипажа и, подобострастно согнувшись, отворил дверцу, Высокий плотный человек в светлом кителе с генеральскими эполетами не спеша вылез из экипажа, оглянулся на толпу, сгрудившуюся у входа, и направился к подъезду. Широко распахнулись тяжелые двери. Человек с генеральскими эполетами медленно поднялся по ступенькам широкой Дворцовой лестницы. Где-то впереди раздался громкий, перекрывающий музыку возглас: — Его сиятельство князь Орбелиани! Оркестр смолк. Внезапно стало тихо. По лестнице навстречу запоздавшему гостю торопился хозяин — великий князь Михаил Николаевич, наместник Кавказа. «Почетно, ничего не скажешь», — подумал гость, но шагу не прибавил. — Князь, мы заждались вас, — издали начал наместник тоном гостеприимного хозяина. — Извините, ваше высочество, ко мне зашел старый приятель, соратник по дагестанской кампании, и мы выпили по чашке чаю. Великий князь в замешательстве оглянулся, не услышал ли кто-нибудь ответ Орбелиани. «Опять этот непокорный старик смиренным голосом говорит дерзости! Но с ним лучше не связываться. В Тифлисе все знают о дружбе, которая связывает его с этим стариком. Так надо… Пока…» — мысли мгновенно сменяли друг друга, а на лице, как приклеенная, сверкала радушная улыбка. Григол Орбелиани добрался до верха лестницы и остановился, тяжело отдуваясь. Наместник подхватил его под руку и повел через зал в комнату, которую во дворце называли «портерной». — К нам, князь, сюда! Здесь можно и поговорить и в карты перекинуться. Они проходили по огромному бальному залу. Сотни свечей сияли на всех стенах и в громадной люстре, чашей свесившейся с потолка. От жара свечей и скопления народа в зале нельзя было дышать. Элегантные кавалеры то и дело вытирали белоснежными платками взмокшие шеи. Дамы отчаянно обмахивались веерами, но это не помогало: струйки пота сбегали со лба, оставляя на пудреных щеках мокрые дорожки. На антресолях расположился оркестр. Музыканты в солдатских мундирах имели жалкий, измученный вид. Бал удался. Гости, удостоенные приглашения к самому наместнику, веселились и танцевали вовсю. Когда Григол Орбелиани, ведомый под руку хозяином, пробирался сквозь сумятицу танцующих, к нему разлетелся тоненький молодой человек, затянутый в модный фрак. — Ваше превосходительство! — обратился он к Орбелиани. — Сейчас будет мазурка, все холостяки танцуют, не изволите ли и вы пригласить даму? — В его голосе чувствовалась плохо скрытая насмешка. Орбелиани вздрогнул. Обратиться с таким предложением к нему, почти семидесятилетнему старику! Генерал-адъютанту, кавалеру высших российских орденов! Наконец его, Григола Орбелиани, знает вся Россия, стихи его читают в Европе! Кто этот наглец? Осадить его, дать пощечину. Впрочем, он вспомнил: этот мальчишка — любимец великого князя, его прихлебатель и придворный остряк. Обругать его — значит открыто поссориться с наместником. Молодой человек во фраке ждал ответа грузинского князя. Смолкли все, кто слышал его слова. Михаил Николаевич ухмыльнулся: «Этот парень дерзок, но ему нельзя отказать в остроумии!» — Юноша, — Григол Орбелиани говорил спокойно, как, всегда не торопясь, — я танцевал мазурку с польками, когда вы еще ходить не умели. А здесь, в Грузии, я танцую другие танцы. Оркестр, горскую, картули! Наместник, найдя, что уже пора вмешаться ему, заметил: — К сожалению, князь, мой оркестр не знает этих танцев. Впрочем, я вам приготовил сюрприз, и, надеюсь, вы останетесь довольны. Гости почтительно смолкли, прислушиваясь к словам высочайшего хозяина. В этой тишине внезапно раздался резкий хлопок: где-то в другой комнате откупорили бутылку шампанского. Любимец, великого князя, все еще стоявший рядом, вздрогнул от неожиданности. — Юноша, — вновь обратился к нему Григол Орбелиани, — я за свою жизнь слышал больше пушечных залпов, чем, вы хлопков пробок шампанского. Подите-ка потанцуйте мазурку… Он не очень почтительно высвободил руку от Михаила Николаевича. Прочь, подальше отсюда! Ему противно все это, он даже не хотел приходить на бал, но он — один из виднейших представителей грузинского общества — не мог открыто пренебречь приглашением наместника. Гости почтительно расступались, давая ему дорогу. Здесь были высшие офицеры, чиновники канцелярии наместника, избранные представители тифлисского общества. Внезапно взгляд Григола Орбелиани остановился: у стены, обмахиваясь веером, сидела пожилая дама. Его внимание привлекли ее глаза — знакомые, близкие, родные. И прежде чем сознание успело напомнить ему имя дамы, до слуха его донеслось: — Мадам Берзак, позвольте пригласить вашу дочь! Рядом с дамой стояла тоненькая большеглазая девушка. Сердце Григола заныло: точно такой же портрет висел в его комнате. Но это был портрет не девушки, а… «Мадам Берзак», «ваша дочь», — память услужливо повторяла услышанные только что слова. Софико! Как он боготворил ее — свою возлюбленную, свою нареченную! Но он вернулся из длительной отлучки, и в Тифлисе вместо Софико Орбелиани его встретила мадам Софи Берзак, Как он ее любил!.. Он и сейчас любит ее. Ничего, что ему уже скоро семьдесят, что полвека прошло с тех пор. Ничего! Он всегда любил ее, помнил, ждал. Так и остался неженатым, не создал своей семьи. «Мадам Берзак!..» Наконец Григол Орбелиани выбрался на веранду, которая поясом охватывала весь фасад дворца. Он не должен был приходить — только расстроился. Впрочем, нет, конечно, он не мог не прийти. Здесь, на веранде, не так душно и свечи не слепят глаза. Взору открылась липовая аллея перед входом. Что там чернеет под деревьями?.. …Молча, неподвижно стоят люди перед дворцом. Стоят и смотрят: на освещенные окна, на тени, мелькающие в каком-то непонятном танце, на жандармов возле подъезда. Ремесленники, амбалы, торговцы, карачогели, заезжие крестьяне. «Простой люд». «Боже мой! Почему они молчат? Что им надо?!» Фигура на веранде отделяется от белой колонны, облепленной ласточкиными гнездами, и скрывается в комнатах. Не возвращаясь в зал для танцев, какими-то темными закоулками, известными только давним обитателям дворца, Григол Орбелиани пробирается на задний балкон. Балкон весь густо зарос плющом. Он выходит в старый, разросшийся сад. Григол Орбелиани любил этот балкон и сад с голубыми, японскими соснами и высокими дубами. Сын обедневшего князя — он всего достиг, добился трудом и службой. Сколько раз приходилось подставлять голову под пули. Знавай и стесненные денежные обстоятельства. — Вот вы где, князь! — Голос наместника прозвучал, как пробуждение от сна. — О чем задумались?.. Я хотел посоветоваться с вами, князь. Вы человек многоопытный, знаете этот край, должны помочь мне советом и содействием, — продолжал Михаил Николаевич. Он часто говорил это, но всегда на людях, чтобы подчеркнуть уважение к старому грузинскому князю. Правда, потом он всегда делал по-своему. А сейчас эта заученная фраза сказана им с глазу на глаз. С чего бы это? Хочет загладить инцидент в зале? — Ваше высочество! Я прежде всего поэт, и только обстоятельства жизни заставили меня пройти путь военного и чиновника, дабы по мере сил послужить государству и родине моей! Теперь же я целиком служу музе и Аполлону. — Как раньше служили пушкам и Вакху?! Григол Орбелиани по тону понял, что наместник изволил пошутить, но он не мог себя заставить улыбнуться в ответ. — Впрочем, — продолжал Михаил Николаевич, указывая пальцем в глубь сада, — вот и сюрприз, обещанный мною. Далеко-далеко, там, где деревья сходились тесной темной толпой, засветился одинокий огонек. Чуть поодаль затрепыхался другой, третий. И уже десятки громадных светляков во всю ширину сада выступили из-за черных стволов. Они помедлили на мгновение, качнулись и стали сходиться вместе. Вот уже дружными усилиями десятков огней выхвачен из тьмы уголок сада. Светляки соединились и, медленно покачиваясь, направились к дворцу. Музыка смолкла. Гости высыпали на балкон, усеяли широкую лестницу, двумя полукружиями спускающуюся в сад. Великий князь самодовольно огляделся. — Я посвящаю свой сюрприз моим гостям и лично князю Орбелиани, моему почетному гостю. Черные фраки почтительно захлопали, и нельзя было понять, к кому относятся эти аплодисменты — к Орбелиани или к такому милому и внимательному высочайшему хозяину. Уже можно было разглядеть темные фигуры, выступившие из темноты. Весь сад усеяли карачогели с пиалами в руках. Языки бегающего пламени заливали пиалы, как неведомый волшебный напиток, светящийся и пьянящий напиток богов. Карачогели выстроились в ряд, их черные косоворотки, перехваченные узкими наборными ремешками, сливались со стволами деревьев. И только огненные чаши в поднятых десницах освещали лица — спокойные и уверенные лица людей, гордых своим трудом. Из ряда выступил один коренастый, уже немолодой карачогели. Григол Орбелиани узнал Лопиана. — Князь Григол! Ты не первый год знаешь меня, и я знаю тебя. Мы уважаем тебя, наш Григол. Приходилось нам трудиться вместе, горевать вместе и веселиться вместе. Прими же от нас знак уважения. — Он обернулся к своим друзьям, качнул пылающую пиалу в поднятой руке. И сейчас же над садом поплыла густая, низкая, вибрирующая на одной ноте мелодия. Басы гудели властно, покоряя внимание всех присутствующих, заставляя с нетерпением ждать, когда же вольются в запев песни новые голоса. И вот на этом фоне зазвучала первая строка песни, пропетая высоким крепким голосом, закаленным речным ветром и холодом высоких гор:
Это случилось почти десять лет назад, в 1865 году. Майдан грозно шумел. Здесь, на базарной площади, привыкли к шуму. Гортанные выкрики мелких торговцев, зазывающих покупателей; бормотание гадалок; веселые шаири, уличных музыкантов, всегда окруженных толпой зевак; ожесточенная ругань поссорившихся соседей по прилавку и горькие причитания обворованного ротозея — все эти звуки с раннего утра сплетались в пестрый, причудливый ковер, висящий над базаром. Все приезжавшие в Тифлис обязательно приходили сюда: здесь можно было услышать подлинный голос древнего города. И потом в своих дневниках и путевых заметках с удивлением отмечали, какое это многокрасочное и неповторимое зрелище — тифлисский базар, Майдан. Но в июньское утро 1865 года Майдан шумел необычно: сдерживаемый какой-то невидимой силой гул голосов перекатывался по площади из конца в конец, как гром, возвещающий о приближении грозы. Потом вдруг раздавался взрыв негодующих возгласов и снова утихал, прислушиваясь к чьим-то словам. Григол Орбелиани издали уловил в шуме, доносившемся с базарной площади, что-то неведомое, опасное. Утром посланец городского головы разбудил его, сообщив о том, что в бедных районах города начинается брожение. Начальник тифлисской полиции Рославлев предлагал свои меры: «Сотня казаков, нагайки, в крайнем случае — ружья, и дело с концом!» Решение предстояло принять ему, генерал-губернатору Тйфлиса Григолу Орбелиани. Что делать? Раздумывать не было времени. И вот он один, без солдат, без охраны, даже без оружия, направляется к Майдану, где по донесениям находилась главная масса бунтовщиков. Орбелиани верхом на любимом коне с трудом пробирается по узкому, извилистому Темному ряду. Собственно, это даже не улица и не переулок. Просто два ряда хибарок, тесно, почти вплотную сошедшихся друг с другом. Медленно бредет осел, занимая всю ширину улочки, загораживая путь. Из лавок по обеим сторонам улочки выглядывают ремесленники — кузнецы, ватники, чувячники. Они не покинули своих лавок, но сегодня на них нет всегдашних полотняных или кожаных фартуков — хоть и будний день, но не до работы. Завидев князя Григола, внезапно появляющегося из-за высоких хурджинов, они поднимаются с низких табуреток в дверях лавок. — Здравия желаем, ваше сиятельство! — Почет и уважение нашему князю Григолу! Наконец еще, один поворот, и кончился Темный ряд. Вороной конь под князем взметнулся на дыбы и потом широким, свободным галопом понесся вперед. Обогнул Орбелиани голубую мечеть, что возле Метехского моста, и увидел толпу на площади. Все смотрели в его сторону молча и выжидательно. О его приближении знали на площади, его ждали. По толпе из разных углов прошло равномерное колыхание. Ближе, ближе… И, наконец, перед стеной молчащих людей появились двое: бледный худощавый юноша в семинаристском мундирчике и плотный коренастый карачогели в черной косоворотке и такой же черной смушковой шапке. Григол Орбелиани заговорил: — Что за сборище, дети мои, чего вам надо? — Он тотчас же понял, что такого вопроса задавать не следовало. Глухой, сдержанный ропот толпы перешел в возмущенный вопль, в котором выделялись нервные голоса женщин: — Он не знает, чего нам надо?! — Сами же вводили новые налоги, а теперь спрашивают! — За кирпич — плати, за известь — плати, за доски — плати, за все — плати! — Лошадей и то налогом обложили! Молчать больше было нельзя. Григол Орбелиани властно поднял руку, приподнялся в стременах и, не дождавшись тишины, начал, стараясь перекричать толпу: — Успокойтесь, дети мои, замолчите. Закон для всех закон. Я главноуправляющий, и то плачу налог за своего коня, никакой разницы… Стоявший впереди карачогели шагнул к князю Григолу и спокойно положил руку на его коня. — Мы знаем тебя, ваше сиятельство, и коня твоего, Мерцхала[11], тоже знаем. Но ты знаешь, князь, в чем разница между тобой и мной? Карачогели говорил негромко, но его слова звучали ясно и четко, их слышали все. — Знаешь, в чем разница? — повторил он. — Ты содержишь своего коня, а мой конь содержит меня. Молчавшая толпа взорвалась злым хохотом. — Ох, и ловок наш Лопиан, не язык, а бритва, — проговорил сквозь смех кто-то рядом с Григолом Орбелиани. Только сейчас узнал Григол в говорившем карачогели Лопиана, своего старого знакомца, рыбака и кулачного бойца, известного всему городу. Вороной Мерцхал, услышав свою кличку, взвился на дыбы, сделал несколько шагов и, не опускаясь на передние ноги, повернулся. Григол отпустил поводья и поскакал прочь от хохочущей, торжествующей толпы. …На следующий день Тифлис вымер. Тяжелые щеколды с пудовыми замками запирали лавки. На улицах не было видно ни одной коляски, ни одного экипажа. Даже на извозчичьей бирже, где постоянно толпились, судача не хуже старых баб, тифлисские «фаэтонщики», на этот раз было тихо и безлюдно. Растерянные хозяйки выглядывали из окон, тщетно пытаясь услышать привычные возгласы разбитных тулухчи: «Вадаа! Вадаа!» Воды в городе не было. Не было жизни. Григол Орбелиани совещался с заместителем губернатора Нико Чавчавадзе, начальником штаба Карповым и шефом жандармов Миквидем. Недавно назначенный городской голова Абесаломов метался по комнате, в отчаянии стиснув лоб обеими руками. — Наш голова потерял голову, — мрачно дошутил Орбелиани. — Остается хоть нам на что-нибудь решиться… В город стягивались войска с окраин. Все мосты были перекрыты. Лазутчики то и дело доносили: — Бунтовщики мутят народ, говорят: издан приказ, чтобы вместо каламанов все население обуть в сапоги! — Бунтовщики разорили дом городского головы! — Бунтовщики убили жандармского офицера Башбеукова! — Бунтовщики собрались на Ходжеванке, за Бебутовским кладбищем! И так целый день: «Бунтовщики!..», «Бунтовщики!..» Стемнело. Григол Орбелиани, оставшись один, не мог найти себе места. «Бунтовщики!» С утра против них предпримут решительные меры. Среди них Лопиан, крестьянин в кахетинской шапочке. Там были женщины, дети… Накинув на домашний ахалух легкий плащ, Орбелиани спустился во двор, вывел неоседланного Мерцхала, закинул поводья, с трудом влез на него и тихо, в тяжелом раздумье, выехал со двора. Очнувшись от дум, он заметил, что подъезжает к Ходжеванке. Стоял июнь, но ночь была темная, прохладная. Люди тесно сгрудились вокруг редких костров. Григол Орбелиани спустился с коня, взял его под уздцы и подошел к одной группе. — …освободили крепостных. Но разве легче стало жить тебе, Михо, в твоей деревне? Разве слез помещик с твоей шеи? — человек говорил негромко, задушевно, обращаясь то к одному слушателю, то к другому. Орбелиани вновь увидел юношу в семинаристском мундире, но по разговору нельзя было поверить, что его обучали божественным наукам. Крестьянин, к которому обратился юноша, покачал головой: — Нет, не слез, только потеснился, дал место на моей шее купцу, лавочнику, попу… Григол вспомнил свои стихи «Муша Бокуладзе» («Рабочий Бокуладзе»):
Ортачала — пригород Тифлиса. Летом, когда солнце накаляет камни, и земляные крыши города так, что невозможно дышать, сюда приезжают провести время, погулять, подышать речной прохладой. Григол Орбелиани привез сюда своих друзей и знакомых русских офицеров. Он отмечал свое освобождение из ненавистной авлабарской казармы. Он умел покутить — по-старинному, с песнями и замысловатыми тостами, на расстеленной прямо по земле бурке. Хозяин духана знал привычки своего посетителя. — Все будет, князь-джан! — уверял он, подобострастно склонившись перед гостями. — И шашлык тут же при тебе зажарим на костре, и свежевыловленную рыбу — цоцхали прямо из Куры на ваш стол бросим, и зурна будет, и все, что захочешь, — все будет… Духан — старенькая хибарка, давно уже почерневшая и покосившаяся от времени — стоял над самой Курой. Григол Орбелиани с друзьями расположился внизу, у воды. И когда дружеский пир был в разгаре, внезапно из-за поворота реки показалось что-то темное, неопределенной формы. Оно росло, приближалось, беззаботно отданное на произвол речных волн. И вдруг защемило сердце Григола предчувствием чего-то знакомого. Бывает в жизни — видишь какой-нибудь предмет или человека, казалось бы, впервые в жизни. Но подсказывает предчувствие: «Ты уже встречался с ним, вспомни, напряги память, подумай…» И вдруг — вспомнил! Вспомнилась мрачная одиночка в авлабарской казарме, чувство оторванности от жизни, и вдруг — свежий порыв ветра, ворвавшийся в разбитое окно, звук родной, знакомой песни и темное пятно плоскодонки, надвигающееся из тьмы и остановившееся под окнами казармы. Вспомнился ясно, до мельчайших оттенков, голос: «Мы с вами, ребята!» Григол Орбелиани встал, сделал шаг к реке, еще! Рыбачья лодка приближалась. Вот она совсем рядом. И — конечно же, это она! — остановилась на месте, удерживаемая мощными гребками весел против течения. Разом зажглись десятки свечей у бортов, и поднялся кто-то в лодке, поднял руку вверх, словно призывая к молчанию. Впрочем, и так кругом было совершенно тихо: молчали люди в лодке, молчали зачарованные неожиданным видением офицеры — друзья Григола, молчал сам Григол; даже болтливый духанщик прервал поток заученного красноречия, словно и он почувствовал необычность момента. Только Кура шумела непокорно и неумолчно, и никто на свете не мог заставить ее замолчать. Человек в лодке помедлил мгновение, словно прислушиваясь к рокоту волн, потом опустил руку, протянул ее в сторону, и тотчас же, как по волшебству, в ней оказалась тарелка, на которой стояло четыре полных стакана вина. И человек заговорил: — Друзья, мы не знаем, что вы за люди, но мы приветствуем вашу компанию! Я и мои товарищи — простые рыбаки, мы работали целый день с самого рассвета. Мы работали и вчера, будем работать завтра. Вы меня тоже не знаете, но я, Лопиан, пью за вас. Может быть, вы не тифлисцы и не слышали моего имени. Но люди знают, кто такой Лопиан! Спросите у людей, они скажут, кто я такой. Каков я в работе и каков я на пиру, каков я в веселье и каков я в кулачном бою — все вам скажут люди, спросите у них. Мы пьем за вас, друзья! Лопиан медленно, один за другим, выпил все четыре стакана и передал тарелку товарищу. Такой красотой и силой веяло от каждого его слова и движения, такой уверенностью и чувством достоинства звучала речь рыбака, что Григол Орбелиани не мог произнести ни слова. Так вот кто поддержал его, готового отчаяться узника, в трудную минуту! Это были Лопиан и его друзья. И в те мгновения, когда он молча наблюдал за человеком в лодке, у Григола Орбелиани зародилась мысль написать стихотворение о нем, о простом рыбаке Лопиане. Десятки лет прошли, пока поэт осуществил свое намерение. Он успел сблизиться и подружиться с Лопианом, потом потерял его из виду, потом понемногу начал забывать о нем. И вот сегодняшняя встреча, неожиданная и чуточку грустноватая, как всякая встреча с молодостью. Лопиан с друзьями карачогелами стоит внизу и поет «Мухамбази». Песня нашла своего героя. «Лопиан! Мы снова встретились», — только многолетняя светская выучка помешала Орбелиани крикнуть это громко, на весь сад. Туда, вниз, к другу молодости! Но чья-то крепкая рука схватила поэта за локоть и властно задержала на месте. — Мне очень приятно, князь, что мой сюрприз произвел на вас такое впечатление! — это голос великого князя. Надо собраться с силами, что-то ответить. — Да… Мой «Мухамбази»… Сейчас, здесь… Это действительно неожиданность. Песня затихла. Огоньки в чашах догорели и начали поочередно гаснуть. И сейчас же, по чьей-то невидимой команде, зажглись тысячи свечей, причудливо развешанные по всему балкону. Внезапный свет слепил, резал глаза. Сад отделился непроницаемой черной стеной и отодвинулся куда-то в недосягаемую даль. Выдающийся романтик, поэт вечной юности Григол Орбелиани родился 7 июня 1800 года. Образование получил в Тифлисе. Потом — артиллерийское училище и военная служба… Походы против Турции и Персии (1826–1829 гг.)… Петербург (1831 г.)… Дневники «Мое путешествие из Тифлиса в Петербург». В 1858 году он председатель консультативного совета при наместнике, а в 1860 году — тифлисский генерал-губернатор. Скупые строки биографии мало что могут сказать. Но за ними жизнь. Его творчество отличается разнообразием жанров. Патриотические чувства — основной фундамент его лирики: Пусть имя того человека покроется вечным презрением, который родную отчизну не любит любовью святой… Г. Орбелиани впервые в грузинской поэзии применил белый стих. Умер поэт 21 марта 1883 года.
* * *
…Резкий, порывистый ветер сбивал с ног. Низкое мартовское небо повисло над землей. Во дворе Кашветской церкви, тесно прижавшись друг к другу, стояли люди. Они пришли сюда с восьми часов утра, чтобы отдать последний долг своему любимому поэту. 26 марта 1883 года Тифлис прощался с Григолом Орбелиани. Народ пришел сюда, чтобы сказать в последний раз: «Мы любим и ценим тебя, Наш Григол!» Отзвучали последние слова панихидной службы. Замерли последние слова надгробной речи командира корпуса Девеля, еле слышно, с трудом сдерживал рыдание, проговорил что-то Нико Чавчавадзе. Потом на паперти показался над толпой Илья Чавчавадзе — поэт воздавал должное поэту. — …Его славное имя собрало здесь представителей всех сословий нашей страны. Сюда пришли мужчины и женщины, знакомые и незнакомые, старики и юноши, бедные и богатые, горожане и селяне, крестьяне и рабочие, чтобы в этот горестный час выразить горе и несчастье Грузии, попрощаться со своим славным сыном, отмеченнымвысоким талантом… Затем над толпой возвысилась львиная грива Акакия Церетели. — …Что можно сказать в такое время? Только одно: пусть не оскудевает Грузия столь славными сынами, и тогда вечные времена будет жить в народе имя Григола Орбелиани… Отшумели залпы прощального салюта. Где-то за Курой пророкотали свое прощание пушки. Смолкла траурная музыка. И тогда над толпой возникла негромкая, протяжная и в этот миг особенно грустная мелодия «Мухамбази». Кто первым запел ее? Неизвестно. Народ Грузии прощался со своим поэтом-песней, вечной и неумирающей, как сам народ.
В. Черняк МЕРАНИ
Нет, не отец и мать — страна осиротела!Кому доверим мы восторженность и грусть?Одно смягчает боль: ведь смертно только тело,А стих нетленный твой затвержен наизусть.Илья Чавчавадзе,Памяти Н. Бараташвили.

Темная декабрьская ночь спустилась над Петербургом. Снег выпал еще месяц назад. Он лег плотным слоем на крыши домов, на карнизы, на голые ветви деревьев и теперь поблескивал в неясных огнях фонарей мириадами голубоватых искр. Город спал, только в просторном особняке на одной из центральных петербургских улиц гремела музыка. Княгиня Екатерина Чавчавадзе-Дадиани давала бал. В огромных окнах сквозь расплывшиеся тени азалий мелькали силуэты танцующих, мерцали свечи в граненых подсвечниках. Вдоль улицы тянулась вереница карет. К парадному подъезду подлетела карета. Еще на ходу из нее выпрыгнул молодой человек, быстро пробежал по ступеням и скрылся в доме. Дворецкий в зале объявил: — Князь Илья Чавчавадзе… Это имя мало что говорило присутствующим. Они продолжали веселиться, только хозяйка дома поспешила навстречу гостю. — Здравствуйте, Илья, — сказала она по-грузински. Чавчавадзе поклонился, поцеловал ей руку. — Княгиня, — сказал он, — я всегда рад бывать у вас, но сегодня время мое ограничено… — Ах, да-да. Вы получите, князь, то, что я обещала вам. Будьте добры подняться наверх… Они очутились в небольшой гостиной. В углу на богатом персидском ковре стояли маленький столик и два глубоких мягких кресла. По стенам тянулись полки с книгами, огромное количество книг… Княгиня зажгла две свечи, комната осветилась неровным, мигающим светом. Потом она подошла к полкам, достала маленький ларец, открыла его и подала Чавчавадзе небольшую тетрадку в синей обложке. — Вот то, что вы желали… Здесь все оставшиеся стихи моего друга Николая Бараташвили. Когда-то он подарил мне эту тетрадь… Если хотите, можете остаться в этой комнате. Читайте, а я должна спуститься к гостям… Но она ушла не сразу. Пока Чавчавадзе читал, она стояла у окна, словно вглядываясь в мутную черноту декабрьской ночи. О чем она думала? Какие воспоминания тревожили ее? А может быть, перед ее глазами вновь встал тот далекий день в жарком по-летнему Тифлисе… …Катя сидела на скамейке в саду. Это было ее любимое место. Сюда убегала она отдохнуть под густыми ветвями старого платана. Завтра для нее наступит новая жизнь. Все решено: она выходит замуж. Прощай, юность, привольная и веселая, проведенная в отчем доме, который, впрочем, ей уже наскучил. Ничего… Будь что будет! — Катя!.. Она обернулась. По дорожке к ней направлялся юноша. Он чуть прихрамывал. — А, это ты, Тато. — Да… Я знал, что застану тебя здесь. — Садись, Тато. Как твои дела? — Дела?.. Послушай, Катя. Завтра ты… выходишь замуж. Я не приду на свадьбу… Нет, нет. Так будет лучше. Я уезжаю, дела ждут меня. Я пришел тебя… поздравить и вот… — Он протянул ей тетрадь в синем переплете. — Здесь самое дорогое, что у меня есть… Это мои стихи. Пусть они будут моим свадебным подарком тебе. — Спасибо, Николай, спасибо. Я всегда буду хранить их, поверь. Ты ведь мой лучший друг!.. Щедрое летнее солнце посылало свои лучи на землю. Казалось, оно хотело обогреть все, словно говоря: «Радуйтесь, что я есть. Пройдет немного времени, и наступит осень. Тогда меня не будет!..» Но крупные ярко-зеленые листья платана желтели от жары и сворачивались в трубочки… Княгиня встряхнулась. Она взглянула на Чавчавадзе. Илья сидел неподвижно, охватив голову руками и целиком уйдя в чтение. На стене огромным черным пятном лежала тень от его фигуры. Неслышными шагами княгиня вышла… Чавчавадзе дочитал последнюю страницу, но долго еще сидел не двигаясь. Некоторые из этих стихов были известны ему — они печатались в «Цискари», — но все прочитанное вместе производило ошеломляющее впечатление: «Мерани», «Раздумья на берегу Куры», «Злой дух»… «Вот оно, сокровище! Я держу его в руках… Страшно подумать, что столько лет о нем ничего никому не известно», — так думал Илья. Снизу доносилась музыка. Там по-прежнему гремела мазурка, кружились дамы в легких бальных нарядах, мерцали свечи и звенели бокалы. Темная декабрьская ночь висела над городом, словно некий бесславный символ эпохи.
* * *
Он умер двадцати восьми лет, оставив всего сорок два стихотворения. Он был почти потерян для потомства. Грузинский народ дважды открывал гения своей поэзии. В пятидесятые годы журнал «Цискари» впервые напечатал его стихи, когда поэта уже не было в живых. Второй раз — в 1893 году, когда прах поэта перенесли из Гянджи в Тифлис. Это было небывалое шествие, великая демонстрация национальной гордости. Гроб переходил из рук в руки — с вокзала до Дидубийского Пантеона. Женщины плакали, матери заставляли детей становиться на колени перед прахом поэта, возвратившегося на родину. Народу было так много, что, когда гроб уже предали земле на Дидубийском кладбище, конец шествия еще не двинулся с Вокзальной площади. Хоронили человека, который при жизни не увидел ни одного своего стихотворения напечатанным; никто не услышал думы его на берегу Куры; никто не увидел стремительный бег его Мерани…[12] Каждый грузин с необычайной любовью и нежностью вспоминает имя Николая Бараташвили еще и потому, что национальный гений страны погиб где-то на чужбине, работая в пыльной канцелярии, трясясь в лихорадке, сгорая от воспаления легких, одиноким, без родных и друзей, заброшенный и забытый всеми. Прошло много лет после гибели поэта, и его стихи, впервые появившиеся на страницах «Цискари», стали настоящим откровением для многих. Н. Бараташвили явился слишком рано для своей эпохи, не готовой еще для восприятия философии поэта. Это была трагедия человека, на десятки лет опередившего современное ему общество. Такие люди либо гибнут, либо становятся властелинами дум. Бараташвили погиб — и стал настоящим властелином дум. Его не было в живых, но незримо он как бы присутствовал во всей второй половине девятнадцатого столетия, и вот сегодня родная земля принимала его останки, сегодня народ воочию убедился в смерти своего поэта, слова которого помнили все:
* * *
Осень в этом году была холодная. Непрерывно шли дожди, но даже когда они ненадолго прекращались, погода оставалась мрачной и пасмурной. Ветер нес рваные облака. В сумерках они казались парусами, словно эскадры неведомых завоевателей сходились к Тифлису, становясь на рейд за темнеющими горами. Быстро опустился вечер. В домах зажигались огоньки. Со стороны Мтацминдской церковки доносились удары колокола, и глухой тоскливый звон рассыпался в отсыревшем воздухе. По слабо освещенной улице поднимался человек. Он был одет в дорожные сапоги; легкий плащ, стянутый у шеи черным шнурком, и плещущий по ветру ярко-красный шарф придавали его фигуре воинственный вид. В руках он держал старый, видавший виды цилиндр с ленточкой, и на курчавые волосы падали редкие капли дождя. На углу, в тени дома, человек остановился. Нервно теребя перчатки, оглянулся и тихо спросил: — Петр, где ты там потерялся? — По-видимому, он обращался к слуге. — Я тут, — ответил незримый, кого звали Петром. — Быстрее, быстрее, у нас очень мало времени, — взволнованно сказал человек в плаще, и они пошли дальше. — Где-то здесь нас должны ждать. Да, я уже вижу, вон они! Две фигуры двинулись к ним навстречу.
В доме поэта Александра Чавчавадзе ждали гостей — все было сделано для того, чтобы они пришли незамеченными, — во всех помещениях погасили огни, кроме маленькой залы на втором этаже, окна которой выходили во двор. Хозяин сам стоял у калитки. Те, кого он ждал, должны были войти с черного хода. Александр Чавчавадзе напряженно всматривался в темноту. Почему они задерживаются? Что-нибудь случилось? В такое время все может быть. Нет, вот они, слава богу. Четыре фигуры вынырнули из темноты. — Сюда, сюда, — тихо позвал Чавчавадзе и вышел навстречу. В небольшой зале богатого дома собралось немногочисленное общество самых близких друзей и родственников: поэты Григол и Вахтанг Орбелиани, Манана Орбелиани и младшая дочь Александра Чавчавадзе — Екатерина. В уголке на диванчике сидел ее двенадцатилетний товарищ Нико Бараташвили, которого в семье звали просто Тато. Двери залы распахнулись. На пороге стояли хозяин дома и курчавый молодой человек в дорожных сапогах. — Господа, — тихо сказал Чавчавадзе, — разрешите представить: Александр Сергеевич Пушкин… Свет притушили. В полутьме внимательно слушали собравшиеся стихи Пушкина. Он читал мастерски. Его лицо скрывалось в тени, голос, звонкий и чистый, казалось, заполнил все уголки комнаты.
* * *
Николоз Бараташвили рано стал писать стихи. Детство он провел в доме своего отца — князя Мелитона Бараташвили. Представитель знатного, но обедневшего рода, хорошо образованный по своему времени человек, князь Бараташвили служил переводчиком при наместниках Кавказа — Ермолове и Паскевиче. Несколько раз он избирался предводителем дворянства Тифлисского уезда. Его дом посещали видные поэты и общественные деятели Грузии того времени: Александр Чавчавадзе, Игнатий Иоселиани, Григол Орбелиани и другие. Любознательный и впечатлительный мальчик внимательно прислушивался к разговорам взрослых. Он мечтал стать таким же, как дядя Григол, или как отец — высоким, красивым, затянутым в мундир с серебряными пуговицами, с саблей на боку. Он мечтал стать военным. Николоза отдали в тифлисскую Колоубанскую приходскую школу, а затем он перешел в Тифлисскую «благородную гимназию». Нико учился хорошо. Он был веселым и остроумным мальчиком, любившим всякие проказы и шутки. Гимназисты издавали рукописный журнал «Цветок Тифлисской гимназии» на русском языке, в котором сотрудничали друзья Нико — М. Туманов (Туманишвили), впоследствии довольно известный поэт, один из первых переводчиков Пушкина на грузинский язык, И. Андроников (Андроникашвили) и другие. В журнале публиковались стихи русских и грузинских поэтов, статьи по древнегрузинской и русской литературе. Николоз Бараташвили много писал. Его едкие эпиграммы пользовались успехом. Кроме того, он начал большую поэму «Иверийцы», в которой патриотически воспевалась Грузия X–XII веков. Способному мальчику прочили большое будущее, однако с ним неожиданно произошло несчастье. Николоз упал с лестницы и повредил ногу. О военной службе не могло быть и речи. На поступление в университет не хватило денег, и Бараташвили, окончив в 1835 году гимназию, поступил на службу в «Экспедицию суда и расправы». «…Я хотел стать военным, с этим желанием я рос, оно и теперь порой закрадывается в мое сердце. Что же помешало мне, раз у меня было такое желание? А вот что помешало: препятствием к тому родные ставили мою хромоту — «иначе, как в команду инвалидов, никуда, — говорят, — не примут». И это тогда, когда моя нога находилась да и сейчас находится в лучшем состоянии, так, что я и прыгаю и танцую по своему обыкновению. Узнав об их отказе и неудовольствии, я попросил хотя бы отправить меня в университет, с тем что если идти мне по штатской, то идти хоть там… К несчастью, заболел в это время мой отец и, больной, так отвечал на мою просьбу: «Сын мой, ты видишь, каковы наши домашние обстоятельства. Я, быть может, не осилю эту болезнь. Разве ты не возьмешь на себя попечение о доме?» Я… покорился своей жестокой судьбе, хотя иногда поднимается во мне злое намерение сразиться с ней: или гибель моя, или осуществление моего желания!» — так пишет поэт своему дяде Григолу Орбелиани, который находится в изгнании за участие в заговоре 1832 года грузинских дворян против русского владычества в Грузии. Потомок Багратионов, за мизерное жалованье он служит в пыльной канцелярии, хотя ему ненавистна нудная канцелярская работа, рассмотрение тяжб и споров, составление бесконечных «формулярных списков» и «докладных реестров», дела по опеке разоренных дворянских имений. Отец обанкротился. Семья обнищала, и Николоз превратился в кормильца семьи. Такова была судьба человека, чья философская лирика, по выражению критика, своей искренностью и глубиной напоминает псалмы Давида. Служба в канцелярии угнетала Бараташвили. Правда, в дневные часы он часто отлучался, порой, казалось, бывал рассеян, но когда глава учреждения, подозрительно относившийся к Бараташвили, провел как-то неожиданную ревизию, он был приятно поражен, найдя все дела в полном порядке. — В таком случае продолжайте бегать, сколько душе угодно, — сказал он. Эти последние годы в Гяндже — самые тяжелые в жизни поэта. Никогда еще он не чувствовал себя Таким одиноким. Не понятый теми, к кому он всегда относился с искренним уважением, вынужденный заниматься неинтересной, нудной работой только для того, чтобы прокормить разорившуюся семью, он глубоко разочаровался в жизни:
* * *
Однажды к Николозу пришли друзья. Он сидел в своей маленькой комнате за письменным столом. Светило солнце. В раскрытое окно доносился шум большого города: кричали мальчишки, раздавался стук копыт по торцам мостовой, в саду пели птицы. — Слушай, Нико, пойдем с нами вечером в одно место, — сказал один из пришедших. — Куда?.. — равнодушно спросил Бараташвили. — О!.. Ты не угадаешь. Мы приглашаем тебя в церковь… — В церковь? — удивился Никодоа… Он никогда не был верующим, да и друзья его вряд ли были «примерными христианами». — Нет, я не пойду, — сказал он. Друзья знали характер Бараташвили. Он говорил обычно негромко, вполголоса, но свои решения, даже в мелочах, менял крайне редко. — Николоз, дело тут не совсем обычное. Ты слышал что-нибудь о монахине Софье? Нет? Это интересная история… — Что же, расскажи, — Бараташвили присел на подоконник. Перед ним был сад, зеленый на фоне голубого неба. Вдалеке синели горы. Одинокая ветка чинары качалась под самым окном. Николоз притянул ее рукой. — История такая, — продолжал друг. — В селении Цхрамуха, знаешь, недалеко от Мцхета, жила красивая девушка. Многие парни заглядывались на неё, но лишь одному отдала она свое сердце. Часто встречались влюбленные, уходили в горы, вечера просиживали на берегу небольшой, но бурной речки, наблюдая, как бежит она по камням, стремясь вниз в долину между зеленых тенистых берегов. «Ты любишь меня, любимый?» — спрашивала девушка. «Люблю, моя любимая», — отвечал парень, ибо так оно и было на самом деле. Они действительно любили друг друга со всем пылом молодых сердец. Знали об их взаимной привязанности! и родители, причем старики ничего не имели против: работящая девушка, неглупый красивый парень. Пусть дружат, пусть любят друг друга: хорошая свадьба будет осенью. Казалось, ничто не мешало счастью влюбленных. Как зеленое лето, цвела их любовь. Но судьба решила иначе. Однажды, когда девушка направилась к месту их обычной встречи — старому дубу на берегу, еще издалека донеслись до нее крики и шум схватки. Девушка пошла быстрее, потом побежала. Страшная картина предстала перед ее глазами, когда раздвинула она кусты на вершине горы: человек пятнадцать разбойников-лезгин связали ее возлюбленного, бросили в седло и собирались в путь. — Милый!.. — крикнула девушка что есть силы. — Милый мой!.. Но лезгины, услыхав этот крик, вскочили на корней и помчались прочь. Десятки юношей бросились вслед за ними, когда вне себя от горя прибежала она в селение. Но погоня ничего не дала. Тридцать три дня плакала девушка, а на тридцать четвертый ушла пешком в Тифлис, чтобы поступить в монастырь. Так рассказывают в народе. — Да… — задумчиво проговорил Бараташвили, — красивая легенда. — Ты можешь увидеть эту легенду в сумерки, у выхода Мтацминдской церкви. Она приходит туда к вечерне. — Хорошо, — сказал Николоз, — я пойду туда. Повесть о трагической любви сильно взволновала его.
 Александр Чавчавадзе.
Александр Чавчавадзе.
 Тифлис. Слева — Метехский замок С картины Г. Гагарина (XVIII в.)
Тифлис. Слева — Метехский замок С картины Г. Гагарина (XVIII в.)
 В. Григолия. Портрет Григола Орбелиани.
В. Григолия. Портрет Григола Орбелиани.
 Ладо Гудиашвили. Портрет Николоза Бараташвили.
Ладо Гудиашвили. Портрет Николоза Бараташвили.
В назначенный час они были у Мтацминды. Темнело. Очертания величественной горы медленно таяли в тумане. Тихий вечер нес запах цветов, сена и сосновых шишек. Монастырь Мтацминда, небольшое здание с узкими окнами, воздвигнутое на площадке, вырубленной в самом теле скалы, был освещен последними бликами заходящего солнца. Из церкви доносилось тихое нестройное пение. Но вот оно стихло. Стал выходить народ. — Вон она, вон, гляди! Но Бараташвили видел и сам: бледное, с огромными скорбными глазами лицо монахини поразило его. Казалось, печаль этих глаз проникает в самое сердце, жжет, не дает покоя. — Как прекрасна! — тихо проговорил друг. — Замолчи! — неожиданно резко бросил Николоз. Он сам не знал, что с ним. Волна тревожной нежности охватила его. Все, что он пережил, все, что ему еще суждено было испытать, с невероятной четкостью предстало перед ним. Величавая гора, сумерки, женщина невиданной красоты и печали… Он круто повернулся и пошел прочь. Сами собой складывались строки:
О. Романченко ЯКОБ ГОГЕБАШВИЛИ

Вдоль берега помутневшей, разбушевавшейся Куры, спотыкаясь, бредет человек. Губы его что-то шепчут, широко раскрытые глаза ничего не замечают вокруг. Одет он не по погоде, легко. Отступают назад, расплываются в сумраке последние домики города, порывы речного ветра мешают идти, но человек борется с ветром, все ускоряет и ускоряет шаг. Странный незнакомец привлекает внимание юноши, который спокойно возвращается берегом реки к себе домой. Юноша оглядывается, но… человека уже нет на берегу. Не задумываясь, юноша срывает с себя одежду и кидается в кипящие волны, туда, где еще мелькает белый рукав рубашки незнакомца. И вот они оба снова на берегу. Спасенный лежит без чувств. Кто он? Какое горе привело его сюда? Юноша осторожно приподнимает голову незнакомца, пытаясь разглядеть лицо, и вскрикивает испуганно: — Боже мой, да ведь это Якоб! А спустя немного времени он дает объяснения в городской больнице: — Я Сандро Цхведадзе. Это Якоб Гогебашвили, учитель, друг моего старшего брата Нико. Скажите, он будет жив? — Трудно поручиться, — сурово отвечает доктор. — Судя по всему, он болен, в горячке. Непонятно, кто прописал ему эту ледяную ванну? На следующий день о происшествии знают все друзья, молодого учителя. Чтобы выяснить подробности, они едут в Тифлисскую духовную семинарию, где он работает инспектором, на казенную квартиру, где он живет. С недоумением друзья узнают, что Якобу Гогебашвили не принадлежат уже ни место инспектора, ни квартира. Именно вчера, тяжелобольной, он лишился и того и другого. Тяжелая картина неравной борьбы молодого учителя с чиновниками в учительских мундирах раскрывается перед друзьями. Нико Цхведадзе знал веселого, любознательного Якоба, который был первым учеником в духовном училище и в семинарии. Якоб нередко гостил в семье Цхведадзе и в Тифлисе и в деревне Кавтисхеви. Он часами, до изнеможения, бродил по окрестностям деревни, чудесно пел грузинские народные песни вместе с голосистыми крестьянами, играл и дурачился с деревенскими ребятишками. Но главное — он был талантлив и трудолюбив, и никто из знавших его не сомневался, что он сможет стать полезным человеком на том поприще, которое изберет себе. Так что же произошло? Чем не угодил молодой учитель людям, с которыми по необходимости связала его судьба? Сын небогатого сельского священника, Якоб Гогебашвили, окончив Тифлисскую семинарию, уехал учиться в Киев, в духовную академию. В Киеве он начал посещать университетские лекции, увлекся учением Дарвина, зачитывался произведениями русских революционных демократов — Герцена, Добролюбова, Чернышевского. Большое впечатление произвели на молодого грузина статьи великого русского педагога К. Д. Ушинского. Надо сказать, что все эти увлечения, широта интересов вовсе не были неожиданными и новыми для Якоба Гогебашвили. В духовные учебные заведения не всегда шли те, кто собирался оставаться на духовном поприще. Просто это открывало возможность получить образование, а детям из бедных семей давало кое-какую казенную помощь. Из духовных училищ и духовных семинарий люди расходились впоследствии по самым разным путям-дорогам. Плохое здоровье и материальная нужда вынудили Гогебашвили вернуться в Грузию, но возвращался он уже не тем неуверенным юношей с высокими, но неопределившимися стремлениями, каким был год назад. Он многое узнал, многое понял. Новым показался ему и Тифлис: в городе начал выходить прогрессивный журнал «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»), сотрудники которого во главе с Ильей Чавчавадзе смело и решительно выступали против всех проявлений консерватизма в жизни общества. С 1864 года Гогебашвили стал преподавателем арифметики и географии в Тифлисском духовном училище, а затем в семинарии. Борьба началась с первых же дней. Подумать только: новый учитель относился к учащимся, как к равным, сумел стать для каждого из них чуть ли не личным другом. Ученики бывали у него дома, вместе обсуждали прочитанные книги, а то и брали их у него, вели «крамольные» разговоры, нередко задерживаясь дотемна. И вот в адрес русского наместника на Кавказе и в синод — высшему церковному начальству — полетели доносы, что новый преподаватель устраивает у себя тайные собрания, знакомит молодежь с вредоносными книгами, с «разрушительными» материалистическими учениями, способствует неверию в бога, которое, как эпидемия, охватывает все большее число слушателей семинарии. Однажды ректор семинарии вместе с прибывшим по очередному доносу архиепископом неожиданно явились на урок Гогебашвили, надеясь застать того врасплох и обнаружить «крамолу». Шел урок географии. Нежданные ревизоры сами, вместе с учениками, заслушались вдохновенного рассказа молодого учителя. «Не будь он материалистом, он заслуживал бы лучшей участи», — сказал ректор архиепископу, выходя из класса. Но это признание таланта молодого педагога вовсе не означало его победы. По-прежнему царские чиновники в учительских мундирах следили за каждым шагом Гогебашвили, доносили о каждом его поступке. И это не просто бездарность и ограниченность, как нередко бывает, преследовали малейшее проявление самобытности. Во всем, что нес с собой Якоб Гогебашвили, было что-то новое, неведомое, а главное — чуждое и опасное для церкви и государства. Гогебашвили не сдавался. Назначенный инспектором духовной семинарии, он организовал для учащихся научные кружки, основал ученические журналы, всячески стремился расширить круг знаний своих учеников. Гогебашвили познакомился с Ильей Чавчавадзе, и тот не раз выступал со статьями в защиту передовых принципов педагогики, в защиту личности ученика. Однако, человек чистой и открытой души, Якоб Гогебашвили идеализировал своих противников. Ему казалось, что они заблуждаются, что они ограниченны, но по-своему преданы делу, ищут своих путей к сердцам учеников. А те прежде всего стремились избавиться от беспокойного, неблагонадежного сослуживца. Враги стали изыскивать самые подлые пути, чтобы расправиться с Якобом Гогебашвили. В дни его болезни в семинарии была назначена неожиданная ревизия, причем таинственно исчезла приходо-расходная книга, по которой инспектор семинарии мог бы отчитаться. Тяжелобольной, с высокой температурой, Гогебашвили узнал, что он заподозрен в хищениях, опозорен, отстранен от должности. Ему поспешили сообщить, что в ближайшие дни он должен освободить казенную квартиру. Потрясенный подлостью врагов, Гогебашвили не мог ни дня, ни часа оставаться в ставших для него ненавистными стенах семинарии. Он поднялся с кровати и ушел на пустынный берег Куры. В больном мозгу билась горячечная мысль, что, опозоренный, он больше не может ходить по земле, не может смотреть в глаза людям. Через месяц, когда Гогебашвили выписался из больницы, Нико Цхведадзе перевез его к себе домой, куда уже забрал небогатый скарб своего друга. После болезни и тяжкого нервного потрясения Якоб был очень слаб, и друзья уговорили его отдохнуть. На собранные ими деньги он уехал в родную деревню Вариани, неподалеку от Гори, а затем на курорт Абастумани. Это было в 1874 году. Вернувшись обратно в Тифлис, Якоб Гогебашвили снял скромную комнату, забрал у Нико Цхведадзе немногие свои вещи. И в первый же вечер, когда разошлись друзья, он сжег в камине все документы об образовании, послужной список. Но это уже не было болезненной слабостью, похожей на ту, которая толкнула его к попытке самоубийства. Это было исполнение того, о чем он думал упорно все эти месяцы. Гогебашвили решил навсегда отрезать себе путь к казенной карьере. Он учился и боролся не ради нее, не ради этих бумажек. Благо человека, благо народа — вот ради чего хочет он трудиться и жить. Пламя угасающего камина освещало смуглое осунувшееся лицо с черной густой бородой и высоким лбом. Уже сгоревшие бумажки лежали в камине раскаленными трубочками, даже отдельные буквы можно было прочитать. Но один удар каминных щипцов, и они рассыпались серым пеплом — сожженные мосты к прошлому. Со всей страстью борца и полемиста Якоб Гогебашвили взялся за общественно-педагогическую и литературную работу. Он мечтал о лучшем устройстве жизни, призывал к светлому будущему, но стремился прежде всего создать сегодня надежные гарантии этого светлого будущего. А они, по его мнению, заключались в воспитании нового человека. Новое поколение широко образованных, преданных родине людей сумеет завершить переустройство общества. Талантливый педагог, Якоб Гогебашвили огромное значение придавал воспитанию иобразованию. Он давно уже вынашивал мысль о новых детских учебниках, книгах, которые притягивали бы к себе детей. Книгах, которые помогли бы воспитанию юношества, заставили бы его полюбить свою родину, познакомили бы широко с родным краем, историей, литературой, сблизили с великим русским народом. Прежде всего вместе с Нико Цхведадзе Гогебашвили приступил к созданию Общества по распространению грамотности среди грузин. Из Харькова они выписали типовой устав для подобных обществ. По субботам на квартире известного общественного деятеля и публициста Дмитрия Кипиани члены будущего общества встречались, спорили часами, вырабатывали новый устав, который учитывал бы все местные особенности и нужды. Например, был внесен пункт о том, что преподавание в школах, открываемых обществом, должно вестись на родном языке. В эти дни слабый здоровьем Гогебашвили снова слег, но основная работа была уже сделана. Группка энтузиастов добилась у царского наместника на Кавказе утверждения устава. Это означало, что новое общество начало свое существование. Оно могло бы оказать огромное влияние на духовную жизнь народа, если бы… у общества были средства. Но тут на помощь пришел неутомимый Илья Чавчавадзе, который несколько лет знал Гогебашвили, Кипиани, Цхведадзе и высоко ценил каждого из них. Однажды на собрании дворянского банка на трибуну поднялся «пламенный Илья» — человек, одними любимый, другими ненавидимый, но ни для кого не безразличный. Он каждого вовлекал в орбиту своих действий, воспламенял речами, вызывая глубокое сочувствие и поддержку у одних и ненависть — у других. На этот раз Илья Чавчавадзе говорил о школах для народа, о долге и ответственности тех, кому судьба дала какие-то права. Он говорил о величайшем значении для Грузии, страны с большой и древней культурой, Общества грамотности. Эта горячая речь во многих пробудила совесть, и общество получило от банка ссуду, необходимую, чтобы осуществить хотя бы самые скромные первые замыслы. А замыслов было много. Нужно было подобрать учителей, преданных, с передовыми взглядами, любящих свой народ. Нужно было открыть первые народные школы. Передовые люди Грузии видели, что создаваемые правительством школы предназначены в основном для дворян или горожан, что доступны они лишь людям состоятельным. Простому же народу пути к образованию закрыты, хотя школа призвана играть громадную, если не решающую, роль в жизни каждого человека. Гогебашвили, как педагог, ратовал за принцип трудового воспитания в народных школах. Дети должны участвовать посильно в труде взрослых, должны быть связаны с практическими делами своего народа, знать его нужды и запросы. Они должны решать, пусть сначала небольшие, хозяйственные задачи, изучать природу, ее законы, — только так смогут они стать хозяевами родного края, сумеют использовать его богатства, выйдут победителями из вековечного поединка человека с природой. Однако любое специальное образование, по мнению Гогебашвили, должно опираться на всестороннее общее образование. «Специалист, лишенный общего развития, напоминает машину, которая механически выполняет лишь одну функцию и ни на что иное хорошее не способна», — говорил он. Но и образования мало: необходимо воспитать в человеке высокие моральные качества — гуманизм, патриотизм, благородство, вежливость и т. д. Ведь образованный человек при душевной грубости и черствости может принести более зла, чем добра. Он становится попросту опасен, когда достигает положения, при котором начинает влиять на людей и события. Вопросы педагогики Гогебашвили считал государственными вопросами, от которых зависит будущее не отдельных личностей, а всей страны, всего народа. Гогебашвили уже намечал целую программу переустройства жизни грузинского народа: развитие промышленности и торговли, улучшение орудий производства в сельском хозяйстве, учреждение органов самоуправления, широкое развитие науки, искусства, всеобщее образование. Осуществить все это было не под силу одному человеку или даже группе людей. Нужны были усилия целого поколения, того самого поколения, ради которого великий грузинский педагог и начал разрабатывать свою педагогическую систему, создал свои непревзойденные учебники. Еще в бытность учителем Якоб Гогебашвили написал для маленьких ребят простую и доступную «Азбуку». Теперь он приступил к созданию хрестоматии — книги для чтения. В сущности, подготовительная работа была проведена уже давно, когда он подбирал для своих учеников отрывки из произведений грузинских и русских классиков, исторические рассказы и документы. И вот в 1876 году хрестоматия, названная автором «Дэда эна» («Родная речь»), впервые увидела свет. С тех пор она издавалась ежегодно, иногда по нескольку раз в год, в течение пятидесяти лет. Даже нынешний учебник для первого класса грузинской школы составлен на основе «Дэда эна» Якоба Гогебашвили. «Дэда эна» сразу же стала любимой книгой для чтения не только у ребят, но и у многих взрослых. По общему утверждению она обладала необычайной притягательной силой. Но ведь именно это и было целью автора: вызвать жажду знаний, показать величайшее обаяние художественной литературы, мудрость и лукавый юмор произведений народного творчества, раскрыть счастье познания. Рассказы, стихи, сказки, загадки, собранные в книге, помогали изучению родного языка, рождали любовь к его красоте и звучности, будили мысль. Якоб Гогебашвили включил в свою книгу лучшие образцы грузинской классики, перевел рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, последователем которого он был, хотя идеи знаменитого русского педагога переносил на родную почву творчески, со всем присущим ему талантом и самобытностью. В «Дэда эна» вошли и рассказы самого Гогебашвили, простые и непритязательные истории, полные истинно народного юмора, написанные сочным языком, на каком говорят крестьяне, среди которых вырос и с которыми до конца своей жизни любил встречаться Якоб Гогебашвили. Самостоятельный раздел составили в книге народные песни, записанные студентом Дмитрием Аракишвили по просьбе автора хрестоматии. По педагогическому мастерству «Дэда эна» была непревзойденной книгой. Гогебашвили показал не только обаяние, но и могущество художественной литературы, которая оказалась в руках народа нержавеющим действенным оружием. А сам автор хрестоматии уже начал работу над переизданием своей книги о природе. Целые дни он проводил в библиотеках или за своим письменным столом, но зато, если ему удавалось вырваться за город, с восторгом бродил по лесу или полю, наблюдал тайны природы. Теперь жизнь Якоба Гогебашвили казалась внешне очень размеренной, лишенной внешних и внутренних потрясений, даже благополучной. Но это постоянное горение, постоянная целеустремленность давались ценой громадной внутренней сосредоточенности. Может быть, в тот страшный вечер, когда он убежал на берег реки Куры, холодные волны прокатились через его сердце, чтобы не вспыхивало оно от каждой спички? Может быть, когда пламя камина охватило бумажки, ради которых он некогда учился и жил, это пламя опалило и его сердце, чтобы оно стало прочным, как металл? Люди спасли его, вернули жизнь, которая в тяжкую минуту показалась ему непосильным бременем. Теперь он жил для людей, только для них, доказывая это каждым своим поступком. Учебники, Общество грамотности, вновь создаваемые журналы, различные благотворительные общества, бывшие ученики, нуждающиеся учителя и литераторы — все они требовали заботы, поддержки, средств. Но прежде всего, конечно, дети. Для них он писал и свою книгу. «Бунебис кари» — «Ключ к природе», так Гогебашвили назвал ее. Чтобы стать в будущем подлинными хозяевами природы, дети должны любить и понимать ее. Рассказать ребенку о том, что его окружает, рассказать больше, чем он увидел бы сам, — такую задачу поставил перед собой великий друг грузинской детворы. Ведь он всегда учил, что природа — неисчерпаемый источник знаний. Первые очерки для книги Гогебашвили начал писать сам, потом на помощь ему пришли и другие литераторы. Эта книга не только будила любознательность, не только вызывала желание изучить родной город, село или их окрестности. «Бунебис кари» была глубоко патриотической книгой. Природа мертва без людей, и не таким человеком был Гогебашвили, чтобы за журчаньем рек, щебетом птиц и шорохами трав забыть о народных страданиях, о несправедливости, которая правит миром. Ведь в своих статьях он не однажды писал о вопиющем материальном неравенстве и даже цитировал Маркса: «Одна сторона задыхается от богатства, а другая — от нищеты». Написанная живым народным языком, «Бунебис кари» была тесно связана с жизнью и судьбой Грузии. В книге рассказывалось о быте, нравах и обычаях грузин, о социальной жизни народа. Вот коротенький очерк о Кахети — цветущем богатом крае. А между тем крестьяне здесь влачат жалкое существование. По щедрой, богатой земле ходят оборванные, полуголодные люди, убогие лачуги стоят на этой земле. Почему? С таким вопросом читатель — ребенок и взрослый — закрывает последнюю страницу. В книге можно было найти и очерки из истории Грузии. В них поднимался страстный разговор о национальном достоинстве и в то же время о верной дружбе с русским народом. Дружбе на условиях равенства. В те годы не существовало учебников ни по географии, ни по истории Грузии. «Бунебис кари» стала и тем и другим. Борец за справедливость, Якоб Гогебашвили стремился вызвать протест против политического и духовного порабощения Грузии царским самодержавием, но в то же время он стоял за дружбу с передовыми русскими людьми. Всей своей жизнью он являл яркий пример этой дружбы: переводил детские рассказы русских писателей, доказывал своими статьями, что история и стремления самих народов навсегда соединили судьбы Грузии и России. Он был одним, из даровитейших последователей великого русского педагога К. Д. Ушинского, духовным братом русских шестидесятников. Их вскормила одна мать: любовь к родному народу. И не случайно поэтому Якоб Гогебашвили начал работу над новой книгой — «Русское слово». В его статьях и раньше встречалось немало добрых слов о русском языке, который он считал языком мирового значения. Знание этого языка должно было сблизить грузин с другими народами, расширить поле деятельности для каждого образованного грузина. Оно освободило бы хоть в какой-то степени от национальной ограниченности тех крайне односторонних интеллигентов из числа грузинского дворянства, которые подчас выступают от имени народа, не имея на то никаких прав. «…Необходимо нам, грузинам, изучать основательно русский язык, чтобы вместе с сочинениями грузинских писателей читать свободно произведения русских писателей, приобретать знания, просвещаться и через это получить возможность быть полезными сынами своей родины», — писал Гогебашвили. Своей книгой «Русское слово» Гогебашвили стремился укрепить чувство братства, любовь к русскому народу. Он написал очерк о Ломоносове, о России. «Кабинетный человек» — таким был Якоб Гогебашвили в представлении многих своих современников. Он не женился, не имел семьи и, казалось, все двадцать четыре часа в сутки отдавал работе. Но и к концу своей жизни, призванный педагог и детский писатель, он не стал человеком преуспевающим. Хотя Гогебашвили выбился из тяжкой нужды, которая угнетала его многие годы, но мог ли он с позиций личного благополучия считать, что жизнь изменилась к лучшему, что острые углы в ней стерлись и конфликты ликвидированы? Существует мнение, что нужда, голод и прочие личные беды — стимул к творчеству. Это мнение возникло давно и распространено до наших дней. Но это неизбежно означало бы, что, преодолев нужду и голод, литератор должен стать благополучным обывателем. Бывает и так, но тогда, значит, с самого начала он боролся лишь за самого себя и чисто случайно, благодаря обстоятельствам или более могучей силе своего протеста стал выразителем чужих дум и чувств. Не вернее ли считать, что сердце, способное вместить сотни чужих судеб, пережить радости и страдания сотен других людей, неизменно толкает человека искусства к творчеству, к протесту, к борьбе? Однажды, по пути из одной деревни в другую, Гогебашвили повстречал человека. Босой, одетый почти в лохмотья, он оказался неглупым и интересным собеседником. Каково же было услышать, когда этот бедняк назвал себя: «Я сельский учитель». И это тот, кто несет народу сокровища духовной жизни! Поистине полного самоотвержения требовал учительский труд. Кроме нищенских материальных условий, в какие был поставлен сельский учитель, да еще грузин, ему приходилось выносить непрерывную слежку, недоверие властей. Кто был честен, тот не мог замалчивать или хитроумно обходить острые политические вопросы. Тот сам искал и, возможно, другим подсказывал ответы, которые можно было найти лишь в книгах «запрещенного» направления. И лучшие, наиболее честные и самоотверженные учителя изгонялись из школ, ссылались на север, гибли за идеи справедливости и национально-освободительного движения. Их жены и дети впадали в беспросветную нужду. После встречи с сельским учителем, которая потрясла его, Якоб Гогебашвили выступил со статьями, начал организовывать кассы взаимопомощи, благотворительные вечера, сбор денег. Своими статьями он стремился поддержать учителей морально, напоминая им о высоком значении их труда. По его совету Общество грамотности начало премировать лучших учителей. Гогебашвили первым внес сто пятьдесят рублей в созданный для этого фонд. На помощь нуждающимся шла большая часть его личных средств. Лучше, чем кто бы то ни было; он знал, как могут выбить человека из колеи нужда, торе, болезнь, равнодушие одних и враждебность других. В скромной, небольшой квартирке Гогебашвили по-прежнему собирались друзья, студенты. Многие из них были обязаны замечательному педагогу своим образованием. Одним он помогал из личных средств, другие по его ходатайству и настоянию получили стипендии. Среди этих последних были известные впоследствии грузинские композиторы — Захарий Палиашвили и Дмитрии Аракишвили, тот самый, который обогатил хрестоматию «Дэда эна» записанными им чудесными народными песнями. Как Белинский, как Стасов, как Горький, Гогебашвили умел вовремя заметить, а в трудную минуту поддержать все талантливое и передовое в отличие от тех, кто с чутьем не меньшим, но достойным лучшего применения стремился это передовое и талантливое задушить еще в ростке. Когда речь заходит о помощи, можно подумать, что Якоб Гогебашвили стал фантастически богат. Это не так. Бесконечно богатым и щедрым было его сердце. Хотя книги Гогебашвили выходили очень часто, он не нажил на них капитала. В то время ему самому приходилось заботиться о выпуске их и брать на себя все расходы по печатанию. И он не стремился к прибыли, а выпускал свой книги по самой дешевой цене, чтобы они стали доступны любому ребенку из народа. В дальнейшем Гогебашвили вообще передал все права на издание своих книг Обществу грамотности. Дети, знавшие Якоба Гогебашвили как первого детского писателя Грузии, платили ему пылкой привязанностью за то, что он добрым, веселым и мудрым старшим другом вошел в их дома. Сохранились трогательные воспоминания сестры одного из наборщиков типографии, где печаталась хрестоматия «Дэда эна»: Девочка спряталась за станками, чтобы увидеть своими глазами автора хрестоматии: ей сказали, что он должен прийти в типографию, — увидеть человека, который казался ей волшебником. На всю жизнь запомнила она незначительный, но очень дружелюбный разговор с Якобом Гогебашвили, который, конечно, заметив ее, отнесся к ней внимательно и с уважением. Сохранилось и шутливое письмо Акакия Церетели, которого соседские дети донимали вопросами, когда он похвастался им невзначай, что знаком с самим Якобом Гогебашвили. «Покажись ты как-нибудь и нашим детям, — писал Церетели. — Вчера одна крохотная соседская девочка спрашивала про тебя: «Якоб Гогебашвили лысый или нет? Есть ли у него дети? Не сердитый ли он?» и т. д. И так она хочет тебя видеть. Я обещал ей твой портрет и этим очень обрадовал ее». Но не только крохотная девочка мечтала увидеть Гогебашвили. К нему тянулись сердца всех, кого он умел поддержать дружеским словом, рукопожатием. В небольшом гурийском селении поздней осенью сгорал от туберкулеза заезжий горожанин, талантливейший писатель Эгнате Ниношвили, автор многих прекрасных рассказов, один из первых грузинский писателей, всю жизнь и все помыслы свои посвятивший страдающему народу. Писатель большого таланта и неукротимого духа, участник марксистской группы «Месаме-даси», в эти холодные пасмурные дни Эгнате Ниношвили был одиноким, тоскующим, смертельно больным человеком. Запертый в деревне, он мучительно ждал редких весточек от знакомых. И вдруг однажды февральским утром почтальон принес ему денежный перевод на довольно крупную сумму и письмо с незнакомым обратным адресом. Письмо было полно сочувствия, вопросов о здоровье. Автор его, сожалея, что не познакомился лично с Ниношвили, предлагал писателю свою помощь в издании его рассказов. Это явилось бы серьезной поддержкой для попавшего в крайнюю нужду больного и беспомощного Ниношвили. А внизу стояла подпись: «Якоб Гогебашвили». Взволнованный до глубины души, Эгнате Ниношвили присел к подоконнику и стал писать ответ: «…Упрек в том, что Вы незнакомы со мною лично, должен быть обращен полностью только ко мне. Я был обязан прийти к Вам и познакомиться с Вами, как с лучшим грузинским деятелем, как с передовым человеком. Я не выполнил этого своего долга и поэтому заслуживаю Ваш упрек. Я грущу, что незнаком с Вами лично, а то разве есть в теперешней Грузии человек, умеющий читать и писать, который не знал бы, кто Вы такой! Разве мы все не росли, изучая составленное Вами руководство по родному слову, разве не по нему изучали все мы грузинскую грамоту? Это Вы заставили нас по-новому полюбить нашу родину и ее язык. После всего этого мне было бы стыдно не знать Вас!..» Так же дружелюбно, не ожидая просьб, пришел Гогебашвили на помощь поэту Акакию Церетели, когда тот заболел. Всей собственной жизнью он осуществлял свою проповедь братства между людьми. Якоб Гогебашвили считается первым детским писателем Грузии. Это, конечно, не означает, что раньше никто не писал для детей. В круг детского чтения, как известно, входят многие книги, даже не предназначающиеся детям. Но Якоб Гогебашвили первый систематизировал это чтение, отобрал для ребят все лучшее из грузинской и русской классической литературы. А то, что сам он писал исключительно для детей, впервые выделило грузинскую детскую литературу в самостоятельную область. При его непосредственном участии в Грузии начал выходить в 1883 году первый детский журнал — «Нобати» («Дар»). Через несколько лет Гогебашвили радостно встретил выход другого детского журнала — «Джеджили» («Всходы»). А в 1904 году он стал инициатором появления еще одного журнала — «Накадули» («Ручеек»), в котором выросли многие популярные сейчас в Грузии детские писатели. Умер Якоб Гогебашвили в 1912 году, семидесяти двух лет. В своем завещании он поручил Обществу грамотности создать из средств, полученных от издания его книг, фонд народного просвещения. По мысли Гогебашвили это было необходимо «для воспитания успешно окончивших народную школу способных учащихся, детей крестьян, рабочих или бедных учителей, преимущественно в специальных, и, в частности, педагогических учебных заведениях». Он просил общество оказывать помощь журналу «Ганатдеба» («Просвещение»), выдавать ежегодно гонорар Акакию Церетели за его стихи, помещенные в «Дэда эна». Часть средств Якоб Гогебашвили завещал армянскому и азербайджанскому благотворительным обществам, школе женского общества «Просвещение», Тифлисскому детскому саду. Справедливы были его слова, сказанные в последний день жизни: «Народ, все мне дал — народу же должно быть все возвращено». Полученное им он вернул, как хороший садовник, который вырастил богатый урожай от сбереженных им тонких саженцев. Якоб Гогебашвили не был марксистом, не был революционером в нашем понимании. Он не всегда видел классовый характер этого воспитания. Но если вспомнить о наших друзьях среди тех, кого давно уже нет на свете, то Якоб Гогебашвили — один из них. Он один из тех, кто зажег предрассветный огонь, чтобы люди, вышедшие в сумерки на дорогу, знали, куда им идти. И путь этот оказался верным.
В. Замбахидзе НИКО НИКОЛАДЗЕ

«…Сегодня ко мне приходил один юный грузин, похожий на молодого тигра…» — эти слова взяты из личного письма Герцена. «Юный грузин» — это Нико Николадзе, видный публицист и общественный деятель Грузии шестидесятых годов прошлого столетия. Блестящий писатель, глубоко изучивший экономику, социологию и философию, свободно владевший грузинским, русским и французским языками, Н. Николадзе был передовым человеком своей эпохи. Его близко знали и ценили Герцен и Огарев, Успенский и Михайловский, Плещеев и Салтыков-Щедрин. Трогательная, еще в юности начавшаяся дружба связывала его с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Поистине огромным был круг друзей этого «беспокойного человека», как назвал его Акакий Церетели. Темпераментный и безгранично честный, преданный и целеустремленный, он вошел в жизнь шестидесятых годов как страстный борец за освобождение народа от гнета самодержавия. В 1860 году в грузинском журнале «Цискари» («Заря») появилась статья никому не известного Нико Николадзе «Нужен ли нам грузинский язык?». Это был не праздный вопрос. Царская власть, проводя политику порабощения народов, делала все, чтобы уничтожить их национальную культуру. В грузинских гимназиях и других учебных заведениях преподавание велось только на русском языке. Черносотенно настроенные учителя издевались над выговором грузинских школьников. В такой обстановке появление статьи, протестующей против гонений на родной язык, на большую древнюю культуру Грузии, было, несомненно, очень смелым шагом. Шестнадцатилетним автором заинтересовалась передовая часть грузинской интеллигенции. Нико Николадзе вышел не из дворянской семьи. Род его упоминается впервые в надписях XIV века, причем в них он причислен к ремесленникам. Дед Н. Николадзе, беглый крепостной, занимался торговлей. Надо учесть, что торговля в Грузии того времени считалась «профессией редкой и низкой», однако отец Нико — почетный гражданин города Кутаиса — избрал то же занятие. Поздней осенью 1861 года в Петербурге за участие в студенческих беспорядках Нико Николадзе был арестован. По дороге в Петропавловскую крепость задержанных конвоировали казаки. Рядом с Нико шли Г. Церетели, В. Гогоберидзе, К. Лордкипанидзе, Я. Исарлишвили. Пожилой есаул щелкал витой плеткой по голенищу сапога и время от времени покрикивал: «Шевелись, химики!» Исподлобья смотрел Николадзе на мокрые торцы мостовой. О чем он думал? Может, о судьбе России, о судьбе ее темного, забитого, обманутого народа, о судьбе этого города, такого родного и такого чужого… Помнился Кутаис, где прошли его юные и детские годы. Н. Николадзе прожил большую жизнь. Кто-то, теперь уже трудно сказать кто, назвал его «человеком двух веков». Определение довольно точное: он родился в 1843 году, а умер спустя одиннадцать лет после Октябрьской революции. «Человек двух веков!» Да, это точно сказано… двух веков… двух эпох…
* * *
У Н. Николадзе есть злая и умная сатира «Воспитание детей на Мадагаскаре». В ней он рассказывает о своей учебе в Кутаисской, гимназии, жестоко высмеивая «либерализм» учителей, которые лишь внешне следуют принципам свободного воспитания, а на самом деле не становятся выше заурядной гимназической схоластики. Стоит ли удивляться тому, что юноша, просиживавший ночи над «Современником», воспитанный на стихах Николоза Бараташвили и Ильи Чавчавадзе, стремился закончить образование в Петербурге. В 1861 году он поступил в, Петербургский университет. Петербург тех лет… Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов… «Отечественные записки», легендарный «Колокол» и «Полярная звезда»… Студенческие сходки, на которых читаются пушкинские строки, посвященные декабристам:
* * *
Нико Николадзе был одним из первых грузинских шестидесятников, правильно понявших неизбежность появления новых общественных классов, а следовательно, и новых общественных отношений в Грузии второй половины девятнадцатого столетия. Правда, в те годы он не шел дальше «общинного распределения поземельной и всякой другой собственности и общинной организации как народного труда, так и государственного управления». Но, справедливо характеризуя «комедию мнимого освобождения» грузинских и русских крестьян как «новое узаконение грабежей и разбоев, подлогов и преступлений», Нико Николадзе призывал народ и молодежь к борьбе «против дармоедствующего богатства». Единственной страной, которая могла бы помочь Грузии, он считал революционную Россию. Только «связав свою судьбу с судьбою России, Грузия скорее доберется до возможно лучшего устройства своего положения, чем находясь в союзе или под покровительством (мы не говорим уже о владычестве) какой бы то ни было европейской нации, не говоря уже о Турции или Персии…». Вот почему в 1865 году, в статье «Освобождение крестьян в Грузии», напечатанной в «Колоколе» за подписью Рионели, он резко выступил против царизма и его политики социального и национального гнета. Реакционная пресса в штыки встретила эту статью. Катков в «Московских ведомостях» назвал ее «сепаратистской». За границей Николадзе устанавливает прочную связь с «Колоколом». «В конце 1864 года меня в Париже совсем неожиданно разыскал А. И. Герцен, появление которого в моей мансарде, в узкой и закопченной улице Латинского квартала, произвело огромную сенсацию. Хозяйка меблированных комнаток, еще утром третировавшая меня за неисправность во взносе квартирной платы, после посещения самолично поднялась ко мне с кипятком для чаю… За ту зиму и весной 1865 года Герцен навещал меня во время каждого своего проезда через Париж». Во время этих встреч Герцен и предложил Николадзе сотрудничать в «Колоколе»; который издавался в Женеве. Сохранилась большая переписка Герцена и Огарева с Николадзе. Интересно, что во многих письмах грузинский публицист настаивал на том, что необходимо ориентироваться на требования революционной молодежи. В 1867 году в Женеве. Н. Николадзе издал первый том сочинений Чернышевского со своим предисловием. Это было первым изданием знаменитого романа «Что делать?» отдельной книгой. Во Франции Н. Николадзе познакомился с Полем Лафаргом и, по-видимому, через него с К Марксом, который предложил ему взять на себя полномочия представителя Интернационала в Закавказье. Но вскоре Н. Николадзе переехал в Швейцарию, а в 1869 году, защитив в Цюрихском университете докторскую диссертацию на тему «Разоружение и его социально-экономические последствия», вернулся на родину. Грузия… Впоследствии, во время вторичного выезда за границу, Н. Николадзе, глядя на тающий вдали потийский порт, записал в свой дневник горькие строки: «…Скрылся Поти, город с красивой внешностью и гнилым нутром. Долго еще передо мной будет стоять его облик. Он похож на всю нашу страну. Красива она, цветущая, но, кроме внешней красоты, ничем не обладает это любимое создание… Приведите кого хотите, поставьте на палубе этого корабля: пусть он взглянет на нашу родину! Пусть задумается он о ее участи! Пусть познакомится он с ее положением, и, если тогда его сердце не обольется кровью, а в горле не застрянет комком печаль, повесьте мне на шею котел этого корабля и бросьте в море!» Но это было после, а когда Н. Николадзе вернулся в Грузию из Европы, родные горы показались ему изумительными! Он жадно дышит воздухом Тифлиса, разыскивает старых друзей: Г. Церетели, С. Месхи, К. Лордкипанидзе, во главе группы молодежи едет в Душети к Илье Чавчавадзе, находящемуся там на государственной службе, просить его вернуться в Тифлис и возглавить освободительное движение. Весной 1871 года Н. Николадзе напечатал в газете «Дроеба» («Современность») серию статей, посвящённых Парижской коммуне, в которых с восхищением описывал героическую борьбу парижских рабочих. Тяжело переживал он их поражение. Позднее в беседе с Луи Бланом он сказал французскому революционеру, которого очень уважал, что не может простить ему его соглашательской политики в дни Коммуны. «Все равно идеи коммунаров победят!» — говорил Н. Николадзе. Страстными призывами к борьбе за свободу звучали его огненные статьи на страницах боевого органа грузинских шестидесятников — журнала «Кребулик («Сборник»), основателем и душой которого был сам Николадзе. Тогда же, в семидесятых годах, Нико Николадзе и Георгий Церетели организовали в Швейцарии общество «Угели» («Ярмо»), куда входила лучшая часть обучающейся за границей грузинской молодежи.
* * *
В семидесятых годах начался великий поединок народовольцев с самодержавием. «Хождение в народ» — пропаганда освободительных идей среди крестьян вызвала резкое противодействие со стороны полиции. Власти начали настоящую охоту за пропагандистами. Участились аресты. Революционеры перешли к тактике террора. Был убит царь Александр II. Его сменил еще более реакционный Александр III. Однако в новом правительстве были люди, боявшиеся, что обстановка в России может повредить ее международному престижу. Некоторые деятели правительства Александра III обратились по совету Бороздина к жившему в то время в Петербурге Нико Николадзе с просьбой устроить переговоры с руководителями «Народной воли». Н. Николадзе встретился с представителем царского двора графом Воронцовым-Дашковым. Кабинет был залит солнцем. По старинной черной мебели скользили светлые блики. В смежную комнату дверь была приоткрыта, но завешена тяжелой портьерой, которая по временам колыхалась. Впоследствии Бороздин уверял Николадзе, что в ней находился сам царь. Он обстоятельно и точно ознакомил царедворца с требованиями народовольцев, прибавив к ним и свое условие — освобождение Чернышевского. Затем Николадзе уехал в Европу для встречи с одним из руководителей русских революционеров-эмигрантов, Львом Тихомировым. На собрании эмигрантов были выработаны требования к правительству, надо сказать, весьма умеренные: свободы печати и пропаганды, амнистии политическим заключенным, некоторые свободы для народнической интеллигенции, возвращение Чернышевского. Однако когда Н. Николадзе привез эти требования правительству, оно резко отклонило их. Когда царское правительство в конце концов вернуло из ссылки Чернышевского, разрешив ему проживать в Астрахани, Николадзе посвятил восторженную статью, предназначенную для газеты «Новое обозрение». «Я бесконечно счастлив, что могу начать беседу с вами с отрадного в нашей безотрадной жизни события — освобождения Н. Г, Чернышевского, Меня так и подмывает вдаться по этому поводу в несвойственный моей музе дифирамбический тон!» Статья Н. Николадзе увидела свет лишь… в 1945 году! Возобновилась личная переписка Н. Г. Чернышевского с Н. Николадзе. В одном из писем Н. Г. Чернышевского содержится личная просьба «пристроить» его сына Михаила «к делам Палашковского» (инженера, которого хорошо знал Н. Николадзе). «…Могу вас уверить, — пишет в ответном письме грузинский публицист, — что я счел бы безграничным для себя счастьем хоть чем-нибудь быть вам приятным и полезным взамен того, чем я вам обязан относительно своего умственного и нравственного развития…»
* * *
В 1878 году вышел в свет первый номер газеты «Обзор», в передовой статье которой говорилось о необходимости «изменений во внутренних порядках». Статью написал Нико Николадзе. Последующие его статьи «Прошлый год» и «Речи к консерваторам» вызвали резкие нападки на автора со стороны министерства внутренних дел. Против Николадзе возбудили уголовное дело. На состоявшемся заседании суда один из свидетелей квалифицировал статьи из «Обзора», как призыв к государственному перевороту. Н. Николадзе знал этого человека. Когда-то в подъезде дома, где жил народник Н. Михайловский, он увидел темную фигуру, прижавшуюся в углу. Н. Николадзе сразу понял, кто это. Он не стал подниматься к Михайловскому, а прошел в комнатку дворника, под лестницей. — Скажите, дворник, у вас на лестнице часто раздевают прохожих? — То есть как раздевают, барин? Отродясь не слыхивали… Не бывало у нас таких дел… Николадзе всегда хорошо одевался. Вид его внушал дворнику уважение. — Я не знаю, что у вас бывало раньше, но там стоит крупный вор, которого недавно выпустили на свободу. Это говорю вам я, вот моя визитная карточка. Я служу в суде. Неграмотный дворник покрутил визитную карточку Николадзе и вернул. — Немедленно ступайте в полицию. А еще лучше… есть у вас здесь кто-нибудь? Сын? Хорошо. Так вот: свяжите пока этого типа, а до полиции я дойду сам. — Будет исполнено, барин. Все сделаем, как наказали… — заверил его перепуганный дворник. Николадзе ушел.
 Якоб Гогебашвили.
Якоб Гогебашвили.
 Тифлис. Старая крепость. С открытки конца XIX века.
Тифлис. Старая крепость. С открытки конца XIX века.
 Г. Габашвили. Портрет Нико Николадзе
Г. Габашвили. Портрет Нико Николадзе
 Акакий Церетели.
Акакий Церетели.
И вот этот человек здесь, на суде. «Свидетель»… Значит, сделал карьеру. — Ваше слово, обвиняемый!.. Николадзе встал. Что можно объяснить этим людям? Что они поймут? Правда, есть зал. Вот для него могут быть полезными его слова! «Во всяком обществе наряду с довольными и счастливыми членами имеются недовольные и обездоленные… Находятся люди, стремящееся к лучшим порядкам и судьбам… Для развития страны желательно… Нет, необходимо, чтобы эти элементы имели возможность проявлять свои стремления и доказывать свои убеждения. Когда они находят з свободной печати возможность пропагандировать свои мысли и стремления, в них оживает надежда на будущее…» Речь Н. Николадзе получила большой общественный резонанс не только в Грузии, но и за ее пределами. Через много лет вышедшая в Женеве брошюра «Союза русских социал-демократов» под названием «Материалы для характеристики положения русской 'печати» характеризовала газету «Обзор» как «самую живую газету из всех провинциальных изданий, когда-либо существовавших в России». Автор статьи почти целиком цитировал ту часть речи Н. Николадзе, в которой, по его выражению, «талантливо и с величайшей убедительностью вскрыто положение провинциальной печати в царской России». Вскоре газета «Обзор» была закрыта, а Н. Николадзе выслан в Ставрополь. В ссылке публицист был окружен вниманием грузинской и русской общественности. Он продолжал много работать. Его статьи печатались в различных изданиях. «Общество помощи нуждающимся ученым и литераторам» избрало Н. Николадзе своим членом, официально послав ему извещение В Ставрополь. В эти же годы устанавливается связь Н. Николадзе с журналом «Отечественные записки» и его редактором Н. Салтыковым-Щедриным. Н. Николадзе вел критический отдел журнала (раньше работой этого отдела руководил Н. К Михайловский). «…Кроме подписанных статей («Лорин», «Борцы поневоле», «Луи Блан и Гамбетта»), я поместил тут немало анонимных статей в отделе «Новые книги»…» Вскоре, однако, журнал был закрыт. Нико Николадзе всегда считал, что если литература перестанет быть общедоступной, она утратит свое назначение и превратится в пустую забаву ничтожной части населения, притом такой, «которая мало доступна умственному прогрессу и в особенности деятельной работе на общую пользу». Именно с этих позиций написаны замечательные статьи Нико Николадзе, появившиеся в ежедневной газете «Новое обозрение» о творчестве Ильи Чавчавадзе, Салтыкова-Щедрина, Ак. Церетели и Льва Толстого. Эти статьи интересны еще и тем, что они были, если так можно сказать, «предпоследними» в творчестве Н. Николадзе-шестидесятника. Он сотрудничал еще некоторое время в журнале «Моамбе» («Вестник»), а с 1894 года почти совсем замолчал. На этом кончается первая и, по-видимому, наиболее интересная для потомков эпоха литературной его деятельности. И тогда же начался продолжавшийся до последних дней его жизни период огромной и разносторонней общественно-практической и экономической деятельности, стимулируемой идеей борьбы за национальную свободу и независимость своей родины.
* * *
Давно известно, что жизнь не всегда слагается по заранее предзаданным планам, и не все сбывается в предсказанные сроки, но одно историческое событие Николадзе предчувствовал очень точно. Вот что писал он в статье, датированной 4(17) января 1917 года: «Раз жизнь сошла с мертвой точки и породила нужды, требующие приложения реальных сил, знаний И’ богатств — конец царству мишуры и рутины… Директивы наших дней коснулись вопросов жизни и смерти воина, обывателя» рабочего, бабы деревенской. Политика облеклась в плоть и кровь, очеловечилась и смело может отказаться от риторики…» И далее: «…В столицах можно водворить мертвую тишину. Печать может онеметь, парламент — смолкнуть. И все же это не помешает людям мерзнуть и голодать. Старый порядок падет сам собою под тяжестью своей непосильной ноши. Чему быть, тому не миновать!» Эти строки говорят сами за себя. Через месяц с небольшим самодержавие пало. Февральскую революцию Н. Николадзе встретил с восторгом. Наступила вторая. молодость писателя. Он с жаром включился в общественную жизнь обновленной родины. Когда-то Н. Николадзе написал статью, которая называлась «В мире грез». С большим поэтическим вдохновением говорил он в ней о роли техники и науки в деле преобразования общественной жизни. Теперь, когда освобожденный народ приступил к строительству нового общества, Н. Николадзе видел, с каким интересом тянутся людские сердца к культуре, к знаниям. То «царство мечты», о котором писал Н. Николадзе, приобрело реальные очертания. К старому писателю приходят рабочие и студенты, учащиеся и служащие. Работая вправлении «Грузинской книги», Н. Николадзе много делает для пропаганды книги. Он, написавший замечательные строки о том, что судьба отдельной личности неразрывно связана с жизнью общества, теперь явился живым примером этому. Н. Николадзе умер в 1928 году в возрасте восьмидесяти пяти лет. Перед смертью он горько заметил, что пережил свой век. Это так и это не так. Конечно, лучшее, что создал Н. Николадзе, относится к прошлому столетию, его пламенные статьи остались навечно в грузинской и русской литературе; но, когда пришло время проверки крепости идеалов и убеждений, Н. Николадзе ни пяди не уступил тому «испугу» перед «народной стихией», который испытали многие представители лучшей части тогдашней интеллигенции. До конца своих дней сохранил он верность своим идеалам, оставшись последним знаменосцем шестидесятников. Вот почему Н. Николадзе имел право сказать о себе в старости: «Я таков же теперь, каким был в шестнадцать лет, и таким же сойду в могилу…»
С. Чилая АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ
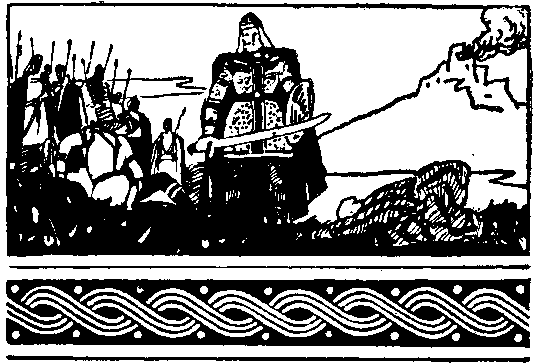
Акаки! Любимое имя каждого грузина. Имя, которое стало клятвой. Его знали только по имени во всей Грузии, знали по имени и за ее пределами. Огромная популярность Акакия, преклонение перед ним, благоговение, с которым произносят его имя, говорит о поистине всенародной любви. У каждого народа есть такие имена: Пушкин и Толстой у русских, Шекспир — у англичан, Сервантес — у испанцев, Гёте — у немцев. Скажите любому грузину — Акаки (фамилию говорить не обязательно), ваш собеседник уже поймет, что речь идет именно об Акакии Церетели. В Грузии всего трех человек народ называет по имени: это бессмертный Шота, это Илья, это Акаки. Народ превращал в песни его стихи, заучивал их наизусть, они переходили из уст в уста, они стали собственностью народа. Акакий Церетели в своих бессмертных творениях высказал все то, что волновало грузина в девятнадцатом столетии: его мысли, его чаяния, его чувства и переживания. И сказал он об этом удивительно искренне и правдиво, просто и красиво. Народ помнит, как в 1905 году поэт своими стихами и песнями призывал к борьбе с ненавистным самодержавием. Не только стихами — своим пламенным словом, едкой сатирой, гневными, обличительными статьями. Не случайно именно в эти бурные дни перевел он на грузинский язык гимн революционного пролетариата «Интернационал». Взволнованный революцией 1905 года, мудрый поэт писал впоследствии: «Я должен заявить во всеуслышание, что события этих лет у нас имели историческое значение, они проложили пути к новой жизни, оценили труд рабочего, поняли его место в жизни, и об этой забытой истине вспомнили, наконец, все. На протяжении веков у нас сеяли шипы, а источник жизни умышленно был загрязнен. Правда, на берегу, для отвода глаз, росли розы и фиалки, сам пруд издали казался чистым, но в его глубине вили свои гнезда змеи и лягушки, разная нечисть. И затхлая вонь неслась оттуда, отравляла воздух. Нужно было очистить пруд, нужна была сила — народ. Это осознали у нас, и народ взялся провести канал, чтобы очистить застоявшийся пруд». А разве мог забыть народ его слова? «Нет, не напрасно люблю я наше прошлое. Я люблю его так, как мать любит свое дитя, и поэтому мне, ненасытному, хочется видеть его в будущем еще более сильным и счастливом». Акакий не один и не два раза возвращается в своих статьях и письмах, в стихах и рассказах к мысли, что вождем и руководителем нации должен быть трудовой народ. Эту мысль он проводит и в своих исторических поэмах. Акакий всю жизнь по духу был революционером. Еще в детстве, когда сестра и мать обучали его грамоте, прививая любовь к «Витязю в тигровой шкуре», он, мальчик, писал обличительные стихи против притеснения и несправедливости и посвящал матери строки, полные ласки и любви. Еще при жизни народом зачисленный в список бессмертных, он оставался поразительно скромным. В 1896 году в Харькове, на встрече с грузинскими студентами, Акакий Церетели сказал: «Что касается оценки лично моих трудов и достоинств как общественного деятеля — они преувеличены. Правда, вот уже сорок лет, как я служу еврей стране, но, может быть, я много раз ошибался и, возможно, не принес тех плодов, какие я должен был принести! Одно верно, что я никогда не исходил из своих личных интересов, потому что в общественных делах я всегда был искренним и прямым. И то правда, что через большие мучения и несправедливости прошел я, но и радости получил в большом количестве. Не сочтите за хвастовство, но многие любят меня на моей родине». Его имя пользовалось чрезвычайной популярностью и за пределами Грузии. Характерен в этом отношении один факт, известный из письма самого Акакия: «Живущие на Дальнем Востоке грузины прислали мне из существующего, оказывается, там фонда моего имени тысячу рублей. Их имена и фамилии упомянуты в письме от Владимира Таварткиладзе. Так как в этом письме для меня важен не размер денежной суммы, а уважение к моему имени, я от души благодарю всех их вместе и каждого в отдельности. Не знаю, как выразить свою признательность тем китайцам, которые также внесли свою долю в этот фонд. Вероятно, мои соотечественники помянули добром мое имя перед ними, что касается меня, то уважение к ним останется у меня до гробовой доски. Имена этих чужеземцев Ян Лу, Джан Полин, Диу Джан-дин и Си Ван-по». Это письмо не нуждается в комментариях. Такая любовь и уважение — удел лишь избранных. Илья Чавчавадзе в личном письме к Акакию в 1888 году называет его «избранником нашей родины». Акакий был великим и истинно народным поэтом, выразителем боли, страданий, дум и чаяний народных, и потому огромная ответная любовь народа к нему не стареет. Он очень уважал труд человека. Еще у кормилицы оценил он и проникся уважением к труду крестьянина-труженика, исполненному своего рода вдохновения. А когда вырос, то воспел его в своих стихах. Системой созданных им художественных образов он показывал исконное трудолюбие крестьян, их любовь к земле, их попытки найти своеобразное утешение в работе. В то же время поэт рассказывал читателям о беззащитности крестьян, их тяжелом положении и после так называемых «освободительных» реформ. Он превосходно понимал народные нужды и всей душой сочувствовал трудящимся. С годами Церетели все чаще и чаще стремился способствовать развитию самосознания грузинского крестьянства. Он снова и снова говорил о необходимости борьбы с ненавистными угнетателями за достойное человека существование. На этот лад он как бы настраивал с огромным упорством народный музыкальный инструмент — чонгури.
(Перевод А. Гатова)
* * *
И вот я опять в Схвитори, иду вдоль бурной Чихури, иду к дому Акакия. «Именно недалеко от этой Чихури, на холме, стоит двухэтажный каменный дом, в этом некрасивом здании, имеющем высоту башни, длину дарбази и толщину крепости, но не похожем ни на одно из этих строений… вот в этом доме родился я на рассвете…» — говорит поэт в своих воспоминаниях. Рядом со мной идет девочка. Веселые черные глазки, тоненькие косички. В руках корзина с виноградом. — Помочь тебе? — спрашиваю я девочку. — Да что вы! — бойко отвечает она. — Небось и чемодан еле несете. — И весело продолжает: — Вы вот к дому Акаки спешите, а сами, наверно, его не знали. А дедушка знал. Акаки часто приходил к дедушке, и они подолгу беседовали под ореховым деревом в нашем саду. — Ты откуда это знаешь? — Дедушка рассказывал. А однажды, я была тогда совсем маленькой, Акаки подозвал меня к себе, посадил на колени и сказал, что я умница. Мне было тогда три годика. — А сейчас тебе сколько? — интересуюсь я, сдерживая улыбку. — Сейчас мне девять. Я иду к дому Акаки берегом бурной Чихури. В воздухе кружатся желтые листья, свернутые в трубочку, усыпая дорогу. Я иду через густой осенний листопад рядом с девятилетней девочкой, знавшей Акаки Церетели. Вполне вероятно, что девочка знала Акакия, хотя поэта вот уже четвертый десяток лет нет в живых. И не только она. Тут, в Схвитори, все. знают Акаки — и старые и молодые. Разговоритесь с любым жителем о поэте, и он расскажет вам десятки случаев, связанных с именем великого грузинского мыслителя. Одни пили с ним вино, другие играли в нарды, третьим он читал свои новые стихи и т. д. Никто не хочет мириться с мыслью, что родился в Схвитори много позже смерти поэта, никто не хочет мириться с мыслью, что не знал его. Поэт и по сей день, как живой, связан с жизнью своих односельчан. В действительности же в Схвитори Акаки помнят лишь очень немногие — глубокие старики. Но и от них вы узнаете мало достоверного. Народ здесь темпераментный, с горячим воображением, и старики не представляют исключения. Каждый из них расскажет вам о том, что поэт был его неразлучным другом, и выдумает тысячи приключений, связанных с его жизнью, так же точно, как моя девятилетняя спутница. И все же беседовать со схвиторцами об Акаки интересно. — Мой брат остановил поезд, а за шапкой поэта бросился весь вагон. Мне удалось первому добежать до шапки, и я лично отдал ее в руки Акаки, — с жаром рассказывает мне старый схвиторец с густыми черными бровями и седой головой. Да, был такой случай. Об этом написано в монографии Церетели. Ветер сдул шляпу с головы поэта, стоявшего в тамбуре железнодорожного вагона. Поезд мгновенно остановился. Из вагона один за другим выбежали пассажиры и бросились вдогонку, за шляпой, которую все дальше и дальше уносил ветер. И все же ее удалось поймать и вернуть любимому поэту. Кто это сделал? Мой собеседник с густыми черными бровями и седой головой? Может быть, и он. Но если вы спросите об этом же эпизоде другого из здешних жителей, он начнет вам с жаром доказывать, что именно ему, а не кому-нибудь другому удалось первому добежать до шляпы и передать ее Акаки. Мне думается, что и моя девятилетняя спутница, спроси я ее о шляпе Акакия, расскажет о своем участии в этом подвиге. А вот и двухэтажный дом, в котором 9 июня 1840 года, в семье князя Ростома Церетели родился великий грузинский поэт. Одна ко первые жизненные впечатления поэта связаны не с этим домом. Ребенок по старой дворянской традиции был отдан на воспитание в соседнее селение Саване, в крестьянскую семью Парсадана Канчавели, где рос вместе с крестьянскими детьми. «Тут и встал я на ноги, — вспоминал он впоследствии, — тут я впервые затворил, и отсюда начинаются мои воспоминания». Крестьянская среда для будущего поэта явилась прекрасной школой жизни. Он познал тяжесть крестьянского труда, произвол помещиков и феодалов. Его вскормила благодатная грудь — грузинская деревня, грузинский народ. И это первое впечатление сказалось на всей последующей жизни поэта. Он унаследовал от своей воспитательницы-деревни и пламенную любовь к отчизне, и благородную гордость, и вековую мудрость народа, и его богатую, красочную поэзию. «Как все было непривычно, как все было чуждо, — вспоминает он, — когда я шестилетним ребёнком вновь вернулся в отчий дом, с его непонятными мне и дикими феодальными порядками». А с 1850 года А. Церетели — учащийся Кутаисской гимназии. Гимназистам не разрешается говорить на родном языке, здесь процветают схоластика и зубрежка. Учеников «дозволено» пороть. Их порют, порют беспощадно все — от директора до сторожа. «Я помню, как одному из моих одноклассников оторвали пол-уха, — пишет в своих воспоминаниях поэт, — а другому гимназисту линейкой пробили голову. Но кто обращал на это внимание? Подобные дела считались в порядке вещей». Вот почему много лет спустя в целом ряде статей, критических заметок, в стихах он неоднократно касался вопросов воспитания подрастающего поколения, разоблачал бездушие педагогов, жестокую систему обучения, основным методом которого являлось телесное наказание. Этим проблемам посвящена знаменитая поэма А. Церетели «Воспитатель», в которой поэт создает замечательный образ человека, ставившего превыше всего на свете чувство ответственности за воспитываемого им ученика. Исторические. поэмы Акакия впоследствии оказывали огромное влияние на пробуждение патриотических чувств учащихся. «Однажды учитель-грузин принес на урок поэму Церетели «Торнике Эристави», только что вышедшую из печати, — вспоминает младший современник поэта, — и прочел ее ученикам от начала до конца. Ничто не может сравниться, — вспоминает мемуарист, — с тем наслаждением, которое мы испытали. Именно тогда проснулось в нас чувство национальной гордости, которое впоследствии уже ничто не могло вытравить». Не закончив гимназии, А. Церетели отправляется в Петербург, где поступает в университет на армяно-грузинское отделение факультета восточных языков. К этому времени имя Акакия Церетели как поэта уже было известно многим. В 1858 году в журнале «Цискари» был опубликован его первый литературный опыт — перевод стихотворения Лермонтова «Ветка Палестины». В этом же журнале было опубликовано первое оригинальное стихотворение А. Церетели «Тайные послания», подписанное его именем. «Я взял на себя смелость подписать это стихотворение твоим полным именем, — писал редактор поэту, — так как нахожу, что скрывать его нечего. Ты — поэт». Не успело стихотворение появиться в печати, как в адрес Акакия Церетели со всех концов Грузии посыпались письма. Одни поздравляли поэта и благословляли его на путь литературного творчества; другие, отмечая поэтические достоинства стихотворения, упрекали его за язык. Вот письмо протоиерея Ефима: «Благословляю твой творческий дар и одновременно прошу, заклинаю, как сына, не пиши таких стихов языком простолюдия. Здесь нужен высокий стиль, а ты пользуешься каким-то деревенским языком. Это тем более опасно, что твои стихи западают в сердца всех. Едва успели они появиться, как уже их стали петь, как нану. В особенности поют ее женщины. И что же получится, если они усвоят этот твой язык и забудут старинный грузинский высокий склад?» Таким образом, молодой поэт сразу же оказался втянут в борьбу, которая развернулась к тому времени между «отцами и детьми» в грузинском обществе. Акакий явно стоял на стороне «детей». Он освободил язык от всех архаизмов, приблизил его к народной речи, в ряде статей горячо выступив против теории стилей и догматизма, господствовавших в литературе. В этом отношении интересна пьеса поэта «Борьба языка», где идет острая полемика между языками плоским (древним), тупым (восточным диалектом) и острым (западным диалектом). Поэт симпатизирует народной речи, народному языку, а древнему языку выносит смертный приговор. И сейчас, много лет спустя, можно смело сказать, что в великом национальном деле — утверждении нового литературного языка — Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели сыграли решающую роль. Университетские годы Акакия Церетели связаны с бурным подъемом революционных сил России. Именно в эти годы во главе журнала «Современник» стал семинарист из Саратова — Чернышевский, потрясший страну новым, правдивым словом. Именно в эти годы кумирами петербургских студентов были имена пламенных борцов-революционеров Италии и Венгрии — Гарибальди и Кошута, овеянные ореолом романтики. Воодушевляющие слова вождя итальянского народа Гарибальди жили в сердце и грузинского поэта: «Я не солдат и не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтобы их выгнать… Я работник, происхожу из рабочих и горжусь этим». В 1862 году А. Церетели сдал последние экзамены и представил дипломную работу на тему «Об оригинальности поэмы «Витязь в тигровой шкуре». К творению великого Руставели Церетели неоднократно обращался и в дальнейшем. Интересна и своеобразна его трактовка образов гениальной поэмы. В Тариэле, утверждал А. Церетели, дан образ кахетинца (жителя Восточной Грузии), в Автандиле — имеретина (жителя Западной Грузии), в лучезарной пленнице Нестан Дареджан — образ покоренной отчизны — Грузии. Примечательно, что Акакий, влюбленный в родину, хочет видеть и кахетинцу и имеретина рука об руку, верными друзьями, какими были Тариэл и Автандил. Акакий, влюбленный в родину, видит ее олицетворение в образе красавицы девушки. И именно этот образ становится центральным в его творчестве. С этими стихами он приходит в грузинскую литературу, этот образ живет в сердце поэта до последних дней его жизни.
Акакий в Тифлисе. Вот он еще совсем молодой ходит из редакции в редакцию. И всюду перед ним широко раскрываются двери. Он нигде не работает. Он один из первых грузинских поэтов занимается только литературным творчеством. В Тифлисе нет газеты, нет журнала, не связанного с творчеством поэта. Однако за стихи платят мало. Очень мало. И сын потомственного феодала Ростома Церетели вынужден обивать пороги кредиторов и ростовщиков. Его жена Наталья Петровна Базилевская — дочь крупного фабриканта. — Однако мне досталась только жена, — шутил поэт, — а вот приданое, увы, досталось другим. Так проходила молодость — в долгах, в бедности, нищете. Процветали торговцы и коммерсанты, прислужники самодержавия и жандармерии. И поэт всем своим существом презирает это прогнившее общество палачей и лакеев.
* * *
Акакий Церетели — великий и поистине народный поэт. По глубине чувств он уступал Н. Бараташвили, в публицистической страстности и понимании современной ему действительности — И. Чавчавадзе. Но он обладал поразительной чуткостью к жизни своего народа. Он легко и непосредственно выражал его чаяния. И поэтому стихи Акакия усваивались мгновенно, передавались из уст в уста, это были самые популярные стихи. Народ придумывал к ним музыку — многие из стихов поэта и по сей день поются по всей стране. Акакий — поэт-лирик. Его лирика многообразна по своим звонким интонациям и поэтическим вариациям, нежности и красочности, голосу, наполненному любовью к родине. Поэт повторял как молитву:
«АКАКИЮ ОТ ГРУЗИИ».
Г. Натрошвили ЩИТ ГОРЦЕВ

Когда, минуя поросшие дремучим лесом Арагвские ущелья, выезжаешь к Млетскому подъему, дорога так круто уходит вверх, что кажется, будто поднимаешься на небеса. Это ощущение сохраняется вплоть до Крестового перевала, где начинается спуск. Вот здесь, на высоте орлиного полета, лежит Хеви. Дорога к нему вьется по берегу Терека. Но река, бегущая рядом с путником, затем уходит вперед через скалистое Дарьяльское ущелье, чтобы, пробившись сквозь эти грузинские ворота, выйти прямо к Северному Кавказу, где начинаются неоглядные дали русских степей. Эта крутая дорога мимо холодных источников и развалин древних крепостей, мимо зеленых лугов на горных склонах приводит путника прямо в тревожный мир героев Александра Казбеги. Вот здесь проходила их жизнь — на пути: от старинной крепости Ананури к крутым скалам Дарьяла. Вы смотрите на все это и как будто вновь перелистываете страницы книг А. Казбеги; вот первая: Гудамакарское ущелье. Внимательным взглядом обводите вы зеленые рощи, и будто вновь встает перед вами мохевская старуха, умоляющая изгнанную беженку Маквала остаться переночевать в ее доме; вот угрюмая Бурсачирская крутизна, где Онофре на коленях молится перед ложем умирающей… С этими мыслями подходите вы к Нагвареви, а это уже другая страница той волнующей книги, которая зовется творчеством А. Казбеги. И совершенно другие картины вспоминаются вам; вот поле битвы Нагвареви — то место, где когда-то сила и справедливость столкнулись между собой и жертвы этой великой схватки, кто грудью вверх, кто лицом приникнув к земле, лежат перед вами; где глаза плененной Мзаго были сухими и горячими от невыплаканных слез: не дали ей помочь раненым воинам, не дали оплакать своего возлюбленного Элгуджа; и встает в памяти тень старого горца, который, склонившись над Элгуджа, сраженным пулей, шепчет гордые и горькие слова: «Даже смерть пощадила красоту твою, молодец! И здесь тебе повезло…» Вы идете по берегу Белой Арагвы[13]. Вот Квешети, Млети, Кайшаури. За хребтом — мохевские деревни и крепости, а по левую сторону дороги селение Каноби: отсюда увезли Дзидзиа веселые дружки. А вот и Аршская крепость, где сидела похищенная Нуну. Вы приближаетесь к Степанцминда и не устаете от чтения этой удивительной книги, снова рассказывает она вам о Гергетах, о дарьяльских теснинах, опять доносится до вашего слуха грохот волн разъяренного Терека, в неспокойном шуме которого слышались А. Казбеги угрозы врагов и рыдания его измученной родины. Перед вашими глазами как живые встают юноша Онисе и красавица Дзидзиа, заплаканная Элисо и насупленный мохевец Важа, их родные братья и сестры. Вот где разворачивалась их жизненная трагедия, и эти люди, горделивые и твердые духом, искренние и простые, — мужественные мужчины и нежные женщины — будто неотделимы от этой величественной природы; они так же естественны, как цветы можжевельника, разросшегося на этих горных склонах. Вот здесь родился и рос Александр Казбеги. Больше столетия прошло со дня его рождения и больше полувека со дня его смерти… Александр Казбеги был твердо убежден, что человек рождается для счастья и радости, но, как писатель, он в то же время прекрасно понимал, что существующий общественный строй — это ужасная дисгармония, что она та суровая зима, от которой стынет кровь, которая разрушает, губит и делает невозможным человеческое счастье, что она сменяет радость слезами и любовь к природе — страданием. Это трагическое несоответствие мечты и действительности становится причиной гибели героев Казбеги. При описании смерти Элгуджа и Матия писатель с грустью заключает: «Так закончилась жизнь этих несчастных, в сердцах которых бушевал огонь любви и которые столь много ждали от этого коварного «бытия». То же можно сказать об остальных героях, в облике которых писатель нарисовал портреты лучших сынов нашего народа. У этих людей, этих героев имеется одна общая черта: они не знают, что такое примирение с судьбой, им чуждо отступление и компромисс, и, несмотря на то, что их души безжалостно разрывают на куски условия жизни, они сохраняют величие, гордость и непреклонность даже в минуты смерти. Эти горцы и мохевцы — его любимые герои — люди принципиальные и непокорные, Они знают, что не стоит жить в рабстве, без родины. У них добрые сердца и в то же время грозные; эти две крайности в их характерах совершенно естественны. Эту доброту, героический дух и патриотизм особенно ярко передал Ал. Казбеги в «Хевисбери Гоча», где так естественно слышны слова старика Гоча, когда он посылает своего сына на поле брани для защиты родины: «— Уходи, Онисе, пора! Пусть господь защитит тебя. Если смерть неизбежна, на то воля божия, один раз рожденный один раз и умирает, но умри, как мужчина. Умри так, чтобы Хеви не было стыдно хоронить тебя. Не забудь, что у тебя хотят отнять то место, где родились и умерли твои предки. Они немало горя хлебнули, защищая свои земли. Земля до преисподней напиталась их кровью. А теперь вся надежда на вас». Герои Казбеги для родины не пожалеют даже последней капли крови. По убеждению этого народа, «лучший юноша — юноша, испытанный в бою», и, со слов Казбеги, ни одна девушка этого края не вышла бы замуж за мужчину, который хоть одного шрама не имел бы на лице. Такова мораль героической жизни этих людей. Культ героя, традиция рыцарства достигают здесь вершины, благородные и чуткие сердца бьются в груди у этих железных людей. Они не знают, что такое нарушение клятвы и измена в любви. Их сердца вмещают в себе не только глубокую любовь к ближнему, но и ненависть к тем, кто нарушает традиции общины и изменяет законам человечества. Это было давно. Не успели его рассказы появиться в печати, как сразу привлекли к себе всеобщее внимание, а повесть «Элгуджа» вызвала такой интерес, что поэт Григол Орбелиани сказал по этому поводу: «Пусть бог тебя благословит, Мочхубаридзе, за то большое удовольствие, которое доставило мне чтение твоей повести. Ничего подобного еще не было написано на грузинском языке». Уже современники А. Казбеги предвидели бессмертие его гениальных творений. В 1893 году, когда он умер, газета «Иверия» писала: «Того, кто родился дважды, не уничтожит одна смерть. Казбеги родился вторично, когда взялся за перо. И, родившись вторично, он вошел в сердце каждого грузина, а человек, завоевавший сердце народа, не умирает». Его герои, сильные и волевые, подобные героям Руставели, твердо знающие, что «лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор», несут в себе высокую мораль, идеи братства и дружбы. Эта вера вдохновляет юношу-мохевца Онисе («Хевисбери Гоча»), когда он произносит: «Пусть умрет тот человек, который подведет своего брата; позор тому, кто изменит ближнему». Вместе с нерушимой дружбой идеал героев Александра Казбеги — чистая и невинная любовь. Он старается воспитать в читателе глубокое уважение к женщине, рисует образы смелых, непоколебимых женщин, способных рядом с мужчинами встать в ряды защитников родины. В то же время они полны нежнейшей любви и женственности. Вот почему его герои, такие близкие народу, принесли их автору еще при жизни известность и всеобщее признание.
* * *
У жителей гор всегда была сильна фамильная традиция — глубокое уважение к могилам предков. «Не забудь, чья кровь течет в твоих жилах!» — такова была первая заповедь мохевца. Предки Казбеги носили фамилию Чопикашвили. Прадед Александра — Казибег — в XVIII веке был моуравом Степанцминда. В это моуравство входили Степанцминда, Гергети и Дарьяльское ущелье. Таким образом, ворота Грузии находились в руках Казибега Чопикашвили. «Владелец, этих узких ворот, — писал А. Пропели, — всегда мог господствовать над Кавказом. Кто овладевал этой крепостью-ключом, каким бы маленьким владетелем он ни был, сейчас жег становился сильнейшим феодалом. Именно от него зависело, кого пропустить в эти ворота и перед кем закрыть их». Действительно, дед Александра, сын Казибега Чопикашвили, Гавриил, скоро стал сильнейшим феодалом. Сразу же после присоединения Грузии к России он получил звание азнаури и чин майора. Имя своего отца он сделал своей фамилией, и с этого началась генеалогия Казбеги.
* * *
Отец Александра Казбеги — Михаил был старшим сыном Гавриила Казбеги. В этой семье в 1848 году родился Александр Казбеги, и здесь же он провел годы своего детства и отрочества. Еще в детстве для его обучения были приглашены педагоги; он прошел через руки множества учителей, причем одни действительно искренне заботились об умственном развитии маленького Сандро, но были и такие, которые думали только о заработке. То душевное благородство, которое до конца жизни сохранил Александр Казбеги, воспитали в нем не эти бродячие гастролеры, а народ, среди которого он с детства вращался. В формировании духовных качеств Сандро большую роль сыграла его воспитательница Нино. Эта старая женщина стала для него тем же, чем была для Пушкина Арина Родионовна. И свои первые произведения юношеских лет Александр Казбеги посвятил ей, сделав такую надпись на тетрадке: «Моя дорогая воспитательница Нино! Что более ценного может подарить тебе такой бедный человек, как я? В ней отражено движение души моей и чувства моего, в воспитании которых ты приняла столь большое участие. Вспомни время моего незабвенного детства, когда меня воспитывали, как царевича, баловали… Вспомни сказки, которые ты рассказывала мне — «Белый цветок», «Утешение народа», «Корсары» и другие… Они влияли на меня — я больше доверял им, чем наставлениям своих педагогов. А помнишь, с какой душевной болью ты рассказывала мне о положении крепостных в нашей стране? А помнишь, как плакал я после твоих рассказов, всей своей маленькой душой сочувствуя простым людям? Твои слова не пропали даром. Они навсегда обрели пристанище в моем сердце. И сейчас, после стольких лет моей жизни, когда я уже могу подвести какие-то итоги, я с гордостью обращаюсь к тебе: «Если в твоем воспитаннике имеется что-нибудь хорошее, оставшееся в его душе с детских лет, то причина этому — только ты одна. И я бесконечно благодарен тебе…» Как утверждают его современники, писатель всегда предпочитал общество народа аристократической среде. Еще в детстве убегал он от многочисленных воспитателей к деревенским парням и пастухам. Основательное и глубокое образование Александр Казбеги получил в России. В одной автобиографической записи он отмечает, что мечтал попасть в Московский университет. И вот в 1867 году он в Москве начинает посещать занятия в Сельскохозяйственной академии Разумовского (ныне имени Тимирязева) в качестве вольнослушателя. Он проникся теми идеями, которыми была увлечена передовая часть русской интеллигенции шестидесятых годов. Именно в этот период началось «хождение в народ». В семидесятые годы А. Казбеги вернулся в Грузию и восемь лет провел у себя на родине — в Хеви. В своих «Воспоминаниях пастуха» он пишет: «Я решил заняться пастушеством, пасти овец, чтобы побродить по горам и долам, познакомиться с народом, попробовать жизни, полной страха и удовольствия, которой живут пастухи в горах. У меня, как у всякого горца, имелось несколько овец. Других я приобрел в обмен на земли, чем увеличил свою баранту. Потом я взял посох, ружье и стал пастухом. Разумеется, поначалу меня подняли на смех. Мое общество было шокировано: как, сын помещика — известного и уважаемого человека — позорит себя низким занятием? Но у меня была своя цель и свое желание, и настолько сильные, что ни на какие советы близких я не обращал внимания; я хотел видеть народ, я хотел узнать его надежды и чаяния, жить его жизнью, испытать на себе его горе и радость, которые всегда сопутствуют ему. Разве мог я обращать на что-то внимание?! Я достиг своей целя: сблизился, познакомился с теми, о сближении и знакомстве с которыми я мечтал всю жизнь». Горские пастухи называли Александра Казбеги «Щит горцев». По его настоянию и жалобе начальник уезда издал приказ, по которому оскорбивший пастуха отдавался, под суд. Именно во время своего пастушества собрал А. Казбеги тот богатый материал, на основе которого зародились потом его замечательные рассказы. За это время богатырской поступью шагнула вперед история, и те тысячи горестей, которые были участью героев Казбеги, сегодня остались только воспоминанием. Эти сыны природы — грузинские горцы — до мозга костей были пронизаны мечтой о свободе и счастье. Они искали их и боролись, умирали за них. Эта взлелеянная мечта о свободе для их потомков только для сегодняшнего поколения стала действительностью. «Наступит время, и у нас от туч очистится небо, выглянет солнце, изменится время и выздоровеет больной, брат увидит брата», — говорит один из героев Казбеги и этими словами передает нам самые сокровенные мысли автора. Давно уже наступило это время. Теперь победивший грузинский народ с чувством благодарности вспоминает своего писателя, который самоотверженно боролся, чтобы излечить раны своей родины, и он стал провозвестником того величавого солнца, которое осветило ярким светом нашу родину. Велика и широка история нашей страны, нашей культуры. Те великие проблемы отмечены неудержимым стремлением, неустанными поисками. Одна из страниц этой летописи — это творчество Александра Казбеги, который достойно продолжал славную гражданскую традицию грузинской литературы. Из его мемуарного произведения «Воспоминания (бывшего) пастуха» мы черпаем очень много сведений о том, каковой была пастушечья жизнь в те времена. Вот Александр Казбеги погоняет баранту, ему на пути встречаются два путника. «Опустился туман. Начало моросить. Я накинул на себя бурку, закутал голову башлыком и обошел баранту спереди, с целью остановить вожаков. Мне хотелось, чтобы они вдоволь наелись травы. Прошло некоторое время, и я заметил двух бородатых людей в городских костюмах, которые направлялись ко мне. Я с удивлением смотрел на них, потому что это не были путники, дорога лежала по ту сторону и они не могли попасть сюда. Они подошли ближе, защищаясь палками от моего Басара, который с лаем накинулся на них. Я отозвал собаку, и она, виляя хвостом, подошла ко мне… Незнакомцы улыбнулись и на ломаном русском языке заговорили со мной: — Собак… собак… нет кусай. — Нет кусай, — в тон ответил я. — Баран, баран, — начал один из них, но не мог продолжать, так как русским он не владел совершенно, и обратился к товарищу на французском языке: — Как мне спросить его, где тут продают шерсть? — Я знаю не больше вашего, — ответил тот тоже по-французски. Потом они заговорили о пользе шерсти и удивлялись такому количеству овец и тому, как нам удается держать их в горах. Потом они снова захотели узнать, где мы продаем шерсть и сколько пудов можно найти в горах. Я говорил по-французски и, не выдержав, ответил на французском языке: В горах очень много овец. Народ живет на это, а шерсть покупают тут же армянские купцы. Можете представить себе их удивление, когда в диких горах чужой страны, где, как они считали, живут сплошь варвары, с трудом умеющие сосчитать до десяти, вдруг простой пастух, простой горский житель говорит по-французски! — Как?! Вы говорите по-французски? — ошарашенно загалдели они разом. — Да, немного говорю. — Не может быть! Где вы учились?.. Нет, это невозможно. Мне захотелось пошутить над ними, и я ответил: — Наши пастухи почти все говорят по-французски… Я еще в дальних местах батрачил и позабыл. А моих товарищей трудно отличить от настоящих французов. — Поразительно! С ума можно сойти! — говорили они друг другу. — А ведь мы считали этот народ совершенно диким…»
* * *
Восьмидесятые годы — время выхода Александра Казбеги в большую литературу — были суровой эпохой для народов Российской империи. Темной силой реакции были уничтожены все человеческие права и свободы. На попытку взрыва Зимнего дворца 5 февраля 1880 года и покушение на царя в 1881 году самодержавие ответило репрессиями. Это были годы штыков и виселиц. Вдохновитель черной реакции Победоносцев установил строжайшие террористические законы. Все живое в литературе было задушено. Политический режим царизма со всей суровостью свирепствовал и в Грузии. Грузинской литературе приходилось еще тяжелей, чем русской: стоило, в печати появиться статье с критикой (даже самой легкой) существующего строя, как газета моментально запрещалась. В таких условиях пришел в литературу Александр Казбеги, и, несмотря на это, он поднял голос против социальной несправедливости и национального порабощения. Он противопоставил реакции мир благородных и свободолюбивых людей, мечтающих и непокорных. Это была большая смелость со стороны А. Казбеги. Совершенно естественно, что жестокость цензуры испытал и он. Известно, что весь тираж изданной в 1884 году «Элгуджа» был сожжен, лишь несколько экземпляров случайно уцелело — факт, сам по себе говорящий о том, какого опасного врага увидел царизм в Александре Казбеги. Писатель был истинным сыном своей свободолюбивой родины. Истоками его кипучего творчества были горе и радость несломленного народа, который устами героев Казбеги выражал свои печали и надежды. Суровые картины классового и национального бесправия, унижения и оскорбления рисовал писатель в своих произведениях: «Пастырь», «Элгуджа», «Отцеубийца». Александр Казбеги очень верно показал не только жизнь своего угнетенного народа, но и то классовое порабощение, тяжесть которого одинаково испытывали на себе все народы, населяющие территорию царской империи. Писатель обличал ужасы крепостного строя, и в то же время он прекрасно понимал, что крестьянская реформа, которую объявило царское самодержавие, была явным и бессовестным обманом крестьян. «В 1864[14] году пробил приятный для всего мира час и объявил освобождение крестьян — отмену крепостного права! Одна часть народа — крестьянство и его сторонники увлеклись приятным известием, и они ждали чрезмерную пользу и добро от новых законов. А другая часть — помещики с щемящим сердечным волнением наблюдали гибель тех взаимоотношений, которые веками существовали между помещиками и крепостными. Освобожденным крестьянам казалось, что с этого дня их благополучие, обогащение и отдых стали безусловными явлениями, а помещикам казалось, что с этого дня они потеряли кусок хлеба, и их вчерашние пахари сегодня становятся их повелителями. Прошла первая пора восторгов, и народ немного успокоился. Крестьян убедили, что их надежды и на сотую долю не оправдались, так как у нового положения обнаружились такие хвосты, в силу которых благополучие бывших крепостных непосредственно зависело от желания помещика. Новое законодательство не обязало небольшого помещика-хозяина выделить для своих бывших крепостных участки, а что касается переселения — в особенности для наших крестьян — это и вам хорошо известно. Крупные помещики-хозяева хотя и были обязаны по новому закону выделить им участок, но лес остался в собственности помещика, и крестьянин, который не может существовать без леса, оставался зависимым от помещика. Крестьянство опять опустило голову, а помещики снова расправили крылья. Но их взаимоотношение кое-как терпимо, потому что мы надеемся на близкое будущее, но представьте себе положение тех освобожденных крепостных, которых закон лишил земли. Это домашние слуги помещика, у которых не было земли, не было своей семьи и своего очага. Представьте себе положение тех людей, которых не принимает деревня, которым ничего не отпускает помещик и даже не заселяют их на свободных государственных землях! В горах существовал вообще обычай: привозили пленных и превращали их в рабов; их держали в своих домах и пользовались ими для поддержания своей господской мощи. В силу этого довольно большое количество таких рабочих сосредоточивалось в доме помещика-горца; у них не было ни своей земли, ни своего дома, и они безвозмездно работали на землях помещика только ради куска хлеба и ради тряпья, в которое они были одеты. И все же этого огромного труда не хватало на то, чтобы приобрести хотя бы мизерный кусок земли или же корову в свою собственность. В таком положении находились эти обреченные судьбой люди, когда голос освобождения, как гром, прогремел по всей Грузии, и этц несчастные вместе с другими были вынуждены склонить головы и поблагодарить бога. А разве могли они — эти несчастные — не радоваться, когда некоторые из них еще помнили своих отцов в Черкезии, мать — у кистов и сами они несколько раз были проданы и откуплены в Грузии? Действительно, это было радостное явление, но долго ли длились эти радость и удовольствие? После освобождения они убедились, что хотя их больше не продавали как животных и не отрывали мать от детей, жениха от невесты, жену от мужа, но все они хотели есть, жить, а новый закон бросил их на произвол судьбы с протянутыми руками. Их положение было до того удрученным, что у некоторых от помещиков не осталось даже одеяла и даже бурки, чтобы постелить под собой». Как мы видим, здесь передана суть «крестьянской реформы», которая не облегчила участь порабощенного крестьянства. Вот эта мысль проводится в сочинениях Казбеги, где он рисует классовую борьбу своего времени. Велика и обширна эпопея классовой борьбы XIX.века. Александр Казбеги был великим художником этой борьбы. Казбеги показал, что его свободные мохевцы не сумели бы мириться с жизнью в таких условиях, ибо народ этот рожден для свободы, а вокруг все было заковано в цепи. Горцы отдавали жизнь за мужественную клятву и преданность, а царизм нарушал их традицию, искал в их среде таких людей, которые могли трусливо нанести удар ножом в спину своих братьев; эти на должность есаула меняли мужество, подлинно человеческие достоинства. В творчестве Казбеги отображена горькая социальная действительность и тот страшный трагизм, который испытывали не только отдельные личности, но и весь народ. С душевной болью видит Казбеги порабощение и разорение своего народа. И не случайно создает он образ человека, страстно любящего родину. Лучшие произведения А. Казбеги: «Элгуджа», «Хевисбери Гоча», «Отцеубийца», «Отверженный» — появились в печати между 1880 и 1885 годами, во время его жизни в Тифлисе, куда он приехал совершенно разорившийся и тяжелобольной. Жизнь в среде горцев много дала писателю. Почти все его произведения написаны на народные сюжеты по рассказам пастухов и крестьян. Он с удовольствием вспоминает годы, проведенные в Хеви, называя их самым счастливым периодом своей жизни. В письме своему другу-пастуху он пишет: «Брат Симон, помнишь, сколько ненастных дней и ночей мы провели вместе, сколько невзгод нам пришлось испытать тогда?.. Помнишь, как удивляло тебя и других наших товарищей то, что я — помещик, воспитанный в довольстве человек, имевший возможность вести спокойную жизнь, — предпочел безмятежному домашнему очагу полное невзгод и всяких случайностей странствование по горам? Тогда не только вы, но и многие другие не понимали, почему я пошел на это… Но если теперь читающие мои произведения найдут в них что-нибудь для своего сердца и если при этом они еще и не скучают, дочитывают мок рассказы до конца, то станет понятным, почему в свое время я решил пойти в пастухи. Часто я вспоминаю места, по которым бродили мы, пастухи, костры, вокруг которых собирались по вечерам, после проведенного в одиночестве дня, делились впечатлениями, перекидывались шутками. Тут же отдыхали стада наших овец… А ночи какие бывали! Тихие, спокойные. Словно лебедь, плыла по небу луна и ласкала нас своими нежными лучами… Боже, какие чувства рождались тогда! Какие картины рисовались в голове! Про это время и впрямь хочется сказать: «Сердце человека что море — каких только волнений не знает!» Успех, который быстро завоевали произведения А; Казбеги, мало поправил его материальные дела. Он по-прежнему испытывает острую нужду. В 1880 году он решил поступить актером в постоянную труппу грузинского театра. С этой труппой Казбеги побывал в Батуме и Кутаисе. Для сцены он написал несколько пьес, в том числе довольно значительные «Арсен», и «Царевич Константин».
* * *
Необыкновенная жизнь горцев, так ярко и живо нарисованная Александром Казбеги, быстро увлекла читателей, однако многие воспринимали его творчество только как многокрасочное этнографическое повествование. Этой точки зрения придерживался в своей статье, напечатанной в 1886 году в газете «Иверия», известный публицист Иона Меунаргия. Казбеги дал уничтожающий ответ Меунаргия. И действительно, он был не только Гомером гор, как это считал Меунаргия. Переживания его героев общечеловечны. Гений А. Казбеги не умещается в узких этнографических рамках. В ответном письме к Меунаргия он писал: «Природа хороша только тогда, когда в ней кипит жизнь с теми радостями и огорчениями, которые составляют самое человеческое существо. Что такое луна, освещающая только цветы, если рядом не стоит человек, так или иначе воспринимающий этот свет, который радует его или печалит? Я не поклонник мертвых предметов, ни моя мечта, ни мой разум» ни мое перо не обратятся к мертвому, лишенному действия предмету». А. Казбеги родился в краю большого поэтического вдохновения. Здесь вырос и возмужал его талант. С чарующей силой оживил он эти гордые горы, дремучие леса, ледяные источники. Перед читателем как живая стоит снежная вершина, освещенная последними лучами заходящего солнца; он видит природу и слышит ее голоса. В шуме волн разъяренного Терека звучит для него то грозное рычание льва, то нежный шепот любви. В произведениях А. Казбеги видятся тысячи цветов неба и земли, слышатся голоса природы, чувствуется вся ее мощь, переданная глубокими и несравненными нюансами. Она полноправный герой его произведений. И все-таки не она главное для писателя. Народ, люди — вот тот неисчерпаемый родник, в котором черпал А. Казбеги свое вдохновение, свои образы и сюжеты. Все его творчество проникнуто идеями глубокого интернационализма и братства. В своей неоконченной повести «Галашка» он рассказывает о любви горца Татархана и бедной русской девушки Маруси. Юноша-горец встретил у колодца девушку-батрачку. Ее красота поразила его. Он решает забрать ее с собой. Ничего, что у них разный бог — любовь победит и это. Татархан уводит Марусю к себе в горы. С большой симпатией описывает автор этих молодых людей из народа. И совершенно другие краски находятся у него для изображения феодала Нугзара Эристави или царя Константина («Царевич Константин»).
Таков этот писатель-гуманист, певец гор, замечательный мастер повествования, к Творчеству которого народ, по выражению. Акакия Церетели, припадал, как жаждущий к роднику. Последние годы жизни Александра Казбеги сложились трагически. Он заболел тяжелой душевной болезнью и был помещен в больницу. Оттуда он уже не смог выйти. Он умер в Тифлисе 10 декабря 1893 года. Народ похоронил своего любимого писателя на его родине в селении Степанцминда (Казбеги). У него было чутье настоящего историка, и он хорошо знал, что здание истории Грузии строилось не руками представителей царских фамилий, а мозолистыми руками крестьян. Это мировоззрение писателя хорошо видно во всем его творчестве и особенно в повести «Хевисбери Гоча», где народ выступает как созидательная сила, и это ярко показано в той главе, где описан храм Самеба: «Достаточно посмотреть на этот храм, чтобы человек осознал, что может сделать народ, объединивший свои сердца, силу и вдохновение. В стене храма только в одном месте заложен единственный мраморный камень, на котором ветер и поток не успели еще стереть надпись, и человек интересующийся может разобрать следующие слова: «…Бык Лома… пастух Тевдоре…» — эти двое, безусловно, принимали участие в строительстве этого памятника прошлого величия Хеви». «Пастух Тевдоре» — собирательный образ этих тружеников, которые создавали здание грузинской истории. В этом национальная гордость Александра Казбеги. «Он будет жить, пока жива Грузия, пока существует грузинский народ и язык, на котором он говорит», — в этих словах Ильи Чавчавадзе вся сила народной любви и признания. «Щит горцев» — так называли А. Казбеги при жизни, таким навечно вошел он в историю Грузии.
Софья Гвелесиани ВАЖА ПШАВЕЛА

Вьется дорога. Чуть поодаль, устремляясь к ней, мечется по камням бессонная Чаргали. Кажется, вот-вот в последнем порыве оторвется она от своего вековечного ложа. Но нет, не хватает силы, разбивается о берега речушка, и только отдельные капли — слезы ее бессильной ярости — достигают исхоженной людьми дороги. И день и ночь следит за этой борьбой старый дремучий лес. Стоит, насупив брови-ветви, и само солнце не решается проникать сквозь густое сплетение его зелени. Огромным богатырским войском окружают эту местность горы. Вот уже который век на могучих плечах своих держат они само небо, то улыбчивое, синее, как горный цветок — пиримзе, то грозное, хмурое, серое, как Арагва в непогоду. Вглядевшись в местность попристальнее, различишь тут и там селения. Но полно, селения ли? Уж если это и селения, то, верно, живут в них необыкновенные люди. Люди особой стати — богатыри и поэты. Так и есть. Живут здесь пшавы, грузины-горцы. Каждый — богатырь; нет для каждого ничего более дорогого, чем родина и оружие, которым он ее защищает. И почти каждый — поэт, гордый своим — большим или малым — умением. Многих поэтов знала Пшавия, Но славу всех их затмила слава одного. Его не напрасно назвали Мужем пшавским, и не напрасно он, Лука Павлович Разикашвили, прозвание это поставил как подпись к своим поэмам, стихам, пьесам и рассказам. Важа Пшавела, великий поэт грузинской земли родился здесь, в ущелье, в селении Чаргали 14 июля 1861 года. Жизнь его и обычна и необыкновенна, словно бы лишена ярких событий и вместе с тем богата ими. Жизнь его скромна и величественна, как его родная природа.
* * *
«Увидел Миндиа, как пожирают змеиное мясо свирепые каджи, а подумал; «Не будет мне от них пощады. Лучше смерть, чем бесславная жизнь в плену». И когда ушли каджи, подошел Миндиа к огромному котлу, где в кипящей воде варилось змеиное мясо. И решил он съесть змеиное мясо, чтобы умереть. И съел он змеиное мясо, но не умер, а набрался от него мудрости и начал понимать язык растений. Идет он и слышит, как одна травинка шепчет ему: «Сорви меня, я вылечу от лихорадки», А другая говорит: «Сорви меня — я успокаиваю зубную боль». И третья просит: «Сорви меня, съешь, и ты избавишься от простуды». И Миндиа слушался совета, и стал он врачевать болезни…» Маленький крепыш буквально впился глазами в рассказчика. И не замечает даже, как жарко — и оттого, что сегодня в их гостеприимном доме собралось много народу, и от пылающего очага, и оттого, что нарядная одежда его слишком тепла для этого времени года. Рассказчик давно уже умолк. Взрослые заговорили о неинтересном, братья затеяли возню, но маленький Лука думает только о Миндиа. Неужели и обыкновенный человек может понять шелест травы? Но ведь он, Лука, не совсем обыкновенный. Вот мама вспоминает, что, когда Лука родился, у него были такие длинные волосы, как у богатыря Самсона. Они падали чуть не на глаза, и пришлось их остричь. Эх, почему она это сделала! Лука осторожно выходит из дому. Луна, этот огромный светильник, кругла, как каменные голыши, что приносит с собой река. Мальчик прислушивается. Тихо. Молчат, заснули, наверное, травинки и деревья. Но со стороны дороги слышится злобное сопение, а порой как будто и стон. Лука, знает: это Чаргали пробивает себе путь, и это дело нелегкое. — Лука! Лука! — раздается голос матери. Мальчику возвращаться в дом неохота. Сладким медом тянет от сложенного неподалеку сена. И таким же сладким показалось ему коровье мычанье, словно подчеркнувшее вдруг застоявшуюся тишину. Гулкана, мать, уже вышла на балкон. — Мальчик мой дорогой, пора тебе кушать и спать пора. Даже не глядя на мать, мальчик видит ее доброе, кроткое лицо. Не хватает у него духу отмалчиваться: — Иду, мама! А в доме беседой завладел уже брат матери, дядя Параскев. Гости весело хохочут. Уплетая хлеб со свежим овечьим сыром, маленький Лука вместе со всеми смеется над жадным купцом, которого наказала женщина. Позже, когда Лука вырастет, он сам поймет, какие умные и гордые женщины есть в пшавских селениях, он напишет о них в рассказе «Дареджан», в поэме «Бахтриони», которую посвятит борьбе за освобождение Грузии. А пока — пока Лука просто гордится своим дядей, которого так внимательно слушают степенные, суровые пшавы. Лука уже умеет читать и писать — его научил отец. Дядя Параскев не знает грамоты, но во всей Пшавии никто не слагает стихов лучше, чем он. «Чем он и мама», — поправляет себя мальчуган. С этой мыслью он и засыпает. А на другой день отец отвозит мальчика в Телави, в духовное училище.
* * *
В училище было скучно. Зубрить латынь и греческий не хотелось, а к родному языку — грузинскому, что называется, не подпускали. Одна отрада — занятия русской словесностью. И учитель попался хороший. С увлечением слушает Лука былины, и русские богатыри надолго становятся одними из любимейших его героев, почти такими же, как руставелиевский Тариэл, библейский Давид, победивший Голиафа, Мзе-Чабуки, Давид Строитель… Но все же школа оставалась тюрьмой, а настоящая жизнь начиналась после уроков. Лука проглатывает книгу за книгой. Но здесь, в Телави, его больше всего интересует астрономия. Поздними вечерами, вглядываясь в густую небесную синь, в мерцающие светила, он думает о том, как рождаются и умирают звездные миры. «Быть может, вон та огромная звезда умерла, погасла тогда, когда на земле еще не было ничего живого, а я еще вижу ее свет? А быть может, — дерзкая мысль! — там есть живые существа, есть люди, есть школы, и такой же подросток, как я, вглядывается в этот момент в землю? Быть может, мы и думаем об одном и том же?» Жутко и сладко Луке от этой мысли. — Эй, Лука-а-а! — В вечерней тишине голос друга, неизвестно когда очутившегося рядом с ним на скамейке, показался оглушительным. — Где ты был? Завтра решили драться. Смотри запомни… Лука кивнул головой и усмехнулся. Шота захохотал во все горло. Оба вспомнили, как на празднике алавердоба Лука уложил на обе лопатки шестерых своих соперников — взрослых! — одного за другим. Значит, и завтра победа будет за их классом. Да, ни в борьбе, ни в кулачном бою нет ему в Телави равных. Вот только с пением у него ничего не получалось. После Важа написал: «В юности у меня было обыкновение: если кому-нибудь люди приписывали какое-либо достоинство, то этим достоинством непременно должен был обладать и я… Учеников духовного училища постоянно водили на службу в Телавский кафедральный собор, где служил один протодьякон. Этот протодьякон обладал могучим голосом, и все постоянно восхищались им: «Какой голос у Вано-протодьякона! Замечательный бас!» Меня это задело: «Если у Вано-протодьякона бас, то ведь и у меня должен быть такой же голос!» — пыжился я, убеждая себя в этом, и так насиловал свое горло, до такой степени надрывался, что у меня стала ныть грудная клетка… И вот, когда учитель пения подбирал голоса для училищного хора, у меня не обнаружилось ни баса, ни тенора. Он вообще не нашел у меня никакого голоса, чем я был страшно оскорблен. Свою обиду я умерял тем, что считал этого учителя придирой, почему-то. невзлюбившим меня, и ждал, когда придет другой учитель, который, наверное, оценит мой «бас». Уверить меня в том, что этим басом я не обладал, тогда никто не мог». Но сейчас Луке не хотелось думать ни о своем басе, ни о борьбе. Из кармана ученических брюк он извлек карандаш и бумагу. Шота понял: Лука будет писать стихи. И осторожно отошел от товарища. …Шесть лет проучился Важа Пшавела в Телави, после чего его перевели в Тифлисское городское училище. Пришел 1879 год. Важа Пшавела исполнилось восемнадцать лет. Училище он закончил, и возник вопрос: что делать дальше? Теперь он понимал многое из того, что раньше казалось ему удивительным. И то, почему так радовался отец, когда маленький Лука быстро запоминал, буквы, а потом бойко выводил их на листике бумаги. В те минуты строгое лицо отца озарялось такой счастливой улыбкой, что Лука забывал о суровых отцовских выговорах, а посторонний мог бы, пожалуй, подумать, что Павле Разикашвили нашел клад и пока еще не думает, как упрятать его подальше. Когда Павле был юношей, родители запрещали ему учиться. Дед с ружьем гонялся за Павле: учение — дьявольское занятие. — Дьявольское! — повторял про себя, сжав губы, Лука. Назвать дьявольским то, что дарует человеку такую бескорыстную радость! Но кто мог поддержать юношу Павле? Пшавским ущельем правили в те времена хевисбери, гадалки и прорицатели. Именем святых покровителей пшавов налагали они налоги. Налоги в конечном счете шли в их же карманы. В подобных условиях грамотному человеку не порадуешься, ведь он и повредить может такому житью. Он, Лука Разикашвили, один из немногих получивших образование пшавов. Ему нельзя останавливаться на том, чего удалось достичь. И вот он в Гори, в учительской семинарии. Подобно тому как неудержимо тянется к земле бурлящий, клокочущий водопад, тянется к знанию Лука. Грузинская, русская, западноевропейская художественная литература… Труды по истории, социологии, философии, экономике. Юноша с гор становится высокообразованным человеком. Среди тех, кого он любит, Руставели и Гурамишвили, Белинский, Герцен и Чернышевский, французские просветители. В семинарии было много книг — он прочел их все» он даже перевел на грузинский язык пьесу А. Островского и Н. Соловьева «Счастливый день» — перевод был послан семинарским начальством в Москву, на Российскую художественно-промышленную выставку. В полном соответствии с поговоркой, утверждающей, что каждый грузин — поэт, в семинарии было немало «своих поэтов». Лука устраивал соревнования поэтов и выходил победителем в этих соревнованиях, как прежде в борьбе. Побежденные и после остались поэтами «для себя». — Важа Пшавела стал поэтом для народа. Правда, это было позже. Пока что его стихи помещались в рукописном журнале, издававшемся в семинарии. В июле 1882 года Важа Пшавела заканчивает семинарию и направляется на работу в Амтнисхевскую школу села Толатсопели. Странную, на взгляд начальства, ведет он жизнь. Участвует во всех народных празднествах. В Толатсопели еще недавно можно было видеть (а может быть, можно и сейчас) огромный камень, который, соревнуясь с деревенскими парнями, поднимал Важа Пшавела. Теперь, утверждают старики, такого силача больше нет, камень этот поднимают нынче только вдвоем. На такие развлечения начальство готово было глядеть сквозь пальцы. Другое дело, что этот Лука Разикашвили не только учит детей грамоте — он обучает крестьян непокорству! Да вот вам пример. Какой-то горемыка пожаловался ему, что-де помещик требует с него да и с других крестьян большой оброк. Учитель Лука Разикашвили заявил ему, чтобы те не платили совсем. Разгневанный помещик послал одного из своих служащих угнать крестьянский скот. Лука Разикашвили так расправился с посланным, что тот теперь дрожит при одном звуке его имени! Помещик, конечно, пожаловался уездным властям. Кое-что у крестьян отобрали, но куда меньше, чем доставалось помещику раньше. Разикашвили и это не успокоило. О происшедшем он написал в газету. Заметка о событии, взволновавшем Толатсопели, не была тем, что теперь принято называть «письмом в редакцию». Важа давно уже писал в газеты, с 1878 года, еще в бытность учеником. Сперва это были корреспонденции о Пшавии и Хевсуретии для газеты «Дроеба», в последующие годы — фельетоны. Братьев Разикашвили было пятеро. Старший, Георгий, учился в Петербургском университете. Оставшимся «не у дел» Важа с новой силой овладела мечта об учении. «Деньги, деньги, — вздыхал Важа, — Где взять вас?» Случай помог ему. Важа с приятелями-пшавами сидит в духане, который содержит известный в Грузии борец Кула Глданели. Кула узнает о мечте Важа. Он клянется: «Пусть умрет Кула, если не поможет тебе». И вот в Тианети Кула устраивает соревнования по борьбе. Он, знаменитый борец, участвует в состязании! Народу — масса. На доход с этого «матча» Важа едет в Петербург. С дипломом Горийской учительской семинарии в университет можно было поступить только вольнослушателем. Важа вносит требуемые двадцать пять рублей. Теперь он имеет право посещать лекции. С каким интересом он это делает! Но у него есть враги — бедность и мороз; соединившись, они изгоняют пришельца. Важа покидает Петербург. Дома все было таким же, как прежде, и новым. Грозный чаргальский лес казался приветливым и манящим, в шуме реки Важа чудились уже не стоны ярости, а радостный, ласковый смех. И небо, казалось, опустилось так низко-низко только для того, чтобы приветствовать его, своего будущего песнопевца и всегдашнего любимца. Только горы по-прежнему сурово несли свою стражу. И они любили его, но, как истинные мужи и воины, таили свои чувства. О горы! Сколько строк посвятит вам Важа Пшавела!
* * *
Долгие годы Важа Пшавела ощупью шел к своему призванию. Печатал корреспонденции, рассказы, стихи. О первых своих стихах сам он был невысокого мнения. Но, как известно, истинные поэты долго в «молодых» не ходят. Важа Пшавела было чуть больше двадцати лет, когда его стихи попались на глаза Илье Чавчавадзе. Этот большой поэт, замечательный мыслитель, пламенный патриот и общественный деятель сказал, прочитав впервые стихи молодого поэта: «Пора нам, старым поэтам, сложить перо и благословить путь Важа Пшавела». Подобно тому как Пушкина заметил и благословил «старик Державин», Важа Пшавела был замечен и благословлен Ильей Чавчавадзе. Редактируя «Иверию», Илья часто печатал произведения Важа, пренебрегая анонимками, советовавшими не предоставлять «пшавским стихам» так щедро место в газете. Илья всячески ограждал самобытность поэта. Как-то в присутствии Ильи кто-то предложил послать Важа учиться в Германию (это было уже после возвращения его из Петербурга). Илья категорически отверг это предложение: «…знаете ли вы, что из этого получится? Оставьте его в покое. — в Германии, в лучшем случае, увлечется философией и тогда повесит пандури высоко к потолку. А что, если и философа из него не выйдет?.. Назначьте ему гонорар, пусть лучше уйдет он в горы и пишет…»
* * *
Чаргали. Ранним утром, когда туман еще цепко держится за верхушки гор, когда только-только золотит заря краешек неба, Важа уже на ногах: земледелец начинает день вместе с солнцем, вместе с ним заканчивает его. Важа — в поле. Плотно охватил ручки плуга — пусть глубже врезается он в землю. Впереди идет жена. Она погоняет быков. Подходит друг. Он приехал из Тифлиса. Он удивлен. — Что делать, брат, — говорит Важа. — Не поковыряюсь в земле, не выращу хлеб — все умрем с голоду. Мое писательство еле дает мне деньги на керосин и соль… Но, несмотря на это, Важа не унывает. Вечером у его очага собираются соседи. Вот один длинный как жердь горец начинает читать стихи. Читая, лукаво поглядывает то на Важа, то на сидящего рядом его брата, Бачану, Тоже поэта, приехавшего нынче погостить в родное село из Хевсуретии, где он учительствует. Братья отвечают ему такой же лукавой улыбкой. Знают, сосед хочет раззадорить их. Бачана декламирует коротенькое стихотворение — ему хочется, чтобы скорее читал Важа. У него наверняка есть что-то новое. Горцы одобрительно кивают головами. Затем просят: — Лука, прочти теперь ты. Лука задумывается: что бы почитать соседям? Может, об Алуде Кетелаури? Правда, Важа еще не закончил поэмы. Притом она из хевсурской жизни… Но поэма о доблести, героизме — значит, понятна и интересна она каждому грузину. И уж, конечно, не его земляки составят исключение. И Важа начинает:
* * *
Прошло три года. Напечатана поэма Важа Пшавела «Бахтриони». Все только о ней и говорят. Ходит много всяких слухов. Эстеты говорят, что «Бахтриони» — это величественная глыба, созданная гениальным поэтом. Народ волнует другое: «Наш Важа посвятил поэму свободе Грузии». И это в самом деле так. Бахтриони — старинная крепость — была захвачена иранским шахом. Восставший народ изгнал чужеземцев. С могучей силой утверждает Важа Пшавела тему патриотизма. Саната, Квирия, Лела, Лухуми, Зезва — имена его героев, для которых свобода родины всего важнее. В бою погибли муж и семеро сыновей Санаты, но она оплакивает не их, а судьбу своей страны:
* * *
Предоставим слово врагу Важа Пшавела, царскому чиновнику, доносившему в 1907 году по начальству: «Во главе революционного движения сего района стоит народный поэт «Важа Пшавела» (прозвище), фамилия Лука Разикашвили, проживает в селе Чаргали. Означенный Разикашвили пшавец, имеет неограниченное влияние на пшавцев, считается народным вождем… Ввиду крайней вредности, как человека умного и деятельного, Важа Пшавела в горах необходимо обдумать ряд мер, дабы его обезвредить, ибо арест его может вызвать серьезные последствия и брожение среди магароскарцев». Сам же Важа Пшавела, ненавидевший царское самодержавие, говорил: «У меня болезненное чувство к полиции. Чувствую, что если я не возьму в руки палку, она без меня начнет гулять по их головам». Но вернемся на несколько лет назад. Шел 1909 год. Миндиа-змееед, о котором он слышал в детстве, теперь полностью овладел мыслями Важа Пшавела. Мудрость Миндиа питается его союзом с природой.
* * *
Шли годы. Если говорить правду, это были нелегкие годы. Бедность и болезнь, болезнь и бедность сокращали дни поэта. И вот август 1915 года. Важа снова в Тифлисе, больной, на этот раз без надежды на выздоровление. С тоской вспоминает он о том, что было мило его сердцу. Из окон госпиталя нельзя увидеть ни шумливой Чаргали, ни лесных великанов, под сенью которых так хорошо думалось ему, ни гор, к которым он давно уже обратил свой прощальный привет. Важа попросил принести ему горной травы. Он лёг в эту пахучую постель и стал чутко прислушиваться к шороху травы, словно надеясь хотя бы теперь понять ее шепот.
Б. Жгенти ПЛАМЕННЫЙ ИЛЬЯ

В то время когда передовые идеи русских демократов-революционеров — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Герцена — осветили «темное царство» мрачного российского самодержавия, когда в Европе марксизм указал путь борьбы революционному пролетариату, когда сознание трудящихся всего мира росло и крепло под влиянием великих освободительных идей, начал свою деятельность великий писатель и гражданин Илья Григорьевич Чавчавадзе. Родоначальник грузинского критического реализма в литературе, он в то же время является выдающимся деятелем национально-освободительного движения. Выросший под влиянием русской революционной демократической литературы шестидесятых годов, Чавчавадзе выступил как пламенный борец против самодержавия и феодализма.
(«Поэт»)
* * *
Родился Илья в 1837 году, 27 октября, в селении Кварели (Кахети) в дворянской семье. Отец его, Григорий Чавчавадзе, был отставной поручик Нижегородского драгунского полка. Мать поэта, грузинская армянка Магда Бебуришвили, образованная женщина, прекрасно знала грузинскую литературу и привила любовь к ней своему сыну — маленькому Илье. В зимние вечера, у камина, Илья с сестрами и братьями слушал в чтении матери произведения грузинских, русских и западноевропейских писателей. Эти вечера навсегда остались в памяти Чавчавадзе. Грамоте Илья учился у сельского священника вместе с крестьянскими детьми. Рассказы священника Илья использовал для поэмы «Димитрий Тавдадебули» и других произведений, а самого священника изобразил в повести «Рассказ нищего». Окончив Тифлисскую первую гимназию в 1857 году, Илья поступил в Санкт-Петербургский университет, на юридический факультет. Таким образом, Илья изменил «священному» правилу отцов, которые презирали университетское образование, предпочитая ему военное. После трехмесячного путешествия Илья, наконец, приехал в Петербург и сейчас же окунулся в кипучую жизнь знаменитой российской столицы. Четыре года (1857–1861) пробыл он в Петербурге и впоследствии считал эти годы самыми дорогими в своей жизни. В столице России молодой Илья Чавчавадзе очутился в гуще подымавшегося на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов в России революционно-демократического движения. В университете Илья Чавчавадзе мало интересовался официальными учебными дисциплинами. Все свое внимание он отдавал родной русской и европейской литературе, много читал по политической истории, экономии, философии, социологии, пристально наблюдал русскую действительность, следил за событиями международной жизни. Нико Николадзе, характеризуя образ жизни передового студенчества этих лет, писал: «Те, которые обладали тогда большим талантом и могучим умом, сами пробивали себе дорогу к духовной жизни. Они не удовлетворялись устарелыми лекциями допотопных профессоров. Их волновали жгучие вопросы, возникавшие в умах передовой молодежи и настоятельно требовавшие ответа. Молодые люди такого рода сами, собственным трудом и сознанием, самостоятельными наблюдениями над жизнью, изучением литературы, чтением, раздумьем, беседами, попытками действовать и писать старались подготовиться к деятельности, полезной для нашего народа, и они подготовились к ней, поскольку им это позволяли тогдашние условия и собственные способности. Таков был, например, Илья Чавчавадзе и некоторые другие молодые люди тех времен». Вместе с Ильей Чавчавадзе в Петербурге в те годы училось около тридцати молодых грузин. Они образовали кружок, во главе которого стоял Илья Чавчавадзе. Настроения участников этого кружка, их общественные идеалы и устремления он прекрасно выразил в своем стихотворении «Песня грузин-студентов». В самом начале студенческой жизни Илья Чавчавадзе получил возможность в доме Екатерины Дадиани-Чавчавадзе ознакомиться с автобиографическим сборником поэтических шедевров Николая Бараташвили. Как известно, при жизни Н. Бараташвили не было напечатано ни одного его произведения. Илья Чавчавадзе, конечно, знал эти стихи и высоко ценил их. В доме же Екатерины Дадиани ему удалось ознакомиться со всем творческим наследием выдающегося грузинского поэта-романтика. Екатерина Дадиани-Чавчавадзе, дочь поэта Александра Чавчавадзе и свояченица Грибоедова, в молодости дружила с Николаем Бараташвили. Ей посвящены лучшие стихи поэта. Всю свою долгую жизнь Екатерина Дадиани благоговейно хранила подаренную ей тетрадь, содержавшую лучшие творения Бараташвили, переписанные им самим. Илья Чавчавадзе впервые прочел в этой тетради поэму «Судьба Грузии», такие стихотворения, как «Мерани», «Раздумья на берегу Куры», «Сумерки на Мтацминде», которые произвели на него потрясающее впечатление. Целую неделю он бредил стихами Бараташвили. В своих литературно-критических статьях и художественных произведениях, написанных в студенческие годы, Илья Чавчавадзе выступал не только убежденным единомышленником Белинского, Чернышевского и Добролюбова, но и глубоким знатоком и ценителем творчества Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Некрасова, всей прогрессивной русской литературы. Илья Чавчавадзе внимательно следил за освободительной борьбой порабощенных народов против своих угнетателей. Он восхищался итальянским народом, боровшимся за освобождение от австрийского владычества и объединение родины. Портрет Гарибальди всегда висел в рабочем кабинете Ильи Чавчавадзе. В дни победоносного шествия освободительных отрядов Гарибальди молодой поэт в восторженных стихах выразил свое сочувствие этой справедливой борьбе. Грузинские студенты Акакий и Георгий Церетели, Нико Николадзе, Кирилл Лордкипанидзе вместе с Ильей Чавчавадзе стали страстными борцами за новые идеи, которые пропагандировали шестидесятники. «Какое было время! С какой жаждой и нетерпением ждали мы, молодые, тот счастливый день, когда выходила в свет новая книга любимого журнала «Современник»! Сколько длинных, бессонных, нескончаемых северных ночей проводили мы за его чтением, за разборами его идей, за спором!.. Нет, я никогда не забуду эти счастливые дни!» — восклицает Илья. Под впечатлением этих дней пишет он свою боевую «Песню грузин-студентов»:
Стемнело. Любуюсь Тереком и Мкинвари. Наступила ночь. Но я все еще стою за станцией и, напрягая слух, мысленно следую за отчаянным рокотом Терека. Все смолкло, но не смолкнешь Ты, Терек! Поверьте, я понимаю в этом приумолкшем мире неумолчные жалобы Терека. Бывают в жизни человека такие мгновения одиночества, когда природа как будто понимает тебя, а ты ее. Поэтому-то можешь сказать, что даже в одиночестве ты нигде не бываешь один… В эту ночь я чувствую, что между моими думами и жалобой Терека какая-то связь, какое-то согласие. Сердце трепетно бьется, и рука дрожит. Почему? Дадим времени ответить на это. Ночь. Затихли шаги человека, умолк разноголосый шум людской. Не слышно больше гомона его утомительных забот и желаний. Улеглись страдания земли. Людей не вижу вокруг себя. О, как пуст без человека этот полный мир! Нет, уберите эту темную и спокойную ночь с ее сном и сновидениями и дайте мне яркий и беспокойный день с его страданиями, мучениями, мытарствами и борьбой». Илья серебристый холодный Мкинвари сравнивает с гениальным Гёте; вечно шумящий, неустанный, бурный Терек — с неугомонным великим Байроном — властителем дум молодежи XIX века. И в этом сравнении он предпочтение отдает Тереку— символу жизни, символу вечного движения. Он предпочитает «яркий беспокойный день с его страданиями, мучениями, мытарствами и борьбой».
* * *
С такими думами возвращался молодой Илья на родину. С сороковых годов молодых грузин, вышедших за пределы Дарьяльского ущелья, получивших образование в России и воспринявших новый круг идей, называли людьми, «хлебнувшими воды Терека» — «тергдалеулыны». Этим именем награждали молодежь, поднявшую историческое знамя борьбы против «отцов».
Терек был границей между Западом и Востоком, и поэтому он стал символом русской культуры. Илья приехал на родину, и сейчас же завязалась полемика с «отцами», которая впоследствии приняла характер ожесточенной борьбы. «Отцам» не нравились «люди, хлебнувшие воды Терека», их обвиняли в измене, в искажении грузинского литературного языка, им не могли простить влияния, которое оказала на них русская культура. Илья отвечал «отцам»: «Да, мы были в России! Нам дороги интересы миллионных масс, а не праздного меньшинства. Наш бог есть бог равенства и братства, а не угодничества и низкопоклонства, бог трудящихся и угнетенных, а не фарисеев, и двурушников. Не мы, а вы убили богатый грузинский язык… Мы сняли с него накинутый вами саван и снова вдохнули в него живую душу». Илья со своими петербургскими товарищами и передовой частью грузинской молодежи образовал группу, известную под названием «Пирвели даси»[15], объединившую молодое поколение новой грузинской интеллигенции, поднявшейся на борьбу со старым феодально-аристократическим обществом, с господствующими вкусами и требованиями отжившего класса дворян, с косными крепостническими нравами и обычаями. «Пора искусству оставить в покое «плывущие облака»… Пора искусству бросить безвкусно гримасничать и растирать глаза, чтобы выдавить слезу, ‘пора окунуться на дно житейского потока и там находить сокровенные мысли для своих жизненных картин. Там, на дне жизни, оно найдет множество жемчужин и еще больше грязи. Искусство не должно бояться изображать и то и другое», — писал Чавчавадзе. Главные стрелы борьбы Ильи и его товарищей были направлены против литературного журнала «Цискари», органа грузинской консервативной интеллигенции. В первое время ввиду отсутствия другого грузинского органа печати обе борющиеся между собой стороны выступали на страницах «Цискари». Но чем больше обострялась борьба, тем очевиднее становилось, что сотрудничество этих двух лагерей в одном и том же журнале было уже невозможным. Молодой плеяде необходим был собственный печатный орган. И вот в начале 1863 года начинает выходить новый журнал «Сакартвелос Моамбе» («Вестник Грузии»), редактируемый Ильей Чавчавадзе. Написанная им редакционная статья первого номера журнала «По поводу «Сакартвелос Моамбе» явилась декларацией философских, общественных и литературно-эстетических убеждений «Пирвели даси». Илья Чавчавадзе утверждает в этой статье, что основным законом жизни является вечное и непрестанное движение, что в жизни всегда все меняется, обновляется, что литература и наука «рождаются из жизни и существуют для жизни». В этой статье четко ощущается влияние философского материализма, диалектического мышления, реалистической эстетики, характерные для русских революционных демократов. Недаром идейные противники иронически говорили про Илью Чавчавадзе, что он «вместо щита был вооружен томами Белинского». Чавчавадзе сам постоянно и открыто подчеркивал свою преданность заветам великого русского критика. Своей статье он в качестве эпиграфа предпослал знаменитые слова Белинского: «Из нашей литературы хотят сделать бальную залу и уже записывают в нее дам. Из наших литераторов хотят сделать светских людей в модных фраках и белых перчатках, энергию хотят заменить вежливостью, чувство — приличием, мысль — модной фразой, изящество — щеголеватостью, критику, — комплиментами». Вокруг журнала «Сакартвелос Моамбе» сплотились все жизнеспособные силы новой грузинской литературы. «Все, что было у нас молодого и бодрого, все любящие новые порядки и новую жизнь, все они признали благородное знамя будущего, которое твердо держал Илья Чавчавадзе. Старые порядки, старые люди приютились в «Цискари», и, таким образом, в борьбе, разгоревшейся между «Сакартвелос Моамбе» и «Цискари», отражалась та подлинная и жестокая борьба, которая кипела тогда между старым и новым в нашей жизни», — писал Н. Николадзе. На страницах «Сакартвелос Моамбе» Илья Чавчавадзе опубликовал ряд своих произведений, гневно бичевавших пороки феодально-самодержавного строя и крепостничества: «Человек ли он?», упоминавшаяся выше повесть «Рассказ нищего» (первые шесть глав), «Разбойник Како», «Муша» и др. Кроме оригинальных произведений грузинской художественной литературы и публицистики, журнал печатал переводы произведений Лермонтова и Гюго, статьи Белинского и Добролюбова. «Сакартвелос Моамбе» составил целую эпоху в истории грузинской литературы и общественной мысли. Однако его существование оказалось недолгим. Реакционные силы общества злобно ополчились на этот боевой орган. В одиннадцатом номере журнала редакция жаловалась на то, что ей не удается осуществлять поставленные перед собой задачи, что на пути журнала возникла глухая стена, непреодолимые препятствия. Но, несмотря на большие трудности, она не изменила своим заветным целям и убеждениям. «Мы часто умалчивали, но собственной совести не изменяли… В пределах возможности мы говорили то, что подсказывали нам ум и сердце. Так будем поступать и впредь, если даже из-за этого существованию нашего журнала будет положен конец». В конце 1863 года «Сакартвелос Моамбе» прекратил свое существование. Для характеристики Ильи, как человека и гражданина, характерно воспоминание рабочего типографии Эрастия Торотадзе: «Однажды мне поручили подняться к Илье Чавчавадзе, отнести ему авторскую корректуру (в доме Ильи Чавчавадзе находилась типография газеты «Иверия», сам Илья жил в этом же доме на третьем этаже. — Б. Ж.). Надел шапку, захватил корректурные оттиски и бегом поднялся по лестнице. Открыл двери стеклянной галереи и наткнулся прямо на Илью, расхаживающего взад и вперед по галерее. Он взял у меня оттиски, положил их на стол и, слегка взглянув на них, обратился ко мне: — Корректор читал? — Да, читал! Он уселся за стол и дал мне знать рукой, чтобы я сел. — Откуда ты, молодой человек? — спросил Илья. — Я гуриец, батоно [16]. — Я так подумал… Как давно ты приехал? — Четыре-пять месяцев, не больше. — Теперь что, учиться думаешь или уже знаешь это ремесло? — Почти что уже изучил, умею набирать. — А где учился? — В Зугдиди. — Каким образом попал из Гурии в Мегрелию? Я рассказал историю моей поездки в Мегрелию. Он задумался и спросил: — Так как ты гуриец, может быть, знаком с Платоном Гогуадзе. Расскажи о нем. Он долго работал для моей газеты, и я считаю его лучшим наборщиком… Как он поживает? — Платон мой сосед, его двор находится рядом с нашим. Он построил себе новый дом, купил домашний скот и занимается сельским хозяйством. Дела у него идут отлично. Другие крестьяне у него учатся, как вести хозяйство по новому способу. — Например, как? — Прививка фруктовых деревьев, подрезка виноградной лозы. Привитые им деревья всегда выживают, а его самогонку наши односельчане употребляют в качестве лекарства… — Молодец Платон! Здесь он считался лучшим наборщиком. Хорошо, что в деревне он стал примерным хозяином, но плохо, что не выполняет обещания — не пишет мне письма… Если увидишь, передай ему, что я на него в обиде. После этого Илья задал мне еще несколько вопросов в отношении Гурии и Мегрелии: как там поставлено образование, работа Общества по распространению грамотности, распространение книг и журналов, и в конце спросил: — На мегрельском языке говоришь? — Говорю. — Русский язык знаешь? — Знаю. — Очень хорошо! Способный народ гурийцы и мегрельцы, но беда в том, что бедны! Нужно помочь им, чтобы они стали на ноги экономически… Нужно пресечь безобразия ростовщиков… И продолжал задавать вопросы: — Ты небось член социал-демократической группы? — Да, батоно. — Чему учат в кружке? — Истории классовой борьбы. — Ого! А что скажешь насчет любви к родине? — Любовь к родине сама собой разумеется. — А за ее счастье и свободу тоже умеете бороться?! — Безусловно! — Хорошо!.. Книги читаешь? — Читаю. — Примерно произведения какого писателя или поэта ты читал? — Ваши, батоно. Например, «Како качаги». — Когда прочитал? Я рассказал, как в деревне с крестьянами по вечерам читал «Како качаги», как затаив дыхание слушали мои односельчане, как они полюбили его героев. Илья остался доволен моим сообщением, лицо у него просияло, и он прокричал своей жене, которая находилась во второй комнате: — Ольга, Ольга! Ты слышишь, что рассказывает этот паренек? Оказывается, гурийцы с увлечением читают «Како качаги» и слушают его… Значит, дела идут хорошо! Если народ заинтересовался чтением, значит дело его расцвета и развития обеспечено. — Чьи еще произведения ты читал? — Акакия Церетели, Рафаэла Эристави, Цахели… Читаю «Вепхисткаосани»[17]… — Браво! Читай, люби книгу, люби литературу… Тем более ты наборщик и будешь иметь дело с книгами. Наборщики и вообще рабочие типографии являются помощниками писателей, они делают большое культурное дело. Лучшей профессии, чем профессия рабочего типографии, трудно сыскать!.. Если бы это зависело от меня, всем рабочим типографии я бы создал самые лучшие условия жизни. Илья видел, что я волновался, был смущен. Он подошел, похлопал меня по плечу и сказал: — За два часа я прочитаю материал, выправлю и подошлю. Передай привет ребятам. Будьте молодцами, и если моя помощь в чем-нибудь понадобится, не стесняйтесь!.. И не обижайтесь, если авторская корректура у меня выходит часто с большими правками… Иначе нельзя! Напечатанное произведение идет в народ, народ читает и учится. Можно ли давать ему неотшлифованное произведение?..» Илья призывал вернуться к солнечным, мужественным стихам Руставели. Он указывал на лучшие литературные традиции. Его идеи в конце концов победили, как прогрессивное течение в грузинской литературе, и отныне полнокровный чавчавадзевский язык стал общенациональным грузинским литературным языком. Он явился обновителем и реформатором новой грузинской художественной литературы. «Народ является законодателем языка», — так писал И. Чавчавадзе, отстаивая народность литературы.
* * *
Чавчавадзе не ограничивался литературной борьбой, он стал во главе национально-освободительного и антикрепостнического движения в Грузии. Еще в «Записках путника» Илья ведет разговор с хевским крестьянином, и этот простой Мохеве на вопрос Ильи «Прежде было лучше или теперь?» отвечает: «Хорошо или плохо, а прежде мы принадлежали самим себе, управляли сами собой. Этим и было лучше», — и Илья в этих словах хевского крестьянина открывает свою душу. В творчестве Ильи Чавчавадзе, которое формировалось на грани двух общественных формаций, идея свободы занимает исключительное место. Все свои думы он показал в своей символической поэме раннего периода «Призрак». Илья Чавчавадзе утверждает, что крепостное право отжило свой век, что оно задерживает развитие общественной жизни. Позднее в большой повести «Рассказ нищего» он нарисовал жуткую картину жизни крестьян. С присущей ему силой художественного воздействия показал Илья пропасть, которая существовала между помещиками и крестьянами. Но этим не ограничился Илья: он написал свою бессмертную повесть — сатиру на дворян — «Кациа Адамиани?» («Человек ли он?»), которая напоминает по сюжету «Старосветских помещиков» Гоголя. Но если старосветские помещики вызывают к себе жалость, то герои «Кациа Адамиани?» вызывают у читателя ненависть и отвращение. Чревоугодие, лень, полное безразличие к малейшему проявлению проблеска культуры — вот характерные особенности героев повести — Луарсаба и Дареджан. Этой повестью Илья вынес приговор умирающему дворянству. Когда грузинское реакционное дворянство приступило к формированию «черных отрядов», Илья Чавчавадзе гневно обрушился на организаторов этого гнусного дела. «Против кою вы вооружаетесь? Против крестьянства? Не смейте!» — говорил им писатель. А когда царские карательные отряды начали мечом и огнем расправляться с революционным крестьянством, писатель выступил с требованием прекратить это кровавое злодейство. «В противном случае, — говорил он от имени передовой интеллигенции, — мы все поедем туда и костьми ляжем вместе с нашими братьями». Избранный в 1906 году членом Государственного совета, Илья Чавчавадзе заявил представителям печати: «Если я вхожу в Государственный совет в качестве представителя дворянства, это лишь формальная, юридическая сторона дела. Не скрою и скажу, что в совете я буду защитником интересов всей Грузии, грузинского народа. Я посвящу свои силы также и общим вопросам». И в самом деле, в то время, когда одержавшая временную победу над народом царская реакция переходила в наступление и по всей стране воздвигала виселицы, Илья Чавчавадзе с трибуны Государственного совета требовал отмены смертной казни, проведения широких аграрных реформ в пользу крестьянства и предоставления самоуправления порабощенным народам. Это страстное выступление поэта в защиту крестьян, за освобождение их с землей вызвало резкое недовольство среди дворян. Однажды Илья выступал на дворянском собрании, посвященном освобождению крестьян. Взбешенный его речью, дворянин бросился к нему с кинжалом, но его удержали друзья и товарищи Ильи. Инициатор и руководитель почти всех общественно-культурных учреждений и организаций своего времени, Илья Чавчавадзе создал и долгое время возглавлял Общество по распространению грамотности среди грузин, сыгравшее огромную роль в развитии грузинской культуры. В 1883 году в селении Цинанзгвардтквари, в Сагурамо, по его инициативе была открыта сельскохозяйственная школа. Здесь Чавчавадзе произнес замечательную речь, в которой изложил свои взгляды: «…Наш благодатный край несравненно обильнее многих других стран своими естественными богатствами. При всем том и мы недурны собою: народ наш крепок, силен, не лишен благородных порывов. Страна наша нарядна, как богатая невеста. Народ трудолюбив. «Отчего же мы бедны?» — спросите вы. Оттого, что мы не знаем, где какое богатство лежит, где какой зарыт клад. Мы не знаем, какими средствами черпать эти сокровища, чтобы работалось легче, а пользы было больше. Да, все у нас есть, не хватает лишь одного, того самого, что по вашей же пословице значительно выше физической силы… Не хватает того, что срывает завесу с недр земли, ведет человека в эти недра и с точностью указывает, где какое зарыто сокровище и какими средствами легче его черпать. Таким вожаком является для нас наука. Без нее земля не раскроет своей груди и не позволит нам овладеть ее сокровищами… Еще раз повторяю, что знание — это богатство, и притом такое, которое можно систематически раздавать нуждающимся. Оно не только не уменьшается у того, кто раздает, но может даже от этого возрасти. В данном случае знание напоминает горящую свечу, которая не только не померкнет оттого, что при помощи ее зажгли тысячи других свечей, но даже выигрывает в свете и теплоте, так как рядом с нею засверкает бесчисленное множество других свечей. Знание можно уподобить свече еще в том отношении, что, как бы слабо оно ни мерцало где-нибудь вдали от мрака, все же оно пугает воришку, наводит страх на врагов наших, как признак бдительности, и радует запоздалых друзей наших, суля последним радушный прием со стороны бодрствующих хозяев. Разница между свечой и знанием заключается лишь в том, что свеча в конце концов догорает и гаснет, но раз зажженный светильник науки никогда не померкнет, знание передается по наследству из рода в род, от поколения к поколению в умноженном и обогащенном виде…»
* * *
Илья явился одним из основателей грузинского театра. Первой премьерой была пьеса Эристави «Самшобло» («Родина»). В последнем акте на сцене развевались грузинские национальные знамена. По этому поводу в реакционной газете «Русские ведомости», редактируемой Катковым, появилась гнусная статейка, которая советовала грузинам выставлять свои знамена на цирковой арене. Выступление «Русских ведомостей» было воспринято в Грузии как грубое надругательство над национальными чувствами грузинского народа и вызвало всеобщее возмущение. Илья дал достойную отповедь Каткову. В знаменитой статье «В ответ Каткову» он писал: «На протяжении двух тысячелетий грузинский народ с честью и славой высоко держал грузинское знамя, своей кровью обливал его и передал России незапятнанным и безукоризненным. Во времена бедствий грузинское знамя вместе с русскими знаменами не раз выходило на поле битвы, и под его водительством и с его именем грузинский народ не раз проливал свою кровь вместе с русскими… Это знамя сегодня какой-то корреспондент объявляет достоянием цирка, а г-н Катков вторит ему… Сам варвар не позволил бы себе так оскорбить целую нацию, так хвала Каткову и его приспешникам, которые совершают то, чем побрезгал бы даже варвар». В творчестве и общественных взглядах Чавчавадзе национальный вопрос всегда занимал большое место. Илья мечтал о пробуждении богатырского отрока, который, по народному преданию, спал на дне Базалетского озера. Этой легенде посвятил он свое замечательное лирическое стихотворение «Базалетское озеро». Общественная деятельность Ильи не могла не привлечь внимания властей. В конце XIX века охранка давала такую характеристику крупнейшему грузинскому писателю: «Илья Чавчавадзе обладает выдающимся умом и положением и пользуется большим авторитетом среди грузин, в особенности среди вольномыслящих, — ходят слухи, что время от времени у него устраиваются тайные собрания, на которых обсуждаются различные вопросы общественного и социального характера». Такою «заботою» был окружен Илья. Он по-прежнему усиленно занимался творческой работой, много внимания уделял переводам Пушкина, Лермонтова, Гейне, Шиллера и других классиков русской и западноевропейской литературы. Впервые прочел их грузинский читатель на родном языке в переводе Ильи Чавчавадзе. Совместно с Мачабели Он перевел на грузинский язык трагедию Шекспира «Король Лир», помогал английской переводчице Марджори Уордроп перевести на английский язык «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели и свою поэму «Отшельник». Не прошла бесследно и его теплая дружба с немецким писателем Артуром Лейстом, который написал прекрасную книгу о Грузии. Илья был замечательный лирик и не только в стихах, но и в прозе, даже в публицистических произведениях. Стихи «Черные очи» и другие останутся шедевром грузинской лирики второй половины XIX века. Смелость поэтической фантазии, красота изображения, образность и лиричность слога достигли наивысшего развития в его философской поэме «Отшельник»:
* * *
Илья Чавчавадзе первым в грузинской литературе применил слово «революция» и призвал не бояться этого понятия, ибо оно означает борьбу за очищение и оздоровление общественного бытия. И действительно, его деяния, его чаяния, его оригинальные, смелые мысли носили революционный характер. Он, как великий художник, стал борцом за новые идеи в своих художественных произведениях. Не зря он восхищался в свое время великим Гарибальди. Ему слышатся «звон разбиваемых цепей и голос истины о заре счастливых дней», и он мечтал тот же голос услышать у себя на родине. Он увлекался мужественным примером Гарибальди.
(«Матери грузина»)
Я. Хучуа ЗАХАРИЙ ПАЛИАШВИЛИ

Душный август 1871 года стоял над Кутаисом. По пыльной улице быстро шагал человек. Он шел, не оглядываясь, мимо заросших виноградниками домов, мимо низеньких лавчонок, мимо винного подвальчика известного во всем районе старика Ладо. Человек шел к высокому зданию католической церкви. Было раннее утро. Церковь пустовала. Под каменными сводами гулко раздавались шаги. Человек приблизился к изваянию Спасителя и упал на колени: — Господи, спаси ее! Помоги ей в ее мучениях! Потом он встал, огляделся, подошел к органу. Медленно, словно преодолевая преграды, полились тяжелые протяжные звуки. Но лицо человека становилось спокойнее, тревога и боль постепенно сходили с него. Служитель кутаисской церкви, органист Петр Палиашвили понимал, что только верный друг — музыка может успокоить и помочь ему в трудную минуту. А минута была трудной. Конечно, не столько для него самого, сколько для его юной жены Марии. Сейчас в муках она рожала своего третьего ребенка, — Кто это будет? Мальчик или девочка? — Сын, сын! Танцуйте, Петр, вы отец второго сына! — е радостным криком в церковь ворвалась соседка. — Ну, что же вы сидите? Скорее домой! Какой чудесный мальчик! Какой красавец! У него будет необыкновенная судьба! — Оставьте, Нино, вы всегда так говорите. — Вот увидите. Ах, какой вы счастливец! В этот же вечер в маленьком доме Петра Палиашвили собрались родные и соседи. Мест не хватало, рассаживались в саду. Мария, ослабевшая и счастливая, принимала подарки. Петр метался из комнаты в сад, разносил вино и фрукты. Трехлетний первенец, солидный толстяк Вано, не отходил от колыбельки новорожденного брата. — Назовем его Захарием! — сказал отец. Поздно, за полночь, не расходились гости; сменяя одна другую, неслись из сада песни: двое затянут — вступает третий, за ним четвертый, и вот уже все вместе ведут узорчатую, многоголосную мелодию необычайного, сложного грузинского пения. Это были первые народные песни, прозвучавшие над новым человеком земли — Захарием Палиашвили. Он их не слышал тогда. Они прозвучали лишь как символ его будущего, как первое скрепленное печатью звуков свидетельство о рождении, как виза на вход в мир большой музыки.
* * *
Двое ребят в этой семье стали неразлучными: Вано и Захарий. Шли годы, появились новые дети (в семье Палиашвили их было восемнадцать). Соседи шутили: крепко любит Петр жену! Но шестеро умерли в младенчестве. А эти двое первых словно предчувствовали, что на жизненном пути будут идти рядом и что оба на всю жизнь поклонятся одной музе — Евтерпии. Потому так и дружили. Захарий, как хвостик, всюду ходил за Вано. Вано начал учиться игре на рояле — Захарий часами сидел рядом. Вано шел играть на улицу — Захарий, как тень, за ним. Отец определил Вано певчим в церковный хор. — И меня! — потребовал Захарий. И вот уже Вано получил «должность»: он стал органистом в церкви. Он зарабатывает деньги и даже помогает семье! Захарий все мессы проводил около Вано. Не слепое обожание брата руководило им. Он слепо, сам еще не понимая этого, любил музыку. Любил ее во всем: и в нежных песнях матери, и в мощном звучании хора, и в грустных звуках органа. Мальчиком он постигал удивительное разнообразие музыки. И тогда-то твердо решил стать музыкантом. — Вано заболел, — сказала однажды мать. — Отец не может справиться один. Воскресная месса идет целый день, а он, бедный, так устает! — Я заменю Вано. — Ты, Захарий? А ты разве можешь? Но тринадцатилетний Захарий не успевает ответить. Он уже мчится к церкви. Так состоялся его дебют как органиста. Прошло немного времени, и кутаисские католики иначе и не представляли себе своей церкви, как только с этими двумя юными Палиашвили за органом. — Вот истинные музыканты! Бог их нам послал! — говорили прихожане. Но если бог им послал этих юношей, то он, видимо, не собирался оставлять их здесь надолго. Он явил свою волю в виде настоятеля тифлисской католической церкви Альфонсо Хитаришвили. В тифлисской церкви была нужда в органистах. Прослушав братьев, Хитаришвили сказал: — Я беру их с собой в Тифлис. Вано будет органистом, Захарий — певчим. Так совершился первый поворот в судьбе будущего композитора. Он знал, что музыка — его жизнь, его будущее, но как он будет плавать в этом бурном море — кто мог знать тогда?
* * *
Тифлис девяностых годов прошлого столетия. Столица Грузии. Форпост русского колониализма. Здесь все смешалось в эти годы: и неусыпная деспотическая власть царских наместников, и влияние Запада, и глухо, но настойчиво бурлящее национальное движение за свободу, и активная, чрезвычайно доброжелательная помощь культурным силам грузинского народа со стороны их русских собратьев в деле развития национальной науки и просвещения. В частности, в эти годы в Грузии жили (или приезжали) и работали такие известные русские музыканты, как Балакирев, Ипполитов-Иванов, Танеев, Кленовский. Национально-освободительное движение в Грузии отразилось и на культурной жизни страны. Жажда к возрождению самобытной грузинской культуры с неудержимой силой толкала деятелей музыкальной культуры к новым поискам. Самой важной формой деятельности стала теперь не исполнительская работа, не постижение классического наследия Запада, а собирание, обработка и популяризация лучших образцов народной музыки. В эту обстановку возрождения национального, народного искусства, в обстановку новых, прогрессивных настроений попали и братья Палиашвили. Все в Тифлисе, особенно в его музыкальной среде, было им внове и интересно. В 1886 году Ладо Агниашвили основал первый грузинский этнографический хор. Им руководил Иосиф Ратиль, родом чех. Оба брата были приняты туда как хористы. Вано привлекала больше светская музыка. Его незаурядные способности хоровика позволили ему вскоре уйти от церковной музыки. Он стал хормейстером в театре оперетты, а затем дирижером в оркестре возникшего тогда в Тифлисе «Музыкального кружка». Но вот настал день, когда братьям пришлось расстаться: двадцатилетний Вано уезжает в Россию, в консерваторию. Захарий словно потерял лучшего друга, самую прочную свою опору. Он загрустил. Часто мать и старшая сестра Анна допрашивали его: — Что с тобой, Захарий? Что тебе не по душе? Все было по душе. Он был строен и красив, этот восемнадцатилетний юноша. Он работал теперь главным органистом в церкви, помогал стареющему отцу и семье. Но его томила страсть к музыке, музыка бродила в нем, а он не мог справиться с нею, потому что не постиг еще ее законов. Он хотел учиться. Только в 1895 году, в двадцать четыре года, Захарий смог стать учеником музыкального училища. Высшего музыкального учебного заведения в Тифлисе тогда не было. Да и это, среднее, было единственным на всем Кавказе! Какое же это было счастье, когда он, взволнованный, впервые вошел в класс Н. С. Кленовского — преподавателя теории музыки. Тайная мечта, может быть, и осуществится когда-нибудь! Столько раз он удерживал себя, говорил себе, что ничего не выйдет, насильно заставлял себя не думать об этом. Вот и теперь: словно специально, чтобы отвлечься от праздных мыслей, он начал обучаться игре на валторне у педагога Моска. Зачем ему валторна? Да, звук ее интересен и необычен, она трудна для освоения, тут что ни звук — то опасность срыва, фальши. Есть в ней, в валторне, что-то таинственное, словно звучат в горах трубные гласы демонов, словно собирают древние полководцы на бой свои племена… — Да зачем тебе валторна! — спорила с Захарием сестра Анна, когда они возвращались вечером после занятий в хоре. — Пойми, Грузии нужны не трубачи, а музыканты-просветители. Пласты народной музыки лежат нетронутыми. Ты такой способный, Захарий. Займись обработкой народных мелодий! Ты хормейстер, почти хозяин хора. Можешь с нами и петь все свои обработки. — Я не могу оставить валторну. Моска не позволит. Не забывай, что я грузин из низов и меня не очень-то ждут в классе скрипки или рояля. — Тогда попробуй пойти в класс композиции. — Да я уже… — сказал он и замолк. Захарий не сразу признался дома, что пробует писать музыку. Только весной 1899 года, когда он принес аттестат первой степени об окончании класса композиции, домашние поняли: и этому сыну надо уезжать в консерваторию. Так свершился второй поворот на его пути к вершинам музыкального творчества. Только свершился гораздо сложнее, чем первый. Переехать в Тифлис было делом несложным. Но уехать учиться в Москву — где же взять на это деньги? И тут Захарий узнал, сколько у него друзей. Он не знал их раньше. Но они его знали — ремесленники, рабочие тифлисских заводов, учащиеся гимназий, учителя, мелкие служащие — все те, кто не раз слушал хор, руководимый Захарием. Сколько благотворительных и бесплатных концертов давал этот хор в залах Тифлиса! И вот теперь его юный руководитель в нужде, ему надо помочь! В газете «Иверия», редактором которой был тогда Илья Чавчавадзе, в первых числах февраля за 1900 год появилась заметка: «На 12 февраля в зале Тифлисского собрания назначен концерт Зах. Палиашвили, который недавно вместе со своим хором принимал участие в благотворительных концертах. Этот молодой человек окончил музыкальное училище и едет в Россию… Как известно от знатоков музыки, в Палиашвили заметна обнадеживающая трудоспособность, талант и глубокое понимание национальных мотивов. Общество, как грузинское, так и иной национальности, неизменно бывало довольно пением хора Палиашвили; оно, надеемся, не оставит без внимания этого прилежного учащегося и ставшему на путь учебы даст возможность приобретения высшего музыкального образования, с тем чтобы с помощью знания и труда стать полезным для нашего национального дела». И «общество» — передовые круги грузинской интеллигенции и рабочих помогли Захарию. Деньги, собранные в его пользу, составили достаточную сумму, чтобы начать обучение в столице.
* * *
И вот он в Москве, в консерватории. Он учится у самого Сергея Ивановича Танеева! Пытливые глаза Захария жадно постигали нотную премудрость, уши впитывали сложность гармонии и полифонии, мозг проверял ее музыкальной «алгеброй». Три года занятий — курс тогда был трехгодичным — насыщены до предела. Только тренированный, привыкший с детства к работе организм Захария мог выдерживать ту огромную нагрузку, которую он нес. Систематические занятия теорией, изучение музыкального наследия классиков, особенно русских, регулярные занятия дома, вечером — в концерт, слушать симфоническую музыку, а еще лучше в оперу… Перед концертом еще надо успеть на занятия грузинского хора. В Москве было немало грузин-студентов, обучавшихся в различных учебных заведениях. Захарию удалось собрать их и организовать хор. Этот неутомимый парень и здесь, на севере, не мог жить без любимой народной грузинской песни!
* * *
Где они познакомились? На одном из грузинских вечеров? Или в фойе Большого зала консерватории? А может быть, черноглазый грузин просто пошел по улице следом за худенькой девушкой в бархатной шубке? Это в общем неважно. Важно одно. Он увез ее с собой в Тифлис, Юлечку Уткину, Юлию Михайловну Палиашвили, помощницу, жену. Большая семья Палиашвили стала еще больше. Молодой, полный сил, полный новых, глубоких знаний, полученных в Москве, теперь еще и окрыленный любовью, Захарий чувствовал себя в состоянии сделать очень многое Для развития музыкальной культуры родной страны. Он понимал, что здание музыкальной культуры Грузии только начинает строиться. Фундамента еще не было. Вернее, были заложены лишь первые кирпичи. Он бесстрашно взялся за дело, чтобы выполнять самую черную, самую первую и нужную работу. Началась его музыкально-образовательная и просветительская деятельность.
* * *
В Тифлисе Палиашвили стал педагогом. В двух гимназиях он преподавал пение. В одной из них создал хор, струнный оркестр, ввел обучение игре на скрипке и виолончели. Он настолько втянул молодежь в занятия музыкой, что вскоре силами гимназистов смог устраивать концерты симфонической музыки. Он работал в Тифлисском музыкальном училище, где еще недавно был учеником: преподавал теорию музыки, сольфеджио, гармонию и хоровое пение. И, наконец, в 1908 году радостное для всех любящих музыку событие. В Тифлисе открылась первая национальная музыкальная школа, организованная при Грузинском филармоническом обществе. Директором ее стал Захарий Палиашвили. В доме Палиашвили в Тифлисе, в комнате молодых, между книг и нот, на тумбочке стоял странный и непонятный для того времени аппарат. Приходя после работы домой, Захарий Петрович — а его теперь так именовали не только ученики, но и знакомые — открывал аппарат и со вздохом закрывал его снова. Это было последнее новейшее изобретение американца Томаса Эдисона, предок нынешнего магнитофона — фонограф. Захарий Петрович считал дни: скоро ли каникулы? Скоро ли он поедет в горы? Не отдыхать, нет! Искать, слушать, записывать. Записывать песни, мелодии танцев. Эту работу он особенно любил. Каждый год, приезжая на лето из Москвы домой, он и недели не мог усидеть в городе. И теперь его снова звали вершины Сванетии, зеленые долины Картли, утесы Кахети, бурные водопады Гурии… Старики — народные певцы, бренча на чонгури, рассказывали ему в песнях историю своих племен, а потом молодые грузины в огневых танцах изображали свой быт и нравы народа. Музыкант-фольклорист Палиашвили помогал будущему композитору Палиашвили. Он все еще не считал себя в эти годы композитором, хотя и окончил как композитор Московскую консерваторию, сделал целый ряд обработок народных песен, интересных гармонизаций и уже был автором нескольких оригинальных сочинений. Вот что писал он в 1907 году в газете «Исари» («Стрела»): «В музыкальном искусстве самым сложным и трудным предметом является композиция, которая от музыканта требует естественного таланта, огромной работы и большой «практики»… А пока что ни автор этих строк — покорный ваш слуга, ни другие грузинские музыканты не являются композиторами, так как никто из нас на этом поприще не прославил себя и ничего не создавал». Но если не он, то кто же был в Грузии композитором? Никто. Была музыка, прекрасная, самобытная, необычайная. Были сотни песен и танцевальных мелодий, как сказки, из уст в уста передавали их отцы сыновьям. Музыка жила в грузинском народе. И, как Глинку в России, ждала своего первого аранжировщика, своего первого композитора. Им стал Захарий Палиашвили. Стал не случайно. Вся его музыкальная судьба сложилась так, что иначе быть не могло. Упорный труд, целеустремленность, огромная любовь к музыке, постоянные поиски народных мелодий, глубокая и тайная жажда сочинять в сочетании с серьезными знаниями теории композиции, гармонии, инструментовки, а главное — ясное понимание необходимости создания профессиональной национальной музыки, — все это вместе создало ту почву, из которой мог вырасти и расцвести незаурядный самобытный талант Захария Палиашвили.
* * *
Каждое утро в доме семьи Палиашвили почтальон выгружал из своей сумки целый ворох писем. — Получайте, дорогая Юлия, это для вашего мужа вместо хлеба, а это вместо барашка, — шутил он. Вечером Захарий просматривал груды газет. Особенно любил он литературный журнал «Феникс», там попадались интересные рассказы. — Юлия, иди сюда! — крикнул Захарий жене. — Смотри, как интересно! Юлия Дмитриевна подсела к мужу, заглянула в журнал. — «Старинное народное сказание «Абесалом и Этери» в стихах, восьми картинах, обработанное для сцены Петром Мирианашвили», — прочла она. — Это известное сказание «Этериани». Ну и что же? — Обработанное для сцены, — словно про себя сказал Захарий. — Но почему «Этериани», эта прелесть, эта изумительная легенда, должна быть обработана для драматической сцены? — А что тут особенного? — не понимала мужа Юлия Дмитриевна. — Почему не для оперной? — Да где же для оперы музыка? — Да, именно, где же музыка? — улыбнулся Захарий Петрович и встал. — Где она, вот вопрос. И вдруг, увидев его смеющиеся глаза, его широкую улыбку, Юлия Дмитриевна поняла: Захарий задумал что-то серьезное. — Слушай, это же изумительный сюжет для оперы. Грузинские Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Тахир и Зухра, Лейли и Меджнун — вон что такое Абесалом и Этери! Это легенда, конечно, но кто знает, Может быть, в древности и существовали реально несчастный Абесалом и его возлюбленная пастушка Этери и злые люди разлучили их. Да разве важно, были ли они на самом деле? Сколько раз судьба разлучает влюбленных! О любви, о ее огромной силе, которая может побороть силы зла и даже смерть, — вот о чем я хочу писать! — Захарий, ты хочешь написать оперу? — Тсс… пока об этом ни слова! — Улыбка сошла с его лица. — Но я не могу не начать. Надо попробовать. Как ты думаешь, Юлия? — Обязательно! У тебя получится. Я не сомневаюсь. И начинай сейчас же, сегодня! Так начала писаться первая грузинская опера, та самая, что стала впоследствии яркой жемчужиной грузинской музыки, непревзойденным явлением национального оперного искусства. Царевич Абесалом полюбил красавицу пастушку Этери и решил жениться на ней. Но визирь Мурман тоже влюблен в будущую царевну. Он подсыпает ей в чашу зелье, и Этери заболевает. Кто спасет ее? Визирь предлагает Абесалому свои услуги, но в награду за спасение Этери он заберет ее себе. Абесалом в отчаянии соглашается. Этери спасена, но Абесалом не может пережить разлуки с любимой. Добравшись до хрустального замка, где живет Этери, он умирает на руках возлюбленной. Этери с горя кончает с собой. Палиашвили писал оперу не один год. Он не мог отдаться творчеству целиком: занятия в училище, в школе, хорах оставляли мало времени. Но все же дело подвигалось вперед. Лето 1913 года Захарий Палиашвили провел вместе со своей семьей в деревне Никуличи, близ Рязани, у родственников жены. Здесь, на лоне чудесной природы, окруженный заботой и любовью своих близких, Захарий работал с исключительной плодотворностью. Дело создания «Абесалома» двигалось быстрыми шагами. Радостный, Захарии вернулся в Грузию, где его подстерегало тяжелое горе: умер его единственный, горячо любимый сын, одиннадцатилетний Ираклий, на которого он возлагал большие надежды. В четыре года Ираклий одним пальчиком подбирал марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» Глинки. В семь лет он сочинил небольшой вальс и посвятил его любимой оперной певице Марии Дмитриевне Турчаниновой, лично передав этот вальс на сцену в день ее бенефиса. Захарий тяжело, переживал потерю любимого сына. Ежедневно ходил на его могилу. Забросил композицию любимого «Абесалома». Ничто его не интересовало. И вот однажды его осенила мелодия, полная невыразимой грусти, выражающая всю боль его страдающего сердца, весь трагизм, вызванный потерей его надежды, его солнцеликого сына:
* * *
В живописном уголке Абастумани примостился домик композитора. В дни и недолгие месяцы, когда создавалась «Даиси», уже ничто не мешало Захарию Петровичу писать: он, прославленный композитор, мог отойти на время от педагогической деятельности, чтобы целиком отдаться творчеству. В Абастумани постоянно приезжали друзья и почитатели. Но Юлия Дмитриевна пускала не всех. У Вано Сараджишвили и Сандро Инашвили был «постоянный пропуск». Эти двое — ближайшие друзья, солисты Тбилисской оперы — первыми слушали написанные куски оперы, тут же проверяли свои будущие партии (Малхаза и Киазо), спорили, предлагали новые варианты. Палиашвили охотно принимал их замечания. Богатейший опыт оперных певцов был очень ценен для композитора.
 Г. Габашвили. Портрет Ильи Чавчавадзе.
Г. Габашвили. Портрет Ильи Чавчавадзе.
 Б. Авалишвили. Портрет Важа Пшавела.
Б. Авалишвили. Портрет Важа Пшавела.
 У. Джапаридзе. Портрет Захария Палиашвили.
У. Джапаридзе. Портрет Захария Палиашвили.
 Вано Сараджишвили.
Вано Сараджишвили.
— Захарий Петрович, — предложил как-то Вано Сараджишвили, — есть прекрасные стихи Акакия Церетели с популярной мелодией, очень подходящей для арии Малхаза. Вот они. — И он с чувством прочел «Мне судьбою» («Таво чемо»). — Здорово! — откликнулся Захарий Петрович. — Это может прозвучать вот так. — И он начал наигрывать первые такты мелодии будущей арии «Таво чемо». И вот, наконец, и премьера. На этот раз Захарий Петрович в зале, среди слушателей, а за дирижерским пультом самый близкий из друзей, самый любимый — брат Вано, теперь уже известный оперный дирижер. Поднялся занавес. Публика аплодирует отличным декорациям Валериана Сидемон-Эристави, а потом все поворачиваются к ложе, где сидит композитор. Вано приветствует его и незаметно подмигивает: как в детстве. А оно уже давно прошло, его детство, наступила зрелость, да ведь и старость недалеко; ему пятьдесят два года… Музыка — вот что никогда не стареет. Кажется, об этом говорили на каком-то банкете, поздравляя его с пятидесятилетием. Но он совсем не чувствует себя старым. Разве старики пишут оперы о любви? Разве не о себе писал он в арии Малхаза? Гром аплодисментов прерывает его мысли. Его вызывают на сцену — он стоит рядом с Вано, с постановщиком оперы Котэ Марджанишвили; артисты жмут ему руку, преподносят цветы. Захарий Петрович чувствует, что счастье его огромно: он нужен и полезен родному народу, родному искусству. А через два года, 12 апреля 1925 года, грузинский народ поздравлял своего композитора с тридцатилетним юбилеем его музыкальной деятельности. Его приветствовали композитор Александр Афанасьевич Спендиаров, Леонид Витальевич Собинов и верный друг грузинской музыки, основатель Тбилисского училища, старейший музыкальный деятель и композитор М. М. Ипполитов-Иванов. В этот день стало известно, что Захарию Петровичу Палиашвили присваивается звание народного артиста Грузинской ССР.
* * *
Шли годы. Это были годы труда, создания все новых и новых произведений. В 1927 году создана кантата «X лет Октября» для солистов, хора, симфонического и духового оркестров. Она исполнялась впервые 10 ноября перед зданием правительства Грузии, и участвовало в ней четыреста человек. А через пять месяцев Палиашвили дирижировал своей третьей оперой — «Латавра». Снова, как в первые годы революции, он директор Тбилисской консерватории (преподавание в ней Он не прекращал все эти годы). Давно уже написана литургия, грузинская сюита для симфонического оркестра, хоры, романсы, а Захарий Петрович словно торопится: один за другим выходят обработки народных песен, статьи о грузинской музыке. Да, он торопился. Потому что он был очень болен. И он знал, что времени у него мало. До обидного мало! 6 декабря 1933 года, шестидесяти двух лет от роду, Захарий Петрович Палиашвили скончался.
* * *
Его имя прославило музыкальную культуру Грузии. «Абесалом и Этери» и «Даиси» выдержали испытание временем. Ясные по замыслу, глубокие по идейному содержанию, высокие по мастерству, законченные по форме, произведения Палиашвили доступны и понятны самому неискушенному слушателю. Заслуга Палиашвили перед родной культурой состоит еще и в том, что он первый заложил прочные основы подлинно классической грузинской музыки, одним из первых представил племенное и диалектное многообразие грузинского музыкального фольклора как стилистически единое художественное явление, добился обобщения всех элементов, составляющих песенное богатство Грузии, и, таким образом, поднял национальное искусство на такую вершину, откуда стали видны многие пути его дальнейшего развития. Передовой педагог, дирижер, неутомимый этнограф-путешественник, человек огромной воли, трудоспособности, ясной мысли и большой щедрой души — таким мы помним Захария Палиашвили, талантливейшего грузинского композитора, автора классической национальной оперы. Со страниц его партитур встает перед нами душа Грузии, страны легенд и сказаний, горных вершин и неумолкающих водопадов, многоголосных песен и огненных плясок, душа ее трудового народа. И мы благодарим композитора за это открытие, за огромный труд, проделанный им и равный по значению подвигу.
Лали Микава САЛАМУРИ
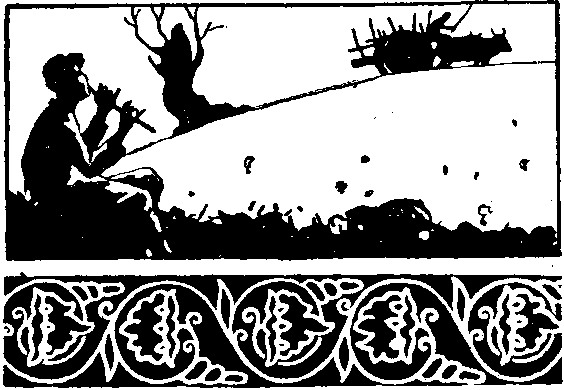
Песня — душа народа. Если слова выражают мысли человека, то песня, безусловно, его душевное состояние. У каждого народа свои песни: яркие, музыкальные, чистые! Как в прозрачной озерной глубине, видна в них народная душа. Поэтому песни — второй язык людей, интернациональный, понятный и доступный всем. …Когда древняя Спарта, измученная долгой войной, обратилась за помощью к Афинам, то афиняне вместо войск и оружия прислали в Спарту одного внешне ничем не примечательного человека. Звали его Тиртеем. В Спарте были удивлены и разочарованы такой помощью и ждали неизбежного поражения в предстоящих битвах. Но вот Тиртей запел свой пламенные песни, и спартанцы, воодушевленные ими, победили. Так замечательные песни Тиртея стали знаменем победы. Это миф, но он создан человеческой фантазией. Он создан народом. Грузия заслуженно считается страной песни. Еще в X веке монах Микел Модрекили создал грузинские нотные знаки, основательно отличающиеся от византийских и католических. Примерно в это же время Георгий Мтацминдели (Святогор) со своим хором приехал к византийскому цезарю в его дворец и исполнил греческие и грузинские церковно-хоровые песни. В Грузии существовала традиция посылать талантливых молодых людей в Грецию для получения образования. Руставели получил свое образование в Афинах. Но раньше приезжали и в Грузию. Как свидетельствует греческий философ IV века Фемистокл, свое философское образование он получил в Грузии, где «существовали академии, в которых изучались философия и риторика». Здесь же происходили философские дискуссии, в которых принимали участие ученые чужеземцы со всех сторон света. В них прославился грузинский философ Бакури. По сообщению греческого историка Ксенофонта, «… среди грузин широко были распространены светская музыка, военные и танцевальные песни. Чанские племена (Западная Грузия. — Л. Л.) даже военные действия начинали песнями и танцами». В рядах армии Помпея часто слышались грузинские песни, а когда царь иберов Парсман получил в Риме от цезаря Адриана в подарок слона, пятьсот воинов и много золота, он со своей свитой в знак благодарности гостеприимным хозяевам исполнил несколько грузинских песен. Прошли века. Талантливые сыны маленькой Грузии были рассеяны по всему свету, во многих странах выступали грузинские музыканты, танцоры, певцы. В конце XIX и начале XX века в городах Европы большим успехом пользовались выступления известного пианиста Алоиза Мизандари. Венская пресса назвала его гениальный мастером. В Милане, в оперном театре Ла Скала первые партии пел выдающийся бас Филимон Коридзе. Там же неоднократно выступал обладатель несравненного голоса, стипендиат петербургских императорских театров драматический тенор П. Какабадзе. В Милане занимался также премьер парижской Гранд-Опера Мишель Дарьял (Михаил Нанобашвили). Заслуженную известность получила выдающаяся грузинская певица Елена Тархан-Моурави. После необычайного успеха на сцене Ла Скала в труппе композитора Масканьи она уехала в Соединенные Штаты. В 1911 году, когда она приезжала на гастроли в Грузию, Акакий Церетели посвятил ей стихи. Их было немало, рассеявшихся по разным городам мира. У знаменитого маэстро Кастелано занимался… но об этом ниже.
* * *
В миланском кафе «Биф» всегда полно посетителей. Вокруг непременно толпа зевак. Это и неудивительно — здесь собирались «звезды» и «полузвезды» Ла Скала. Знаменитые певцы и их зрители, «таланты и поклонники», обворожительные, экстравагантные иностранки и скромные красавицы, безнадежно влюбленные в какого-нибудь обладателя бельканто. Здесь и пресыщенные американки-миллионерши, ревностные рабыни мод, и знаменитые импрессарио, торгующие человеческими голосами. И приходили те, из-за кого ломились все в это кафе. Жрецы Евтерпии держались по-разному: одни независимо, властители чувств, другие скромно они еще искали свой путь, третьи уже отчаялись — молодые бесталанные и старые, давно потерявшие голоса, но не хотевшие мириться с мыслью, что все в прошлом. Сегодня вечером особенно людно было около кафе «Биф». Напряженно ждали многочисленные зрители. В это время всегда приходил сюда бог вокала Федор Шаляпин, говорили, что у него не голосовые связки, а какое-то чудо, никто только не знает какое. Вот он пришел в окружении Тито Руффо, Мазини, Джиральдони. Присутствующие с благоговением смотрели на этих бессмертных, которые устремились к своему столику на каменном тротуаре прямо перед кафе. Вдруг Шаляпин замедлил шаги, раскрыл свои объятия и закричал: — О, Вано, дружище, генацвале… Вчера ты пел великолепно, не зря я тебе устроил дебют, будешь помнить! Перед этим красавцем великаном стоял юноша, будто высеченный из паросского мрамора рукой Микеланджело. Но в этом мраморном изваянии было такое живое, трепетное, горячее сердце! Выше среднего роста, с густой шапкой черных, вьющихся волос, зубы — белоснежные, прикрытые крупными чувственными губами, прямой нос, огромные глаза бездонной глубины, длинные ресницы, кожа бледная, цвета слоновой кости… Таков был Вано Сараджишвили, известный в Европе под псевдонимом Сараджини. Его поздравляли солистки и солисты Ла Скала, друзья и знакомые. Поздравляли с тем успехом, который выпал на его долю вчера. Шаляпин устроил его дебют. Небывалый случай: через пару месяцев после приезда дебют в Ла Скала! Он страшно волновался, не спал, бродил по городу, напевая вполголоса. За два дня до выступления к нему пришли какие-то люди. Вид незнакомцев не понравился ему. — Сеньор Сараджини? — спросил один с угодливой улыбкой на широком потном лице. — Да, это я… Зачем я вам понадобился? — Сеньор Сараджини, нас зовут «успехом певца»… Вот и вам хотим создать успех. — Тронут вашим вниманием… Но все-таки чем я обязан вашему приходу? — Знаете что, — развязно начал один, который был пониже ростом, — кроме таланта и голоса, требуется еще наша помощь, без нас успеха не будет… — Но кто же вы такие? — уже нетерпеливо спросил Вано. — Мы — клака. Десять процентов вашего гонорара, и мы обеспечим вам успех! Вано не мог произнести ни слова. Лицо его побледнело от сдерживаемого негодования. — Убирайтесь сейчас же вон!.. Обнаглевшие миланские клакеры испуганно попятились назад. — Хорошо!.. Вы еще вспомните нас! — Вон… вон!.. — кричал Вано, но их уже не было. Во втором акте действительно раздалось какое-то. шипение. Но дебютант пел так замечательно, что сразу захватил весь зрительный зал. Овациям не было конца, а что удивительнее всего — вместе со всеми восторженно аплодировали (наверное, впервые) и те непрошеные гости — профессиональные клакеры. Вот об этом вспомнил сейчас Вано, рассказал друзьям, и все от души смеялись. Прочие голоса покрывали раскаты шаляпинского баса. Выпили красного «кьянти». Кто-то заиграл на гитаре неаполитанскую песню де Куртиса, и Вано запел. Его слушали затаив дыхание, когда он дал знак рукой — подхватили все: певцы, туристы, уличные музыканты, мальчишки и — небывалый случай! — пел даже сам Шаляпин. — Ну, брат, у тебя настоящее бельканто, тебя ждут слава, деньги, любовь… И с таким голосом ты все смотришь в сторону Тифлиса!.. — Нужно думать о европейской карьере, об Америке! — советовал Тито Руффо. Вано молчал. Если бы они знали, его друзья, что на все богатства Европы он бы не променял один день охоты на полях Картли, в лесах Кахети! Но они этого не понимают… Так думалВано Сараджишвили… Вано Сараджишвили родился 1 мая 1879 года. Это был одиннадцатый ребенок в семье технолога Петра Михайловича Сараджишвили. Мать Ефемия Русишвили-Корчибаши в приданое мужу из родного дома привезла «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. Семья Сараджишвили была известна своей любовью к музыке и знанием древних грузинских народных песен. Однажды отец подарил маленькому Вано саламури, и мальчик с того дня не расставался с нехитрым инструментом. Он рос горячим, темпераментным, любознательным и добрым. Был великолепный спортсмен и не раз занимал первенство в разных соревнованиях. В гимназии он никогда не расставался со своим саламури и часто играл танец «лекури». Это была память об отце, который научил его играть. Семнадцати лет он вместе с Захарием Палиашвили поступил в музыкальное училище. Потом — в хор прославленного Сандро Кавсадзе. (Вано был страстным приверженцем народных песен. Не напрасно носил он с собой в кармане саламури — дудочку из камыша, любимую свирель грузинских пастухов.) В 1900 году братья и сестры Сараджишвили — а их было, слава богу, немало! — организовали семейный хор. (Жаль, что отца не было в живых.) Они часто выступали на публичных концертах: перед студентами и рабочими Надзаладеви, перед общественностью Тифлиса на благотворительных вечерах. В это время Вано был на военной службе. Его уважали за дисциплинированность, воспитанность, вежливость и часто отпускали домой ночевать. Но однажды пришлось ему выйти в город с винтовкой. Он беззаботно шел по улице и вдруг неожиданно лицом к лицу столкнулся с городским комендантом Рейтером. Вано быстро оглядел себя и вдруг с ужасом заметил, что забыл в казарме штык. Комендант, наполовину грузин, хорошо знал грузинский язык и очень любил эту страну, где он родился и жил. Он заметил Вано без штыка, остановил и забрал в комендатуру, где, конечно, он бы не миновал наказания. Рейтер шел впереди. Вот они уже пришли на место, комендант обернулся и вдруг окаменел от изумления: перед ним стоял Вано со штыком. — Как фамилия? — Сараджишвили. — Сараджишвили или Сараджев? — Сараджишвили! Комендант с головы до ног оглядел обаятельного юношу и спокойно сказал: — Скажите, как вам удалось обмануть меня? Только скажите правду. — Я торопился. Из дому бежал так, что забыл надеть штык. Когда я шел за вами, увидел товарища. Подозвал и незаметно от вас… — Значит, ваш товарищ на Головинском проспекте снял штык и передал вам, не так ли? — Он не виноват, я отнял! — Как его фамилия? — Прошу вас, накажите меня… Он не виновен. Рейтеру понравились смелость и благородство солдата. Он не стал настаивать. — Идите!.. Таким был всегда живой, смышленый и смелый Вано. Вано твердо решил учиться, чтобы стать профессиональным певцом. Говорят, первым его учителем был известный в свое время певец Усатов — первый учитель Шаляпина. Вано был одержим. Не пропускал ни одного оперного спектакля. Пел по слуху. Пел все арии и партии: тенора, баритона, баса, меццо-сопрано, сопрано… У Давида Сараджева, известного родственника Вано, часто устраивались вечера в его особняке на улице Мачабели. Здесь собирались певцы, художники, музыканты, писатели, талантливая молодежь. Вано великолепно играл на гитаре и пел. Красивый голос, бархатистый тембр, природная музыкальность — все было у этого человека. Советовали серьезно заняться пением. Был один из вечеров у Сараджева. Присутствовал Михайлов (заведующий палатой казначейств), любитель музыки. Был здесь и Бахуташвили, который привел с собой Акакия Церетели. Попросили спеть Вано. Он начал петь, и у Михайлова бокал с налитым вином так и застыл в руке. Он еще не слышал такого голоса. Вспомнил, что это для Вано просил хозяин какую-нибудь работу. Михайлов дослушал песню и громко, категорически заявил: — Чего он хочет? Службу? Какая ему служба? Чтобы сегодня же заниматься — и ни слова! Это же необыкновенное явление, это же чудо, господа! Для вас я готов на все. Только когда я умру, на моей могиле спойте «Мхолод шен ертс…» Вскоре была назначена комиссия. Слушали Вано. Присутствовал Илья Чавчавадзе. Вано спел одну песню и не успел начать вторую, как Илья коротко решил: — Должны. послать на учебу, говорить тут нечего. Помощь окажем. Через неделю газета «Цнобис пурцели» сообщила своим читателям: «Назначены стипендии студентам Александру Полторацкому, Захарию Цицишвили и учащемуся в С.-Петербургской консерватории Иване Сараджишвили». В Петербурге Вано встретили друзья. Здесь жила его двоюродная сестра Евгения Сараджишвили. Здесь он впервые увидел итальянскую оперную труппу и услышал итальянских певцов, о которых ему столько говорили на родине.
* * *
Санкт-Петербург. Начало века. Предрассветный туман. Уходящее старое. Неизвестное будущее. Все загадочно. Неопределенно, неизвестно. Северная столица напоминает Рим перед падением, Константинополь — перед нашествием сельджукских орд. Таков Петербург. Внешне все по-прежнему: золото, блеск, мишура. На сцене новые дарования, но театр умирает. Он не может идти старой дорогой — других путей не видно. Там, в Москве, что-то зарождается, какие-то дерзания, смелые шаги, новаторские начинания. А здесь дух казенщины, дух императорских театров. Вот в этот Петербург приехал Вано Сараджишвили. Но его ничего не интересует, кроме пения и учебы. Здесь сейчас в моде грузинская музыка, грузинские песни. Чайковский, Римский-Корсаков, Ипполитов-Иванов увлекаются ими. — Это же настоящий контрапункт, творчество великого мастера, не может быть, чтобы они были народными, — сказал Римский-Корсаков, послушав грузинское хоровое пение. Часто устраивались грузинские вечера. Инициаторами были замечательный актер Владимир (Ладо) Месхишвили, Сумбаташвили-Южин, Михаил Нанобашвили, Евгения Сараджишвили, Вано Сараджишвили, профессор Хаханашвили, академик Н. Марр, Иване Джавахишвили и многие другие. Вано приходил на эти вечера в белой черкеске и голубом архалуке. На первом же публичном выступлении он своим голосом буквально очаровал искушенных слушателей. Впервые с петербургской сцены раздалась песня грузинского аробщика. Вано с головою ушел в новую жизнь. Начал заниматься у знаменитого тогда в Петербурге профессора И. П. Прянишникова. Вначале тот не хотел его принимать. — Послушаю. Если только замечу искру какую-нибудь, порекомендую хорошему педагогу. О занятиях у меня и речи не может быть, — заявил он. Вано задели слова профессора, и он подготовился к сражению. Прянишников сел у рояля. Вано начал и… педагог слушал молча. Это был огонь, а не искра. Мягкость бархата, легкость ветерка и серебряный звон слышались в его голосе. Изумительный тембр. — Может быть… еще что-нибудь споете? — Что именно? — Все равно, что вы знаете. — Каватину Фауста можно? — Фауста?!. — Да. — Да, но вы ведь нигде не учились, это и старым мастерам трудно петь. — Ничего… Вано великолепно исполнил это трудное музыкальное произведение. — Завтра же приходите… когда хотите, никакого времени я вам не назначаю. Ни копейки от вас не хочу. Завтра же, слышите? На второй же день они начали заниматься. Так «Фауст» открыл Вано дорогу в жизнь.
* * *
В 1905 году Вано уже поет в знаменитой оперной труппе Алексея Церетели (сын грузинского поэта Акакия Церетели), В этой труппе выступали: Лина Кавальери, Баронат, всемирно известный тенор Мазини, Ансельм, Батистини, Наварини и др. В эту блестящую плеяду «звезд» был принят и Вано Сараджишвили. Но он не потерялся и вскоре стал звездой первой величины. Ему было тогда двадцать пять лет. После каждого выступления корзины красных роз заполняли его артистическую уборную в морозном Петербурге. Партию герцога он пел на итальянском языке рядом со знаменитой Ван-Брандт. Не так-то легко было пробить себе дорогу в тогдашнем Петербурге — признанном центре музыкальной культуры, когда рядом, со сцены императорского театра, раздавался гениальный голос Федора Шаляпина. В эти годы познакомился Вано с ним, а подружились они в Италии. В труппе пела всемирно известная итальянка красавица Лина Кавальери. Он пел с ней в «Травиате». Вано не раз повторял в семейном кругу: «Проклятая так красива, что иногда рядом с ней на сцене я цепенею и много раз чуть было партию не угробил: слова забываю». Вано давно увлекался итальянской школой пения, а в то время в Петербурге с итальянскими певцами была близка не менее знаменитая профессор итальянской школы Панаева-Карцева. Он перешел к ней. Грузины-студенты в Петербурге решили поставить «Демона» Рубинштейна на грузинском языке. Обратились к жившему в Петербурге композитору и меценату Мелитону Баланчивадзе. Затею студентов он встретил немного скептически: «Демон», да еще на грузинском языке! Но молодежь убедила его. Скорее всего это был семейный спектакль: Демон — Д. Гедеванишвили, Тамара — Евг. Сараджишвили, Синодал — Вано Сараджишвили, слуга князя — Ал. Сараджишвили. Но Панаева-Карцева категорически запретила Вано петь в спектакле. — Тогда разрешите хоть танцевать в «Демоне», — Попросил Вано. — Это пожалуйста! И Вано танцевал. Вряд ли кто-нибудь лучше исполнял в то время грузинский танец! Так или иначе, а участие в спектакле Вано все же принял. Евгению Сараджишвили после блестящего исполнения партии Тамары Ал. Церетели пригласил в свою труппу. Она пела вместе со знаменитым Тито Руффо. Вано с успехом выступал в концертах. Одна из многочисленных рецензий гласит: «…Г-н Сараджишвили, как видно, прошел блестящую школу бельканто. У певца великолепная техника дыхания, прекрасная фразировка и тенор чудесного тембра. Любую оперную сцену мог бы он украсить». В 1906 году с помощью Панаевой-Карцевой Вано был принят в итальянскую труппу, где он пел с большим успехом. А осенью того же года он вернулся в Тифлис.
* * *
Но выступить на тифлисской оперной сцене оказалось не так просто. Время было тревожное после 1905 года. Арсен Джорджиашвили выстрелил в палача генерала Грязнова и убил его. Когда в оперном театре собирали деньги на венок Грязнову, композитор Иа Каргаретели и многие работники театра отказались дать деньги «Для такого «генерала» мы не дадим своих денег». 13 декабря 1906 года, ночью, наемные хулиганы напали на Каргаретели, избили его и бросили в пропасть. Он выжил, но руку потерял навсегда. Вано отказали в дебюте. За него просили художники, актеры, но, раб царя и отечества, директор оперы генерал Роде коротко ответил: — Туземцы на нашу сцену не будут допущены. Мало ли что он из Петербурга, в России много безработных актеров. Второй директор, князь Грузинский, тоже не помог: неудобно, мол, я тоже грузин, что скажут, — и так далее. Пришлось пойти к заместителю наместника Аслан Гирею, последний обратился к Воронцову, и только тогда Сараджишвили был дан дебют. 12 октября он впервые выступил в партии Альфреда и… сразу же стал национальным кумиром, иначе, как «Вано, наш Вано», его не называли. А 24 октября он спел арию Ленского и окончательно завоевал симпатии всех. Молчали даже противники «туземцев» вроде генерала Роде. В день своего бенефиса Вано спел «Фауста». Это был его последний спектакль — он собирался в Италию. В газетах писали: «…Сараджишвили едет в благодатную страну «апельсинов и теноров». Хотя бы он остался еще на один спектакль, чтобы в том же составе повторить «Фауста»…»
* * *
В Милане Вано снял комнату в семье некоего Тамбурини. Хозяйка немножко знала русский язык, Вано в такой же мере владел итальянским. У хозяйки была красивая дочь, она взялась обучить его итальянскому языку. По приезде в Милан Вано стал бывать у певицы Елены Тархнишвили (Тархан-Моурави). В ее салоне собирались все «звезды» Милана. Устраивались музыкальные соревнования и камерные концерты. Страстно полюбили здесь «Дробную песню» в исполнении Вано. В этой семье началась его дружба со всемирно прославленными певцами: Шаляпиным, Тито Руффо, Джиральдони. Все они единодушно признавали замечательный голос и редкую музыкальность Вано. Он стал очень частым гостем Джиральдони, который был женат на грузинке красавице Тамаре Эристави. В свое исполнение, в свои песни и беседы Вано вносил грузинское обаяние. На концертах он исполнял арии из опер итальянских и европейских композиторов, грузинские и неаполитанские песни. Его бесконечно вызывали на «бис», кричали «брависсимо» и, наконец, сделали из него «настоящего» итальянца, переделав его фамилию на Сараджини. Вано настолько овладел итальянским бельканто, так вошла в его кровь и плоть эта блестящая манера исполнения, что итальянцы считали его «своим». Под этим псевдонимом выступал Вано в Милане и Венеции, Неаполе и Парме, Париже и Брюсселе. Федор Шаляпин называл его «земляком» и «прекрасным грузином». Он всегда вспоминал о нем тепло и с большой любовью. Целое лето Вано жил на озере Лаго ди Кампо, недалеко от Милана, у баритона Тито Руффо, с которым его связывала большая дружба. Из блестящей плеяды сценических образов Вано особо нужно отметить партию Хозе в опере Бизе «Кармен». Эту партию он не только пел совершенно своеобразно и интересно, но играл также блестяще. Дело в том, что в Петербурге поработал с ним над созданием этого образа великий грузинский актер Ладо Месхишвили. Однажды Вано выступал в одном из итальянских городов в опере «Кармен» в партии Хозе. Пел великолепно. И вот после слов: «Кармен, моя Кармен, пощади меня…», Хозе падает у ног возлюбленной. — Браво! Брависсимо! — так загремел зал, что певец долго не мог прийти в себя. Публика устроила овацию. Когда, наконец, Вано вышел за кулисы, кто-то ворвался сюда из партера, начал его обнимать и целовать. — Простите меня!.. Я нарушил театральные порядки, не вытерпел. Кто вы такой, откуда? — Я грузин, Вано Сараджишвили. — А я русский писатель Куприн… Вано Сараджишвили, грузинский соловей! Редкий соловей! Значит, земляки! Тот вечер они провели вместе в маленьком итальянском кабачке и разговаривали до позднего вечера, запивая воспоминания о родине «следами Христа». Шаляпин по-прежнему уговаривал Вано ехать с ним в Америку, по Европе; уговаривали его ближайшие друзья Джиральдони, Тито Руффо, даже Елена Тархан-Моурави. Одна только Тамара Эристави дала ему иной совет: — Дорогой Вано, конечно, в Европе тебя ждет слава, богатство, красивая жизнь… Но ты потеряешь покой, ничто не будет мило вдали от родины, ностальгия — ужасная вещь… И потом ты обязан что-то сделать для культуры нашей маленькой многострадальной страны… Вот я богата, знатна, муж мой всемирно известный певец, все у меня есть: семья, любимый муж, небо Италии так похоже на небо моей родины… но нет здесь Риони, развалин храма Баграта, грузинских гор, не слышу родных напевов. Уверяю тебя, ничем не заглушить тоску по родине… Вано не верил своим ушам. А из открытого окна доносились песни, шелест листвы, шум большого итальянского города. Небо, покрытое полуночной синевой, было загадочно, как и эта колхидская Венера, которую так щедро наградила судьба всеми благами земной жизни. Он чувствовал, что не может без родины, чувствовал, что он обязан вернуться.
* * *
В декабре 1908 года Вано вернулся в Петербург и начал работать в итальянской опере у Гвиди. Как будто все в порядке. Он у себя, среди своих близких и друзей, казалось бы, все хорошо. Но он страшно нервничал, не спал ночей, волновался, а день выступления все ближе и ближе. Каждую минуту он проверял свой голос. А голос не звучит… не звучит — и все… Он из Москвы вызывает телеграммой своего друга, виолончелиста и педагога Илико Абашидзе. Тот приехал прямо на спектакль. Вано говорит ему, что он погиб, проваливается дебют, гибнет все. Хочет исчезнуть, бежать отсюда… Голоса нет! Ни советы, ни успокоения — ничего на него не действовало. Вдруг радостно вскрикнул Илико: — Да, Вано, сейчас только вспомнил… Однажды вместе с Собиновым выступал я в концерте. Очень волновался, и, чтобы успокоить меня, Собинов дал мне свое лекарство. Как только выпил его, сразу все как рукой сняло. Я стал железным! — Что же ты молчал! Иди скорее, на второе действие подоспеешь. Скорей! Прошу тебя! Раз это лекарство Собинова, значит отличное, иначе не может быть. Илико побежал в аптеку и в антракте принес лекарство. Вано еще больше нервничал: публика встретила выступление певца довольно сдержанно. — Умолил провизора, быстро сделал. Пей! Вано выпил. Начал пробовать голос. Илико добавил еще. — Илико, представь себе, голос появляется, звучит!.. Илико, скажи мне, что это за лекарство? — Об этом не проси! Я дал слово Собинову держать в секрете рецепт и никому об этом не говорить. Со второго акта голос Вано зазвучал со всей присущей ему красотой. Публика неистовствовала. Итальянские певцы восторженно приветствовали его и на каждое открытие занавеса аплодировали, показывая публике, что не они, а он, Сараджишвили, является виновником успеха. Долго потом умолял Вано своего товарища И. Абашидзе открыть ему тайну рецепта Собинова, но Илико категорически отказался. — он дал клятву Собинову и не может, мол, нарушить ее. На самом же деле никакого «рецепта Собинова» не существовало. Илико все это сочинил на ходу: купил в аптеке бутылку нарзана, смешал с полбутылкой молока и принес Вано. Вот и весь рецепт. После, когда Абашидзе рассказывал об этом Собинову, тот долго смеялся. Через несколько лет Собинов открыл свой «секрет» Вано, и они немало смеялись. Несмотря на успешное выступление, Вано решил вернуться в Тифлис.
* * *
По приезде из Петербурга Вано женился на Нине Платоновне Кикодзе. Свадьба состоялась 26 апреля 1910 года. Они стояли перед алтарем. Пока священник суетился в ризнице, Вано воспользовался случаем и запел песню любви:
* * *
Композитор Захарий Палиашвили писал оперу «Абесалом и Этери». Писал долгое время. В эти годы у него умер любимый сын. Два года после этого он вовсе не работал. Но вот однажды, вернувшись с кладбища, он присел к инструменту и всю свою тоску, всю боль сердца о потерянном сыне излил в музыке. Так родился на свет «Плач Абесалома». Вано был другом Захария Палиашвили и принимал самое деятельное участие в создании оперы. Композитор во всем советовался с ним. Вот что писал об этом народный певец Сандро Инашвили: «Воспоминание о Вано для меня самое приятное. Я им горжусь как певец и как грузин. И в то же время вспоминаю его с болью… Он был не только моим душевным другом, но и самым большим моим вдохновителем. Я находился в плену его голоса… Помимо того, что Вано очаровывал всех своим пением, он был еще обаятельным человеком: подвижной, бесхитростный, чистосердечный, прямой, добрый и преданный друг. Он горел во время пения. Он не мог представить своего существования без театра, без сцены. Над «Абесаломом и Этери» мы начали работать вместе. Если что-нибудь не нравилось Вано в опере, он немедленно заявлял об этом:. — Закро, не изменяй грузинскому мотиву! Пиши так, чтобы грузину вошло прямо в сердце… Захарий сердился, но Вано не давал ему покоя. — Грузинскую народную песню, грузинский напев я понимаю не меньше тебя. А ну-ка, спроси какую хочешь песню! И действительно, каких только песен он не знал! Захарий очень считался с ним, часто переделывал целые куски в опере по его указанию. Опера создавалась при непосредственном участии Вано. 21 февраля 1919 года впервые была поставлена опера 3. Палиашвили «Абесалом и Этери». Абесалома пел Сараджишвили, и боюсь, что лучшего исполнителя долго не будет иметь эта партия».
* * *
В 1922 году у ворот Тифлиса был убит огромный тигр. Дигомские охотники привезли его труп в город. За арбой бежал народ. Даже ярый охотник Вано Сараджишвили был удивлен. Он хвалил ловкость крестьян. Над Вано подшучивали: «Услышав пение Автандила, звери оставили лес, покинули норы и вышли слушать, очарованные его голосом», — говорит Шота Руставели в поэме «Витязь в тигровой шкуре». — Ты Автандил грузинской песни, и этого свирепого приятеля ты зазвал к нам, — шутя говорили товарищи Вано. 16 мая 1923 года в Тифлисском оперном театре состоялся юбилей Вано Сараджишвили — двадцать лет его артистической деятельности. Народ с нетерпением ждал праздника великого певца. Вано был тронут, когда охотники Грузии преподнесли ему охотничий костюм. Лавровые венки, успех, уважение и любовь не покидали его никогда… После приветствий он взял слово: — Я не являюсь мастером слова, мое слово — это моя песня, поэтому… — он запел. До двух часов ночи пел Вано в этот вечер. Вскоре Вано пригласили в киностудию сниматься в фильме режиссера Амо Бекназарова «Отцеубийца». Он сыграл роль Ониса. Этот фильм — память о замечательном певце. Композитор Захарий Палиашвили писал новую оперу «Даиси». Опять он работал рука об руку с Сараджишвили. У героя оперы Малхаза (теноровая партия) не было арии. И хотя партия Малхаза нравилась Вано, отсутствие арии его огорчало. — У меня отнимают возлюбленную, у меня отравляют вдохновение. А ты… закрываешь занавес и выгоняешь меня со сцены. И неси с собой свою печаль!.. Что же- прикажешь делать после первого акта — вырваться на проспект Руставели и вцепиться кому-нибудь в горло?.. Почему бы не написать народную «Таво чемо» («Моя головушка»)! Переработай по-своему, дай возможность герою спеть о своем горе. И партия Цангала суховата, Закро! Надо больше жизни! Через некоторое время Палиашвили сообщил Вано, что для Малхаза он написал «Таво чемо». — Вот это я понимаю! Остальное будет за мной… 19 декабря 1923 года впервые была поставлена опера «Даиси». Партию Малхаза пел Вано Сараджишвили. Когда он в конце первого акта исполнил «Таво чемо», зал вначале замер, но потом загремели аплодисменты, началась овация. Вано долго не давали уйти со сцены. «Даиси» оказалась лебединой песней Вано Сараджишвили. Как будто себе он спел «Таво чемо». Очевидцы вспоминают: «В 1920 году последний раз гастролировал в Тифлисе тенор парижской Гранд-Опера Михаил Нанобашвили. Пел он замечательно. Вано больше всех неистовствовал, аплодировал, кричал: — Ваша, Мишель! После спектакля он сказал: — Он в десять раз лучше меня… Но Нанобашвили не знает, что нужно нашему народу — грузинам, а я знаю. В этом мое преимущество. Он изменил грузинскому напеву, а родине нужны такие, как я!..» Он был прав. Действительно, сколько замечательных, талантливых грузин было рассеяно по всему свету, но о них ничего не помнят. Каждый год Вано Сараджишвили с двумя своими братьями приезжал в Кахети. Они уходили на берега Алазани и пели замечательные кахетинские песни: «Гушин швидни Гурджанелни», «Гапринди, шаво мерцхало». Именно таким живым, поющим на берегу величественной чистой реки остался он в народной памяти. Навсегда…
С. Челидзе КОТЭ МАРДЖАНИШВИЛИ

Кварели, как и весь Кахети[18], утопает в виноградниках. Но виноград тут особый. В конце сентября его тяжелые гроздья наливаются соком такой сладости и аромата, что вряд ли с ним сравнится какой-нибудь другой сорт винограда, известный в Грузии. Кварельский виноград носит название «киндзмареули». Вино, которое выжимается из его плодов, редчайшее по вкусу и аромату, носит то же название. И странное дело, сколько ни старались виноградари соседних районов вырастить киндзмареули на своей земле, все их попытки кончались неудачей. Кварельский виноград нигде не прививался. Тайна киндзмареули до тех пор мучила кахетинцев, пока не было установлено совершенно точно, что киндзмареули не что иное, как самый распространенный в Грузии вид винограда — саперави. Но только тут, на кварельской почве, он дает особенные по вкусу, налитые солнцем гроздья. В долине Кварели протекает речка Дуруджи. Ее смело можно перейти вброд. Смотришь — и диву Даешься, для чего только понадобилось этому ручейку такое широкое русло. Но тот, кому приходилось видеть Дуруджи в начале апреля, этому не удивится. Река вырастает, выходит из берегов, затопляет сады, виноградники, выворачивает из земли деревья и глыбы камней. Ее поток делается стремительным, бурным, неукротимым. Все, что ни попадается на извилистом пути, она увлекает с собой в бешеном ревущем вихре — сносит плетни деревенских заборов, копны сена, собранные у берегов, а порою и целые дома. На север от Кварели расстилается плодородная Алазанская долина. В ясную погоду на ее горизонте, в синеве неба, выступают отроги Главного Кавказского хребта, убеленные вечными снегами. Убеленные — не совсем точное слово. Утром, на заре, снег кажется бледно-розовым, днем он отливает нежной голубизной, а вечером, когда косые лучи солнца падают на хребет с запада, горы делаются огненно-оранжевыми. Здесь родился замечательный актер и режиссер, неукротимый, как река, яркий и разнообразный, художник, удивительный человек — Котэ Марджанишвили. Стремительный бег маленькой Дуруджи напоминает яркие и необычайные постановки Котэ Марджанишвили, цветовые оттенки горных склонов напоминают красочность его спектаклей, а сочные гроздья киндзмареули — сочность и аромат его искусства… «Константин Александрович», — в семье и на работе. А дети называют его Касасаном. Мы заходим в квартиру. Вот его кабинет. Комната засыпана стружками. К столу прикреплен верстак. Тут и там разбросаны молоток, рубанок, пила, гвозди, доски. Пахнет столярным клеем и дубом. Другая комната заставлена картинами, макетами декораций, эскизами, вырезанными из бумаги и дерева марионетками. На стульях куски материи, листы бумаги, ножницы, линейки, циркуль, карандаши, кисти, краски. В третьей комнате, самой маленькой, уютно и чисто. На стенах — ковры. На письменном столе большие листы бумаги, исписанные карандашом. Огромная книжная полка. Широкая жесткая тахта сделана самим хозяином. В вазе — красные розы. В этой комнате чуть ли не каждый день переставляется мебель с одного места на другое. Таков уж нрав у ее владельца. Но как бы ни была расставлена мебель, в комнате всегда уютно. По вечерам здесь собирается много гостей, на стол выставляется обильное угощение, идут горячие споры с художниками, композиторами, поэтами, артистами. До поздней ночи слышны и шумные голоса и раскаты смеха. Но иногда в комнате становилось тихо-тихо. Врачи выслушивали сердце хозяина. Они считали, что оно бьется не совсем ровно. Им было невдомек, что оно бьется так же молодо, как и в прежние годы. Говорили об отдыхе, не понимая того, что отдых — самая ненавистная болезнь их пациента. Врачи говорили, что необходимо бросить курение, и больной одобрительно кивал головой. А потом, когда уходили врачи, курил, курил напропалую — одну папиросу за другой. Он не жалел не только здоровья. Он отдавался увлечениям, расточал свою фантазию в играх с детьми, на загородных прогулках, домашних вечеринках или попросту беседуя с людьми. Таким знали Котэ Марджанишвили в Грузии, в Тбилиси: веселым, увлекающимся, зажигающим в сердцах людей радость и интерес к жизни, неутомимым и энергичным. И хотя его редкие, упорно падающие на лоб волосы покрыла седина, глаза, зеленые, влажные, горели молодо и неутомимо. Он вернулся в Грузию в 1922 году. «Он не вернулся в Грузию, — писали русские друзья. — Он вечно носил у себя в сердце родину. Грузия была с ним в дождливом Петербурге, в чопорной театральной Москве, в холодной русской провинции. Она жила в его образах на сцене, в его голосе, крепком рукопожатии, в его смехе, самом веселом смехе, какой-либо… приходилось слышать». В первый раз Котэ Марджанишвили я увидел в 1924 году. Нас, новых слушателей драматической студии, вызвали на репетицию в театр имени Руставели. Мы все вместе пришли в театр задолго до начала работы и с интересом ждали прихода Котэ. О Марджанишвили я слышал немало. О нем говорили. Его называли спасителем и восстановителем грузинского театра. Еще совсем недавно, в октябре 1922 года, в Народном комиссариате просвещения обсуждался вопрос об основном театре республики. Театр находился в плачевном состоянии: не было ни репертуара, ни актеров, ни зрителя. Выступавшие на совещании с горечью говорили о том, что театр надо закрывать. Замечательные актеры грузинской сцены — М. Сапарова-Абашидзе, Васо Абашидзе, Ладо Месхишвили, Нато Габуния-Цагарели, Котэ Месхи и другие, — иные ушли со сцены по старости, иных и в живых не было. Среднее поколение и молодежь растерялись и не в силах были взять на себя бремя восстановления театра. Решено было закрыть театр и организовать драматическую студию. На это совещание был приглашен только что прибывший из России Котэ Марджанишвили. Он заявил, что решение закрыть театр считает неправильным, так как, по его мнению, дело обстоит не так уж плачевно. Талантливые актеры есть, но нет руководства, нет настоящей режиссуры, нет репертуара. Надо использовать те артистические силы, какие имеются, и постараться указать им верный путь. Котэ Марджанишвили предложил поставить спектакль и после этого окончательно решить судьбу грузинского театра. 25 ноября 1922 года Котэ Марджанишвили показал первую работу: пьесу Лопе де Вега «Фуэнте овехуна» («Овечий источник»). С этого спектакля и началось стремительное возрождение грузинского театра. За несколько минут до одиннадцати часов открылась дверь, и легкой походкой в сопровождении режиссера Ал. Ахметели в зал вошел Котэ Марджанишвили. Он весело и тепло поздоровался с актерами, сел за стол, внимательно обвел всех взглядом, и репетиция началась. Я не помню, какую пьесу репетировали, как шла репетиция. Все мое внимание было поглощено им — Котэ Марджанишвили. Перед нами сидел невысокий, слегка сутулый человек. Из-под густых бровей сверкали черные глаза (на самом деле они были зеленоватые, бутылочного цвета, но производили впечатление темных, почти черных). Лицо Котэ было красивым и необыкновенно обаятельным. Он очень внимательно следил за репетицией, но в этот день ничего нового не объяснял, мизансцен не показывал, часто бросал короткие реплики, хвалил и подзадоривал. Это как бы подхлестывало актера, вселяло веру в свои силы, веру в происходящее на сцене.
* * *
Котэ Марджанишвили родился в селении Кварели 23 мая 1872 года в доме своего деда по матери Соломона Чавчавадзе. Отец Котэ, Александр, увлекался поэзией и литературой, писал стихи, переводил. Мать Котэ, Елизавета Чавчавадзе, была разносторонне образованной, передовой женщиной своего времени. Еще будучи гимназистом, во время каникул в просторном марани[19] своего деда Котэ устраивал, спектакли, привлекая к участию в них близких и товарищей. Юношеское увлечение театром привело молодого Котэ на сцену Кутаисского театра, которым руководил его двоюродный брат — Котэ Месхи. В 1893 году Котэ дебютировал в драматической поэме Акакия Церетели «Патара Кахи» («Маленький Кахетинец»). Роль царевича с ним готовил сам автор. В 1898 году Котэ перешел на русскую сцену, и началась его бродячая жизнь актера, бесконечные разъезды по русской провинции. Но актером Котэ был недолго. Его влекла деятельность режиссера. Причиной перехода Котэ на режиссерскую работу была та новая сила, которая обновила и вскоре подняла русский театр на небывалую высоту. Смелые эксперименты К С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко поставили перед русским театром новые задачи. Задачи общего решения всего спектакля, борьбы за ансамбль, за подчинение всех компонентов спектакля одной идейно-художественной цели. Это повышало роль режиссера как создателя спектакля и руководителя коллектива. Котэ, который еще в юности стоял на передовых позициях искусства, не мог не связать свою жизнь с этим новым течением в театре и, хотя еще не имел возможности увидеть спектакли Художественного театра, стал его поклонником и пропагандистом.
* * *
С 1902 года началась его режиссерская работа. Примечательно, что первыми его спектаклями были «Мещане» и «На дне» М. Горького (где сам он играл роли Луки и Нила). С 1904 года он целиком переключился на режиссерскую работу. О Марджанишвили заговорили. В 1904 году он был приглашен в Ригу к такому серьезному и популярному антрепренеру, как К. Незлобин. Первые же спектакли в Риге создали такой интерес к работе Котэ, что он получил приглашение на императорскую сцену московского Малого театра. Это было безусловное признание его как режиссера. Знакомство с А. М. Горьким иначе решило судьбу Котэ. Вот как сам Котэ вспоминает об этом: «…Поразительно обаяние Горького. Этот по виду хмурый и по речи как будто грубый человек, с волжским произношением на «о», после двух фраз, сказанных собеседнику, очаровывал последнего и уже никогда не забывался. Я проверил это чувство на себе в двадцать первом году, когда я последний раз встретился с Алексеем Максимовичем. Я был так же влюблен в него, как и в первое знакомство. Я написал ВЛЮБЛЕН и не могу заменить это слово, так как я действительно во всю свою жизнь никогда ни в кого так не влюблялся, как был влюблен в него. Каким образом в этом хмуром образе такая нежная, кристаллически чистая душа? Мне, может быть, не раз еще придется говорить о Горьком, но я хочу, чтобы сейчас же каждый, кому случайно попадут в руки, эти записки, знал, что говорить об этом человеке без волнения я не могу!» Прочный успех постановок Котэ, а в особенности новой пьесы М. Горького «Дачники», поставленной им в Риге, дали возможность К. Незлобину рискнуть повезти театр на гастроли в Москву. Старая Москва, ревниво оберегающая свои любимые театры и неприязненно принимающая даже петербуржцев, восторженно приняла спектакли Рижского театра и особенно «Дачников» Горького. Это было значительным событием в творческой жизни Котэ Марджанишвили. Он познакомился с К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко, А. И. Сумбаташвили-Южиным и другими крупными деятелями столичной сцены. Дальнейшая его режиссерская деятельность проходила в таких крупных театральных городах, как Киев, Харьков и Одесса, где он работал в 1906–1908 годах. Смелые, новаторские, яркие по замыслу и воплощению спектакли Котэ Марджанишвили внесли свежую струю в жизнь театров этих городов, но наступившая после революционного подъема 1905 года жестокая реакция не могла не отозваться на театральной жизни. Сам Котэ вспоминал: «Это был период страшной послереволюционной реакции. Правительство давило на пробужденную революцией мысль. Перестреляли и перевешали всех, кого могли схватить, и теперь навалились всей тяжестью на самое мышление человека. Царский режим всюду видел и искал своих врагов, все брал под сомнение и, конечно, в первую очередь литературу и театр. …В Киеве наши спектакли прошли без всяких инцидентов. Но в Одессе разразились события. Еще до спектаклей стали циркулировать слухи о том, что «Союз русского народа» затевает какое-то выступление. Накануне премьеры актер Строителев мне сказал, что, как ему передавал кто-то из служащих градоначальства, одесский архиерей послал письмо генералу Каульбарсу с требованием запретить постановку «Жизни человека». Я взял с собой Строителева и отправился к архиерею, чтобы выяснить, в чем дело. Нам пришлось довольно долго ждать. Монахи усиленно расспрашивали нас, кто мы такие и по какому делу. Они искоса и пытливо поглядывали на мою черную и густую бороду. Наконец духовная власть снизошла к нашей настойчивости и пустила нас к себе. Архиерей осенил нас крестным знамением и ткнул под нос руку для поцелуя. Строителев приложился, я воздержался… «Его святейшество» что-то буркнул и спросил, чего мне надо. Я коротко объяснил ему, что знаю о его письме к генерал-губернатору, и сказал, что он, очевидно, введен в заблуждение, так как в пьесе бог не участвует, а есть просто рок — судьба человека. В доказательство я ему показал оригинал пьесы и цитировал разные места. После долгих переговоров он, наконец, заявил: «Все равно, если бы я и разрешил, православные не дадут играть». С тем мы и ушли… В этот день не поступило никакого запрета. Настал день спектакля. Но, опасаясь провокации, я съездил в грузинское студенческое землячество, передал им двести мест и рассказал, чего я опасаюсь. Начало пьесы прошло без инцидента, но первая же фраза, обращенная Человеком к Некто в сером, вызвала выкрики с разных мест театра: «Это богохульство!», «Безобразие!» и т. д. Эти возгласы были покрыты шиканьем многих голосов и требованием порядка— студенты делали свое дело. На сцене наступило маленькое замешательство, но я из-за кулис крикнул: «Продолжайте!» — и актеры продолжали играть. Но этот инцидент все же вызвал тревогу в зрительном зале. В антракте публика тоже чего-то ожидала и нервничала… Спектакль продолжался, приближалось самое скользкое место — вызов Человека. Я стоял наготове у занавеса, чтобы в случае паники не дать ей разрастись и успокоить публику. Вот Багров, игравший Человека, произносит, обращаясь к Некто в сером: «Ты женщину обидел, ты ребенка убил!» В зрительном зале поднялся шум. С разных мест раздались выкрики: «Это богохульство, это издевательство!», «Долой их!», «Занавес!», «Бей эту сволочь!» Какой-то акцизный чиновник особенно неистовствовал. Я выскочил на сцену, чтобы успокоить публику. Но в это время этот же чиновник бросил на сцену калошу. Испуганные артисты спрятались за кулисы, в публике поднялась паника. Несмотря на успокоительные призывы студентов и мои заявления со сцены, публика бросилась из театра. Какая-то дама в бельэтаже разбила окно и выскочила на улицу. Треск разбиваемого стекла окончательно свел с ума зрительный зал. Послышались истерические вопли, вой, в страхе публика давила друг друга, торопясь к выходу. Я беспомощно метался по сцене. Неожиданно громкий голос покрыл все звуки: «Погодите одну минуту!» Сразу стих весь зал. Все подняли головы к говорившему. Рослый, здоровенный детина стоял у балконного барьера и жестом призывал всех к молчанию. Он добавил: «Я сейчас», — и исчез. Все ждали. Через несколько секунд он появился в партере, прошел через расступившуюся перед ним публику, подошел к неистовствовавшему чиновнику в третьем ряду, наклонился к нему и громко спросил: «Это ты бросил калошу?» — «Я», — ответил тот вызывающе. — «А ты не знаешь, что в театре надо сидеть прилично?» Потом обратился к сцене и сказал: «Давайте, пожалуйста, сюда эту калошу!» Кто-то из актеров бросил ему калошу. Он поймал ее, сунул чиновнику и спокойно сказал: «Надевай!» Чиновник под смех соседей начал торопливо напяливать ее на ногу, «Теперь иди вон!» «Но!..» — запротестовал было чиновник. Однако студент не дал ему докончить фразу. «Эй, хулиган!» — крикнул он, поднял его за шиворот и как цыпленка понес по залу. Публика провожала его смехом. Этот инцидент разрядил атмосферу в зале, все уже стали усаживаться. Вдруг тот же молодой человек опять появляется на балконе и, обращаясь ко мне, заявляет: «Господин режиссер, продолжайте, — больше не будет!» Публика встретила эту фразу аплодисментами. Действительно, «больше не было». Мы спокойно доиграли спектакль. Но в ту же ночь полиция потащила меня из ресторана к генерал-губернатору Каульбарсу.
 Александр Казбеги.
Александр Казбеги.
 Котэ Марджанишвили.
Котэ Марджанишвили.
 Ладо Гудиашвили. Портрет Нико Пиросмани
Ладо Гудиашвили. Портрет Нико Пиросмани
 Нико Пиросмани. Медведь под Луной.
Нико Пиросмани. Медведь под Луной.
 Нико Пиросмани. Дворник.
Нико Пиросмани. Дворник.
Один из главных усмирителей революции, Каульбарс крепко охранялся, даже на крыше дворца стояли часовые. Когда меня ввели в приемную, там был целый отряд жандармов, казаков, солдат и полиции. В зале происходило, очевидно, какое-то срочное совещание, несколько генералов сидели вокруг большого стола. Но когда среди них я увидел вчерашнего архиерея, я понял, по какому поводу это собрание. «Его высокопревосходительство» удостоил меня приглашения сесть и, стараясь быть возможно вежливее, спросил меня, имею ли я специальное разрешение на постановку «Жизни человека». Я сказал, что имею личное, исключительное разрешение автора и такое же драматической цензуры и что эти документы мной уже предъявлялись градоначальнику. «Отлично-с! — ответил генерал. — А не объясните ли вы, почему именно вам предоставлено это право?» Я сказал, что это является личным доверием автора. «Нет, — прервал меня Каульбарс, — я спрашиваю о разрешении драматической цензуры!» Я ответил, что это тоже сделано по представлению Леонида Андреева. «Да, — сказал генерал, — господин Андреев может доверять вам, сколько ему угодно, но мы разрешить вам продолжать спектаклей не можем, посему вы сейчас дадите подписку, что прекращаете спектакли и обязуетесь вернуть публике деньги за взятые билеты». Я заявил, что вернуть деньги не могу, так как они розданы уже актерам в счет жалованья. «Это меня не касается! — заорал генерал. — Или вы выдадите публике деньги, или я прикажу вас арестовать!» Я сказал, что откладывать нечего, так как денег у меня нет, и он может арестовать меня сейчас же. Наступила пауза. Генералы о чем-то зашептались, потом мне предложили выйти в соседнюю комнату и там подождать. Через полчаса меня пригласили обратно.Генералов уже не было, какой-то штабной полковник заявил мне, что мне разрешено сыграть еще два спектакля, а за остальные вернуть деньги. Затем он меня предупредил, чтобы я об этом не поднимал речи в столичной прессе: «Вы понимаете, во избежание неприятностей для вас же», — добавил он, улыбаясь. Так пришлось прекратить спектакли «Жизни человека» и доигрывать какой-то хлам, наскоро срепетованный, так как театр и артисты были законтрактованы на месяц». Интересны для ознакомления с нравами того времени и отношения самого Котэ к этим нравам следующие страницы из упомянутых нами «Воспоминаний». «В это время в Одессе был градоначальником один из мрачнейших генералов того времени — Толмачев. Как-то грузинское студенческое землячество обратилось ко мне с просьбой стать во главе устраиваемого ими вечера. Я поехал к Толмачеву за разрешением. Когда я обратился к нему с просьбой разрешить мне устроить грузинский вечер, генерал нахмурился и прервал меня: «А деньги куда?» Я сказал, что сбор пойдет в пользу нуждающихся грузин-студентов. «Ложь! — перебил меня Толмачев. — Деньги пойдут на социалистические организации! Не разрешаю». Я повернулся к двери. Вдруг Толмачев остановил меня: «Что, очень меня не любят грузины ваши?» (Толмачев приехал в Одессу после знаменитых «усмирений» в Грузии.) На минуту я опешил от странности вопроса, а затем ответил ему тоже вопросом: «А за что вас любить! Не за Гурию ли?» С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза, наконец генерал пробормотал: «Можете идти». Спустя несколько недель на Черном море пошел ко дну какой-то одесский пароход, и Толмачев решил устроить в пользу вдов и сирот погибших моряков спектакль. С этим требованием он прислал полицмейстера к Багрову. Антрепренер вызвал меня и спросил, не возьмусь ли я поставить этот спектакль и не порекомендую ли им пьесу. «Да, знаете ли, — добавил полицмейстер, — какую-нибудь такую подходящую к случаю, уж очень жаль погибших моряков». У меня мелькнула мысль расквитаться с Толмачевым. «Хорошо, — заявил я, — : спектакль возьмусь поставить, и подходящая пьеса у меня есть — «Гибель «Надежды». Там тоже идет ко дну пароход и также страдают вдовы и сироты». «Чудесно», — заявил полицмейстер. Тут же была составлена афиша, и полицмейстер повез ее к Толмачеву. Через час я получил подписанную градоначальником афишу. Наступил час спектакля. Зал переполнен черносотенной публикой, в ложе сам градоначальник. В первом ряду командующий войсками. Я с трепетом ожидаю, что будет, и слежу за зрительным залом через щелочку кулисы. Начало приняли с улыбкой, но вот публика стала хмуриться. Наконец подошло место, когда запели «Марсельезу». Толмачев заерзал на стуле (это в 1908 году), командующий несколько раз взглянул на толмачевскую ложу. Вот действующее лицо срывает с себя медаль. «Это они мне дали за то, что я убивал своих братьев», — он бросает медаль наземь и с проклятием топчет ее. Командующий поднимается и выходит из зала. Бомбой из ложи вылетает Толмачев. Но что ему делать, не отменять же спектакль, который он сам устроил. После спектакля одеваюсь и ухожу из театра. Домой я не пошел, а отправился к моему старому другу О. А. Голубевой и спокойно проболтал с ней до утра. Когда я пришел к себе, испуганная квартирная хозяйка заявила мне, что за мной уже два раза приходили из полиции. Я наскоро переоделся и пошел к Багрову. Несмотря на раннее утро, там никто не спал. Оказывается, М. Ф. Багрова уже таскали к Толмачеву, который неистовствовал и орал, что вышлет его и закроет театр. Бедный Багров встретил меня крайне смущенный. Я сказал ему, что сам поеду к градоначальнику и объясню ему, что антрепренер тут ни при чем, так как не знал даже содержания пьесы, и кроме того, вообще за все, что делается на сцене, ответствен только я. Когда я уходил от Багрова, подъехал полицмейстер. Очевидно, все были очень взволнованы. Он усадил меня в свой экипаж и не знал, как себя держать со мной. Только подъезжая к градоначальнику, бедняга вздохнул и покачал головой: «Эх, батька, как же вы так!» Меня привели в домашний кабинет Толмачева. Он был нездоров и лежал в постели, возле него стоял маленький столик. Очевидно, Толмачев ежеминутно опасался покушения. Не пригласив меня сесть, он хмуро спросил: «Как вы смели поставить неразрешенную пьесу?» Я ответил: «Простите, генерал, пьеса разрешена цензурой», и вытащил из кармана захваченный с собой печатный экземпляр «Гибели «Надежды»», на котором на обратной стороне обложки было напечатано: «Дозволено цензурой». Прочитав эту фразу, генерал как будто обрадовался… Еще бы, ведь это снимало с него ответственность. Не знаю, правда ли он не знал (или только, как и я, делал вид), что это «дозволено цензурой» относилось к напечатанию, так как для постановки требовалось дозволение специальной — драматической цензуры. Во всяком случае, несколько успокоенный, он вертел книжку в руках. Вдруг его взгляд остановился на строке: «Перевод Веры Засулич». Генерал побледнел и, несмотря на свою болезнь, вскочил на ноги. «Вон! — крикнул он. — В двадцать четыре часа из Одессы!» Он позвонил, вошел адъютант. «Увести», — приказал он, указывая на меня. Вечером я выехал в Москву». В 1909 году Котэ Марджанишвили вновь у К. Н. Незлобина, но уже в Москве, в так называемом «Шелапутинском театре» (ныне Центральный детский театр на площади Свердлова). Здесь он ставит пьесу Л. Андреева «Черные маски». «Как я уже говорил, в то время часть русской интеллигенции, подавленная, приниженная страшной реакцией, судорожно метнулась к мистике. Я оказался плотью от плоти этого общества, и потому «Черные маски» так ударили по душам зрителей. «Черные маски» шли перед глубоко сосредоточившейся публикой. Ни единой улыбки, ни слез не вызывали они в зрителях. Подавленная публика даже в фойе мало отвлекалась от своей жуткой сосредоточенности. Я забыл или, вернее, не дошел до сознания, что ЦЕЛЬ ИСКУССТВА САМАЯ ПРОСТАЯ — ДАВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ РАДОСТЬ, ВСЕЛЯТЬ В НЕГО БОДРОСТЬ». В это время К. Марджанишвили был приглашен министром народного просвещения Болгарии в Софийский государственный театр на должность главного режиссера и инструктора провинциальных театров. Это было большим признанием режиссерского авторитета Котэ Марджанишвили, но еще большая радость ожидала его впереди — предложение Вл. И. Немировича-Данченко работать в Художественном театре! «Владимир Иванович ждал меня в своем кабинете. Улыбаясь, он спросил меня, правда ли, что я завтра уезжаю в Болгарию? Я подтвердил. Тогда он мне сказал, что так как для меня этот вопрос срочный, мы можем сейчас решить его принципиально, и спросил меня, как бы я отнесся к службе в Художественном театре. Я ответил, что попасть в Художественный театр было для меня всю жизнь недоступной мечтой, но что сейчас я подписал договор, получил подъемные и связан большой неустойкой. Немирович заявил, что все эти вопросы он берется уладить сам. Важно только мое личное желание. «Видите ли, — добавил он, — у нас есть заявления многих режиссеров — А. А. Санина, Н. А. Попова, Ф. Ф. Комиссаржевского о желании вступить к нам, но мы предпочитали бы видеть у себя вас». Я сказал, что счастлив уже одним предложением. «В таком случае кончено, — перебил он меня, — вы служите в Художественном театре, а об остальном мы будем еще часто и много разговаривать с вами. Идите и распаковывайте чемоданы!» — добавил он, улыбаясь. Я был так счастлив, что если бы не солидная дипломатическая внешность Владимира Ивановича, я бросился бы ему на шею и расцеловал бы его!..» С конца 1909 года Котэ Марджанишвили стал работать в Художественном театре, в том самом коллективе, который еще семь лет назад подсказал ему истинное призвание и цель жизни! Котэ Марджанишвили вместе с К С. Станиславским и Л. А. Сулержицким был сорежиссером Г. Крэга в постановке «Гамлета», работал в сотрудничестве с Вл. Ив. Немировичем-Данченко и В. В. Лужским над романом «Братья Карамазовы» и осуществил самостоятельную постановку пьесы К. Гамсуна «У жизни в лапах». «Немирович предложил мне просмотреть только что полученную пьесу Кнута Гамсуна «У жизни в лапах». Конечно, после тончайшего анализа души человеческой в «Карамазовых» психологическая пьеса Гамсуна была несравненно ниже, но все же в ней сильно чувствовался великий учитель Достоевский. Его влияние на Гамсуна сразу сказывалось, стоило только углубиться в разбор отдельных лиц пьесы, а наряду с этим такая красочная, такая жизнерадостная фигура, как Пер Баст. Я задумался над тем, можно ли из этой пьесы создать такой яркий, солнечный спектакль, который поднял бы зрителя над повседневностью и раскрепостил от духовного мещанства? И решил — можно! Конечно, из нее очень легко было сделать обычный спектакль, с «людьми в футлярах», с их нытьем, с их подчиненностью обыденной жизни. Станиславский не принял моего толкования пьесы. Правда, когда он приехал, посмотрел ее, он не сказал мне ни слова, но я в его молчании ясно чувствовал, что она была для него «не правдой жизни», «не реальной» неприемлемой. Об отношении к ней Немировича я еще скажу… Так вот, если в пьесе были все элементы, чтобы сделать из нее чеховский спектакль… можно было послать к черту всякую скромность, всякий «хороший вкус», развернуть такую яркую, такую солнечную ярь, что она, как «Кармен», могла бы чаровать своей необузданностью. Я чувствовал, как в моей душе просыпалось солнце моей родины, как бурно двигалась кровь в моих жилах, грузинская кровь. Спасибо великой России, она дала мне постижение — умение заглянуть в тайники души человеческой. Это сделал Достоевский. Она, Русь, приучила меня смотреть на жизнь изнутри, глядеть на нее сквозь призму своей души: это сделал Врубель! Она научила меня слышать в груди моей безысходные рыдания — это сделал Скрябин. Спасибо ей, моей второй родине, спасибо чудесной России. Она ни на минуту не охладила моей кахетинской крови, крови моей матери. Ее чудесные морозные дни не убили во мне воспоминаний о горячем камне моих гор. Ее волшебные белые ночи не разжижили густоты темного южного бархатного неба, щедро засыпанного звонкими звездами. Ее спокойное добродушие ни на минуту не задержало родные ритмы, грузинский темперамент, необузданный полет фантазии — это дала мне моя маленькая, моя любимая Грузия. Воистину все, что я до сих пор созидал, мое творчество на сцене было русским, получено мной от России, но ее великое благодатное воспитание уже кончалось, и я выходил на самостоятельный путь. Воистину «У жизни в лапах» был мой первый грузинский спектакль…» После этой пьесы Котэ Марджанишвили вскоре ушел из Художественного театра, но всегда с любовью и уважением вспоминал К С. Станиславского, Вл. Ив. Немировича-Данченко, В. И. Качалова, В. В. Лужского, Л. М. Леонидова, И. М. Москвина и других замечательных мастеров театра. Странный был удел Котэ Марджанишвили. Казалось бы, он достиг всего, о чем мечтал: работал в интересном, большом театре, с людьми, которых любил и уважал и которые так же искренне относились к нему. И все-таки каждый раз, обуреваемый идеями, он бросал все и… начинал новое, увлекшее его дело, не щадя себя, сжигая за собой все корабли. В 1913 году Котэ создал в Москве знаменитый «Свободный театр». На его сцене Котэ Марджанишвили в полную силу развернул свое режиссерское дарование: чувство эпохи, музыки, слова, пламенный темперамент. Вот как о спектаклях «Свободного театра» вспоминают очевидцы: «Свободный театр» существовал только один сезон. В первый раз открылся занавес, и зал ахнул: это была «Сорочинская ярмарка» — ослепительный украинский полдень, яркие вышивки, пестрые платки, мониста, бусы и подсолнухи, мальвы, жбаны, баклаги, глечики — словом, такой каскад красок, сочетаний, столько движения во всей картине, что ради этого одного стоило глядеть «Сорочинскую ярмарку». Полная комизма и веселья сцена дьячка и Солохи (дьячка играл Монахов), музыка Мусоргского — все это было полнокровным, увлекательным и жизнерадостным праздником искусства. Каждая постановка «Свободного театра» открывала нечто новое в искусстве: «Прекрасная Елена» Оффенбаха и «Желтая кофта» — стилизованный под старинный китайский театр спектакль и поставленная Таировым пантомима «Покрывало Пьеретты» с Коонен в роли Пьеретты и новым для Москвы актером из любителей Чабровым в роли Арлекина. Каждый раз театральная Москва, то есть избалованная, делающая погоду публика первых представлений, ахала от изумления, каждый раз возникало и утверждалось новое имя — актера, актрисы, художника или певца». Но «Свободный театр» угасал. Уже не толпились, как в первые дни, театральные барышники у подъезда — ощущение новизны прошло. Частный театр, дорогие постановки не могли существовать на сборы; мудрые люди растолковали меценату, что нельзя тратить такие большие деньги, что нельзя держать на жалованье множество актеров для самых разнообразных жанров, что театр — это не забава, а предприятие, которое должно приносить доход. И «Свободный театр» умер. Но жива была его душа — Марджанов.
* * *
Котэ Марджанишвили был одним из первых, кто горячо и безоговорочно принял и приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Больше того, на долю режиссера выпала честь создать первый советский спектакль, утверждающий, что главным героем истории является народ. Этот спектакль, вошедший яркой страницей в историю советского искусства, был создан по давно всем известной пьесе испанского драматурга Лопе де Вега «Фуэнте овехуна» («Овечий источник») и поставлен на сцене Киевского театра в 1919 году. Марджанишвили показал жизнерадостный испанский народ, умеющий плясать и смеяться, работать и любить, борющийся за свою свободу и побеждающий в этой борьбе, подлинного героя пьесы. «Да здравствует Фуэнте овехуна!»— приветствовал на сцене народ освобожденную землю. Слова о свободе били в самое сердце зрительного зала, заполненного солдатами, людьми в потрепанных тужурках, женщинами в телогрейках и сапогах. — Я хочу, — говорил Марджанишвили, — чтобы в финале, после того как актеры двинутся к рампе, зрители двинулись бы на фронт. Так оно и было. Многие красноармейцы прямо из театра отправлялись за город, где вступали в бой с бандами зеленых. «Сорок два дня шел «Овечий источник», и всегда повторялось одно и то же, — вспоминает Александр Дейч, — бурные овации и стихийно возникающее в зрительном зале пение «Интернационала». Когда Киев временно перешел в руки врагов революции, Марджанишвили был заочно приговорен к расстрелу. Ему удалось скрыться из города. И вот Котэ уже в Петрограде. Он создает театр Комической оперы, а также возглавляет революционно-агитационный театр. «Вольной комедии». Там же в 1920 году режиссер осуществляет грандиозную постановку под открытым небом массового революционного спектакля «К мировой коммуне», приуроченного к открытию II конгресса III Интернационала. В этот период Котэ Марджанишвили вновь встречается с М. Горьким в тесном, сыром кабинете режиссера в театре «Вольной комедии». Очевидец этой встречи писатель Лев Никулин тепло и искренне рассказывает нам об этом: «Сухой, колючий петроградский хлеб, «морской паек» того времени, лежал на столе режиссера. Марджанов говорит об итальянской народной комедии, о сицилианском трагике Джиованни де Грассо, — у него на глазах слезы восторга. Горький глядит на сухой хлеб 1920 года, на изморозь, выступающую на стенах, глядит на человека с сединой на висках и милой, радостной улыбкой. И вдруг наклоняется к Марджанову, прижимает его к груди сильно и нежно, как брата: — Святая душа…» Но пусть на столе его только хлеб, пусть изморозь, непогода, много незалеченных ран и столько борьбы еще впереди. Эти годы самые яркие, самые радостные в жизни Котэ. «Искусство есть радость, искусство есть счастье, искусство — это улыбка любимой девушки…»
* * *
Молодым, неопытным актером уехал Котэ Марджанишвили в Россию. Вернулся на родину зрелым Художником, воспитанным на лучших образцах передового русского театра, обогащенным опытом культуры мирового театра. За десять лет работы в Грузии Котэ Марджанишвили поставил более сорока спектаклей в театре имени Руставели и в том втором, который сейчас носит его имя. В театре оперы и балета — около десяти национальных и классических опер, в кино — Шесть фильмов и в Москве — три спектакля. Кроме того, он подготовил к постановке «Макбета», «Ричарда III», «Ромео и Джульетту» Шекспира, «Разбойников» Шиллера, «Мистерию-Буфф» Маяковского и «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели. За это же время им написаны несколько статей и воспоминания. Почти с каждым спектаклем Марджанишвили рождались и новые творческие силы, многие из которых до сих пор являются гордостью й украшением грузинской культуры. Каждый из его спектаклей был особенным. Ни по каким внешним качествам он не напоминал другой, ранее поставленный, но их роднили качества, всегда отличающие марджановские спектакли: глубокое проникновение в замыслы автора и его прочтение с позиции сегодняшнего дня. Знаменателен в этом смысле отрывок из вступительного слова к первой репетиции «Фуэнте овехуна» в театре имени Руставели. Котэ говорил: «Чем нам важен этот спектакль, что мы хотим сказать им зрителю? Разве то, что милостивый и справедливый король простил крестьян, убивших их угнетателя-феодала? Нет! Мы должны донести до сознания зрителя мысль, что народ, сплоченный в своем единодушии перед коллективной опасностью, из самых тяжелых испытаний выходит победителем, что, когда народ сплочен, — он непобедим!» Из всех жанров искусства спектакль имеет самую короткую жизнь, тем более спектакли Котэ, которые немыслимы спокойными, уравновешенными, строго вымеренными, — его страстные, яркие и волнующие спектакли. В памяти тех счастливцев, кто их видел, они навсегда остались как воспоминание о чем-то самом дорогом. В один прекрасный день (воистину прекрасный!) я увидел «Фуэнте овехуна». Этот спектакль вызвал бурную реакцию восторга— зрительный зал стоя устроил овацию обновленному грузинскому театру. Так гений Лопе де Вега, создавший пьесу, прославлявшую испанскую монархию в её борьбе с феодалами, был поставлен на службу освобожденному советскому народу и прославлял единство и сплоченность революционных народных масс… Как-то я прочитал в газетах, что Котэ Мдрджанишвили начал работать над пьесой Зураба Антонова «Затмение солнца в Грузии». Заинтересовавшись сообщением, я нашел эту пьесу и прочел. И был крайне разочарован. Пьеса была написана в середине прошлого века одним из первых грузинских драматургов. На ее двух десятках страниц был примитивно рассказан анекдот о том, как смышленый влюбленный, которому богатые родители его возлюбленной отказались отдать свою дочь, воспользовавшись затмением солнца, похитил невесту. Потом сообщил убитым горем родным, уверенным, что их дочь была похищена драконом во время затмения солнца, что он спас ее от дракона, и — добился согласия на свадьбу с любимой девушкой. Чем заинтересовала Котэ эта пустая комедия? Вероятно, не я один думал так, но спектакль дал на это блестящий ответ. Открылся занавес первого акта, и вместо комнаты в доме купца мы увидели уголок старого Тбилиси. Вдоль всей сцены, почти на первом плане, шли характерные для старого Тбилиси лавки и мастерские ремесленников. Тут были чувячные, столярные и шорные мастерские, винный погреб, а через улицу, направо, под лестницей дома, примостилась цирюльня перса, тут же на улице брившего своих клиентов. По бокам сцены, наступая друг на друга, пестрели небольшие дома с балконами. Кривая узкая улочка уходила в глубину сцены, где за кровлями домов виднелись развалины старинной городской крепости Нарикала. Везде кипела жизнь. Крестьяне подвозили на арбах бурдюки с вином к винному погребу. В мастерских шла работа и бойкая торговля. Жадные до всякого уличного происшествия горожанки, весело переговариваясь и перебраниваясь, развешивали белье на балконах и занимались хозяйственными делами. На кровлях домов кипела жизнь. Тулухчи разносил воду и крестиками отмечал количество принесенных ведер. Подвижные карачогели с пением шли по улице. Около винного погреба кутилы начали танцевать — все бросили работу и любовались веселым зрелищем. Одним словом, шла веселая, оживленная жизнь старинного азиатского города, и на фоне этой кипучей жизни шли сценки комедии, вдруг преображенные и полные настоящей жизни. От балкона к балкону, на веревочке, поползло письмо влюбленных, под балконом распевали серенады. Вся улица, вовлеченная в историю любви и неудачного сватовства героев пьесы, бурно реагирует на развитие действия, шумно живет настоящей, подлинной жизнью. Невозможно описать тысячи любопытных, ярких и интересных деталей, с помощью которых постановщик сумел талантливо воскресить старый Тбилиси. Прошло много лет, но и сейчас, когда разговор идет о старом Тбилиси, передо мной как живой встает первый акт «Затмения солнца в Грузии», так как другим старый Тбилиси я не представляю. Постановка «Гамлета». Котэ опять-таки по-новому, свежо и интересно прочел знаменитую трагедию. Грузинский зритель, еще помнивший образ Гамлета, созданный выдающимся артистом Ладо Месхишвили, был ошеломлен, узнав, что заглавная роль поручена молодому актеру Ушанги Чхеидзе, исполнявшему ряд характерных ролей и никак не подходящему внешне к традиционному образу скорбного принца. Но Котэ Марджанишвили обладал еще одним неоценимым талантом: он умел угадывать дарование и настоящее призвание актера. Ушанги Чхеидзе создал потрясающий по силе и глубине образ молодого человека, которому открылись глаза на мерзости, творимые во дворце под прикрытием парчовой порфиры, л погибающего в борьбе против зла. Полный поэтического очарования и трагической силы образ Офелии создала еще молодая тогда актриса Верико Анджапаридзе. И как каждый новый спектакль Котэ Марджанишвили, «Гамлет» выдвинул новые актерские имена. Необычайная простота и проникновенность исполнения роли Гамлета Ушанги Чхеидзе обеспечила спектаклю настоящую победу. Однако причастен к ней был не один Ушанги Чхеидзе, но и весь блестящий ансамбль исполнителей: Ак. Васадзе — король, Ел. Донаури — королева, Ак. Хорава — Лаэрт, Н. Гоциридзе — Полоний и другие. Даже маленькая эпизодическая роль — роль Осрика — блистала в необычайно ярком исполнении Ал. Жоржолиани. Не могу не рассказать об удивительной сцене, которая долгие годы была загадкой для всех, кто восхищался «Гамлетом». Это была сцена на кладбище, где совершенно неожиданно в роли могильщиков выступали грузинские крестьяне. Своей неожиданностью она ошеломляла зрителя и, хотя вызывала много, искреннего смеха, была все же непонятна и нарушала стиль всей постановки. Об этой сцене много спорили. Некоторые называли ее гениальной и считали, что она подчеркивает цинизм могильщиков, которые во всем мире одинаковы; другие считали это чудачеством режиссера, который переборщил и пошел на уступки дурных вкусов людей, любящих посмеяться по всякому поводу. Лишь много лет спустя режиссер К. Патаридзе открыл секрет создателя этой сцены: «Хочу напомнить один разговор Котэ относительно этой сцены с постановочной группой, при котором присутствовали дирижер, заведующий музыкальной, частью А. Гвелесиани, художник И. Гамрекели и я, как режиссер спектакля. Котэ как-то странно, многозначительно и вместе с тем виновато улыбался, словно взвешивая: сказать или не сказать? Поведать ли какую-то тайну? Наконец он взглянул на нас и сказал, что хочет открыть один очень большой секрет, но мы должны дать ему слово, что сохраним эту тайну до тех пор, пока он не разрешит выдать ее. Мы повскакали с мест и поклялись, что тайна без его согласия открыта не будет. Тогда Котэ, улыбаясь, сказал нам, что, по его мнению, Ушанги Чхеидзе поручена большая ноша и, хотя он очень талантливый молодой актер, все же надо опасаться, что нести ему эту ношу будет трудно. Публика же безжалостна в подобных случаях — она может обрушиться на него, и поэтому он, Котэ, хочет сделать такой эксперимент: могильщиков вывести людьми из нашего народа. У Шекспира отношение могильщиков к жизни выражено с редким юмором. Котэ надумал заставить заговорить одного на кахетинском, а другого на имеретинском наречиях. Среди зрителей это обстоятельство вызовет кривотолки, начнут ругать Котэ. Это ничего. Котэ это снесет, лишь бы прикрыть Ушанги. Если же Ушанги выйдет победителем, то суровая критика в адрес Котэ не будет иметь для него большого значения. Главное, чтоб цель была достигнута». Такое благородное поведение Котэ вызывалось большой любовью к актеру. Ушанги Чхеидзе блестяще оправдал надежды. Его Гамлет был единодушно признан публикой, спектакль закончился необыкновенным триумфом, овациям, не было конца, общественность радовалась приобретению грузинской сценой трагика, которым она была вправе гордиться. Это была не первая и не последняя «жертва» Котэ. Очень часто спектакль, с начала до конца созданный им самим, он подписывал именем молодого, начинающего режиссера, если этот режиссер принимал хотя бы какое-нибудь участие в создании спектакля. — Мне карьеры себе не строить. А им очень важно, чтобы зритель и, главное, они сами поверили в свои силы и дарование, — говорил он. Необычайна была скульптурность и строгая монументальность «Уриеля Акосты» К. Гуцкова. Почти забытая пьеса в постановке Котэ превратилась в подлинную трагедию, где передовая, ищущая и борющаяся человеческая мысль погибала под бурным натиском косности и реакции. Этот спектакль, как и многие другие постановки Котэ Марджанишвили, утверждал право человека на борьбу за лучшее будущее, веру и победу правды, и потому, несмотря на то, что все главные герои пьесы гибли в этой борьбе, зрители уходили из театра просветленными, полными бодрости и сил. Неоценима работа Котэ над новыми оригинальными пьесами молодых советских драматургов, Котэ Марджанишвили совершенно справедливо считал, что без современности не может быть театра. Котэ Марджанишвили все время призывал своих учеников не замыкаться в тесные профессиональные интересы своего театра, а жадно приглядываться к жизни, посещать выставки художников, знакомиться с литературой, музыкой. Теснее входить в жизнь народа, чтобы жить его интересами и уметь отвечать на вопросы, волнующие современников. Котэ любил народные песни и пляски, богатый и неисчерпаемый народный фольклор. Он первым сумел оценить талантливую народную драму Важа Пшавела «Мокветили» («Изгнанник»), долго работал над пьесой и, хотя сам не успел ее поставить, возбудил к ней настоящий творческий интерес. Порою замыслы и планы Котэ Марджанишвили принимали такие грандиозные масштабы, что их осуществление делалось невозможным. Так, например, весной 1925 года в Тбилиси прямо из-за границы прибыл Владимир Маяковский и начал вести с Котэ переговоры о постановке «Мистерии-Буфф». Решено было создать спектакль под открытым небом на верхнем плато фуникулера. Декорации к спектаклю писал художник И. Гамрекели. Однако постановка спектакля потребовала чрезвычайно больших средств, и этой оригинальной затее двух ярких художников так и не суждено было воплотиться в действительность. Весной 1930 года впервые в истории грузинского театра Котэ Марджанишвили повез свой новый, «второй» Кутаисский театр на гастроли за пределы республики, в братскую Украину, а затем и в Москву. Гордое и радостное воспоминание осталось на всю жизнь в сердцах участников этой замечательной поездки. Вместе с коллективом театра в поездке участвовали писатели, художники, композиторы, критики, журналисты, — воистину это была блестящая демонстрация национальной культуры. Тщательно подобранный репертуар, блестящая игра актеров, оформление художников, музыка и другие компоненты спектаклей вызвали восхищение и большой интерес зрителей, не знающих грузинского языка, но всем существом понимающих язык страстей и голос сердца. Прославленные мастера русского театра, восхищенные спектаклями, устраивали бурные овации и поздравляли талантливый грузинский коллектив. Первые гастроли национального театра на сцене театров братских республик — это знаменательное событие вообще в истории советского театра, и зачинателем его был Котэ Марджанишвили. После возвращения на родину театр издал книгу об этих гастролях, в которую вошло выступление А. В. Луначарского на торжественном чествовании театра 30 апреля 1930 года: «Очень хорошо, что во всей полноте и многогранности развернулся грузинский театр, мы видели здесь его и в национальном разрезе и в классическом разрезе, он отражает подлинные сокровища и прошлого и настоящего, может, будет отражать и сокровища будущего, когда будущее придет с этим театром в соприкосновение. Я лично очень счастлив, Константин Александрович, что могу Вас приветствовать, особенно накануне Первого мая, в нашей стране, накануне международного праздника, обнимающего своим очарованием не только народы, живущие в нашем Союзе, но и народы, живущие всюду на земле, в той ее части, которая угнетена и которая заслуживает любви и уважения».
* * *
Многие не знают о домашнем, если можно так выразиться, творчестве Котэ Марджанишвили. Мне в этом отношении повезло. Несколько лет мы жили под одной крышей, одной семьей. Очень часто, вспоминая Константина Александровича и рассказывая о нем, современники передают его образ несколько однобоко. Их память сохранила лишь те штрихи в образе режиссера, те черты его деятельности, которые особенно бросаются в глаза, — темперамент, полет фантазии. Все это, конечно, было, но залогом успеха в искусстве прежде всего является труд, труд кропотливый, упорный, настойчивый. Константин Александрович часами сидел над книгами, корректировал тексты пьес, много писал. Я хорошо помню его в кабинете с листами «Разбойников» на столе. В руках у него карандаш, очки сползают на нос. Лицо спокойное, сосредоточенное, даже немного старческое. В комнате тихо. Идет сложный, глубокий творческий процесс. А вечерами Котэ подолгу засиживался на нашем балконе, беседовал, с домашними, рассматривал небо. Он знал каждую звездочку, каждое созвездие, удивляя всех своими астрономическими познаниями. И не только астрономическими. Как-то Котэ попросил нас не заходить к нему в кабинет даже в его отсутствие. Было ясно, что он что-то собирается мастерить и не хочет раскрыть свою тайну раньше времени. Недели через две он впустил к себе всю семью, и мы увидели сконструированный из дерева макет театра. Мы ахнули. Макет был великолепный. — Вы по специальности архитектор? — спрашивал у него на следующий день Филипп Махарадзе. Котэ любил путешествия. — Что поделаешь, Елена, — говорил он жене, — цыганская душа. Часто Марджанишвили увозил с собой «своих учеников». В 1932 году мы, то есть Константин Александрович, моя жена — Ирина Донаури — и я, собирались в Москву, куда для постановки спектаклей Котэ приглашали сразу два театра. — Даю честное слово, — успокаивал он домашних, — что это моя последняя поездка. Вот увидите! И Котэ оказался прав… Это была его последняя поездка: вернуться живым ему уже не было суждено. 17 апреля 1933 года, проведя репетиции последнего акта «Летучей мыши» И. Штрауса в Московском театре оперетты (одновременно в московском Малом театре он ставил «Дона Карлоса» Ф. Шиллера), Котэ поехал на обед к К. Новиковой — артистке театра оперетты, где собирались его старые и новые друзья по музыкальному театру. Вечером — вернее, ночью, часов в одиннадцать, отдохнув после обеда, отправился к А. В. Луначарскому, куда его пригласили на ужин с артистами Малого театра, занятыми в спектакле «Дон Карлос». После ужина все перешли в гостиную, где поэт В. Каменский играл на баяне и читал свои стихи. Потом все сгруппировались вокруг Котэ, который весело рассказывал разные случаи из своей жизни. Начались танцы… Гости пошли танцевать, один лишь Котэ не танцевал и, сидя на диване, с улыбкой смотрел на веселящихся. Часов в пять утра гости начали расходиться. Котэ перецеловал всех на прощание, и мы поехали домой. В машине с нами ехали В. Каменский и друг Котэ, директор Малого театра, Серго Амаглобели. Вначале Котэ принимал участие в оживленной беседе, но потом вдруг замолчал. Мы развезли по домам наших спутников и поехали к себе. Котэ всю дорогу молчал. Мне казалось, что он дремал, но, оказывается, это была смерть. Через полчаса его уже не было в живых. Вскоре в Москве на афишных столбах появились три афиши, извещающие о спектаклях: в Художественном театре — «У жизни в лапах», в Малом — «Дон Карлос» и в Московском театре оперетты — «Летучая мышь», на которых обведенное траурными полосами стояло одно имя:

…Много лет прошло после этого дня, и я понимаю, что Котэ только так и должен был умереть: на посту и мгновенно. Так порывисто гаснет яркое пламя свечи, задутое резким ветром. Котэ Марджанишвили не любил смерти и говорить о ней не любил. Только один раз, в январе 1933 года, когда он уезжал в Москву, в вагоне поезда зашел разговор о смерти и горестях. Котэ сам начал этот разговор, но быстро его прекратил и, повернувшись ко мне, строго сказал: «Помни, в день моей смерти репетицию не снимать! Если любите меня, в день моей смерти работайте лучше!..» Только два раза в своей жизни он отдал должное смерти, всей силой своего таланта выразив глубину горя. Это в 1924 году, в день похорон великого Ленина, когда Котэ Марджанишвили «одел» в траур город Тбилиси. По словам очевидцев, только Котэ мог так выразить всенародное горе, вызванное смертью вождя революции. Осенью того же 1924 года Грузия потеряла любимейшего артиста, певца народа — Вано Сараджишвили. И опять Котэ Марджанишвили пришлось перенести боль утраты… Я видел своеобразное выражение этого горя… Вскоре после смерти певца в оперном театре состоялся спектакль, посвященный памяти Вано Сараджишвили. Шла опера 3. Палиашвили «Абесалом и Этери». Переполненный зал с трепетом ждал выхода Абесалома, и… вдруг на сцену ворвался луч света, а виолончель, в левом углу сцены, начала «петь» арию Абесалома… В зале слышались рыдания… Этим спектаклем Котэ Марджанишвили как бы говорил: тот, кто завоевал любовь народа, не умирает, — он остается в памяти людей как луч света! …В Тбилиси, на проспекте Руставели, рядом с оперным театром, в маленьком скверике, находятся три могилы. Здесь похоронены Захарий Палиашвили — основоположник новой грузинской музыки, Вано Сараджишвили — основоположник грузинской оперы и Котэ Марджанишвили — основоположник нового грузинского театра. Этот скверик ничем не напоминает кладбище. Наоборот, здесь всегда весело и многолюдно. Афиши театров оповещают о новых спектаклях, у театральной кассы толпится народ, тут же остановка троллейбусов и автобусов, киоски для продажи книг, цветов… И каждую ночь после очередного спектакля оживленная публика наполняет своими голосами засыпающий город. Тут ничего не напоминает кладбище — убежище смерти и покоя, но нельзя не заметить, что многие из проходящих мимо сквера на минуту замолкают и снимают шляпы. 17 апреля, из года в год, в расцвете весны, над могилой Котэ Марджанишвили собираются его уже поседевшие ученики. Они приходят сюда с, молодежью — своими учениками — и украшают цветами могилу человека, который своим ярким талантом, пылкой душой и горячим сердцем направил их на вдохновенный творческий путь и передал как эстафету свою самоотверженную любовь к театру — источнику радости, дарящему человеку бодрость и силы на борьбу за светлое будущее.
Римма Канделаки БРОДИЛ ХУДОЖНИК ПО ГОРОДУ…[20]
Живопись — это страстное молчание.Густав Моро

Бродил художник по городу и искал себе крова. А город был большой, старинный, и строения его лепились вверх по высокой горе. Верхушку горы венчали развалины древней крепости. У подножия текла мутная река Кура. Улицы карабкались вверх, улицы, петляя, спускались вниз. Две из них — широкие и прямые — назывались проспектами. Многие носили имена великих князей и русских генералов. …Проспекты были величественны. Тень дворцов лежала на квадратных плитах тротуаров. За решетками особняков цвели глицинии и розовые мимозы. Городовые на всех перекрестках козыряли офицерам, проезжавшим в щегольских фаэтонах. Художник избегал проспектов. Улочки, карабкавшиеся в гору, выглядели иначе. Сто лет назад их вымостили узкими камнями в форме огурцов и по традиции вбили камни не вдоль, а поперек пути: так коню легче брать подъем, груженому ослику есть за что уцепиться копытом. Но человеку трудно шагать по каменным огурцам, особенно если он второй день ничего не ел. Кроме того, страдали подметки. Художник любил гористую часть старого города, любил ее дома, приросшие к скалам так прочно, словно ласточки строили их, а не люди. Порой казалось: не будет конца спиралям подъема. Переулок ввинчивается прямо в синее небо — дошагаешь так до самых облаков. Иногда его окликали: — Эй, маляр! Ибо если у человека в руках кисть, ведерко, а на ногах стоптанные башмаки, значит он маляр — и ничего больше. Откинув голову с гладко зачесанными, чуть седеющими волосами, он обводил балконы взглядом. Свет падал тогда на его лицо: простое, крестьянское, немолодое, удивительное лишь ясным своим спокойствием. Подстриженная бородка задиралась кверху, открывая худую, с подвижным кадыком шею. Женщина с дешевыми перстнями на пальцах махала ему сверху: — Слушай, человек, как зовут, не знаю… Нико? Иди сюда, Нико, написать надо номер на фонаре. Номер стерся, полиция придирается. С подъезда заходи. Внизу под ногами — парча осенних садов, расписное яйцо мечети, купола бань и тысячи домов с плоскими кровлями, открытыми террасами, жизнью, доверчиво выставленной наружу. В тесном дворике под кривым деревом на треногом мангале жарили баранину, припудренную красным перцем и обсыпанную барбарисом. Острый запах щекотал ноздри. Художник был голоден, ослабел и устал. Однако быстро твердой рукой вывел на фонаре номер дома и фамилию владельца. — Спасибо тебе, добрый человек. Вежливо отстранил серебряный двугривенный: не позволят ли ему вместо платы переночевать… тут где-нибудь? — Извини, дорогой, мне не жалко, места много… Но сам знаешь — дворник! Он знал. Дворник скажет полиции, полиция оштрафует хозяина — время такое. Раньше, когда еще не было седины в висках и горечи в сердце, он охотно объяснял людям причину своих скитаний: рано умер огородник отец. Круглого сироту Нико отправили в город. Попал к родственнику, военному портному. Тот обещал пареньку: подрастешь, будешь учиться. Нико подрос, и возникло между ними маленькое разногласие по вопросу, чему учиться. Опекун требовал — торговому делу, а Нико твердил — рисованию. Очень любил рисовать и с малолетства рисовал на стене дома, на клеенке, на жести, на чем попало. Слушатели качали головами: — Э-э-э, зря! Надо было слушать дядю. Не дело для бедного человека рисовать картинки. Это забава для богатых! Никому не рассказывал Нико, как однажды пошел он по торговой части и что из этого вышло. Рассказывал другое: как ушел от родственника (было ему лет шестнадцать от роду), стал работать кондуктором Кахетинской железнодорожной ветки, той самой ветки, где станции расставлены кувшинчиками вдоль пути, а названия станций звенят, как стекло: Вазиани, Мукузани, Цинандали, Гурджаани, Мелаани, Кондоли, Цители-Цкаро — и где по осени бродит в прохладных марани золотое вино. Но зимой во все трубы Кахетинских ущелий дуют злые ветры. Простудился Нико, потерял здоровье и оставил железнодорожную службу. В город перебрался. Стал живописцем вывесок. Нико забирал кисти и спускался вниз, на Майдан — на большой базар. Не любил его. Правда, на Майдане множество кабачков, духанов и трактиров, и стены их сплошь расписаны его, Нико, кистью. Но чем платил за искусство базар? Выпивкой да едой. Денег здесь не давали. Заставляли пить. Не хочешь пить, говорят: «Пей!» Рабочего человека легче обдурить, когда он хмельной. «Серьезные деловые люди» Майдана славились прежде всего искусством зажимать копейку. А он не хотел спорить. За это его любили. Добрый человек Нико, мухи не обидит. За тарелку харчо напишет на черной стене винного погреба историческую картину: Георгий Саакадзе целует стяг перед боем, священный стяг кизилового цвета! Публика охотно ходит смотреть такое. Больше покупателей — щедрее платят. И пятен на стене не видно. Живопись полезна для коммерции. …Шел Нико по базару. В воздухе пахло серой. Из-под земли сквозь решетку вырывалась струя горячего пара. Почти голый банщик выскочил в переулочек и, дико озираясь, будто не веря, что есть еще на земле прохлада, тут же, на улице, съел горячий кебаб, завернутый в лист тонкого персидского хлеба — лаваша. Перед караван-сараем низкорослые кривоногие люди с бородами, крашенными хной, отправляли партию ситца, плотно спрессованного в тюки. Краснобородые кричали, клялись и бессовестно обсчитывали носильщиков. Носильщик муша, черный, как земля, с проклятием бросил на землю рублевку: — Рядился за трешницу, получил рубль! Бери свои деньги обратно, шайтан! Большие верблюды, грациозно повернув змеиные головы, недобро глядели на своих хозяев. Художник замер любуясь. …У фонтана — неприятная встреча. С полдесятка мастеровых стояли, сидели и полулежали на замшелых камнях. В шесть часов утра Нико шел мимо — они ждали, и сейчас возвращается к вечеру — они ждут. Значит, нет работы. Значит, зря сюда пришел. Не поискать чего-либо у кустарей? Протиснулся в переулочки, сумрачные и узкие, где пешему с конным не разминуться. Заглядывал в лавочки, мастерские. Заводил с ремесленниками краткие переговоры. Шел в раздумье, но не забывал вежливо уступать дорогу пешеходам. Эге! Что-то знакомое. Вывеска протянулась поперек дороги: «Вино, пиво, разные закусаки». И нарисован круг колбасы! «Закусаки»… Глупая вывеска! Дали бы ему заказ, он бы написал настоящую — так, как любил писать: кувшины с вином, прозрачного барашка, пирамидку помидоров, полумесяцы лавашей, бросил бы серебряную форель и красную редиску в центре стола. И подписал бы внизу, как любил: «Даздравствует хлебосольного человека!» Так писал он грузинское хлебосольство, кувшины с вином и шерстистых барашков — много лет писал, пока не забрел к нему грузинский художник в блузе, маленький, с медвежьими глазками. Разглядел и басовито пророкотал: — Вот это, брат, тебе, черт возьми, удается. Это, понимаешь, не вывеска, а подлинный натюрморт… Нико смутился. Не зная, что такое натюрморт, усомнился, не обидел ли заказчика, вместо вывески дал неподходящее. Когда ему перевели буквально — «мертвая природа», — совсем загрустил. Однажды про Нико написали в газетах. Было это давно. В 1902 году. Прочел о себе: талант, «самородок». Застыдился. Еще напечатано непонятное (очевидно, люди образованные всегда так пишут): как будто и о нем, а на самом деле про другое. Упоминали почему-то Египет, персидские и ассирийско-вавилонские фрески… Какое отношение имело это к нему, уличному живописцу? Статейка заинтересовала город. Теперь Нико начали узнавать, приветствовать, приглашать к столу. Никто, однако (и думалось об этом горько!), не сказал во всеуслышание самого главного: — Учиться надо нашему маляру, вот что! Еще молод, еще не ушло время. Давайте-ка поможем сыну огородника, соберем денег и пошлем его в столицу обучаться тонкому ремеслу живописца. О, как страстно хотелось учиться! Ночами мечтал жилец подвалов о большой, светлой комнате — студии (слово это узнал от новых знакомых) и о том, как большие мастера передадут ему свое мастерство. Ведь он не знал законов перспективы, не знал строения человеческого тела и еще много чего не знал! Но чуял бедняк в себе ту силу, которая позволяет быстро идти по ступеням знания, — некоторые называют ее талантом. Мечтал о Москве: хоть и холодно там, и снегу много, и долгая ночь зимой, но живут в Москве замечательные люди. Один из них, Третьяков по фамилии, сам из торговых людей, но страстно любит искусство, щедро помогает художникам. Не знал бедняк, что давным-давно намела русская метель высокие сугробы на могиле Третьякова. Озаренный надеждой, в те дни Нико трудился необычайно легко, самозабвенно: хотел доказать кому-то, что самоучка может писать «для себя». …Нико шел по мосту. Луна катилась в желтых вспухших облаках. Дул ветер. Кура скакала по камням, мотала гривой и брызгала пеной. Вдруг резко остановился. Острая боль сжала сердце, прервав дыхание. Облокотился о перила. Устал. Устал скитаться: искать себе угол, ночлег, хлеб. Один прыжок — и всему конец. На дне реки — покой… Однако нельзя. Грех это великий перед самим собой. Еще сильны твои рабочие руки, еще остро зрение и верен глаз. Нуждались и самые большие — не чета тебе — мастера! Трудно живет любимый поэт Важа, однако и он не бросает пера… Затряслись вдруг худые плечи: невыносима ты, горечь художника, который не нужен своему времени… …После моста вновь крутой подъем: горбатый Авлабар. На одном из витков поворота из открытого окна рассыпались звуки фортепьянной музыки. Такие чистые, отчетливые, как будто порвали нитку жемчуга и жемчужная осыпь скатилась к его стоптанным башмакам. — Манана! — сказал строгий голос в окне. — Спать! Хлопнула крышка рояля, перебежали легкие шаги. Квадрат света на каменных огурцах погас. Из темноты дохнул влажной свежестью сад. Нико ощупью протянул руку: решетка — балюстрада — скамейка… Вот и ночлег. Чудесная гладкая скамья. Растянулся, кулак под голову, сомкнул глаза… Не помнит, сколько опал. Вдруг луч света ударил в лицо. Дворник! Дворник в фартуке и с бляхой, подняв фонарь, стоял перед скамьей и глядел на незваного гостя грозными глазами. Возле дворницких сапог прижался коротконогий ощеренный пес — из тех, что не лают, но молча кусают и рвут последние штаны. — Здесь нельзя спать, — тихо и строго сказал дворник. — Проходи! Пес подтвердил утробным урчанием: «Р-р-р-р!.. Пр-рочь…» Молча встал, молча пошел. Истукан в фартуке глядел вслед, медленно вращая глазами. Эй, дворник, не знаешь ты, кого гонишь! Невдомек тебе, старый, что бездомный бродяга сильной кистью изобразит тебя на полотне, и будет твой портрет висеть в Третьяковской галерее. Видные знатоки столицы, крупнейшие мастера Европы станут спорить перед тобой, дворник. Стефан Цвейг, мастер европейской новеллы, посмотрит на твой портрет и напишет изящным бисерным почерком: «Увидел Пиросмани, поверил в Руссо». Не подозревает об этом и сам художник. Он шагает по горбатому Авлабару, лихорадочно обдумывая, к кому из кондукторов железной дороги восторга. В третьем трактире открыли яростного и великолепного «Черного льва». Застыли как вкопанные перед священной чистотой «Орточальских красавиц». И пошло и пошло… Шамили и разбойники, паломники и странники, виноградари и аробщики, крестьяне и князья… Грузия глянула на них со стен, Грузия «хлебосольного человека», озаренная солнцем, трудом и отдыхом своих людей. Многие работы были исполнены на черной клеенке. Они увидели удары кисти смелой и стремительной, почувствовали руку твердую и умелую, а вместе с тем — удивительное дело! — детскую наивность неведомого им самоучки. «Мальчик с ослом и дровами» растрогал обоих. — Ты видишь, что для него характерно: лаконичность, сжатость, точность рисунка, легкость письма; а каковы детали, вписанные в целое! — перечислял Кирилл, и узкие глазки его сияли радостью открывателя. Ле-Дантю удивлялся, до какой виртуозности можно дойти, пользуясь черной клеенкой, жестью — материалами неблагодарными и жесткими. Почему же неизвестный писал на клеенке? Вслух не сказав, оба подумали: «Беден». Но воздух, тело, шерсть, дерево, кость — все находило в этих картинах свой способ выражения. Самые разнообразные приемы отличали натюрморты, пейзажи и портреты, и даже краски, видимо изготовленные неведомым художником собственноручно, говорили о неограниченности его возможностей. Кто же этот человек, как найти его?
* * *
— Вот он! В самом конце Молоканской улицы вместо ряда мастерских с их железной музыкой — ряд белых домиков под красной черепицей в тени густых акаций. У белой стены спиной к зрителям стоял высокий человек в рваной одежде и кистью выводил надпись:
«МОЛОЧНАЯ».
Его окликнули. Он обернулся, с достоинством поклонился и продолжал работать, изредка репликами поддерживая разговор. Взгляд его больших кротких глаз лишь на секунду задержался на прибывших, но оба гостя почувствовали себя смущенными. Им стало не по себе, словно попали в другой мир. Тишина окраины, шелест старых деревьев, высокая белая ограда, напоминающая монастырскую, и строгое лицо художника в столь бедном обличье, застигнутого на поденщине, которой он ничуть не стыдился. «I'en avais le coeur serré», — говорил потом Ле-Дантю («У меня сжалось сердце»). Разговор не клеился. «Маляр» работал быстро, явно торопясь сдать заказ. За его работой поглядывал, рассевшись в холодке с трубкой в зубах, человек с фаянсово-синими глазами. Кирпич широкого лица отделялся красной чертой от белой глины незагорелой шеи. Это был Цуккерман, владелец четырех молочных. Нико закончил надпись, вымыл кисти и приветливо обратился к гостям: — У вас ко мне дело? Идемте. Даже расчета не взял. Даже не взглянул на хозяина: успеется, мол. Они пошли втроем окольной обратной дорогой. Ржавые стручки акаций лопались под каблуками. Тень листьев скользила по лицу молчаливого Пиросмани. Цуккерман крикнул вслед: — Эй, Николай, загляни в субботу, старые брюки дам! А маленькая пестрая и смешливая толпа засеменила позади, распевая: «Никола-маляр! Никола-маляр! Сделай куклу…» …В маленьком завокзальном погребке в этот час прохладно, тихо. Микитан — буфетчик — дремал, прикрывшись газетой. Им подали вареное лобио с орехами в надтреснутом блюде и три стакана вина, нацеженного из бочки. Когда мальчик-слуга, элегантно щелкнув несвежей салфеткой, отошел в свой угол, Ле-Дантю поставил локти на стол и спросил Нико в упор: — Знаете ли вы, что ваша живопись замечательна и что вы большой мастер?* * *
Оставим их за этой важной беседой — такая бывает раз в жизни, и отсвет ее мерцает бедняку до последней угрюмой ночи. Был у толстяка брат — поэт. Прослышал поэт толки художников об удивительном «маляре» и пошел по его следам, выспрашивая в погребках, мелочных лавках и увеселительных садах окраин: «Где работает Пиросмани?» Они встретились. Николай обещал написать портрет поэта. Записки Ильи Зданевича об этой беседе сохранились до наших дней — пожелтевшие листки, исписанные второпях и вкривь и вкось, так пишут только «для себя».
ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА
«…27-го января 1913 года. Воскресенье. Сегодня утром проехал сначала к Месхиеву. Купил у него портрет мальчика, оттуда пошел к Николаю. Пиросманишвили сидел и писал мой портрет. Стал спрашивать его о картине. Портрет мой еще только набросан, на другой картинке олень уже написан. Кроме фона, еще не оконченного, исполнен великолепно. Нико отвел меня в сторону и сказал: «Когда выставка? Если бы мне дали комнату, где можно было бы работать, и полотно, я бы вам за месяц написал десять-пятнадцать картин, лучших, чем те, которые у меня есть!» Далее добавил: «Вот, все мои вещи портят. Например, эта картина — нарисован заяц. Для чего заяц, кому нужен заяц? Но меня просили: нарисуй для моего уважения, и рисую, чтобы не ссориться…» На мой вопрос, не писал ли он икон, ответил! «Иконописец, живописец, маляр, художник — все разное. Иконописцем не был. Раз только писал святого Георгия. Живописцы — это буквописцы и рисовать совсем не умеют»[21]. Потом жаловался на страшную бедность, на скверную одежду, на невежество заказчиков и просил помочь ему. О том, что ему нужна комната, никому из духанщиков просил не говорить. «Комната должна быть светлая, а тут темно». Когда пишет, левую руку подкладывает под правую, чтобы не дрожала сильно. Русский язык учил сам: «Купил грузинскую книгу, переведенную на русский, и учился по ней. Здесь нельзя хорошо работать — пить заставляют». Был у него один автопортрет, «в хорошем платье, не в таком плохом», но кому-то продал. Вчера Нико сказал: «Картины бывают разные: можно писать месяц или даже целый год, и все будет, что писать». 28-го января. Был у Николая утром. У портрета нарисовано дерево, у оленя — трава. Николай сказал, что он сердит на меня за опоздание. Теперь он получил заказ, над которым будет работать, за что получит 60 копеек. Спрашиваю: «Какой?» Показал домовый фонарь, на котором нужно написать: «Молоканская улица, дом №…» — И это заказ? — А как же? Если мы не будем работать над низшим, то как сумеем сделать высшее! Пришлось согласиться. Далее Нико рассказал, что служил рассыльным в Управлении железных дорог и воинскую повинность не отбывал. Перед обедом я зашел вторично в подвал. Николай спал. Пошел в кабачок к Бего Яксиеву, купил там натюрморт Нико за 1 рубль 50 копеек. Хозяин сказал, что «за такую вещь не дал бы и пяти копеек». Затем говорили о Николае вообще. Духанщик, между прочим, сказал: «Он хотел нарисовать дерево и на него положить вашу руку и книги, а я приказал — стол. Что до оленя, то нужно дерево, чтобы казалось, что олень оперся на него». Я сказал, что Нико Пиросманишвили может рисовать, как хочет, и приказывать ему я не могу. Потом заговорили о той вещи, которую Нико мне дарит. Сандро всячески ее хвалил: «Лучшая вещь будет на вашей выставке. Там изображен один князь, который способен за обедом выпить три ведра вина». Разбудили Николая. Он пришел сердитый: «У меня талант устал ждать. Я вас ждал утром, вы опоздали». Натюрморт свой осмотрел: «Помню. Как же — одна из моих лучших вещей. Писал для себя»… 29-го января. Был утром у Пиросмани и позировал. Олень готов. Николай у Бего Яксиева работал бесплатно: только за еду написал 15 картин. Есть его вещи в «Белом духане» на Манглисском шоссе и в других, по окрестностям города. Сандро Кочклашвили все время вмешивается: требует то дерева, то листьев. С трудом удается его урезонить. Вообще, по-видимому, Николаю ни одной вещи не удается исполнить самостоятельно, без посторонних понуканий. «Если бы у меня было хоть сто рублей! Оделся бы, нанял комнату и тогда бы спокойно писал». Обещал ему, что напечатаю о нем в газете. Прощаясь, говорил: «Заходите потом, цветы рисовать буду»… Добавил: «Лучший мой заказ был от начальника станции Кипиани. Заплатил 30 рублей. Иногда платят машинисты и в мелочных лавках. А вообще работаю за еду». 30-го января. Сегодня утром был с Зигой (художником Валишевским). Принесли «Трех князей на лугу». Из-за картины была почти драка — не хотели давать знакомые духанщика Сандро. По поводу рамы Николай сказал: «Если стена светлая — черную раму, если темная — светлую, а то плохо видно». «Трех князей» писал девять дней… Нико сердится на меня, что я небрит: лицо выходит непохожим. Потом подошел какой-то тип, спросил: сколько возьмет за портрет? Николай сказал: 30 рублей. Я позировал еще — лицо стало очень похоже. Завтра кончит писать. Сказал мне: «В Москве купит всякий буфетчик, только цену маленькую не назначайте. Если что нужно, пишите письмо, я вам пришлю, что нужно». Потом с Зигой пошли по духанам смотреть картины Пиросмани. В «Варяге» нам предлагали «Царицу Тамару» за три рубля. Вечером был у Николая второй раз — с братом. Когда пришли, он сидел в глубине духана, поднял спор из-за лица и оленя. Стал убеждать, что нужна луна. Николай заявил, что луны не полагается, и рассердился. Просил принести кисти. Потом просил показать хоть одну работу брата. Мы пригласили его к себе в дом. 31-го января. Был у Николая утром и позировал. Портрет почти готов. Оленю приписано небо. Вскоре я ушел в редакцию «Закавказской речи» узнать, принято ли письмо о художнике. Сказали, что будет завтра. Оттуда опять поехал к Николаю. Художник рассказал мне о своей жизни, службе, торговле, разорении. В 1904 году нанял комнату в Колючей Балке, а теперь вот уже девять лет, как нет и комнаты. Живет живописью. «Вот раньше был богат, а теперь и одежды не имею». В Кахетии есть отцовская земля, но там он не живет, так как «не земледелец». Когда я уходил, пришли какие-то люди и начали критиковать портрет. Николай сказал: «Не слушайте их, они дураки, ничего не понимают». 1 февраля. Был у Николая утром. Портрет окончен. За портрет Гульбатова нужно отдать два рубля духанщику Сандро, который тот давал якобы «для успокоения друзей». Николай намекнул о своей просьбе (заказ в Москве). Вечером был с художником Т. и журналистом А., смотрели картины Нико. Художник Т. сказал: «Напоминает персидских художников, но грубее, цвета нет никакого; вообще ничего замечательного». В общем мнения неопределенные и равнодушные. Могу добавить, что некоторые интеллигенты насмехаются над ним. Взял портрет и оленя. Николай стал протестовать: «За оленя ничего не платите, уже довольно. Если в Москве будет заказ, напишите». Мое обещание о том, что его картины будут в Москве на выставке, обнадежило и обрадовало его. Прощаюсь сердечно и еду на вокзал. Поезд отходит, а там, в глубине огромного города, сидит у тлеющих углей человек с тоскующие взглядом, одинокий скиталец, большой художник. Он произвел на меня глубокое впечатление, и теперь, после знакомства с Николаем, я знаю, что такое жизнь». На этом записки обрываются.* * *
«Что такое жизнь», уличному художнику известно давно. Из всех ее ценностей (знает он) самые хрупкие, самые непрочные — человеческие связи. Ему повезло: он обрел друзей в искусстве — величайшая ценность! Но отгремел поезд, мигнул красный глаз хвостового вагона, растаяла в воздухе завитушка дыма, — и как дым растаяла, исчезла связь. Винить ли за это людей? На город надвигается громада туч, мелькают клинки молний. Зарница зло осветила овечье стадо домов, сбившихся в кучу у подножия Метехского замка: быть буре! «А что такое отдельные люди в бурю?» — не раз приходило в голову Нико. Листья, гонимые ветром. Одного из друзей (автора записок) пойдет мотать, швырять и вышвырнет на чужой берег окаянная судьба эмигранта. Другой умрет в самый канун революции. Третий переселится в северную столицу. …А ты один над грудой тлеющих углей.
* * *
Со стороны могло показаться: извечно существовали они раздельно — Метехский замок и город Тифлис. Город — трудолюбивый, пестрый и шумный — переполнен музыкой, как чаша вином: в садах бьют бубны, ноет зурна, проспекты звенят оркестрами, из распахнутых окон брызжет песенка, с балкона спелой виноградной гроздью свесилось только что собранное «Мравалжамиер». А сторожевая крепость на скале молчит, немая. Там тюрьма. Слепы узкие окна-бойницы. Ни взгляда оттуда человеческого, ни звука. Полосатая будка часового у крепостной стены, если на нее смотреть снизу, — спичечный коробок. В коробке — оловянный солдатик с ружьем. Все очень маленькое, смешное, игрушечное (если смотреть, конечно, снизу). И какое-то сонное. Похоже на старинную литографию. Наверное, при царевиче Вахушти так же было: отвесная скала, крепость на скале, змеиные струи Куры под скалою. Облака. Нарисовать бы это иглой на меди, как делали в старину, протравить кислотой, потом отпечатать. — Эй, человек! Оглох, что ли? Нельзя здесь останавливаться. Пррроходи! Тебе говорят! Совсем не игрушечный — натуральный солдат перед ним. Носом к носу. Щетина усов, гвозди острых глаз, словно в смехе, оскалены зубы… Какой там смех! Дышит тяжело, значит бежал от самой крепостной стены. Нелегко, должно быть, бежать в сорокаградусную жару в полной амуниции и выкладке, с винтовкой наперевес… Чуть двинул солдат штыком — и у самой груди ощутил Пиросмани холодную сталь, почувствовал на своем лице чужое, луком, перегаром, махоркой воняющее дыхание. — Незачем мимо тюрьмы ходить. Нету тут дороги. Еще раз сунешься, сам туда угодишь… И солдат уже по-свойски, оттопыренным большим пальцем ткнул через плечо в сторону крепостных ворот. Но тут свершилось волшебство: огромные створы внезапно сами собой разошлись, обнажив обширный квадрат пустого двора в каменных плитах с пробившейся в расщелинах лебедой и крапивой. И по плитам шел к воротам гуськом десяток очень бледных людей с мешками за спиной. Бритые головы, одинаково серые лица отличались друг от друга лишь оттенком небритой щетины на впалых щеках: у одних щетина рыжеватая, у других сизая, у третьих вовсе седая. Шли бесшумно, как тени. Серых людей втолкнули в фургоны, захлопнули, заперли. Бравые конвойные вскочили на запятки, бич щелкнул, как пистолетный выстрел, запел рожок, лошади рванули, и на маленькой площадке осталось лишь облако пыли, такое густое, что сторож у стены начал чихать, харкать и протирать глаза кулаком. …А створы крепостных ворот поползли обратно и закрылись сами собой — медленно, плавно, с каким-то печальным звуком, долго стоявшим в вечернем воздухе.
* * *
На Сурамском перевале выпал снег. Значит, зима у ворот. Шепот на окраине: «Боже, будь милостив к нам, грешным, бездомным, одиноким, неимущим, больным, заключенным. И к тем, кому на свободе ничуть не легче, чем в тюрьме. И к тем, кто бредет по дорогам Сибири под конвоем первых метелей, еще не ведомых детям юга». И к тем, кто дома ночует под лестницей, не имея другого крова… Каждая зима была для Нико страшной. Не имея теплой одежды, он мерз, простуживался и кашлял. Жизнь под лестницей — пытка, когда нет в защиту от зимней стужи ни печки, ни мангала и не на что купить дровишек или углей. Да и не позволил бы домохозяин топить под лестницей. Суровый рачинец с головой в форме боба и висячими усами иногда молча навещал каморку художника и осуждающим взглядом окидывал его немудреное хозяйство: железную койку с тряпьем; кисти и сверток клеенки в углу; деревянный ящик, на котором нарисован человек в цилиндре. Домохозяин пока не выселял Пиросмани. Конечно, каморку можно сдать «холодному» сапожнику, оно выгоднее, только у сапожника тлели бы угли в жаровне — вечная опасность для старых построек. Да разве согласился бы самый «холодный» сапожник жить зиму без огня? И домохозяин терпел Пиросмани, хотя тот платил редко и неаккуратно, после многих напоминаний. Домохозяин, постояв на пороге, уходил. Стужа оставалась. Стыли пальцы, ныли кости. Замерзало масло в склянке. Ночью дрожь сотрясала тело. Рассветы были жестоки: ясно-розовое небо обещало стальной, морозный день, хмуро-пепельное — предвещало слякоть и горе. Башмаки разевали пасть, набирая воду. Подметки отрывались. Бахрома брюк принимала цвет уличной грязи. Намокший пиджак прилипал к телу — рубашки под ним обычно не было. Брести таким оборванцем по Молоканке нестерпимо горько. Но и дома сидеть нельзя: работа не ищет человека. «Хлеб за брюхом не ходит». В апреле Нико получил хороший заказ: расписать духан на Марглисском шоссе как можно лучше да побыстрее. Хорошо бы — к пасхе. На праздники много народу едет в загородные духаны: расфранченные, в черных шелковых рубашках, в поясах с серебряным набором «карачогельцы», а сбоку, примостившись в переполненном фаэтоне, шарманщик неутомимо крутит ручку, и на всю окрестность гремит музыка. Надо, чтоб и ресторан выглядел празднично. Постарайся! Он поехал в дилижансе. Горное шоссе вьется стружкой. Мимо бегут вывески придорожных харчевен с зазывающими надписями: «Не уезжай, голубчик мой!», «Фаэтон, стой!» Но дилижанс катит себе и катит мимо. Наконец лошади остановились — «Белый духан». Здесь Нико начал работать. Писал несколько суток без отдыха, наскоро закусывая и кое-как переспав на скамье. В черной жилетке поверх малиновой рубахи подходил усатый огромный мужчина и коротко одобрял: — Быстро работаешь. Сагол![22] Только… здесь должен быть сбоку нарисован орел. Как живой! Понимаешь? Зачем орел, кому нужен орел? Нет, он этого не хочет! Но все пристают с просьбой: сам хозяин, жена хозяина, сыновья хозяина, собутыльники хозяйские… И хор голосов твердит: — Сделай уважение, нарисуй. Если уважаешь, нарисуй. И он писал орла из уважения.
* * *
На обратном пути Нико отказался от подводы, пошел пешком и заблудился. Случалось ли вам заблудиться в облаках? В горах это нередкий случай. Облака бродят, как овцы по дворам горного села, иногда настигают путника по выходе из селения. И вот бредешь в молочно-белом тумане, из осторожности сойдя с дороги, чтоб не сшибло тебя во мгле повозкой или экипажем. …Сам не заметил, как очутился в лесу. Решил дальше не идти. Уселся на выгнутых корнях большого дуба, прислонился к дереву спиной и, сломленный усталостью, задремал. Его разбудил шорох… Солнце стояло высоко, сквозь мокрую листву сыпались ворохи позолоты, а перед Пиросмани, так близко, протяни руку — дотронешься, предстала, маленькая козуля. Ветерок дул с ее стороны, трепещущие черные ноздри козули не уловили запаха опасного гостя — человека. Стояла как вкопанная, только чуткие ушки ее настороженно шевелились. «Стой так, сестричка, я нарисую тебя!» Вдруг «сестричка» сделала грациозный прыжок, сорвалась и пропала в лесу, мелькнув «салфеткой». Тогда только смог он расправить онемевшую спину. Первое, что сделал, — достал из ящика (где на крышке — человек в цилиндре) свои кисти, клеенку и начал рисовать. Часы текли. Птицы качались на ветке, кося на него бусинкой глаза. Жук-точильщик пробежал по стволу, потом по спине художника и опять по стволу. Человек работал и работал… Когда на полянку легли косые предвечерние тени, захотелось пить, затомил голод. Достав из мешка круглый хлеб и бутылку слабого вина, стал прихлебывать и закусывать… Не хлебнул ли он лишнего? Или игра теней и света утомила напряженное зрение? Или приснилось ему такое? Из леса вышла на поляну медведица с медвежонком, прислонилась к дереву и давай чесаться. Чесалась долго, оставляя клочья шерсти на коре, а медвежонок смирно сидел у ее ног и только временами поднимал худую морду к небу. «Стой так, тетушка, я нарисую тебя». «…Не могу, добрый человек: после когда-нибудь, если буду свободна. Знал бы ты, как трудно с пропитанием в лесу в этот год! Никогда еще такой трудной зимы не бывало. Себя еще прокормила бы, да беспокоит семья. Двое шустрых малых, один вот отбился в чаще, теперь ходи, ищи его. Малышам столько нужно: пропитание, воспитание, образование…» Тут медведица вдруг отпустила здоровую затрещину медвежонку: вздумал малыш из подражания ей тереться об одно дерево, сплошь увитое колючим ломоносом, не зная еще, что такие колючки потом не выдерешь зубами. Медвежонок взвизгнул, отбежал. Мать с достоинством заковыляла за ним, косо ставя ослабевшие после голодной зимовки ноги. Оба скрылись в чаще. Бывают же такие мгновения в жизни — полновесные, звучные, озаренные солнцем, как эта полянка в темном лесу! Ночевал в селении Табахмела — в крестьянском доме, на жестких подушках в полосатых наволочках, окруженный почтительным и добрым радушием бедняков, от которого теплее сердцу. Утром его пригласил к себе хозяин придорожного духана в Табахмеле. Заказал картину «Коджорская шоссейная дорога». Просил изобразить веселый кутеж: бурдюки с вином, фрукты, рыбу, шашлыки, вокруг стола «хороших людей», а позади — вид на Тифлис. Работал над заказом целые сутки. Денег хозяин дома не дал, но пригласил маляра пожаловать на свадьбу дочери. Осенью, как водится. …Из подвалов несло жареной бараниной и острой приправой, улица благоухала дешевыми духами женщин, из переулков воняло гниющей зеленью, на Майдане ударило острой струей запахов дубильни и кожевенного сырья… Почувствовал, что задыхается. Нестерпимо болело усталое тело, ныли ноги, и Нико позволил себе в этот вечер необычную роскошь: сел на трамвай, взял билет за пятачок и поехал к себе на окраину — важно, пассажиром. …Какой поэт воспоет тебя, о старинный тифлисский трамвай! Твои открытые вагончики с поперечными скамьями и единственной длинной — во всю длину вагона — ступенькой, по которой боком, непостижимо ловко подвигается к пассажирам храбрый кондуктор. Он в картузике с козырьком и с рожком на цепочке; висит на подножке и даже не хватается за поручни. Не поймешь, как удерживается человек при такой бешеной скорости? Девушки ахают и зажмуриваются, старики качают головами. Остановка! Вожатый закрутил ручку, вагончики взвизгнули тормозами. Пассажиры сошли, остались лишь рабочие, которым всегда далеко ехать. Но трамвай словно примерз к рельсам — не двигается с места. В чем дело? Ватман, оказывается, увидел на углу знакомого и пошел к человеку — покурить, побеседовать четверть часика. Элегантно вскинул молодец кондуктор свой рожок, протрубил меланхолическую ноту и стал поторапливать замешкавшихся пассажиров: «Скорейте, господа, скорейте!» Все расселись по скамьям, запели песенку колеса, и ветки мимо бегущих лип стали хлестать вагончики, овевая прохладой. Через пять кварталов опять долгая остановка (ватман зашел в винный погребок). Снова меланхолический вой рожка, и вновь движение на бешеной скорости ночного последнего рейса… Нет и не будет тебе подобных, друг поэтов, старинный тифлисский трамвай! У дверей дома маячила неясная впотьмах фигура. Дворник. Не впустил. Хозяин не велел. Не заплатил Николай, и каморку передали другому. Под лестницей живет теперь колесных дел мастер. Зачем было спешить, кому пел рожок: «Скорейте»?
* * *
Снова ночь. Орточальские сады. Спелые виноградины фонариков просвечивают золотом. Вокруг фонариков — орнамент живых и подвижных листьев. На белой скатерти — бурдюк, курица, нанизанные на вертел шашлыки, рогатые чуреки. Пальцы ныли от желания написать все это. Там встречал он «дочерей греха». Духанщики, те говорили грубо: «Орточальские девки». Пиросмани видел в них иное: сама любовь лежала перед ним, голубь отдыхал на ее плече, цветок оживал в ее пальцах. Две такие фигуры создавали диптих — двойную картину, исполненную гармонии и покоя. Женщина, любовь тебе имя! Вокруг цвела южная весна, и все пело о любви, все клялось ее именем… Значит, любовь все-таки существует? Но он, бродяга, не достоин чуда и не любим никем. Качает ветерок спелые виноградины фонариков. Скользят, покачивая бедрами, странные черные тени— пляшущие кинто. Сколько раз наблюдал он дикий разгул кинто, слушал их озорные песенки. запоминал синие белки чуть раскосых глаз, оскал зубов, все просилось в картину — разве вас забудешь, орточальские вечера? …На рассвете, бродя по набережной, наблюдал рыбаков. Однажды сошел с отмели рыбак и пошел по воде навстречу ему, улыбаясь. Молодой, стройный. Штаны закатаны, струится с одежды капель, в руке — серебряная рыба бьет хвостом. — Прими в дар, — попросил рыбак, подал рыбу и назвал художника по имени и отчеству: — Николай Асланович… В парижской газете появилось письмо о Пиросмани: «…Оригинальный грузинский художник. Дитя народа… Бедняк-маляр… Не проходил никакой школы, а в то же время… Связь с грузинской фреской, древним орнаментом, с народной игрушкой… Самобытен. Выработал собственную технику». «…При очень большой наивности может поспорить с крупнейшими мастерами Европы. Темперамент национальный, переливающийся на солнце…» «…Спиральная композиция в картине «Рыбак», колорит ее, приемы письма напоминают лучшие вещи Дерена и Матисса, о которых грузинский самоучка и не слыхивал…» «Натюрморты Пиросмани — маленькие шедевры. Портреты людей из народа… Реалистичен, как Сезанн…» Письмо было переведено, облетело город. Во дворцах равнодушно пожимали плечами. В студиях художников ожесточенно заспорили. Дошло, наконец, до Пиросмани, и он пошел поделиться новостью с Захарием — Микитаном. — Не слыхал, Захарий? Теперь и во Франции меня знают. Захарий был грустен. Не бросил прибаутки, а сложил щепотью пальцы и помахал перед носом приятеля: — Чему обрадовался, чудак? Может быть, теперь хозяин «Белого духана» заплатит за работу? Не заплатит? Тогда иди к черту со своим Парижем.
* * *
В 1914 году грянул гром войны. Ветром вымело проспекты: ни фаэтонов, ни празднеств, ни гуляющих. Только солдатские роты и роты. Цвет толпы изменился, преобладает серо-зеленый. Лица встревоженны. На углах люди молча толпятся у вывешенных сводок. Еще новость: стали с пением носить портрет царя по улицам. Удивленно глядит художник: колышется хоругвь царского портрета над толпой, и несет ее, представьте, молочник Цуккерман. Лицо молочника багрово от усилия, рот округлен: — Бо-о-оже, царя храни. Бо-о… Бо-о-о…. Будка сапожника закрыта. Повешена записка: «Заказы у Марие ушол в армие». Встретил знакомого сапожника — Митрича — в военной форме и не узнал: помолодел, гладко обрит, глядит соколом. — Прощай, Николай! Угоняют. Германа бить. Не поминай лихом, браток. — Подмигнул: — Кто знает, как дело обернется?… Смена весен и зим, смена красок и цвета толпы: теперь преобладает черный. Панихиды, молебны, горящие свечи. Капают слезы, капает воск на дрожащие пальцы. Но сколько ни молись, война косит и косит… Пиросмани пишет «Женщин грузинской деревни». Белое и черное. Много черного цвета теперь в его работах.
* * *
В 1916 году зародилось в Грузии общество художников, и на первое же собрание его был приглашен Нико Пиросманишвили. Долго отнекивался, но в конце концов пошел. Показалось ему, что грезит: в картинной галерее собралось много, очень много его собратьев по кисти, и большинство так же бедно одето, как он. Многие приветствовали его, зная лишь понаслышке, тепло и дружественно. Весь вечер просидел, скрестив руки на груди, неподвижным изваянием. Слушал с огромным вниманием. В глазах, обычно печальных, — свет тайной радости. Попросили и его под конец сказать слово. Стеснялся. Говорил мало: — Вот чего нам нужно, братья: построить нужно большой-большой дом, лучше посередине города, чтобы всем было близко и чтобы все мы могли в нем собираться. Купим большой стол и самовар. Часто будем собираться за столом, будем пить чай и говорить об искусстве. Много будем говорить, как друзья. А то что с нами бывает сейчас? Написал художник картину, торговец продал, кто-то купил и повесил. И конец. И никто не знает о ней. Обязательно нужно художникам иметь свой дом… Но вам этого не хочется или неинтересно, вы о другом говорите, — закончил он тихо и грустно. Еще год прошел. Пиросмани пропал. Ходили слухи, будто умер. Другие утверждали: не умер, а обиделся на анонимную карикатуру, где был изображен оборванцем. Постановление общества художников Грузии (протокол): «Если жив Пиросманишвили Николай Асланович, узнать, где проживает, и оказать ему денежную помощь». В ту зиму у дверей пекарен еще затемно выстраивались очереди — хлеб стал дорог, его не хватало. Женщины, дрожа от холода, дежурили по ночам у торен; скрючились по углам и подъездам старики и старухи; садились на ступеньки ребятишки с мешками в руках. Очередь была безмолвной, угрюмой и терпеливой. В такой очереди, если поговорить, узнаешь многое. Посланцу общества художников молодому Ладо Гудиашвили женщины из очереди сообщили: бродячий маляр жив, работает, только бедствует сильно. Адрес — вот он.
* * *
— Входите, это здесь. Войти мудрено. Каморка — два аршина на два — завалена хламом. Потолок навис, того и гляди стукнешься головой. В оконце еле проникает свет. Высокий и худой, как скелет, человек стоит перед ним и «глядит необыкновенными глазами». — Как вы пришли: как друг или как враг? («Уж не сошел ли он с ума?» — мелькнула опасливая мысль.) — Как же могу быть вашим врагом? Скорее могу считать себя вашим учеником, почитателем и другом. Я Гудиашвили, не помните разве? Острый, недоверчивый блеск взгляда хозяина каморки смягчился. Протянул исхудалую руку: — Входите, будьте гостем. Вас зовут Ладо? О да, Ладо — помню! Присаживайтесь. Могу угостить… хлебом. Вот. Из самодельного шкафчика достал кусок черствого хлеба. Налил из глиняного кувшина воды (извинился: «Нет лимонаду»). Усадив гостя на ящик, сам уселся на перевернутом ведре. Спросил: — Знаете ли вы братьев Зданевичей? У них много моих картин. Да, немало пришлось поработать: тифлисские погребки и подвалы почти все я расписал. — А сейчас над чем работаете? — Так, пустяки. Впрочем, посмотрите: «Раненый солдат». Это одного приятеля моего портрет. Русский человек. Еще «Черный лев», «Женщины грузинской деревни». Красок нет у меня, и не на что купить… Решив, что минута подходящая, Гудиашвили достал двести рублей и вручил Нико: — От имени Общества грузинских художников… Прошу вас. Купите себе краски, работайте. И вы продержитесь как-нибудь. Постараемся со временем помочь еще… Пораженный, тот не вымолвил сначала ни слова. Взял деньги дрожащими пальцами, для чего-то расстегнул и застегнул рваный пиджак. Губы беззвучно шевелились, глаза недоверчиво расширились, сверкнуло в них что-то влажное. — Мне… От товарищей… Мне?.. Видя такое сильное, волнение, гость быстро перевел беседу на другое. Расспрашивал, как Нико работает, как составлены его краски. Бедняк встрепенулся, будто ожил: — Работать так нужно: надеть старый фартук, зажечь лампу, собрать с нее сажу… Мел истолочь ногами… Стену загрунтовать от пола до потолка. Своими руками загрунтовать, да. Мы ведь мастеровые, брат! А у нас думают некоторые, будто работать можно в галстуке и костюме; поработать немножко, а потом по проспекту гулять… Замолчал. Какое-то воспоминание тенью легло на худое лицо. — Так-то, брат Ладо. Ведь вы Ладо, да? Зачем же вы уходите? Как жаль, что пробыли мало… На прощанье, крепко сжимая руку гостя, спросил: — Так как же, будем строить наш дом? На улице молодого художника чуть не сшиб блестящий фаэтон. «Бер-р-регись! Хабарда!» — рявкнул мордастый кучер в широких рукавах и бархатной жилетке. Едва успел прижаться к стене. Окатило прохожего с ног до головы грязью… …Зима 1918 года еще тяжелее, еще злее для бедняков. Меньшевистская власть. Хлеба нет в городе совсем. Вновь ищет Пиросмани представитель общества художников, чтоб оказать ему помощь, и не находит его на прежнем месте. Не находит нигде: исчез! По улицам маршируют иноземные солдаты: вначале немцы, потом англичане, за ними шотландцы в клетчатых юбочках. По ночам выстрелы, обыски, облавы. Ищут большевиков. …Одни иноземные хозяева сменяют других, но уже не видит, не слышит этого Пиросмани. Не знает, как распродают по кускам меньшевики его родину. Болезнь, холод и голод загнали Нико, как раненое животное, в темный подвал неизвестного дома. Там, лежа на кирпичах и битом стекле, боролся он с недугом один на один, стонал и бредил так громко, что под конец услыхали его жители дома. Испуганный молодой голос сверху окликнул: — Кто там стонет? — Это я, сынок, Нико Пиросмани. Третий день лежу больной и не могу встать. Помоги, если можешь… Отвели Нико в больницу, там он через полтора дня и скончался. Могила художника неизвестна. …Идет буря, она близка, скоро ворвется в город… И повернет свой штык против богачей-хозяев «Раненый солдат». Как из карточной колоды, полетят отсюда тузы и короли. Не останется скоро от них и следа. Алый стяг взовьется над городом, омытым весенней грозой, и улыбающийся угольщик полезет по лестнице вверх, чтобы прибить на углу дома дощечку: «Улица Пиросмани».
А. Маскулия МИХА ЦХАКАЯ

В легендарном дворце Смольного института шел II конгресс Коминтерна. Выступали ораторы. За столом, покрытым тяжелой бархатной скатертью, расположился президиум: В. И. Ленин и другие видные деятели международного рабочего движения. Владимир Ильич что-то писал. Передавал записки, вполголоса переговаривался с соседями, но, вдруг замолчав, стал внимательно вглядываться в зал. Меж кресел осторожно, стараясь не шуметь, пробирался человек в глухом темно-зеленом френче, застегнутом на все пуговицы. Лицо его было утомленным, седоватые волосы гладко причесаны; движения замедленны, но тверды. — Кажется, это Цхакая, — неуверенно сказал Владимир Ильич и тут же добавил: — Да, да, конечно, он! Значит, вырвался… Дело в том, что Цхакая, посланный по возвращении из эмиграции с партийным заданием в Грузию, был арестован меньшевистским правительством. Его освободили только после настоятельного требования В. И. Ленина, которое вручил меньшевикам тогдашний полпред РСФСР в Грузии С. М. Киров. Через некоторое время Владимир Ильич спустился в зал и подошел к месту, где сидел Цхакая. Они сердечно поздоровались и уже вдвоем вернулись к столу президиума. Ленин усадил Цхакая рядом, шепотом спросил о чем-то, потом долго смотрел на его бледное, усталое лицо… Проявление внимания Владимира Ильича к Миха Цхакая было не просто данью уважения старому большевику. Этих людей в жизни связывала крепкая дружба, выдержавшая не одно испытание, прошедшая, как говорится, годы и версты, удачи и разочарования. Михаил Григорьевич Цхакая родился в 1865 году в маленьком селе Хунцы бывшего Сенакского уезда Кутаисской губернии. Его родители были крепостными крестьянами князя Мингрельского. Мальчика в семье очень любили и отец, и мать, и старшая сестра Текле, которая научила его грамоте. Миха занимался с удовольствием. Рос он крепким и смышленым деревенским мальчишкой. Во что бы то ни стало желая дать сыну образование, родители отдают его сперва в Кутаисское духовное училище, а затем, на казенный счет, в Тифлисскую духовную семинарию. Режим духовной семинарии напоминал режим всей Российской империи тех времен: нетерпимость любого инакомыслия, задавленность всего живого, забитость, откровенное мракобесие. Однако именно из стен семинарии выходили кадры революционеров, мыслителей, борцов и, уж во всяком случае… убежденных атеистов. Семинарские устои были настолько неприкрыто гнилы, что начинали задумываться даже самые малодумающие. Несмотря на строжайший запрет, семинаристы с жадностью разыскивали книги по естествознанию, литературе, геологии. В старших классах они объединялись в кружки, где изучали право, политэкономию, историю. Большой популярностью пользовался рукописный журнал «Факел». Семнадцатилетний Миха много читал. В знаменитой букинистической лавочке Захария Чичинадзе он познакомился с трудами Смита, Кене, Рикардо. Кроме общедоступных книг, там можно было достать и кое-какую нелегальную литературу. Иногда к Захарию заходили русские революционеры, сосланные на Кавказ, приносили номера запрещенных газет: «Колокол», «Вестник «Народной воли» и другие. Революционные настроения в семинарии не были секретом для семинарского начальства. Оно безжалостно боролось со всякой «крамолой». Надзиратели тайно обыскивали сундуки семинаристов, отбирая все «недозволенное». Самые способные ученики безжалостно исключались, если они попадали под подозрение. Осенью 1886 года, доведенный до отчаяния, затравленный мракобесами семинарист Лагиашвили убил ректора Чудецкого. Немедленно последовали репрессии. В числе исключенных оказался и Цхакая, Хотя к убийству Чудецкого он никакого отношения не имел. Полиция выслала Миха в селение Лесичине под особый надзор. Родителям прислали так называемый «волчий аттестат» Миха с «глубоким соболезнованием» высшего духовного начальства по поводу того, что такой «способный молодой человек, будучи воспитан на казенный счет, пошел против Бога и Царя». На родину Миха вернулся уже не тем, простым деревенским парнем, каким уезжал учиться. Он прошел суровую семинарскую школу, познакомился с лучшей частью тифлисской молодежи, много прочел и передумал. Еще в семинарии попадались ему труды Карла Маркса. Четко сформулированные марксистские идеи очень заинтересовали его. Несмотря на положение поднадзорного, с огромным трудом добывая литературу, он и в Лесичине продолжал изучать марксистскую литературу. В 1888 году Цхакая нелегально вернулся в Тифлис. У него не было ни специальности, ни паспорта, ни крова над головой. Поначалу жил случайным заработком, порой ночуя на берегу Куры в саду Муштаид. Потом удалось устроиться на работу — помощником бухгалтера на ликерно-коньячное предприятие Д. Сараджишвили. Надо сказать, что владелец завода с уважением отнесся к молодому интеллигентному грузину, но Миха сблизился с рабочими. К этому времени он стал убежденным последователем Маркса. Ему попадались заграничные нелегальные издания группы «Освобождение труда». Он знает, что марксистская организация существует, и пытается создать вТифлисе кружок. Накануне 1 Мая 1890 года Миха провел большую беседу с рабочими, живо и просто рассказав о значении. «рабочей пасхи», как тогда часто называли этот праздник. Узнав о беседе, Сараджишвили вызвал Цхакая к себе в кабинет. — Вы знаете мое отношение к вам, — сказал он Миха. — Но я хочу попросить вас перестать встречаться с рабочими. И еще по-дружески советую: бросьте вы ваши бредни! Социализм хорош на Западе, в цивилизованных странах, а мы — азиаты, русские рабочие не поймут марксистов! — Господин директор, — ответил Миха, — я тоже уважаю вас, но, простите меня, из уважения к вам не могу менять своих убеждений, — и, хитро прищурившись, добавил: — А если вы так уверены, что в России не может быть социализма, почему же вы боитесь нашей агитации?.. Вскоре Миха оставил работу и переехал в Батум. Здесь он на некоторое время устроился на предприятие Ротшильда, а затем перешел в только что организованную филлоксерную комиссию[23] Министерства земледелия. Комиссия располагалась в Тифлисе, но работа дала возможность Миха бывать во многих районах Грузии и Азербайджана. Веселый и общительный молодой человек быстро завоевывает популярность у простых людей: виноградарей, рабочих, мастеровых. По делам филлоксерной комиссии Цхакая часто наезжал в Квирилы. Он снимал там комнату совместно с молодым конторщиком марганцепромышленника Гогоберидзе. Фамилия конторщика была Ниношвили. Однажды Миха поздно вернулся домой. Его сосед лежал в постели и читал. Когда Миха вошел в комнату, Ниношвили поспешно убрал книгу под подушку. Цхакая удалось разглядеть название: «Карл Маркс. Капитал». Он заинтересовался. — Что это у тебя за книга? — спросил Миха. — Да так, пустяки, — безразличным голосом ответил Ниношвили. Горячий Миха возмутился: — Что?! Карл Маркс для тебя пустяки? Как тебе не стыдно?! А еще образованный человек! Ниношвили внимательно посмотрел на него и сказал: — Э, друг, кажется, мы с тобой одного поля ягоды. Мне говорили как-то, да я не поверил, а теперь вижу, что тебя не зря полиция из Тифлиса выслала. Да только я и сам такой же. Вот тебе моя рука. Предлагаю дружбу! Обезоруженный Миха крепко пожал руку Ниношвили. Так начался их большой союз. Эгнате Ниношвили, в то время молодой способный писатель, вынужден был жить в Квирилах, зарабатывая на жизнь работой конторщика. Миха настойчиво звал Эгнате в Тифлис. — Вот где поле деятельности, — говорил он, — приезжай. Работу тебе найдем. Ниношвили улыбался… Осенью 1892 года окончилась сезонная работа Цхакая в филлоксерной комиссии, и он устроился в редакцию газеты «Иверия». Миха по-прежнему заходил к Захарию Чичинадзе, который хорошо относился к нему. Лавочка Захария была устроена так: передняя комната для всех и внутренняя — для «постоянных посетителей». Однажды, когда пришел Миха, Захарий сказал ему: — А у меня для вас сюрприз. Он провел Цхакая во внутреннюю комнату, и Миха увидел Эгнате. Тот приехал накануне. Они тепло поздоровались. — Где ты устроился? — спросил Миха. — Да пока между небом и землей, — засмеялся Эгнате. Миха жил в маленькой полуподвальной комнате по Михайловской (ныне Плехановскому) проспекту, 54. Он предложил Ниношвили остановиться у него. Тот согласился. Тифлис девяностых годов был крупным центром революционной работы на Кавказе. Часто устраивались собрания марксистски настроенной молодежи. Создавались многочисленные кружки. Все понимали, что нужна крепкая организация. Об этом и рассказал Цхакая приехавшему Ниношвили, Зимой 1892 года они устроили нелегальное собрание молодежи. На нем выступили представители самых: разнообразных революционных течений, однако большинство под влиянием Миха и Эгнате пошло за марксистами. 25 декабря 1892 года в Квирилах под руководством Миха Цхакая и Эгнате Ниношвили состоялось первое собрание членов марксистской группы. Так была идейно заложена первая марксистская организация на Кавказе, впоследствии названная «Месамедаси». Жордания привез на рассмотрение товарищей свою «национал-демократическую программу». Цхакая и Ниношвили выступили против националистических положений программы. Дискуссию решено было продолжить в Тифлисе. Заболел Эгнате. Ему пришлось вернуться в деревню. Миха как мог помогал Ниношвили: высылал деньги, находил врачей, но болезнь прогрессировала. Осенью 1893 года объявили забастовку учащиеся Тифлисской духовной семинарии. Борьба окончилась успешно, однако полиция напала на след Цхакая, который принимал участие в организации забастовки. Миха вынужден уехать. Он приехал в деревню к Ниношвили. Положение Эгнате тяжелое. Ни целебный горный воздух, ни лекарства, которые привез Цхакая, не помогли. 5 мая 1894 года Ниношвили умер… Очень тяжело переживал Миха смерть друга…
Он поселился в Кутаисе. Этот древний грузинский город давно привлекал его. Сюда приезжали из России на каникулы студенты. Многих из них Миха знал. В студенческой среде еще большой популярностью пользовались идеи народовольцев. Имена Желябова, Алексеева, Софьи Перовской были святыней молодежи. Цхакая пробует беседовать со студентами о марксизме. Встречи происходят в городском парке или на берегу бурной Риони. Однажды Миха и пять-шесть человек студентов сидели на своем излюбленном месте в городском парке. Шла очень интересная дискуссия. Цхакая с жаром разъяснял какое-то важное положение марксизма. Ему возражал высокий худой студент в очках. Они говорили несколько громче обычного. Неожиданно к ним подошел молодой, прекрасно одетый человек в черкеске. — Вы совершенно правы, — обратился он к Миха. — Я прошу простить меня за то, что «врываюсь» в ваш разговор, но этот товарищ (он так и сказал «товарищ» и указал на Миха) совершенно прав… Незнакомец говорил еще несколько минут очень резко и громко. Сперва недоверчиво слушавший Миха заинтересовался. — Кто это? — тихо спросил он у стоящего рядом студента. — Не знаю! — ответил тот. — Какой-нибудь чохоносец! Через несколько дней на собрании марксистского кружка Миха снова встретил этого молодого человека. Теперь он был одет уже «по-европейски». Их познакомили. Товарищ, представивший незнакомца Миха, сказал: — Перед тобой сын князя Цулукидзе. — Князя Цулукидзе?! — удивился Цхакая. — Да, да, — улыбнулся Александр. — Я сын князя Григория Цулукидзе и, следовательно, тоже князь, — лицо его стало грустным. Александр стал часто бывать у Цхакая. Они продолжали встречаться и в городском парке. Миха настойчиво объяснял ему сущность социализма, рекомендовал вступить в группу «Месаме-даси». Вскоре Александр Цулукидзе стал профессиональным революционером и большим другом Миха Цхакая. Цхакая много пишет. Его статьи появляются регулярно. Он переводит на грузинский язык «Манифест Коммунистической партии», брошюру Поля Лафарга «Машина, как фактор прогресса». В кутаисских кружках по инициативе Цхакая переписывали ставшее уникальным русское издание «Капитала». Одним из самых значительных мероприятий, организованных Миха во время пребывания в Кутаисе, была организация доставки заграничной нелегальной литературы. В своих воспоминаниях Митрофан Лагидзе пишет: «В 1897 году я первый раз получил транспорт нелегальной литературы». В Кутаисе проживали многие революционеры, высланные из России. Миха был с ними хорошо знаком. Однажды от русского марксиста Козаченко он услышал фамилию Тулина (Ленина). Цхакая стал регулярно читать статьи этого человека, появляющиеся в легальных журналах, а также его труды, которые удавалось доставить нелегальным путем. Впоследствии марксистская группа установила с Лениным регулярную связь. В октябре 1897 года состоялось собрание «Месаме-даси». Присутствовали Н. Козаренко, И. Лузин, Н. Жордания и другие. Развернулись острые прения. Цхакая снова резко выступил против националистических настроений Жордания и его сообщников. Мнения собравшихся резко разделились. Спор было решено продолжить на съезде представителей кавказских марксистских организаций. Еще раньше, 23 июля 1897 года, кутаисское жандармское управление направило в Петербург, в департамент полиции, донесение, в котором указывались факты революционной работы Цхакая среди молодежи. Особо отмечалось, что он в 1886 году был исключен из Тифлисской духовной семинарии и что он в 1893 году руководил семинарской забастовкой в Тифлисе. Далее в донесении говорилось, что жандармское управление считает нужным выслать Цхакая административным порядком за пределы Кавказа, 14 ноября 1897 года, передав Г. Франчески рукопись перевода «Манифеста Коммунистической партии», Миха Цхакая уехал на север. были два социал-демократических комитета: один в заводском районе (Бабушкин, Морозов, Петровский, Дамской), другой в центре (Магницкий, Душкин и другие), в который вошел и Цхакая. Екатеринославские комитеты руководили революционной работой, по существу, во всех южных губерниях России. В январе 1900 года они начали издавать газету «Южный рабочий». Кроме того, печатались регулярно брошюры, прокламации, листовки. В рабочих районах, например на Чечелевке, настолько привыкли к этим листовкам и прокламациям, что почти не покупали легальных газет. Жандармское управление забеспокоилось. После того как накануне 1 мая 1900 года по всему югу России была распространена прокламация, напечатанная тиражом почти в пятьдесят тысяч экземпляров, в Екатеринославе начались повальные обыски и аресты. Охранке удалось арестовать многих членов комитета. Однако на следующий день, казалось, разгромленная организация выпустила новую листовку, написанную Цхакая. В листовке говорилось, что жандармы арестовали неизвестных комитету лиц, совершенно непричастных к его работе. Прокламацию распространили по городу, ухитрились подбросить даже в дома губернатора и начальника жандармского управления. Полиция разыскивала оставшихся на свободе комитетчиков. На Чечелевке было арестовано несколько сот человек. Охранка распорядилась арестовать и Цхакая… «без отношения к результатам обыска». 3 июля 1900 года в квартиру Цхакая постучали. Миха только что вернулся из типографии, где печатался очередной номер «Южного рабочего». Один экземпляр был у него с собой. Он быстро передал газету жене. Двенадцатилетний сын Цхакая лежал больной, с высокой температурой. Присев к его постели, Миха подложил ему под одеяло брошюру К. Маркса. Сын понимающе кивнул. Ворвавшийся в квартиру жандармский ротмистр с пятнадцатью жандармами предъявил Цхакая документ о его аресте. Распоряжение было весьма лаконичное: «Обыск формальный. Арест безусловный!» «Надо задержать их здесь до утра», — подумал Миха, так как в списке, помимо своей фамилии, разглядел еще несколько знакомых адресов. — Вы не здесь ищете, ротмистр, — сказал он жандарму, — посмотрите в чулане. Жандармы бросились в чулан. Конечно, там ничего не было. — Неужели ничего нет? — притворно удивился Миха. — Тогда осмотрите печь. Там-то уж наверняка что-нибудь найдете. Но и в печи ничего не оказалось. — Поразительно, — заявил Цхакая. — Вам сегодня не везет, ротмистр. — Вы издеваетесь над нами! — закричал жандарм. Цхакая пожал плечами. Перед уходом он долго подбадривал жену, читал наставления сыну. Лишь к утру его вывели из дому. Члены комитета и большинство активистов жили в его районе, на Потемкинской горе. Арестованных вели по городу как раз в то время, когда рабочие выходили на работу. Ставшая свидетелем массового ареста, толпа бурно приветствовала задержанных. К Цхакая, шедшему посредине улицы, подбежал подросток в рабочем костюме и вручил ему красный цветок. Понимая, что добром дело не кончится, жандармы подозвали извозчичью пролетку и усадили в нее арестованных. Ротмистр, севший рядом с Цхакая, сказал ему: — Мы уничтожили такую гидру революции, как «Народная воля». На что вы надеетесь? — Приходите после нашей победы, — улыбнулся Цхакая, — я вам расскажу. Его направили в Харьков, а оттуда в Москву, в Таганскую тюрьму, позднее перевели в «Бутырки». Режим московских тюрем окончательно подорвал здоровье Миха. Он заболел. Лежа в тюремной больнице, случайно узнал о выходе первого номера газеты «Искра». В феврале 1902 года Цхакая освободили из тюрьмы и этапным порядком отправили в Лесичине. Здесь рассказали ему о батумских событиях. Вскоре он снова уехал в Тифлис и перешел на нелегальное положение. В это время большую работу в закавказской организации вел Виктор Курнатовский — друг и сподвижник Ленина, Цхакая встретился с ним. Курнатовский рассказал о делах грузинских подпольщиков: — Сталин и Кецховели в тюрьме. Работают Саша Цулукидзе и Алеша Джапаридзе. Работа налажена, но люди — на вес золота… Цхакая сразу же включается в борьбу. Вместе с Ф. Махарадзе, П. Джапаридзе, М. Давиташвили, С. Кавтарадзе и другими он создавал социал-демократические организации и группы ленинско-искровского направления в Кутаисе, Гурии, Мегрелии. В Тифлисе была оборудована нелегальная типография. Собирается съезд социал-демократических организаций Кавказа, на котором образован Кавказский союзный комитет РСДРП ленинско-искровского направления. Цхакая стал его бессменным членом и одним из руководителей. Осенью 1903 года в Кутаис по решению ЦК РСДРП из Баку приехал Л. Б. Красин. На квартире одного молодого врача он встретился с М. Цхакая и другими грузинскими коммунистами. Красин рассказал о II съезде партии, о линии, принятой большинством. В начале 1904 года жандармы разгромили Кавказский союзный комитет и тифлисскую организацию. Были арестованы многие члены комитета и активные партийные работники. Охранка праздновала победу. Однако из ссылки вернулся И. В. Сталин, из-за границы — С. Шаумян; приехал из России видный большевик В. Бобровский. Работа вновь оживилась. В марте 1905 года Цхакая в качестве делегата III съезда РСДРП выехал в Лондон. Заграничный паспорт ему достал знаменитый Камо. На съезде Цхакая впервые встретился с В. И. Лениным. Накануне первого заседания Владимир Ильич, обращаясь к нему, сказал, что Миха, как старейший делегат, должен открыть съезд. — Что вы, Владимир Ильич, — смутился Цхакая, — это право принадлежит только вам. Но Ильич стоял на своем: — Отказываться никак нельзя, товарищ Миха. 25 апреля 1905 года Миха Цхакая, выступавший под фамилией Барсов, открыл III съезд РСДРП — первый большевистский съезд. Ленин полюбил энергичного и смелого грузинского коммуниста. Вместе с Цхакая он посетил Британский музей, съездил на могилу К. Маркса. Уезжали из Лондона также вместе. На французской границе в вагон вошел полицейский комиссар, которого сопровождал русский шпик. Они долго рылись в вещах и наткнулись на связки папок в чемодане Цхакая. В них были материалы и протоколы съезда. Представитель охранки попытался рассмотреть бумаги, однако Ленин резко напомнил ему, что согласно законам Французской республики рукописи таможенному осмотру не подлежат. Полицейские ушли ни с чем. Владимир Ильич пригласил Цхакая к себе в Женеву. Несколько дней они жили в Париже. Ленин показывал грузинскому другу город, водил по историческим местам. В Женеве Цхакая присутствовал на собрании, где выступали Ленин и Мартов. Последний объявил лондонский съезд «незаконным» и подчеркнул, что в Грузии также возмущены незаконностью съезда. По-видимому, Мартов имел в виду грузинских меньшевиков. По приезде на родину Цхакая выступил со статьей в газете «Борьба пролетариата», где отстаивал позицию Ленина. В Тифлисе он узнал, что в Кутаисе умирает Цулукидзе, и тотчас выехал туда. Вид старого друга поразил Миха. Цулукидзе лежал недвижимо, дышал тяжело. Видно было, что на этот раз ему не подняться. Цхакая присел на постель Саши. — Расскажи о съезде, — шепотом попросил Цулукидзе. После рассказа Цхакая Цулукидзе открыл глаза и сказал: — Все равно идея победит. Вскоре он умер. Похороны Цулукидзе в Хони превратились в мощную демонстрацию. С речью выступил И. В. Сталин. Тысячи людей присутствовали на митинге, после которого с развернутыми траурными знаменами вернулись в Кутаис.
* * *
В боевые дни 1905 года Цхакая приехал в Петербург. На состоявшемся 13 октября заседании Совета рабочих депутатов его ввели в Совет как представителя от Кавказа. Он участвовал в издании первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». Затем был вызван Кавказским союзным комитетом в Баку. Вместе с П. Джапаридзе, И. Монтиным и другими большевиками он создает Бакинский Совет рабочих депутатов. В апреле 1907 года Цхакая снова в Лондоне, на V съезде РСДРП. Его избирают в редакционную комиссию. События пятого года, постоянные преследования полиции подорвали здоровье Цхакая. Он заболел. Владимир Ильич настойчиво советовал ему пожить в Швейцарии. В 1908 году Ленин достал ему паспорт на имя таммерфорсского художника Гуго Антона Рикканена, и Цхакая поселился в Женеве. Несмотря на болезнь, он сразу включился в работу. В то же время в Швейцарии проживало большое количество русских эмигрантов. Миха основал большевистскую группу под названием «Идейная группа большевиков». В нее входили все находившиеся в Женеве большевики. Вскоре в Женеву приехали Ленин и Крупская. Вспоминая об этом периоде, Надежда Константиновна писала: «Из товарищей в это время в Женеве жили Миха Цхакая, В. А. Карпинский и Ольга Равич. Миха Цхакая ютился в небольшой комнатушке и с трудом приподнялся с постели, когда мы пришли…»[24] Владимир Ильич и Надежда Константиновна поселились недалеко от Цхакая. Они бывают у него, подолгу беседуют. Оправившись от болезни, Миха выполняет ленинские поручения. Он участвует в издании большевистского органа «Пролетарий», организует доставку газет в Россию, которые затем рассылаются по городам. С 1910 по 1913 год Цхакая заведовал библиотекой, существовавшей в Женеве при столовой русских студентов. В библиотеке была преимущественно политическая литература — труды Маркса, Ленина, Плеханова и других классиков революционного движения. Он много читал, писал, изучал французский язык. Непрерывно держали связь с Цхакая кавказские большевики. «Дорогой Миха, — писал из Баку Степан Шаумян, — я как от своего имени, так и от имени всех других товарищей выражаю тебе, дорогой Миха, благодарность за обстоятельные письма и прошу тебя впредь также писать нам в том же духе, невзирая на нашу недобросовестность в смысле ответов. Не можешь ли прислать к нам одного хорошего работника? Приезжает к нам всякая, извини за выражение, шваль, которая ни к чему, кроме мелких скандалов, не способна. Работа у нас слишком серьезная, требующая много знаний и вдумчивого отношения, на это не всякий способен, а между тем работники крайне необходимы. Ты знаешь, что лучшие наши товарищи изъяты из обращения. Так, если найдется хороший работник, постарайся, пожалуйста, прислать… Жму тебе дружески руку. Степа. Привет всем товарищам. Присланные тобою товарищи оказались все-таки лучше всех других…»[25] Жизнь в эмиграции была нелегкой, не хватало денег. Цхакая часто голодал. «Месяцами живем на хлебе и чае, — писал он товарищам на Кавказ, — как когда-то в тюрьме». Да и не только он был в таком положении. Ильичу порой приходилось также туго. Однажды кто-то из женевских товарищей сообщил Ленину, что Миха голодает и питается сырыми каштанами. На другой день Ильич попросил Надежду Константиновну навестить Цхакая и выяснить, правда ли это. Рано утром Надежда Константиновна явилась без предупреждения к Миха. Тот сидел за столом, что-то писал, и — о ужас! — действительно перед ним лежали блестящие коричневые каштаны. Надежда Константиновна, посмотрев своими добрыми глазами на Миха, кивнула на каштаны и сказала: — Не совестно вам, дорогой Миха, что это такое? Цхакая недоуменно пожал плечами: — Это?.. Каштаны, Надежда Константиновна. — То-то и оно — каштаны. Об этом вчера вечером стало известно Ильичу. Я вас прошу немедленно прийти к нам. Ильич просит вас к себе. Там он все объяснит. Цхакая всегда был рад видеть Ленина, но на этот раз ничего не понимал. Всю дорогу Надежда Константиновна сердито молчала. И это молчание еще больше удивляло Миха. Скоро они вошли в комнату Ленина. Увидев их, Ильич быстро встал со стула и спросил, обращаясь сперва к Надежде Константиновне: — Ну-с, каковы результаты ревизии? — Все правильно, Володя. Товарищи сказали правду. Они там! — ответила Крупская. — Позвольте!.. Владимир Ильич… Надежда Константиновна… Я уверяю вас, что никого у меня не было, — заволновался вконец расстроенный Миха. — А каштаны? — прищурился Владимир Ильич. — Попались, голубчик, конспирация вещь хорошая, но не в таких делах! Когда они объяснили Миха суть дела, он, тронутый их вниманием и взволнованный до слез, сказал: — Дорогие мои Ильич, Надежда Константиновна. Товарищи неправду вам сказали, что я питаюсь сырыми каштанами. Они дикие, их и есть-то нельзя! Просто я собираю каштаны на прогулке, потому что они красивые, — вот они, взгляните: приятно держать в руке, перебирать в кармане, когда о чем-нибудь задумаешься. Ильич сразу понял, что «попался» на этот раз сам, и расхохотался заразительно, как умел только он. — Ну, бог с ними, не обижайтесь на нас, все равно мы угостим вас чаем. Но вскоре разговор между Лениным и Миха принял серьезный характер.
Следует сказать, что у Цхакая в это время впервые появились разногласия с ленинской линией. Новая тактика партии требовала сочетания легальной и нелегальной работы. Многие товарищи отрицали использование возможностей легальной борьбы. Среди них были уважаемые члены партии: например, А. Луначарский и А. Богданов. Они требовали отозвать партийных депутатов из Государственной думы, за что их стали называть «отзовисты». Владимир Ильич резко выступал против «отзовизма» и «отзовистов». Цхакая говорил, что ом тоже против «отзовизма», но защищает «отзовистов» персонально, так как они нужные и полезные работники. — Поймите, Миха, — сказал ему Ленин, — мы не должны либеральничать. Если люди выступают против линии партии, они не могут быть хорошими партийными работниками, хотя бы на данном этапе. Конечно, Миха вскоре понял свою ошибку. Владимир Ильич переехал в Берн. Оттуда он регулярно пишет Цхакая. Справляется о делах, о здоровье, дает советы и поручения. Весной 1916 года Цхакая получил письмо от Надежды Константиновны. Она сообщала, что Ильич находится в Лозанне, но скоро приедет в Женеву, где прочтет реферат о международном положении. «Владимир Ильич очень хочет видеть вас», — добавляет Надежда Константиновна. Беседу устроили в одном из женевских кафе. Народу пришло много, причем самого разнородного. Ленин резко критиковал позицию присутствующих на докладе меньшевиков-оборонцев. После доклада состоялась дискуссия. Ильич вышел из кафе расстроенный. — Как эти люди не хотят ничего понимать! — говорил он Цхакая и Мелитону Филия, товарищу, бежавшему из далекой Грузии прямо из зала суда. — Что делать, — сказал Миха, — у них уже нет ничего общего с марксизмом… Бог с ними, — прервал его Владимир Ильич и неожиданно предложил: — Давайте прогуляемся по берегу Арвы. Нужно немного отдышаться. Они направились на набережную. Ночная река была очень красива. Вышла луна. Вода переливалась, играла. На волны легла серебристая дорожка. От нее веяло чем-то мирным, домашним… Вдруг Ильич положил руку на плечо Цхакая. — Ну, когда же, товарищ Миха, прорвется… совершится? — задумчиво спросил он. — Через год, Владимир Ильич, — улыбнулся Цхакая, — ровно через год! Ленин взглянул на него в упор, обнял и сказал: — Дорогой Миха, люблю я вас за ваш здоровый оптимизм!.. Постояв немного на берегу, они вернулись домой.
Шла мировая война. Связь с товарищами из России была прервана. Вести оттуда приходили противоречивые и нерегулярные. Владимир Ильич нервничал. Он, несомненно, чувствовал, что обстановка на родине накалена до предела, и мучался, что не может быть там. Как-то в конце февраля 1917 года Михаил Григорьевич вернулся домой с прогулки. В почтовом ящике лежала открытка. Он достал ее и пробежал глазами: «Дорогой Миха, свершилось… прорвалось… поздравляю с революцией в России… Я готовлюсь в путь-дорогу. Укладываю чемоданы. Значит едем? Ваш Ленин». У Цхакая забилось сердце. Он присел к столу и тут же набросал ответ: «Дорогой Ильич. Поздравляю также. Мои чемоданы уложены год назад. Вдвойне рад, что мой оптимизм оправдался. Конечно, едем. Ваш Миха». Вечером в кафе собралась русская колония. Люди поздравляли друг друга. У многих на глазах выступили слезы. Устроили митинг. Председателем, как старейшего, выбрали Миха Цхакая. 24 марта 1917 года В. Карпинский принес Миха ленинскую телеграмму: «Уезжаем завтра в полдень. Приезжайте. Все расходы для Миха будут оплачены». Вскоре Миха выехал в Берн, а оттуда вместе с Лениным и тридцатью другими товарищами в Россию. Их встретил кипящий Петроград. Февральская революция уничтожила царизм, но буржуазия оставалась у власти. Партия готовилась к решающим боям. Состоялась Апрельская конференция РСДРП, на которой были обсуждены Апрельские тезисы Ленина. Цхакая получил направление в Грузию. Грузинские товарищи тепло встретили его. На вокзал пришли представители Тифлисского комитета и рабочие. В газете «Кавказский рабочий» была помещена статья «Приезд товарища Миха Цхакая». 14 мая 1917 года он выступил на общегородском собрании большевиков Тифлиса с докладом «Об итогах Апрельской конференции». Тифлисский комитет РСДРП (б) решил создать в городской думе свою фракцию, руководить которой поручили Цхакая. На первом заседании он зачитал Декларацию фракции большевиков, которая призывала всех пролетариев бороться под красным знаменем большевизма. В августе 1917 года VI партийный съезд РСДРП (б) принял постановление учредить молодежную организацию. В Грузии во главе этого важного движения встал Цхакая. В помощь ему находящимся в то время в Тифлисе С. Шаумяном был рекомендован молодой большевик Анастас Иванович Микоян. Вместе с Микояном и Борисом Дзнеладзе Цхакая создал первую большевистскую молодежную организацию в Грузии под названием «Спартак» — предшественницу комсомола. Перед событиями октября 1917 года Цхакая приехал в Петроград. Он участвовал в знаменитом заседании ЦК партии, на котором обсуждалось начало вооруженного восстания. Цхакая энергично поддержал ленинскую идею переворота. Известие о Великой Октябрьской революции застало Цхакая в Тифлисе. Он выступил перед рабочими, разъяснив цели и задачи петроградских событий. Вскоре меньшевистское правительство Грузии окончательно стало на путь предательства революции. Закрываются большевистские газеты, запрещается деятельность партийных организаций. Партия уходит в подполье. С горечью вспомнил Миха Цхакая слова своего старого друга Эгнате Ниношвили, который в девяностых годах как-то сказал о Жордания: «…если он не станет нашим, то из него выйдет величайший негодяй». В июне 1919 года Цхакая арестовали. Почти год он провел в тюрьме, с трудом поддерживая связь с внешним миром. В конце апреля 1920 года он выходит на волю, но 1 мая его опять арестовывают. Когда заключенные кутаисской тюрьмы узнали о вторичном аресте Цхакая, они заставили тюремную администрацию открыть все камеры и устроили митинг. Арестованные встретили Цхакая пением «Интернационала», принесли стол и попросили Михаила Григорьевича выступить. Узнав от Серго Орджоникидзе о втором аресте Цхакая, Владимир Ильич направил меньшевикам резкий протест. В июле 1920 года Миха выехал в Москву как делегат II конгресса Коминтерна.
* * *
В феврале 1921 года в Грузии окончательно победила советская власть. Восставший народ с помощью Красной Армии свергнул меньшевистское правительство. 23 января 1922 года открылся I съезд Компартии Грузии. Вместе с Лениным, Сталиным, Кировым и Наримановым Миха Цхакая избирается почетным председателем съезда. Михаил Григорьевич жил тогда в Москве, работая полномочным представителем Грузии при правительстве Российской Федерации. Он часто встречался с В. И. Лениным. В январе 1923 года Цхакая открыл I сессию Закавказского центрального исполнительного комитета, на которой его избрали членом президиума и одним из его председателей. С 1923 по 1930 год Цхакая снова в Грузии. Он ведет большую работу в ЦИКе ЗСФСР, участвует в работе Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, работает в ЦК Компартии Грузии. Быстрыми темпами развивается народное хозяйство республики. Строятся новые заводы и фабрики, восстанавливаются старые предприятия. Цхакая в гуще дел. По ленинскому плану электрификации страны в Закавказье намечено создать мощную электростанцию ЗАГЭС. Вместе с Серго Орджоникидзе, Филиппом Махарадзе и другими грузинскими большевиками Цхакая выехал в район строительства. Здесь он принял деятельное участие в работе: руководил сооружением канала для отвода Куры, организовывал коммунистические субботники, во время которых, несмотря на преклонный возраст, трудился наравне со всеми. Его энтузиазм служил примером для молодежи. ЗАГЭС была построена в рекордные сроки… 21 января 1924 года телеграф принес тяжелую весть… Кончина Ленина, с которым Цхакая был связан долголетней партийной работой и которого он близко знал лично, потрясла Миха. На траурном заседании, с трудом подыскивая слова, осунувшийся и разом постаревший Цхакая говорил: «Кончина человека, который создал нашу партию и в течение 30 лет с исключительной способностью руководил рабочим движением, всех безгранично удручает. Эта скорбь беспредельна. Теперь наша надежда лишь в том, чтобы мы с помощью оставленного Лениным учения могли выковать прекрасное будущее трудового народа…» Несмотря на то, что кавказские народы получили полную свободу, еще очень сильны были на Кавказе пережитки прошлого. Забитость, малограмотность, религиозность — все это тормозило развитие некоторых отсталых районов республики. Так, например, в Аджарии многие женщины по-прежнему должны были носить чадру и фактически не пользовались равными правами с мужчинами. По заданию партии Цхакая направился в горы Аджарии для проведения массовой работы в районе Хуло. Здесь было особенно трудно: аджарцы-мусульмане поддерживали советскую власть, но свято хранили старые законы и порядки внутри своих общин. К вечеру Михаил Григорьевич, сопровождаемый лишь секретарем, приехал в селение Хуло. Он попросил собрать митинг, на который пришли бы и женщины. Крестьяне слушали его речь сначала недоверчиво, но Миха, старейший пропагандист, убеленный сединами, говорил так ясно и доходчиво, что постепенно лица их светлели. Простыми словами разъяснял Цхакая сущность религии, а под конец воскликнул: «Ну, кто же здесь самый смелый? Кто не побоится освободить свою жену от чадры прямо сейчас?» Крестьяне молчали. В их душах шла мучительная борьба. Столкнулось старое, вековое и то новое, о чем так смело говорил Цхакая. Особенно внимательно слушал Миха старик аджарец. С детских лет внушали ему, что женщина не ровня с мужчиной. «Женское лицо должно быть скрыто чадрой!» — так гласил закон мусульман. Но с трибуны такой же старик, как и он, говорил совершенно иное, говорил ясно, красиво и убедительно. А старики не лгут — это грузинская поговорка. «Правду говорит этот человек», — решил аджарец. Крестьяне все еще колебались, и вдруг старик мусульманин торжественно снял чадру с лица жены. Радостные возгласы раздались в ночной тишине. Был разложен большой костер, на котором крестьяне сожгли не только эту чадру, но и остальные, имевшиеся в селении… Активно участвовал Цхакая в таком важном деле, как постройка железной дороги по Черноморскому побережью, непосредственно связавшей Тбилиси с Москвой. Надо сказать, что против этого строительства, предложенного грузинскими коммунистами, выступил один из лидеров правых уклонистов. — Мы еще очень слабы, — сказал он, — чтобы создавать такие вещи, а потом не исключено, что все это может достаться врагу! Цхакая, приехавший в Москву с проектом сооружения дороги, резко возразил ему на заседании, посвященном этому вопросу. Смысл его выступления состоял в том, что коммунист не имеет права бояться врага. ЦК партии поддержал Цхакая. Дорогу начали сооружать, и время показало правильность этого решения. В 1931 году Цхакая переходит на работу в руководящие органы Коминтерна. Он трудится рука об руку с выдающимися деятелями рабочего движения: Вильгельмом Пиком, Георгием Димитровым, Пальмиро Тольятти, Долорес Ибаррури. Его выбирают в Верховный Совет СССР. В январе 1938 года как старейший депутат он открывает сессию. «Я горячо желаю, — сказал Цхакая в своей речи, — чтобы мы с вами никогда не забывали, что мы — депутаты Верховного Совета — только слуги народа, пославшего нас. Проводя наказ народа, мы всегда вдохновляемся лучезарным образом великого Ленина…» Много сил и энергии отдал Цхакая для победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. До конца своей долгой жизни остался он верным ленинцем, убежденным коммунистом. Цхакая умер в Москве 19 марта 1950 года… Москвичи скорбно провожали в последний путь старейшего революционера-большевика, друга Ленина. Прах Цхакая был привезен в Тбилиси. Вся Грузия в трауре встречала его. Народ похоронил своего любимого Миха в Пантеоне, на горе Мтацминда, где покоятся великий русский писатель А. Грибоедов, И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Пшавела, Н. Николадзе, Ф. Махарадзе и другие виднейшие деятели Грузии…
И. Лисашвили ЛАДО КЕЦХОВЕЛИ

Была морозная ночь. Шел снег. Все вокруг — домишки, деревья, поля и горы — покрылось пушистыми белыми хлопьями. Лишь изредка деревенская тишина нарушалась лаем собак. В эту ночь, на второй день рождества 1876 года, в горийском селении Тли родился Ладо Захарьевич Кецховели. Картли. Благодатная земля, щедрая солнечная долина, окутанные туманом горные склоны, а над ними вдали — вечные снега седого Кавказа. Здесь, в селении Тквиави, прошло детство Ладо. Шестилетним ребенком он познакомился с соседом, слепым стариком Зурабом. Старик был очень одинок, жил он в убогой землянке. Единственной его радостью были воспоминания боевой молодости. Зураб рассказывал о борьбе против Шамиля, о славных подвигах народного героя Арсена Марабдели. Ладо очень нравились рассказы Зураба. Перед его глазами вставали суровые скалы Дагестана, бои в Ичкерском ущелье, смелые вылазки и набеги. Особенно интересными были легенды об Арсене. Простой батрак, верный защитник угнетенных, Арсен сделался вскоре любимым героем Кецховели. Но недолгая дружба Ладо и Зураба трагически оборвалась. Во время набега на селение казаки убили старика. Ладо, видевший смерть Зураба, от потрясения заболел. Шло время. Ладо отдали в Горийское духовное училище. С замирающим сердцем вошел мальчик в двери школьного здания. Отец, приехавший с ним, посадил Ладо на стул и вышел. Ладо огляделся. Большая приемная, на стенах портреты незнакомых людей в орденах и лентах. «Самые большие начальники», — подумал Ладо. Отец вернулся в сопровождении смуглого бородатого человека. — Вот твой учитель, — сказал отец, — Софром Мгалоблишвили. — Здравствуй, малыш, — приветливо улыбнулся Софром, — не печалься, у нас тебе будет хорошо. Софром Мгалоблишвили стал первым учителем и старшим другом Кецховели. Он познакомил Ладо с произведениями замечательных писателей Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшадела и Александра Казбеги. В училище Ладо подружился с Мишо Давиташвили и Сосо Джугашвили. Они вместе с увлечением читали, гуляли, делились радостями и неудачами. А со временем Ладо и его друзья стали издавать рукописный журнал «Гантиади» («Рассвет»). Журнал, в котором критиковались порядки в училище и высмеивались преподаватели-реакционеры, пользовался большим успехом у учеников. Но дирекции стало известно, что одним из редакторов «Гантиади» является Кецховели. Именно поэтому, хотя Ладо и был первым учеником, по поведению ему вывели двойку и оставили еще на год в училище. Невесело прощался Ладо с товарищами, которые уезжали в Тбилиси для продолжения учебы. Только через год, окончив духовное училище в Гори, он поступил в Тифлисскую духовную семинарию. Когда-то старший брат рассказывал Ладо о Марксе и марксизме. Немного позже Ладо присутствовал на подпольном собрании народников, где критиковали марксизм и книгу Маркса «Капитал». На этом собрании выступал Софром Мгалоблишвили. Выступление преподавателя, которого Ладо очень уважал, на этот раз не удовлетворило его. Ладо был расстроен. Ему хотелось узнать марксизм поближе. И вот в Тифлисской семинарии он познакомился с членами марксистского кружка, руководимого Эгнате Ниношвили и Миха Цхакая. В кружке изучались произведения Белинского, Чернышевского, Герцена, Писарева. На первом же занятии Ладо спросил о «Капитале» у Ниношвили. Эгнате усмехнулся и сказал: — До «Капитала» тебе, товарищ, еще далеко, прочти пока «Коммунистический манифест» и Плеханова. И Ладо засел за книги. Учиться было трудно. В комнатах семинаристов устраивались непрерывные обыски. Однако Ладо занимался с увлечением. Он стал принимать самое деятельное участие в жизни семинарии, участвовал в выпуске журнала, а когда семинаристы объявили забастовку, написал клятву, которая кончалась словами: «Все за одного, и один за всех». Забастовка была хорошо подготовлена. Весть о ней прокатилась по всей Грузии, о ней стало известно даже в далеком Петербурге. Семинарию временно закрыли, а Ладо вместе с восемьюдесятью семью товарищами исключили с «волчьим билетом». Ладо хотел остаться в Тифлисе, надеясь продолжать занятия в марксистском кружке, но по приказу жандармского управления ему запретили жить в городе. Он был вынужден вернуться в родную деревню. Только в июне 1894 года синод разрешил ему поступить в Киевскую семинарию… И вот уже третий день мчится поезд, и нет конца степям. Утро солнечное, на траве сверкает роса. Поля отливают золотом. Как быстро мчится поезд! А дороге нет конца. Бегут назад, словно в испуге, деревья, поля, дома и телеграфные столбы… Ладо зачислили слушателем третьего курса Киевской семинарии. Здесь он связался с многими известными марксистами, которые в то время руководили в Киеве социал-демократическими кружками, забастовками рабочих, политическими демонстрациями студентов Киевского университета. Революционная деятельность Ладо не укрылась от наставников семинарии. За каждым его шагом следили. 18 марта 1896 года семинарские инспектора устроили обыск в квартире Ладо. Не обнаружив ничего подозрительного, они неожиданно через полчаса снова ворвались в комнату. На этот раз им удалось найти три политические рукописи, что и послужило поводом для исключения Ладо из семинарии. Вскоре Кецховели был впервые арестован. 12 апреля начальник киевской тюрьмы сообщал в управление губернской жандармерии Киева, что Ладо Кецховели, как политический заключенный, содержится в одиночной камере.
Солнечный луч проник в решетчатое окно узкой, как гроб, камеры. На лавке лежал Ладо. Накануне он всю ночь не мог заснуть. Он знал, что тюрьма неизбежно встретится на его пути, знал, что немалая часть его жизни пройдет в тюремной камере. Но одно дело — знать что-либо, а другое — пережить. Ладо забылся только на заре… В коридоре раздался мерный стук шагов. Шаги затихли у дверей камеры. Загремели ключи, и дверь открылась. — Встаньте. Ладо встал. — Следуйте за мной! — приказал надзиратель. Они вошли в большую светлую комнату. За столом сидел жандармский ротмистр Бойков. Он приступил к допросу. На первые вопросы Ладо дал точные ответы. Но вот Бойков открыл ящик стола и выложил на стол рукописи и брошюры. — Это как будто ваши вещи? Что вы на это скажете? Ладо слегка побледнел: литература, забранная у него инспекторами, очутилась у жандармов. — А это, знаете ли, господин ротмистр… Единственная моя вина заключается в том, что я переписал эти брошюры. — А кто вам дал их? — В здании университета святого Владимира на передвижной выставке встретился мне человек, назвавшийся Петром Александровичем. Он и передал мне все эти брошюры, кроме «Дела дочери капитана», которую я купил в Тифлисе у торговца. — Вам, значит, пришлись по душе содержащиеся в них мысли и вы их переписали? — оказал Бойков. Он выдвинул ящик стола и положил перед Ладо знакомые ему лондонские «Летучие листки». — Это вы тоже получили от Петра Александровича? Ладо спокойно ответил: — Конечно, господин ротмистр. И в тот же день… Бойков взорвался. Он стукнул кулаком по столу. — Мы вас задушим! Раздавим! В Сибири сгноим! — кричал он. Потом жандарм позвал полицейского и приказал ему отвести арестанта в прежнюю камеру. «Ничего, — подумал Ладо, — всех не сгноите!»
22 июня 1896 года Кецховели выслали из Киева в родное село Тквиави. Раз в неделю он был обязан являться в полицию. Находясь под полицейским надзором, Ладо не терял времени даром. Он устанавливал связи с крестьянами, организовывал кружки, проводил беседы. Вскоре он стал пользоваться в округе таким авторитетом у крестьян, что через некоторое время его назначили секретарем старосты в деревне Джава. Летом 1897 года он тайно приехал в Тифлис, где стал членом «Месаме-даси». В то время в «Месаме-даси» шла ожесточенная борьба между оппортунистами, возглавляемыми Ноем Жордания, и революционным крылом во главе с А. Цулукидзе, И. Сталиным и Ф. Махарадзе. Н. Жордания и его сторонники стояли только за легальные методы работы, отказывались, в частности, выпускать подпольную газету. Л. Кецховели сразу стал на сторону революционного крыла. — Нам нужна печать, где бы мы могли говорить все, — так высказался Ладо. Кецховели устроился наборщиком в типографию Еквтима Хеладзе. Здесь ему удалось напечатать несколько революционных брошюр и прокламаций. В 1899 году под руководством Сталина и Кецховели в отдаленном районе Тифлиса Грма-геле устраивается первомайская демонстрация, на которой с пламенной речью выступил Ладо. В том же году вместе со Сталиным и Цулукидзе он создавал рабочие кружки вжелезнодорожных мастерских и на предприятиях. 1 января 1900 года под руководством Ладо была проведена забастовка трамвайных рабочих, которая закончилась победой бастующих. Дальнейшее пребывание Ладо в Тифлисе стало опасным. Полиция и жандармерия, хорошо осведомленные о деятельности Кецховели, усиленно искали его. По совету Сталина и Цулукидзе он решил переехать в Баку, надеясь организовать там нелегальную типографию. Это решение было одобрено Тифлисским комитетом социал-демократической партии. И вот в январе 1900 года Ладо уезжает в Баку. Баку — город нефти, огромных заводов, мастерских… Здесь была социал-демократическая организация, и Ладо сразу связался с ней. Через рабочего Ибрагимова он познакомился с Л. Б. Красиным. Работа закипела, однако Красин вскоре был арестован. Полиция напала и на след Кецховели, но он, выехав на некоторое время, снова вернулся в Баку и продолжал революционную работу. Во время одной из поездок в Тифлис Кецховели встретился с русским большевиком Виктором Курнатовским, который рассказал ему о Ленине. На квартире одного из приятелей Курнатовского собрались Вано Стуруа, Сосо Джугашвили, Ладо Кецховели. Позднее пришел Михаил Иванович Калинин, в то время рабочий Тифлисских железнодорожных мастерских. Курнатовский побывал с Владимиром Ильичем в сибирской ссылке. — Из Сибири я направился сюда, а Ленин уехал за границу. Там он собирался наладить издание большого политического органа партии, — рассказывал Виктор Константинович. Узнав о делах в Баку, Курнатовский посоветовал Кецховели скрыться на время в каком-нибудь захолустье. Ладо направился во Владикавказ, а оттуда в Киев. Не простое дело — создать типографию, когда за тобой непрерывно следят, когда по три раза в месяц надо менять местожительство. Кроме того, нужны помещение, деньги, типографские машины, бумага. Ладо надеялся на помощь киевских друзей, однако его ждало разочарование. В Киеве он никого не застал: кто был выслан, кто сидел в тюрьме, кто отошел от революционной деятельности. Расстроенный возвращался Кецховели в Баку. И вот снова сероватые волны Каспия, далекие нефтяные вышки, по-восточному шумные улицы большого города. Ладо разыскал товарищей. На совещании членов бакинской социал-демократической организации речь шла о создании типографии. — Деньги от тифлисской организации мы получили. Нужен станок, — сказал Ладо. — Джугашвили обещал прислать также одного наборщика со шрифтом. Но станок трудно достать, для этого требуется разрешение на открытие типографии. Кецховели предвидел эти трудности. Он запасся когда-то бланками с подписью елизаветпольского губернатора, и теперь эти бланки пригодились. Разрешение было изготовлено. Через некоторое время в магазине Кецховели закупил части типографской машины и доставил в помещение типографии. Все для выпуска газеты было подготовлено.
Наступил сентябрь 1901 года. Впервые после летней жары вздохнул полной грудью город нефти. Усилился ветер, глухо волновалось Каспийское море. Вздымались волны, вскипали молочной пеной, набегали на плывущие суда, то высоко вскидывая их, то грозя похоронить их в пучине. В комнате с наглухо закрытыми ставнями, за столом, освещенным керосиновой лампой, сидел Ладо. На столе и на тахте были разбросаны обрезки бумаги, куски свинца и ящики с красками. Ладо писал. Его брат Григола и рабочий Сико наблюдали за ним. Временами Ладо устремлял взгляд на железный брус, лежащий в углу, и его глубоко запавшие глаза загорались. Кончив писать, он взял корректуру газетных статей и вышел в соседнюю комнату, откуда доносился стук типографской машины. Ладо подошел к маленькому тщедушному человеку, с трудом ворочавшему колесо машины, и передал ему листки корректуры. — Это последний кусок. Они заверстали полосу. — Ладо, отдохни немного, — сказал Сико, сам едва стоявший на ногах. — Нет, сначала отдохни ты. — Ни за что! — рассердился Сико, но Ладо взял его за плечи и насильно уложил на тахте в соседней комнате. Сико мгновенно уснул. Ладо укрыл его своим пальто и вернулся к машине. — Правда, Ладо, поспи хоть часок, — сказал ему Григола. — Ты же знаешь, я с машиной справлюсь лучше тебя. Послушай меня, отдохни. Я отпечатаю полосы и разбужу тебя. — Ага, ты, значит, считаешь, что я плохо справляюсь со станком? Не доверяешь мне? Эх, ты! И Ладо ушел в соседнюю комнату. Здесь он опустился на тахту, решив, однако, не засыпать. Спать, когда близится час торжества, завоеванный с таким трудом?! «Нет, теперь не до сна», — думал он, но веки его сомкнулись сами собой. Григола бодрствовал один в первой нелегальной типографии, где сегодня рождался первый номер нелегальной газеты. Юноша подошел к машине. Ну вот, последний поворот колеса, и первый номер «Брдзолы» появился на свет. Григола остановился. Допустимо ли, чтобы при этом не присутствовал «отец» газеты, сам Ладо? И Григола тихо вышел в соседнюю комнату. Товарищи спали глубоким сном. Григола слегка приоткрыл ставни и выглянул в окно. Величественный рассвет вставал над Каспием, как бы приветствуя рождение «Брдзолы». — Проснись, братец! Что с тобой? Вот разоспался! Вставай, говорю! — стал Григола трясти Сико за плечо. — Что случилось? — воскликнул, очнувшись, Сико. — Все готово! — ответил Григола. — Неужели? — радостно спросил Сико и робко оглянулся на спящего Ладо. — Что же теперь делать? Не будить же его! — Я дал ему слово, что разбужу, — сказал Григола. Но разбудить Ладо он все-таки не решился и шепнул товарищу: — Мы должны беречь его, иначе он погибнет. Три ночи сряду глаз не смыкал, все только нас уговаривал отдохнуть… — Нас двое, неужто не справимся сами? Хватит с него писания статей и правки! А кроме того, где он только не бывает и чего только не делает! Да взять только одни прокламации и брошюры, которые он пишет! Какой у него светлый ум! Да много ли у нас таких, как он? — И все-таки, — отозвался Григола, — слово я не могу нарушить. Григола положил руку на плечо Ладо. Тот мгновенно раскрыл глаза. — Готово! Тебя только ждем! — воскликнул Григола. — Шутишь! — Еще минута, и «Брдзола» появится на свет. Ладо встал, пристально посмотрел на Сико. — Запомни, Сико, этот день и час! На дворе, верно, еще мрак, какому и подобает быть в царстве самодержавия. — Нет, уже светло, как на страницах «Брдзолы». Светает, — ответил Григола. Друзья встали у станка. Григола поставил ногу на рычал, Сико повернул колесо, и машина загремела. «Брдзола», как птица, взлетела с клекотом над железным станом машины. Ладо подхватил эту диковинную птицу. Сико и Григола подошли к Ладо и взглянули с улыбкой на раскрытый номер газеты. Ладо долго разглядывал ее страницы. Казалось, в его глазах отражался отсвет зари. Ладо очнулся, оглянулся на стоящих рядом товарищей. — Разве «Брдзола» не вашей кровью создана, друзья? — сказал Ладо, бережно кладя газету на стол. — Вы не щадили собственной жизни, чтобы она могла появиться на свет! — И Ладо с жаром расцеловал товарищей. Затем он достал из ящика бутылку кахетинского. — Где ты ее раздобыл, Ладо? — удивился Григола. — Я припас её ко дню рождения «Брдзолы». Кахетинское вино напомнит нам о Грузии. И Ладо наполнил вином три стакана. — Возьмите, друзья! Выпьем за долголетие «Брдзолы»! — Да здравствует святое дело, которому служит «Брдзола»! Друзья чокнулись и осушили стаканы. Потом Григола снова подошел к машине, и со станка полетели новые листы газеты.
Ладо получил письмо от Надежды Константиновны Крупской. В нем говорилось о плане Владимира Ильича перепечатывать «Искру» в бакинской типографии. Ладо поддерживал эту ленинскую идею. В октябре поступили первые матрицы «Искры», полученные из-за границы. Одновременно в типографии печатались прокламации и брошюры на русском, грузинском и армянском языках. Бакинскую типографию закавказские большевики назвали «Ниной», а Владимир Ильич писал Кецховели, что он является «отцом Нины». Жандармерия получила сведения о существовании в Баку нелегальной типографии, и Ладо сообщил об этом Ленину. Владимир Ильич посоветовал ему с помощью самарского товарища Г. Кржижановского перевезти типографию в Самару. Но Ладо не нашел Г. Кржижановского в Самаре и был вынужден вернуться в Баку. В августе 1902 года все же удалось перенести типографию в другое помещение, но 2 сентября Ладо был схвачен полицией. Бакинская партийная организация и рабочие нелегальной типографии были ошеломлены арестом Ладо. Они решили во что бы то ни стало устроить ему побег из тюрьмы. Этот слух дошел до бакинской жандармерии. Во избежание неприятностей Ладо перевезли в Тифлис и посадили в одиночную камеру Метехского замка. Однако это ему не помешало установить связь с товарищами, которые находились на свободе. В этой же тюрьме находился Виктор Курнатовский. Отсюда они сообщали свое мнение о многих политических вопросах. И в тюрьме Ладо остался таким же беспокойным, как на воле. Он и здесь организовал забастовку. Заключенные выломали двери камер и с криком «Долой самодержавие!» вырвались в коридор. Ладо от имени заключенных потребовал от тюремной администрации запрещения физической расправы и разрешения на похороны убитых или умерших узников. Заключенные не возвращались в свои камеры, пока не добились обещания от администрации. Жандармской управление пришло в ярость и решило любой ценой избавиться от «буйного арестанта». Ротмистр Рунич докладывал начальнику тифлисского жандармского управления: «Хорошо было бы избавиться от Кецховели. Следствием установлено серьезное значение его революционной деятельности. В случае ссылки он постарается скрыться за границей и своими крайними взглядами в будущем причинит нам немало вреда». Началось нескончаемое следствие. Полицейские читали протоколы и удивлялись необычайной смелости, уму и изворотливости этого человека. Директор департамента полиции и его заместитель сидели, запершись в кабинете, и просматривали доклад о деятельности Кецховели. В особо примечательных местах директора начинал душить кашель. — Поразительно! Поразительно! — восклицал он, мигая дряблыми веками и ероша седые бакенбарды. Заместитель прочитал длинный список вещей и документов, обнаруженных при аресте Кецховели. — «Шифр русско-французской азбуки, цифровой шифр, оставшийся нераскрытым и в котором имеется запись; «№ 31КВ50П. Солом маша». Лист бумаги, на котором по-русски значится: «Лист 31 КВБОЕ №Л Ал. Лек. Солом маша». Государственная печать, заграничный паспорт на имя Альфреда Бастиана Иосифа, художника, с брюссельской печатью и за подписью губернатора Вробана, чистый паспортный бланк…..прокламация «К 14 женщинам», в которой описывается положение женщин на фабрике Тагиева. Кроме того, арестанту Кецховели было прислано в Метехи зашифрованное письмо, расшифровать которое не удалось». Черт знает что! — воскликнул в полном замешательстве директор. — Далеко же он пустил корни! Да, да, личность весьма опасная! Кто знает, на каком языке все это написано? — Вы думаете, он в тюрьме угомонился? — отвечал заместитель. — Не успел он появиться в Метехи, как там все ходуном заходило. Арестанты обнаглели до того, что ломают койки, шумят, поют «Интернационал». Он установил особую систему общения с арестантами посредством перестукивания. Во время допросов держит себя вызывающе. Сила в нем необычайная, невозможно ни утомить его, ни сбить в показаниях. Он умудряется даже руководить находящимися на воле товарищами. Все мероприятия тюремного начальника высмеиваются. Арестанты шагу не хотят ступить без ведома Кецховели. Несколько человек, случайно попавших в тюрьму и вполне подчинившихся тюремному режиму, подверглись преследованиям со стороны арестантов. Их высмеивали, плевали им в лицо. Мы удалили этих невольных виновников возмущения, и теперь в Метехи царят, так сказать, «порядки», заведенные распоясавшимися арестантами. Главный среди них — Кецховели. С ним об руку идут Курчатовский, Чодришвили, Франчески и подобные им. Что с ними делать, ваше высокоблагородие? Этот смутьян, как прозвала его тюремная администрация, никогда не утихомирится… — Что значит не утихомирится? — гневно воскликнул директор. — Мы заставим его угомониться! Или, вы думаете, у нас не хватит силы навести порядок в тюрьме и привести к покорности одного арестанта? — Администрация очень старается, но пока что… Тюремная администрация и жандармское управление не успокаивались. Жандармы по-прежнему хотели избавиться от него. И в конце концов пришли к решению… Утренний луч упал на железные решетки тюремного окна. Занимался рассвет 17 августа 1903 года. Могильная тишина царила в замке. Сколько таких рассветов встречал злосчастный Метехи! Из дверей караульного помещения высунулся офицер. — Дергилев! Ко мне! — крикнул он. Подбежал краснолицый солдат и молча вытянулся перед офицером. — Пойдешь за мной! Оба остановились у одного из корпусов тюрьмы. Офицер снял с поста стоявшего здесь часового. Потом тихо сказал Дергилеву: — Ты отвечаешь! Будь молодцом! Дергилев покорно проговорил: — Слушаюсь! Офицер спрятался за углом и стал наблюдать за солдатом, а Дергилев смотрел, не отрываясь, на одно из окон второго этажа. Ладо Кецховели не спал всю ночь. Он слышал голоса товарищей, которых в тот день отправляли в ссылку. Среди них были старики, которые наверняка не доберутся до Сибири, и об их печальной судьбе думал Ладо. И вот, усталый от бессонницы, он встал. Сквозь железную решетку маленького оконца он увидел новых узников. Среди них были его соседи-односельчане. Ладо привлек их к революционной деятельности, а сейчас все они были арестованы. Ладо не выдержал и крикнул: «Да здравствует революция!» В это время раздался выстрел… Это выстрелил солдат Дергилев. Весть об убийстве Ладо молниеносно разнеслась по всему Кавказу. В Тифлисе и Баку партийные организации выпустили прокламации. Заключенные в метехской тюрьме буйствовали, ломали двери, пели «Интернационал»…
И. Дубинский-мухадзе АЛЕКСАНДР ЦУЛУКИДЗЕ

После внезапной трагической смерти молодой жены князь Григорий Константинович Цулукидзе — домашние чаще звали его Гиго — почти не покидал имения. Часами бродил он по начинавшему дичать парку, где обязательные для Имерети раскидистые ореховые деревья и чинары, повитые виноградными лозами, безразлично соседствовали с доставленными из-под Батума субтропическими магнолиями. Князь Гиго самозабвенно спорил с тенью графа Балтазара де Сен-Симона. — Граф, я отказываю вам в сочувствии, — решал Цулукидзе. — Вы добровольно отдали своего мальчика. В жертву безграничной гордыне. Не смейте возражать! Приглашая в учителя к одиннадцатилетнему Клоду Анри самого блестящего философа Франции мсье Д’Аламбера, вы единственно стремились снискать благосклонное внимание королевского двора. Вы жаждали вернуть величие и богатство своему угасающему роду. Граф, вы шли ва-банк. Ваша карта была бита! В святой день, когда вы надеялись, торжествуя, отвести мальчика к первому причастию, вам пришлось отправить его в тюрьму. Жестокосердный гордец, вы снова испили горечь поражения. Клод Анри легко бежал из камеры… Он стал знаменитостью. Тем больнее вам. Его уста никогда не произнесли слово «отец». Граф, как вы могли остаться жить?.. Привлеченный к спору с графом Балтазаром де Сен-Симоном, старый Котэ Цулукидзе, не колеблясь, заметил, что в ближайшем к имению городе Кутаисе философы, слава богу, не водятся. …В ту пору князья Цулукидзе еще были состоятельными людьми, могли позволить себе выписать сразу нескольких учителей. Твердо памятуя о роковой ошибке графа Балтазара — незадачливого отца знаменитого утописта Сен-Симона, князь Гиго строго следил, чтобы среди них не было отмеченных славой. Больше других доверие вызывала недавно появившаяся в местечке Хони[26] молоденькая учительница Ита Накашидзе. Как-то за чаем, сервированном в беседке, Ита неосторожно спросила Сашу: «Ты умеешь сидеть на лошади, мой мальчик?» Саша сорвался с места. «Прежде чем я успела что-либо сообразить, — винила себя девушка, — он с помощью конюха вскочил на неоседланную вороную лошадь и, как ветер, понесся в поле. Скачет Саша, еле его видать. Я стала кричать, думала, что по моей вине с мальчиком приключится несчастье…» Все обошлось. Тетя Нино упрекнула Сашу, что он напугал гостью. Мальчик ответил: «Теперь уж она будет знать, умею ли сидеть на лошади и боюсь ли я. Я ничего не боюсь». В тот раз Григорий Константинович только посмеялся над тревогами учительницы. Гром грянул с безоблачного неба в на редкость солнечный день. Уже когда все свершилось, Ита обстоятельно занесла в дневник: «Во время прогулки Саша обратил внимание на омелу и спросил меня: «Что это такое на вкусной груше?» Я объяснила ему, рассказала о растениях-паразитах, затем мы заговорили о животных, и Саша задал мне множество вопросов. Несколько дней спустя я сидела в своей комнате, исправляла тетради. Ко мне прибежал слуга Саши, сказал: «Саша сильно болен, он просит вас зайти». Я бросила работу и, перебежав двор, вошла в комнату мальчика. Он лежал в жару; у изголовья сидела бабушка. Обрадовавшись моему приходу, Саша привстал. Я поцеловала его и снова уложила в постель… …Затем мальчик просил почитать ему «Ломкаци»[27]. Саша говорил, что ему очень нравится «Ломкаци», а еще больше — его сказочный конь; поскакать бы на таком коне, вот это счастье! Сашу охватило волнение, он стал мечтать о том, как бы поступил, если бы у него был сказочный конь… Я успокоила мальчика и стала дальше читать. Вдруг Саша прервал меня и спросил: «Знаете, этой ночью я плохо спал, все думал о нашей беседе. Я хочу спросить вас: если среди растений и животных имеются дармоеды, то разве их нет среди людей?» Этот вопрос заставил меня сильно призадуматься. Я не знала, что сказать и как удовлетворить любознательность этого странного ребенка. Сказать ему все, что думала я, молодая женщина, увлеченная новыми идеями, значило обидеть его отца, а с другой стороны, как можно было оставить без ответа вопрос мальчика! Я разъяснила Саше довольно туманно, что люди пользуются чужим трудом, но не высасывают соки из других. В это время вошел князь Гиго. Саша привстал, устремил свой горящий взор на отца и крикнул ему: «Папа, ты и дедушка Константин — дармоеды, вы питаетесь чужим трудом, а сами разгуливаете с соколами и собаками!» Князь Гиго сдвинул брови, взглянул на меня и строго проговорил: «Что это такое, госпожа?» После этого я туда не ходила, да и Сашу отпускали редко ко мне, но он все же приходил тайком, и мы читали вместе, беседовали, гуляли…» Князь Гиго продемонстрировал свое превосходство над графом Балтазаром: он не дал гневу взять верх над любовью к сыну — продолжателю рода. Саше не было сказано ни одного гневного слова. И только с наступлением осени отец отвез его в Кутаис. Теперь перед мальчиком открывалась уже хорошо протоптанная дорожка — пансион Хлебникова для детей «благородного сословия», прогимназия, еще через пять лет — казенная «Классическая мужская гимназия». Саша ничему не противился. Пятнадцати лет его зачислили в гимназию. В «Книге характеристик» за 1892/93 учебный год классный наставник В. Юревский писал: «Юноша Александр Цулукидзе скромен, внимателен, трудолюбив… По болезни (упорная лихорадка) пропустил много уроков: за первую треть — сорок, за вторую — сто, в течение же последней трети совсем не посещал уроков». Случайное соседство или что иное, но в партийном архиве Грузинского филиала Института марксизма-ленинизма рядом с «Книгой характеристик» Кутаисской гимназии и свидетельствами доктора Назарова о том, что «юноша Цулукидзе страдает болезнью горла и жестокой лихорадкой», лежат тетради с Сашиными стихами и новеллами, написанными в том же 1892/93 учебном году. Стихи Саши, по отзывам современников, даже тех, кто испытал на себе остроту его памфлетов, фельетонов или сарказм речей, пользовались в Кутаисе и Хони постоянным успехом. Листки со стихами переходили из рук в руки, их искали, нетерпеливо ждали. Одну из ранних новелл Саши — «Ночные картины» — классик, грузинской литературы Илья Чавчавадзе немедля предложил вниманию читателей своей популярной газеты «Иверия» («Грузия»). Через год с небольшим редакция «Иверии» предложит Александру место постоянного сотрудника. Его будут всячески обхаживать, но мало что успеют… Все это позднее, а покуда Саша ученик «Классической мужской гимназии» и обязан по первому требованию инспектора Чебыша открыть сундучок со своими вещами. Инспектор ищет запрещенные книги. Незадолго до того попечитель Кавказского учебного округа авторитетно разъяснил, что «вредными в политическом и нравственном отношениях» следует считать: «Очерки бурсы» Помяловского, «Основы химии» Менделеева, «Рефлексы головного мозга» Сеченова, сочинения Салтыкова-Щедрина, Добролюбова, Некрасова, Шевченко, Писарева и все книги на грузинском языке. Как не вспомнить меткого замечания Анри Барбюса: «Управлять другими национальностями, как, например, грузинами, для царя означало — угнетать их. Можно сказать, что в те времена кавказские народности пользовались только одним правом — правом быть судимыми. Они имели лишь одну свободу — свободу стонать, да и то только по-русски». Крамольных книг было немало в Сашином сундучке, еще больше в матраце. На первый раз Саша, «беря во внимание родителя, князя Григория Цулукидзе», отделывается выговором. А князь Гиго, прочитав уведомление директора гимназии, не стерпел, махнул рукой на свое соперничество с графом Балтазаром, в гневе воскликнул: «Этот мальчик, видимо, спятил с ума!» Инспектор Чебыш был ревностный служака. Он усиливает слежку, а Саша, как на грех, приносит все более «опасные» книги. С их страниц откровенно призывают к «ниспровержению и богохульству». Александра исключают из гимназии. Обращение отца к предводителю дворянства с просьбой «о заступничестве» признается «неуместным». Куда более неожиданно, удивительно то, что Александр проделывает в следующие недели. Это представляется немыслимым даже видавшему виды князю Гиго! Облачившись в черкеску, Саша в обществе последних могикан имеретинского дворянства фланирует на кутаисском бульваре. В компании княжеских недорослей кутит ночи напролет… Должно быть, поначалу это был своеобразный протест против великодержавного, казенного духа, царившего в гимназии. Юноша бунтует, мстит обществу, выплевывает свою душевную боль. Вполне вероятно! И все-таки для Саши это — мучительное фиглярство. Пьяный угар не в состоянии убить его беспокойные мысли, справиться с муками противоречий и внутреннего разлада. И так же как самый большой ливень неизбежно кончается обновлением и голубым небом, наступил день, когда Саша произнес слова, нелегко давшиеся и их автору — Пушкину: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». На этот раз Александр, направился не по хорошо проторенной дорожке, облюбованной князем Гиго, а по едва намеченной первопроходцами, изобилующей препятствиями и опасностями тропе. Друзья, о которых Саша еще не подозревал, готовы были протянуть ему руку, подставить крепкое плечо. Человек превыше всего гордится удачливыми детьми, тем, что он дал обществу много хороших, полезных работников. Какой же мерой воздать человеку, воспитавшему плеяду больших революционеров, целое подразделение старой ленинской гвардии! Подобно тому как вокруг могучего дуба появляется, неудержимо пускается в рост буйная поросль зеленых дубков, так и вокруг Миха Цхакая в конце прошлого столетия и в начале нынешнего набрала сил, уверенно вступила в трудную борьбу большая группа известных грузинских революционеров. Александр Цулукидзе, Ной Буачидзе[28], друг его детства Серго Орджоникидзе. Еще и еще!.. В бесхитростном изложении самого Миха Цхакая дело обстояло так: «После скитаний по многим различным местам я жил (нелегально) в Кутаисе, где совместно с моими старыми и новыми друзьями основал первый марксистский кружок с библиотекой, где читалось множество рефератов… Мы проводили беседы не только о политэкономической азбуке, но и о социальной революции, именно с точки зрения «Коммунистического манифеста». Вот в это время (1895 год) один мой товарищ, член марксистского кружка, познакомил меня с высоким молодым человеком со смуглым, весьма симпатичным и привлекательным лицом. Помню, на нем был прекрасный «европейский» костюм. Мой товарищ шутливо предупредил: «Ты, Миха, не очень доверяй одежде этого молодца. Недавно он был чохоносец и Мклавадзе…»[29] Потом переменил тон, вполне серьезно продолжил: «Перед тобой сын князя Цулукидзе. Но, могу поручиться, — наш человек до мозга костей. Желает учиться и работать вместе с нами». После сказанного я почти не удивился, что темой первого реферата Саша попросил образ «рыцаря нашей страны» — Тариэла Мклавадзе. Вскоре Александр снова был у меня. Он принес прочесть рукопись своего реферата. Затем на большом собрании защитил свое мнение против тогдашней полулегально марксиствующей интеллигенции (это был период расцвета легального марксизма в России, а следовательно, и у нас). Я должен признаться, что почувствовал тогда, что сердце мое, тяжко переживавшее безвременную потерю Эгнате[30], стало как будто исцеляться. Я радовался началу ясного мышления, нахождению, так сказать, революционного нерва, чего недоставало нашим тогдашним товарищам по марксистским кружкам, как, например, Ною Жордания и Карло Чхеидзе, не говоря уже о других. Реферат Александра представлял собой большой теоретический труд марксиста и произвел на слушателей потрясающее впечатление. Мы удивлялись природному уму и богатой эрудиции молодого революционера»[31]. В неполных девятнадцать лет Александр становится одним из наиболее энергичных и непримиримых деятелей «Месаме-даси», в буквальном переводе «Третьей группы». Порядковый номер, пожалуй, не следует принимать во внимание. Это первая, хотя и. очень разноликая по общественному положению и планам на будущее, марксистская группа. Еще раньше имена Маркса и Энгельса, отдельные их труды были известны грузинской интеллигенции. В грузинских газетах печатались большие выдержки из «Капитала» и «К критике политической экономии» Карла Маркса, из «Анти-Дюринга» Фридриха Энгельса. Любопытно, что представители враждующих политических течений нередко пытались использовать высказывания Маркса и Энгельса для подтверждения своих взглядов, для борьбы друг против друга. При этом публицисты из дворянско-националистической прессы, так же как и народники, твердили, что на Кавказе нет и не может быть почвы для развития капитализма и формирования рабочего класса. Под большое сомнение ставилось даже скромное предположение журнала «Театри»[32] о возможности «распределения марксизма среди рациональных сынов Европы». Итак, в девяностых годах прошлого столетия участники «Месаме-даси» основали социал-демократические кружки в главных центрах Грузии, к востоку и к западу от Сурамского перевала. Параллельно и в первое время независимо от них действовали такие же марксистские кружки, созданные трудами сосланных на Кавказ русских революционеров. Еще в мае 1894 года В. И. Ленин писал известному экономисту П. Маслову: «Разве по возвращении из СПБ в Тифлис Н. М. А. не видал Вас? и не передал Вам (о чем я его просил), что у меня есть постоянный… адрес»[33]. У Владимира Ильича были в Тифлисе знакомые, он вел переписку, имел постоянный адрес. Не значит ли это, что временами «Месаме-даси» и основанный Лениным в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» были близки, делали одно дело? Да, очень вероятно. И это вовсе не противоречит тому, что при всех своих заслугах «Месаме-даси» не могла подняться до уровня «Союза борьбы». Оппортунистическое крыло «Месаме-даси», эти будущие идеологи и лидеры меньшевизма и национализма — Жордания, Чхеидзе, Рамишвили — были слишком тяжелым грузом, сковывали, тянули вниз. А Саша Цулукидзе, даже в силу своей молодости, рвался на стремнину. И, самый молодой, он начал борьбу. Начал, когда в «Месаме-даси» еще не было его будущих могучих союзников — Иосифа Сталина и Ладо Кецховели. Сосо просто был слишком юн, Ладо находился далеко от Кавказа. Известно, что и величавая Волга и беспокойная, неизменно гневная Кура берут начало из крохотных, чуть приметных родников. Высоко у истоков пускаются в путь ручейки, одни бесследно исчезают, другие сливаются в могучие потоки, спешат к устью. Где-то в туманной дали таится и водораздел. Внезапно открывшись, он всегда поражает своей неодолимостью. Так и борьба внутри «Месаме-даси» далеко не сразу набрала силу, приобрела остроту, толкнула к непримиримому размежеванию. Прежде чем Александр Цулукидзе напечатает «Открытое письмо г-ну Георгию Церетели» — манифест, провозглашающий появление в «Месаме-даси» нового революционного ядра, многое должно будет произойти. Сейчас, в 1896 году, Саша в поисках заработка впервые приезжает в Тифлис. Счастье, похоже, даже слишком широко улыбается. Юношу приглашают работать в редакцию газеты «Иверия». Не сразу, исподволь, очень терпеливо нового литературного сотрудника уговаривают не довольствоваться обзорами книг и заметками на литературные темы, а придерживаться и политических симпатий редакции «Иверия». Александр не принимает опеки общественных деятелей еще более правых, чем оппортунистическое крыло. Он оставляет хорошо оплачиваемую работу, покидает Тифлис. Впереди — Баку. К берегам Каспийского моря, в город ста пятидесяти нефтяных промыслов и своевольного, разноплеменного люда, Сашу посылает крайняя нужда, хотя человек он удивительно нетребовательный. Средства на жизнь мог бы найти и в Грузии, да и князь Гиго не отказывает сыну в хлебе насущном. Саша страдает от отсутствия другой пищи. Дольше ждать он никак не может. Не издалека, не в роли стороннего наблюдателя, >а как равный среди равных жаждет Александр познать жизнь рабочих, их нужды, запросы. Он стремится учиться тому, чего в Кутаисе, в Тифлисе пока даже нельзя увидеть. И самому учить тому, что открыл для себя в «Капитале» и «Коммунистическом манифесте», в только что дошедших до Кавказа работах Ленина: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Объяснение закона о штрафах…» На промыслах Нобеля, Ротшильда, Вишау Александр разыскивает высланных из Петербурга и Москвы русских социал-демократов. С помощью новых друзей Саше и учительнице Колокольцевой удается исхлопотать разрешение на открытие в Черном городе — центре нефтеперегонных заводов — вечерних общеобразовательных курсов для рабочих. Касаться политики, разумеется, строжайше запрещено. В бумагах отдельного корпуса жандармов полковника Бежина аккуратно хранилась «собственноручная подписка князя Александра Григорьевича Цулукидзе», обещавшего «впредь при вечерних и воскресных публичных чтениях для мастеровых и поденных неукоснительно придерживаться высочайше дозволенного перечня благонамеренных изданий». Дело прошлое, но господин полковник Бежин все-таки оказался не на высоте. Плохо он был осведомлен о Сашиных бакинских занятиях. Одна из старейших русских революционерок, Цецилия Бобровская (Зеликсон), работавшая по заданию Ленина в Тифлисе и Баку, вспоминает, что Саша водил за нос жандармского полковника. Она пишет: «Огромна роль Александра Цулукидзе в деле пропаганды марксизма в бакинских рабочих кружках». Сам Саша свою роль оценивал много скромнее. Он искренне считал, что знает непростительно мало и непременно должен год-два, сколько удастся, посвятить изучению марксизма. — Ну что ж, — согласились руководители «Месаме-даси», — намерение вполне похвально. Все мы граним, шлифуем свои знания. Вспомни, дорогой, как много наших друзей с этой благородной целью ездило в Берлин, Лейпциг, Мюнхен! — Я в Германию не собираюсь, — отвечал Цулукидзе. — Меня Фольмар и Бернштейн не привлекают. Как людей, не берусь судить, они, возможно, интересны, а теории их не по мне. — Тогда тебе, мальчик, некуда и незачем ехать, — сердились непрошеные наставники. — Разве что в Хони, проведать родных! — В Хони? До отъезда в Москву обязательно побываю, хочу попрощаться с отцом, — Так ты собрался в Москву! Познавать марксизм — или что другое — в Германии, Франции, Англии было вполне респектабельно, входило в традицию, хорошо характеризовало, А этот Цулукидзе стремится в Москву! Что за нонсенс? В середине лета 1897 года Саша отправился в Москву. Шесть недель спустя он писал своему другу Надежде Эристави: «Представь себе, с каким трудом и в результате какой борьбы стал я на избранный мною путь. На долгое время безжалостно пожертвовал близостью прекрасного края моим научным стремлениям и здесь, в сердце России, в маленькой комнатушке пишу письмо находящемуся далеко от меня другу… Нечего и говорить, духовная пища в Москве неисчерпаема. …В то время как против моего желания восстали взрослые и молодые, стар и млад, с презрением посмотрели на меня люди, как будто все время сочувствовавшие мне, ты была одна, которой я мог дружески открыть движения моей души… С большим трудом накопил для поездки деньги, которые привели меня в Москву и здесь позволят жить некоторое время. Из дому ожидаю по 20 рублей в месяц[34]. Отец обещал присылать. Он был очень огорчен моим неожиданным прощанием. Представь себе, много слёз пролил, плакал растроганно, простился со мной именно по-родительски. Теперь, если и ничего не будет присылать, я все же останусь вечно благодарным ему. Так что, Надежда, я достигну своих целей, пусть пока буду жить по-собачьи». Теперь это уже не будет нескромностью, заглянем и в другие письма Саши. Строки, не предназначенные для посторонних глаз, помогут лучше понять человека, который, прожив всего двадцать девять лет, снискал, нисколько о том не заботясь, безграничную любовь и высокое уважение единомышленников, сердечную благодарность потомков. …Из второго письма Надежде Эристави: «Моя прекрасная сестра-друг Надя! Получил твое письмо, в котором ты касаешься весьма интересующих меня вопросов. С удовольствием поделюсь с тобой моими мыслями по этому предмету, только я хочу говорить более пространно, а не об одном себе, как о частном факте. По моему мнению, нынешнее супружество не представляет того идеала, вожделенной дружбы, которые подразумеваются под этим словом. Богатый под видом любви за деньги покупает женщину, красивую фигурой и плотью (разумеется, случается и так, что богатая женщина покупает красивого мужчину, но это лишь перемена ролей). С другой стороны, бедная женщина, которую бедность сделала бродягой, выходит на улицу и торгует собой… Этот факт подметили и отображали разные писатели Европы и один известный русский романист Лев Толстой; Толстой сорвал занавес со сцены и ясно показал народу картину на сцене, показал всю порочность, лицемерие, разврат, лукавство, которые царят под именем супружества, любви и находятся в почете у общества. В этом отношении достоин благодарности выдающийся автор «Крейцеровой сонаты», но, к несчастью, он философски не объяснил причины этого явления и не предложил также научно обоснованных средств против него». Еленэ Чичинадзе: «Батоно Еленэ! Только что видел Георгия Деканозишвили, он заходил ко мне проездом в Петербург и сказал, что моего Маркса он оставил у вас… Давно я ожидаю эту книгу. Писал всюду, и вот теперь пишу Вам, так как эта книга в настоящее время мне весьма необходима, а приобрести ее снова, как Вам известно, для таких, как я, очень трудно, почти невозможно (стоит 25 руб.)». Ей же: «Спешу поблагодарить Вас за такое немедленное и сочувственное исполнение просьбы. Посланную Вами книгу, а затем и письмо получил… Напрасно думаете, что ничего, кроме «Капитала» Маркса, не могло напомнить мне о Вас. Маркс сам по себе для меня будет совершенно бесполезен, если я прерву всякую связь с людьми, если отвергну морально ободряющую дружбу, которая всегда и для всех является необходимой. Нет. Мне «Капитал» нужен только в качестве руководства, путеводителя, светоча, все остальное должно быть осуществлено сочувствием людей… …Я должен добавить, что наше время — переходное время. Старый строй находится при последнем издыхании, устанавливается новая жизнь, она борется… И что же удивительного, если такую борьбу, а также борцов не может различить и объяснить наша как раз в научном отношении неподготовленная молодежь. Мы только теперь начинаем вникать в суть жизни, стремиться к тем источникам, откуда можем почерпнуть для этого дела надлежащее оружие; но пока еще прошло так мало времени, мы сравнительно еще такие дети, что не можем считать себя вполне подготовленными. Выяснение и определение всех явлений жизни, лечение социальных язв — дело весьма трудное; оно требует больших знаний и большого прилежания. Мы пока еще не обладаем ни тем, ни другим. Но все же есть признаки лучшего будущего. Это письмо пишу на втором томе «Капитала» и думаю: когда же настанет то блаженное время, когда и в нашей жизни дадут плоды мысли этого великого ученого и наше мышление получит, научный характер?» Ивану Киладзе: «Мой брат Иванэ! Если за книги кое-что поступило, пошли мне маленькую частицу, так как я очень нуждаюсь. Конечно, если нужны Александру[35], целиком передай ему. Во всяком случае, сообщи ответ. Разумеется, это письмо преждевременно, но ведь и ты слыхал поговорку: «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». В Москве Александр несколько изменил свои планы. Он не стал готовиться к экзаменам на «аттестат зрелости». Определился вольнослушателем на юридический факультет университета и одновременно поступил на довольно известные в то время курсы счетоводства Ломова. Это была забота о сравнительно надежном источнике существования на будущее. «За хорошие успехи в счетоводстве и бухгалтерии» 10 апреля 1899 года Сашу даже наградили серебряной медалью. Самую же главную науку Цулукидзе постигал в читальных залах Музея Румянцева[36]. Каждую книгу — по истории, политической экономии, философии, рабочему движению — он нетерпеливо, чтобы удовлетворить свою неуемную любознательность, пробегал глазами, затем возвращался к началу, делал обстоятельные выписки, нередко тут же в своих тетрадях писал замечания, дискутировал с авторами. Многое из этих тетрадей позднее вошло в его книгу «Отрывки из политической экономии». Впервые на хорошем литературном грузинском языке Александр научно и на редкость доступно изложил основы «Капитала». В заключительной части книги он обосновал неизбежность революции, руководимой пролетариатом. Дня Саше не хватало. С курсов счетоводства он бежал на лекции университетских профессоров, оттуда в читальню. А еще надо было успеть на собраниенаучного общества: послушать своих противников — апостолов легального марксизма Струве, Туган-Барановского, потом и самому выступить с рефератом или хотя бы с короткой репликой — подлить масла в огонь полемики в грузинском землячестве. С приездом Александра в землячестве забушевали страсти. Зазвучали непривычные речи. В первом же докладе — руководители землячества считали, что это будет безобидный литературно-критический разбор повести писателя Лалиони «Пирали Давладзе»[37], — Саша объявил: «Дворянство как сословие в современной жизни является лишним наростом, у него осталось только звание без содержания, без смысла». Далее Цулукидзе объясняет жившим в Москве грузинам, в своем большинстве сочувствовавшим буржуазно-либеральным и националистическим идеям, что их родина неотвратимо идет по капиталистическому пути развития, что теория «общей почвы классов» не стоит выеденного яйца. Саша не скрывает от взбудораженной, ошеломленной, разгневанной аудитории и того, что его абсолютно не удовлетворяет оценка повести Лалиони, данная маститым идеологом «Месаме-даси» Ноем Жордания. Саша не успокаивается. В некрологе на смерть Веры Джапаридзе — участницы кутаисского социал-демократического кружка — он лишь слегка завуалированно предупреждает: «Мы замечаем большое количество лжеинтеллигентов, путаность их мыслей; мы хорошо различаем под маской их настоящие лукавые лица, и поэтому… сегодня еще раз напоминаем своим сестрам и братьям об их настоящем долге…» И для полной ясности меньше чем через год — «Открытое письмо г-ну Георгию Церетели». Теперь вполне отчетливо открывается неодолимый водораздел. Цулукидзе в Москве, Сталин и Кецховели в Тифлисе отмежевываются от оппортунистического крыла «Месаме-даси». В «Беседе с читателем» Саша замечает: «…все растет, все развивается, и мы также растем и развиваемся. Сегодня мы уже не те, кем были вчера; а сегодняшний день готовит нам совсем другую будущность; наши думы и чаяния меняют цвет, они изменяются. Наш идеал должен быть в грядущем; настоящее интересно постольку, поскольку оно является фундаментом будущего» По ту сторону водораздела не молчит и Ной Жордания. Как-никак он главный редактор печатного органа большинства «Месаме-даси» газеты «Квали» («Борозда»), надо что-то сказать, как-то подвести итоги дискуссии между откровенным националистом Георгием Церетели и певцом пролетариата Александром Цулукидзе. Что ж, Жордания высказался: «Торговля стала революционной силой нашей страны… Таким образом, в величии нации заинтересованы как буржуа-торговцы, так и крестьяне и рабочие». …Дольше других Александра не видел Миха Цхакая. Беспокойная жизнь профессионального революционера увела Цхакая далеко от родных мест. Долгое время он возглавлял революционное подполье в крупном промышленном центре юга Украины — Екатеринославе[38]. Наконец Миха и его «крестник» Саша на берегу Куры. В садах Орточала нашелся укромный уголок для неторопливой беседы. С противоречивым чувством гордости и боли Миха слушал рассказ Саши, всматривался в болезненно исхудавшее лицо, в глубоко запавшие глаза. «Москва наложила на него двоякую печать, — думал Миха, — глубокой зрелости и очень расстроенного здоровья». Александр уже знал — у него начался туберкулез. Болезнь безжалостная, ненасытная. Хотя врачи не отказали в надежде: «Попытаемся бороться, только ведите нормальный образ жизни, не переутомляйтесь, берегите горло, питайтесь всегда в одно и то же время, а для начала проведите сезон в Горах Швейцарии, лучше всего в Давосе»: Саша все понял. Надо спешить, очень спешить… …Забастовка рабочих тифлисской конно-железной дороги. В забастовочном комитете Александр Цулукидзе, Ладо Кецховели, Миха Бочоридзе, Захарий Чодришвили. Забастовка увенчалась успехом: отменены штрафы. …Маевка у Соленого озера, вблизи Тифлиса. Около пятисот участников. Развеваются красные знамена с портретами Маркса и Энгельса. Рабочие ораторы дружно поддерживают предложение Цулукидзе — в следующем году устроить первомайскую демонстрацию прямо на улицах Тифлиса. …В Батуме, в порту и в районе керосиновых заводов Ротшильда, Нобеля, Манташева, Сидеридиса, Хачатурянца, каждый день — новые листовки. От обычных прокламаций они отличаются тем, что в популярной форме, сжато, последовательно, как бы продолжая одна другую, излагают основы марксизма, учат программе, стратегии и тактике революционной социал-демократии. Областное жандармское управление начинает следствие. Оно тянется много месяцев, и только после случайного провала подпольной типографии подполковник Шабельский нападает на правильный след, узнает руку своего хорошего знакомого князя Александра Цулукидзе. Знакомство давнее — еще в 1901 году жандармский подполковник Шабельский и пристав Мефисашвили дважды производили обыск у Александра. Все перетрясли, перевернули, выстукивали пол и стены. Безрезультатно! …По приказу военного министра из Кутаиса срочно выведен Куринский пехотный полк. Страшная вещь: полк признан «опасно распропагандированным». Вторая новость: в казармах Потийского полка обнаружены прокламации. Виновные не найдены. Только в дни похорон Саши на ленте одного из восьмидесяти венков была надпись: «От благодарных солдат Куринского и Потийского полков». Надо спешить, очень спешить… В Тифлисе, Кутаисе, Батуме, в Чиатурах и Самтредия, в Сухуме, в имеретинских и мегрельских селениях Александр выступает с докладами, создает подпольные кружки, участвует в полулегальных дискуссиях с националистами и сторонниками Ноя Жордания. Саша печатает серию статей «Из истории экономической науки». Вслед за ними острые полемические фельетоны «Наши разногласия». И, как сокрушительный залп орудий главного калибра по националистическим партиям и группам, по роднившей всех их теории «общей почвы», книга Цулукидзе «Мечта и действительность» (критические заметки по поводу программы Ар. Джорджадзе)[39]. Александр вообще очень изобретательно путал и бил карты националистов, мастерски срывал их самые благие намерения. Как-то в Батуме, городе и тогда многонациональном, Сашу решили вовлечь в «патриотическую борьбу» за избрание некоего Асатиани городским головой. — Смотри на Асатиани, как на лицо, которое печется о грузинах, — призывали Цулукидзе писатель Клдиашвили и его друг, гласный Батумской думы Джакели. «Две недели я бегал для того, чтобы уговорить и собрать наших вожаков, — рассказывает в своих «Мемуарах» Давид Клдиашвили. — Кое-как мне удалось уговорить их, и мы устроили маленькую конференцию… Докладчиком пришлось быть мне. Обрисовав положение, я отметил, что та политика, которая разгорелась между нашими партиями вокруг национального вопроса, возможно, будет вредна и лишит грузин руководства делами города, что нежелательно. …Когда Саша Цулукидзе взял слово, он сказал, что эти наши сегодняшние разговоры напрасны, что мы не можем прийти к соглашению, так как мы стоим на различных полюсах. Это заявление вызвало бурные споры. Мы вынуждены были прервать собрание и разойтись. На следующий день я встретил Сашу и упрекнул его: «Странный ты человек, Саша, именно странный! Послушай, что ты сделал с нами вчера. Дорогой мой, дело было почти кончено, а ты пришел и тотчас же разжег огонь. Не удовлетворившись этим, ты подлил масла в огонь. Наше соглашение провалилось, и знай, мы, грузины, такими дрязгами ничего не выиграем… Русские и армяне борются против нас, грузин, а вы выступаете от имени Российской рабочей партии и за отстаивание нашего законного и справедливого грузинского национального дела называете нас националистами и шовинистами». Саша любил Клдиашвили как писателя и постарался говорить спокойно, помягче: «Давид Самсоныч, напрасно вы считаете меня причиной вашей неудачи… Ради уважения никто прав не дает, права обретают лишь борьбой. А вы не смеете пикнуть против политической системы России, даже больше, вы не выступаете против существующего избирательного положения… Вы рассуждаете о национальном флаге. Им одинаково пользуются в качестве ширмы и прикрытия и ваши друзья и ваши противники. Но скажите, пожалуйста, когда ваши друзья побеждают, удобно усаживаются в кресла управления и устраивают свои дела, что выигрывает этим пролетариат, рабочий класс их национальности? Уверяю вас, ничего… Нас спасет лишь социализм. А для этого нужна революция». И не то в упрек, не то в благодарность Александру Клдиашвили закончил рассказ о своем конфликте с Цулукидзе словами хорошо ему знакомого молодого грузина: «Я — марксист, марксист я, и никакая сила не может оторвать меня от него! — восторженно восклицал молодой человек, — Я родился в семье бедняка, рос в бедности, учился в нужде, кроме нищеты, ничего вокруг себя не видел. «Потерпи, потерпи и терпением своим обретешь блаженство после смерти», — утешали меня. Кто знает, что происходит там, на том свете, — кто видел, кто принес оттуда весточку? Пустые надежды, самообман… А этот Цулукидзе перенес для меня рай с неба на землю, здесь указал мне его… Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Он поставил нас на правильную дорогу, и когда нуждающиеся все объединимся, то обретем рай здесь, в жизни. Не после смерти! Разве я отступлюсь от такого проповедника!.. Никогда, ни за что! Я не знаю, кто я теперь — грузин ли, русский, армянин или кто другой, да и не хочу знать; я — пролетарий! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!.. Вот в этом наше спасение». Александр одинаково не жаловал и националистов и либералов. Однажды в зале Тифлисского городского самоуправления благодушествовали за банкетными столами, произносили речи организаторы «земского движения». Распахнулась дверь, ворвалась толпа. «Вглядевшись, — вспоминает профессор Натадзе, — мы рассмотрели, что все это рабочие, некоторые даже знакомые. Их вел Саша Цулукидзе. При общем молчании незваные гости остановились в центре. Президиум остановил голосование, но когда шум стих, председатель вновь огласил резолюцию о созыве представительства. Друзья Цулукидзе пошли против голосования. Положение попытался спасти оратор-меньшевик. Он предложил провести всеобщее, прямое, равное и тайное голосование. Некоторые члены президиума, видимо, обрели надежду, что соглашение могло бы быть достигнуто, если пойти в этом вопросе на уступки. «Мы согласны», раздался довольно нерешительный возглас одного или двух господ из президиума. Рабочие вновь выступили против. Категорически вопрос был разрешен выступлением Цулукидзе. В общем смятении и нерешительности он взобрался на подмостки для эстрады, и раздался его слегка надорванный от болезни, но все же громовой и выразительный голос. Все обернулись к нему. Его глаза метали молнии. Сдвинутые брови выражали непримиримость; размахивая рукой, он как бы рассекал воздух. Цулукидзе заявил: «Вы заклеймили себя позором». Эту фразу он повторил трижды. О соглашении не могло быть и речи. Члены президиума и их сторонники стали уходить поодиночке и группами. Мирное собрание было сорвано». Александр пробовал свои силы и в русской прессе. После Москвы он свободно владел русским языком и стремился расширить круг своих читателей. В газете «Новое обозрение»[40] Александр публикует «Заметки читателя». Незаконченная повесть Давида Клдиашвили «Злоключения Камушадзе» дает Саше повод и легальную возможность познакомить русского читателя с грузинской художественной литературой, дать ее оценку с марксистских позиций. За внешним академическим спокойствием — данью цензуре — таилось много страсти и взрывчатой силы. Статья вызвала шум: одобрение и восторг одних, гнев, протесты других. «Заметками читателя» Александр вновь подтвердил, что по духу и таланту он собрат Белинского, Добролюбова, публицист «божьей милостью». …Сил у Александра остается все меньше. Болезнь наступает. Это бросается в глаза даже людям, впервые видевшим Сашу. На заседании Кавказского союзного комитета с Сашей знакомится только что приехавшая из Швейцарии — от Ленина — Цецилия Бобровская и сразу невольно отмечает: «Горячо говорит Сандро (Цулукидзе). Он еще очень молод, но багровые пятна на щеках и хриплый голос не оставляют сомнения, что у него тяжелая форма туберкулеза». Встревоженный Миха Цхакая прибег к крайнему средству. На заседании Кавказского комитета он обвинил Сашу в недисциплинированности и даже в мелкобуржуазном поведении. Революционер обязан заботиться о своем здоровье, принадлежащем партии, сердился Цхакая. Только таким путем в августе 1904 года удалось отправить Сашу лечиться в горы — в деревню Бакуриани. Прошло меньше двух недель, и о своем существовании энергично напомнил жандармский полковник Бежин. Теперь в его руках была обширнейшая переписка между бакинским областным, кутаисским и тифлисским губернскими жандармскими управлениями. Старательные агенты охранки неутомимо доносили: «9 ноября пропаганду вел присутствовавший интеллигент А. Цулукидзе». «16 ноября в том же доме состоялось собрание, на котором вел пропаганду тот же интеллигент А. Цулукидзе». «26 февраля 1904 года, в 8 часов вечера, в Тхинвальском переулке, в доме Цуринова, состоялось собрание типографских рабочих и приказчиков Тифлиса. «Интеллигент» говорил о значении войны и читал отрывки из политической экономии». «Прошу распоряжения о производстве согласно постановления моего от 10 апреля 1904 года обыска у того же Цулукидзе, поступив с ним по результатам такового. Подполковник Шабельский». По счастливой случайности в Бакуриани жандармы Сашу не застали: он спустился в Боржом на почту. Это дало возможность доброжелательному хозяину домика, где квартировал Александр, уверить, что «князь третьего дня как уехал в имение к отцу». Арестовали Сашу в начале следующего, 1905 года, на рассвете 17 января. В камере Метехского замка у Саши горлом пошла кровь. Политические заключенные передали об этом на волю. В Тифлисе и так было слишком тревожно после петербургского «Кровавого воскресенья». Чтобы не допустить нового взрыва, тифлисский губернатор приказал освободить смертельно больного Цулукидзе на поруки. Жандармы не смирились. Едва Саша снял комнату и принялся стелить постель, чтобы лечь, как уже начался обыск. И, кажется, впервые в письме к отцу Саша взгрустнул: «Словом, нас арестовывают, избивают, но доколе!» Наступила последняя весна Сашиной жизни. «Бессовестный «Хунхуз»[41] нанес последний удар в сердце и без того физически слабому Саше», — каялся позднее меньшевик Симон Киладзе. Это была пора особенно ожесточенной борьбы большевиков с меньшевиками. Собрав свои силы со всей Грузии, меньшевики решили дать бой на марганцевых рудниках Чиатур. Дискуссия продолжалась днем и ночью несколько дней. Рабочие все более склонялись на сторону большевиков. Тогда «Хунхуз» пошел на подлость. Он выкрикнул: «Кому вы верите? Неужели вы так наивны, что можете допустить, будто князь Цулукидзе действительно борется за интересы рабочих? У него своя тайная цель». Шахтеры прогнали «Хунхуза». Большевики снова взяли верх. А Саша слег, опять горлом пошла кровь. «Помню, — писал близкий Сашин друг, один из руководителей кутаисских большевиков, Бибинейшвили, Александр тяжелобольной только что вернулся в Кутаис из Чиатур. Не успел он прийти в себя, поправиться, как из Хони получилось письмо о том, что там тоже назначены собрания, ожидаются горячие дебаты, и потому особенно желательно присутствие Саши. Это были его последние выступления. После хонских дискуссий он окончательно слег в постель и больше не вставал». Саша отлично сознавал, что дни его сочтены. Он заботливо говорил врачам: «Мне страшно жаль вас, страшно! Как плохие дипломаты, вы обязаны говорить ложь тогда, когда вам никто уже не велит…» Последнюю радость Саше принес его заботливый наставник Миха Цхакая. Немедленно после возвращения в Грузию с III съезда партии он отправился к Цулукидзе. У постели Саши сидели два врача, друзья и близкие родственники. «Супруга Цулукидзе подошла к нему и шепнула о моем приходе. Он пошевелился и стал искать меня глазами. Я наклонился, крепко поцеловал его и сказал: — Саша, на съезде наше дело победило! В его глазах блеснули слезы радости, и он еле слышно проговорил: «Да, идея всегда победит!» …Хоронили Александра Цулукидзе 12 июня 1905 года. Еще на рассвете хлынул дождь. Он быстро перешел в небывалый ливень. Кутаисский губернатор Калачев и пристав Тер-Антонов воспрянули было духом: «Все само собой уладится, разбушевавшаяся стихия, потоки, заливающие улицы, не дадут большевикам устроить демонстрацию, просто никто не придет». К девяти часам утра от этих надежд ничего не осталось. От центра Кутаиса до городской окраины за гробом Саши шли десятки тысяч человек. Газета Кавказского союза РСДРП «Пролетариатис брдзола»[42] писала: «…два специальных хора рабочих пели «Марсельезу» и другие революционные песни. Масса народа, воодушевленная чувством единства и общности, следовала с пением за гробом, несмотря на грозу и ливень; речи, бесчисленное количество речей с момента выноса покойного из квартиры на всем пути шествия процессии до кладбища; речи на грузинском, русском и армянском языках — речи рабочих, крестьян и многих других товарищей, являвшихся представителями разных организаций кавказского пролетариата и крестьянства; речи, которые все без исключения обязательно кончались призывами: «Долой самодержавие! Да здравствует социализм!» и проч., подхватываемыми многотысячной массой… Вот как провожал кавказский пролетариат останки своего товарища-борца! Все это может показаться невероятным, сказочным тем читателям, которые не присутствовали на этих исторических похоронах. Но все это было так, было даже больше этого… И мы не в состоянии описать все то, что произошло на похоронах товарища Сандро! По правде говоря, самодержавие показалось перед нами в этот день, но только показалось, как тень прошлого, у заставы города вместо почетного караула в лице пристава Тер-Антонова и десятков полицейских. Полиция заранее заткнула уши ватой, чтобы не слышать «богохульных» и «царехульных» слов революционной песни. А глаза ее, без сомнения, были ослеплены величественной картиной мощного шествия бесчисленного народа!» Губернское жандармское управление скрепя сердце доносило в Петербург: «Со всех концов Закавказья съехались на похороны Цулукидзе. На гроб были возложены 77 венков со всего края. Несмотря на ужасную погоду, тысяч 15 шли пешком до Хони — 25 верст от Кутаиса — и несли гроб на руках все время. Похороны эти до сего дня не сходят с уст кутаисцев». Так началось бессмертие!..
Б. Жгенти ЭГНАТЕ НИНОШВИЛИ

«Мне было семь или восемь лет, когда моя тетя, сестра моего отца, ранним утром повела меня на речку и, заставив опустить ноги в струи холодной воды, стала обучать меня азбуке. Азбуку эту, написанную карандашом на клочке бумаги, принес домой мой отец, который накануне упросил написать ее одного соседа, бедного дворянина. Помимо этих писанных карандашом 34 букв, мне было запрещено глядеть на что-либо печатное или писать, так как, по мнению моей тети, это могло помешать мне запомнить буквы. Когда я выучил наизусть всю азбуку, меня отдали учиться в семью одного священника из дворян. Священник обучал меня каким-то молитвам; светской азбуки он сам не знал и не мог и даже не пытался обучать меня ей. В детстве у себя дома я был очень избалован родными, а в доме дворянина-священника (он был многосемейным) меня заставляли работать очень много. Не давали ни минуты отдыха. Когда я прожил у священника полгода, родители отправили меня в г. Поти, к племяннику этого священника — потийскому лесоторговцу. Всю осень, зиму и весну проболтался я на кухне этого купца-дворянина и по его приказанию пек ему кукурузные лепешки — мчади. Ни грамоте и ничему другому за это время меня никто не обучал. Наконец мой дядя спас меня из этого ужасного положения, взял к себе домой и отдал в сельскую школу. В продолжение 1871–1875 годов я пас коров и овец, время от времени посещая школу. Из одной сельской школы меня перевели в другую, так как во время камеральной переписи моего отца приписали к другому селу. Учителя в этих школах не отличались высокими познаниями, хотя во второй школе они были несколько лучше. В 1876 году, в середине учебного года (в феврале) я поступил в Озургетское духовное училище. Меня приняли во второе приготовительное отделение. В том же месяце меня перевели в третье отделение. Я учил уроки, задаваемые в этом отделении, и одновременно сам готовился к переходу из приготовительного прямо во второй класс. На следующий год я перешел в третий класс. В сентябре того же 1878 года я перешел в четвертый класс и сразу же покинул училище…» Это первые страницы «Автобиографии» Эгнате Ниношвили — писателя и революционера, выдающегося общественного деятеля Грузии и замечательного человека. Каково значение Ниношвили? Его творчество положило начало новейшей грузинской литературе, отобразив социальную обстановку, которая сложилась в Грузии к концу прошлого века. Последователь великих начинаний И. Чавчавадзе и А. Церетели, Г. Церетели и А. Казбеги, он продолжил и развил лучшие демократические традиции грузинского реализма. Быстро и бурно развивался капитализм. Обострялись противоречия, «освобожденное сверху» крестьянство осталось таким же безземельным и нищим, все увеличивалось число рабочих на фабриках и заводах. На арену общественной жизни выходили новые социальные силы, в городе и деревне обострялась классовая борьба. Со времени своего возникновения грузинскому пролетариату приходилось жить и работать в гораздо более тяжелых условиях, чем рабочим центральных районов Российской империи. Капитализм в Грузии развивался в. условиях колониальной политики самодержавия. Не случайно еще с начала семидесятых годов в промышленных городах возникло стачечно-забастовочное движение рабочих. Деревенская беднота, задавленная налогами и поборами, нередко с оружием в руках вынуждена была отстаивать свою жизнь и человеческое достоинство. В такой сложной и острой общественной обстановке формировались мировоззрение, социально-политические убеждения и эстетические идеалы самого прогрессивного и революционного писателя своего времени — Эгнате Ниношвили. Эгнате Ниношвили (Игнат Фомич Ингороква) родился 17 февраля 1859 года в Гурии, в селе Чаргвети нынешнего Ланухутского района, в бедной крестьянской семье. Мать его умерла, когда ему было шесть месяцев. Заботы о воспитании мальчика взяла на себя тетя Нино. Уже с рождения он отличался слабым здоровьем, и тяжелый труд был ему не по силам. Именно поэтому родные, поняв, что мальчик не пригоден для сельской работы, решили дать ему образование. В приведенных выше страницах «Автобиографии» Эгнате не пишет, почему он не окончил духовное училище. А дело было так. Будучи в последнем классе, Эгнате вместе с прогрессивно настроенными учителями и передовыми товарищами по училищу принял активное участие в разгоревшейся борьбе против реакционного школьного руководства. Он был одним из организаторов забастовки учащихся, которая явилась его первым боевым крещением будущего писателя и революционного деятеля. Эгнате был исключен из гимназии с «волчьим билетом», лишившим его возможности поступить в какое-либо другое учебное заведение или устроиться на государственную службу. Стремясь закончить образование, он пытался заниматься с учениками, чтобы впоследствии «держать экзамен где-нибудь в духовном училище и получить таким образом свидетельство об окончании». Однако эти попытки не дали результата. Он пишет в письме на имя Ивана Лиадзе: «Я… стал заниматься вместе с учениками четвертого класса, в особенности с С. Джибладзе. Но стоило деканозу и его вдохновителю инспектору узнать об этом, как они нагнали на учеников четвертого класса такого страху, что врагу не пожелаешь!.. Четвероклассникам пригрозили, что если они будут водиться со мной, то их моментально исключат из училища, и это еще полбеды… грозились сослать их в Сибирь». И далее в том же письме: «Деканозу теперь мерещится не один Ингороква, а несколько. Так, недавно он вызвал к себе одного ученика четвертого класса и, сказал ему: «Почему ходил к тебе Ингороква?» Ученик спросил: «Когда, мой господин?» — «А вот когда он зашел к Ефимию Чалаканидзе, он был и у тебя!» Ученик ответил: «Что вы говорите, сударь! Если он зашел в дом к Чалаканидзе, как же он мог быть у меня!!» Тогда деканоз вспылил и надвинулся на ученика, чтобы разорвать его на куски за то, что тот посмел возразить. «Этот проклятый мог бы быть и там и у тебя!»— кричал он. Вот в каком положении пребываю я, мой господин. И как я могу заниматься чем-нибудь, готовить программу и прочее. Говорят, экзарх должен приехать в Озургеты. Если это правда, я обращусь к нему с прошением. Если ничего не выйдет… я пожму руку жизни и попрощаюсь с ней навсегда…» С огромным трудом удалось сдать Эгнате экзамены на звание сельского учителя, и в октябре 1879 года он был назначен учителем в село Чочхаты. Поистине трогательной и беспредельной была тяга этого человека к знаниям. Живущий в невероятной бедности, на последние гроши он покупал книги. Работая учителем в сельской школе, он мучается тем, что нет учебников и пособий, на которые у сельской общины не хватает средств. Он написал обстоятельную докладную записку Илье Чавчавадзе, тогдашнему товарищу председателя правления Тифлисского общества по распространению грамотности среди грузин Кавказского наместничества, в которой последовательно излагает нужды школы. Ниношвили пытается собрать хоть какие-нибудь деньги для продолжения образования. В марте 1881 года он ушел с места учителя и начал работать на недавно начавшемся строительстве Батумской железнодорожной линии. «…Я вступил в товарищество с какими-то подрядчиками работ, но от этого к концу у меня остались одни только долги. В 1882–1883 году я служил телеграфистом на той дороге (Батумская ж. д.)». — Вскоре Эгнате уехал в Тифлис, где поступил наборщиком в типографию Арсена Каландадзе за семь копеек в день, а через некоторое время вернулся в деревню. «В течение шести месяцев служил сельским писарем». Жизнь в деревне не удовлетворяла Ниношвили. У него уже был большой запас впечатлений, накопился опыт. Ему хотелось писать, и недостаток образования не давал ему покоя. В ноябре 1886 года Эгнате на небольшие деньги, собранные среди сочувствующих ему друзей и знакомых, едет для получения высшего образования за границу, …С утра он уходил в виноградники. Чистый и тихий городок Монпелье лежал внизу, его хорошо было видно с холмов. Вдалеке по проселку лениво пылили лошади окрестных виноделов: в город везли остатки урожая. Эгнате любил, раздвинув по-осеннему тяжелые ветви, наблюдать эту чужую жизнь чужой страны. Франция… Как он стремился сюда! Не хватало денег. Унижался, просил, писал письма… И вот, наконец, пароход — огромный, красивый, белый на синих волнах… Трапезунд. Самсун. Стамбул. Фамилия капитана была Жибуен. Молодой моряк, видимо из богатой семьи, но хочет казаться «морским волком». А всеми делами заправляет его помощник, здоровенный швед с трубкой и бакенбардами. В Марсель пришли поздно ночью, однако весь берег был усыпан огнями. Просто море огней. Эгнате впервые видел такой большой порт. Величественные океанские пароходы и тут же старинные парусники. Скрип лебедок, команды на всех языках перемежаются с гудками буксиров и сиренами кораблей. С рейда доносится музыка: это итальянцы справляют какой-то национальный праздник. На берегу толпа. Шныряют туда и сюда носильщики в форме, люди несутся, стоят, сидят. То и дело подкатывают к выходу нарядные экипажи. А кругом мерцание фонарей и огни, огни… Да, так оно было… — Эгнате!.. Эгнате!.. Кажется, кто-то зовет его? Ниношвили вздрогнул. «Кому я понадобился?» — с неудовольствием подумал он. Ах, это Самсон Канделаки, его соотечественник и друг. — Здравствуй, Самсон… — Здравствуй, Эгнате, я искал тебя в кафе, но мне сказали, что ты рано позавтракал и ушел в холмы. — Самсон сел рядом с Ниношвили. — Да, я с утра здесь. У меня сегодня неважное настроение… — сказал Эгнате. — Опять нет денег… Опять мне кажется, что вся эта затея провалится и учиться не придется! Меня преследует какой-то рок! Я потратил столько сил, чтоб вырваться сюда и поступить в институт, и вот… — Брось, Эгнате, ты же знаешь: мы не оставим тебя в беде!.. — Вы-то не оставите, но чем вы можете помочь мне, когда вам самим копейки шлют с родины? Они замолчали. Эгнате сидел на траве, над его головой ветер шевелил листву. Где-то вдали на дорогах Франции все так же клубилась пыль…
Ниношвили не получил помощи с родины. Друзья не смогли собрать суммы, необходимой для продолжения его образования. Вот его письмо, адресованное другу из Гурии: «Ты, вероятно, видел птицу с подрезанными крыльями, которая пытается, но не может взлететь? Этой птице с подрезанными крыльями подобна моя мечта. Всем сердцем я стремлюсь к образованию, жажду увидеть вольную жизнь Женевы и Парижа, но силы и обстоятельства не позволяют мне осуществить это желание. Кто знает, даст ли мне когда-нибудь счастливый случай возможность увидеть Париж и другие очаги свободы, услышать звуки гимна свободы — «Марсельезы»! Эх, не стоит об этом говорить!..» В марте 1887 года разочарованный и потерявший надежду Эгнате вернулся на родину. Некоторое время он жил в родной деревне, а затем поступил секретарем-переписчиком к крупному феодалу Григолу Гуриели. В том же году появился в печати первый юмористический фельетон Э. Ниношвили «Вести из Гурии», за которым последовал целый ряд статей и корреспонденций, посвященных злободневным вопросам жизни Гурии. Все это было напечатано в газете «Иверия», которую редактировал Илья Чавчавадзе. В богатой фамильной библиотеке князя Гуриели, кроме интересных книг, можно было найти интереснейшие архивные рукописи, редкие памятники грузинской литературы. Окрыленный Эгнате широко воспользовался сокровищами библиотеки. Сравнительно легкая работа и сносные условия жизни после стольких бед дали возможность Ниношвили всей душой отдаться любимому делу. Он задумал написать большой роман о крестьянском восстании в Гурии. Материалы к нему он нашел в библиотеке и архиве князя. Несмотря на хорошие условия, Эгнате не смог долго оставаться у Гуриели. В те годы в Гурии все более обострялись противоречия в отношениях помещиков и крестьян. Ниношвили, который целиком разделял требования крестьян, посчитал для себя невозможным в такое время работать в доме владетельного гурийского князя. В ноябре 1888 года он оставил службу у Гуриели и почти целый год провел в родном селе. Здесь он закончил свой первый роман — «Восстание в Гурии». Это единственный роман Ниношвили на историческую тему. Литература, которой располагал Ниношвили вовремя работы над романом, крайне незначительна. Опираться же на официальные документы писатель не. мог, так как в этих документах восстание освещалось правящими кругами односторонне, пристрастно. Из воспоминаний современников Ниношвили мы узнаем, что писатель собирал сведения о восстании непосредственно среди народа. Опираясь на этот единственно правдивый источник, Эгнате Ниношвили смог дать правильное освещение историческому факту, положенному в основу романа, смог показать с точки зрения классовой борьбы взаимоотношения основных социальных сил, действующих в восстании. По своему характеру это восстание было крестьянским, главным его героем было крестьянство, и поэтому писатель в своем романе именно крестьянина и поставил в центр внимания. Целый ряд картин, эпизодов, Оставляющих неизгладимое впечатление, показывает, с каким воодушевлением, с какой самоотверженностью восстали замученные крепостным строем и жестокой царской политикой крестьяне. С большой любовью и сочувствием рисует писатель типы боевых представителей крестьянства, их главарей, среди которых особенно выделяются прозванные «крестьянскими генералами» Бесия, Атармиза, Тоидзе, кузнец Петрия, будочник Ростом и другие. Каждое слово, каждый поступок этих героев проникнуты свободолюбием трудящегося народа, стремлением к справедливости, бескорыстной преданностью интересам народа, мужественным благородством и самоотверженной готовностью к борьбе.
* * *
«На одной из окраин города Батума, за нефтяными заводами на пустыре, в беспорядке разбросаны дощатые домишки со щелями, которые скорее можно назвать лачугами, чем домами. Вокруг этих помещений вечно непролазная грязь… Дороги здесь такие, что во время дождя' надо соблюдать большую осторожность, чтобы не увязнуть. Болота, которыми изобилует этот уголок, пропитаны нечистотами. Исходящие из них испарения отравляют воздух, и вокруг стоит такое зловоние, что человек, привыкший к чистому воздуху, не закрыв носа, не сможет пройти мимо этого места. В помещениях нет печей. Каждая комната имеет лишь по маленькому оконцу, и поэтому даже в солнечную погоду в них темно. В этих тесных и сырых комнатах ютятся рабочие: по десять-двенадцать человек в каждой…» Этот отрывок взят из неоконченной повести Э. Ниношвили «Приют». Вот в одной из таких комнат жил и Эгнате Ниношвили, который к этому времени был автором не только ряда корреспонденций, опубликованных в прессе, но и таких замечательных произведений, как «Восстание в Гурии» и «Гогия Уишвили». Зима, проведенная в тяжелой обстановке, окончательно надломила его здоровье, и с этого времени он не переставал болеть. В «Автобиографии» Ниношвили пишет: «Зима 1889 года в Батуме оказалась особенно суровой, ветреной и дождливой. На мне была рваная летняя одежда. В ужасную погоду мне приходилось вставать в 4 часа утра и проходить большое расстояние, чтобы попасть на завод. Иногда двери завода оказывались запертыми, и мне приходилось подолгу ожидать на дворе». Писатель Георгий Церетели так рассказывает о жизни Ниношвили в Батуме: «Он то перетаскивал на спине огромные доски, то работал по изготовлению керосиновых бидонов, и часто у него из пальцев сочилась кровь».
* * *
В Батуме, на заводе Ротшильда, Э. Ниношвили впервые познакомился с жизнью и бытом грузинского пролетариата. Эгнате много читал, встречался с передовыми рабочими, читал им свои произведения. В 1890 году он поступил в контору Н. Гогоберидзе в местечке Зестафони. В этой конторе Ниношвили был завален непосильной работой. «Мне кажется, что в Батуме и в этой проклятой конторе я загубил свое здоровье и силы. С этого времени болезнь одолела меня, и я уже редко бываю здоровым», — писал Э. Ниношвили в своем дневнике. И здесь он редко находил свободное время для умственного труда. Несмотря на это, именно за месяцы, проведенные в конторе Гогоберидзе, он написал свои повести: «Симон», «Озеро Палиастоми», «Странная болезнь» — и тогда же начал работать над повестью «Кристине». Сплотив вокруг себя революционно настроенную молодежь Зестафони, Э. Ниношвили устраивал тайные собрания, на которых знакомились с нелегальной революционной литературой и обсуждали пути и способы свержения самодержавного строя, освобождения трудового народа от национального и социального рабства. На одном из таких собраний Эгнате произнес речь, в которой, как рассказывает один из присутствующих, «он ярко охарактеризовал создавшуюся экономическую и политическую обстановку и заключил: абсолютизм душит трудовой народ, высасывает из него кровь и мозг. Жизнь, энергия и способности трудового народа гибнут. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы привести в движение силы народа, чтобы сдвинуть с мертвой точки прогнившую общественную жизнь». В 1891 году Эгнате Ниношвили участвовал в экспедиции «филлоксерной группы» (группы, ведущей борьбу с филлоксерой), которую возглавлял бывший народник агроном Старосельский. С этой экспедицией Эгнате объехал многие районы Кавказа. В результате он написал пространный очерк историко-экономического характера — «Дагестан». В ноябре того же года писатель возвращается в Батум и снова работает на заводе. Весной следующего года он появляется в Зестафони, но так как в конторе Гогоберидзе не оказалось свободного места, его посылают в селение Гоми на работу в конторе того же промышленника. Здесь условия труда и жизни оказались еще хуже, чем в Зестафони. В письме, посланном из Гоми другу, Эгнате пишет: «Не думаю, чтобы здесь можно было что-нибудь написать… Ну-ка, представь себе, что можно написать в такой обстановке: к трактиру, где собирается всякий сброд, пристроена крохотная комнатка длиной в пять аршин, шириной в три с четвертью и высотой в три с половиной аршина, с прогнившим, неровным полом. Это жилье-гроб отделяет от трактира тонкая деревянная стена. Из трактира доносятся гомон пьяной толпы, крики и брань дерущихся, точно все это происходит у нас в комнате. Попробуй работать, попробуй писать в такой обстановке! Можно? Не думаю…» Во втором письме, посланном из Гоми тому же адресату, Эгнате писал: «Валяюсь, обессиленный от ненавистной тяжелой работы и… хлопот. Вокруг пропитанный марганцевой пылью воздух, галдеж пьяной толпы… Думаешь отдохнуть хоть ночью, но напрасная надежда. В примыкающем к нашей комнате трактире продолжаются крики, драка, зурна, брань. Выходит, до утра надо терпеть это гармоническое смешение шумов». Вскоре контора промышленника в Гоми была закрыта, и Эгнате вновь остался без работы. К этому времени его несколько рассказов были уже опубликованы, и он стяжал славу талантливого беллетриста. Писатель решил отныне заняться систематической литературно-общественной и революционной деятельностью и с этой целью стал готовиться к переезду в Тифлис. После короткого пребывания в родном доме, в Гурии, Эгнате переезжает в Тифлис и устраивается там на жительство сначала вместе с Миха Цхакая, а затем на отдельной квартире. В Тифлисе Эгнате Ниношвили живет активной умственной жизнью, организует кружки революционно настроенной молодежи, неутомимо читает и пишет, знакомится с нелегальной литературой, в том числе с трудами Плеханова, и стремится найти правильный путь борьбы за освобождение трудового народа. К этому периоду относится встреча Эгнате Ниношвили с будущим великим основоположником социалистической литературы Максимом Горьким. В то время Горький еще не занимался литературой. Это был революционно настроенный юноша Алексей Пешков, который с целью изучения жизни трудового народа обошел необъятные края Российской империи, а в 1891 году попал и в Тифлис. Здесь он вскоре сблизился с передовыми рабочими и революционно настроенными интеллигентами и в числе их с Эгнате Ниношвили. Мы не имеем данных о том, в каких условиях произошла эта встреча и их сближение, но известен по воспоминаниям интересный эпизод. Во время одной беседы Пешков обратился к Эгнате: «Счастливый ты, товарищ, твои произведения знает народ, и ты заслужил такую любовь». — «Напиши и ты о своей жизни, о том, что видел и пережил, тогда и тебя узнают и полюбят», — ответил ему Эгнате. В этот период Эгнате Ниношвили окончательно убеждается в беспочвенности и вырождении народничества, его сознание тянется к марксистскому учению: С именем Эгнате Ниношвили неразрывно связана история организации «Месаме-даси». Его по справедливости следует считать руководителем этой группы в области художественной литературы. Со дня основания газеты «Квали» Эгнате Ниношвили был ее постоянным сотрудником. Он ценил эту газету, как временную арену для выступления марксистски мыслящей молодежи, пока она не имела собственной прессы. Весну 1893 года Ниношвили провел в Гурии. Здесь он энергично работал над собой, стараясь разобраться в той идеологической путанице и противоречиях, которые характеризовали «Месаме-даси» того периода, Уяснив себе задачи борьбы, он готовится к новому периоду своей революционно-писательской деятельности: острыми публицистическими статьями и путем практической революционной работы распространять среди рабочего класса учение Маркса — Энгельса и призывать народ к классовой борьбе. Но Ниношвили не удается осуществить свое желание. К этому времени его здоровье было совершенно подточено постоянной нуждой и тяжелым трудом. Болевший туберкулезом писатель не имел никакой возможности лечиться. С конца 1893 года Эгнате Ниношвили был уже окончательно прикован к постели. Но, несмотря на тяжелую болезнь, он не прекращал своей творческой работы и общественной деятельности: писал публицистические статьи, работал над новым рассказом и начал перерабатывать и исправлять некоторые ранее написанные произведения. Упорно не сдаваясь одолевающему его неизлечимому недугу, он с живым интересом следил за прессой, за развитием общественной жизни, стремился активно помочь боевому объединению и сплочению марксистски настроенной молодежи с выдающимися деятелями грузинской культуры. Ряд писем, посланных им в последние месяцы жизни известным грузинским писателям и общественным деятелям, свидетельствует о том, с какой неугасающей энергией и душевной бодростью служил он до последних минут жизни своим социальным идеалам. В этот период Э. Ниношвили активно сотрудничает в «Квали» и заботится о том, чтобы вокруг этого органа сплотились лучшие деятели литературы и общественной мысли. В письме к редактору Георгию Церетели он пишет: «Из всех журналов и газет, существующих в Грузии в настоящее время, «Квали» самая прогрессивная. Вот почему я считаю своей нравственной обязанностью сотрудничать в ней». Во втором письме, адресованном тому же Георгию Церетели, Ниношвили выражает глубокое удовлетворение по поводу того, что Акакий Церетели возобновил сотрудничество в «Квали»: «Меня очень обрадовало, что наш великий поэт Акакий снова вернулся в «Квали». Акакий — любимый поэт народа, и орган, в котором он будет сотрудничать, привлечет к себе народ». Написанные Ниношвили в последние месяцы жизни публицистические статьи и частные письма глубоко проникнуты боевым духом писателя, его неутомимой жаждой активной общественной деятельности. Но смертельный недуг с неумолимой быстротой подрезал крылья этим благородным стремлениям писателя. 6 декабря 1893 года он посылает редактору «Квали» однуиз своих публицистических статей и просит его исправить ее стилистически, поясняя при этом: «Так как я настолько ослаб от болезни, что прочесть вторично и исправить статью у меня не хватило сил». В этом же письме писатель горестно жалуется на свою тяжелую болезнь и заключает: «Одним словом, я потерял всякую надежду на выздоровление». Но Э. Ниношвили вовсе не думает покидать поля деятельности. «Хотя за это последнее время я очень ослаб физически, но уверен, что свое мнение, которое выражаю в печати, смогу подтвердить и фактами. Для борьбы с нашими квазипатриотами у меня хватит и сил, и знаний, и фактов. Не так уж много нужно для разоблачения их ложных мыслей», — писал Э. Ниношвили в январе 1894 года Анастасии Церетели. Писатель чувствует, что ему многое еще надо сказать, написать, сделать, что его творческое дарование именно сейчас должно было развернуть свои крылья со всей силой и полным размахом. Поэтому ой так остро переживает свое физическое бессилие, приближение конца. Выдающийся грузинский педагог Якоб Гогебашвили написал больному Эгнате письмо, полное глубокого сочувствия, и оказал ему материальную помощь. В проникнутом искренней признательностью ответном письме Э. Ниношвили писал прославленному автору «Дэдаэна» («Редное слово»): «Должен признаться, что, получая общественные деньги, я дрожу от страха. Если даже выздоровлю, смогу ли я возместить обществу или деньгами, или своими трудами то, что оставлю после себя? Несколько маленьких рассказов! Этого мало. Но я все же достаточно вознагражден тем, что написанное мною доставило хоть маленькое, но истинное удовольствие грузинскому обществу. Я считаю себя вполне удовлетворенным, когда такая достойная личность, как вы, говорите мне: «Читая ваши произведения, я получил удовольствие». Эти слова ярко отражают как светлый моральный облик писателя, его большую скромность и требовательность к себе, что составляет достоинство каждого истинного дарования, так и ту глубокую душевную драму, которую переживал больной. В том же письме к Я. Гогебашвили Эгнате так характеризовал свое состояние: «Со мной дело обстоит так: я кашляю очень много, иногда кровью. Голос у меня совсем осип; под левой грудью во время кашля, а иногда и при дыхании, чувствую сильную боль… Аппетит совершенно пропал, ходить не могу, стоит пройти несколько шагов, сейчас же начинается одышка, задыхаюсь и в коленях ощущаю страшную усталость… Сейчас, зная свое положение, я должен быть большим оптимистом, чтобы надеяться на выздоровление. По моему мнению, мне осталось жить от силы три года!» В действительности же после этого письма Эгнате Ниношвили прожил только три месяца. У такого тяжелобольного не было не только минимальных гигиенических условий и возможностей для лечения, но и соответствующего питания. Эгнате Ниношвили жаловался в одном из своих частных писем: «Три четверти этой зимы я из-за болезни провалялся в постели. Здешний климат полезен мне (хотя в этом году по мне этого не видно), но в деревне очень трудно наладить сносные гигиенические условия жизни. Прежде всего здесь не найдешь приличную комнату, притом трудно достать питательную пищу. Например, если говядину не привезешь из города (а город довольно далеко от нашей деревни), здесь ее не достать, разве только по праздникам… За всю зиму я нигде не смог достать молока». Вот в таких условиях прожил тяжелобольной Ниношвили последние месяцы жизни. В это время он уже был известным, популярным писателем, заслужившим общее признание и любовь трудового народа. Сотрудники редакций «Квали» и «Иверия», такие выдающиеся писатели и общественные деятели, как Георгий Церетели, его жена Анастасия, Якоб Гогебашвили и другие, не говоря уже о ближайших друзьях и единомышленниках Э. Ниношвили, не оставляли его без внимания и забот, но при всем своем желании они не могли создать умирающему писателю даже самых элементарных условий. Это обстоятельство дает ясное представление о том, в какой тяжелой обстановке развивались национальная литература и пресса, насколько скованы и ограничены были возможности и творческие силы грузинского народа во времена жестокой колониальной политики царизма. В поисках более подходящих для лечения условий Ниношвили в марте 1894 года повезли в Батум, но во всем городе ему не смогли найти сколько-нибудь сносного жилья. Домовладельцы и хозяева гостиниц побоялись сдать комнату туберкулезному больному. Вот что писал Эгнате Ниношвили по этому поводу одному из своих близких друзей — С. Джибладзе: «20-го числа этого месяца я кое-как добрался до Батума. Прибыл в Батум, но что меня здесь ожидало! Узнав, что я болен, все от меня отказывались. «Такого больного мы не можем впустить в дом», — говорили они. В первую ночь нас приняли в гостиницу, но на другой день, увидя мое белое как полотно лицо скелета, объявили: «Вы должны уйти, мы не можем сдавать номера больным, это напугает наших постояльцев». Что нам оставалось делать? Мы переждали до ночи, надеясь, что в темноте никто не разглядит моего лица. С наступлением ночи нам удалось проникнуть в другую гостиницу». Вскоре писатель оказался вынужден покинуть Батум и вернуться в родную деревню, где провел последние дни жизни в невероятных физических и душевных страданиях. Чем больше изнуряла писателя болезнь, чем ближе подходил конец жизни, тем острее он жаждал деятельности, творческого труда, тем сильнее он страдал от невозможности служить той великой цели, которая именно в последнее время так четко и ясно обрисовалась в его сознании. О последних днях жизни Э. Ниношвили, о том, в каких мучительных физических и душевных страданиях угасал тридцатипятилетний писатель, ясное представление дает корреспонденция С. Джибладзе, опубликованная в «Иверии» 22 апреля 1894 года. «За последнее время, — говорится в этой корреспонденции, — болезнь нашего Эгнате приняла безнадежный характер. Так как его жизнь в деревне стала невозможной, он решил переселиться в Батум, но, к несчастью, Батум не проявил сочувствия к нашему писателю. Его мертвенно-бледное лицо отпугнуло домохозяев. Лишь одна гостиница предоставила ему, и то за слишком высокую плату, узкую, неудобную комнату. Жизнь в Батуме тоже оказалась для него невыносимой… Больной предпочел вернуться в родную деревню, в свою лачугу. Он становился все слабее, но, несмотря на это, привыкший к. постоянному труду, он время от времени вскакивает с постели и тщетно старается продолжать начатую работу. Перо выпадает из его дрожащей руки, и он в исступлении, со слезами на глазах снова падает на постель. «Умираю, умираю, — говорит он с содроганием, — умираю, ничего не успев сделать, в то время, когда программа моей деятельности ясно определилась для меня». Этого благородного человека очень беспокоит и то, что он не в силах ответить тем уважаемым лицам, от которых получает письма, полные сочувствия». В те же дни С. Джибладзе по просьбе Эгнате послал письмо Анастасии Церетели, в котором описано угасание жизни писателя: «Эгнате Ингороква получил присланные вами деньги, но он уже не в состоянии ответить. Мне хочется искренне поблагодарить вас за сочувствие. Эгнате сейчас в деревне. Последние дни своей горькой жизни он предпочел окончить здесь. Вот уже пятнадцать дней, как я смотрю на его невыразимые страдания. По словам батумских врачей, он не переживет этой весны. Эгнате совершенно потерял аппетит, голос у него пропал, и он уже совсем не может- вставать с постели. Тем не менее, как только ему становится немного лучше, он пытается продолжать свой новый рассказ «Пустырь», но тщетно: перо выпадает из его руки, и от страшного волнения он обливается холодным потом. Так угасает этот благороднейший из людей. Очень мучает его также и то, что он не в силах ответить вам и другим уважаемым лицам, от которых получает сочувственные письма». Как видим, это частное письмо С. Джибладзе является почти повторением его корреспонденции, помещенной в «Иверии». Мы приводим эти два документа полностью, так как они ярко рисуют не только последние дни жизни Э. Ниношвили, но и светлый облик писателя, его чистый моральный образ, его пламенную душу, вечно томившуюся жаждой неукротимой борьбы и творческого труда. Когда в «Иверии» появилась приведенная выше корреспонденция, дни Э. Ниношвили уже были сочтены. Он скончался 12 мая 1894 года в родной деревне Чаргвети. В организации его похорон приняли участие представители всех направлений грузинской литературы и общественной мысли. В день похорон Ниношвили состоялось первое официальное публичное выступление «Месаме-даси». Эгнате Ниношвили не дожил до того времени, когда широко развернулось революционное рабочее движение в Грузии, когда рабочие массы все более проникались великими идеями научного социализма. Это движение началось несколькими годами позже под руководством И. В. Сталина, Миха Цхакая, Александра Цулукидзе, Ладо Кецховели и Филиппа Махарадзе. Но если Э. Ниношвили не довелось лично участвовать в этой великой борьбе, то его литературное наследие в большой мере способствовало внедрению революционного сознания в народные массы, воспитанию новых поколений в духе классовой борьбы, в духе непримиримости к миру рабства и несправедливости.
Т. Махарадзе ФИЛИПП МАХАРАДЗЕ

Апрель 1893 года. Варшава. Медленно падает снег. Падает и тает под ногами прохожих, под копытами лошадей… Последний снег. В центре города его убирают, но на окраинах непролазная грязь. Снег здесь черный от копоти. С дневной смены возвращаются рабочие. Их много. Они идут группами, в одиночку. Мужчины, женщины. Прямо по мостовой. А что? Они привыкли. Здесь никогда не просыхает. У небольшого склада с романтичным названием «Надежда» остановилась пролетка. В дверях показались четверо. Они вынесли большой ящик, поставили его на заднее сиденье. Один сел рядом. Пролетка тронулась. Трое постояли и разошлись в разные стороны. Вечером в полицейское управление города Варшавы были направлены трое задержанных, назвавшихся студентами ветеринарного института. Шпик, выследивший их, утверждал, что они занимаются перевозкой нелегальной литературы. Усталый дежурный записал в книгу фамилии задержанных: — Антокольский… — Мирианашвили… — Махарадзе… Дежурный промокнул запись и сказал: — Нехорошо, господа студенты. Плохими делами занимаетесь! Где это видано — против властей идти?! Неужто не понимаете, что скрутят вас, все равно сломают! Высокий, плечистый студент зло усмехнулся; — Ничего, мы гибкие: выдержим! Дежурный покачал головой и задумался: «Вот времена, будь они неладны! Студент поднимает руку на государя! А эти, наверное, марксисты. Самые опасные. Ишь, отбрил: «Гибкие»!.. Как его звать-то? Филипп, кажется. Ну да, Филипп Махарадзе. Из грузин, видать!» В караульном помещении городовые резались в шашки. Городовые поднимались по лестницам. Городовые сидели на скамье напротив. Трое молчали, спокойные, неприветливые. «Крепкий народ», — неожиданно с завистью подумал дежурный.
* * *
Темная, сырая камера Александровской крепости в Варшаве. Сколько людей томилось здесь? Сколько месяцев, лет, жизней проведено на этих нарах? О многом могли бы рассказать серые, холодные стены. Но они молчат. Ни звука. От тишины чувствуешь себя оглохшим. Иногда через окошечко в двери подают пищу: кусок черного хлеба и миску баланды. Филипп Махарадзе утратил ощущение времени. Где друзья? Что с ними? Сколько он сидит здесь: день, неделю? От нервного напряжения, кажется, можно сойти с ума! Можно? Нет, нельзя! Он ложится на нары. Единственный собеседник узника — память. Нужно вспомнить все, от самого детства. Тогда легче. И мысль занята. Он закрывает глаза. …Горы, горы… Синие. И еще синее небо. И лес по склонам. Внизу равнина. Где-то слева монастырь и кладбище. Село называется Шемокмеди… Детство. Вот в потертой рясе местный священник старый Эсе Махарадзе. О, старый Махарадзе — самый строгий человек в Шемокмеди, но, спросите кого хотите, он и самый уважаемый человек! Горы, горы… А вот мать — Мария Гавриловна. Она спускается по тропинке с полной корзиной белья. Много дел у наших матерей… — Мария, — кричит отец, — пошли ко мне Филиппа! — Зачем я нужен? — удивляется Филипп. — Вот что, сын: через два дня ты уезжаешь в Тифлис. Я отдаю тебя в духовную семинарию. — В семинарию?!. Спорить бесполезно. Эсе Махарадзе еще и самый непреклонный человек в Шемокмеди. Семинария… Казенные стены. Казенный воздух. Казенное преподавание: зубрежка, высокомерные, грубые учителя. Затхлый дух поповщины и монашества. Нет, правду говорят, что ни одно учебное заведение не давало столько атеистов, как духовная семинария!. За чтение запрещенной литературы исключен способный Сильвестр Джибладзе. Доведенной до отчаяния преследованием тихий мальчик Лагиашвили убивает ректора. Ученики объединяются в подпольные «кружки саморазвития». Там читают книги по истории, астрономии, геологии, естествознанию. Филипп улыбается: когда ему первый раз сказали, что человек произошел от обезьяны, он решил, что над ним смеются. Да, многое понял Филипп с той поры, как поступил в семинарию. О многом прочитал, до многого дошел своим умом, а больше всего узнал от окружающих. Недалеко от семинарии, за Александровским садом была маленькая букинистическая лавочка Захария Чичинадзе. Выходец из крестьян, самоучка, страстный книголюб, он широко распахивал двери своего магазинчика для молодых людей. Соблюдая известные предосторожности, они могли посидеть во внутренней комнатке, поспорить, поговорить, посмотреть редкие книги. У Захария бывали русские революционеры, сосланные на Кавказ. Они приносили с собой газеты и журналы: «Колокол», «Вперед», «Вестник «Народной воли». Внимательно слушал Филипп Махарадзе рассказы этих людей, прошедших огни и воды. Однажды в лавочке вполголоса читали речь какого-то рабочего на суде: «Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда». Эти слова поразили Филиппа. Он шепотом спросил у Захария: — Кто это? Захарий усмехнулся: — Это хороший человек. Большой человек. Звать его Петр Алексеев. Да, семинария… В третьем классе Ной Жордания и Киквадзе предложили Филиппу издавать рукописный журнал. Филипп с радостью согласился. Журнал имел успех. Однажды семинарию посетил сам обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев. Его высокопревосходительство произнес громовую речь: «В бараний рог бунтовщиков! Вон из этих стен всех, кто поднимет руку на святые устои наши!..» И все-таки рук, поднимающихся на святые устои, становилось все больше. Особенно запомнилась Филиппу весна 1890 года. В ответ на грубый произвол и деспотический режим семинаристы объявили забастовку. Несколько дней длилась она и окончилась победой. Не тогда ли понял Филипп большую правду: только борьбой можно изменить жизнь! И пусть победа была недолгой, она стала вехой в его судьбе. А через полтора года Филипп Махарадзе, Ной Жордания и еще двое окончивших семинарию уехали в Варшаву для поступления в Варшавский ветеринарный институт. — Арестант! Спишь, что ли?! Марш за мной! — Это кричал коридорный. Филипп поднялся на нарах. — Куда? — Не твое дело, сукин сын! К начальству. Присягу новому царю принимать будете!
* * *
13 февраля 1394 года обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев направил генерал-лейтенанту Шереметьеву — главнокомандующему гражданской части на Кавказе — раздраженное письмо. Его высокопревосходительство сильно беспокоился по поводу все более разрастающегося революционного движения в Грузии. «Заслуживает внимания, — писал Победоносцев, — посылка грузинских семинаристов в Варшавский ветеринарный институт (издавна служащий очагом возмущения). Имена их: Филипп Махарадзе и другие. Слышно, что они в чем-то попались и были арестованы (должно быть, сведения в департаменте полиции). Молодые люди даровитые и опасные». Его высокопревосходительство имел основания беспокоиться. Грузинских студентов встретила глухо бурлящая Варшава. Здесь произвол царских властей чувствовался на каждом шагу. Все было загнано неглубокое подполье. Однако Филипп Махарадзе, хотя и с большим трудом, все же связался с кружком польских товарищей. В кружке изучались произведения Маркса, Энгельса, Плеханова. Много внимания уделялось современному рабочему движению. Собирались на квартире у брата и сестры Виткиндов, пили чай, курили, спорили до хрипоты. Высокий, красивый Антокольский кричал Ною Жордания: — Это же националистические настроения! — Чепуха! — невозмутимо отвечал Ной. — А что, по-твоему, социализм? Филипп, улыбаясь, слушал друзей и думал: «Добьемся! Обязательно добьемся! Как хочется пожить при социализме… ну, хоть немного». Они очень повзрослели за это время. Филипп написал доклад к десятилетию со дня смерти К. Маркса, несколько раз выступал агитатором у рабочих, где пользовался авторитетом и доверием. Ной Жордания составил большую «Национал-демократическую программу». Филипп раскритиковал ее, предлагая коренным образом переделать и назвать «социал-демократической». В 1892 году в Грузии состоялась конференция первой марксистской группы на Кавказе «Месаме-даси», на которой была обсуждена эта программа. Участники конференции, в том числе видный грузинский писатель-революционер Эгнате Ниношвили; Миха Цхакая, Р. Каладзе и другие, поддержали точку зрения Махарадзе. Варшавский кружок все разрастался. Его участники занимались уже не только изучением марксизма, они значительно расширили свои выступления у рабочих, тайно перевозили марксистскую литературу в Россию, распространяли ее в Польше. Огромное поле деятельности развернулось перед Филиппом Махарадзе, но после неудачно проведенной операции он был арестован…
* * *
Интересная школа открылась на одной из улиц Кутаиса. Внешне это была обыкновенная вечерняя школа для рабочих. Здесь преподавали учителя кутаисских гимназий: Мария Отиевна Вардосанидзе, Наталия Ивановна Кавтарадзе и другие. Существовало официальное школьное расписание. Однако, кроме официальных предметов, учащиеся знакомились с политграмотой, с естественными науками и несколько «своеобразным» преподаванием истории. Школа пользовалась большой популярностью у кутаисских рабочих. Однажды вечером к воротам школы подошел человек болезненного вида, одетый в хорошее пальто с барашковым воротником. Он остановил выходящего рабочего и попросил сказать, где он мог бы увидеться с Филиппом Евсеевичем Махарадзе. Рабочий пристально оглядел незнакомца: — А вам, простите, зачем Филипп Махарадзе? — Нужно, я его старый друг. — Гм, что ж, ты — старый друг, а не знаешь, где он живет? — Я уезжал из Кутаиса, а потом я был болен. — Хорошо, — сказал рабочий. — Зайдем в школу. Филипп Евсеевич, кажется, там. — Вот замечательно! — обрадовался незнакомец. — Вас спрашивают здесь, Филипп Евсеевич! — закричал рабочий еще с порога директорской. — Кто спрашивает? — Из комнаты вышел Махарадзе. — Это я, Филипп. Узнаешь?.. — Саша?.. Цулукидзе?!. Боже мой!.. — Филипп Евсеевич обнял незнакомца и увлек за собой. Рабочий облегченно вздохнул и направился к выходу. Они беседовали до глубокой ночи. — Вот так я и жил это время, — рассказывал Махарадзе. — Вышел из Варшавской тюрьмы. Выслали обратно в Грузию. В Тифлисе нашел Миха Цхакая и Сильвестра Джибладзе. Жил нелегально, много ездил. В Кутаисе осел после второго ареста — выслали под гласный надзор. В общем сам понимаешь… Организовали здесь школу для рабочих, пробовали наладить издание газеты — не вышло. — Я читал твои статьи по литературе, — сказал Цулукидзе. — Поверь мне, это очень интересно. Особенно о грузинском языке и об искусстве. Филипп Евсеевич смутился. — Ну что ж, я рад, если тебе понравилось. Как насчет съезда? — перевел он разговор на другую тему. Уже давно социал-демократические организации Кавказа хотели объединиться в одну. Нужен был съезд. — Съезд состоится в марте, — сказал Цулукидзе. — Будет большая потасовка… Он вдруг улыбнулся детской, удивительно приветливой улыбкой.
* * *
В середине марта 1903 года нелегально состоялся I Кавказский съезд социал-демократических организаций. На съезде обсуждались вопросы объединения марксистских сил Кавказа и создания Кавказского союза РСДРП. Выявились большие разногласия. Сторонники искровского направления высказались за объединение, но старый варшавский друг Махарадзе — Н. Жордания возглавил направление на «самостоятельное существование». Махарадзе резко выступил против него. Победу одержали «искровцы». В результате газета «Брдзола» («Борьба»), орган грузинских рабочих, объединилась с армянской газетой «Пролетариат» в одну — «Борьба пролетариата». В состав Кавказского союзного комитета вошли А. Цулукидзе, М. Цхакая, Ф. Махарадзе, Б. Кнунянц. Комитет предложил Махарадзе переехать в Тифлис и перейти на нелегальное положение. …Начиналась короткая горная весна. Быстро пробуждался древний грузинский город Кутаис. На вершинах таял снег. Вниз неслись бурные потоки, вливаясь в холодную Риони. Воды реки потемнели. Кутаис особенно красив весной, когда склоны гор окутаны туманом. Лес кажется синим, и все вокруг приобретает синеватый оттенок. Чем-то сказочным веет от величественных развалин легендарного храма Баграта. Филипп Евсеевич шел по улице. Только что кончился теплый весенний дождь. У водостоков дети пускали бумажные кораблики. Няньки вынесли младенцев. Пахло талым снегом, землей, водой. Он остановился у ворот. В дом идти не хотелось. Задумался. Жизнь идет. Его сверстники уже стали отцами. Их дети будут жить в лучшую из эпох — эпоху социализма. Но сколько нужно сделать еще для того, чтобы она наступила! Старое не сдается просто так. Вот и весне приходится отвоевывать свое у зимы! Однако жизнь идет. Весна все равно наступает. Наступит и наше время! Нужно только очень верить!.. У него за спиной приоткрылась дверь. Филипп Евсеевич оглянулся. Дверь захлопнулась. «Что-то не в меру любопытны стали мои соседи, — подумал он. — Пожалуй, пора менять квартиру!» Он вдохнул еще раз всей грудью весенний воздух и достал ключи… «Квартирный вопрос» решился неожиданно быстро. Помогла учительница рабочей школы Мария Отиевна Вардосанидзе. Вскоре Филипп Евсеевич переехал. Его новая квартирная хозяйка Мария Константиновна Киселева, урожденная Маяковская, оказалась женщиной внимательной и заботливой. Близ Багдади у нее работал брат лесничим. В дом Киселевых часто приезжал племянник Марии Константиновны Володя. Он готовился к поступлению в Кутаисскую гимназию и много занимался с соседкой Махарадзе Ниной Прокофьевной Смольняковой. Кто мог знать тогда, что Володя Маяковский станет всемирно известным поэтом, а его молодая учительница Нина Прокофьевна гораздо раньше — женой и верным другом Филиппа Махарадзе?!
* * *
Кавказский союзный комитет вел большую работу по руководству революцией. На предприятия были выделены агитаторы, в число которых вошли Цулукидзе, Цхакая, Махарадзе, Шаумян, Бочорадзе и другие. 9 января 1905 года в далеком Петербурге царь расстрелял мирную демонстрацию, направлявшуюся с петицией ко дворцу. Чаша терпения переполнилась. По всей Грузии прокатилась волна забастовок протеста. Народ взялся за оружие. На улицах Тифлиса строились баррикады. В рабочих районах создавались боевые дружины. Начались вооруженные столкновения с полицией. Махарадзе была поручена работа на Тифлисском железнодорожном узле, где у него давно уже наладились связи с передовыми рабочими, Филипп Евсеевич организовал доставку оружия в город, а также распространение листовок и прокламаций. 17 января Махарадзе арестовали вместе с Цулукидзе и Бочорадзе. Однако растерянная охранка вскоре выпустила их. Кавказский союзный комитет назначил Махарадзе редактором недавно вышедшего журнала «Могзаури». Скоро журнал завоевал широкую популярность. Здесь печатались статьи К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Кл. Цеткин, произведения М. Горького. Регулярно появлялись материалы о революционной жизни в стране и политической обстановке на Кавказе. В период напряженной борьбы большевиков за союз рабочего класса и крестьянства Махарадзе развил в своих работах ленинское положение о ликвидации частной собственности на землю, применительно к условиям Грузии. Он перевел на грузинский язык известную брошюру В. И. Ленина «К деревенской бедноте», которая вскоре стала программой партийной работы в деревне. В самый разгар революционной борьбы 8 июня 1905 года умер Цулукидзе… Горько молчал Филипп Махарадзе у могилы друга. Тысячи людей стояли рядом и тоже молчали. С доброй половиной пришедших проводить его в последний путь Саша Цулукидзе был знаком лично. Человек очень знатного рода, князь, он мог сделать блестящую карьеру, но избрал иную дорогу. И вот его нет… Сказаны все речи. Сложены у могилы все венки. В гробовом молчании стоят люди. И вдруг где-то в задних рядах раздается: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», — и поднимаются головы, и грозные голоса подхватывают песню. Она растет, ширится, вливается в город вместе с огромной демонстрацией. Реют красные флаги с черными траурными лентами… Да здравствует революция!
* * *
В боях пятого года тифлисский пролетариат одержал лишь временную победу. Борьба здесь велась организованно, под руководством Стачечного бюро. Но силы рабочих были еще слабы, и революции пришлось отступить. Махарадзе арестован. Но вскоре ему удается вырваться на волю, и, уступив настоятельным просьбам друзей, он решает уехать с семьей за границу. Берлин. Темные высокие здания. Мутная речонка Шпрее… По вечерам приходят новые, немецкие товарищи. Они очень приветливы, интересуются жизнью в Грузии, приносят книги, газеты. На родине плохо. Революция разгромлена. Тяжело переживается поражение. Сгибаются самые стойкие. Меньшевики кричат, что не надо было браться за оружие. Партия снова в подполье. Вести из России нерегулярны и противоречивы. Неизменно веселый Махарадзе помрачнел. Немецкие товарищи понимают своего русского друга. Они стараются как можно внимательнее относиться к нему. Однажды они привели к Махарадзе красивого черноволосого юношу: — Ваш соотечественник, товарищ Филипп. Весьма способный молодой человек. — Очень хорошо, — обрадовался Махарадзе. — Давайте познакомимся: Филипп Евсеевич… Молодой человек улыбнулся: — Меня здесь зовут товарищ Георгий. А вообще я — Серго… Серго Орджоникидзе… Серго стал частым гостем в семье Махарадзе. Филипп Евсеевич и Нина Прокофьевна полюбили этого горячего, порой резкого, но очень жизнерадостного человека. Серго неплохо знал литературу и был приятным собеседником. — Ну, а теперь давайте почитаем, — говорила иногда Нина Прокофьевна, и Махарадзе, притушив свет, начинал вполголоса читать «Витязя в тигровой шкуре»:
* * *
В Тифлисе рядом с церковью на Петхаинском спуске, у древней городской стены некогда стоял маленький дом. Здесь жил священник Поповянц. Морозным январским вечером 1908 года сюда сходились люди, Они шли поодиночке, осторожно, часто оглядываясь по сторонам и стараясь не привлекать к себе внимания. Подходили к дому с внутренней стороны, тихо стучали. Калитку открывал сын Поповянца. — Проходите, пожалуйста, — вежливо приглашал он, услышав пароль. Когда пришел последний, Поповянц кивнул сыну. Тот вышел. Огня не зажигали. Только мерцали огоньки папирос, — Ну, кажется, можно начинать, товарищи, — сказал кто-то в темноте. — Заседание съезда социал-демократических организаций Закавказья считаю открытым… Раздался стук в окно. Все насторожились. Стук повторился. — Спокойно, товарищи, — объявил Поповянц. — Немедленно одевайтесь, это сигнал. Прямо за домом есть подъем на гору. Уходите поодиночке. Торопитесь! В город можно вернуться по Коджорской дороге. Расходились быстро. Через пятнадцать минут в дом нагрянула полиция. Командовал молодой пристав. — Кто был у вас? — налетел он на Поповянца, — Сегодня никого не было, а вообще к нам много народу заходит, — спокойно ответил Поповянц. — Перестаньте валять дурака! — закричал пристав и неожиданно спросил: — Вы курите? Нет? Так почему здесь столько окурков? Поповянц презрительно пожал плечами. Обыск не дал результатов, но все же отец и сын были арестованы. В это же время на Вельяминовской улице были задержаны Ясон Джорбенадзе, Федор Каландадзе и Филипп Махарадзе. Все они направлялись к Поповянцу. Началось следствие. Махарадзе было предъявлено обвинение в том, что он активно сотрудничал в работе Тифлисского социал-демократического комитета, и в том, что у него в 1905 году жил Георгий Лордкипанидзе, задержанный при выезде из Тифлиса с бомбами. Припомнили, конечно, и работу в Тифлисском стачечном бюро во время декабрьских событий. Охранка решила окончательно разделаться с арестованными. Их должен был судить военно-полевой суд, однако следствие велось довольно бестолково, не все улики были налицо. В результате Филиппа Махарадзе, как «крайне вредного для общественного блага», выслали этапным порядком в Астраханскую губернию без права возвращения на родину. Вскоре к нему приехала жена с маленьким сыном Арчилом.
* * *
Неприветлив уездный городок Красный Яр. Летом здесь нестерпимо жарко. Зимой холода, бураны. Маленькая церковка, покосившиеся домики, на базарной площади огромная грязная канава. Типичные задворки Российской империи. Недаром это место выделил государь-император для проживания ссыльнопоселенцев. Привозят их сюда партиями на определенный срок, а по истечении срока состав меняется. Пестро выглядит нынешняя партия: народник, сотрудник «Русского богатства» Петр Голубев, меньшевик Исидор Рамишвили, в прошлом член Государственной думы, большевики — Землячка» Нариманов, Ривкин. А рядом уголовники. Бывшие «специалисты» по «мокрым делам» с тоски глушат водку. Политические собираются в так называемом клубе, спорят, делятся мнениями, опытом, читают. Старостой политической колонии был избран Махарадзе. — Ты знаешь, Нина, — сказал как-то Филипп Евсеевич жене, — кажется, я все больше становлюсь литератором. Взгляни — вот в «Астраханском листке» та статья о Белинском, насчет которой мы говорили. Как они решились напечатать?! Нина Прокофьевна молча улыбнулась. — Очень хочется мне написать о нашем Саше Цулукидзе, — задумчиво произнес Филипп Евсеевич. — Скоро пять лет исполнится с его смерти. — Обязательно нужно написать, — сказала Нина Прокофьевна. Статья о Цулукидзе была опубликована. Затем появилась его большая статья о Белинском и ряд других. Оканчивался срок ссылки. Нужно было думать, где жить дальше. Филипп Евсеевич с семьей переехал в Ростов, а затем в маленький шахтерский поселок на рудниках Парамонова в Александровско-Грушевском районе Донбасса, Жизнь шахтеров заинтересовала Махарадзе. Он устроился на работу в библиотеку при школе. Однажды в библиотеку пришли двое рабочих. Порывшись в подшивках, один из них подошел к Махарадзе: — Скажите, у вас нет газеты «Правда»? Филипп Евсеевич пристально оглядел его. Открытое лицо рабочего внушало доверие, однако Махарадзе сказал: — Нет, такой газеты я не знаю. — Жалко, — огорченно вздохнул рабочий. — Есть такая газета, называется «Правда». Очень правильно пишется в ней о нашей рабочей жизни. Филипп Евсеевич про себя улыбнулся, но сказал: — Я работаю недавно. Если хотите, приходите вечером, поищем вместе в старых подшивках. Рабочий согласился. Так начал работать на Парамоновских рудниках маленький марксистский кружок. А вскоре шахтеры объявили одну за другой две забастовки, и администрация забеспокоилась. Стало понятно, что рабочими руководит опытный человек. За Махарадзе началась слежка. Пока не поздно, надо было выезжать. В 1913 году семья выехала Баку..
* * *
…1914 год. Забастовали нефтепромышленные рабочие Баку. Составлены требования. Забастовка хорошо организована. В квартире Махарадзе тайно собирается стачечное бюро: Карташев, Стопани, Стуруа. Колеблются предприниматели. Кажется, победа близка. И вдруг… Война! В далеком Петрограде задержан большевик Г. И. Петровский. Случайно в его документах обнаружили бакинский адрес Махарадзе. Снова арест, высылка в глухое азербайджанское селение Хачмас, где Филиппу Евсеевичу предстояло жить до конца войны… 1916 год. Махарадзе переезжает в Тифлис. Тифлисская организация разгромлена. Почти всю работу нужно налаживать заново. Приходится бороться на два фронта: с царизмом и с меньшевиками… 1917 год. Февраль. Революция!.. Большевики выходят из подполья. Организуется Совет рабочих и солдатских депутатов. Месяц спустя Махарадзе отправляется в Петроград на знаменитую Апрельскую конференцию. Здесь он впервые встретился с Лениным. После Апрельской конференции произошел окончательный разрыв большевиков и меньшевиков, которые к этому времени под руководством Ноя Жордания выродились в явно контрреволюционную силу. Положение в Закавказье сложное. Большинство в Советах захватывают меньшевики. Намечается разгром большевистских организаций. Партия снова уходит в подполье. Несмотря на трудную ситуацию, краевой комитет решил созвать съезд партийных организаций Кавказа. По решению комитета Махарадзе с двумя товарищами летом 1918 года отправился во Владикавказ. Кавказ в огне гражданской войны. Махарадзе входит в состав владикавказского правительства. Наступает Деникин. 2-я армия окружена, подавлено восстание душетского крестьянства. По заданию партии Орджоникидзе и Махарадзе уезжают в Чечено-Ингушетию для агитации против наступающих белогвардейцев. Здесь Филипп Евсеевич узнает, что Нина Прокофьевна с детьми и другими семьями выехали из Владикавказа. В дороге чуть было не разыгрывается драма. Возле Казбеги меньшевистский пост задержал Нину Прокофьевну и детей. Выяснив, что это семья Махарадзе, меньшевистский офицер немедленно направил их обратно во Владикавказ. «Пусть деникинцы изрубят вас на котлеты», — заявил он. С огромными трудностями Нине Прокофьевне удается прорваться в Тифлис. В апреле 1919 года туда возвратился Филипп Евсеевич, однако они продолжали жить врозь, так как ему приходилось скрываться.
* * *
В первых числах мая в Баку состоялась партийная конференция. Махарадзе выступил на ней с докладом о работе крайкома, уделив особое внимание вопросам борьбы против меньшевиков, дашнаков, мусаватистов и организации партизанской войны с белогвардейцами на Северном Кавказе. В Грузии намечалось поднять вооруженное восстание. В Азербайджан рвался Деникин. Мусаватисты решили отдать Баку. Тогда вспыхнула всеобщая забастовка. Она продолжалась девять дней. Цель была достигнута: Деникин не решился войти в город, однако правительство арестовало много рабочих и партийных активистов. Члены тифлисской организации возвращались в Грузию с решением начать восстание, но, хорошо организованное в районах Грузии, восстание было приостановлено из-за провала его в Тифлисе. Начались повальные обыски и аресты. Махарадзе скрывался в доме жены Анастаса Ивановича Микояна. 30 ноября, когда он загримированный вышел на улицу, его схватили народогвардейцы. (Так назывались отряды контрреволюционной милиции.) Глава меньшевистского правительства Ной Жордания сидел в своем кабинете. Постучали. Вошел секретарь. Он извинился и доложил, что, как было приказано, наиболее важные преступники доставляются непосредственно в резиденцию правительства. Вот и сейчас отряд народогвардейцев привел только что захваченного большевика Филиппа Махарадзе. Жордания побледнел. Неужели это Филипп?! Какими бы врагами они ни стали, он не мог встретиться со старым товарищем в такой ситуации. — Передайте, что я не хочу видеть арестованного, — сказал он и, немного поколебавшись, добавил: — Отправьте его в крепость. Немедленно. Секретарь вышел. — До чего ты докатился, Ной! — раздался за дверью голос Махарадзе. — Все равно мы еще встретимся!..
* * *
Гражданская война в России подходила к концу. Последние остатки белогвардейщины, несмотря на яростное сопротивление, уничтожались во всех уголках страны. Многие честные люди, случайно ставшие в ряды врагов советской власти, задумываются о судьбе родины. Одним из таких был член меньшевистского правительства Зори Зорян. Когда ему стало ясно, что меньшевизм изжил себя, как политическое течение, он стал помогать большевикам. В тюрьме еще томились руководители тифлисской партийной организации: Ф. Махарадзе, Л. Думбадзе, К. Цинцадзе и С. Махарадзе. Оставшиеся на свободе товарищи решили организовать побег. Зори Зорян, предложил укрыть у себя кого-нибудь из участников побега и помочь осуществить его. Вечером 6 февраля 1920 года заключенных вывели под конвоем из тюрьмы якобы на дополнительный допрос. В назначенном месте их ожидал фаэтон. Когда все, за исключением Махарадзе, сели, со стороны Тюремных ворот раздался тихий свист. Кучер, поняв сигнал, хлестнул лошадей, фаэтон умчался, и Филипп Евсеевич остался один. Машинально двинулся он вперед, хотя понимал, что свисток, вероятно, был не случайный. Он шел, не оглядываясь, через весь город. Здесь его многие знали, особенно сыщики и отрядчики, но все же он благополучно добрался по нужному адресу. Только тут он понял, что забыл фамилию человека, который должен был принять его; помнил, что у того есть сын. Дверь открыла мать жены Зоряна. Махарадзе, небритый, утомленный, в распахнутом пальто и помятой гимнастерке, показался ей подозрительным. К счастью, вошел мальчик, и Филипп Евсеевич сказал: «Мне нужен отец этого ребенка». Только тогда его пригласили в квартиру. Понимая неизбежность катастрофы, меньшевистское правительство решило заключить мир с Россией. В Тифлисе разместилась русская миссия. Большевики вышли из подполья. Коммунистическая организация Грузии была преобразована в Коммунистическую партию Грузии с временным Центральным комитетом, во главе которого встал Ф. Махарадзе. Одновременно ему поручили редактировать новую легальную газету «Коммунист». Вскоре М. Цхакая, Ф. Махарадзе, С. Тодрия, В. Вашакидзе и другие товарищи выехали в Москву на II конгресс III Интернационала. Здесь, во время работы конгресса, они узнали, что в Грузии снова начались аресты. За тифлисской квартирой Махарадзе установлена слежка. С большим трудом Нине Прокофьевне удается выполнять иногда партийные поручения. Часто помогают дети. Старший сын Арчил уже настоящий помощник. Младшие тоже приучены к строгой конспирации. — Тамара, ты помнишь дядю Карагуляна? — спрашивает Нина Прокофьевна. — Помню, — отвечает семилетняя Тамара. — Вот тебе записка, спрячь. Отдашь дяде Карагуляну в собственные руки. Зубной врач Карагулян открыл дверь. Перед ним стояла маленькая девочка. — Вы мне нужны, — сказала она. — Пожалуйста, милая, — улыбнулся Карагулян, — проходи. Девочка прошла в комнату. — Я знаю, что вы — дядя Карагулян, но все-таки покажите ваш паспорт. Сдерживая смех, зубной врач подал ей паспорт. Девочка внимательно прочитала его и вернула вместе с запиской от Нины Прокофьевны.
* * *
1921 год. Грузия охвачена восстанием. Ночью арестовали Нину Прокофьевну. Детей бросили на улице. Квартиру опечатали. Вместе с ней арестованы вдова А. Цулукидзе, Леля Цулукидзе, Мария Орахелашвили, Сусанна Шавердова, другие женщины и около ста мужчин. В кутаисской тюрьме уже сидели Коста Чхенкели, Сергей Кавтарадзе, Вано Стуруа. Через тюремного врача узнавали они о продвижении Красной Армии. Вскоре советская власть победила в Грузии. …Вторую неделю идет поезд. Филипп Евсеевич нервничает: что-то там, на родине?! Москва провожала снегопадом. Перед отъездом кремлевский курьер принес приглашение от Ленина. Беседа длилась почти час. Филипп Евсеевич получил назначение председателем Революционного комитета Грузии. Владимир Ильич выделил для него специальный вагон, по карте уточнил маршрут. Удивительный все-таки человек! В такое время, когда всем дорога каждая минута ленинского времени, Владимир Ильич подробно рассказал ему, о трудностях пути, лично снабдил шифром для постоянной информации, справился о жене и детях. А как он говорил о национальной политике! Поистине великий человек!.. Вот и Тифлис. Филипп Евсеевич не узнает детей. Озорные, голодные, носятся они по улице, забросив школу, лишь изредка забегая домой, чтобы поделиться политическими новостями. Нина Прокофьевна все еще в Кутаисе… Начинается новая жизнь.
* * *
В качестве председателя ревкома в начале апреля Филипп Евсеевич выехал в районы Грузии. Меньшевики оставили республике разрушенное хозяйство. В короткий срок нужно было проделать огромную работу. Махарадзе знакомится с положением дел. Народ доверяет ему. Все больше укрепляется егоавторитет, завоеванный еще до установления советской власти. Он выступает в городах и селениях. — В наших силах сделать жизнь счастливой, — говорит он, — и мы добьемся этого. Однако не нужно приукрашивать действительность. Предстоят большие и серьезные испытания. Народ всегда должен знать правду. Махарадзе уверен в этом. Наступила новая эпоха, когда развеялись над головой черные тучи и засияло яркое солнце. Казалось, годы бурь и волнений ушли навсегда. Не нужно опасаться слежки, скрываться от преследований. Как будто бы все это в прошлом, в воспоминаниях. И вдруг на краткое мгновение это прошлое напоминает о себе. 1924 год. Филипп Евсеевич с семьей отдыхает у себя на родине, в селении Шемокмеди. Летний вечер. Махарадзе сидит на скамеечке в саду. Он задумался. Вся жизнь проходит перед ним: с тех давних дней у Захария Чичинадзе до сегодняшних времен. Вся жизнь, полная поисков, разочарований, удач, смертей и рождений… Как тяжело было временами! Казалось, что все потеряно. Но нет, весна победила, пришла! Та самая весна, о которой мечтал он, стоя у своего дома в Кутаиси. И надо сделать так, чтоб после нее наступило лето. Вечное лето!.. У ворот раздался конский топот. Несколько всадников, спешившись, вошли во двор. Один из них направился к Махарадзе. — Филипп Евсеевич, я начальник уездной милиции. Моя фамилия — Соселия. Только что началось восстание меньшевиков. Мы прорвались к вам сквозь отряды восставших. Нужно немедленно уходить. Им известно, что вы находитесь здесь! — Ясно, — сказал Махарадзе. — Соберите коммунистов. Через двадцать минут мы выходим!.. Разбудили детей. Шли тихо, сперва по кукурузному полю, потом, поднялись в горы. Вдалеке слышались выстрелы. Маленькая группа скрывалась в горах четыре дня. На пятые сутки Махарадзе с несколькими товарищами решил идти в Батуми. Дорога предстояла трудная, и поэтому семья осталась. Через неделю восстание было подавлено.
* * *
Филипп Евсеевич по-прежнему много работает. Он участвует в работе съездов, читает лекции по истории студентам Тбилисского университета. Справедливо считаясь большим специалистом по сельскому хозяйству, часто выезжает в отдаленные районы Грузии на поля и фермы. Большая работа ведется им в период коллективизации. В двадцатых годах вышли из печати восемь томов сочинений Махарадзе. Здесь работы по истории, экономике, литературе. Он пишет монографии по творчеству А. С. Пушкина, М. Горького, Э. Ниношвили. В жизни Филипп Евсеевич остается все тем же простым и трудолюбивым человеком. Народ выбирает его председателем Президиума Верховного Совета Грузии. На этом посту он и умер в тяжелый первый год Великой Отечественной войны… В Грузии, недалеко от Батуми, в самом сердце Гурийской горной страны, есть красивый зеленый город. Тихие, тенистые улицы; невысокие, уютные дома в палисадниках. Все производит впечатление чего-то незапятнанно-чистого. Жители любят свой город. Сюда приезжают люди со всех концов Родины. Народ дал городу имя Махарадзе.
На центральной площади стоит скромный памятник выдающемуся революционеру и общественному деятелю Грузии. …Около памятника играют дети.
Н. Ращеева, Э. Хайтина ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ

Мальчик смотрел на реку. В медленно струящейся воде, чуть колеблясь, темнели зыбкие отражения развалин. Иным уже три тысячелетия! Крепостные стены рухнули. Недоступные замки опустели. Гордые монастыри разграблены. Развалины поросли плющом… А когда-то среди зелени высились величественные храмы. Надежные укрепления защищали страну от набегов чужеземцев. Рим только возникал. Орды кочевников бродили по северным степям. А Грузия была в расцвете! Но нет! Руины полны тайн. Замшелые камни хранят души героев. И сын Грузии на берегу Риона услышит шепот предков и возродит былое величие родины. …Плавно катились невысокие волны. Торжественные мысли текли мерно и неторопливо. Как всплески волн о берег, возникали рифмы. Это было первое его стихотворение. Первое из пяти тысяч. Мальчика звали Галактион Табидзе. Выдающийся поэт родился в 1892 году, в горном селении Чквиши. Приходский священник отец Василий умер за два месяца до рождения сына. Раннее детство Галактиона было таким же, как у большинства его сверстников, крестьянских ребятишек. Разве что грамоте он научился прежде других — от своей матери Макринэ Табидзе. В шесть лет Галактион бегло читал по-грузински и по-русски. Когда мальчик подрос, Макринэ, желая, чтобы он, подобно отцу, принял сан, решила отдать Галактиона в духовное училище. Вся семья переехала в Кутаис. Некогда пышная столица грозного Имеретинского царства к началу нашего столетия превратилась в небольшой провинциальный городок. Украшением местного «общества» были разорившиеся мелкопоместные дворяне и незадачливые русские чиновники. А самым примечательным зданием была тюрьма. О «золотом веке» напоминали лишь полуразрушенные стены древних храмов. Сразу после переезда восьмилетний Галактион пришел на развалины и написал стихотворение «Тайны руин». Жизнь в духовном училище была небогата событиями. Детей обучали библейской истории, молитвам, церковному пению. Дни тянулись монотонной чередой, как страницы псалтыря. Но вот грянула русско-японская война, и жизнь в городе стала тревожной и лихорадочной. Со всех сторон в Кутаис свозили новобранцев. Ими набивали тесные казармы Куринского полка. Старые обитатели казарм — русские солдаты — умирали на полях Маньчжурии.
 Миха Цхакая.
Миха Цхакая.
 Эгнате Ниношвили.
Эгнате Ниношвили.
 Александр Цулукидзе.
Александр Цулукидзе.
 Филипп Махарадзе.
Филипп Махарадзе.
В эти дни прямо на улицах можно было увидеть много страшного… Тоскливые слезы разлуки…..Офицера, который бьет наотмашь старого солдата за то, что, тот вовремя не отдал честь… Молодого новобранца, что-то второпях наказывающего близким, словно уже раздалась команда умереть «за веру, престол и отечество»… Полицейского, который скверно бранил горцев, разыскивающих сборный пункт… Первых инвалидов… Шли месяцы. Дела на фронте становились все хуже. На стенах домов стали появляться прокламации, которые звали народ к сплочению и борьбе. Чьи-то руки разбрасывали листовки с призывом «Долой- войну!», «Долой царя!». Жандармы сбивались с ног в поисках организаторов противовоенной демонстрации новобранцев. В городе то и дело избивали полицейских и агентов охранки. В эти дни жизнь Галактиона стала необыкновенно заполненной. В нее вошло много неведомого — постоянный риск, гордость за оказанное доверие, таинственность. Вместе с другими мальчиками он разбрасывал листовки, расклеивал прокламации, участвовал в демонстрациях. Кутаис быстро становился центром революционного брожения губернии. Все чаще и чаще на улицах возникали вооруженные стычки между полицией и демонстрантами. Галактион и его товарищи не раз скрывались в городском саду и оттуда забрасывали камнями стражников. На каждом перекрестке стихийно возникали сходки, на которых ораторы призывали к свержению самодержавия. Учащиеся Кутаиса собрались на свою сходку на горе Баграта, возле развалин храма. Впервые в жизни Галактион прочитал здесь свои стихи. Навсегда запомнилась ему тишина, наступившая в толпе подростков, когда он объявил, что прочтет им свое стихотворение, десятки устремленных на него глаз, напряженные лица, радостные возгласы приветствия и одобрения.
(Перевод Е. Николаевской и И. Снеговой)
(Перевод А. Старостина)
(Перевод Н. Гребнева)
* * *
Как и мечтала когда-то мать, Галактион окончил училище и был принят в Тифлисскую духовную семинарию на казенный счет. Город, многократно воспетый художниками и поэтами, покорил его воображение. Он часто бродил по ночному Тифлису. Чуткое эхо его шагов отзывалось строфами Бараташвили и Верлена, Пшавела и Эдгара По. Ритмическая череда крутых подъемов и пологих спусков подсказывала нужные строки, образы, интонации. В эти часы он вживался в строй их мыслей, чутко улавливал особенности стиля, разгадывал их «секреты». Культ поэзии царил и в стенах семинарии. Как ни «пытались чиновники в рясах обуздать пламенный грузинский нрав, он прорывался влюбленностью в стихи. Здесь творения Ильи и Акакия помнили тверже, чем «откровения» отцов церкви. Галактион был понятливым и благодарным учеником. Уже в одном из самых ранних стихотворений он не только приговорил разнуздавшуюся великодержавную реакцию через аллегорический образ «большой лужи, без края и границ», но и обнаружил ее бессилие перед мощью, которая таится в народе:
(Перевод Н. Гребнева)
(Перевод К. Арсеньевой)
* * *
В начале империалистической войны выходит первый поэтический сборник Галактиона под названием «Стихи». По мнению всей Грузии, пришел поэт, который по праву занял место в одном ряду с Акакием Церетели, Важа Пшавела и другими великими национальной поэзии. Причина восторженного единодушия, с которым был принят этот сборник, — в полном совпадении настроений и переживаний поэта с тем, что думали и чувствовали читатели, живя в стране, раздавленной сапогом царского генерала:
(Перевод Э. Александровой)
(Перевод В. Державина)
(Перевод К. Арсеньева)
* * *
Гостеприимная Москва в те годы много могла рассказать поэту, задумавшемуся над русским искусством. Поначалу казалось, что тон задают стихоплеты, наводняющий книжный рынок торопливой стряпней. В ней «голубые туманы» Блока беззастенчиво смешивались с «урбанистическими видениями» Брюсова. Для остроты добавлялись «язычество» Городецкого, «экзотичность» Бальмонта, «заумь» футуристов. Та же мешанина эпигонства, самомнения, безвкусицы неслась с эстрад кафе, где на утеху посетителям выступали никому не ведомые поэты. С неизменным удовольствием их постоянные слушатели восхищались «жестокими» романсами Вари Паниной, воинствующе-пошлыми песенками Вертинского. Слитный гул этих развязных и самодовольных голосов не мог заглушить музыку Скрябина, исполненную скорбными предчувствиями. Галактион слышал эту музыку через ее внутреннее родство с ритмами Блока, своего любимого русского поэта. Через высокие и трудные раздумья Блока он понимал и трагические поиски Врубеля. Лиловые отсветы мирового пожара на его полотнах точнее всего передавали то сумеречное, сосредоточенное и грозное, что проглядывало в хмурых лицах рабочих, гляделось из глаз раненых. Боевой пацифизм Маяковского, страстное горьковское обличение мещанства как бы завершали впечатление. Чем лучше Галактион понимал душу русского искусства, тем острее становились его разногласия с поэтами-земляками: Паоло Яшвили, однофамильцем Тицианом Табидае, Валерианом Гаприндашвили — студентами Московского университета. Они готовились в скором времени основать на родине журнал «Голубые роги» и подготавливали для его первого номера так называемое «Первословие», где излагались их взгляды на назначение поэта, на роль поэтической техники в организации стиха, на традиции и новаторство. «Первословие» почти дословно повторяло зады как русского, так и французского символизма. Но им думалось, что само его опубликование послужит началом задуманного ими переворота в отечественной поэзии. Ничего нового о себе они Галактиону не сказали. Еще в Тифлисе, знакомясь с их самыми ранними стихами, он спрашивал тоскливо и недоуменно:
(Перевод Э. Александровой)
(Перевод П. Антокольского)
(Перевод Б. Брика)
(Перевод Н. Гребнева)
(Перевод И. Поступальского)
(Перевод И. Поступальского)
(Перевод Н. Заболоцкого)
(Перевод К. Арсеньевой)
(Перевод В. Бугаевского)
(Перевод И. Поступальского)
(Перевод Н. Заболоцкого)
(Перевод Н. Тихонова)
(Перевод Н. Смирнова)
(Перевод М. Шалова)
(Перевод В. Шалимова)
(Перевод В. Шалимова)
(Перевод К. Арсеньева)
(Перевод В. Потаповой)
Римма Петрушанская ПОЮЩИЙ МРАМОР

Апрельский ливень хлестал по мостовым. Сквозь сверкающую пелену дождя пробивались лучи солнца. Из окна маленькой мансарды были видны потоки воды, несущиеся вдоль тротуаров. Девушки, приподнимая пышные юбки, со смехом пробегали мимо. Невысокий худощавый молодой человек стоял у окна. На полу, за его спиной — нераспакованный чемодан с наклейками: «Флоренция», «Рим», «Милан». На кровати разбросаны в беспорядке вещи, бумаги. Человек напряженно вглядывался в даль улицы, стараясь различить кого-то среди прохожих. Он ждал почтальона. За тонкой стеной раздавались взрывы хохота. Там жили молодые художники-англичане. Сейчас у них, видимо, перерыв в работе. Они пьют кофе. который так вкусно варит их натурщица Бабет. Спорят, смеются. Здесь, на Монмартре, снова, как и в прошлые годы, расположился огромный международный лагерь искусств. Во всех его уголках ателье художников, мансарды поэтов, тесные квартирки артистов. Они съехались в Париж со всего света. Рядом с ним живут англичане. Через площадку — немцы. Выше этажом — американцы, поляки, русские. Есть даже индусы и негры. Старуха консьержка уже успела доложить новому жильцу, кто его ближайшие соседи и когда уходит по вечерам от англичан их юная натурщица Бабет. Молодой человек стоял у окна и все ждал. Сегодня утром на его обычный вопрос добрая старуха консьержка снова ответила со вздохом: — Нет, мсье Жак, вам писем нет. Молодой человек взял с кровати пальто и котелок, оделся, нащупал в кармане два франка, поднял воротник и решительно вышел на улицу. Он направился вдоль бульвара Монпарнас к большому серому зданию, где помещалось Общество молодых русских художников. Внизу был открыт небольшой ресторан. Здесь всегда можно было встретить знакомых русских. Он вошел и сразу услышал зычный голос: — О, вот и он! Яков Иванович, иди сюда! — Его звал старый приятель, скульптор Судьбинин. Яков подошел к столику, где сидели несколько художников. — Знакомьтесь, господа, мой друг — грузинский скульптор Яков Николадзе. Очень одаренный человек! Самобытный талант. Вы знаете его «Хевсура»? Яков смущенно присел к столику. — Что будешь пить, Жак? Может быть, просто хорошую яичницу? Почему ты грустен, мой друг? — Писем из дому нет, — ответил Яков, мрачнея. — Дружище, это понятно. Мы все не получаем вестей с нашей дорогой родины. Ни мы, ни поляки. Ты же знаешь, что происходит в России. Чем все это кончится? — Чем кончится? — сидящий за столиком молодой поляк горячо вступил в разговор. — Конечно, царь раздавит революцию. В Москве, я слышал, идут жестокие бои. Но ведь у рабочих нет оружия! Трое молодых людей — русский, грузин, поляк — чувствовали себя сейчас братьями: там, далеко, в Российской империи, решалась судьба их народов. Революция 1905 года волной катилась по стране. — Бодрись, Жак, — сказал Судьбинин, — я уверен, что твои домашние целы и невредимы. — Как знать! Может, братья тоже ввязались в драку. Они этакие отчаянные! Второй месяц ни слова. — И денег, конечно, тоже нет? Яков только рукой махнул. Судьбинин задумался. — Слушай, Жак, есть одна идея. Она тебе, может быть, покажется не очень лестной, да ведь жить-то надо! В Париже восемьдесят тысяч художников, сорок тысяч скульпторов. Каждый мечтает стать Роденом, а Роден пока еще один… — Говори прямо. Что ты предлагаешь? — Пойди к Аронсону. Он дает нашему брату черную работу. Придется гнуть прутья или переливать в бронзу модели, но все же это хлеб. — Я вчера у него был. — И что? — Этот господин принял меня в своем роскошном ателье, развалился в кресле, дымил мне в лицо сигарой, а потом заявил: «У вас слишком артистическая внешность. Вас никто не возьмет работать к себе в ателье». — Что он хотел этим сказать?' — Наверно, что я не подхожу для черной работы. Слишком худой и щуплый. — А Синаев-Бернштейн? Обратись к нему. Он тоже дает работу скульпторам. — Был и у него. Синаев добрый и воспитанный человек, — ответил Яков. — Работы его слащавы, но изящны… Он дал мне письмо к одному предпринимателю, да только я опоздал: там уже все работы кончены. Мертвый сезон. Молодые люди задумались. — Пойдем, пожалуй, — сказал Яков. — Я зайду еще к Дине Васильевне, она ждет меня. Судьбинин улыбнулся. — Ни дня без прелестной Дины? А, кстати, ее сестра — жена богача Голубева, известная красавица, отлично знакома со стариком Огюстом. Он даже лепил ее! — Мне неудобно ее просить. — А без цветов являться удобно? У тебя даже на фиалки скоро не будет денег. Не стесняйся, дружище! Если попадешь к Родену — считай, что у тебя в кармане, ну, хоть не миллион, а все же состояние! Друзья вышли из ресторана, простились. Яков направился на авеню Буа де Булонь. Судьбинин — домой, в свою скромную квартирку на бульваре Сен-Жак. Дождь уже давно кончился; листья каштанов сверкали. Сверкали и мостовые. Улыбались прохожие: весна, весна! «А вдруг мне повезет, — думал Яков, — и меня возьмет к себе сам Огюст Роден? Надо быть смелее! Сегодня же попрошу Дину Васильевну». Все случилось, как в волшебной сказке. Дина Васильевна Давыдова, старая знакомая Якова, приняла его в музыкальной комнате. — Подождите, я кончу урок, — сказала она. — Впрочем, зачем ждать? Сейчас я позвоню сестре! Она выпорхнула в гостиную, повертела ручку аппарата. Через минуту вернулась. — Сегодня у сестры будет на обеде Роден. Она обязательно поговорит о вас. Пляшите! Я уверена, что ваше дело будет решено положительно. А теперь не мешайте мне заниматься. Убирайтесь, — улыбнулась она. Яков, счастливый, расцеловал руки Дины Васильевны и помчался домой. Вино, выпитое в ресторане, кружило голову. Не раздеваясь, он бросился на диван и уснул. Проснулся поздно вечером от громкого стука в дверь. Консьержка колотила в нее ногой. — Мсье Жак, открывайте. Вам сразу два письма! Яков вскочил с постели, повернул ключ. Сияющая старуха протянула письма. Одно из дому, от матери. Другое — городское, видимо от кого-то из друзей. Яков лихорадочно вскрыл письмо матери. Он пробегал глазами строчку за строчкой, и лицо его становилось грустным. Мать очень туманно и двусмысленно писала о событиях, которые происходили на родине, что жить стало трудно и неспокойно. В конце письма была приписка: «Больше не могу присылать тебе денег. Ты всегда говорил, что сможешь прожить скульптурой. Так вот теперь и пришло время доказать это на деле». Яков помрачнел. Что ему делать? Денег осталось на два-три дня жизни. Все скульпторы, у которых он искал работы, отказали ему. Можно ли надеяться на согласие Родена? До него, как до далекой звезды, — тысячи верст пути… Он машинально разорвал розовый надушенный конверт, заранее решив, что ни на какой обед или званый вечер не пойдет. И вдруг прочел, не веря своим глазам: «Завтра утром Роден ждет вас у себя в Медоне». Всего одна строчка и подпись: «Голубева». Утром Яков проснулся чуть свет. Через полчаса пригородный поезд вез его в Медон. Мимоч проносились пригороды Парижа, корпуса Севрской мануфактуры. Поезд нырнул в живописное ущелье, прогрохотал по виадуку и замедлил ход. — Медон! — выкрикнул кондуктор. Яков сошел на перрон. Дорога повела его в гору, в деревню Вальфлери. Там, за деревней, — пригорок. Яков поднялся на его зеленую, расшитую полевыми цветами вершину, и перед ним открылся чудесный вид: Сена, голубая и прозрачная, мягко несла свои воды по зеленой долине. Она огибала Голубиный остров, протекала мимо Верхнего и Нижнего Медона и, омывая пышные сады Сен-Клу, стремилась вдаль, к подножью Монвалериана. Чудесная, просторная, полная воздуха и розового света долина. Чем-то напомнила она ему долину в Кахети. А это ущелье — разве его темные скалы не похожи на скалы, грозно нависшие над Курой? Грусть охватила Якова. Так далеки вы, родные ущелья! Милый Кутаис, где каждое утро его будил одним и тем же выкриком «Форель, свежая форель!» старик рыбак. Мастерская отца… Мальчишки Яков и Васо приносят ему завтрак. Груды камней лежат на земляном полу. Ловко и умело работает резцом отец. И вот кусок крепкого гишера превращается в фигурку оленя. А из этого камня отец сделает орла… — Что, Яков, нравится олень? — Очень! — Ну ладно, ребята, постояли — и хватит. Марш домой! Эта наука не для вас. Вам надо стать настоящими людьми, юристами или врачами, а не пачкать руки в каменной пыли, — говорил отец. Но Яков не хотел быть юристом. И Васо не хотел. Старший, Васо, немного рисовал, зачитывался прозой Льва Толстого и стихами Бараташвили и сам потихоньку писал стихи. Яков не задумывался о будущем. Лишь однажды он забрался в комнату старшего брата, нашел в углу холст, натянул его на подрамник, открыл, замирая от страха, большую коробку с новыми красками. Что было дальше, он и сам не мог объяснить. Его понес какой-то странный вихрь — он не мог остановиться. Он знал, что ему попадет за испорченный холст, за размытые краски, за самовольное хозяйничанье с вещами брата. Он трусил, отчаянно трусил и рисовал, рисовал… — Это что же, натюрморт в духе старых фламандцев? Васо стоял в дверях, раскачивался на длинных ногах, заложив руки в карманы. «Куда бы удрать?» — думал Яков. — А знаешь, — сказал весело Васо, — неплохо. Бить не стану, но с одним условием… Яков вздохнул. — С каким? — Будешь рисовать дальше. Если портить холсты, так уже всерьез. А рисунок этот спрячем. Лет через десять посмотришь — посмеешься… С этого дня началась большая дружба братьев, совместное чтение книг, споры об искусстве. А потом гимназия. Потом смерть отца… Горькие раздумья матери: как жить? БратМатвей, самый старший, уезжает в Батум, открывает книжную лавку и становится кормильцем семьи. Яков едет к нему в Батум, и брат отдает его в ремесленное художественное училище, впервые открытое в городе. Это было в 1889 году. С тех пор прошло целых пятнадцать лет. Сколько дорог изъездил молодой Николадзе! Он учился и в Батуме и в Москве, в Строгановском училище, куда попал после неудачной попытки поступить в Московскую школу зодчества и ваяния. В школе учитель Манков находил у него незаурядные способности живописца. Рисунки его приняли на школьную выставку и хвалили. В Строгановском он тоже был на отличном счету. Преподаватель Вишневский ставил его в пример другим. И все же он уехал в Одессу, потому что мечтал «испачкать руки в каменной пыли»… Там поступил на отделение скульптуры. Далекую Одессу ему напомнил недавно Марсель, не умолкающий ни днем ни ночью, порт. В Марселе так же общительны и темпераментны люди, так же отзывчивы их сердца. Якову вспомнился его одесский профессор Иорини, прекрасный скульптор и добрейший человек. Сколько вечеров проводили они вместе в мастерской, рассматривая альбомы с изображениями работ великих зодчих и ваятелей прошлых веков! — Ты поедешь в Европу, Яков. Ты увидишь Фидия Праксителя и моего бога — Микельанджело, — говорил Иорини. — Какой ты счастливец! Тебе предстоит встреча со всеми этими шедеврами: с «Давидом», «Вакхом», «Моисеем». Посмотри, вот «Скорчившийся мальчик» Микельанджело. Вглядись, какая мощь в его мышцах, какая свобода в посадке! Он разглядывает ступню, и видно, как он сосредоточен в своем маленьком занятии. А спина! Каждая мышца играет. И все это при изумительном совершенстве и красоте форм. О Микельанджело! Но ты еще увидишь его, обязательно! Слова Иорини сбылись, но не сразу. Пять лет назад, в 1900 году, Яков приехал в Париж, Два года учился у Фальгиера, известного скульптора, обучался технике работы по мрамору у Манглие. А когда Фальгиер внезапно скончался, его принял к себе не менее известный скульптор бельгиец Мерсье. Только в те годы Яков не испытывал нужды и лишений. Старшие братья, особенно Васо, глубоко верили в его будущее и делали все, чтобы помочь ему учиться. Тогда-то и создал он своего «Хевсура», который принес ему внезапную известность. Хевсур стоял на мраморной подставке. Грудь его закрывал полукружьем каменный щит. Над щитом гордо поднятая могучая голова, обрамленная длинными вьющимися волосами. Крупный нос с мощными крыльями ноздрей, широко раскрытые выпуклые глаза. Густые потоки усов спускаются на мужественный подбородок. Крепкая шея. Хевсур — весь олицетворение отваги, силы, непреклонной воли к борьбе. Кажется, вот-вот запляшет под ним могучий конь и воин ринется в битву… В те первые годы работы Николадзе ваял и своих старых любимцев и друзей, замечательных писателей и актеров: Шио Арагвиспирели, Васо Абашидзе, Котэ Месхи. Вдохновенный облик замечательного грузинского трагика Ладо Месхишвили словно был предназначен для того, чтобы ваять его в мраморе. Говорили, что этот портрет особенно удался Якову Николадзе. Но самым незабываемым был для него день, когда открылась в Тифлисе Пятая выставка кавказских художников. Это было в 1897 году, еще до его первой поездки в Париж. В одном из залов, в углу, стояла закрытая чехлом скульптура. Это был портрет Шота Руставели. Когда сняли чехол, Яков отвернулся, выбежал из зала: он не перенес бы насмешек. Он долго не мог вернуться обратно. Наконец заставил себя подняться наверх. Каждая ступенька была словно раскаленной… И вдруг увидел, что по лестнице спускается сам Гиго Габашвили! Ему захотелось, как в детстве от Васо, скрыться от глаз этого большого художника. Габашвили остановился. Пристально вгляделся. — Яков Николадзе? Вы — автор «Шота»? Поздравляю, дорогой. Молодец! Очень хорошо! — И, улыбаясь, добавил; — Шота Руставели дорог грузинскому народу. Вы изобразили его таким, что грузины будут вас любить! Яков бросился вверх по лестнице. Вошел в зал. Около его скульптуры толпились люди. Автор с трудом пробился к своему детищу. Да, это был счастливый день. С тех пор он много сделал для родного искусства. Он вырубал из камня надгробья и высекал из мрамора памятники, ваял портреты, делал искусные орнаменты. Восхищенное преклонение перед греками и их искусством постепенно сменялось глубоким интересом к родному грузинскому искусству, к его оригинальному языку, к его народным истокам. Недаром его так увлек мужественный облик хевсура — простого воина, олицетворявшего силу народа, его волю к свободе. Недаром с такой любовью лепил он своего «мествире», народного музыканта, бродячего певца. И если «Хевсур» отражал силу грузинского народа, его материальную мощь, его вольнолюбие, то «мествире» словно воплотил в себе его музыкальную, нежную и любящую душу. Да, он уже немалого достиг в свои тридцать лет! На родине его знают и ценят. Однако он донимал, что мастерство его несовершенно, техника слаба. Для того чтобы сказать свое слово в искусстве, нужно найти новые пути. Его вновь влекла Европа, Франция, Париж — это средоточие художников и скульпторов, великая кухня, где творилось в эти годы новое искусство, где бродило множество различных течений, где старую академическую школу живописи и ваяния с боем штурмовало новое направление, недавно получившее название «импрессионизм». Семь месяцев провел он в Италии, впитывая в себя бессмертные образы античного искусства и восхищаясь творениями гениев Возрождения. Был во Флоренции. Бродил по домику Микельанджело, трогал его вещи. В Национальной галерее часами стоял у его творений и у скульптур Донателло. Его потрясли «Рабы» Микельанджело. Гигантские мученики, закованные в камни, с нечеловеческим усилием рвутся вон из своего каменного плена, и камень как будто поддается их усилиям… Мысль его невольно перенеслась в Париж, к Родену. Этот могучий француз лучше всех понял смысл творений великого гения Возрождения. Силой своего таланта он сумел, впитав все лучшее, что было у Микельанджело, по-своему рассказать о человеческих страстях и мыслях. Яков стремился в Париж, чтобы открыть свое ателье, работать, создавать, учиться у Родена и других прекрасных мастеров. Да, стремился. И что же? Вот он стоит на холме перед роденовской виллой «Бриллиант» и должен будет униженно просить на пропитание у великого французского скульптора. Как гримасничает судьба! Яков тряхнул черными прядями, словно хотел отбросить постыдные мысли. Роден — чудо века, работать у него, пусть ‘даже подмастерьем, великое счастье! Говорят, он груб, деспотичен, ни один скульптор не может удержаться у него больше двух месяцев. Что ж, посмотрим! Попробуем силы! И он решительно зашагал к вилле Родена.
* * *
Он проработал здесь целый год. Об этом интереснейшем и очень важном периоде своей жизни Яков Иванович Николадзе рассказал впоследствии в записках, которые называются «Год у Родена». Год у Родена был прежде всего важен Якову Николадзе потому, что за этот период он хорошо узнал и понял творческие и эстетические взгляды Родена, непосредственно наблюдал за его работой, учился мастерству, выслушивал его советы и мог ясно разобраться в манере ваяния и в принципах работы великого скульптора. Когда Николадзе попал к Родену, ученику было тридцать лет, учителю — шестьдесят. Роден никогда не был педагогом. Он не любил преподавать, читать лекции и не умел это делать. Ученику приходилось ловить его немногословные фразы, догадываться самому, что хотел тем или иным жестом или словом сказать Роден. Учиться у него было трудно, но необычайно интересно. Работа началась с того, что Роден повел Якова в свое ателье. Оно было заполнено мраморными и гипсовыми статуями работы Родена. Роден один за другим отбрасывал чехлы, показывал Якову работы и пытливо вглядывался: как реагирует молодой скульптор на то или иное произведение? Наконец он подвел его к работе, которую предназначил для самого Николадзе. Скульптура изображала двух обнявшихся детей. Николадзе должен был «перевести» эту группу из гипса в мрамор. Яков огорчился. Ему плохо удавались детские Тела, он боялся обнаружить свое неумение перед Роденом. А Роден тем временем вел его дальше и, словно нарочно, показывал работы, испорченные предыдущими помощниками. Потом, хитро прищурившись, сказал: — Если вы справитесь с этой группой, то мы с вами поработаем. Николадзе был в отчаянии. Что делать? И вдруг Роден как бы мимоходом показал ему свою «Голову Иоанна Крестителя на блюде». — Это тоже надо высечь из мрамора? — Да. Но позже… Пока возьмитесь за детскую группу. Снимите мерку, выберите подходящий мрамор. Яков потихоньку снял мерку с «Головы Иоанна Крестителя». Родену сказал, что не нашел подходящего мрамора для детской группы, а для «Головы Крестителя» нашел. Роден усмехнулся и разрешил ему работать над головой «Иоанна». Сорок дней работал Николадзе над этим заданием. Он работал в новой манере Родена, отличающейся от той, в которой был исполнен «Иоанн Креститель» — одно из ранних произведений Родена. «Углубления я заполнял, — писал он, — свет и тени оживляли мрамор. Волосы я оставил как нетронутую массу, лишь слегка наметив очертания их. Во время работы мне пришлось изобрести небольшой инструмент, при помощи которого я сделал углубление рта. Рот был выразительно сформирован: казалось, последнее слово застыло на его устах». Родену работа понравилась. Первый экзамен был выдержан, и он поручил Якову работу над переводом в мрамор своей скульптурной группы «Уголино». Сюжет ее заимствован из поэмы Данте. Граф Уголино заключен в башню со своими маленькими сыновьями. Дети на глазах отца погибают от голода, и сам он в конце концов умирает от голодной смерти… Роден изобразил Уголино в последние моменты жизни, когда голод превратил человека в зверя, поставил его на четвереньки. Над «Уголино» Николадзе работал четыре месяца. Когда Роден посмотрел работу, он сказал задумчиво: «Тринадцатый век!» Тринадцатый век! Видно, он остался доволен молодым скульптором. И, наконец, Роден поручает ему самостоятельную работу. — Вы будете делать бюст писателя Барбе д’Оревильи по его маске. Вот она, — сказал Роден. И внезапно, верный своей странной лаконичной манере выражаться, добавил: — Передайте облик как он есть, но только пойте громче. Яков удивленно поднял брови и вдруг понял: «Пойте громче!» В этих словах был заложен глубокий смысл. «Природа, которую ты видишь, поет, — как бы говорил Роден, — а ты пой громче. Выражай ее ярче, сильнее, выразительнее!» Николадзе с увлечением трудился над бюстом Барбе д’Оревильи. Он работал по восемь часов в день. Роден наблюдал за работой. «Всматривайтесь со всех сторон», — говорил он Якову. И ученик понимал, что скульптор должен стать как бы многоглазым Аргусом, уметь объединить своим взором все профили, все повороты и замкнуть этот круг. Однажды Роден зашел, осмотрел почти готовый бюст, сказал: «Ничего», — и предложил сделать новый вариант. Потом второй и третий. На четвертом варианте Роден остановился. Он велел приготовить немного глины и, как пишет Николадзе, «…ввел в трактовку плеч свои характерные мазки». Лица он не коснулся. Бюст д’Оревильи, отлитый из бронзы, установили впоследствии в родном городе писателя Сен-Совере в Нормандии. С каждой новой работой Яков Николадзе чувствовал. себя все увереннее. Проходило чувство беспомощности и собственной слабости. Работы его стали принимать в Салон, ему давали заказы. Его восхищение Роденом все росло. Он перенимал, как мог, его манеру воплощать изображаемое сначала силуэтно в мраморе, а потом творчески искать детали, пытался передать в портрете остроту пульсации жизни в моменты ее наивысшего напряжения. Пытался добиться выразительности тела скульптуры, ибо, по мнению Родена, лицо может быть бесстрастным, а тело должно выразить все чувства человека. Он восторгался роденовским «Бронзовым веком», бюстом Гюго и особенно «Бальзаком». Влияние Родена на работу молодого скульптора становилось все более сильным. Роден также оценил молодого талантливого грузина, его трудолюбие и добросовестность. Роден предложил Якову переехать в Медон, на его виллу. Здесь Яков поселился в маленьком домике и стал хранителем замечательных скульптурных коллекций. (У Родена были собраны в огромном количестве греческие мраморы, ценнейшие статуи мастеров Италии, Греции и Франции, египетские мумии, китайские будды.) Увлечение Роденом и его творческой манерой отразилось на многих работах Николадзе и в парижский период и в более поздние годы. Появилось несколько работ в «роденовском стиле». Лучшая из них, «Ветер» — согнутая от ветра фигура женщины в грубых сабо, вырубленная из камня, — отражала целую гамму минорных настроений. Увлекся Николадзе также изображением обнаженного женского тела. Прелестна, например, его маленькая скульптура «Даная». В субъективно-психологической, даже несколько салонной манере были выполнены его «Танцовщица» и «Девушка с кувшином». Наконец Николадзе создал свою «Саломею». Здесь уже не было и тени салонности. Выполненная в сильной, выразительной роденовской манере, «Саломея» и тематически была близка к роденовской «Голове Иоанна Крестителя», Горе Саломеи, склонившейся над головой «Крестителя», ее женственность выразительно воплощены в мраморе. И все же в глубине души Николадзе понимал, что простое подражание, даже самым лучшим образцам, еще никогда не создавало художника. Он понимал, что его творчество должно питаться родными соками, его скульптура должна отражать жизнь родного грузинского народа. На осенней выставке в Париже в 1906 году большое впечатление на публику произвели скульптуры Николадзе «Дочь севера» и «Портрет Акакия Церетели» — скульптуры, по темам близкие его сердцу грузина и потому особенно выразительные. Но успехи во Франции не удовлетворяли молодого скульптора. Он тосковал по родине, по братьям, матери и мечтал вернуться к родным берегам. Однако возвращение наступило раньше, чем он предполагал. Родина внезапно и властно позвала его к себе. Позвала горестным и скорбным призывом. В Грузии погиб Илья Чавчавадзе, Большой национальный поэт, гражданин и патриот, совесть Грузии, борец за ее свободу, человек высокого мужества и благородства был убит агентами царской охранки. Все передовые люди Грузии, весь грузинский народ был потрясен этой смертью. Николадзе приехал из Парижа в 1908 году. Тут ему была поручена высокая миссия: создать надгробный памятник поэту. С волнением принялся Николадзе за эту работу. Она продолжалась около двух лет. Николадзе работал над проектом памятника в своем ателье в Париже, а закончив его, вернулся в Тифлис, чтобы перелить из гипса в бронзу и установить надгробье. Когда памятник был установлен, чехол снят, перед собравшимися предстала скорбная фигура женщины с пальмовой ветвью в руке, в горькой печали склонившая голову над могилой поэта. «Скорбящая Грузия» — так назвал свою скульптуру автор. Надгробье и памятник поражали силой и глубиной скорби. Тройное каменное надгробье в сочетании с бронзовой фигурой женщины, осиротевшей вдовы, посредине — все это производило огромное эмоциональное впечатление. Надгробье было установлено на Мтацминда, в Пантеоне Грузии.
 Галактион Табидзе.
Галактион Табидзе.
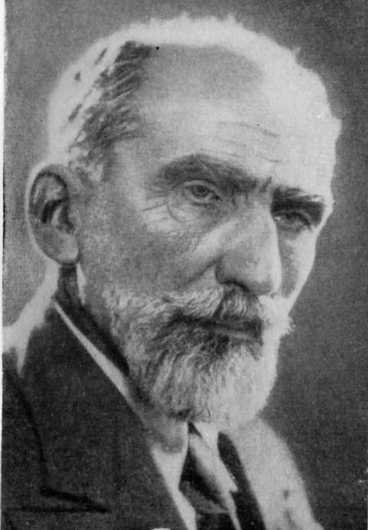 Якоб Николадзе.
Якоб Николадзе.
 И. С. Бериташвили.
И. С. Бериташвили.
 Ладо Гудиашвили.
Ладо Гудиашвили.
В 1923 году появляется его композиция «Поцелуй». Много говорили о влиянии Родена на работы Николадзе. Это влияние было несомненным, но не столь длительным, как полагали некоторые критики. На творческий облик Николадзе в разное время оказывали влияние и античные греки, и гении Возрождения, и французские классики, и импрессионисты, и бельгиец Менье. Роден был последним учителем Николадзе, но молодой скульптор неустанно искал свои пути в ваянии, тянулся к родным народным истокам. Первым шагом на этом пути возвращения к народному грузинскому искусству была его известная композиция «Поцелуй». «Мой «Поцелуй», писал Николадзе, — первый смелый шаг в деле освобождения от влияния французской школы». У Родена есть скульптурная группа «Поцелуй». Мужчина и женщина застыли в объятиях друг друга. Оба обнажены. Тела их выразительны и страстны. Они олицетворение и символ юной, чистой любви. «Поцелуй» Николадзе сделан в манере Родена, но сразу ясно, что здесь иной тематический замысел. Полуобнаженная девушка-крестьянка, только наполовину, до пояса, высеченная из розового экларского камня, словно спит, склонив голову, и чуть приподнимает веки, ощутив на плече поцелуй влюбленного в нее не юного, а мужественного человека. Его голова выступает из-за плеча девушки, его волосы, усы, борода сливаются в одно целое — камень, и камень этот словно живет и дышит. Эта скульптура — вся ощущение, вздох, страстная нега. Но герои ее не абстрактны, это простые крестьяне, горцы. «Простота и народность» — так охарактеризовала эту скульптуру критика. «Простота и народность» — вот к чему стремился теперь скульптор, вот каковы были его идейно-эстетические задачи. Неожиданно пришло горе. Якову Ивановичу пришлось думать о создании надгробия для самого близкого и любимого человека — жены Саломе. Всего тринадцать лет прожили они вместе, но какими счастливыми были эти годы! Горе его, казалось, будет бесконечным. Вот их первая встреча. Он — молодой преподаватель Тбилисской школы зодчества и ваяния. На один из уроков явилась высокая стройная девушка с пышной косой и горящими глазами. Во время занятий она вскакивала, задавала вопросы. Глаза ее так и вспыхивали. — Как ваша фамилия? — Саломе Сулханишвили! — звонко ответила она. Ого! Дочь известного богача Сулханишвили пришла учиться скульптуре? Посмотрим, что из нее выйдет! Их встречи стали частыми и совсем не совпадали с расписанием занятий. Саломе, увлеченная живописью, мечтала посвятить ей жизнь. А потом оказалось, что не только ей, но и своему другу и учителю… Родители Саломе заявили просто: «В наш дом не войдет этот меситель грязи…» Они не допускали мысли, что их дочь выйдет замуж за человека, который, зарабатывает себе на хлеб надгробными памятниками. А она все-таки вышла. Не посчиталась ни с мольбами, ни с проклятиями родных. Собрала платья в чемодан и ушла к нему, в тесную комнатку на Судебной улице. Там и родились их дети: сын и две дочери. Там вместе с ним несла Саломе трудности и горе. Вместе плакали они над могилой рано умершего сынишки, вместе воспитывали дочерей. И вот она ушла от него совсем… Горе не сломило Якова Ивановича, только сделало сдержанней, молчаливей. Он знал, что работа, как всегда, спасет его от тоски. И вот появляются новые скульптуры Николадзе, отмеченные яркой реалистической манерой изображения, глубиной психологического рисунка, ясностью и четкостью формы: романтический облик революционера Камо, эскизы композиций «Освобожденная Грузия» и «Герои Парижской коммуны», бюст профессора П. Меликишвили, бюсты профессора-физиолога И. Бериташвили и историка академика Иване Джавахишвили, бюст Карла Маркса. Одна из выдающихся работ — бюст Владимира Ильича — «Ленин в период создания «Искры». Образ Ленина — мыслителя и борца, ведущего народ к революции, освобождению и счастью, — скульптор лепил с особенной любовью и вдохновением. Он создает отличные барельефы на здании Института Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси, бюсты героев Отечественной войны: генералов Леселидзе, Таварткиладзе, Чанчабадзе. «Николадзе — мастер советского портрета, — писала газета «Правда». — Абсолютная ясность образа, проницательность, с которой улавливает он самое существенное в изображении человека, ставят его в ряды лучших скульпторов Советского Союза». И это действительно было так.
В Тбилиси, на улице Родена, расположились мастерская и домик народного скульптора Якова Ивановича Николадзе. Кусты виноградника скрывали дом от взглядов прохожих, солнце серебрило железную крышу. Хозяин — худощавый, невысокого роста старик обычно сам водил гостей по саду, а затем указывал на одноэтажный домик, запрятанный в глубине деревьев. — Прошу вас. Это мое ателье. Длинный ряд скульптур, покрытых холщовыми чехлами, тянулся вдоль стен. Николадзе, открывая один за другим холсты, показывал свои работы. — Всех здесь, конечно, нет. Посмотрите пока эти. Он слегка смущался, словно впервые показывал работы строгому критику, и пытливо вглядывался, какое впечатление производят работы. А ведь в его мастерской чуть ли не ежедневно бывали лучшие советские художники, скульпторы, искусствоведы и ученые, приезжали гости из-за рубежа. В мастерской множество эскизов и скульптурных набросков, изображающих одного и того же человека. Тонкое лицо обрамляла узкая бородка, волосы словно откинуты ветром, на голове высокая шапка с пером. — Да ведь это Шота Руставели! — Конечно, — улыбался Яков Иванович. — Этот образ сопровождает меня всю мою жизнь. Я лепил его много лет назад, в первые годы моего ученичества, и потом все снова и снова возвращался к нему. Шота Руставели, словно старший и очень дорогой друг, навсегда поселился в мастерской скульптора. Перечитывая строки бессмертной поэмы, скульптор искал все новые черты в облике ее автора, стремился понять, что же было главным в характере великого поэта. Грусть или философская самоуглубленность? Восторженная любовь к царице или протест против мракобесия церковников и гнета феодалов? Горькое сочувствие народному горю или надежда на его счастливое будущее? Каким изобразить поэта?. Был ли он действительно таким внешне, каким рисует его традиционное изображение на старинной фреске и каким он сохранился в памяти народной? «Привычка сильнее веры», — говорит пословица, но, может быть, Руставели выглядел на самом деле совсем иначе. Десятки эскизов, множество вариантов. И вот, наконец, последний. В 1937 году Николадзе создает новый бюст Шота Руставели: средоточие ума, высокого вдохновения, образ философа и провидца, страдающего сына отечества, готового на борьбу за его счастье. Тут же портреты Чахрухадзе. — Здесь он в гипсе, а в музее — в мраморе, — говорит скульптор. — С ним мне тоже невозможно расстаться. Хотите, я расскажу вам о нем? И Яков Иванович рассказывает, рассказывает так подробно и взволнованно, словно Чахрухадзе был его близким другом, будто скульптор сам делил с поэтом горечь его неразделенной любви и высокое поэтическое вдохновение. Грузия XII века. «Золотой век» царицы Тамар, внучки Давида Строителя. Усилиями великого царя Давида собрана воедино великая Грузия. Царство Тамар ознаменовано пышным расцветом государства. Строится множество новых крепостей и дорог, легче живется народу. При дворе царицы собираются передовые люди страны: поэты, философы, музыканты. Они воспевают красоту и мудрость царицы, ее счастливое царствование. Шота Руставели здесь нет. Он изгнан. Есть другой поэт-одописец — гордый умница Чахрухадзе. Он недавно вернулся из дальних странствий. Каждый вечер, приходя домой, он описывает подробно все, что происходит при дворе, рассказывает в прозе и в стихах о событиях дня, о хитростях епископов, о происках врагов царицы — эристатов, о трудной жизни родного народа. Мысли его опережают слова, он торопится рассказать обо всем, что видел, о чем мучительно, думает. А повидал он в своей бурной, полной приключений жизни немало! Множество стран и городов изъездил Чахрухадзе. Мятущаяся душа вечно гнала его вдаль от родных берегов. Он бывал при дворах христианских королей, видел их торопливые сборы в крестовые походы, жил у лицемерного папы и в Византии. Путешествовал по далекому Китаю, тому самому, куда европейцам въезд строго запрещен. Был в Индии. Немало приключений испытал он, не раз рисковал жизнью. Он встречался с передовыми мыслителями своего времени, читал бессмертные творения греческих философов, переводил их на грузинский язык. Несколько языков знал Чахрухадзе. С его эрудицией мало кто мог сравниться при дворе царицы Тамар. И вот он пишет свою «Тамариани». Поэма эта — плод бессонных ночей, созданная гордым любящим сердцем поэта и высоким полетом его ума. Она прошла как яркий немеркнущий факел сквозь тьму веков, и строфы ее поют и трепещут доныне, как трепетало перо в руке Чахрухадзе. Прошли века. Перед нами облик поэта, заключенный в мрамор. Благородны, прекрасны и вдохновенны его черты. Не юноша, а зрелый муж, красивый, сильный, сосредоточенный. Он словно в глубокой задумчивости размышляет о судьбах народов и стран, о судьбе своего народа, бескорыстным и верным сыном которого он был. Он и был им — воин, поэт и мыслитель. Таким и создал его скульптор. «Портрет поэта XII века Чахрухадзе» — одно из самых высоких творений Николадзе. В 1946 году за эту работу ему была присуждена Сталинская премия. Яков Иванович Николадзе умер в 1951 году. Десятки людей, талантливых соотечественников Николадзе, писателей, ученых, артистов, борцов за свободу увековечил резец народного скульптора. О Якове Николадзе, певце печали, борьбы и счастья своего народа, будут всегда напоминать людям его прекрасные мраморные и бронзовые творения. И пусть всякий, кто любит искусство, вглядится в них пристальнее. Пусть приложит чуткое ухо к розово-молочному мрамору. И он непременно услышит, как, словно раковина, впитавшая в себя шум и голос моря, поет теплый мрамор, ибо к нему прикоснулась однажды рука человека, отмеченного печатью таланта, рука вдохновенного художника.
Н. Челидзе ПОТОМОК ЦОТНЕ

Это было давно, в конце XIII или начале XIV века. В пределы Грузии ворвались кровавые орды монгольских завоевателей. Они громили, жгли созданное Давидом Строителем и царицей Тамар просвещенное грузинское государство. Огню и мечу предавались города и села; безжалостно разрушались замечательные творения: дворцы и храмы, замки и крепости, книгохранилища, академии и оросительные каналы. Сжигались ценнейшие рукописи и книги, уничтожались картины и статуи… Где великолепие иберийских и колхидских городов, мраморные дворцы и храмы, с таким восхищением описанные Страбоном и Плинием, греческими, римскими, византийскими историками и путешественниками?!. Кочевники растоптали все на своем пути в Восточной Грузии и вторглись на территорию Западного Грузинского царства. Героически сопротивлялись грузины под предводительством нескольких князей-патриотов. Монголы потребовали, чтобы князья добровольно явились к ним. Понимая, что дальнейшая борьба приведет к полному уничтожению всей страны с ее многовековой культурой, князья повиновались и прибыли в ставку ноинов — монгольских военачальников. Среди них не было одного — Цотне Дадиани. Он не выполнил приказания, не явился сюда. Главный ноин расценил его поступок как непокорность. Он был страшно разгневан и приказал жестоко наказать пленных князей. В тот год стояло жаркое лето, дышать было нечем. Пленников раздели донага, намазали медом, связали им руки и ноги… Трудно описать мучения этих людей: пчелы, мухи, миллионы насекомых роились вокруг и медленно грызли живое тело. После полудня, когда солнце особенно начало печь и страдания мучеников стали совершенно невыносимы, прискакал Цотне Дадиани. Он спешил: ему стало известно, что из-за его отсутствия мучают его друзей. Не задумываясь, он соскочил с коня, быстро разделся, вымазался медом, велел связать себя и сел рядом со своими товарищами, чтобы разделить их участь. Когда на второй день ноину доложили об этом эпизоде, он был удивлен; даже сердце варвара изумилось геройству и благородству Цотне! Он приказал освободить пленников. Этот случай с большим уважением описан в летописи Грузии. Я всегда вспоминаю о нем, когда думаю о замечательном нашем писателе Шалва Дадиани, Он славный потомок своих предков — благородных, смелых рыцарей. Все лучшее: талант, красота, великодушие — все, чем славится грузинский народ, было в характере этого человека. Свою долгую жизнь, свое огромное дарование принес он родине. Еще в конце того столетия началась общественная жизнь Шалва Дадиани. Много помогала ему сестра Машо Дадиани. Многие помнят в Сухуми эту обаятельную, седую, неспокойную женщину, которая ни минуты не жила вне интересов общества. Кому только она не помогала! Она устраивала благотворительные вечера, поддерживала всех талантливых и бедных, молодых и старых, Принимала участие в строительстве школ, в выпуске интересных книг и основании театров. Очень часто со своей труппой приезжал сюда Шалва Дадиани, в то время уже прославленный актер, драматург, писатель-беллетрист. Он любил путешествовать по родной стране, знакомиться с жизнью своего народа, вникать а его горе и радость; любил замечательную природу Грузии: вековые причудливые деревья, напоминающие иллюстрации к библии знаменитого Густава Доре. Лунные ночи, похожие на сказочных великанов горы и. неповторимо величественные ущелья, по которым несутся воды бурных рек. Особенно был он предан своему Самегрело — Мегрелии. Труппа Дадиани переезжала из деревни в деревню, давая благотворительные спектакли, знакомя народ Грузии с выдающимися произведениями искусства. Когда его спросили, что он лучше всего помнит из своего детства, он ответил: «Путешествия верхом». В детстве — с отцом, взрослым — со своей труппой, он никогда не оставался на одном месте. Не напрасно предсказал ему великий трагик Эрнесто Росси, что он будет «актером-трибуном». Не только на сцене, но и в жизни Дадиани был настоящим пламенным трибуном.
8 мая 1874 года в семье известного общественного деятеля Николая Тариэловича Дадиани родился сын. Его назвали Шалва. Глава семьи, широко образованный человек, оригинального и острого ума, с детства привил сыну любовь и уважение к простому народу. Начальное образование Шалва получил в домашних условиях, а рос он среди простых крестьянских детей. В доме Дадиани бывали лучшие представители грузинской интеллигенции: А. Церетели, Н. Николадзе, И. Чавчавадзе. «Вокруг меня царила атмосфера горячих споров о науке, искусстве, политике, социологии. И я стал рано задумываться над общественными вопросами», — так вспоминал впоследствии писатель. Шалва Николаевич рано начал писать. Этому способствовала любовь к литературе отца, который руководил его образованием. В четырнадцати лет мальчик стал «издавать» рукописный журнал, в котором принимали участие отец, сестра Машо и Миха Цхакая. Уже в ранних статьях и очерках Шалва чувствовался свой стиль и свой взгляд на жизнь. А несколько позднее в том же журнале он помещает статьи, в которых резко отзывается о существовавшей системе народного образования, об отставании национальной литературы и о многом другом. Уже они привлекли внимание свежестью языка и оригинальностью. Девятнадцати лет Дадиани перевел на грузинский язык драму М. Ю. Лермонтова «Два брата» и комедию Шекспира «Укрощение строптивой», которая была поставлена в 1894 году в Кутаисском театре, а двумя годами раньше вышел из печати первый его поэтический сборник «Искры». В 1890 году семья Дадиани переехала в Тифлис. Шалва стал брать уроки русского языка у Марии Квятковской, жены известного общественного деятеля шестидесятых годов Кирилла Лордкипанидзе. В ее доме собиралась молодежь, читали стихи, пели, спорили. Однажды отец повел детей в знаменитый Сионский храм на берегу Куры. С интересом смотрел Шалва на это красивейшее сооружение XII века. Стены из желтовато-розового туфа были освещены последними лучами заходящего солнца. Все было строго и торжественно. Пел хор мальчиков под руководством знаменитого лотбара Аушефа. Службу вел сам епископ. Ему помогали четыре священника. Дьяконы читали свои кверексы, похожие на театральные монологи, служба больше напоминала занимательное театральное представление. Сразу же из церкви отец с детьми направился в Дворянское собрание, где вечером давали спектакль «Баграт II» с участием известного актера Васо Абашидзе. Этот день запомнился Ш. Дадиани, потому что именно тогда состоялось его знакомство с театром — с ним он прочно связал свою жизнь. «…Я дебютировал в спектакле «Маргарита Готье», Это было 3 марта 1893 года, на бенефисе актрисы Пепико Месхи. С того дня я не оставлял грузинскую сцену в течение тридцати лет», — так пишет он в своих воспоминаниях. Ш. Дадиани был невысокого мнения о своем актерском даровании, хотя его хорошо принимала публика, да и рецензенты. А газета «Иверия» прямо давала его игре отличную оценку. С юмором рассказывает Шалва Дадиани, что «прибегал к различным ухищрениям», чтобы остаться на сцене. Ради этого был то режиссером, то руководителем сезона, то руководителем труппы». Крупнейший грузинский актер того времени Ладо Месхишвили организовал в Кутаиси молодежную труппу. И Шалва стал горячим патриотом нового и важного дела. Он обожал Ладо Месхишвили, этого «бога грузинской сцены», и считал великим счастьем работать с ним. Он сделался одним из ведущих актеров труппы. В течение пяти лет с успехом играл на сцене и в то же время переводил на грузинский язык такие пьесы, кай «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Господин Альфонс» Дюма (сына), «Несчастный шаг» Кареева. Однако, как пишет Дадиани, «репертуар был очень беден. Национальная драматургия была слаба. Я начал писать свои пьесы». Кутаисская труппа распалась после того, как сгорело здание театра. Актеры разъехались. Нужно было начинать все сначала. …В 1896 году в газете «Иверия» Илья Чавчавадзе поместил первый рассказ Шалва Дадиани. Рассказ назывался «Я не умирал». Чавчавадзе дал к нему интересное примечание: «Оставляем без изменения обороты речи, употребляемые автором». Видимо, Чавчавадзе привлекли оригинальный стиль и богатая символика этого произведения. Театральная молодежь Кутаиси не успокоилась. Шалва Дадиани и его друзья организовали новый театр. Руководителем был вновь приглашен Л. Месхишвили. Вокруг театра группировались передовые люди девяностых годов. Здесь бывали Акакий Церетели, Илья Чавчавадзе, молодой ученый Нико Марр. В первой постановке великолепной пьесы Сумбатова «Измена» в роли Зейнаб выступила Ермолова — «русская женщина, у которой, — по словам К. Месхи, — пролились грузинские слезы о судьбе Грузии». Летом 1903 года Шалва Николаевич приехал в Москву, желая поступить в университет. Он много слышал о Москве, но сонный вид площадей и улиц, патриархальный уклад жизни с неторопливым, гулким перезвонам колоколов по утрам поразили его, Казалось, ничто не расшевелит этот великий город. Однако вскоре он понял, что первое впечатление обманчиво. В университете у него потребовали аттестат зрелости, но Шалва получил домашнее образование. Пришлось спешно готовиться и сдавать экзамены. Наконец все было улажено, но учиться в университете ему уже не пришлось. Через грузинское землячество Шалва Дадиани познакомился со студентами, участвующими в работе нелегальной революционной группы, и стал бывать на собраниях. Вскоре ему поручили перепечатать брошюру Плеханова, Когда она была напечатана, выяснилось, что многие члены группы арестованы полицией. Шалва понес брошюру товарищу, тот предупредил его, что полиции известно об участии Шалва в деятельности группы. На другой день в квартире Дадиани был произведен обыск. По счастью, полицейские ничего не нашли. Шалва вернулся в Грузию. Пребывание в Москве оставило заметный след в душе Шалва Дадиани. В Москве он впервые побывал в Художественном театре, о спектаклях которого шла слава по всей России. «На дне» Горького, «Царь Федор» А. К. Толстого, пьесы Чехова произвели на него огромное впечатление. В Москве Шалва Николаевич познакомился с Сумбатовым-Южиным. 14 января в Колонном зале был устроен «День Грузии». Пел грузинский студенческий хор под руководством композитора Д. Аракишвили, выступали лучшие актерские силы. В заключение Сумбатов-Южин великолепно прочел «Мерани» Бараташвили.
Наступили грозные дни 1905 года. Кутаисский пролетариат был в первых рядах революционных рабочих России. На улицах города сооружались баррикады. Народ вышел на вооруженную борьбу с самодержавием. Кутаисский театр стал, по словам Дадиани, своеобразным «оазисом свободы». Шли пьесы, проникнутые революционными идеями. Но не только на сцене — в жизни актеры были в первых рядах борцов, которыми руководил нелегальный Имеретинский комитет во главе с Александром Цулукидзе. В труппе театра работали люди, ставшие впоследствии известными всей стране. Актер театра молодой и талантливый Нестор Каландаришвили был сослан в Сибирь, где во время гражданской войны он героически сражался с Колчаком и снискал себе легендарную славу. Во время уличных боев в Кутаиси помещения бутафорской и реквизиционной превратились в настоящие мастерские, где изготовлялись бомбы. Здесь же хранилось оружие. Этим делом руководил Серго Челидзе — машинист сцены. Ладо Месхишвили в актерском костюме, загримированный, произносил со сцены революционные речи. Случалось, что в зале неожиданно гас свет, а когда его зажигали, в руках зрителей оказывались прокламации. На требование полиции освободить зал зрители отвечали «Марсельезой». К ним присоединялись актеры. Работники театра сражались на баррикадах плечом к плечу с рабочими дружинами. Именно в эти дни прозвучали знаменитые слова Ладо Месхишвили: «Быть может, мы погибнем, но страна родит героев, которые принесут народу безусловную победу». Шалва Дадиани все время находился в гуще событий. Он по-прежнему много писал. В газетах систематически появлялись его короткие рассказы-агитки. Тысячи людей читали в то время их с захватывающим интересом. Но Дадиани не удовлетворялся только газетой. В 1905–1906 годах он написал две пьесы: «В подземелье» и «Когда они пировали». В этих вещах уже отчетливо чувствуются особенности творчества Дадиани-драматурга. Аллегоричные по форме, написанные народным языком, они очень точно и правдиво передавали настроения передовой молодежи в те годы. Интересна финальная ремарка в пьесе «Когда они пировали»: «…Тучи заволакивают небо, слышен гром, приближаются звуки «Марсельезы». Царское правительство в штыки встретило появление этой пьесы, и поэтому начальник печатного комитета в марте 1913 года по этому поводу писал прокурору Тифлисской судебной палаты: «9 февраля 1913 года типографией Махарадзе в Батуме выпущена была в свет пьеса на грузинском языке «Когда они пировали», сочинение Шалвы Дадиани, автор которой, рисуя аллегорическое буржуазное общество, говорит, что все созданное рукой человека должно принадлежать рабочему. По мнению автора, придет время, когда пролетариат не будет просить, а потребует, чтобы все принадлежащее ему по праву было возвращено ему». Дадиани обвинили в «возбуждении вражды между классами». Дело обстояло очень серьезно, так как ему грозило шестилетнее тюремное заключение. Однако еще до этого Дадиани поставил свою пьесу в Батуми. Полиция не разрешила постановку пьесы. Тогда театр объявил, что она снимается и будет даваться пьеса Насидзе «На жизненном пиру», разрешенная наместником. Но вот отрывок из письма батумской полиции, адресованного военному губернатору Тифлиса: «Уже один взгляд на приложенную афишу, на которой напечатанное первоначально «Ш. Дадиани» покрыто наклеенной надпиской «I акт — пер. Насидзе», указывает на фальсификацию, а показания свидетелей, что в пьесе «На жизненном пиру» продавались или раздавались отдельные брошюры с портретом Шалвы Дадиани, не оставляют сомнения, чтодавалась именно пьеса последнего, а не Насидзе». В 1912 году Дадиани организовал передвижную актерскую труппу «Могзаури даси» («Бродячая труппа»), с которой он много ездил по городам и селам Грузии. Его режиссерскую работу высоко оценивала тогдашняя периодическая печать. В организации этой труппы большую помощь оказала ему жена — Эло Андроникашвили, женщина, получившая образование в Сорбонне, актриса и детская писательница. Ее рассказы печатались в журналах «Джеджили» и «Накадули». В поездках часто участвовали Л. Месхишвили, актриса Нуца Чхеидзе. Годы столыпинской реакции почти не отразились на творчестве Дадиани. В то время когда многие видные писатели почти полностью отошли от революционных идей, когда в литературе все большее распространение получал декаданс, Дадиани твердо стоял на позициях реализма и реалистической литературы. Его творчество по-прежнему было проникнуто оптимизмом и верой в конечную победу народа. В 1912 году Дадиани написал пьесу «Шени Чириме». Она явилась одним из первых значительных произведений критического реализма начала XX века. Место интеллигенции в жизни, в борьбе. Этот вопрос очень остро стоял на повестке дня тех лет. Деградирующее дворянство, сытая, пресыщенная буржуазия — они составляли верхушку грузинской интеллигенции. И хотя основной конфликт пьесы — борьба дворянской и буржуазной интеллигенции — автором не решен, в ней с большой убедительностью показано разложение этих «ведущих» классов тогдашнего общества. Перед самой войной по инициативе Шалва Дадиани было собрано всегрузинское совещание работников театра. Председательствовал на этом съезде Акакий Церетели. В работе совещания участвовали почти все ведущие театральные деятели Грузии. В эти дни было создано Грузинское театральное общество, впоследствии ставшее настоящим очагом грузинской культуры. С первых дней войны Дадиани выступил как непримиримый противник этого варварского братоубийства. 10 августа 1914 года в статье «Наш путь» он резко отзывается о зачинщиках войны, не обходя и предательство социалистов, которые к этому времени стали министрами в правительствах воюющих стран. С первых же дней установления советской власти в Грузии Шалва Дадиани встал на сторону восставшего народа. Он включился в работу, справедливо считая, что интеллигенция не может стоять в стороне от великих событий революции. Однажды вечером на квартиру Дадиани в Кутаисе пришел человек в солдатской шинели и в папахе с красным околышем. — Вы Шалва Николаевич Дадиани? — Да, я. — Следуйте за мной… По дороге солдат молчал, и Шалва Николаевич долго не мог понять, куда тот ведет его. Они подошли к зданию театра. Оказывается, здесь собрались деятели искусства Кутаиса, которые должны были избрать делегатов на всегрузинский съезд работников искусств в Тифлисе. Солдат — это был политический комиссар армии — ввел Дадиани в зал и предложил ему занять место за столом президиума. Делегатами на съезд избрали Шалва Николаевича и поэта Александра Абашели. Вскоре они выехали в Тифлис, сопровождаемые все тем же комиссаром. Путь в Тифлис был очень тяжелым. В переполненных вагонах ехали солдаты, люди висели на подножках и буферах, забирались даже на крышу. От Кутаиса до Зестафони (километров шестьдесят) поезд шел три дня. Комиссар оказался находчивым человеком. Он объявил на станции, что везет новое правительство Грузии. Работой тифлисского съезда работников искусств руководил народный комиссар просвещения Грузии. Начальником музыкального сектора был назначен композитор М. Баланчевадзе, секции литературы — А. Абашели, а театральная секция была поручена Ш. Дадиани. Старый, дореволюционный театр с его бесконечными интригами, с его непрерывными склоками, погубивший столько дарований, умер. На смену ему должно было прийти новое искусство — молодой Советской республики. Вот за создание этого искусства стал бороться Дадиани на своем посту. С 1921 года он руководит Народным домом — признанным центром театральной жизни Грузии. О его работе может рассказать статья из газеты «Коммунист» от 3 января 1923 года: «В Народном доме, история которого покрыта ореолом славы и заслуги которого золотыми буквами выгравированы на страницах истории грузинского пролетариата, революция началась в 1921 году, а углубилась в сезоне 1922 года, когда всегда молодой Шалва Дадиани собрал вокруг себя молодежь и стал во главе театра. Рутина была побеждена, стоячая вода потекла, замкнутость прекратилась…» В 1923 году грузинская общественность в торжественной обстановке отметила 30-летие творческой и общественной деятельности Ш. Дадиани. Отметили юбилей и в Москве. На вечере в студии МХАТа от имени коллектива Малого театра юбиляру было передано приветствие старейшего русского актера А, И. Сумбаташвили-Южина. Его приветствие прочла Яблочкина. Юбилей Дадиани был отмечен во многих городах России: в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Баку. Правительство Грузинской ССР присвоило ему почетное звание народного артиста республики.
Грузия XII–XIII столетия… Царица Тамар… Тбилисский амир Вардан Дадиани. Рати Сурамели… Юрий Боголюбский — сын русского князя Андрея Боголюбского… Борьба за власть, интриги, соперничество… Идет заседание государственного совета. Кто будет женихом царицы Тамар? Об этом думают князья и министры, военачальники и советники, старейшины и патриархи. Даже воины, охраняющие покои царицы, задумались над этим вопросом. Вот встает амир Тбилиси и Картли Абуласан: «Я знаю сына правителя Андрея Великого, князя русского, которому подчинены триста князей русских. Он будет достойным женихом царицы», — так говорит амир, и снова задумываются присутствующие. Да или нет? Но вот поднимаются головы, и Абуласан читает в глазах придворных: «Да. Да… Да…» Он облегченно вздыхает. Большинством совета одобрено его предложение. Крупный купец Зонкан Зорабабели послан ко двору кипчакского хана, где живет князь Юрий. Он выполнил поручение совета: русский князь вместе со своим воспитателем приезжает в Грузию. Эти события описаны в историческом романе Шалва Дадиани «Юрий Боголюбский». А вот отрывок из этого романа, сцена помолвки царицы Тамар: «Прекрасный день праздника Свети-Цховлоба. Стоит ровная, теплая погода. Только в небе чуть видна сединка облаков. Тамар поднимается на амвон, принимает чашу из рук католикоса, прикладывается к ней. Причащается. Вытирает губы легкой тканью платка, поданного служителем. С чашей в руках поворачивается к молящимся. Кузьма Русский и Шараган подводят к ней Юрия. Тамар дает ему причастие. Утандар выдается своей красотой среди придворных. дам. Томно посмеиваясь, глядит на Юрия: — Как прекрасен наш царь! — Не затмил бы красотой Тамар!.. — Далеко ему!.. Перешептываются красавицы: — Погодите, дайте поглядеть на обоих вместе! — Да что ты, раньше не видела? — Нет, он стоял спиной к нам… Среди иностранцев другая беседа. — Что это за обычай? — спрашивает один. Поясняют: — Царю дозволено причащать своей рукой. Византийцы возмущены: — Это варварство! — Что? То, что царь причащает своей рукой? — Нет, это и у нас принято. — Что же? — То, что женщина причащает мужчину. — Но ведь эта женщина — царь! — Ну и что же? — Молчите, не обращайте на себя внимания. — Пристойны ли эти разговоры в храме!.. Все же один не может сдержать себя: — Ведь и наш епископ служил сегодня… Если бы что-нибудь противоречило законам церкви, он воспротивился бы! — А ты думаешь, спросили его? — Тсс… Тише! Служба окончилась. Католикос в мантии и с жезлом в руке вышел на амвон. Опершись на жезл, обвел взглядом присутствующих и возгласил: — Ныне обручается раба господня, царица всея Грузии Тамар и княжич Георгий, сын русского князя Андрея Боголюбского… Слово «Боголюбский» немного затруднило католикоса. Все же, преодолев его, он продолжал: — Если заявить имеете что-нибудь против этого союза, заявите. Если знаете что-либо о родственных связях обручающихся или какую-либо иную помеху, заявите. В ответ — полное молчание. Только нетерпеливое ожидание благополучного конца, только улыбки на лицах. Иные думают: «Зачем тянуть понапрасну, ведь уж все давно известно, скорее завершайте дело!» Но закон и обычаи нерушимы. Священнослужители строго выполняют то, что положено. Католикос еще дважды повторил сказанное. Чахрухадзе опять оказался возле Скандиер-Аль-Мулька и шепчет ему: — Ах, если бы можно было, я бы заявил протест! Причина? Причина та, и та, и та… Скандиер, до сих пор улыбавшийся, подобно всем, становится серьезным и крепко берет за руку Чахрухадзе, опасаясь, как бы юноша и впрямь не натворил беды. Чахрухадзе овладевает собой и умолкает. Католикос подзывает к себе обручающихся. Тамар предстала перед католикосом. После нее Юрий. Великая тишина. Ни звука. Все прониклись значением этой великой минуты, даже дыхание затаили. И у католикоса дрогнул голос. С трудом выговорил старик: — Царица всея Грузии, раба божия Тамар! Желаешь ли быть обрученной с княжичем русским Юрием Боголюбским? Все нервы напряжены. Томительное ожидание. Давно ждет этого вопроса Тамар, давно знает и свой ответ. Но неумолимая рука, вновь коснувшись раны сердца, бередит ее… Нет, нет, она не оскорбит даже мысленно этого святого имени здесь. Но что делать, если спазмы схватили горло? Если снова проснулась женщина Тамар? Царица, как ответишь ей? Навеки гибнет женщина Тамар. Не вкусив радости, с испепеленным сердцем? Неужели она лишь жертва, обреченная на заклание?.. Да, жертва всегда обречена… Но, царица, женщина обнимает колени твои… Не отдавай ее этому чужеземцу… пощади ее чистоту… Колени царицы мокры от слез женщины. Или от слез самой царицы?.. «Нет!» Женщина изгнана. — Желаю. В голосе ни дрожи. Он звучит свободно. Как всегда у Тамар… Пожалуй, только чуть-чуть слабее, чуть тише. Католикос обращается к Юрию. — Желаю. Мягко, как говорят русские, произносит Юрий это грузинское слово. Улыбка пробегает по лицам присутствующих. Только Утандар, замирая сердцем, твердит про себя: «Дорогой мой!..» «Желаю!» — передразнивает она выговор княжича. «И я желаю — обнять тебя». Католикосу подали кольца. Трижды, обменяв кольца, пастырь объявил, что отныне Тамар и Юрий обручены. И вдруг раздался громовой удар. Грохот сотряс стены собора. Всех охватил трепет. Что это? Гром в октябре?! Редкое, небывалое явление! Католикос не растерялся и благословил помолвленных. Все было кончено. Обручение совершено. Еще раз осенив крестом, католикос соединил руки жениха и невесты и, повернув, обратил их лицом к выходу. Дадиани томится, затененный колонной, и не смеет взглянуть на нее. Не глядит на Тамар. Не глядит, но ее всепрощающий взор настигает его и здесь. И томит, казнит, мучает… — О-о, Солнцеликая, божество, божество! — Чахрухадзе в экстазе склоняет колени. Его слова неслышно срываются с губ. — О, верую, боже, верую, ибо в лице Тамар ты явил лик свой!.. — Чиабери! Снова слышится ясный голос Тамар. И развязался узел, завязанный в соборе. Толпа тронулась…» Еще в 1916 году задумал он этот большой роман из жизни прошлого Грузии и тогда же написал первые главы. Роман «Юрий Боголюбский», оконченный в 1924 году, явился крупнейшим произведением грузинской исторической литературы. Впервые коснувшись русско-грузинских отношений, Дадиани показал, что еще в те далекие времена грузинский народ стремился к дружбе с Россией. В 1924 году Дадиани приехал в Москву. В течение двух лет он руководит Домом грузинской культуры и драматической студией, созданной режиссером В. Мчедловым. Долгое время Шалва Николаевич почти ничего не пишет. Для него наступило время переоценки. То, что было сделано до Октября, уже не отвечает новым требованиям, предъявляемым народом молодой советской литературе. В 1928 году его поиски привели к созданию комедии «Прямо в сердце», которая явилась первой советской грузинской комедией. Через два года он заканчивает другую пьесу — «Все сойдет» — и в том же 1930 году пишет свою лучшую трагедию «Тетнульд». Дадиани снова обращается к истории. Его внимание привлекла судьба выдающегося грузинского поэта Николоза Бараташвили. Он пишет трагедию о его жизни. Вскоре появляется в печати новый исторический роман Шалва Дадиани «Урдуми». В этом романе рассказывается о восстании грузинских крестьян в сороковых годах прошлого века против феодальной аристократии и помещиков. Очень точно написана жизнь крепостных крестьян, которых продавали как товар, обменивали на скотину. Это было время, когда работорговля в Колхиде приобрела невиданный размах. Крестьян вывозили в Турцию. Рынки этой страны были переполнены грузинскими юношами и девушками. Народ во главе с выдающимся героем Уту Микава поднялся на борьбу с угнетателями. С большой симпатией и уважением написан образ этого легендарного борца. Основная мысль романа: настоящая история создается народом.
Большая общественная работа Шалва Дадиани была высоко оценена народов. В 1937 году его выбрали депутатом Верховного Совета СССР. Любопытный случай произошел при выдвижении его кандидатуры. Представитель ЦК партии Грузии тов. Ломидзе пригласил его на избирательный участок. — Нужно рассказать людям об обязанностях депутата. Вы писатель — у вас это должно получиться, — сказал он. Ломидзе и Дадиани приехали в колхоз, неподалеку от Тбилиси. Там состоялось собрание избирателей. Шалва Николаевич выступил. Он обрисовал положение в стране, задачи, стоящие перед народом. Просто и ясно рассказал, каким, по его мнению, должен быть народный депутат. После его выступления поднялся колхозник. — Товарищи, — сказал он, — вы все слушали нашего уважаемого Шалва Николаевича. Сами видите, насколько хорошо он знает депутатские обязанности. Я предлагаю поэтому его кандидатуру в Верховный Совет! В зале раздались аплодисменты. Дадиани, не предполагавший, что дело обернется так, растерянно оглянулся на улыбающегося Ломидзе. Тот, подбадривая, кивнул ему головой: — Все в порядке, Шалва Николаевич, я не хотел говорить вам… ЦК поддерживает вашу кандидатуру. Потом выступали учительница местной школы и комсомолец. Они горячо приветствовали писателя. Табличка «Депутат Верховного Совета» до конца жизни висела на дверях квартиры Дадиани. К нему шли люди с самыми разнообразными делами. Вот женщина. У нее большая семья — трое детей, недавно случилось горе — умер муж. — Помогите младшего устроить в интернат! Вот мужчина, он очень взволнован. — Понимаете, я сделал интересное предложение. Маленькая переделка, и конструкция, которую все отвергли, может существовать! — Так в чем же дело? — спрашивает Дадиани. — Тянут! — горько говорит изобретатель. — Не верят, не хотят рисковать, понимаете… Я ведь не для себя стараюсь, мне и денег не надо. Сделайте что-нибудь. — Обязательно! Вот седой как лунь старик. — Я воевал в гражданскую… Устанавливал советскую власть… Трудился на фронтах пятилеток: Скажите, могу я молчать, если мой сосед — молодой парень — не работает, не учится? Связался со шпаной… живет один — семья в Квирилах. Шлют ему деньги, думают, что возьмется за ум… Дадиани записывает, адрес в депутатский блокнот. В этом блокноте осталось немного места… В своих воспоминаниях Дадиани рассказывает о случае, который произошел с ним на собрании избирателей в Казбеги. После торжественных речей встал какой-то старик. Лицо его было хмурым. Он долго молчал, а потом обратился к собравшимся со следующими словами: — Послушайте, дорогие товарищи. Посмотрите на этого человека, — он указал на Дадиани, — вы знаете, кто он? Ведь он бывший князь… Его предки были владетельными феодалами. Они нещадно эксплуатировали своих крепостных. Я радуюсь, что не был крепостным князей Дадиани!.. Собравшиеся удивленно молчали. «Что он говорит? Наверное, этот старик сошел с ума!» Шалва Николаевич сидел в президиуме, низко опустив голову. Старик снова помолчал и вдруг сказал: — Так вот, товарищи. Я славлю наше Советское правительство, нашу советскую власть за то, что даже из потомков таких людей оно сделало верных слуг народа! Пусть и дальше трудится наш дорогой Шалва Николаевич для народного блага…
* * *
Большим явлением в современной грузинской литературе стал последний роман Ш. Дадиани «Семья Гвиргвилиани». В этом многоплановом произведении нарисована яркая картина жизни различных слоев грузинского общества в годы революционного подъема начала XX века. Роман написан великолепным языком. Очень интересно его композиционное построение, многим главам предпосланы «притоки», в которых автор, обращаясь к вымышленной собеседнице Цибедуль, делится с ней мечтами и планами: «Цибедуль! Сейчас, когда я пишу эти строки, в Москве — зима, а в моем романе расцветает весна — легкая, нежная, подобная той, какая бывает в Мегрелии — одном из лучших уголков Грузии. Солнце там ласково кусается в эту пору, заметно меняя вам цвет кожи. Проведите день на лоне природы — и, если вы блондин, к вечеру станете смуглым, а если брюнет превратитесь в араба. Весной раньше всех поднимает свою ярко-красную головку цикламен, растущий большей частью среди прошлогодней прелой листвы. За цикламеном встает фиалка, синеватая, скромная фиалка, которая займет потом место на груди влюбленных. Я тоже срывал фиалки, когда был молод, я связывал их в букетик и робко преподносил той, кого принимал тогда за свою Цибедуль.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одно лишь вызывает тревогу — биение моего сердца. Но я прикажу сердцу: «Помедли, дай мне окончить этот труд!» С детства воспитанный на демократических принципах, Шалва Дадиани так же шел по жизни не обычным путем для людей его класса. Все творчество этого большого писателя проникнуто духом глубокого уважения к делам народа и непримиримой ненависти к тем силам, которые мешали его прогрессу. На книгах Дадиани учились и учатся поколения, в руках которых находится судьба человечества. Его многолетняя и плодотворная деятельность была высоко оценена партией и правительством. Он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Он умер в возрасте восьмидесяти лет. Всю свою сознательную жизнь отдал он делу служения народу. И сегодня, когда его нет среди нас, мы все равно твердо знаем: такие люди не умирают. В памяти каждого остался он неутомимым, жизнерадостным и бесконечно живым.Н. Микава ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ЛАДО ГУДИАШВИЛИ

1
…Нет, это название не случайно. Ладо Гудиашвили действительно создал сказочный мир красок — свою бессмертную Шехерезаду. Каждая его картина — легенда. Сказочные краски, удивительные линии карандаша. У каждой его картины, рисунка, этюда своя философия, своя мудрость… и краски свои, гудиашвилевские. Их много, необычайно много — свежих, бесконечно оригинальных. Даже сам художник не помнит, сколько он создал их, во всяком случае — несколько тысяч. …Тридцатые годы. Я готовился в университет. В свободное от занятий время (а иногда и не в свободное) любили мы, абитуриенты, «пройтись» по проспекту Руставели. В те годы это был своеобразный тбилисский Монмартр, где под тенистыми чинарами по старым булыжникам гуляли поэты, писатели, артисты, художники. Здесь они встречались, обменивались мнениями, спорили, делились впечатлениями и невинными сплетнями (а иногда и не невинными). Они спускались в подвалы «Дарьял», «Гемо», «Химерион», шли в «Олимпию» на Пушкинский или же в «Симпатию» к Пиросмани, чтобы пригубить нектар с кахетинских полей. Летом 1927 года на этом «Монмартре» стал часто появляться человек среднего роста, молодой и загадочный. Казалось, только что сошедший — слегка модернизированная копия — со старинных фресок. Говорили, что он художник. Носил он сандалии, как у древних римлян, брюки из белой тонкой шерсти, шелковую сорочку цвета слоновой кости с распахнутым воротом. Ходил он всегда легкой походкой, будто не касаясь земли. В движениях — что-то от «Дискобола» Мирона или от горца. Лицо мужественное, угловатое, на первый взгляд слегка суровое. Но стоило ему заговорить или улыбнуться, как от него веяло теплом, он становился мягким и обаятельным. Высокий лоб, густые длинные — дугой — брови, как стражи, охраняли серые, бесконечно добрые глаза. Тронутые сединой чуть волнистые волосы, зачесанные назад, придавали пластическую законченность всему облику художника. Наконец я узнал: это был Ладо Гудиашвили, картины которого восхищали всех, особенно молодежь. Еще в те годы состоялось мое знакомство с его творчеством. «Хаши», «Рыбы цоцхали», «Кутеж кинто с женщиной», «Зеленые феи», «В волнах Цхенис Цкали», «Феро в Зестафони», «Бакурйанский андезит», его лани…Лань, символ красоты и чистоты, — лейтмотив всей жизни и творчества Гудиашвили. Целое поколение воспитывалось тогда на картинах Гудиашвили. Многие из нас не курили, но все же покупали папиросы «Советская Грузия» — этикетка работы Гудиашвили. Ланеобразная девушка среди райских деревьев — в голубовато-синеватых тонах. Любили мы еще фойе второго этажа гостиницы «Ориант», или, как сейчас называют, «Интурист». Стены этого фойе были расписаны фресками Ладо Гудиашвили. Я от души сочувствую тем, кто не видел эти фрески. Это были подлинные шедевры: тонкие, как стебли тростника, грузинки, лани с лебедиными шеями, юноши с древнегрузинских фресок… Приглушенные, будто временем стертые краски, розовато-голубые оттенки… Мы приходили в гости к этим жизнерадостным, слегка таинственным героям гудиашвилевской фантазии и часами просиживали с ними без слов. Дежурные пожимали плечами, удивляясь нашему увлечению «безухими дивами» (Гудиашвили как правило, избегает писать уши, считая, что они уродуют человеческое лицо). Многие тогда не понимали солнечное, глубокое искусство художника. Я вспоминаю, как четырнадцать лет спустя мы с ним ходили по инстанциям… но, увы, не смогли ничего сделать. Геростратик наших дней (директор гостиницы, не стоит упоминать его имя) закрасил фрески, чтобы дать возможность своему любимому декоратору разделать стены фойе «под шелк». Он считал ненужным существование духа Гудиашвили в стенах «Интуриста», а стены «под шелк» были пределом его фантазии и вкуса. Невольно приходит на память другое — замечательное графическое творение Ладо «За разгадкой тайны красоты». На сцене театра имени Руставели шел спектакль «Ламара» в постановке Котэ Марджанишвили с участием Тамары Чавчавадзе, Ушанги Чхеидзе, Акакия Хорава, Георгия Давиташвили. Оформлял спектакль Гудиашвили… Когда Миндиа — Давиташвили приходил к цветам и разговаривал с ними на их языке, цветы, гудиашвилевские цветы, отвечали ему. Так кисть Ладо и стих Пшавела соединились в одно целое, в одну песню. Совершенно необычной показалась сцена торжества хевсуров. Это была изумительная вакханалия цветов и красок, оттенков и полутонов, в то же время подчиненная строгому ритму. А в оперном театре, в эти годы шла опера «Абесалом и Этери». Художник Гудиашвили. И опять народный шедевр «Этериани», музыка Палиашвили и декорации Ладо слились в один торжественный гимн любви и бессмертия. И еще не смогу забыть совершенно необычайную постановку Котэ Марджанишвили «Песнь об Арсене». Единственной декорацией к этому спектаклю был задник длиной в несколько десятков метров, исполненный Гудиашвили в стиле народного лубка. Им, как рулоном, были обвернуты два столба, стоящие по обеим сторонам сцены. На каждое появление Арсена Одзиашвили, героя спектакля, — стало быть, для каждой новой сцены — появлялся новый задник, и каждый из них — шедевр театральной живописи. После этого спектакля я не могу себе представить народные стихи об Арсене без красок Гудиашвили. Уходили годы, как осенние листья… В 1946 году вместе с Ладо мне пришлось побывать на церковно-народном празднике в Зедазени, недалеко от Мцхета. Это высоченная гора, откуда открываются замечательные виды на Карталинскую долину — где-то в пропасти, в сизом тумане раскинулась она с богатыми садами и черепичными крышами домов — и на Мцхета, вдалеке ЗАГЭС, а где-то еще дальше — очертания Тбилиси. В этот день я воочию наблюдал, как художник черпает свое вдохновение у жизни, у народа. Ладо держал себя с колхозниками, как со своими друзьями, как с добрыми соседями. Он обязательно шел туда, где народ веселился, танцевал, пел песни; где начиналась борьба, парикаоба (состязание на рапирах), где старик на волынке выводил смешные шаири (частушки), где стреляли из лука, объезжали коней, носились с Лело… В этот день было несколько крестин — Ладо успел побывать на всех. К вечеру мы спустились с Зедазени. На пути остановились в Мцхета — нельзя, проехать мимо Свети-Цховели… И потом, после такого напряженного дня, не мешает зайти в духан к Иона, попробовать цоцхали, выпить зеленого атенского вина… Когда я в Мцхета, мне не хочется уезжать из этого городка, древней столицы Иберии. Здесь живая история, страницы веков и тысячелетий. Между трех вечнозеленых вершин «сплелись Арагва и Кура», на одной горе — развалины языческого города Армази, а там, напротив, такую же неприступную гору завершает храм VII века Джвари (помните лермонтовского «Мцыри»?), внизу; на мутной Куре, — мост Помпея, да, того самого Помпея… В стороне женский монастырь «Самтавро», красивый храм с бесподобными орнаментами. Недалеко отсюда зияют черные ямы «ограбленных» археологами могил грузинских питиахшей. И никогда не забуду на фоне кровавых лучей заходящего солнца коленопреклоненного Ладо Гудиашвили перед храмом XI века Свети-Цховели… Он стоял на коленях не потому, что верил в бога. Нет, он убежденный атеист. Стоял он на коленях перед великим творением зодческого искусства, перед Свети-Цховели, перед бессмертным его создателем Арсукидзе. Еще один Ладо незабываем в памяти — Ладо, танцующий кинтаури — танец кинто. Но это зрелище нужно видеть собственными глазами, рассказать об этом невозможно. Только тогда я понял, почему так точно переданы движения кинто на картинах художника. Такая пластика, такие резкие, законченные повороты, совершенно необычайные линии, рисующие жизнь, быт, духовный мир этой необычайной категории людей, могут быть только врожденными и только у таких вечно молодых людей, как Ладо Гудиашвили. Могут меня понять еще те, кто видел замечательного актера Георгия Шавгулидзе в роли кинто или карачогели. …Тбилиси. Улица Кецховели, 11. Здесь живет наш художник. Дорога к его дому проторена тысячами людей. Мы тоже ходили туда часто узнать, что же он создал сегодня? А создавал он много, очень много… Дверь неизменно открывала девочка — дочь художника Чукуртма. Не надо удивляться, что дочь он назвал таким именем (Чукуртма — орнамент). Тонкость, изысканность и прелесть грузинского орнамента как нельзя лучше передают обаяние и милый облик этой девочки. И тут же всегда радужный взгляд доброго гения семьи — Нины Гудиашвили, жены художника и его незримого соавтора.
2
Кашветский храм, построенный не то в IX, не то в X веке, находится в Картли, между Ксани и Гори, носит заслуженную славу лучшего образца древней грузинской архитектуры. Название его Самтависи. Архитекторы Агладзе в начале века построили на проспекте Руставели, между художественной галереей и домом, где живет художник, точную копию этого храма. Ничего не скажешь, скопировали они бесподобно, талантливо… Но что делать с изумительными фресками, украшавшими внутренние стены храма Самтависи? Где найти художника, достойно могущего их повторить? Пришлось ждать почти полвека, пока выбор не пал на Ладо Гудиашвили. Но он вместо самтависских фресок предложил новые, свои. Пришлось с ним согласиться, и по городу молниеносно разнесся слух: Ладо Гудиашвили расписывает Кашветский храм! Одни были шокированы: как, коммунист расписывает стены божьего храма?! Другие были увлечены сенсацией: интересно, как он напишет святых — с ушами или без ушей? Третьи с радостью восприняли эту весть: они знали, что Кашвети — это памятник искусства, и Гудиашвили сделал правильно, что согласился. Он художник, и он не имел права отказаться. Смешно ведь говорить, что «Мадонна» Рафаэля — икона: это гениальное произведение искусства. Ничто не разубедило Ладо: ни пересуды, ни опасения друзей, ни злобная радость недругов. Художник твердо решил «осуществить свой замысел. Начались работы. Кашветская церковь внутри была в лесах. Моложавый седой художник с утра и до вечера стоял под куполом над алтарем и писал. Вначале никого не пускали. Только через месяц была «прорвана цепь». Началось паломничество. Богобоязненные старухи, завсегдатаи этого храма, стояли у ворот церкви и перешептывались с выражением страха на лице. Они боялись высказать громко свое возмущение: боялись разгневить бога — может быть, по указанию всевышнего рисует художник изображения бога и его святого семейства? Слухи и мнения были разноречивы. Трудно ждать, пока позовет сам художник, — творцу всегда кажется, что чего-то не хватает его творению, настоящий художник никогда не бывает доволен собой. И мы решили нагрянуть неожиданно. В мрачном храме с серыми стенами горела одна-единственная свеча. И в этом сером тумане словно яркое солнце ударило нам в глаза с высокого купола алтаря… Мы были ошеломлены… Это ведь тот же мир земных страстей, буйной жизни, человеческих пороков и достоинств, радости и бурного веселья! И как это замечательно! Какой праздник красок, какое изобилие света, сколько солнца, какое торжество радостных тонов! А над алтарем бесподобная голова Христа… И возглас удивления невольно вырывается у каждого из нас: в облике Христа он изобразил своего ученика, способного скульптора — Бидзина Авалишвили. В Тбилиси Авалишвили знали многие. Часто на проспекте Руставели можно было встретить этого красивого юношу с мужественным лицом. Он мог бы позировать художнику в костюме царевича, витязя из свиты царицы Тамар или воина Георгия Саакадзе. Но писать с него Христа?!. Прошло уже пятнадцать лет, и благочестивые старухи зажигают свечи перед этим Христом, ничуть не выделяя его среди других изображений божьего сына. Самой колоритной и интересной была богоматерь с младенцем, исполненная в розовато-голубых тонах. Типичная грузинская крестьянка, красивая, дородная, с округлыми формами, она держала на руках веселого бутуза… А внизу, по бокам, апостолы — в стиле грузинской фресковой живописи, похожие на древних воинов.
3
Народный художник Грузии Ладо Гудиашвили не любит говорить о себе, у него и времени на это нет. Он прав. Да и зачем ему говорить — все сказано его картинами. Он испытал все: нужду и достаток, творческие успехи и неудачи, восторженное восхваление и непонимание. Просьба рассказать о себе его смущает, неприятна ему, но человек он вежливый: «Что ж, пожалуйста…» — Я родился в Тбилиси, в 1896 году, в семье железнодорожника, отец служил в депо, мать воспитывала нас. С детства любил рисовать, хотел стать художником. Это упорное желание решило мою судьбу. Среднюю школу и художественное училище кончал одновременно здесь, в Тбилиси. В тринадцать лет участвую на выставке, моя живопись и графика привлекли к себе внимание педагогов. В 1914 году окончил училище, стал изучать древние памятники грузинского искусства. Участвовал в экспедициях историко-археологического общества, копировал фрески с древней стенной росписи. Они хранятся в музеях Грузии… Принимал участие в выставках, устраиваемых художниками. В 1919 году вместе с другими худож-никами расписывал цех поэтов — «Фантастический кабачок», клуб «Химерион». В 1919 году еду в Париж, посещаю академию Ронсона. В 1920 году принял участие в Осеннем Салоне. Выставил четыре картины маслом. Потом вернулся домой, работаю… Пожалуй, и все… Нет, не все! В 1922 году в Париже была устроена его персональная выставка. Произведения Л. Гудиашвили с успехом экспонировались в Марселе, Бордо, Лионе. В Бордо художника награждают почетным дипломом, которого удостаиваются немногие. Л. Гудиашвили успешно участвует также в выставках, устраиваемых в Лондоне, Риме, Брюсселе, Амстердаме. и других европейских городах. Еще в 1922 году ему было предоставлено почетное место на первой выставке «Новой галереи» в Нью-Йорке. Произведения Л. Гудиашвили включены в экспозиции Парижской галереи Ликорна и Жозефа Бийе, мадридского музея Прадо. Немало его работ можно обнаружить в лучших частных собраниях Европы и Америки.
4
Если в полдень в кафе много людей — это не парижане, французы отдыхают вечером. В «Ротонде», растянувшейся вдоль бульвара, были заняты все столики. Ладо подсел к своему старому знакомому — скульптору Судьбинину. Недавно Гудиашвили отдал свои картины на выставку в Осенний Салон. Еще не были известны результаты, и Ладо нервничал. — Ну что, ждешь? — улыбаясь, спросил его Судьбинин. — Жду. — Ничего… Победишь — хорошо, не победишь… Ну что ж, значит — в другой раз. «Не верит», — подумал Ладо. Что ж, трудно поверить в успех того, кто сразу по приезде в Париж отдает свои картины в Осенний Салон. Ну, да ничего… — Смотрите, смотрите, Пикассо!.. — раздались вокруг голоса. По другую сторону бульвара шагал всемирно известный мастер, в руке он держал веревку толщиной в добрых два пальца: поводок, на котором плелась крохотная собачка. Пикассо пересек бульвар и вошел в кафе. Кто-то из сидевших рядом с Гудиашвили подставил ему стул. Пикассо сел, сдержанно поблагодарив. — Странно… Лучшие часы для работы, а в кафе полно художников, — тихо сказал он и вдруг обратился к Ладо: — Сейчас четверть первого, не правда ли? — Да, — сказал Гудиашвили и почтительно добавил — Здесь все иностранцы. Нам нужно сначала привыкнуть к парижскому воздуху. — А вы сами откуда? Гудиашвили коротко рассказал. Пикассо кивнул головой и замолчал. Вскоре Ладо поднялся. Он шел по шумным парижским улицам. Судьба картин не давала покоя. Что там? Как приняло их жюри? Вот уже несколько дней ждал он письма… Монпарнас, улица Югенса, знакомая Ладо уже не менее улиц родного Тбилиси. Дом… Он быстро взбежал по лестнице. Опять в почтовом ящике пусто… Гудиашвили нехотя открыл свою дверь — и чуть не вскрикнул. На полу лежал белый конверт! Он надорвал его, торопясь, словно боясь опоздать, жадно впился в строки письма. «Грузинская идиллия»… «Кутеж на рассвете»… «Кутеж с женщиной»… «Загородный кутеж в Тбилиси»… Ладо быстро схватил письмо и бросился обратно в кафе. Увидев его, Судьбинин встревоженно поднялся: — Что стряслось у тебя, Ладо?! — Вот читай! Я ничего не понимаю. — Ладо протянул ему письмо. Судьбинин быстро пробежал его, удивленно взглянул на Гудиашвили, снова прочитал… Потом встал и протянул ему руку: — Ты молодец, дорогой мой! Твои картины приняли, поздравляю от души!.. В день открытия выставки Гудиашвили не находил себе места. Он никогда не думал, что это такое торжество для Парижа. Разодетая публика: мужчины в смокингах, а женщины — настоящий цветник осенних мод, поток ослепительных платьев, причесок, вееров. Медленно двигались люди по залам, лениво переговариваясь, лишь изредка останавливаясь у картин. Гудиашвили видел, что они больше любуются самими собой, чем живописью. Ему стало немного грустно… Через несколько дней Ладо вызвали в жюри. Пожилой, важный секретарь многозначительно улыбнулся ему и сказал: — Мсье, вы родились под счастливой звездой. Не думайте, что это комплимент. Вашими картинами заинтересовался маэстро Золуага. Одну из них, «Кутёж с женщиной», он хотел бы приобрести. Я обещал ему поговорить с вами о цене… — Золуага?.. Знаменитый художник? Он заинтересовался моими картинами? — Гудиашвили был потрясен. — Ради бога, мсье. Передайте господину Золуага, что я уступаю ему эту картину бесплатно, и скажите, что он сказал? Как он отнесся? — Он спрашивал, когда написана эта работа, и не поверил, что вы это сделали здесь, в Париже, за несколько месяцев. Ваши краски привели его в восторг. Он говорил, что вы удивительно талантливы и обладаете изумительной фантазией. — Не может быть!.. — прошептал Гудиашвили. — То есть как не может быть, когда я слышал все собственными ушами! — рассердился секретарь. — Простите, я не хотел обидеть вас, но… это так неожиданно. — Неожиданно для вас, — уже примирительно заметил секретарь. — Жюри сразу оценило ваши работы. А насчет «бесплатно» — не советую вам, молодой человек: Золуага богат. Не стесняйтесь, он… — Нет, нет! — поспешно сказал Гудиашвили. — Спасибо вам, до свидания… — Вы найдете его в «Ротонде». Он бывает там до девяти вечера! — крикнул вслед секретарь. Всю ночь Ладо не мог заснуть. Лишь под утро он забылся коротким освежающим сном, а часов в шесть не выдержал, поднялся. Ему не терпелось приступить к работе, но скоро, к своему удивлению, он понял, что работать не может. Прошел час, другой… Он стал было прибирать мастерскую, но вдруг постучали. «Кого там несет?!» — подумалось ему. В дверях стоял человек в черном плаще. Загорелое лицо с черными усами. Широкополая шляпа. Живые, чуть прищуренные глаза. Кто бы это мог быть? — Если не ошибаюсь, — сказал гость, — вы. тот художник, картины которого я видел в Осеннем Салоне? — А это вы маэстро Игнасио Золуага?! — Гудиашвили по грузинскому обычаю склонил голову и широким жестом пригласил гостя в комнату. — Я хочу посмотреть ваши картины… если позволите. — Они перед вами! Знаменитый художник пробыл у Гудиашвили весь день. На прощание он сказал: — Я не хочу кружить вам голову или завоевывать ваше сердце. Эти работы искренни и страстны. В них есть то, что отличает настоящего творца. Золуага ушел. Ошеломленный Гудиашвили сел на стул посреди своей мастерской и задумался. Как же все это было? Как случилось, что сам Золуага пришел к нему? И словно в калейдоскопе замелькали события последних дней… …Гудиашвили очнулся. Сколько он сидел так? Час? Два?.. За окном вечерело. Был близок знаменитый парижский «синий час» — время, когда все: и листья Деревьев, и лица, и стены домов — приобретает непередаваемый синеватый оттенок. Гудиашвили поднялся. Пожалуй, нужно выйти прогуляться. Он надел шляпу и вдруг почувствовал, что эта шляпа не его. Боже мой, наверное, одеваясь, Золуага перепутал шляпы. Как неудобно! Хорош хозяин!.. «Вы найдете его в «Ротонде»!» — вспомнилось ему. Время — почти девять, «Если бегом, то я, может быть, еще застану его…» Ладо столкнулся с испанским художником в дверях кафе. — Маэстро… — начал он. — А, это вы? Что случилось? Гудиашвили улыбнулся и смущенно показал на шляпу: — Мы, кажется, перепутали!.. Зилуага рассмеялся. — И потому вы так бежали? Не стоило этого делать. Хотя, впрочем, — лицо его приняло заинтересованное выражение, — вы, пожалуй, правы! Вот вам ваша шляпа. Идите в ней, как идете, со своей верой и по своему пути!.. …Много интересного рассказал в тот зимний вечер Ладо Гудиашвили о своей жизни в Париже, об интересных встречах, о выставках, о путешествиях. И мы слушали его внимательно: я и писатель Ладо Авалиани, написавший потом об этом рассказ, а затем — уже в который раз! — вновь и вновь осматривали его картины… Можно сказать, что, несмотря на их гибкость, образы Ладо сохраняют некоторое почтение к традиционным позам святых, пришедших из византийских Истоков… Под кистью Гудиашвили образы облекаются в поэзию, то героическую, то элегическую, полны колорита легенды, в которой щедрость спорит с жестокостью, а мольба всегда уступает место самому бурному требованию. Заслугой Ладо Гудиашвили является именно то, что он в неприкосновенности сохранил свою национальную чувствительность посреди пластических соблазнов, расставляемых ему парижским вкусом.
5
В 1925 году в Париже появилась монография известного французского искусствоведа Мориса Реналя о Ладо Гудиашвили. Вот некоторые фрагменты из этой книги: «…Мы без всякого сожаления отдаемся чувственному очарованию егогрузинских видений, И это в такой степени, что, несмотря на нашу приверженность определенным артистическим традициям, видоизменяющимся время от времени без ущерба для себя, мы полюбили Грузию через неведение о ней. Мы полюбили Грузию особенно за ее душу, полюбили, даже не зная ее, как обычно случается с предметом наибольшей любви, и это благодаря охватывающему нас и убедительному соблазну искусства Гудиашвили. …Сент-Бев в свое время писал о пользе путешествий, расширяющих мысль и сбивающих самолюбие. И если я приглашаю вас в длительное путешествие среди картин грузина Ладо Гудиашвили, то делаю я это потому, что, мне кажется, они не только удовлетворят наш пластический вкус или собьют латинское самолюбие, но еще пленят нашу чувствительность… …Перспектива, это бедное маленькое изобретение, столь же узкое, как и дорогие Аристотелю Три единства, у него оставляет место более свободному построению, а следовательно, более богатым графическим и пластическим находкам. И его рисунок, элегантный и мощный, гибкий без мягкости, энергичный без грубости, живой, но не конвульсивный, движется всегда в рамках пластических причин нашей чувствительности, делая линейные открытия, тесно согласованные с данными цветного, но вполне здорового воображения. …Творчество Гудиашвили удерживает нас не только своим видом. Мы чувствуем, что образы, иллюстрирующие его композиции, живут интенсивной жизнью, вызванной чувствительностью, проявление которой нас не удивляет, но смущает и волнует. Как будто художник приглашает нас выпить крепкий напиток, похожий во многом на наши, но сохраняющий специфическое свойство, ошеломляющее и уносящее вдаль. …Новые истины, назовем их новыми находками, даются тем, у кого наиболее широкое и плодотворное сердце… …Ладо Гудиашвили, сумев в своем творчестве установить прочное равновесие между данными своего разума — потому что он не принес его в жертву другим — и импульсами своей индивидуальной чувствительности, создал произведения оригинальные и стабильные, сумевшие (редкое качество) смутить, очаровать и взволновать даже тех, кто давно уже был убежден в неудаче, преследующей сентиментальное искусство…» Так пишет Морис Реналь, искусствовед, специалист по творчеству Пабло Пикассо. В 1926 году, Гудиашвили вернулся на родину, а через год я впервые увидел его на проспекте Руставели…
6
Прошли десятки лет. Многое изменилось за эти годы в жизни страны, людей, в жизни самого художника. Внешне он почти такой же молодой, каким был когда-то. Картины его разбросаны по всему свету. Его огромное ателье напоминает гостиную сказочной принцессы, где стены увешаны бесчисленными героями его Шехерезады. Невольно вспоминаются слова английского писателя Джеймса Олдриджа: «В порыве огромного восторга обозрел я маленькую часть блестящего творчества Ладо Гудиашвили, которому принадлежит свое место среди великих художников современной эпохи. Чрезвычайно волнуют замечательные образцы графического искусства. В живописи обозрение каждого полотна вызывает такое же волнение, какое испытываешь при входе в храм. Каждый из зрителей сумеет понять изобразительные средства Ладо Гудиашвили и вникнуть в глубину его искусства. С нетерпением ждут его выставки в Париже и Лондоне, которая вызовет такой же интерес и волнение там, как вызвала у вас». Весной 1957 года была устроена первая полная выставка Ладо Гудиашвили. Все как праздника ждали вернисажа. Шутка ли сказать: впервые можно увидеть собранными в одном зале картины Гудиашвили! В день открытия выставки, 12 мая, с утра трудно было пройти по проспекту Руставели. Народ ждал у Художественной галереи. Преобладала молодежь: студенты университета, художественной академии, консерватории. Я уверен, что никто из них не имел пригласительного билета. На вернисажи обычно приглашают узкий круг людей: художников, писателей, артистов, журналистов. Но сегодня здесь был весь Тбилиси. Когда подошло время открытия выставки, толпа хлынула с места, и двери галереи распахнулись, оборвалась ленточка вернисажа. Люди вошли в зал. Впервые в истории выставок был нарушен традиционный церемониал. На третий день, когда немного схлынула волна посетителей, мне, наконец, удалось попасть в залы. У входа в Художественную галерею мне встретился, ныне покойный, известный наш критик и искусствовед, замечательный собеседник — Геронтий Кикодзе. — Вам не кажется, что когда из тени этих платанов, этой аллеи лип вы заходите на выставку картин Гудиашвили, попадаете в грузинский поэтический мир? — сказал он и, не дожидаясь ответа, потянул меня за собой. Мы, наконец, вошли в выставочный зал и очутились в мире сказок и легенд. Осмотр начали со станковой живописи. — Вы заметили, — продолжал Г. Кикодзе, — как сдержанно подана замечательная грузинская природа на его полотнах? Все внимание художника обращено на человека. Он старается объяснить самую большую тайну, раскрыть тайну человеческого тела и души, как это и подобает художнику-мыслителю. Это светлое небо и эти легкие облака — грузинское небо и грузинские облака. Эти женщины, нежно опустившие головки, — грузинские женщины. И художник, который их изобразил, глубоко национален. Он пишет женщин разной социальной среды, представительниц разных исторических эпох: Серафиту, вышедшую из тьмы веков, раненую амазонку, царицу Тамар, Манану Орбелиани, наших современниц, крестьянок, женщин, сидящих либо на балконах: дворцов, либо полулежащих на зеленом лугу, кружащихся в головокружительном вихре, либо спокойных, как античные богини, работающих на колхозном поле или скачущих на сказочном коне. Но у всех этих женщин есть что-то общее; это поэтическое покрывало, которым они прикрыты. Как в руках легендарного царя Фригии Мидаса все превращалось в золото, так и каждая женщина, которой касается кисть Ладо Гудиашвили, становится глубоко поэтичной. Мы остановились перед картиной «Поэтесса Манана Орбелиани в ложе». — Это шедевр, — восторженно воскликнул Геронтий, — как по колориту и рисунку, так и по композиции!.. Эти три молоденькие женщины пришли в театр, чтобы показать себя партеру и обществу я русой. Они создают прекрасный букет рядом с пожилым мужчиной, которого только лишь сцена интересует. И этот контраст прекрасно передается в гамме цветов, которые начинаются темными красками, чтобы перейти в кизиловый и зеленый цвета и в конце сосредоточиться в несравненные, нежнейшие полутона… Идем дальше. Стоим в глубоком восхищении перед картиной «Смерть Пиросмани», в которой без всякой сентиментальности передан последний акт трагедии народного художника. Какая обобщающая сила: так погиб не только Нико Пиросмани, так погибли вообще все забитые и нераспознанные таланты!.. Нашу беседу прервал подошедший поэт Георгий Леонидзе. Он бурно выражал свой восторг, волновался, громко говорил, — Я нарочно привел сюда колхозника из моего селения, в гости ко мне приехал. Так знаете, что он сказал? Сказал, что все это чудо… — Однажды, — продолжал Леонидзе, — мы с Ладо Гудиашвили шли по проспекту Руставели. Вдруг увидели на небе радугу. Я рассказал ему о слышанном мною в деревне: если в радуге преобладает желтый цвет, то в этом году будет хороший урожай хлеба и кукурузы, если преобладает красный цвет — большой урожай вина, если же зеленый — будет много фруктов… Так мне говорили мои односельчане. А я добавлю, что в радуге Ладо Гудиашвили — любые цвета, и вот обильный урожай. Поистине кисть Ладо Гудиашвили впитала в себя все грузинские краски. На его полотнах горят цвета солнца, виноградника, синевы неба, золота и граната, изумруда и лала, майской луны и весенних снов… Он поистине Важа Пшавела живописи… …Археологи работали неустанно. Каждая найденная могила — это страница истории. Вот погребение царевны, найденные здесь куски ткани, предметы туалета, золотые безделушки, ожерелье… Все это глубоко запало в память художника. После ухода историков и археологов Серафита, дочь армазского царя, просыпается от двухтысячелетнего сна, со своими прислужницами идет на прогулку… Все серебристо, радужно… Нарядная одежда, развевающееся покрывало, ритмичные жесты рук… Исчезло видение, но оно осталось на полотне «Прогулка Серафиты»… …Вот уже сколько дней приходит сюда поэт, в этот старинный храм, и, закинув голову назад, стоит на одном и том же месте. Высоко на стене фреска — головка девушки. Она загадочно улыбается ему, и он мучительно хочет разгадать: чему она улыбается, эта грузинская Джоконда?.. Мучается поэт над неразгаданной тайной… Это картина Гудиашвили «Улыбка фрески». …На кладбище к Нико Пиросманишвили приходит кинто с шарманкой, чтобы, по старому обычаю, разлить почтительно вино на могиле «незабвенного властителя сокровенных дум и чувств старотбилисского люда». Рядом могила карачогели и горожан, современников Пиросмани, которых воспел он в своих картинах. Лань — чистота и искренность, — поддерживающая надгробный камень, символизирует неувядающее искусство бессмертного чародея кисти… «Поминальный тост Пиросмани» — так назвал художник свою картину. Пиросмани всю жизнь оставался его любимым художником… …Какой праздник красок! Люди, и мал и стар, высыпали на улицу, на балконы, в окна домов… Смеются, поют, громко выражают свой восторг. Это радость встречи грузинского народа с Красной Армией. Картина называется «Вступление в Тбилиси красных богатырей». …Карьеристу чиновнику нужна слава, нужно ему попасть на страницы газет, чтобы о нем заговорили, что он потомок древнего и аристократического рода, что в его жилах течет голубая кровь. С этой целью он переносит прах своего предка, маркиза, из провинции в Париж. Скелет давно усопшего предка самодовольно курит сигару в своем стеклянном гробу. Он надменно подъезжает к новой усыпальнице мимо чинопочитателей и ассенизационного фургона. Сатирическое произведение, в котором художник саркастически высмеивает этот акт лицемерного благочестия, называется «Вторичные похороны в Париже». …Чарли Чаплин сидит в парижском кафе с господином импрессарио… Чаплин взволнован: возьмется ли этот самодовольный господин торговать его талантом, захочет ли он за счет таланта Чаплина пополнить свой карман? Ведь от этого зависит, сможет ли Чаплин отдаться своему любимому делу или нет. Таков сюжет произведения Гудиашвили «Чарли Чаплин и господин импрессарио». …Она предала своего красивого, молодого мужа. Грубое, отвратительное животное — зверь с человеческими ногами — отрезает голову своему сопернику и бросает ее к ногам красавицы. Она садится верхом на это чудовище и тащит за собой на веревке «Обезглавленного супруга». Поэт А. Аронов так описал эту картину:
* * *
Ладо Гудиашвили, приехавший в 1919 году в космополитический Париж, не дал себя втянуть в бурный водоворот модернистских течений и предпочел смотреть на жизнь в Европе глазами Домье. А его искусство никогда не снижалось до уровня формалистических экспериментов. Замечательны его антифашистские графические произведения. Проходить равнодушно мимо них нельзя… «Нам это не кажется тяжелой ношей!» — говорят франкистские обезьяны и овладевают «Инфантой» Веласкеса. Куда-то тащат мировой шедевр изобразительного искусства. «Все великое, в чем проявляется гений человека, оплевано фашизмом», — гневно говорит Ладо Гудиашвили. …Обезьяна взобралась на груду трупов, прицеливается из ружья в голубя мира. Разглядывая картину «Прицел обезьяны», нельзя не вспомнить слова Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!..» …Что может быть благороднее, спокойнее и красивее коня? А здесь табун лошадей, породистых скакунов. Но фашистским молодчикам скучно, они еще с утра не убивали никого. Чтобы заполнить свой день, они стреляют под аккомпанемент гитары в лошадей и улыбаются… …Знойный Египет. Четырехтысячелетний сфинкс поднимает свою каменную лапу против колониальных агрессоров. Таков «Непокоренный Египет». Весною 1958 года в Москве была открыта персональная выставка художника. Ладо Гудиашвили приветствовала московская общественность. В тот день на вернисаже были Наталья Кончаловская, Сергей Городецкий, академик А. А. Сидоров, друг художника искусствовед М. Е. Топурия, так много сделавший для этой выставки. — Я уже сказал, что люблю Ладо с самого начала его деятельности, — сказал Сергей Городецкий, — но когда я теперь смотрю на его работы, то должен отметить: как много он успел Сделать и как здорово!.. Говоря языком Станиславского, у него нет пустых кусков в картине… они требуют к себе пристального внимания, в них надо вдуматься… Я немного поэт, — продолжал С. Городецкий, — картина для меня рассказ. А Ладо Гудиашвили глубоко поэтичен. Все его картины дышат поэзией. Я мог бы на каждую его картину написать стихотворение, даже не зная сюжета легенды… Он еще что-то хотел сказать, но в это время нас потянул в зал графики А. Сидоров. — Вот что меня восхищает, — показал он на графические произведения, — Ладо Гудиашвили — это один из великих рисовальщиков нашего времени. Ладо Гудиашвили как график имеет только одного большого предшественника — это как раз чрезвычайно интересно — Франциско Гойю. Композиция грузинского художника меня, как специалиста по истории графики, немедленно заставляет вспомнить о Гойе, но о Гойе новом, современном, потому что они сделаны на особенно большом, трепещущем уровне графической красоты, которой, может быть, у Гойи не было, потому что перед ним стояли другие задачи…
…Есть темы, над которыми не хочется кончать работу, кажется, что можно беспрерывно о них писать… Мне тоже не хочется заканчивать разговор о Ладо Гудиашвили. О нем можно говорить бесконечно…
Н. Дзидзишвили ИВАНЕ БЕРИТАШВИЛИ

Передают, что всемирно известный физиолог Иван Рамазович Тархнишвили (Тарханов) мечтал о создании у себя на родине, в Тбилиси, тогдашнем Тифлисе, хотя бы скромной физиологической лаборатории. Мечта, оказалась несбыточной. В 1908 году скончался в Санкт-Петербурге Иване Тархнишвили. В том же 1908 году выходит на поприще науки Иване Бериташвили — студент III курса Петербургского университета. Спустя 11 лет, в 1919 году, совсем еще молодой ученый, приват-доцент Одесского университета, Иван Соломонович Бериташвили приглашается в новоорганизованный Тбилисский университет. Здесь его избирают профессором, заведующим кафедрой физиологии человека и животных, которую он возглавляет вот уже 40 с лишним лет. …Когда летописец Грузии среди многих замечательных имен назовет и имя И. Бериташвили, то он, я уверен, скажет, что это имя дорого народу не только потому, что Бериташвили прославил советскую физиологию далеко за пределами нашей Родины, но и особенно потому, что он является, основоположником грузинский физиологической школы, воспитателем плеяды учеников.
* * *
В Санкт-Петербурге прошлого века креп и мужал талант таких корифеев физиологии, как И. М. Сеченов, И. Р. Тархнишвили, Н. Е. Введенский, И. П. Павлов. В этот город славных научных традиций в начале нынешнего столетия, в 1906.году, приехал учиться из кахетинского селения Веджини бывший ученик Тифлисской духовной семинарии Иване Бериташвили. Отец его готовил к духовной карьере, но, к великому огорчению родителей, сын увлекся передовыми материалистическими и революционными идеями: он бросает семинарию и едет в Петербург с целью углубить свои познания в социально-экономических науках. Но, увы, в Петербургском университете не оказалось соответствующего факультета. Юноша решил поступить на естественное отделение физико-математического факультета, дабы, освоив основы естествознания, лучше познать марксистскую философию. Невзирая на трудные условия, грузин Бериташвили, переименованный в Беритова, в три года сдал все экзамены, положенные за четыре года, и был удостоен чести приступить к научной работе в лаборатории знаменитого физиолога Николая Евгеньевича Введенского. Учителя вскоре поразили необычайные качества ученика: упорство, настойчивость и уверенность в своих возможностях добиться правильного решения поставленной проблемы, как бы трудна она ни была. В стремлении найти ответ на поставленную задачу молодой ученый всегда искал новые пути, всегда старался самостоятельно найти решение. Характерен в этом отношении эпизод, рассказанный мне ныне маститым электрофизиологом Д. С. Воронцовым, другом и коллегой Ивана Соломоновича, который в начале его научной карьеры также работал у Н. Е. Введенского. Раз, сидя за своим рабочим столом, Иван Соломонович настолько увлекся экспериментом, что даже не посмотрел в сторону вошедших к нему Н. Е. Введенского и Д. С. Воронцова. Когда Н. Е. Введенский подошел к столу и стал наблюдать за ходом эксперимента, Иван Соломонович со свойственной ему непосредственностью недовольно пробурчал, что присутствие людей отвлекает его от эксперимента и опыт поэтому может провалиться. В ответ на это учитель тихо вышел из комнаты, а ученик, даже не обернувшись, продолжал свой эксперимент… У Н. Е. Введенского Иван Соломонович воспринял все наилучшее, что было характерно для этого блестящего нейрофизиолога. Здесь он вошел в круг тех волнующих идей и проблем, которые занимали умы И. М. Сеченова, И. П. Павлова и других. Из Петербурга Иван Соломонович едет в Казань, к крупному русскому электрофизиологу А. Ф. Самойлову. Здесь он впервые научился методике регистрации биотоков, то есть электрических токов, возникающих в живых тканях — в мышцах и нервах. Затем он отправляется в Голландию, в г. Утрехт, к знаменитому Рудольфу Магнусу изучать так называемые тонические, длительно протекающие рефлексы. Все это, естественно, способствовало всестороннему развитию таланта Бериташвили и формированию из него мастера физиологического эксперимента… В 1915 году И. С. Бериташвили, уже вполне оформившийся ученый, переходит в Одесский университет, где он приступает к чтению приват-доцентского курса по физиологии мышечной и нервной системы. Как было сказано, в 1919 году Ивана Соломоновича приглашают в Тбилисский университет. Отсутствие здесь самых необходимых условий для ведения научной работы не тревожило молодого ученого: он верил в будущее, верил в себя, верил, что упорным трудом и настойчивым стремлением к цели можно будет преодолеть все трудности. И вот вскоре ему удается создать приличную лабораторию, опубликовать первые работы из этой лаборатории, наладить практические занятия со студентами. После победы в Грузии власти Советов молодому профессору были созданы лучшие условия для работы. Теперь и молодежь стремилась на работу к уже именитому физиологу Бериташвили… В те годы в Грузии не было ни учебников по физиологии, ни даже специальной терминологии по медицинским и биологическим дисциплинам, Иван Соломонович взялся сам за создание учебника, в котором, особенно по части мышечной и нервной физиологии, по-новому освещался материал и который отражал новейшие достижения физиологии. На этом учебнике воспитывалось и воспитывается не одно поколение физиологов, биологов, медиков и психологов. Учебник многократно перерабатывался и переиздавался. Он лег в основу настольной книги всех физиологов от млада до велика — двухтомного руководства по общей физиологии мышечной и нервной системы, изданного на русском языке и удостоенного Сталинской премии. Совсем недавно вышел в третьем издании первый том этого руководства, который обобщает все успехи физиологии мышечной и нервной системы. Среди этих достижений немалая доля принадлежит самому автору.
* * *
Еще на заре своей научной деятельности И. С. Бериташвили увлекся проблематикой, волнующей его учителя — Н. Е. Введенского. Эта проблематика касалась деятельности нервной системы. При изучении любого вопроса по физиологии можно пойти разными путями. Успех решения проблемы кроется именно в нахождении правильного подхода к ней. И вот молодой ученый не идет по проторенной дороге, не следует слепо научным традициям и общепринятым схемам исследования. Он считается не только сданными, полученными в физиологических экспериментах, но живо интересуется всеми достижениями смежных с физиологией дисциплин: биохимии и особенно морфологии — науки о структуре органов и тканей. Ряд работ, опубликованных молодым И. С. Бериташвили, сразу привлек внимание специалистов: он дал оригинальное толкование фактам, открытым его учителем Н. Е. Введенским и касающимся изменения эффекта деятельности нерва и мышцы в зависимости от частоты и силы раздражения. Последующим шагом молодого ученого является попытка проникнуть в более сложные явления: он ставит задачей изучение вопросов координационной деятельности спинного мозга, в результате которой осуществляется рефлекторная активность, то есть целенаправленное деяние организма, наступающее при различных воздействиях. Если бы не целенаправленность рефлекторного акта, организм любого животного и человека прекратил бы свое существование при различных вредоносных воздействиях. Что стало бы, например, с рукой ребенка, если бы он не совершил рефлекторный акт отдергивания руки при ожоге пламенем? Что стало бы с тем же малышом, если бы он рефлекторно не тянулся к груди матери, не производил бы рефлекторно сосательных и глотательных движений, если бы его пищеварительный аппарат не выделял пищеварительных соков и т. д.? А все эти рефлекторные акты протекают благодаря деятельности спинного и головного мозга. Проникнуть в тайники работы этого сложного органа, распознать механизм его деятельности является исстари задачей нейрофизиолога. Годы, проведенные у Р. Магнуса в Голландии, принесли большую пользу Ивану Соломоновичу. Там он научился делать сложные операции на теплокровных животных и ставить опыты по изучению длительно протекающих, так называемых тонических рефлексов, в результате которых животное только и может стоять на ногах, сидеть, лежать, держать голову в «приподнятом» положении и т. д. И. С. Бериташвили накопил интересные данные по изучению этих рефлексов и на основании анализа как собственных, так и чужих данных дал совершенно оригинальное и убедительное толкование механизма протекания этих рефлексов. Простое, но также убедительное толкование дал молодой ученый и тому факту, что рефлексы подвергаются изменениям при различных воздействиях. Насколько была плодотворной работа у русского электрофизиолога А. Ф. Самойлова, видно уже из изящного эксперимента, который Иван Соломонович поставил с целью изучения сложного процесса — процесса торможения, лежащего в основе всякого координированного рефлекторного акта. Он доказал, что при определенных условиях этот сложный процесс может протекать ритмически. Для этого опыта он применил сложную и новую для того времени методику записи биотоков струнным гальванометром, которой обучил его А. Ф. Самойлов. Этой работой, как писал впоследствии всемирно известный физиолог А. А. Ухтомский, И. С. Бериташвили «создал себе имя в истории физиологии». Особенно интересны работы Ивана Соломоновича и его многочисленных учеников по изучению электрических проявлений центральной нервной системы — головного и спинного мозга. Бериташвили был одним из первых, применивших для этой цели теперь уже широко распространенную методику осциллографической регистрации биотоков, то есть токов, возникающих в живых тканях. Осциллографическая методика, основанная на использовании принципов современной электроники, дает возможность производить усиление в несколько сотен тысяч раз слабых электрических эффектов живых тканей и регистрировать их. Осциллография в настоящее время широко используется и в клинических исследованиях для определения работы сердца, головного мозга, мышц, почек и т. д. Эти работы И. С. Бериташвили и его учеников имеют в конечном итоге практическое значение. Кроме того, что ими исследовались процессы, протекающие в нормальном мозге человека и животных, они изучили и те сдвиги, которые отмечаются в различных патологических случаях — при эпилепсии, контузии, при ранениях головного мозга, при душевных и нервных расстройствах и т. п. Эти работы сыграли немаловажную роль во время Великой Отечественной войны: академик И. С. Бериташвили возглавлял группу тбилисских физиологов, изучавших состояние головного мозга у бойцов в военных госпиталях города для уточнения диагнозов при различных мозговых заболеваниях. Много ценного в тех исследованиях И. С. Бериташвили, которые относятся к выяснению механизма процесса, лежащего в основе координационной деятельности мозга, — процесса торможения, который возникает в спинном и головном мозге каждый раз при их возбуждении. Еще задолго до того, как в лабораториях, руководимых Иваном Соломоновичем, стали применять осциллографическую методику исследования, он высказал предположение, что торможение, возникшее в той или иной части мозга, охватывает более или менее обширные области мозга. Наличие такого обширного, или, как его называют, общего, торможения имеет определенный биологический смысл для производства локализованных, дифференцированных движений. А именно: так как при движении одного работающего органа происходит торможение центральных аппаратов всех других органов, это обеспечивает целенаправленность работающего органа. В результате осциллографических исследований Иван Соломонович выдвинул остроумную гипотезу для объяснения природы самого явления торможения. При выработке данной гипотезы он исходил не только из фактов, добытых физиологами, но также из новейших данных о тонком строении мозга. Он предположил, что процесс торможения возникает в результате активации коротких отростков нервной единицы — нейрона, так называемых дендритов. При активации дендритов возникает электрический ток, который угнетает деятельность нервных окончаний, приносящих в нервную клетку процесс возбуждения. В результате угнетения, блокады этих нервных окончаний прекращается доступ возбуждения к данной клетке. В соответствующих нервных клетках мозга наступает торможение. Внешне это проявляется в прекращении активности на периферии, в соответствующем органе. Эта гипотеза торможения находит подтверждение в современных электрофизиологических исследованиях. Не только электрофизиологическими исследованиями славен труд академика И. С. Бериташвили в области изучения деятельности головного мозга. Еще в начале своей научной деятельности Иван Соломонович увлекся учением И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и со свойственным ему пылом приступил к изучению закономерностей становления и течения условных двигательных рефлексов. Вначале он изучал так называемые двигательно-оборонительные условные рефлексы, а впоследствии перешел к изучению так называемых пищеводвигательных условных рефлексов, предложив для этого специальную методику, применяемую теперь во многих лабораториях других исследователей. По этой методике животное не заключается в звуконепроницаемую, изолированную камеру, как при изучении слюнных условных рефлексов по Павлову, а может свободно передвигаться в экспериментальной комнате. И. С. Бериташвили описал ряд новых, весьма существенных для теории условных рефлексов фактов и высказал оригинальные теоретические положения. Так, например, им был впервые описан и подробно изучен факт, подтвержденный впоследствии самим И. П. Павловым и другими авторами: при выработке условных рефлексов в головном мозге временные связи образуются не только одного направления — от очага условного раздражения к очагу безусловного. Они имеют и обратное направление: от очага безусловного раздражения к очагу условного. Наличие временных нервных связей в двух направлениях, то есть наличие как поступательных, так и обратных временных связей, делает понятным своеобразие течения некоторых условных рефлексов. Одним из основных моментов в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности является положение о том, что кора головного мозга обладает способностью анализа внешних воздействий на организм. Вместе с тем, как отмечал И. П. Павлов, наш мозг способен производить и синтез раздражений, он обладает и способностью к объединяющей деятельности. Однако, если анализаторная деятельность мозга была детально изучена И. П. Павловым и его многочисленными сотрудниками, синтетическая деятельность его в широких масштабах экспериментально впервые была изучена И. С. Бериташвили и его сотрудниками. Они показали, что действие комплексного раздражителя на организм не просто слагается из действия его отдельных компонентов, — кора головного мозга воспринимает такое сложное раздражение как одно цельное, нерасчлененное, И ведь на самом деле, когда мы слышим, скажем, музыкальный аккорд, мы его воспринимаем в результате объединяющей, синтезирующей деятельности нашего головного мозга не как простую сумму отдельных звуков, а как нечто большее, новое, нерасчлененное. Изучая поведенческие реакции животных, устанавливая закономерности высшей нервной деятельности, И. С. Бериташвили пришел к выводу, что знание одних законов рефлекторной деятельности, как условной, так и безусловной, недостаточно для того, чтобы понять то или. иное проявление сложного акта поведения человека и высших позвоночных животных. Он еще больше утвердился в своем мнении, когда специально приступил к изучению поведенческих реакций, которые невозможно было интерпретировать по схемам условно-рефлекторной деятельности. Иван Соломонович не побоялся неимоверных трудностей на пути объяснения этих сложнейших проявлений мозговой деятельности. Он постарался истолковать их совершенно по-новому. Его рассуждения были необычны, даже несколько чужды для физиологов. Смелые предположения ученого были встречены в штыки многими физиологами и нефизиологами. Но об этом ниже…
* * *
История науки знает случаи, когда труды ученого становились предметом широкого признания лишь после смерти автора, когда ученого «открывали» посмертно. И. С. Бериташвили не принадлежит к числу таких ученых: он при жизни узрел плоды своего труда, получил признание ученых всего мира. Он — член Академии наук СССР, Академии наук Грузии, Академии медицинских наук СССР, почетный член Нью-йоркской академии наук и Электроэнцефалографического общества США, председатель Грузинского общества физиологов, основателем которого являлся он сам, лауреат Сталинской премии и премии имени И. П. Павлова, заслуженный деятель науки, он удостоен ордена Ленина и других правительственных наград… Какими же особыми свойствами характера, какими особыми качествами личности обладает этот невысокого роста мужчина, очень простой в обращении с людьми, очень прямодушный? Что в нем особенного, что сделало его корифеем современной нейрофизиологии? В науке, как и в искусстве, без творческого запала, без творческого взлета мысли невозможно создать что-либо ценное. Ивана Соломоновича с юношеских лет отличал живительный импульс творческого искания. Еще будучи студентом, он отличался своеобразным, бериташвилевским подходом к изучаемым, проблемам физиологии, искал новые пути исследования физиологических явлений. Он не мог равнодушно проходить мимо новых течений в физиологии. В чем же состоит особенность способов исследования И. С. Бериташвили? Известно, что правильность решения задачи, поставленной перед экспериментатором, зависит от правильной постановки самого эксперимента: если ученому удалось найти способ простой постановки эксперимента, приближающий исследование к естественным условиям, то успех обеспечен. Ивана Соломоновича же отличает особое чутье экспериментатора: он находит совершенно простые пути и способы исследования там, где другие искали бы сложные и запутанные. Толкование, правильный научный анализ полученных экспериментальных данных имеют также решающее значение для понимания природы изучаемого явления. И здесь не изменяет Ивану Соломоновичу чутье ученого. Он умеет находить простое, но остроумное объяснение фактам, умеет просто, но ясно разрешать сложные проблемы, — уж настолько просто и убедительно, что порою думаешь: как же это никто раньше не додумался до такого простого решения вопроса, почему вместо того, чтобы «открыть ларчик просто», прибегали к сложным гипотетическим предположениям, многоэтажным теоретическим построениям? В этом человеке счастливо сочетаются две на первый взгляд несовместимые крайности характера: высокий интеллект и доходящая порою до наивности простота. Его рассуждения могут иногда показаться даже несколько примитивными, но если вникнуть глубже в существо вопроса, то нетрудно убедиться, что Иван Соломонович всегда остается здравомыслящим реалистом, — он никогда не изменяет себе, избегая сложных и запутанных путей, фактически не приближающих, а отдаляющих нас от существа искомой закономерности изучаемого явления. Иван Соломонович не боится широкого размаха мысли там, где другой бы на его месте изучал и анализировал лишь отдельные мелкие стороны поставленной проблемы. Он — художник, пишущий широкими и смелыми мазками, не заботящийся о тщательном выписывании отдельных деталей. Он не боится и того, чтобы отвергнуть даже собственное воззрение, — отвергнуть то, что вчера ему казалось близким к истине, если под давлением новых фактов изучаемая проблема сегодня становится лучше зримой с несколько иных сторон. Такое дерзание мысли дает ему возможность высказывать иногда теоретические соображения даже относительно тех явлений, которые пока еще недостаточно изучены в эксперименте. Для иллюстрации такого научного предвидения я приведу один пример. Как я уже говорил, И. С. Бериташвили всегда с особым интересом следит за достижениями дисциплин, смежных с физиологией. И вот в 1937 году, ознакомившись с новейшими данными о строении головного мозга, он предположил, что своеобразная субстанция, представленная в низших отделах головного мозга, в его стволовой части, и именуемая сетевидным образованием, должна играть. особую роль в деятельности спинного и головного мозга. Для такого предположения тогда еще не было прямых физиологических доказательств. Однако Иван Соломонович обратил особое внимание на характерное строение сетевидного образования и на его связи с другими частями спинного и головного мозга. Сопоставив эти данные с характерным течением общего торможения и облегчения в спинном мозге, он предположил важную роль сетевидного образования в проявлении и течении именно этих процессов — торможения и облегчения. Прошло несколько лет. Американец Г. Мегун, итальянец Дж. Моруцци и другие, использовав современные методы электрофизиологических исследований, выяснили, что активация сетевидного образования действительно играет огромную роль в работе спинного мозга и коры головного мозга. После этих работ, авторам которых не были известны в свое время высказывания И. С. Бериташвили, в современной нейрофизиологии наметилось новое направление, во многом изменившее наши представления о некоторых функциях коры головного мозга и об ее взаимоотношениях с подкорковыми образованиями. В последние годы, сопоставляя физиологические данные опять-таки с новейшими достижениями в области изучения тонкой структуры коры головного мозга, Иван Соломонович высказал ряд интересных предположений о значении отдельных форм нервных элементов и их частей в проявлении тех или иных физиологических процессов. Он, в частности, предполагает, что ощущения и вообще субъективные переживания должны быть связаны с активностью определенных нервных клеток коры головного мозга, так называемых звездчатых клеток. Это предположение Ивана Соломоновича находит все больший отклик среди ученых разных стран. Хочется также привести хоть один пример, какими простыми путями удается иногда Бериташвили разрешить сложные физиологические проблемы. В науке господствовало мнение, что пространственная ориентация осуществляется исключительно путем зрения и частично при участии мышечной чувствительности. Однако, выключив зрительную функцию (завязыванием глаз у собак и детей), функцию мышечной чувствительности (животного сажали в, клетку, а ребенка на стул и так переносили к месту кормления), Ивану Соломоновичу удалось показать, что пространственная ориентация сохраняется и что в этом играет важную роль восприятие пройденного пути благодаря раздражению чувствительных окончаний, расположенных во внутреннем ухе в так называемом преддверии и полукружных каналах. После повреждения этих структур при закрытых глазах пространственная ориентация нарушается. Как я уже говорил, И. С. Бериташвили является одним из лучших специалистов по электрофизиологии в Союзе. Если к той совершенной технике, какая имеется в настоящее время, у электрофизиологов, прибавить умение Ивана Соломоновича по-своему ставить проблему и находить простые и удачные способы постановки эксперимента, станет понятным, почему пользуются особым вниманием электрофизиологические работы, выполненные под его руководством. Два года тому назад в Институте физиологии Грузинской Академии наук, научным руководителем которого является Иван Соломонович, гостили маститые электрофизиологи из США. В беседе с ними было указано, что из-за роста числа сотрудников института в помещении стало тесно и поэтому выстраивается новый корпус. Один из гостей, канадский ученый, всемирно известный X. Джаспер, сказал: «Я даже не заметил, чтобы у вас было тесно, ибо у вас есть то, чего нет, пожалуй, ни в одной лаборатории: это смелые и интересные идеи профессора Бериташвили!»
* * *
Многие молодые могут позавидовать трудолюбию академика Бериташвили. Его прилежание восхищало всех, кто его знал в молодости. Оно поражает и сегодня, когда за плечами ученого 76 лет жизни. Невольно кажется, что понятие об утомлении должно быть какой-то абстракцией для него. Помню, я был совсем молодым сотрудником Ивана Соломоновича. Он захворал, что очень редко бывало с ним. Мне сказали, что больной зовет меня к себе на квартиру. Когда я пришел, Иван Соломонович лежал, вернее, сидел в постели и что-то писал. Даже не посмотрев в мою сторону, он некоторое время продолжал писать. Потом, прекратив работу, сразу перешел к делу: начал подробно меня расспрашивать о ходе моих опытов, которые тогда живо его интересовали. Он тут же набросал для меня план дальнейших исследований и передал мне несколько статей, которые были отложены для меня. Тогда этот эпизод очень меня удивил. Но впоследствии, спустя много лет, когда Иван Соломонович, из-за повреждения позвоночника вынужден был пролежать в постели около двух месяцев, меня уже не удивляло, что он и тяжелобольной не прекращал работу: знакомился с новейшей литературой, перерабатывал свою рукопись, писал новые статьи и каждодневно, был в курсе хода опытов сотрудников института. Иногда он у себя устраивал даже заседания по различным неотложным вопросам. Не только умственная работа так увлекает академика Бериташвили. На своей даче, в Сухуми, он по сегодняшний день собственноручно обрабатывает землю под огород, любовно ухаживает за деревьями, взращивает цветы, собирает урожай винограда и выделывает виноградный сок (да, именно сок, а не вино, которое он предпочитает иметь из Кахетии, своего родного края). Осенью он приглашает к себе на дачу на сбор винограда. Любо бывает смотреть, с какой охотой, с улыбкой на лице работает неутомимый хозяин. И мы, гости, волей-неволей стараемся следовать примеру хозяина, но мы, менее прилежные, не поспеваем за ним. Так же неутомим Иван Соломонович как организатор научной работы. Уже одно то, что он в Грузии почти из ничего создал мощную физиологическую школу, говорит о его большом организаторском даровании. Каждое дело, затеянное им, бывает отмечено печатью оригинального мыслителя и волевого человека. Хочется поговорить еще об одном свойстве характера академика Бериташвили — его принципиальности. Наука неотделима от его личной жизни, и он немало переживал минут творческой радости, видя зримые плоды своего вдохновенного труда. Но немало было и огорчений в его жизни. Он, прямодушный и прямолинейный по природе, не раз выступал открыто против некоторых установок в науке, как говорят, невзирая на лица. Он не раз восстанавливал против себя некоторых ученых нелицеприятной критикой, выступая на съездах, конференциях или в печати. Эти черты характера побудили юного Иване бросить духовную семинарию, где он не мог мириться с господствующим там черносотенным духом, и экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости. Эти же черты заговорили в молодом ученом, когда он не соглашался с некоторыми установками своего учителя и искал новые подходы к изучению основных закономерностей нервной деятельности. Еще много, очень много примеров пришлось бы перечислять для иллюстрации стойкости и принципиальности Ивана Соломоновича. Не могу не остановить внимание читателя на одном примере, в котором, пожалуй, наиболее ярко оказалась замечательная черта ученого, гражданина и рыцаря науки. Я уже отмечал, как в результате анализа итогов многолетней работы Иван Соломонович пришел к заключению, что не всякое проявление поведения человека и высших позвоночных животных можно рассматривать как простую сумму различных условных и безусловных рефлексов. Лет двадцать пять тому назад он предположил, что, кроме рефлекторного поведения, существуют еще более высокие формы поведения: психонервная форма, сопровождающаяся психическими переживаниями, и наивысшая форма, характерная для человека, — сознательная деятельность. Материальные процессы, лежащие в основе всех этих видов поведения, не протекают по простой схеме рефлекторных закономерностей. Результаты своих многолетних исследований в этом направлении И. С. Бериташвили суммировал в небольшой книге, вышедшей в 1947 году. Скажем прямо: в этой книгеформулировка ряда соображений и теоретических положений, особенно некоторые обобщения были не совсем удачны. Придирчивый читатель, настроенный не в пользу автора, мог найти в этом труде ряд ляпсусов, которые можно было бы критиковать с позиций формальной логики. Спустя три года после выхода в свет этой книги, в которой были изложены в основном те же положения, которые публиковались автором в течение почти двух десятилетий, началась беспощадная критика прославленного ученого: ему не прощались даже языковые погрешности. Более того, некоторые недобросовестные критики старались направить артиллерийский огонь не только на данные, полученные Иваном Соломоновичем в области изучения поведения, но вообще на все его научные достижения. Было бы нелепо отрицать громадную роль академической критики тех или иных научных положений, новых идей, выдвигаемых ученым. Справедливая критика принесла бы немало пользы и академику Бериташвили, автору нового воззрения об основных закономерностях поведения животных. Сегодня это чувствуют многие физиологи. Но был период, когда воззрения И. С. Бериташвили были восприняты как поход против учения И. П. Павлова, как ревизия этого учения. Правда, было известно, с каким глубоким уважением относился И. С. Бериташвили к учению Павлова: в своих устных и печатных выступлениях он не раз давал высокую оценку достижениям и взглядам И. П. Павлова. И не случайно был удостоен Иван Соломонович премии имени И. П. Павлова. Но об этом тогда почему-то забыли. Печальнее всего было то, что в этой «критической» шумихе приняли участие даже некоторые из бывших учеников Ивана Соломоновича, и, как ни странно, именно те, кто никогда раньше не интересовался учением Павлова и плохо разбирался во взглядах своего учителя относительно закономерностей поведенческих актов. Это было лет десять тому назад, когда Иван Соломонович был уже в летах. Многие боялись, дабы несправедливые выпады не отразились губительным образом на его здоровье. Однако уверенный в своей правоте, Иван Соломонович со стоическим спокойствием воспринял всю эту историю. То правильное и рациональное, что все-таки можно было обнаружить в некоторых критических замечаниях, он принял к сведению для дальнейшей работы. Вместо того чтобы роптать на «превратности судьбы», он с юношеским пылом приступил к совершенно новому для него делу: одолевая большие фолианты древних рукописей, он шаг за шагом прослеживал развитие биологического мышления в Грузии с древних времен. Плодом этой новой работы явилась книга «Учение о природе человека в Грузии — с древних времен до XIV века». Когда же улеглись страсти, Иван Соломонович опять всецело предался изучению закономерностей поведения животных. Иван Соломонович бывает беспощадным с оппонентами, если он уверен в правильности своих позиций. Его выступления, прямые, лишенные дипломатических завитушек, бывает, обижают тех, кто не знаком с его горячностью, его темпераментом. Однако стоит доказать логическими доводами неправильность его рассуждений — и Иван Соломонович сразу же соглашается с «противником» и охотно прислушивается ко всякому резонному доводу: он, без колебания отклоняя свои взгляды, ищет уже новые пути к разрешению обсуждаемой проблемы. Все это происходит с необычайной непосредственностью правдивого человека, ищущего научную истину. Непоколебимый и непреклонный в принципиальных вопросах, строгий и неумолимый в отношении тех сотрудников, которые не целиком отдают себя делу, он мягок и сердечен со всеми, кто своей работой приносит пользу развитию науки. Он настолько искренен в своих отношениях с людьми, что по прямоте душевной не представляет, чтобы и другие не были и искренни и правдивы с ним. Строгий и несколько даже хмурый, он с виду кажется человеком «холодного разума». Но тот, кому доводилось видеть Ивана Соломоновича только таким, будет немало удивлен метаморфозе, когда тот же человек «холодного разума» сидит в кругу друзей и учеников за грузинским столом: надо видеть его добродушную улыбку, просвечивающуюся сквозь седые усы, когда он поет на крестьянский лад любимую старинную грузинскую песню «Шашви-какаби» — песню о «творческом поединке» дрозда и горной курочки…
* * *
Осенью 1959 года в Москве состоялся Международный коллоквиум по электрофизиологии условных рефлексов. В работе коллоквиума приняли участие крупнейшие представители электрофизиологии всего мира. Почетными президентами коллоквиума были избраны советский учёный Иване Бериташвили и канадский невролог Херберт Джаспер. По окончании коллоквиума на банкете, устроенном в честь делегатов, тамадой — главой стола — был избран И. С. Бериташвили. В тостах делегаты отмечали, что наш почтенный ученый является тамадой не только дружеского стола участников коллоквиума, но и тамадой международного коллектива электрофизиологов. Бодрость духа, незаурядная работоспособность и завидное здоровье, которыми отличается академик Иван Соломонович Бериташвили, дают право быть уверенным, что основоположник грузинской физиологической школы еще многие лета будет прославлять советскую науку новыми успехами.
Последние комментарии
5 часов 11 минут назад
21 часов 15 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 16 часов назад