Михаил Лермонтов
СТИХИ
СКАЗКА «АШИК-КЕРИБ»

Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814–1841)
Надежда Шер
М. Ю. Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 15 октября 1814 года. Мать Лермонтова умерла, когда ему не было трёх лет; он не помнил её совсем, но «была песня, — говорил он позднее, — от которой я плакал, её не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать». Мать любила музыку, много играла на фортепьяно, любила стихи и сама их писала. После матери остался альбом. Были в нём стихи, написанные матерью, её друзьями, знакомыми. Когда мать умерла, альбом достался Лермонтову, и, подрастая, он стал записывать в него свои мысли, рисовать картинки. Отец Лермонтова, капитан в отставке, вскоре после смерти жены уехал. Бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, заменила мальчику мать. Она жила с ним в Пензенской губернии, в своём имении Тарханы.
Дом в Тарханах был просторный, с большим садом. Под горой раскинулся пруд, а за прудом — холмы, леса. Детская в доме была наверху; пол в детской был покрыт сукном. Маленький Лермонтов любил рисовать мелом по сукну и рисовал очень хорошо. Едва начав говорить, он уже подбирал рифмы. Прибежит к бабушке и говорит: «пол — стол, кошка — окошко», а сам радостно смеётся.
 Дом в Тарханах.
Дом в Тарханах.
Бабушка всю свою любовь к дочери перенесла на внука. Она заботилась о его воспитании, наблюдала за каждым его шагом, приглашала к нему лучших учителей. Чтобы внуку не было скучно, бабушка взяла в дом нескольких мальчиков. Дети вместе учились, играли в войну, ездили верхом, гуляли, часто ссорились — маленький Лермонтов всегда и во всём хотел быть первым. Он был мальчиком своевольным, вспыльчивым, буйным, но сердце у него было доброе, отзывчивое. Бабушка его была помещица, и крепостным жилось у неё плохо. Рассказывали, что, совсем маленький, Лермонтов «напускался на бабушку, когда она бранила крепостных; выходил из себя, когда кого-нибудь вели наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкой, с ножом, что под руку попадалось». А когда он вырос, то отпустил на волю тех крестьян, которые достались ему по наследству от матери.
Отец изредка навещал сына. Бабушка не любила зятя; мальчик не знал, что произошло между ними, но догадывался, что мать его была несчастлива в замужестве и что бабушка обвиняет в этом отца. Мальчик ни у кого ни о чём не спрашивал, но он горячо любил и бабушку и отца, очень хотел, чтобы они жили вместе. Молча и тяжело переживал он их ссору — это первое своё горе в жизни.
Мишель, как называли его в семье, любил слушать рассказы крепостных слуг о старине: об Иване Грозном, о Разине, о Пугачёве, о пожаре Москвы в 1812 году. Он любил воображать себя то храбрым рыцарем, то разбойником где-нибудь в дремучем лесу.
В детстве Лермонтов часто болел, и бабушка несколько раз возила его на Кавказ лечиться. В то время железных дорог не было, надо было ехать на лошадях. Ехали долго, останавливались на почтовых станциях; было весело, интересно. На Кавказе всё нравилось мальчику и снеговая цепь синих гор с величавым Эльбрусом, и бурные горные речки, и тёмные ночи с яркими звёздами, и песни горцев, приезжавших верхом из соседних аулов, «Всё, всё в этом крае прекрасно…» — говорил Лермонтов, и много произведений посвятил он позднее Кавказу: «Кавказ», «Беглец», «Мцыри», «Демон» и другие.
Зимой в Тарханах Лермонтов учился и очень много читал. В доме была большая, хорошая библиотека: сочинения русских писателей — Ломоносова, Карамзина, Жуковского; биографии великих людей; лучшие произведения иностранной литературы: «Дон-Кихот» Сервантеса, «Робинзон Крузо» Дефо и многие другие.
 Московский университетский пансион.
Московский университетский пансион.
Лермонтову было одиннадцать лет, когда в Тарханы стали доходить слухи о том, что 14 декабря 1825 года в Петербурге, на Сенатской площади, произошло восстание. Рассказывали, что восставшие хотели свергнуть царя и отменить крепостное право. Потом дошёл слух о казни руководителей восстания. Разговоры об этом велись шёпотом. Лермонтов был ещё слишком мал, чтобы разобраться во всём, что происходило, но смутно чувствовал, что правда на стороне восставших.
Осенью 1827 года бабушка увезла Лермонтова в Москву учиться. Бабушка решила отдать его в Благородный пансион при Московском университете. Лермонтов стал готовиться к экзамену. Часто, окончив занятия, он бродил по Москве со своим учителем Зиновьевым. Зиновьев хорошо знал и любил древнюю столицу России — Москву; он рассказывал Лермонтову о её славном историческом прошлом, о войне 1812 года, о людях, сражавшихся за Москву.
Всё в Москве возбуждало у Лермонтова чувство гордости за свой народ, за свою родину.
Москва, Москва!., люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный…
Через год Лермонтов выдержал экзамен и поступил в четвёртый класс Благородного пансиона. В то время это было лучшее учебное заведение в Москве; в нём раньше учились Жуковский и Грибоедов, учились и некоторые участники декабрьского восстания. О них в пансионе помнили, и многие воспитанники гордились ими. Тайком от начальства они переписывали запрещённые стихи Пушкина, Рылеева, и эти вольные, и смелые стихи о России, о свободе были особенно близки Лермонтову. Постепенно яснее начинал он понимать, какое тяжёлое время переживает Россия, — царь Николай I, напуганный восстанием декабристов, жестоко расправлялся даже с теми, кого только подозревали в сношениях с участниками восстания.
В пансионе серьёзно занимались литературой — словесностью, как тогда говорили. С литературой знакомились не только на уроках. Воспитанники пансиона много читали, обсуждали в кружке произведения разных писателей, пробовали писать сами и издавали школьные рукописные журналы. Лермонтов скоро сделался признанным поэтом среди учащихся пансиона; стихи его расходились в списках, помещались в рукописных журналах. И в первых своих стихотворениях он уже говорил о том, что «в России стонет человек от рабства и цепей», что в ней «душно и душа тоскует», себя называл он «свободы другом».
 Московский университет.
Московский университет.
Занятия поэзией не мешали Лермонтову. По его черновым тетрадям видно, как много он читал, как усердно учился. В этих тетрадях — и учебные упражнения, и переводы с иностранных языков, которые Лермонтов хорошо знал, и записи по истории, и сложные математические задачи, которые он особенно любил решать.
Лермонтов хорошо играл в шахматы, рисовал, лепил, играл на фортепьяно и на скрипке. Во всём он проявлял необычайное упорство и настойчивость. Литературу он знал прекрасно; больше всех русских поэтов любил Пушкина.
Каждый год в пансионе после выпускных экзаменов происходил торжественный акт, на котором воспитанники читали стихи, играли на фортепьяно, фехтовали. Лермонтов всегда принимал участие в этих выступлениях, и учитель Зиновьев много лет спустя вспоминал, как Лермонтов, коренастый, небольшого роста мальчик, с большим открытым лбом и глубоким, серьёзным взглядом чёрных глаз, взволнованно декламировал стихи Жуковского.
В 1830 году Лермонтов поступил в Московский университет, но университета не кончил: начальству не нравился мятежный дух студента Лермонтова, и ему пришлось оставить университет. Вместе с бабушкой переехал он в Петербург, но поступил не в университет, а в военную школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
 Маршировка в юнкерской школе.
Маршировка в юнкерской школе.
Очень не хотелось ему уезжать из Москвы. Он любил Москву, здесь оставались у него друзья, знакомые. Вскоре После переезда в Петербург Лермонтов написал одно из лучших своих стихотворений: о парусе, который «просит бури». Друзья, конечно, понимали, что поэт говорит здесь о людях, которые мечтают о «буре», о борьбе за свободу.
Два года провёл Лермонтов в военной школе, где царила суровая бессмысленная муштра, где запрещалось думать и читать книги «литературного содержания».
Лермонтову было двадцать лет, когда он окончил военную школу. Ему предстояла жизнь блестящего гвардейского офицера — пустая, суетливая. Но не о такой жизни мечтал Лермонтов. Всё так же, как в ранней юности, мечтал он о подвигах, о борьбе. Друзья говорили, что, «когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и лицо его принимало необыкновенно серьёзное и даже грустное выражение».
Другом Лермонтов был верным, и дружба была для него «священным чувством». Друзья знали это, верили высокой душе поэта, его любящему сердцу, хотя и досадовали иногда на него за какое-нибудь меткое прозвище, за острый язык, неугомонный характер.
Все эти годы он много писал, но печатать свои произведения не хотел — ему всё казалось, что он не написал ничего хорошего.
Наступил 1837 год. Этот год был одним из самых значительных в жизни Лермонтова. В самом начале года он написал стихотворение «Бородино». В этом стихотворении старый русский солдат рассказывает молодым солдатам о Бородинском бое, о той великой любви русского народа к родине, которая всегда помогала и помогает в борьбе с врагами.
Это было первое стихотворение, которое Лермонтову хотелось показать Пушкину, хотелось напечатать в журнале «Современник», редактором которого был Пушкин. Но он не успел этого сделать: 10 февраля 1837 года Пушкин погиб на дуэли.
Горе Лермонтова было безгранично. Нельзя было примириться с мыслью, что нет Пушкина, нет поэта, которого он ставил выше всех поэтов мира. В порыве горя написал он стихотворение «Смерть Поэта». Пушкин убит. Кто его убийцы? Дантес, иностранец, приехавший в Россию на «ловлю счастья и чинов», человек с пустой душой, который никогда не поймёт, что он убийца величайшего поэта России. Вместе с Дантесом люди высшего общества — главные виновники убийства. Эти люди ненавидели и преследовали Пушкина, боялись его, хотели его гибели. Их заклеймил Лермонтов позором, к ним обращены самые сильные, полные страстной ненависти и гнева строки его стихов.
В несколько дней стихотворение «Смерть Поэта» в сотнях списков разошлось, по Петербургу. С болью в сердце читали его все, кому дорог был Пушкин.
Стихотворение было доставлено царю Николаю I с надписью: «Воззвание к революции». Лермонтов был арестован. Его поместили, как офицера, в здании Главного штаба, в комнате верхнего этажа. За дверью по коридору шагал часовой; за окнами выла метель. Лермонтову запрещено было давать карандаш и бумагу. Тогда он попросил слугу, который носил ему из дому обед, заворачивать хлеб в серую бумагу и на этих клочках бумаги написал несколько стихотворений, и среди них «Узника».
Вскоре после ареста последовал приказ: «Корнета Лермонтова перевести в Нижегородский драгунский полк тем же чином». Казалось, что приказ милостив. Но Нижегородский полк стоял в то время на Кавказе, где шла война с горцами. Лермонтова посылали под пули горцев в надежде навсегда избавиться от беспокойного поэта.
Лермонтов знал, что поступил так, как должен был поступить. Недаром в стихотворении «Кинжал», написанном немного позднее, он говорил:
Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный…
Когда после долгих дней пути Лермонтов увидел снеговые горы Кавказа, когда потом бродил по аулам, сидел вечером где-нибудь у сакли или, одетый по- черкесски, с ружьём за плечами, ездил верхом по горам, он чувствовал себя почти счастливым.
Во время своих странствований Лермонтов наблюдал жизнь горцев, записывал народные песни, сказки, предания. Здесь записал он сказку, которую вы все, конечно, читали, о смелом, свободном страннике — поэте Ашик-Керибе. Эту сказку рассказывали много-много лет назад, рассказывают и теперь на грузинском, армянском, азербайджанском и других языках. А Лермонтов чудесно пересказал её по-русски.
Ещё в Петербурге Лермонтов начал писать «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и теперь, на Кавказе, кончил её. Герой песни, Степан Калашников, человек сильный, гордый, защищая свою честь, убивает царского опричника и идёт на злую казнь спокойно, с достоинством. Он похож на героя русских былин, и вся песня проникнута русским народным духом. И в старинных преданиях Кавказа, и в русских народных песнях, сказках, былинах Лермонтова всегда привлекали образы смелых, мужественных людей.
Но всей душой ненавидел он предателей и, трусов, людей, которые не знают счастья любви к родине, не дорожат её славой. И, может быть, тогда же, на Кавказе, слышал он горскую легенду о трусливом Гаруне и потом написал о нём поэму «Беглец». Гарун позорно бежал с поля битвы; он вернулся домой один. По обычаю кавказских горцев, он должен был унести с поля сражения тела погибших родных, товарищей. Он не сделал этого; он совершил гнусный поступок и не имеет права ни на нежность девушки, ни на дружбу товарищей, ни на любовь матери.
Молчи, молчи! гяур лукавой,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!.. —
говорит ему мать. И, отвергнутый всеми, Гарун покончил с собой — ему нет места в родной стране.
В ссылке Лермонтов много рисовал, писал красками, написал автопортрет, на котором изобразил себя в черкеске, с наброшенной на плечи буркой. Лермонтов был талантливым художником. Сохранилось много его рисунков, акварелей.
 С картины Лермонтова «Воспоминание о Кавказе».
С картины Лермонтова «Воспоминание о Кавказе».
В январе 1838 года Лермонтов был возвращён из ссылки. Всё чаще думал он теперь о том, чтобы оставить военную службу и посвятить себя целиком литературе. У него появились новые знакомые — писатели, музыканты, учёные; он встречался с поэтом Василием Андреевичем Жуковским, с Крыловым, с великим художником Брюлловым… Все они высоко ценили стихи Лермонтова, гордились им, видели в нём большого поэта — преемника Пушкина.
К этому времени у Лермонтова уже было написано больше трёхсот стихотворений, много поэм, несколько драм и он заканчивал свой большой роман в прозе «Герой нашего времени». Смелые, обличительные его стихи становились всё более опасными для царского правительства; оно преследовало Лермонтова так же, как Пушкина, и снова позаботилось о том, чтобы убрать неугодного поэта.
Весной 1840 года. Лермонтов был во второй раз сослан на Кавказ.
В последний вечер перед отъездом собрались друзья Лермонтова. Все были встревожены и опечалены. Лермонтов стоял у окна, смотрел на весеннее петербургское небо и прочёл своё новое стихотворение «Тучи», может быть только что написанное.
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную… —
писал он, сравнивая свою судьбу с «вечными странниками» — тучами.
В октябре 1840 года, пока Лермонтов был в ссылке, в Петербурге вышел первый сборник его стихотворений. Подготовляя книгу к печати, он отобрал всего двадцать шесть стихотворений. Даже такое прекрасное стихотворение, как «Парус», он не включил в сборник, потому что считал его недостаточно хорошим. К себе Лермонтов был всегда очень требователен: часто уничтожал стихи, не прочитав их никому, часто, сомневался в себе, в своём таланте. Над некоторыми своими произведениями Лермонтов работал долго, упорно. Поэму «Демон», например, он начал писать в четырнадцать лет и работал над ней до конца жизни. Но иногда, в минуту вдохновения, на каком-нибудь клочке бумаги, почти без помарок, писал он такие стихи, как «Тучи», «Казачья колыбельная песня» и другие. Рассказывают, что как-то во время второй ссылки заехал он в казачью станицу и остановился в одной хате. Хозяйка укладывала спать ребёнка и пела грустную песню о сыне, которого ожидает в будущем жизнь, полная тревог и опасностей. Лермонтов слушал песню, а потом тут же набросал свою «Казачью колыбельную песню», которая скоро стала, так же как «Воздушный корабль», «Бородино» и некоторые другие стихи Лермонтова, народной песней.
В начале 1841 года бабушка, которая была уже очень стара, выхлопотала внуку разрешение приехать в Петербург для свидания с ней. Лермонтов был уже знаменитым поэтом; стихи его расходились в списках, печатались в журналах, их читали по всей России. Слава его росла; все лучшие, передовые люди России, все те, кому дорога была родная страна, понимали, какой великий поэт Лермонтов, с нетерпением ждали каждое новое его стихотворение. А Лермонтов никогда ещё не чувствовал такого прилива творческих сил, как в этот приезд. Он рассказывал друзьям о новых литературных замыслах; много писал. В апреле в одном из журналов появилось стихотворение Лермонтова «Родина». Казалось, он вложил в него всю силу своей страстной любви к родине, к той родине, где в печальных деревнях, в избах, крытых соломой, жил и томился в неволе родной народ.
В Петербурге Лермонтов пробыл всего несколько месяцев — ему приказано было в 48 часов покинуть столицу. Он снова уезжал на Кавказ, и снова друзья провожали его. Прощаясь с Лермонтовым, один из друзей подарил ему записную книгу и на первой её странице написал: «Поэту Лермонтову даётся сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную».
В этой записной книге остались последние тревожные и печальные стихи поэта: «Выхожу один я на дорогу», «Утёс», «Дубовый листок»… Как Дубовый листок, оторванный бурей от родимой ветки, нигде не нашёл себе приюта, так нигде не находил себе «приюта» затравленный царским правительством поэт Лермонтов.
Возвратить книгу самому Лермонтову не пришлось — он был, так же как Пушкин, убит на дуэли.
Лермонтова вызвал на дуэль бывший товарищ по юнкерской школе Мартынов, человек пустой и ничтожный. Нашлись люди, которые постарались разжечь в нём злобу против Лермонтова, внушить, что Лермонтов издевается над ним. Эти люди знали, что смерть поэта Лермонтова будет угодна царскому правительству.
Дуэль состоялась недалеко от Пятигорска, у подножия горы Машук. Был вечер. Чёрная грозовая туча поднималась над горой. Секунданты подали противникам знак сходиться. Лермонтов стоял спокойно, подняв пистолет дулом вверх, — он не хотел стрелять. Мартынов быстро подошёл к барьеру, прицелился, выстрелил. Лермонтов был убит.
Это было 15 июля 1841 года.
* * *
(отрывок из поэмы «Сашка»)

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
[1]С тобой, столетним русским великаном,
Помериться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Бородино

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы.
Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат, мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
[3]И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Прилёг вздремнуть я у лафета
[4],
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак
[5] открытый:
Кто кивер
[6] чистил, весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
И только небо засветилось
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражён булатом
[7],
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирала!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны
[8] с конскими хвостами,
Всё промелькнули перед нами,
Всё побывали тут.
Вам не, видать таких сражений!
Носились знамёна; как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов, колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
Вот смерилось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

Два великана

В шапке золота литого
Старый русский великан
[9]Поджидал к себе другого
Из далёких чуждых стран.,
За горами, за долами
Уж гремел об нём рассказ,
И помериться главами
Захотелось им хоть раз.
И пришёл с грозой военной
Трёхнедельный удалец —
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.
Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал
Посмотрел — тряхнул главою…
Ахнул дерзкий — и упал!
Но упал он в дальнем море
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.
Смерть поэта
Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Ёго свободный, смелый, дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навёл удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённый, как и он, безжалостной рукой.
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок — они венец терновый.
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь!
Узник
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На Коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.
Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжёлая с замком;
Черноокая далёко,
В пышном тереме своём;
Добрый конь в зелёном поле
Без узды, один, по воле
Скачет весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.
Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнём;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.
Парус
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит.
Увы, — он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Тучи

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Генрих Гейне
* * *
(перевод М. Лермонтова)

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.
Казачья колыбельная песня
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползёт на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закалён в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житьё;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмёшь ружьё.
Я седельце боевое
Шёлком разошью…
Спи, дитя моё родное,
Баюшки-баю.
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнёшь рукой…
Сколько горьких слёз украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться.
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю…
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Йозеф Кристиан фон Цедлиц
Воздушный корабль
(перевод М. Лермонтов)

По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несётся,
Несётся на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.
Не слышно на нём капитана,
Не видно матросов на нём;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.
Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император
[11] зарыт.
Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нём камень тяжёлый,
Чтоб встать он из гроба не мог.
И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаёт.
Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нём треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идёт и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.
Несётся он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.
И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнём.
На берег большими шагами
Он смело и прямо идёт,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовёт.
Но спят усачи-гренадёры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперёд
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовёт:
Зовёт он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —
Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слёзы
Из глаз на холодный песок,
Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идёт и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.
Утёс
Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
Иоганн Вольфганг Гёте
* * *
(перевод М. Лермонтова)

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
Три пальмы
(восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зелёных листов,
От знойных лучей и летучих песков.
И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студёной
Ещё не склонялся под кущей
[12] зелёной,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
И Стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»
И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки
[13],
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шёл, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твёрдых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И чёрные очи оттуда сверкали…
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.
И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, поражённый стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса
[14] вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копьё на скаку.
Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их весёлый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студёный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнём.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный,
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.
И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскалённый заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Чёрного моря.
У Чёрного моря чинара
[15] стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зелёные ветви лаская;
На ветвях зелёных качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.
И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.
Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудрёных и чудных».
«На что мне тебя? — отвечает младая чинара. —
Ты пылен и жёлт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.
Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».

Беглец
(горская легенда)
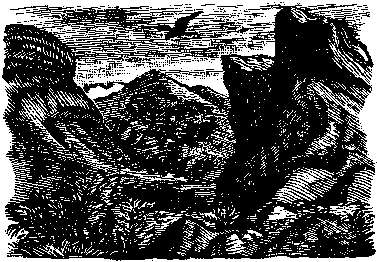
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
[16]Лежат их головы в пыли.
Их кровь течёт и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит! —
И скрылся день; клубясь, туманы
Одели тёмные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой!..
Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул
[17] родимый
При лунном свете узнаёт;
Подкрался он, никем не зримый…
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришёл домой;
И к сакле
[18] он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом, —
Один, — он, молча, — умирал…
«Велик аллах!
[19] от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!» —
«Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды
[20],
И взор блеснул огнём надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы билися в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне
Как зверь, преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шёл безвестными тропами
По следу вепрей
[21] и волков;
Черкесы гибнут — враг повсюду.
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрёк,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.
И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним;
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живёт и дышит.
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины…
И стал Гарун бледней луны:
Месяц плывёт
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идёт.
Ружьё заряжает джигит
[22],
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывёт
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идёт.
Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь.
Но вот от бури наклонённый
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободрённый,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, тёплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждёт сына с битвы.
Но ждёт его не одного!..
«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришёл к тебе!»
«Один?»
«Один!..»
«А где отец и братья?»
«Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
«Ты отомстил?»
«Не отомстил…
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою…»
«Молчи, молчи! гяур
[23] лукавой,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор…
И мать поутру увидала…
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнёс,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пёс;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в тёмну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих корана
[24],
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

Ашик-Кериб
(турецкая сказка)

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. Хороши звёзды на небеси, но за Звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить её руку — и он стал грустен, как зимнее небо.
Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель
[25] идёт мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уже за неё сватается.
Пришёл Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу её благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, опёрся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь! — кричал ему бек. — Куда бы ты ни шёл, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперёд, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! — Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привёз его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.
Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город: и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников. Многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши
[26] измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою», — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою, когда придётся, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше, «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нём богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца, «Это моё», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твоё, — сказал купец, я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать; от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать!» — и хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан (юноша), что ты хочешь делать?»— «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло моё и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаёшь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзрум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты неверный, — сказал сердито всадник, — но нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот улыбнувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).
Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына, впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение». Но дочь, не внимая её упрёкам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба; сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утёса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — (храбрый)», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет, я ослепла от слёз; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придёт?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна струна порвётся, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.
В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришёл незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм!
[27] вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба; спой же что-нибудь, ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».
Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям, спрашивать, сына или дочь бог ей дал; им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:
«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».
Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнул: «Ты лжёшь; как можно из Халафа приехать сюда в день?»
«За что ж ты меня хочешь убить? — сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырёх сторон собирают в одно место; а я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».
«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:
«Утренний намаз
[28] творил я в Арзиньянекой долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».
Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали её подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.
«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое краткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у Двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она, — это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб», — и, взяв её под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развёл его водою и намазал матери глаза, примолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.
Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми её за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

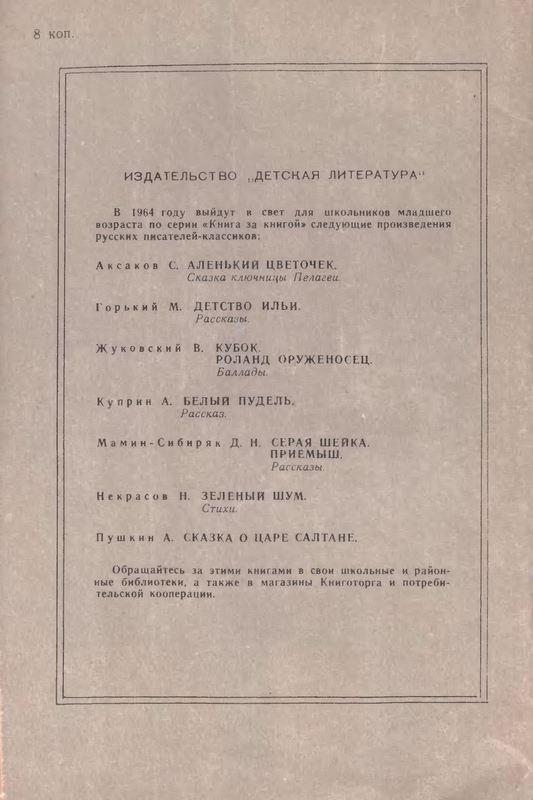
Примечания
1
Чуждый властелин — французский император Наполеон Бонапарт.
(обратно)
2
Редут — небольшое укрепление, обнесённое земляным валом.
(обратно)
3
Добраться до картечи — обстреливать врага картечью, артиллерийскими снарядами.
(обратно)
4
Лафет — станок, на котором укрепляется пушка.
(обратно)
5
Бивак — стоянка войск под открытым небом для отдыха или ночлега.
(обратно)
6
Кивер — старинный военный головной убор.
(обратно)
7
Булат — старинная сталь особой выделки;
здесь так называется холодное оружие: сабля, штык.
(обратно)
8
Уланы и
драгуны — кавалеристы.
(обратно)
9
Старый русский великан — русский народ, который одержал победу над трёхнедельным удальцом — французским императором Наполеоном, напавшим на нашу родину.
(обратно)
10
Побежденный Наполеон был сослан на пустынный остров Святой Елены —
на неведомый гранит — в Атлантическом океане.
(обратно)
11
Император — французский император Наполеон. После войны 1812 года он был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане и там умер.
(обратно)
12
Куща — шатёр, сень деревьев.
(обратно)
13
На шею верблюдам в караване привязывали звонки.
(обратно)
14
Фарис — так у кочевников-арабов назывался наездник.
(обратно)
15
Чинара — дерево, растёт на Кавказе, в Крыму.
(обратно)
16
Супостат — враг.
(обратно)
17
Аул — селение, деревня.
(обратно)
18
Сакля — жилище, хижина у горцев Кавказа.
(обратно)
19
Аллах — бог у магометан.
(обратно)
20
Вежды — веки.
(обратно)
21
Вепрь — дикий кабан.
(обратно)
22
Джигит — искусный наездник.
(обратно)
23
Гяур — так магометане называли людей другой веры. Слово это имело бранное значение.
(обратно)
24
Коран — священная книга у магометан.
(обратно)
25
Газель — животное, похожее на козу. Здесь: ласкательное слово.
(обратно)
26
Чауш — сержант, сторож.
(обратно)
27
Здравствуйте.
(обратно)
28
Намаз — молитва.
(обратно)
Оглавление
Надежда Шер
М. Ю. Лермонтов
* * *
(отрывок из поэмы «Сашка»)
Бородино
Два великана
Смерть поэта
Узник
Парус
Тучи
Генрих Гейне
* * *
(перевод М. Лермонтова)
Казачья колыбельная песня
Йозеф Кристиан фон Цедлиц
Воздушный корабль
(перевод М. Лермонтов)
Утёс
Иоганн Вольфганг Гёте
* * *
(перевод М. Лермонтова)
Три пальмы
(восточное сказание)
Родина
Листок
Беглец
(горская легенда)
Ашик-Кериб
(турецкая сказка)
*** Примечания *** 
 Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 15 октября 1814 года. Мать Лермонтова умерла, когда ему не было трёх лет; он не помнил её совсем, но «была песня, — говорил он позднее, — от которой я плакал, её не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать». Мать любила музыку, много играла на фортепьяно, любила стихи и сама их писала. После матери остался альбом. Были в нём стихи, написанные матерью, её друзьями, знакомыми. Когда мать умерла, альбом достался Лермонтову, и, подрастая, он стал записывать в него свои мысли, рисовать картинки. Отец Лермонтова, капитан в отставке, вскоре после смерти жены уехал. Бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, заменила мальчику мать. Она жила с ним в Пензенской губернии, в своём имении Тарханы.
Дом в Тарханах был просторный, с большим садом. Под горой раскинулся пруд, а за прудом — холмы, леса. Детская в доме была наверху; пол в детской был покрыт сукном. Маленький Лермонтов любил рисовать мелом по сукну и рисовал очень хорошо. Едва начав говорить, он уже подбирал рифмы. Прибежит к бабушке и говорит: «пол — стол, кошка — окошко», а сам радостно смеётся.
Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 15 октября 1814 года. Мать Лермонтова умерла, когда ему не было трёх лет; он не помнил её совсем, но «была песня, — говорил он позднее, — от которой я плакал, её не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать». Мать любила музыку, много играла на фортепьяно, любила стихи и сама их писала. После матери остался альбом. Были в нём стихи, написанные матерью, её друзьями, знакомыми. Когда мать умерла, альбом достался Лермонтову, и, подрастая, он стал записывать в него свои мысли, рисовать картинки. Отец Лермонтова, капитан в отставке, вскоре после смерти жены уехал. Бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, заменила мальчику мать. Она жила с ним в Пензенской губернии, в своём имении Тарханы.
Дом в Тарханах был просторный, с большим садом. Под горой раскинулся пруд, а за прудом — холмы, леса. Детская в доме была наверху; пол в детской был покрыт сукном. Маленький Лермонтов любил рисовать мелом по сукну и рисовал очень хорошо. Едва начав говорить, он уже подбирал рифмы. Прибежит к бабушке и говорит: «пол — стол, кошка — окошко», а сам радостно смеётся.
 Дом в Тарханах.
Дом в Тарханах.
 Московский университетский пансион.
Московский университетский пансион.
 Московский университет.
Московский университет.
 Маршировка в юнкерской школе.
Маршировка в юнкерской школе.
 С картины Лермонтова «Воспоминание о Кавказе».
С картины Лермонтова «Воспоминание о Кавказе».













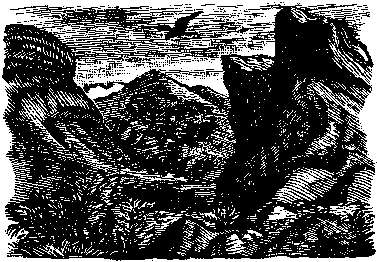

 Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. Хороши звёзды на небеси, но за Звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить её руку — и он стал грустен, как зимнее небо.
Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель[25] идёт мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уже за неё сватается.
Пришёл Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу её благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, опёрся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь! — кричал ему бек. — Куда бы ты ни шёл, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперёд, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! — Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привёз его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.
Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город: и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников. Многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши[26] измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою», — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою, когда придётся, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше, «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нём богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца, «Это моё», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твоё, — сказал купец, я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать; от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать!» — и хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан (юноша), что ты хочешь делать?»— «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло моё и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаёшь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзрум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты неверный, — сказал сердито всадник, — но нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот улыбнувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).
Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына, впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение». Но дочь, не внимая её упрёкам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба; сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утёса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — (храбрый)», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет, я ослепла от слёз; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придёт?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна струна порвётся, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.
В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришёл незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм![27] вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба; спой же что-нибудь, ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».
Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям, спрашивать, сына или дочь бог ей дал; им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:
«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».
Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнул: «Ты лжёшь; как можно из Халафа приехать сюда в день?»
«За что ж ты меня хочешь убить? — сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырёх сторон собирают в одно место; а я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».
«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:
«Утренний намаз[28] творил я в Арзиньянекой долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».
Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали её подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».
Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. Хороши звёзды на небеси, но за Звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить её руку — и он стал грустен, как зимнее небо.
Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель[25] идёт мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уже за неё сватается.
Пришёл Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу её благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, опёрся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь! — кричал ему бек. — Куда бы ты ни шёл, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперёд, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! — Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привёз его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.
Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город: и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников. Многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши[26] измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою», — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою, когда придётся, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше, «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нём богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца, «Это моё», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твоё, — сказал купец, я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать; от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать!» — и хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан (юноша), что ты хочешь делать?»— «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло моё и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаёшь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзрум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты неверный, — сказал сердито всадник, — но нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот улыбнувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).
Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына, впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение». Но дочь, не внимая её упрёкам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба; сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утёса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — (храбрый)», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет, я ослепла от слёз; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придёт?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна струна порвётся, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.
В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришёл незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм![27] вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба; спой же что-нибудь, ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».
Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям, спрашивать, сына или дочь бог ей дал; им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:
«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».
Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнул: «Ты лжёшь; как можно из Халафа приехать сюда в день?»
«За что ж ты меня хочешь убить? — сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырёх сторон собирают в одно место; а я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».
«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:
«Утренний намаз[28] творил я в Арзиньянекой долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».
Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали её подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».


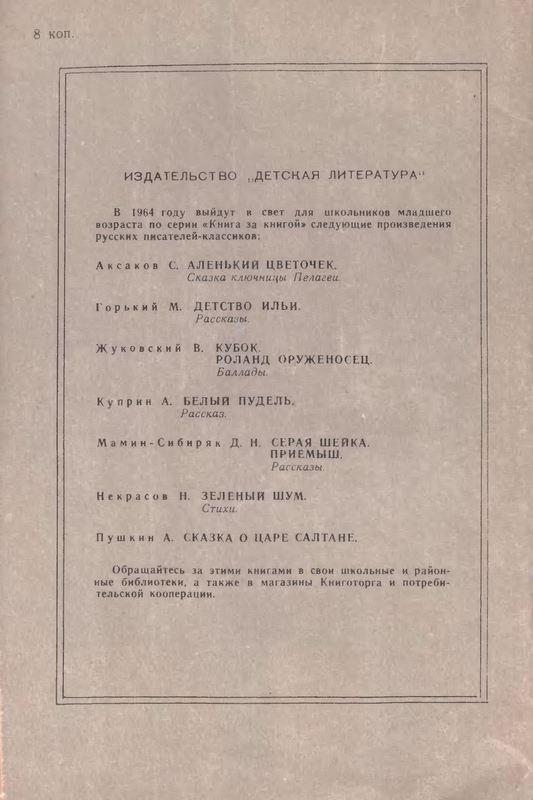
Последние комментарии
2 часов 33 минут назад
18 часов 37 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 3 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 14 часов назад