По всему свету [Джеральд Даррелл] (fb2) читать онлайн
- По всему свету [сборник] (пер. Лев Львович Жданов, ...) (и.с. Зеленая серия) 6.4 Мб, 608с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Джеральд Даррелл
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Джеральд Даррелл
По всему свету
По всему свету

Перевод с английского Л. Л. Жданова
Gerald Durrell
ENCOUNTERS WITH ANIMALS
London, 1958
Посвящается Айлин Молони в память о записях до поздней ночи, о глубоких вздохах и чересчур пространных дикторских объявлениях
Вступление

За прошедшие девять лет я руководил экспедициями в разные концы света, отловил множество занимательных тварей, женился, переболел малярией, написал несколько книг, а в промежутках между всеми этими делами выступал по радио с рассказами о мире животных. После каждой радиопередачи мне присылали письма с просьбой прислать копию текста. Проще всего было собрать все тексты в одной книге, что я и сделал.
Если передачи понравились слушателям, то это всецело заслуга моих режиссеров, и прежде всего мисс Айлин Молони, которой посвящена эта книга. Никогда не забуду ее терпение и такт во время репетиций. Не могу я чувствовать себя непринужденно в мерзкой зеленой студии, где микрофон плотоядно таращится на тебя со стола, будто какое-нибудь марсианское чудище. И на долю Айлин выпадала незавидная обязанность бороться с дефектами чтения, вызванными моей нервозностью. С удовольствием вспоминаю ее голос в динамике и замечания вроде следующего: «Отлично, Джеральд, но только при такой скорости ты уложишься в пять минут вместо пятнадцати». Или: «Попытайся говорить немножечко теплее, ладно? А то можно подумать, что ты ненавидишь животных… и, пожалуйста, не вздыхай так, когда начинаешь… от твоего вздоха чуть микрофон не слетел со стола, и ты не представляешь себе, как скорбно он прозвучал». Бедняжка Айлин изрядно помучилась, обучая меня технике радиовыступлений, и если я чего-то достиг в этой области, то исключительно благодаря ее наставлениям. Казалось бы, после этого с моей стороны жестоко напоминать ей о пережитом в посвящении к моей книге, но я не вижу другого способа всенародно поблагодарить Айлин за ее помощь. К тому же я не рассчитываю, что она станет читать эти записки.

Часть первая
Место действия

Снова и снова поражаюсь, сколько людей в разных частях света пребывает в полном неведении об окружающем их животном мире. Тропический лес, саванна, горы, в которых они живут, представляются им безжизненными. Они видят только стерильный ландшафт. Я убедился в этом, когда выезжал в Аргентину. В Буэнос-Айресе меня познакомили с одним англичанином, который почти всю свою жизнь провел в Аргентине; услышав, что мы с женой собираемся в пампу искать зверей, он воззрился на нас с искренним удивлением.
— Бросьте, дружище, вы там ничего не найдете! — воскликнул он.
— Это почему же? — спросил я в некотором замешательстве, поскольку считал его интеллигентным человеком.
— Да ведь пампа — это одна сплошная трава. — Он раскинул руки в стороны, пытаясь изобразить, сколько травы в пампе. — Трава, дружище, и больше ничего, одна трава, и кое-где коровы.
Вообще-то для приближенного описания пампы годится и такая характеристика, с той разницей, что необозримые аргентинские степи населены не одними лишь коровами и гаучо. Станьте посреди пампы и медленно поворачивайтесь вокруг своей оси — в любую сторону до самого горизонта простирается ровный, как бильярдный стол, травяной покров, тут и там пропоротый кустами огромного чертополоха высотой около двух метров, напоминающего диковинные сюрреалистические канделябры. Ландшафт под куполом жаркого голубого неба и впрямь кажется мертвым, но под мерцающей травяной мантией и в сухих зарослях ломких стеблей чертополоха кроются полчища всякой живности. Когда в жаркое время дня едешь верхом на коне по густому зеленому ковру или продираешься сквозь колючие заросли под пулеметный треск ломающихся стеблей, видишь почти одних только птиц. Через каждые сорок-пятьдесят метров на кочке у своей норы сидит, вытянувшись в струнку, кроличья сова, устремив на вас холодный удивленный взор. Приблизитесь — исполнит тревожную присядку, потом взлетит и пойдет описывать над травой бесшумные круги, расправив широкие крылья.
Ваше продвижение непременно будет замечено сторожевыми собачками пампы — серо-белыми аргентинскими ржанками. Скрытно перебегая с места на место, часто кивая головой, они пристально следят за вами, наконец взлетают и кружат над незваным гостем, разрезая воздух двухцветными крыльями и крича: «Теру-теру-теру… теру… теру!» Пронзительный звук предупреждает всех на километры вокруг о вашем появлении, другие ржанки тотчас подхватывают сигнал тревоги, и кажется — вся пампа заполнена их голосами. Отныне все живое начеку. С высохшего дерева впереди, от которого один скелет остался, в знойное голубое небо взмывает то, что вы приняли за две сухие ветки: химанго, представители семейства соколиных, с красивым песочно-белым оперением и стройными ногами. А большущая, высушенная солнцем кочка вдруг встает на длинных упругих ногах и мчится по степи широкими шагами, вытянув шею и петляя между стеблями колючника. Все ясно — это был нанду, который припал к земле в надежде, что вы проедете мимо, не заметив его. Так что пусть ржанки выдали вас, зато они, спугнув других обитателей пампы, выдали их вам.
Изредка вам встретится мелкое озерко в обрамлении камыша и нескольких чахлых деревьев. Здесь живут тучные зеленые лягушки, но какие лягушки! Потревожишь, прыгают на вас, издавая разинутым ртом хриплые устрашающие звуки. Преследуя лягушек, скользят в траве тонкие змеи, напоминающие галстук щеголя своей серо-черно-алой расцветкой. В камышах вы почти непременно найдете гнездо хохлатой паламедеи, крупной птицы, похожей на серую индюшку. Желтый, как лютик, птенец жмется к пропеченной солнцем земле в своей ямке и не шелохнется даже, когда ваш конь перешагивает через него, а родители мечутся поблизости, перемежая тревожные трубные крики ласковыми возгласами, обращенными к отпрыску.
Такова пампа днем. Вечером, когда вы возвращаетесь в лагерь, солнце уходит за горизонт в ореоле цветных облаков, к озерам тянутся утки и садятся, расписывая водную гладь елочками ряби. Стайки колпиц розовыми облачками опускаются на мелководье, чтобы кормиться в окружении метелицы из черношейных лебедей.
Пробираясь верхом сквозь темнеющие заросли чертополоха, вы можете встретить напоминающих странные заводные игрушки ночных уборщиков — сгорбленных броненосцев, которые сосредоточенно трусят куда-то по своим делам, или же отчетливо выделяющегося в сумерках черно-белого скунса: стоит, задрав кверху хвост, и раздраженно переступает передними ногами — дескать, поберегись!
Все это я увидел в пампе в первые же несколько дней. А мой друг столько лет прожил в Аргентине и даже не подозревал о существовании целого мира птиц и четвероногих. Пампа для него была «одна трава и кое-где коровы». Как тут не пожалеть человека…

Глава первая
Черный буш

В прошлом веке европейцы прозвали Африку Черным континентом, да и теперь, когда там появились современные города, железные дороги, хорошие шоссе, бары и другие непременные признаки цивилизации, кое у кого взгляд на Африку не изменился.
Пожалуй, больше всего досталось западному берегу, удостоенному выразительного определения «Могила белого человека». Сколько сочинителей — вопреки истине — описывали эту область Африки как сплошные огромные непроходимые джунгли! Дескать, если вам вообще удастся проникнуть сквозь непроницаемую завесу из вьющихся лиан, колючек и кустарников (просто диву даешься, как часто в этих сочинениях люди проникают сквозь непроницаемые завесы), вы увидите, что лес кишит всевозможными тварями, только и ждущими случая наброситься на вас: леопарды с горящими глазами, злобно шипящие змеи, а в речушках — крокодилы, изо всех сил старающиеся превзойти настоящие бревна в сходстве с бревном. Если вы сумеете благополучно избежать этих опасностей, у сочинителя всегда в запасе дикие туземные племена, чтобы прикончить злосчастного путешественника. Туземцы бывают двух родов — людоеды и нелюдоеды. Людоеды непременно вооружены копьями; нелюдоеды — стрелами, наконечники которых щедро смазаны смертельным ядом, как правило неизвестным науке.
Конечно, никто не лишает писателя права на толику поэтических вольностей, лишь бы он их не маскировал. Но к сожалению, западный берег Африки оклеветан до такой степени, что всякого, кто пытается оспорить утвердившиеся представления, клеймят как лжеца, никогда не бывавшего в этих краях. Обидно, очень обидно, что так поносят землю, где природа особенно своеобразна, прекрасна и богата, но я отлично сознаю, что эта моя жалоба — глас вопиющего в пустыне.
Кстати, мне по роду моей работы довелось довольно близко познакомиться с тропическими лесами: ведь тот, кто зарабатывает на жизнь поимкой живых зверей, поневоле должен отправляться за ними в так называемые непроходимые дебри. Сами звери, увы, к вам не выйдут. И я убедился, что обычно тропический лес поражает видимой скудостью дикой фауны. Можно бродить целый день и не встретить ничего интересного, разве что попадется какая-нибудь пичуга или бабочка. Конечно, звери в лесу есть, их там великое множество, но они предусмотрительно избегают вас, и, если вы хотите кого-то увидеть или поймать, надо точно знать, где искать. Помню, как я после шестимесячных трудов в лесах Камеруна показал свою коллекцию из полутораста с лишним самых разных птиц, зверей и рептилий одному господину, прожившему в тех краях четверть века. Он был ошеломлен — такое обилие живности, можно сказать, у его порога, в лесу, который он привык считать скучным и чуть ли не безжизненным!
На искаженном английском языке, бытующем в Западной Африке, лес называют бушем. Есть два рода буша. Первый прилегает к деревням и городам и основательно исхожен охотниками, а то и потеснен руками пахаря. Здесь животные настороже и увидеть их непросто. Второй — так называемый черный буш, простирающийся за много километров от ближайшего селения и редко посещаемый охотниками; в нем вы, если проявите терпение и не будете шуметь, увидите дикую фауну.
Настоящий зверолов не станет разбрасывать как попало свои ловушки по лесу, ведь это только на первый взгляд перемещения животных кажутся беспорядочными, а на самом деле вы очень скоро убеждаетесь, что у большинства из них прочно укоренившиеся привычки: они всегда посещают один и тот же водопой, из года в год ходят по одним и тем же тропам, направляясь туда, где сейчас обилие пищи, и покидая эти места, как только все будет съедено. У иных даже есть постоянные уборные по соседству с местом, где животное проводит большую часть своей жизни. Можно установить ловушку и ничего не поймать; потом перенесешь ее на три метра влево или вправо, где проходит привычный для зверя путь, — и тотчас ты с уловом. Вот почему, прежде чем начинать охоту, надо тщательно и терпеливо осмотреть район, проследить пути животных среди ветвей и на земле, выяснить, где сейчас поспевают дикие плоды, какие норы днем служат спальней для ночных животных. Работая в Западной Африке, я по многу часов проводил в черном буше, изучая повадки лесных жителей, чтобы потом легче было ловить их и содержать в неволе.
Один район я наблюдал около трех недель. В лесах Камеруна вы можете встретить участки, где почвенный слой слишком маломощен, чтобы питать корни могучих деревьев. В таких местах растут кустарники и высокие травы, довольствующиеся тонким слоем земли, который покрывает серый каменный щит. Я быстро убедился, что край одной поляны, расположенной километрах в пяти от моего лагеря, — идеальное место для наблюдения за животными, поскольку здесь сошлись три растительные зоны: во-первых, выбеленная солнцем трава на площади двух гектаров, во-вторых, обрамляющая ее полоска кустарника, густо оплетенного паразитными растениями и обсыпанного яркими цветками дикого вьюнка, и, наконец, вокруг поляны простирался собственно лес — исполинские стволы высотой до полусотни метров могучими колоннами подпирали безбрежный полог зеленой листвы. Выбрав подходящий наблюдательный пункт, можно было одновременно держать в поле зрения по небольшому участку каждой из трех зон.
Я выходил из лагеря рано утром, но солнце жгло уже немилосердно. С лагерной площадки я нырял в лесную прохладу, в зеленый сумеречный свет, просочившийся сквозь лиственный ярус вверху. Пробираясь между толстенными стволами, я ступал по мягкой и пружинистой, словно персидский ковер, многослойной лесной подстилке из увядших листьев. Единственным звуком в лесу был непрерывный звон миллионов цикад, красивых серебристо-зеленых насекомых, которые лепились к коре деревьев, наполняя воздух своим пением. Подойдешь слишком близко — улетают прочь, будто крохотные аэропланчики, поблескивая прозрачными крылышками. Время от времени в этот хор вмешивалось жалобное «уи» какой-то маленькой пичуги, которую мне так и не удалось опознать, хотя она любила сопровождать меня через лес, о чем-то вопрошая мягким, нежным голоском.
Кое-где в зеленом своде зияли широкие просветы; видно, насекомые и сырость подтачивали толстые суки, пока те не обломились и не рухнули на землю с высоты нескольких десятков метров, оставив в лиственном пологе прорехи, открывающие доступ золотистым солнечным лучам. Пятна ослепительного света привлекали бабочек — и крупных, чьи длинные, узкие, оранжево-красные крылышки горели десятками огоньков на фоне лесных теней, и беленьких малюток, что хрупкими снежинками взмывали в воздух у моих ног, потом, выписывая плавные пируэты, опускались обратно на черный перегной. Дальше я выходил на берег речушки, которая с тихим журчанием струилась между отполированными водой камнями в зеленых шапках из мха и крохотных стеблей. Через лес и через полосу кустарника на опушке поток прокладывал себе путь на поляну. Но, немного не доходя до опушки, был заметный уклон, и речушка образовала череду маленьких водопадиков, украшенных пучками дикой бегонии с яркими глянцевитыми желтыми цветками. Здесь бурные ливни вымыли почву из-под могучих корней одного лесного исполина; теперь он лежал на земле наполовину в лесу, наполовину в траве, и осталась от него лишь огромная, медленно гниющая пустотелая кожура, обросшая вьюнками, мхом и полчищами крохотных поганок, которые плотным строем шагали по шелушащейся коре. Тут находился мой тайник: в одном месте кора провалилась и получилось подобие челна, так что я мог сидеть, надежно закрытый низкой порослью. Убедившись, что место никем не занято, я устраивался в тайнике и ждал, стараясь не шевелиться.
Около часа ничего не происходило, только звенели цикады, от ручья подавала тонкий голос древесная лягушка, да иногда пролетала бабочка. Но вот наконец лес позабыл о тебе, поглотил тебя, и ты стал для его обитателей как бы частью пейзажа, пусть даже не самой живописной.
Обычно первыми являлись здоровенные турако, привлеченные плодами дикого инжира на опушке. Эти крупные птицы с тяжелым, как у сороки, хвостом за километр давали знать о своем прибытии веселыми, громкими, звонкими криками: «Кару-у, ку-у, ку-у, ку-у!» Вот появились из леса, ныряя в воздухе, как на волнах, и опускаются на дерево, оживленно перекликаясь и дергая длинным хвостом, так что по всему золотисто-зеленому оперению разбегаются радужные переливы. Турако совсем не по-птичьи бегали по ветвям, прыгали с одного сука на другой, подобно кенгуру, на ходу срывая и глотая плоды. Следом за ними на пир прибывали мартышки мона, одетые в красновато-коричневый мех и серые чулки, с двумя причудливыми ярко-белыми пятнами в основании хвоста, напоминающими огромные отпечатки пальцев. Их появлению предшествовал гул и треск, словно на лес вдруг обрушился порыв ветра, но, если хорошенько прислушаться, можно было сквозь этот шум различить улюлюканье и нечто вроде прерывистых гудков, как от скопища застрявших в уличной пробке допотопных такси. Это кричали птицы-носороги, которые всегда сопровождают обезьяньи полчища, поедая не только обнаруженные мартышками плоды, но и обитающих в древесных кронах ящериц, древесных лягушек и насекомых, спугнутых стремительным движением рыжей ватаги.
Достигнув опушки, ватага останавливалась, и вожак, заняв командную позицию, с подозрительным ворчанием крайне тщательно обозревал простершуюся перед ним поляну. Его отряд, насчитывающий полсотни особей, хранил полное молчание, лишь иногда нарушаемое хриплым криком какого-нибудь младенца. Наконец, удостоверившись, что поляна не таит ничего опасного, старый самец трогался с места. Медленно и важно выступал он вдоль ветки, изогнув хвост над спиной вопросительным знаком, и мощным прыжком переносился на фиговое дерево. Здесь он снова останавливался и еще раз осматривал поляну, затем срывал плод и издавал повелительный клич: «Ойнк, ойнк, ойнк!» Тотчас безмолвный лес позади него оживал, ветви расступались с шумом, напоминающим рокот могучего прибоя, мартышки выскакивали из укрытия и прыгали на плодовые деревья, обмениваясь на лету кто звонкими, кто хриплыми возгласами. У многих самок на животе болтались крохотные детеныши, и, когда мамаша прыгала, младенец пронзительно визжал — то ли от страха, то ли от восторга.
Только обезьяны примостились на ветвях, чтобы заняться спелыми плодами, глядишь, и птицы-носороги, обнаружив их местонахождение, с радостным курлыканьем, громко шурша крыльями и ломая прутья, как это у них заведено, беспорядочно сваливаются на те же деревья. Большие глуповатые круглые глаза в обрамлении густых ресниц озорно поглядывают на мартышек, а огромные и на вид громоздкие клювы осторожно и ловко срывают инжир и небрежно подбрасывают его в воздух. Падая, плоды ныряют в широко разинутую пасть птицы и исчезают в ее желудке. Носороги обращались с пищей отнюдь не так расточительно, как мартышки, они проглатывали все, что срывали, тогда как обезьяны, откусив один кусок, роняли плод на землю и тянулись к следующему.
Появление столь буйных сотрапезников явно шокирует дородных турако, поэтому они спешат удалиться. Примерно через полчаса вся земля под фиговыми деревьями уже усеяна обкусанными плодами, и мартышки направляются обратно в лес, обмениваясь удовлетворенными возгласами. Носороги задерживаются ровно столько, сколько нужно, чтобы проглотить еще по одному плоду, и кидаются догонять обезьян. Не успели отшуметь их крылья, как на сцену выходят следующие потребители инжира. Они так малы и выныривают из высокой травы так внезапно и бесшумно, что без бинокля вы даже при самом пристальном наблюдении не сумеете их обнаружить. Это полевые мышки, живущие среди кочек, под корнями и под камнями на опушке леса. Величиной с домовую мышь, с длинным, постепенно сужающимся хвостиком, они одеты в гладкую, песочно-серую шубку, лихо расписанную желтовато-белыми полосками от мордочки до хвоста. Маленькие грызуны скользят между травинками короткими рывками, поминутно вздрагивая и надолго замирая, чтобы, сидя на задних лапках и сжав розовые кулачки, принюхаться дрожащим носиком в обрамлении трепещущих усов — нет ли врага? И когда мышки вот так застывают на фоне травинок, полосатая шубка, столь приметная и нарядная при движении, мигом превращается в плащ невидимки, и зверьки почти сливаются с фоном.
Убедившись, что птицы-носороги и впрямь улетели (а эти пернатые весьма неравнодушны к полосатым малюткам), мыши приступали к важному делу — доедали плоды, так расточительно разбросанные по земле мартышками. В отличие от многих других диких мышей и крыс эти крохи довольно сварливы и начинали спорить из-за добычи, сидя на задних лапках и перебраниваясь пронзительными тоненькими голосками. Иногда две мышки одновременно хватали один и тот же плод и, упираясь в землю розовыми лапками, тянули изо всех сил, каждая в свою сторону. Если плод был очень спелый, он чаще всего разламывался пополам, и соперницы падали на спину, прижимая к себе свою долю трофея, после чего тихо и мирно съедали ее, сидя в пятнадцати сантиметрах друг от друга. Время от времени, испуганные внезапным звуком, они подскакивали, словно подброшенные пружиной, сантиметров на двадцать, а приземлившись, долго дрожали и озирались. Убедятся наконец, что опасность миновала, и снова начинают спорить из-за еды.
Однажды, когда полосатые мыши делили объедки со стола мартышек, на моих глазах разыгралась трагедия. Неожиданно на опушку вышла генета — один из самых стройных и красивых лесных обитателей. Кошачья мордочка посажена на гибкое, как у ласки, длинное тело, одетое в изумительный золотистый мех с узором из черных пятен и оканчивающееся длинным хвостом в черных и белых кольцах. Генету редко увидишь в утренние часы, она предпочитает охотиться вечером или ночью. Видимо, ночная охота не принесла удачи этой особе, вот она и продолжала при свете дня искать, чем бы наполнить желудок. Выйдя на край поляны и увидев мышек, хищница припала к земле и скользнула вперед, словно камень по льду. Крохотные грызуны не успели даже оглянуться, как она очутилась среди них. Дружно подпрыгнув вверх от испуга, они бросились наутек через траву, напоминая маленьких, суетливых, тучных дельцов в полосатых костюмах. Однако генета была еще проворнее и возвратилась в лес, неся в зубах добычу — двух мышек, которые только что с жаром выясняли, кому должен принадлежать приглянувшийся обеим плод инжира. И довыяснялись…
С наступлением полуденной жары вся жизнь замирала, даже непрестанное пение цикад звучало как-то дремотно. Время отдыха; в эти часы животные почти не показываются. Только любители солнца сцинки выходили на поляну, чтобы погреться на камнях или поохотиться на кузнечиков и саранчу. Кожа этих ярких, лоснящихся, словно только что покрашенных ящериц напоминает полированную мозаику из сотен мельчайших чешуй вишневого, кремового и черного цвета. Быстро снуя между стеблями, они создавали впечатление диковинного живого фейерверка. Больше некого было наблюдать, пока солнце не начинало склоняться к горизонту и не становилось прохладнее, поэтому я пользовался случаем съесть припасенную еду и отвести душу сигаретой.
Но однажды, во время обеденного перерыва, я оказался свидетелем необычной комедии, которая, казалось, была исполнена специально для меня. Из густой поросли около моего тайника, в каких-нибудь полутора метрах от меня, выбралась огромная, с яблоко величиной, улитка и медленно, величественно поползла по бревну. Продолжая есть, я с восхищением смотрел, как легко, без всяких видимых усилий она скользит по коре, как ее рога, увенчанные круглыми, словно бы удивленными глазами, поворачиваются туда-сюда, нащупывая путь среди кукольного ландшафта из мха и поганок. Но тут я обнаружил, что поблескивающий след, тянувшийся за лениво ползущей без определенной цели улиткой, привлек охотника, одного из самых свирепых и кровожадных в своей весовой категории хищников западноафриканского леса.
Переплетенные вьюнки раздвинулись, и на бревно важно ступило крошечное создание, длиной не больше сигареты, в угольно-черной шубке и с длинным тонким носом, который был словно приклеен к улиткиному следу. Ни дать ни взять миниатюрная черная ищейка. Это была землеройка, существо на редкость бесстрашное и невероятно прожорливое. Вот уж для кого поистине смысл жизни заключается в еде. Если очень припрет, землеройки готовы даже съесть друг друга. Чирикая что-то себе под нос, зверушка быстро семенила вдогонку за улиткой и вскоре настигла ее. Издав пронзительный писк, землеройка набросилась на торчащий из раковины сзади хвостик и впилась в него зубами. В ответ на столь внезапную и бесцеремонную атаку с тыла улитка сделала единственное, что было возможно в ее положении: живо втянула тело в раковину. Маневр этот был выполнен так стремительно и улиткины мышцы сократились с такой силой, что землеройка с маху ударилась мордочкой о раковину и разжала зубы. Лишенная опоры, раковина упала набок, и землеройка, визжа от досады, метнулась вперед и сунула мордочку в отверстие хрупкого домика, чтобы извлечь оттуда спрятавшегося моллюска. Но улитка приготовилась, и как только нос врага проник в ее убежище, его встретил бурлящий каскад зеленовато-белой пены, облепивший всю голову землеройки. Ошеломленная зверушка отпрянула назад. При этом она толкнула домик улитки, раковина качнулась и съехала боком в поросль возле бревна. А землеройка, вне себя от ярости, уже сидела на задних лапках, отчаянно чихая и силясь стереть передними лапами пену с мордочки. Зрелище было до того потешное, что я расхохотался, и маленькая охотница, метнув испуганный взгляд в мою сторону, прыгнула в кусты и поспешно скрылась. Не припомню другого тихого часа в лесу, когда бы мне довелось так повеселиться!
Во второй половине дня, как только спадала жара, лес опять оживал. На фиговые деревья прибывали новые посетители, в том числе белочки. Одна чета явно исповедовала правило сочетать полезное с приятным: они бегали и прыгали по веткам, играя в прятки и чехарду и флиртуя друг с другом, потом вдруг прерывали бесшабашную возню, чтобы тихо посидеть, накинув на плечи мантию из собственных хвостов, и с важным видом погрызть инжир.
По мере того как тени делались длиннее, вы при удаче могли увидеть дукеров, которые приходили на водопой к речушке. Мелкие антилопы в поблескивающем рыжеватом одеянии, с тонкими карандашиками ног, осторожно, не спеша пробирались между деревьями, то и дело останавливаясь, чтобы проверить путь впереди большими влажными глазами и прослушать беспокойными ушами звуки леса. Беззвучно пронизав полосу пышной растительности на берегу речушки, они обычно спугивали кормившихся тут своеобразных ручьевых мышей, маленьких серых грызунов с удлиненной глуповатой мордочкой и большими полупрозрачными ушами такой же формы, как у мула. Длинные задние ноги позволяют ручьевым мышам прыгать наподобие кенгуру. В это время дня они бродили по мелководью и вылавливали тонкими передними лапками водных насекомых, крабиков и улиток. В эти же часы выходили на охоту местные крысы, очень важные, хлопотливые и на редкость симпатичные. На фоне общей зеленоватой окраски причудливо выделяются ярко-рыжие мордочка и зад, как будто эти грызуны надели маски и спортивные трусы. Охотничьи угодья крыс помещались между контрфорсами корней могучих деревьев. Переговариваясь писклявыми голосами, они ходили вразвалку по перегною и переворачивали камешки, прутики и сухие листья в поисках насекомых. Временами останавливались, садились на задних лапах лицом друг к другу и заводили беседу. Их усики мелко дрожали, и торопливый жалобный писк явно выражал досаду собеседниц по поводу нехватки пропитания в этом участке леса. А иногда, хорошенько принюхавшись, они вдруг приходили в страшное возбуждение и с громким писком начинали раскапывать лапками перегной, словно терьеры. И наконец извлекали из-под земли здоровенного, длиной чуть ли не с них самих, жука шоколадного цвета. Жуки эти порядочные силачи, к тому же вооружены рогами, и крысам было не так-то просто с ними управиться. Перевернув добычу на спину, они быстро-быстро перекусывали брыкающиеся колючие ноги. Обездвижат жука, потом уже двумя-тремя укусами умертвляют его. После чего маленькая победительница садилась на корточки, прижимала трофей к себе передними лапками и принималась есть, будто длинный леденец, громко хрупая и время от времени выражая свое удовольствие приглушенным писком.
На поляне еще светло, а в лесу уже сумерки, трудно что-либо рассмотреть. Повезет — приметишь вышедшего на охоту ночного зверя. Скажем, важный и дородный кистехвостый дикобраз просеменит, с шуршанием раздвигая листву длинными иглами. С началом ночной смены снова в центре внимания оказывались фиговые деревья. Словно по волшебству, на ветках вдруг возникали галаго и озирались огромными глазами-блюдечками, трагически заламывая маленькие, удивительно похожие на человеческие руки, — стайка фей, сию минуту обнаруживших, сколь греховен этот мир. Время от времени они отрывались от инжира, чтобы в невероятном прыжке схватить пролетающую мимо бабочку. А в редеющем закатными красками небе парами летели в свою лесную спальню серые попугаи, пересвистываясь и звонко перекликаясь друг с другом и с лесным эхом. Откуда-то издалека внезапно доносилось многоголосое уханье, крики, взрывы дурацкого смеха — эти жуткие звуки издавали готовящиеся ко сну шимпанзе. Тем временем галаго исчезали так же бесшумно и быстро, как появились, и потемневшее небо большими рваными облаками пересекали крыланы. Пронзительно крича, они пикировали на деревья и принимались за дележку уцелевших плодов, хлопая крыльями так, будто среди деревьев трясли сотней мокрых зонтов. Снова взрыв истерических воплей в стане шимпанзе — и лес уже совершенно погрузился во мрак, но он продолжает жить, он полон миллионами звуков. Шорохи, писки, хрюканье, таинственные речитативы — это заступила ночная смена.
Я поднимался, расправляя онемевшие члены, и брел через лес, а свет моего фонарика казался таким слабым и жалким среди огромных безмолвных деревьев. Вот они, тропические дебри — дикие, опасные, кошмарные, если верить иным книгам. А для меня — прекрасный, удивительный мир, полчища больших и малых растений и животных, таких различных и вместе с тем зависимых друг от друга, будто кусочки исполинской мозаики. До чего же жаль, думал я, что люди упорно цепляются за старые представления о враждебных джунглях, тогда как на самом деле здесь мир волшебной красоты, ожидающий, чтобы его исследовали, изучали, понимали.

Глава вторая
Озеро яканы

Британская Гвиана[1], расположенная на северо-востоке Южной Америки, с ее густыми тропическими лесами, холмистыми саваннами, горными хребтами и могучими белопенными водопадами — право же, одна из самых красивых стран на свете. Впрочем, мне особенно по душе участок приморья от Джорджтауна до венесуэльской границы. Тысячи рек и речушек, вырвавшись на пути к морю из леса на береговую равнину, разделяются на миллионы ручьев и ручейков, и кажется — весь край пронизан блестящими жилками ртути. Растительный мир поражает своей пышностью и разнообразием; его великолепие превращает эту землю в поистине волшебную страну. В 1950 году я приезжал сюда, чтобы отловить животных для английских зоопарков, за шесть месяцев побывал и в саваннах северных областей, и в тропических лесах, и, конечно же, в раю ручьев с его самобытным животным миром.
В приморье я облюбовал для своей базы маленькую индейскую деревушку неподалеку от Санта-Росы. Весь путь до деревушки занял два дня. Сначала мы спустились на катере вниз по Эссекибо, потом шли вверх по сравнительно многоводным речкам, пока не достигли такого места, где катер уже не мог пройти — слишком мелкое дно и слишком много водорослей. Тогда мы пересели на долбленки; наши местные хозяева — молчаливые симпатичные индейцы — взялись за весла, и началось одно из самых чудесных путешествий в моей жизни.
Некоторые из речушек достигали всего около трех метров в ширину, и поверхность воды была совершенно скрыта плотным ковром из крупных глянцевитых кувшинок с нежно-розовыми лепестками и маленьких папоротниковидных растений с тонким стеблем, который венчался малюсеньким ярко-красным цветком. Вдоль берегов сплошной стеной стоял подлесок и высились могучие деревья. Склоненные над потоком узловатые стволы образовали длинный туннель; ветви были украшены длинными гирляндами зеленовато-серого бородатого мха и гроздьями нарядных желто-розовых орхидей. Сидишь на носу лодки, и чудится, что ты бесшумно скользишь по пестреющему цветами, плавно колышущемуся за кормой газону. Большие черные дятлы с алым хохлом, громко крича, перелетали с дерева на дерево, чтобы поработать белым клювом над гнилой корой, а в прибрежных зарослях и камышах временами словно краски взрывались — то внезапно взмывала вверх спугнутая нами болотная птица, и красное оперение ее груди ярким пламенем вспыхивало в небе.
Индейская деревушка примостилась на бугре, фактически представляющем собой остров, окруженный со всех сторон сетью речушек. Отведенная мне хижина стояла на отшибе, в изумительной местности, на краю лога площадью с полгектара, среди увешанных плетями лишайника высоких деревьев, которые обступили ее со всех сторон, будто древние седобородые старики. Во время зимних дождей ближние речушки разлились и затопили ложбину, так что образовалось озерко глубиной около двух метров. Его коричневатая гладь отражала торчащие из воды деревья, точно зеркало. Ложбину окаймляла полоска камышей с вкраплениями кувшинок. С порога хижины открывался замечательный вид на озерко и его берега, и, тихо сидя здесь вечерами или в ранние утренние часы, я обнаружил, что маленький водоем и окружающий его подлесок служат обителью всяческой живности.
Так, по вечерам приходил на водопой енот-ракоед. У этого своеобразного зверька размером с небольшую собаку косматый хвост в черно-белых кольцах, широкие и плоские розовые лапы, тело покрыто серым мехом, а на мордочку словно надета черная полумаска, придающая ему довольно потешный вид. И походка у енота-ракоеда причудливая: зверек горбится, выворачивает ступни в стороны и неуклюже волочит ноги так, будто у него болячки на пальцах. Спустившись к воде и с минуту мрачно поглядев на собственное отражение, енот утолял жажду, после чего с унылым видом семенил вдоль берега в поисках пищи. Зайдя в озерко, где помельче, он садился на корточки, погружал в темную воду длинные пальцы передних лап и тщательно прощупывал ими дно, чтобы внезапно с приятно удивленным видом извлечь что-то из ила. Бережно обнимая трофей передними лапами, зверек выносил его на берег и приступал к трапезе. Если это была лягушка, енот прижимал ее к земле и обезглавливал быстрым укусом. Если же, что случалось чаще, ему попадался крупный пресноводный краб, енот торопился выскочить на сушу и отбрасывал его в сторону. Придя в себя, краб угрожающе раскрывал клешни, однако у енота была разработана не совсем обычная и весьма действенная тактика. Краб очень обидчив: если вы будете щелкать его, не давая при этом схватить вас клешнями, он в конце концов надуется и сожмется в комок, отказываясь продолжать неравный поединок. Вот и енот просто-напросто кружил около краба, постукивая длинными пальцами по карапаксу и отдергивая лапу каждый раз, когда ему угрожала клешня. Минут через пять раздосадованный краб сдавался и припадал к земле. Енот, до тех пор напоминавший симпатичную старую леди, играющую с любимым мопсиком, тотчас преображался. Во взоре его появлялась деловитость, он весь подбирался, затем наклонялся и в одно мгновение перекусывал злополучную жертву почти пополам.
По одну сторону ложбины кто-то из прежних владельцев хижины посадил несколько гуаяв и манговых деревьев. Как раз при мне начали поспевать плоды, привлекая множество потребителей. Первыми обычно появлялись древесные дикобразы. Они выходили вразвалку из подлеска, смахивая на тучных подвыпивших старичков. Большой нос луковицей испытующе принюхивается; печальные крохотные глазки, вечно влажные от непролитых слез, с надеждой поглядывают по сторонам. Дикобразы ловко взбирались на манговые деревья, раздвигая шуршащими черно-белыми иглами листву и цепляясь за сучья длинным хвостом, чтобы не сорваться. Облюбуют удобное местечко на ветке, обовьют ее хвостом в два-три оборота, садятся на задние лапы, срывают плод и вертят его в передних лапах, обрабатывая широкими зубищами. Управившись с мякотью, дикобраз иногда затевал своеобразную игру с косточкой. Сидит с растерянным видом и перебрасывает косточку из одной лапы в другую, словно не зная, как с ней поступить, а то и вовсе роняет, чтобы в последнюю секунду снова поймать на лету. Минут пять длился этот жонглерский номер, наконец косточка летела на землю, и дикобраз брел дальше по веткам в поисках следующего плода.
Если двум дикобразам случалось встретиться лицом к лицу, они садились на корточки, крепко обвивали ветку хвостом и затевали потешнейший боксерский поединок. Выпады передними лапами, нырки, финты, обманные движения, левые хуки, апперкоты, удары по корпусу… Впрочем, все удары были показными, бесконтактными. И на протяжении схватки, длящейся около четверти часа, мордочки бойцов выражали смущение и благодушный интерес. Внезапно, точно по незримому сигналу, оба дикобраза опускались на четвереньки и не спеша расходились в разные стороны. Смысл этих поединков остался для меня загадкой, и я не мог определить победителя, но это не мешало мне веселиться от души, наблюдая странное зрелище.
И еще одни пленительные существа посещали плодовые деревья — речь идет о дурукули. Эти забавные обезьянки с длиннейшим хвостом, почти беличьим тельцем и огромными совиными глазами — единственные приматы, ведущие истинно ночной образ жизни. Дурукули прибывали стайками по семь-восемь особей, прибывали совершенно бесшумно, но длинные и замысловатые беседы, которые они вели во время трапезы, быстро их выдавали. Репертуар звучаний дурукули превосходит все, что я когда-либо слышал не только у обезьян, но и у любых животных таких размеров. Начну с громкого переливчатого тявканья: этот мощный вибрирующий звук служит сигналом тревоги, и, когда дурукули издают его, их горловые мешки раздуваются до размеров небольшого яблока. Разговаривая между собой, они пронзительно взвизгивают, похрюкивают, мяукают по-кошачьи; издают также булькающие трели — их мне просто не с чем сравнить. Иногда какая-нибудь из них в приливе чувств клала руку на плечи товарки, они садились рядышком в обнимку и тараторили, не сводя друг с друга серьезного взгляда. Из всех виденных мной обезьян только дурукули без какого-либо видимого повода, чуть что принимались обниматься и страстно целоваться, сплетясь хвостами.
Все названные выше животные приходили и уходили, но были еще два представителя фауны, которых я мог постоянно наблюдать на поверхности озерка в ложбине. Один — молодой кайман длиной около ста двадцати сантиметров, очень красивый, с морщинистой и бугристой, наподобие скорлупы грецкого ореха, черно-белой кожей, с драконьим гребнем вдоль хвоста и большими глазами, золотисто-зелеными в янтарную крапинку. В этом маленьком водоеме он был единственным представителем своего племени, непонятно почему, если учесть, что кругом все речушки и протоки кишели его сородичами. Как бы то ни было, маленький кайман вел отшельнический образ жизни в озерке перед моей хижиной и целыми днями плавал по нему с видом собственника. Вторым постоянным жителем была якана — наверно, одна из самых удивительных птиц Южной Америки. Величиной и обликом она похожа на английскую камышницу, с той разницей, что ее аккуратное тельце опирается на длинные тонкие ноги с кистью невообразимо удлиненных пальцев. Эти-то пальцы, обеспечивающие равномерное распределение веса на большой площади, позволяют якане ходить по воде, точнее, не по воде, а по листьям кувшинок и других водных растений. Отсюда английское прозвище яканы — «бегущая по кувшинкам».
Якана недолюбливала каймана, он же явно полагал, что природа поселила якану на озерке, чтобы внести некоторое разнообразие в его стол. Но кайман был молодой и неопытный, а потому первые его попытки подкрасться к птице и схватить ее были до смешного неуклюжими. Выйдя аккуратными шажками из подлеска, куда она часто наведывалась, якана шла по воде, мягко переступая растопыренными по-паучьи пальцами с листа на лист, и зеленая опора лишь самую малость прогибалась под ее весом. Заметив птицу, кайман тотчас погружался так, что одни глаза торчали из воды. Голова охотника скользила к цели, не оставляя ни единой морщинки на водной глади. А якана уже деловито работала клювом, отыскивая среди растительности личинок, улиток и мелких рыбешек, и явно не замечала надвигающейся опасности. Надо думать, кайман легко завладел бы добычей, не будь одной загвоздки: когда до птицы оставалось три — три с половиной метра, охотником овладевало такое возбуждение, что он вместо того, чтобы нырнуть и схватить якану снизу, вдруг принимался усиленно работать хвостом, рассекая воду со скоростью гоночного катера и производя при этом такой шум, что даже самая безмозглая птица не позволила бы застать себя врасплох. Звучал резкий сигнал тревоги — и якана взмывала в воздух, отчаянно хлопая лютиково-желтыми крыльями.
Я как-то не задумывался над тем, почему она большую часть дня проводит в камышах на краю озера, пока не добрался до этого уголка и не обнаружил причину: на болотной почве лежала аккуратно сплетенная из водорослей подстилка, а на подстилке — четыре круглых желтоватых яйца в шоколадную и бронзовую крапинку. Видно, птица уже давно насиживала их, потому что спустя два дня я застал гнездо пустым, а через несколько часов увидел, как мамаша выводит в мир своих отпрысков на первую прогулку.
Выйдя из камышей на кувшинки, якана остановилась и оглянулась назад. Тотчас показались четыре птенца — четыре шмеля-переростка, одетые в золотисто-черный пух. Тоненькие длинные ножки казались нежными, как паутина. Малыши следовали гуськом за родительницей, соблюдая дистанцию в один лист, и терпеливо ждали, когда она останавливалась, чтобы проверить дальнейший путь. Они были такие крохотные и такие легкие, что, соберись все четверо на одном листе размером с мелкую тарелку, он вряд ли качнулся бы под их весом. При виде выводка кайман, естественно, удвоил усилия, но якана была крайне осмотрительной мамашей. Она ходила с выводком у самого берега, и стоило кайману направиться в их сторону, как малыши тотчас исчезали в воде, чтобы мгновением позже, словно по волшебству, возникнуть на суше.
Кайман использовал все известные ему приемы: то старался незамеченным подобраться возможно ближе, то устраивал засаду. Нырнет под зеленый ковер и всплывает так, чтобы только нос и глаза выглядывали среди водорослей. Итерпеливо ждет в такой позе. Иногда он залегал в воде у самого берега, очевидно рассчитывая перехватить птиц в начале их пути. Целую неделю упражнялся он в изобретательности, но лишь однажды был близок к успеху.
В тот день кайман провел знойные полуденные часы, лежа на виду посреди озерка и медленно поворачиваясь, чтобы следить, что происходит вдоль берегов. Под вечер он направился к окаймляющим берег водорослям и ухитрился схватить лягушонка, который сидел на кувшинке, греясь на солнышке. Подкрепившись, кайман взял курс на пестрящий мелкими цветками зеленый плавучий ковер и нырнул. Полчаса я тщетно искал его взглядом по всему озерку, прежде чем сообразил, что он, должно быть, укрылся под водорослями. Навел в ту сторону бинокль, и, хотя плавучий ковер площадью не превосходил обыкновенную дверь, прошло целых десять минут, прежде чем я рассмотрел каймана почти в самом центре этого клочка зелени. Он всплыл так, что плеть растения с гроздью розовых цветочков легла ему на лоб как раз между глазами. Напоминающее нарядную весеннюю шляпку украшение придавало ему несколько игривый вид, зато служило превосходной маскировкой. А еще через полчаса на сцену вышла семья яканы, и драма началась.
Мамаша, как всегда, внезапно появилась из камышей, грациозно ступила на листья кувшинок и остановилась, чтобы позвать своих отпрысков. Птенцы высыпали следом за ней, будто причудливые заводные игрушки, и терпеливо замерли на широком листе, ожидая дальнейших указаний. Родительница не спеша повела их дальше, руководя кормлением. Заняв удобную позицию, наклонится, захватит клювом край соседнего листа и загибает вверх, обнажая нижнюю сторону, облепленную полчищами личинок, пиявок, улиток и мелких рачков. Птенцы окружали мамашу и принимались энергично работать клювиками. Очистят снизу лист от съедобной мелюзги — переходят к следующему.
Очень скоро я обнаружил, что родительница ведет свой выводок прямо туда, где укрылся кайман, и вспомнил, что маскирующая его зелень — любимое охотничье угодье яканы. Мне уже доводилось наблюдать, как она, стоя на листе кувшинки, извлекает из воды запутанные клубочки нежной папоротниковидной водоросли и вешает их на кувшинку, чтобы малыши могли полакомиться обитающими на зеленых стебельках полчищами крохотных организмов. Я не сомневался, что якана и на этот раз, как это всегда бывало до сих пор, своевременно заметит каймана и оставит его в дураках, но, хотя она поминутно останавливалась, чтобы осмотреться кругом, выводок неуклонно приближался к засаде.
Я стал в тупик. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кайман сожрал якану или ее птенцов. Но как ему помешать? Похлопать в ладони? Так ведь якана слишком привыкла к шуму, производимому людьми, и не обратит на это никакого внимания. Подобраться к ней поближе — пустая затея: драма разыгрывалась на другом конце озера, меньше чем за десять минут не подоспею, а тогда будет слишком поздно, потому что каких-нибудь пять-шесть метров отделяют жертву от охотника. Кричать бесполезно, камень не добросишь… Оставалось сидеть, таращась в бинокль, и твердить себе, что, если этот проклятый кайман только дотронется до моих любимцев, я выслежу его и казню. И тут я вспомнил про ружье.
Конечно, стрелять по кайману на таком расстоянии было бессмысленно: пока дробь долетит туда, она рассеется, и на его долю в лучшем случае придется несколько дробинок, зато я рискую убить тех самых птиц, которых хочу спасти. Но ведь якана, насколько мне известно, никогда не слышала ружейного выстрела… Стало быть, выстрел в воздух может испугать ее и заставить увести свой выводок в безопасное место. Я метнулся в хижину, схватил ружье и минуту-другую лихорадочно соображал, куда я мог засунуть патроны. Наконец зарядил ружье и поспешно вернулся на свой наблюдательный пункт. Зажав приклад под мышкой, так что стволы смотрели в землю, я другой рукой поднес к глазам бинокль, чтобы удостовериться, что не опоздал.
Якана как раз подошла к рубежу, отделяющему кувшинки от папоротниковидных водорослей. Малыши сгрудились на листе позади и чуть сбоку от нее. На моих глазах мамаша наклонилась вперед, схватила длинную тонкую гирлянду и подтянула ее к своему листу. В ту же секунду кайман, от которого ее отделяло немногим больше метра, выскочил из зеленого укрытия и, по-прежнему увенчанный нелепым головным убором, бросился вперед. Одновременно я спустил оба курка. Над озером раскатился гром выстрела.
То ли мое вмешательство помогло, то ли сама якана вовремя спохватилась, во всяком случае, она стремглав взлетела в тот самый миг, когда челюсти каймана сомкнулись и перекусили пополам лист, на котором стояла птица. Якана пронеслась над его головой, он выскочил из воды, стараясь перехватить ее (я услышал стук его челюстей), но птица умчалась прочь невредимая, издавая тревожные крики.
Атака была настолько внезапной, что мамаша не сразу дала команду своему съежившемуся выводку. Теперь же, услышав ее голос, они ожили и бросились в воду перед носом у приближающегося каймана. Он нырнул за ними вдогонку; постепенно рябь пропала, и поверхность воды снова разгладилась. С тревогой смотрел я, как родительница-якана, возбужденно крича, кружила над озером. В конце концов она исчезла в камышах, и больше в тот день я ее не видел. Кайман тоже не показывался. Терзаемый страшной мыслью, что ему удалось схватить под водой спасающиеся бегством пушистые комочки, я весь вечер разрабатывал планы страшной мести.
На другое утро, дойдя до камышей, я с радостью обнаружил в зарослях якану и трех заметно присмиревших птенцов. А вот четвертого нигде не было видно; стало быть, кайман все-таки отчасти преуспел… Между тем якана, к моему ужасу, вместо того чтобы извлечь урок из вчерашнего происшествия, снова повела свой выводок пастись на кувшинках, и весь этот день я с трепетом следил за ними. Хотя кайман не появлялся, страх за якану и ее птенцов основательно истрепал мне нервы, и к вечеру я решил, что дальше терпеть невозможно. Пошел в деревню и одолжил лодчонку, которую два индейца любезно донесли до озерка. Едва стемнело, я вооружился мощным фонарем и длинной жердью с петлей на конце и отправился на охоту. Как ни мало было озеро, мне понадобился целый час, чтобы обнаружить каймана. Он лежал по соседству с кувшинками, и в свете фонаря огромные глаза его вспыхнули, будто рубины. С величайшей осторожностью я приблизился, медленно-медленно опустил петлю в воду и надел ему на голову. Кайман не двигался с места, то ли ослепленный, то ли завороженный ярким светом. Сильным рывком я затянул петлю и втащил судорожно извивающегося зверя в лодку. Он яростно щелкал челюстями и издавал хриплые лающие звуки, раздувая горло. Я засунул каймана в мешок, на другой день отвез его километров за восемь от озерка и выпустил в одну из речушек. Там он и застрял, и все оставшееся время, что я жил в хижине над затопленным логом, ничто не мешало мне наслаждаться зрелищем того, как мои пернатые любимцы ходят по озерку в поисках корма, не ударяясь в панику всякий раз, когда легкий ветерок морщил гладь коричневатой воды.

Часть вторая
Животные вообще

Меня всегда очень занимало поведение животных — как они решают свои жизненные проблемы. И несколько радиовыступлений я посвятил удивительным способам, к которым они прибегают, чтобы привлечь партнера, оборониться от врага или устроить себе жилище.
Каким бы страшным или некрасивым ни казалось вам животное (это относится и к человеку), у него непременно найдется какая-нибудь привлекательная черта. Нельзя без симпатии смотреть, когда неприятная на вид, даже отталкивающая тварь вдруг обнаруживает способность к очаровательным, трогательным поступкам: скажем, уховертка льнет, будто наседка, к своим яйцам и тщательно собирает их вместе, если вы позволили себе разбросать их, или паук, доведя свою возлюбленную щекотанием до транса, предусмотрительно связывает ее шелковистой нитью, чтобы она, очнувшись, не сожрала его после спаривания. Калан и сам по себе прелестен, и разве не восхитительно наблюдать, как он тщательно обматывает себя плетями морской капусты, чтобы спокойно спать, не опасаясь, что его отнесет приливно-отливными течениями.
Помню, как я, в совсем еще юном возрасте, сидел на берегу неторопливой речушки в Греции. Неожиданно из воды, карабкаясь по тростинке, вышло насекомое, больше всего смахивающее на какое-нибудь существо с другой планеты. Громадные выпуклые глаза, членистое тело на паучьих ногах, поперек груди — странная, аккуратно сложенная штуковина — этакий марсианский акваланг. Насекомое упорно лезло по тростинке вверх, к жаркому солнцу, которое испаряло влагу с его уродливого тела. Наконец остановилось и замерло, словно в трансе. Я с увлечением и недоумением смотрел на это чудовище. В те дни мой интерес к естественной истории сочетался с великим невежеством, и я не мог понять, что за тварь явилась моему взору. Вдруг я заметил, что спина просушенного солнцем существа словно лопнула вдоль и кто-то силится выбраться наружу из ставшей совсем коричневой шкурки. С каждой минутой этот «кто-то» все энергичнее расширял просвет; в конце концов странное животное сбросило уродливое одеяние и уцепилось немощными конечностями за тростинку. Это была стрекоза. Крылышки все еще сморщенные и влажные, брюшко мягкое, но солнечные лучи делали свое дело, и на моих глазах крылышки высохли и расправились — хрупкие, как снежинка, испещренные жилками, точно соборный витраж. Брюшко тоже окрепло и приобрело ярко-голубой оттенок. Стрекоза два-три раза поработала крылышками, уподобляя их радужному облачку, потом неуверенно взлетела и удалилась, оставив прилепившуюся к тростинке неприглядную оболочку.
Мне никогда еще не доводилось наблюдать такое превращение, и, глядя с изумлением на невзрачную шкурку, в которой пряталось великолепное атласное насекомое, я поклялся больше никогда не судить о животном по его внешнему облику.

Глава третья
Животные ухаживают

Большинство животных очень серьезно подходят к брачному ритуалу, и некоторые из них со временем разработали интереснейшие способы завоевывать сердце избранницы. Богатейший набор перьев, рогов, шипов и сережек, удивительное разнообразие красок, узоров и запахов — все это предназначено, чтобы обзавестись партнершей. Более того, иные ухажеры преподносят даме сердца подарки или устраивают выставку цветов, воздействуют на ее воображение акробатическими этюдами, танцами, пением. Когда животные ухаживают, они вкладывают в это дело всю свою душу, способны даже жизнь отдать, если понадобится.
Самые галантные кавалеры животного мира, разумеется, птицы. Они щеголяют великолепными нарядами, танцуют, принимают элегантные позы, готовы в любую минуту спеть мадригал или драться на дуэли.
Особенно знамениты райские птицы, которые не только располагают самыми роскошными брачными костюмами в мире, но и умело демонстрируют их.
Возьмите, например, королевскую райскую птицу. Мне посчастливилось однажды увидеть в бразильском зоопарке ее токование. В огромном вольере с множеством тропических деревьев и других растений обитали три особи этого вида — две самки и самец. Самец величиной с дрозда; голова сочного оранжевого цвета резко контрастирует с белоснежной грудкой и алой спиной, и все оперение блестит, точно полированное. Клюв желтый; ноги чудесного кобальтово-синего цвета. По случаю брачной поры перья на боках были длинные, а средняя пара рулевых вытянулась тонкими стержнями сантиметров на двадцать пять. Каждый стержень закручивался на конце наподобие часовой пружины, образуя изумрудно-зеленый медальон из причудливо скрученных перьев. При малейшем движении птица вся так и переливалась на солнце; качаясь, искрились хвостовые стержни с медальонами. Самец сидел на длинном голом суку, а обе самки устроились в кустах по соседству, наблюдая за ним. Внезапно он слегка расправил перья и издал странный крик, нечто среднее между визгом и зевком. С минуту помолчал, словно проверяя, как этот звук подействовал на дам, однако они продолжали сидеть, бесстрастно созерцая его. Тогда он подпрыгнул раз-другой на суку, вероятно, призывая их быть более внимательными, затем поднял крылья над спиной и сильно захлопал ими, точно готовился совершить триумфальный полет, после чего широко расправил крылья и наклонил голову так, что она скрылась под перьями. Снова поднял крылья и похлопал ими, потом покружился на месте, чтобы поразить самок зрелищем своей великолепной белоснежной груди. Под мелодичную воркующую руладу он неожиданно расправил длинные боковые перья; казалось — забил фонтан с пепельно-серыми, светло-желтыми и изумрудно-зелеными струями, которые колыхались в лад его песнопению. Затем кавалер поднял короткий хвост и прижал его к спине, так что два длинных стержня изогнулись над головой, свесив зеленые медальоны по бокам желтого клюва. Плавно наклоняясь из стороны в сторону, он заставил медальоны качаться наподобие маятников; создалось впечатление, что птица жонглирует ими. То поднимая, то опуская голову, артист пел, не жалея своего горлышка, и зеленые медальоны так и мелькали в воздухе.
А самкам хоть бы что. Они глядели на солиста со снисходительным интересом двух домашних хозяек, которые попали на показ дорогих моделей женского платья и готовы восхищаться невиданными нарядами, однако сознают, что им такая роскошь никак не по карману. Тогда самец, как бы решив сделать последнюю, отчаянную попытку расшевелить публику, вдруг повернулся кругом, выставляя на обозрение изумительно алую спину, весь изогнулся и широко раскрыл клюв, демонстрируя светло-зеленые поверхности, отливающие таким блеском, словно их только что покрасили. Некоторое время он пел в этой позе, затем песня стала стихать, и роскошное трепещущее оперение медленно опадало, все плотнее облегая тело. Самец выпрямился и немного постоял так, глядя на самок. Они смотрели на него, как смотрят зрители, ожидающие от иллюзиониста после эффектного фокуса еще какого-нибудь трюка. Самец несколько раз тихо чирикнул, снова запел и вдруг повис на суку вниз головой. Продолжая петь, расправил крылья и заходил взад-вперед по суку в такой необычной позе. Судя по тому, что одна из самок вопросительно наклонила голову набок, этот акробатический трюк наконец-то заинтриговал ее. Мне была совершенно непонятна вялая реакция дам, ибо сам я был ослеплен и очарован великолепными красками и пением солиста. Походив с минуту по суку вниз головой, самец собрал крылья и начал плавно раскачиваться, не прекращая страстных песнопений. Казалось, легкий ветерок колеблет диковинный алый плод, висящий на синих плодоножках.
Тут одна из самок со скучающим видом снялась с ветки и улетела в другой конец вольера. Но оставшаяся — та, что наклонила голову, — не сводила глаз с самца. Быстро взмахнув крыльями, он вернулся в нормальное положение на суку, явно довольный собой — и по праву, сказал бы я. С волнением ждал я, что теперь последует. Самец замер, только перья переливались разными тонами в солнечных лучах. А самка обнаружила несомненные признаки возбуждения. Я не сомневался, что она покорена фантастическим брачным ритуалом, который в моих глазах был столь же неожиданным и великолепным, как вспышка многоцветного фейерверка. Так, взлетела… Сейчас, говорил я себе, она поздравит самца с блестящим выступлением и немедля заключит брачный союз. И как же я был удивлен, когда самка, опустившись на сук рядом с ним, склюнула беззаботно ползущего по коре жучка и с довольным квохтаньем удалилась в другой конец вольера! Самец расправил перья и с покорным видом принялся чистить их клювом, а я подумал, что эти самки либо на редкость жестокосердны, либо начисто лишены эстетического чувства, если остались безучастны к такому представлению. От души соболезновал я самцу, чье замечательное искусство осталось неоцененным. А он, похоже, вовсе не нуждался в моем сострадании: обнаружив другого жучка, самец издал торжествующий клич и с упоением принялся клевать свою жертву. Провал на сердечном фронте явно ничуть его не обескуражил.
Не все пернатые танцуют так прекрасно, как райские птицы, и не все могут похвастать столь красивым нарядом, однако это вполне возмещается оригинальностью подхода к противоположному полу. Возьмем, к примеру, шалашников. На мой взгляд, их приемы ухаживания относятся к самым очаровательным во всем животном царстве. Атласный шалашник не такой уж красавец: величиной с дрозда, он одет в темно-синее оперение, отливающее на солнце металлическим блеском. Честно говоря, он выглядит так, словно донашивает старый, лоснящийся костюм из синего сержа; казалось бы, нечего и рассчитывать, что самка закроет глаза на убожество его одежды. И все же он покоряет ее, покоряет чрезвычайно хитроумным способом, а именно — сооружает будуар для своей возлюбленной.
Я и на этот раз обязан зоопарку, где мне посчастливилось увидеть, как атласный шалашник строит храм любви. Облюбовав две большие кочки посреди своего вольера, он тщательно расчистил широкое кольцо вокруг кочек и разделяющий их просвет. Затем наносил прутики, солому и куски бечевки и сплел с травой так, что получилось некое подобие туннеля. Только на этой стадии я и обратил внимание на его труды. А шалашник, довершив строительство летней беседки, уже принялся украшать ее. Сперва примостил две пустые раковины, потом раздобыл серебристую обертку от сигарет, клок шерсти, шесть пестрых камешков и веревочку с налипшим на нее сургучом. Полагая, что он не прочь продолжить декорирование, я предложил ему цветные шерстинки, несколько разноцветных морских раковин и автобусные билеты.
Шалашник был очень доволен. Подлетая к проволочной сетке, он осторожно брал из моих пальцев каждый предмет и возвращался вприпрыжку к беседке. Примостит очередную деталь, отойдет, посмотрит и снова прыгнет вперед, чтобы передвинуть билет или шерстинку в поисках более эстетического, на его взгляд, решения. В окончательном виде беседка и впрямь выглядела прелестно, и конструктор принялся чистить перышки, вытягивая вперед то одно, то другое крыло, словно указывая с гордостью на результаты своей работы. Потом нырнул раз-другой в туннель, поправил пару ракушек и снова начал красоваться, расправив одно крыло. Ничего не скажешь, славно потрудился, и я с сожалением подумал, что все его старания были впустую: самка не дожила до этого дня, и компанию шалашнику составляли обыкновенные крикливые вьюрки, которые в высшей степени безразлично относились к его архитектурным достижениям и выставке семейных сокровищ.
Атласный шалашник — один из немногих представителей пернатых, применяющих орудия: пользуясь пучком волокон как кисточкой, он иногда раскрашивает прутики своей беседки, причем красителем служат сок ярких ягод и влажные угольки. Увы, к тому времени, когда я вспомнил об этом и приготовился снабдить своего поднадзорного синей краской и куском старой веревки — шалашники особенно любят синий цвет, — он уже потерял интерес к постройке, его не вдохновил даже полный набор картинок, изображающих солдат в мундирах разных эпох.
Другой представитель шалашниковых сооружает еще более внушительное жилище, высотой до полутора метров и больше, нагромождая возле двух деревьев прутики и делая из вьюнков кровлю. Внутреннее помещение аккуратно выстилается мхом, а снаружи сей тороватый джентльмен с изысканным вкусом украшает свою беседку орхидеями. Перед входом он устраивает маленькую клумбу из зеленого мха, на которой раскладывает всевозможные яркие цветы и ягоды, какие только можно найти в округе, причем ежедневно обновляет экспозицию, унося за беседку все увядшие украшения.
У млекопитающих ухаживание, естественно, не носит такого театрализованного характера, как у птиц. Вообще млекопитающим явно присущ более приземленный, я бы даже сказал — современный подход к вопросам любви.
Когда я работал в зоопарке «Уипснейд», мне довелось наблюдать брачный ритуал двух тигров. Самка была робким, подобострастным существом; стоило супругу чуть рявкнуть, как она сжималась в комок. Так продолжалось, пока у нее не началась течка, после чего она вдруг превратилась в опасного и коварного зверя. Тигрица вполне сознавала свою привлекательность, но не спешила принять ласки супруга, который все утро униженно следовал за ней, прижимаясь брюхом к земле, причем нос его украшали глубокие кровавые царапины, оставленные ее когтями. Всякий раз, как он, забывшись, оказывался чересчур близко, она отмахивалась лапой, и удар приходился прямо по носу ухажера. Если же он, обидевшись, забивался под куст, самка с громким мурлыканьем подходила и терлась об него. В конце концов он вставал и снова принимался ходить за ней, подбираясь все ближе и ближе, пока не получал очередную затрещину.
Но вот тигрица завела его в лощину с высокой травой, легла на землю и с полузакрытыми глазами замурлыкала себе под нос. Кончик ее хвоста черно-белым шмелем метался в траве, и одурманенный бедняга-супруг ловил его, будто котенок, легонько ударяя широченными лапищами. Наконец самке надоело играть роль соблазнительницы, она прильнула к земле и издала мурлыкающий стон. Глухо рыкая, тигр приблизился. Тигрица опять простонала и подняла голову; самец в это время ласково покусывал ее загривок своими мощными клыками. Снова из глотки тигрицы вырвалось удовлетворенное мурлыканье, и два огромных полосатых тела слились воедино в зеленой траве.
Не все млекопитающие могут похвастать такой яркой и нарядной окраской, как тигры, а потому многие из них полагаются на мускульную силу и прибегают в борьбе за самку к тактике троглодита. Взять хотя бы бегемотов. Глядя на лежавшего в воде громадного тучного зверя, который кротко и простодушно таращит на вас выпуклые глаза, время от времени издавая ленивый удовлетворенный вздох, разве можно поверить, что он способен на вспышку дикой ярости из-за самки? Впрочем, если вы видели, как бегемот зевает, демонстрируя торчащие с обеих сторон четыре огромных и острых кривых клыка (а между ними, словно шипы из слоновой кости, притаились еще два поменьше), вам не надо объяснять, чем они грозят сопернику.
Во время одной из моих экспедиций в Западную Африку мы разбили лагерь на берегу реки, в которой обитало небольшое стадо бегемотов. Они явно жили мирно и благополучно, и каждый раз, когда мы отправлялись куда-нибудь на лодке, сопровождали ее часть пути. Вертя ушами и время от времени громко фыркая в воде, бегемоты подплывали совсем близко и с любопытством рассматривали нас. Насколько я мог судить, стадо состояло из четырех самок и двух самцов — один пожилой тяжеловес, другой помоложе. Кроме того, при одной из самок находился детеныш; достаточно крупный и толстый, он тем не менее был не прочь покататься на спине своей мамаши. Как я уже заметил, казалось, что все они живут в полном согласии. Но однажды вечером, едва начало темнеть, мы услышали рев и крики, напоминающие хоровое выступление помешанных ослов. Дикие вопли перемежались паузами, которые нарушались фырканьем или плеском воды. По мере того как сгущалась темнота, крики становились все громче, а паузы реже, и, поняв, что мне вряд ли придется заснуть, я решил проверить, в чем дело. Сел в лодку и спустился к излучине метрах в двухстах от лагеря, где бурный поток вырыл глубокую заводь и набросал на берег широкий полукруг ослепительно белого песка. Я знал, что там находится любимое прибежище гиппопотамов; и как раз оттуда доносился страшный шум. Сегодня там явно творилось что-то неладное: обычно в эти вечерние часы команда толстяков выходила из воды и топала вдоль берега, чтобы совершить набег на огород какого-нибудь незадачливого крестьянина, теперь же, хотя время кормежки давно наступило, они все еще оставались в заводи. Причалив к песчаному берегу, я приискал себе удобную точку, чтобы лучше видеть происходящее. Можно было не опасаться, что меня услышат — дикий рев, и мычание, и плеск воды совершенно заглушали хруст песка под моими ногами.
В первые минуты я не увидел ничего, кроме белых вспышек пены там, где возились бегемоты. Но вот взошла луна и озарила ярким светом самок и детеныша. Они сбились в кучу на краю заводи и, высунув из воды лоснящиеся головы с беспокойно вертящимися ушами, время от времени разевали пасти, чтобы издать громкие крики наподобие греческого хора. Глаза их неотрывно следили за двумя самцами, которые стояли на отмели посередине заводи. Вода доходила самцам до брюха; огромные бочковидные туши и жирные складки на шее блестели, будто намасленные. Наклонив головы, соперники смотрели друг на друга и фыркали, что твой паровоз. Внезапно молодой самец вскинул свою огромную голову, распахнул пасть, сверкая клыками в лунном свете, и издал жуткий протяжный крик. Не успел он замолкнуть, как старик, оскалив зубы, бросился на него с непостижимой для такого тяжеловеса прытью. И так же прытко молодой бегемот отпрянул в сторону. Старик вспенил воду не хуже какого-нибудь диковинного линкора и набрал такую скорость, что не смог вовремя затормозить; пользуясь этим, соперник сделал выпад вбок и вонзил ему в плечо свои страшные зубищи. Старик развернулся и снова пошел в атаку. В ту самую секунду, когда он поравнялся с противником, луна скрылась за облаком, а когда она выглянула снова, бойцы опять стояли в исходном положении, мордой друг к другу, наклонив голову и фыркая.
Два часа сидел я на песчаной косе и смотрел, как дородные дуэлянты дубасят друг друга, взбалтывая воду и песок. Насколько я мог судить, старику доставалось больше. Нельзя было не посочувствовать ветерану. Словно великий в прошлом боксер, который с годами обрюзг и утратил живость движений, он продолжал бой, хотя заведомо был обречен на поражение. Молодой самец, более легкий и подвижный, свободно увертывался от всех выпадов, зато его зубы без промаха поражали цель — плечо или загривок старика. Самки все так же наблюдали за боем издали, семафоря ушами и время от времени издавая мрачные вопли, выражающие то ли сострадание попавшему в переделку старцу, то ли восторг при виде успехов его молодого соперника. Впрочем, скорее всего они кричали просто от возбуждения.
В конце концов, поскольку было похоже, что бой продлится еще не один час, я вернулся на лодке в селение и лег спать.
Небо только-только начало светлеть на горизонте, когда я проснулся. Бегемоты молчали; видимо, поединок кончился. Я надеялся, что победил старик, хотя и сильно сомневался в этом. Окончательный ответ я услышал еще до полудня от одного из моих охотников: он доложил, что километрах в трех ниже по течению, где река огибала песчаную косу, в излучине обнаружен труп старого бегемота. Спустившись к месту находки, я с ужасом увидел, как искалечили могучее тело ветерана зубы молодого самца. Плечи, загривок, широкие складки на шее, бока, брюхо — все распорото, и вода вокруг мертвой туши порозовела от крови. Вместе со мной пришли все жители селения; такая гора мяса была для них подлинным даром небес. Они с любопытством следили, пока я осматривал тушу, и, как только я отошел в сторону, облепили ее, словно муравьи. Толкаясь и крича от возбуждения, африканцы лихо орудовали своими ножами и мачете. Дорогая цена за любовь, думал я, глядя, как огромная туша исчезает на глазах под натиском голодных людей.
Мы говорим о страстных натурах, что у них горячая кровь, а между тем в мире животных холоднокровные могут поспорить в исполнении брачного ритуала с теплокровными. Поглядите на обыкновенного крокодила, когда он с неизменной сардонической ухмылкой лежит на берегу, созерцая немигающими глазами живые картины скользящего перед ним потока, — казалось бы, какой из него любовник? Но когда приходит час, и место подходящее, и дама хороша, он готов ради нее идти на бой. Глядишь, завертелись кубарем в воде два самца, колотя и кусая друг друга. После схватки ликующий победитель исполняет диковинные па: задрав кверху голову и хвост и трубя, словно туманный горн, он описывает на воде круг за кругом. Видимо, сей танец рептилий соответствует нашему старомодному вальсу.
У пресноводных черепах можно встретить примеры отношения к представительницам слабого пола, выраженного в известной фразе: «Держи ее в ежовых рукавицах, и она будет тебя любить». Плавательные конечности этих черепах оснащены перепонками и острыми когтями, причем у одного вида когти особенно длинные. Плывет такой самец и вдруг замечает симпатичную самку. Тотчас он преграждает путь избраннице и принимается бить ее по голове своими длинными когтями, да так быстро, что не уследить за их мельканием, видно лишь неясное пятно. И самка явно ничуть не обижается, напротив, похоже, что ей приятно такое ухаживание. Но ведь нельзя же, пусть ты всего-навсего черепаха, сразу уступить домогательствам кавалера. Надо изобразить недотрогу, хотя бы на короткое время, и черепаха, свернув в сторону, как ни в чем не бывало плывет дальше. Одержимый неистовой страстью самец догоняет беглянку, останавливает, прижимает к берегу и задает ей новую трепку. Эта сцена может повторяться несколько раз, прежде чем самка даст согласие делить с ним хлеб и кров. Что бы ни говорили о рептилиях, лицемером этого джентльмена не назовешь, он с первых шагов дает своей даме сердца понять, что ее ожидает. Причем столь бурное заигрывание ее отнюдь не возмущает; скорее, она приветствует оригинальные знаки внимания. Так ведь давно известно, что на вкус и цвет товарищей нет. Даже среди людей.
И все же, если говорить об изобретательности и выдумке в делах любви, я бы отдал пальму первенства насекомым.
Возьмем богомола — да стоит только взглянуть на эту физиономию, и вас уже не удивят никакие подробности его личной жизни. Малюсенькая голова, огромные выпуклые глазищи на крохотном заостренном личике с трепещущими усиками… А окраска глаз? Посреди бледной, водянисто-желтой радужки — черный кошачий зрачок, придающий насекомому вид безумного маньяка. Из переднего отдела груди торчат вооруженные грозными шипами мощные ноги; постоянно согнутые в ханжески-молитвенном жесте, они готовы в любую секунду выпрямиться и сокрушить жертву в крепком объятии, уподобляясь зубчатым ножницам. Еще у богомолов взгляд какой-то неприятный. Они совсем по-человечьи вертят головой — наклонят набок свою рожицу и удивленно таращат на вас безумные глаза. Или, если вы зашли сзади, глядит на вас через плечо, будто выжидая, что последует. Честное слово, только самец этого племени способен усмотреть что-то привлекательное в самке. Да и то, казалось бы, здравый смысл должен подсказать ему, что от невесты с такой физиономией лучше держаться подальше. Куда там, на моих глазах опьяненный любовью самец страстно обнял свою избранницу, и в тот самый миг, когда они осуществляли брачные отношения, супруга тихо повернула голову назад и принялась уписывать его. Словно гурман, откусывала она от висящего на ее спине трупика блестящие кусочки и смаковала их, и нежные усики ее трепетали в лад жующим челюстям.
Как известно, среди пауков тоже есть самки, у которых выработалась нехорошая привычка закусывать супругом, так что самец, приближающийся к паутине избранницы, подвергает себя немалой опасности. Если паучиха голодна, не исключено, что он даже не успеет, как говорится, рот раскрыть для объяснения в любви, как превратится в аккуратно связанный узелок и мадам примется высасывать из него жизненные соки. У одного вида пауков самец разработал способ, позволяющий ему приблизиться вплотную к самке и массажем привести ее в милостивое расположение духа без риска быть съеденным. Он приносит паучихе маленький подарок — падальную муху или еще что-нибудь в этом роде — в красивой обертке из шелковистой нити. Пока избранница уписывает дар, кавалер заходит сзади и начинает поглаживать ее ногами, так что она впадает в подобие транса. Иногда ему удается уйти живьем после свадьбы, но чаще он бывает съеден в конце медового месяца. Поистине, единственный путь к сердцу паучихи ведет через ее желудок.
Самец другого вида изобрел еще более хитроумное средство для укрощения своей свирепой супруги. Приблизившись и усыпив возлюбленную легким поглаживанием, он быстро-быстро привязывает ее шелковым шнурком к земле, и, когда паучиха просыпается на брачном ложе, ей уже невозможно сделать свадебный завтрак из супруга, пока она не распутает все узлы. Обычно за это время паук успевает унести ноги.
Кстати, чтобы наблюдать действительно экзотический роман, вам вовсе не надо отправляться в тропические дебри: пойдите в свой собственный сад и понаблюдайте за обыкновенной улиткой. Вашим глазам предстанет сюжет, достойный наисовременнейшей повести, ибо улитки — гермафродиты, так что в ухаживании и спаривании каждой из них доступны утехи самца и самки. Но еще более удивительно, что в теле улитки есть нечто вроде мешочка, в котором образуется крохотный листовидный кусочек извести, получивший название любовной стрелы. И вот, когда встречаются две улитки — обе, как я уже говорил, двуполые, — они приступают к весьма необычной любовной игре, вонзая друг в друга любовные стрелы, которые проникают глубоко в ткань и довольно быстро там рассасываются. Судя по всему, поединок этот не причиняет боли дуэлянтам, напротив, стрелы явно вызывают приятное, возбуждающее ощущение. Во всяком случае, обменявшись уколами, оба партнера не мешкая заключают брачный союз.
Я не садовник, а то непременно отвел бы в своем саду тихий уголок для улиток. И пусть бы ели мою зелень: для существа, которое обходится без услуг Купидона, которое носит при себе собственный колчан со стрелами любви, право же, не жаль какой-то там скучной бесполой капусты. Я почитал бы честью для себя присутствие в моем саду такого обитателя.

Глава четвертая
Животные строят

Не так давно я получил посылочку от одного моего друга из Индии. К ней была приложена записка: «Держу пари, ты не угадаешь, что это такое». Крайне заинтригованный, я снял обертку и увидел два небрежно сшитых вместе листа.
Мой друг проиграл бы пари, если бы оно состоялось. При первом же взгляде на крупные и не очень-то ловкие швы мне стало ясно, что передо мной предмет, который я много лет мечтал увидеть: гнездо славки-портнихи. Оба листа, напоминающие формой листья лавра, были длиной около пятнадцати сантиметров; сшитые вместе по краям, они образовали остроконечный мешочек. Внутри мешочка помещалось аккуратное гнездышко из травы и мха, а в гнездышке лежали два крохотных яйца. Славка-портниха — маленькая птичка, величиной с синицу, но клюв у нее довольно длинный, он-то и служит иглой. Присмотрев растущие рядом листья, птица сшивает их тонкой ниткой. Однако самое удивительное даже не это, а тот факт, что никто толком не знает, откуда портниха берет нитки. Одни специалисты утверждают, что она скручивает их сама из растительного пуха, другие предполагают существование еще какого-то, до сих пор не обнаруженного источника. Швы, как я уже сказал, были крупные и неровные, но много ли людей, если на то пошло, сумели бы красиво сшить два листа, пользуясь клювом вместо иглы?
Архитектурное искусство развито в животном царстве далеко не равномерно. Некоторые животные весьма смутно представляют себе, как надлежит сооружать пристойную обитель, тогда как другие создают прелестные, весьма хитроумные жилища. Странно, что даже среди родственных видов наблюдается великое разнообразие вкусов при выборе оформления, расположения и размеров жилья, а также строительных материалов.
У пернатых, как известно, можно видеть гнезда самых разных видов и размеров. Тут и славка-портниха с ее лиственной колыбелькой, тут и императорский пингвин, располагающий для строительства только снегом, а потому вовсе отказавшийся от идеи гнезда. Пингвин укладывает яйцо поверх своих широких плоских лап и накрывает его, словно сумкой, перьями и кожей собственного живота. Стриж салангана лепит хрупкое чашевидное гнездо из своей слюны и прутиков, прикрепляя его на стену пещеры. Поражают многообразием жилища африканских ткачиков.
Колонии одного из видов строят гнездо величиной с полкопны сена, получается нечто вроде многоэтажного дома, где каждая птица занимает отдельную квартиру. Наряду с законными жильцами в этих гигантских гнездах подчас селятся самые неожиданные квартиранты — белки, галаго и даже змеи. Разбирая такое сооружение на части, кого только не увидишь! Немудрено, что известны случаи, когда деревья не выдерживали тяжести громоздких конструкций и ломались. Обыкновенные западноафриканские ткачики сплетают из пальмового волокна аккуратные круглые гнезда, похожие на небольшие корзины. Они тоже живут колониями; поглядишь на дерево — сплошь увешано гнездами, словно какими-то диковинными плодами. Голосистые жильцы в блестящем оперении ухаживают друг за другом, высиживают яйца, выкармливают отпрысков и совсем по-человечьи препираются с соседями — словом, все, как в жилищном товариществе.
Чтобы устроить такое жилище, птице надо было научиться не только ткать, но и завязывать узлы: ведь гнезда очень крепко привязаны к ветвям, не сразу оторвешь. Однажды я наблюдал ткачика за работой — это было увлекательное зрелище. Вознамерившись укрепить гнездо на самом конце тонкой ветки примерно посередине ствола, птица села на нее, держа в клюве длинное пальмовое волокно. Ветка начала сильно качаться под весом ткачика, пришлось ему взмахивать крыльями, чтобы не сорваться. Добившись относительного равновесия, он принялся манипулировать волокном, пока не ухватил его посередине, после чего стал пристраивать на ветке так, чтобы два кончика свисали с одной стороны, а петля — с другой. Ветка продолжала качаться, ткачик дважды ронял волокно и ловил его на лету, но в конце концов оно легло правильно. Придерживая волокно одной ногой, ткачик наклонился вперед и в крайне неустойчивом положении ухитрился продернуть оба кончика сквозь петлю и туго затянуть узел. Управившись с этим делом, он полетел за новым волокном и повторил маневр. Так продолжалось целый день, и к вечеру на ветке висела целая борода из тридцати-сорока волосинок.
К сожалению, мне не довелось проследить, как дальше развивалось строительство. В следующий раз, когда я смог вернуться к этому дереву, гнездо было пусто; очевидно, жильцы уже вывели потомство и улетели. Гнездо напоминало формой оплетенную бутыль; перед узким круглым входом было нечто вроде маленького крыльца, сплетенного из волокон. Я попробовал снять гнездо с ветки — куда там, пришлось сломать ветку. У меня было задумано разделить гнездо на две части, чтобы рассмотреть его внутренность. Волокна были переплетены так хитроумно и связаны так крепко, что я потратил на это немало времени и сил. Право же, поразительная конструкция, если учесть, что ее создатель не располагал никакими другими орудиями, кроме собственного клюва и ног.
Когда я путешествовал по Аргентине, мне бросилось в глаза, что чуть ли не каждый пень и столбик в пампе украшены диковинной глиняной нашлепкой величиной с футбольный мяч. Сперва я решил, что это термитники, очень уж «мячи» походили на столь типичные для западноафриканского ландшафта жилища термитов. И лишь после того, как я увидел на одной нашлепке пухлую пичугу величиной с зарянку, с ржаво-красной спиной и серой манишкой, я понял, что это гнезда печника.
Отыскав необитаемое гнездо, я осторожно рассек его пополам. Искусство пернатого строителя изумило меня. Влажная глина была для прочности перемешана с травинками, корешками и волосом. Толщина стенок — около четырех сантиметров. Наружные поверхности оставлены без отделки, зато внутренние — гладкие, как стекло. Вход представлял собой отверстие в форме арки, вроде церковных врат, дальше следовал узкий коридор, который, изгибаясь вдоль стены, приводил в круглую гнездовую камеру, выстланную перьями и мягкими корешками. Во всей конструкции было что-то от домика улитки.
Хотя я обследовал довольно обширную площадь, мне не удалось найти только что начатое гнездо, поскольку брачный сезон уже был в разгаре. Все же мне попалось одно, завершенное наполовину. Печники широко распространены в Аргентине; своими движениями и манерой рассматривать вас блестящими темными глазами, наклонив голову набок, они напоминали мне английскую зарянку. Пара, которую я застал за строительством жилья, не обращала на меня внимания, пока я соблюдал дистанцию около трех с половиной метров; лишь иногда пичуги подлетали поближе, обозревали меня, взмахивали крылышками, как будто пожимали плечами, и возвращались к работе. Основание гнезда было прочно прикреплено к столбику изгороди; наружные стены и стенка внутреннего прохода возведены на высоту десять — двенадцать сантиметров. Оставалось лишь накрыть гнездо куполообразной крышей.
За влажной глиной пернатым строителям приходилось летать на берег мелкого залива примерно в километре от столбика. Озабоченно, с важным видом прыгали печники вдоль воды, проверяя глину через каждые полметра-метр. Им нужен был строительный материал определенной вязкости. Найдя требуемое, они принимались возбужденно скакать, собирая полные клювы корешков и травинок; так и казалось, что у них вдруг выросли моржовые усы. С запасом арматуры птицы возвращались на облюбованный клочок цементирующего раствора и ловкими движениями клюва смешивали глину с корешками и травинками, отчего их моржовые усы приобретали далеко не опрятный вид. Издав приглушенный крик торжества, супруги летели к гнезду, клали на место строительный материал и начинали утаптывать его и уплотнять клювом. Нарастят таким способом стену — забираются внутрь гнезда и разглаживают свежий участок клювом, грудкой и даже крыльями, доводя его до блеска.
Когда печникам оставалось закончить лишь самый верх купола, я разбросал там, где они брали глину, ярко-красные шерстинки. К моему удовольствию, пернатые строители оценили заботу, и я увидел не совсем обычное зрелище — двух ржаво-красных пичуг с длинными алыми усами. Шерстинки тоже пошли в дело. Думается, на всей аргентинской пампе не нашлось бы другого гнезда печников с красным вымпелом на куполе.
Если печники — подлинные мастера строительного дела (их гнездо не сразу и молотком-то разобьешь), то голуби представляют другую крайность. У них совсем нетникакого понятия о том, как следует строить гнездо. Четыре-пять палочек, брошенных на развилке сука, — вот верх сложности в представлении среднего голубя. На такой ненадежной платформе откладываются яйца, их бывает обычно два. Когда ветер раскачивает дерево, хилое гнездо трясет так, что яйца только чудом не вываливаются. Как все голуби давно не перевелись, для меня остается загадкой.
Я знал, что голубь никудышный, бездарный строитель, но мне не приходило в голову, что его гнезда могут доставить большие неприятности натуралисту. В Аргентине я убедился в этом на собственной шкуре. На берегу реки под Буэнос-Айресом я попал в рощу, где все деревья (высота их не превышала десяти метров) были заняты голубиной колонией. На каждом дереве — по тридцать — сорок гнезд. Идя через рощу, можно было снизу рассмотреть между небрежно положенными палочками толстенький живот птенца или поблескивающее яйцо. Гнезда выглядели настолько ненадежными, что так и хотелось идти на цыпочках, чтобы мои шаги не нарушили шаткого равновесия.
Посреди рощи стояло дерево с множеством гнезд, которые почему-то были покинуты голубями. На самой макушке громоздилось массивное сооружение из прутиков и листьев — несомненно, гнездо, и, так же несомненно, не голубиное. Может быть, обитатель этой не очень эстетической конструкции как раз и повинен в том, что голуби бросили свои гнезда? Я решил влезть на дерево и посмотреть, дома ли хозяин. К сожалению, я с некоторым опозданием осознал свой промах: чуть не в каждом голубином гнезде лежали яйца, и мое продвижение вверх по стволу вызвало подлинный яичный водопад. Яйца градом сыпались на меня и разбивались, украшая мою одежду узорами из желтка и скорлупы. Это бы еще ничего, но яйца все до одного протухли, и к тому времени, когда я, обливаясь потом, добрался до макушки, от меня разило то ли кожевенным заводом, то ли выгребной ямой. А тут еще новое унижение: хозяин гнезда отсутствовал, так что за все мои усилия я был вознагражден лишь густой обмазкой из желтка да ароматом, которому позавидовал бы и скунс. С трудом спустился я вниз, мечтая поскорее закурить сигарету, чтобы вытеснить из ноздрей едкий запах тухлятины. Земля под деревом была усеяна разбитыми яйцами вперемешку с разлагающимися трупиками нескольких птенцов. Пулей выскочив из рощи, я сел, облегченно вздохнул и полез рукой в карман за сигаретами. Пачка, которую я вытащил, была мокрая от яичного желтка… Пока я карабкался вверх, одно яйцо каким-то чудом угодило прямо в карман — и пропали мои сигареты. Пришлось топать три километра до дома, дыша мерзким запахом тухлятины, причем вид у меня был такой, словно я без особого успеха участвовал в состязании кулинаров на лучший омлет. С той поры я как-то недолюбливаю голубей.
Млекопитающие в целом уступают птицам как строители, однако есть и среди них большие мастера. Барсук, например, роет замысловатейшие норы, причем последующие поколения нередко добавляют новые ходы, и получаются настоящие катакомбы с коридорами, тупиками, спальнями, детскими комнатами и столовыми. Еще один знаменитый строитель — бобр. Его обитель находится наполовину под водой; толстые стены выложены из хвороста, скрепляемого илом. Подземный ход позволяет животным входить и выходить из хатки даже в тех случаях, когда водоем покрыт льдом. Кроме того, бобры устраивают каналы, чтобы сплавлять бревна, предназначенные для ремонта плотин или для корма. Бобровая плотина — подлинный шедевр: на сотни метров тянутся подчас массивные сооружения из плотно уложенных стволов, скрепленных глиной или илом. Любая щель немедленно заделывается, чтобы вода не ушла и не открыла доступ в жилище хищному врагу. Глядя на хатки, каналы и плотины бобров, естественно заключить, что это чрезвычайно мудрые и сообразительные животные. Увы, это не так. Судя по всему, тяга к строительству плотин — страсть, которую ни один уважающий себя бобр не может подавить, даже если в такой конструкции нет никакой нужды. Поместите бобров в просторный цементный бассейн — они деловито примутся перекрывать его плотиной, чтобы удержать воду…
Но подлинные виртуозы строительного дела в животном царстве, вне всякого сомнения, — насекомые. Достаточно посмотреть, с какой изумительной математической точностью построены соты общественных пчел. Насекомые способны сооружать удивительнейшие гнезда, применяя всевозможные материалы — дерево, бумагу, воск, ил, шелковистые нити, песок. И конструкции тоже отличаются великим разнообразием. Мальчишкой, в Греции, я часами рыскал по мшистым берегам, разыскивая норки ктенизиды, которые можно отнести к замечательнейшим образцам архитектуры в мире животных. Этот паук, если расставит ноги, займет площадь, равную монете средней величины; окраска у него такая, будто он сделан из шоколада. Тело толстое, кургузое, ноги не очень длинные; по внешности ни за что не скажешь, что перед вами существо с талантом к изящной работе. Между тем сей неуклюжий с виду строитель роет норки длиной до пятнадцати сантиметров и больше при ширине в несколько сантиметров и тщательно выстилает их паутиной, так что получается нечто вроде шелковой трубочки. Но самое главное во всей конструкции — люк, круглая крышечка с аккуратно скошенным краем, наглухо закрывающая вход в норку и укрепленная на шарнире из паутины. Сверху она маскируется волосками мха или лишайника и совершенно сливается с окружением. Если вы в отсутствие хозяина откроете люк, то на шелковистой нижней поверхности увидите аккуратные черные ямочки. Это, так сказать, ручки, за которые паук цепляется своими коготками, чтобы не могли войти посторонние. По-моему, единственное существо, способное без восхищения смотреть на изумительную норку ктенизиды, — это сам паук. Ибо для самца, вошедшего в шелковистую трубочку, она является одновременно туннелем любви и смерти. После спаривания в темной обители самка тут же казнит его и съедает.
Одно из моих первых знакомств с животными-архитекторами состоялось в возрасте десяти лет. Я тогда страстно увлекался пресноводной фауной и почти все свободное время проводил на прудах и речках, вылавливая обитающую в них мелюзгу и помещая ее в большие стеклянные банки, которые стояли в моей спальне. Одна из банок была полна личинками ручейников. Эти причудливые создания, напоминающие гусениц, сооружают открытые с одного конца шелковистые трубчатые домики, или чехлики, украшая их снаружи различными материалами для камуфляжа. Мои личинки не могли похвастаться особо красивыми чехликами, потому что были собраны в стоячей луже. Единственными украшениями им послужили кусочки гниющих водорослей.
Однако мне рассказали, что, если извлечь личинку из чехлика и положить в банку с чистой водой, она сделает себе новый домик и украсит его тем, что вы предложите. Я не очень-то в это поверил, но решил все же сделать опыт. С предельной осторожностью извлек из домиков четыре возмущенно извивающиеся личинки, поместил в банку с чистой водой и положил на дно банки горсть крохотных выцветших морских ракушек. С удивлением и радостью увидел я, что личинки повели себя именно так, как мне было сказано. И когда были готовы новые чехлики, они напоминали филигранные корзиночки из ракушек.
Я пришел в такой восторг, что заставил личинок трудиться без передышки. Им то и дело приходилось мастерить себе новые чехлики, украшенные самыми неожиданными декоративными материалами. Кульминационный момент наступил, когда я обнаружил, что можно принудить личинки делать разноцветные домики, если перенести их в другую банку, не дожидаясь, пока конструкция будет завершена. В некоторых случаях я получил таким способом весьма диковинные изделия. Помню домик, одна половина которого была изумительно отделана ракушками, а другая — кусочками древесного угля. Но высшим достижением были три чехлика, декорированных синими стеклышками, кусочками красного кирпича и белыми ракушками. Причем цвета чередовались; правда, полоски были неровные, но все же достаточно явственные, как на английском флаге.
В моих коллекциях и после побывало предостаточно животных, которыми я гордился, и все же никогда я не испытывал такого удовлетворения, как в то время, когда хвастался перед друзьями красно-бело-синими чехликами. Подозреваю, что бедные личинки были счастливы, когда превратились наконец во взрослых насекомых и избавились от необходимости строить домики.

Глава пятая
Животные сражаются

Помню, как я в Греции лежал на пропеченном солнцем склоне холма, поросшего узловатыми маслинами и миртовым кустарником, и наблюдал бушующую у самых моих ног затяжную и жестокую войну. На мою долю выпала редкостная удача быть, так сказать, военным корреспондентом на поле боя. Я впервые оказался свидетелем такой войны и глядел во все глаза.
Обе армии состояли из муравьев. Атаковали поблескивающие на солнце ярко-рыжие муравьи, оборонялись угольно-черные. Я вполне мог прозевать эту схватку, если бы задолго до того не обратил внимание на один крайне необычный муравейник. Его населяли два вида муравьев — рыжие и черные, причем они жили в полном согласии. Раньше мне не доводилось видеть такого сочетания, поэтому я обратился к справочникам и выяснил, что рыжие — они были подлинными хозяевами муравейника — получили выразительное прозвище «рыжих рабовладельцев», а черные — и впрямь их рабы, захваченные в плен и порабощенные еще на стадии куколок. Ознакомившись по книгам с нравами «рабовладельцев», я взял муравейник под наблюдение, надеясь сам увидеть, как рыжая армия отправляется в поход за невольниками. Но проходили месяцы, и я начал думать, что эти «рабовладельцы» слишком обленились или же их вполне устраивает то количество рабов, которым они располагают.
Крепость рыжих располагалась подле корней маслины; в десяти метрах ниже по склону обосновались черные муравьи. Однажды утром, проходя мимо них, я заметил, что приблизительно в метре от муравейника снует отряд «рабовладельцев». Я остановился. На довольно большой площади рассыпалось три-четыре десятка рыжих муравьев. Это не были фуражиры, быстрые движения которых подчинены сосредоточенному поиску. Рыжие описывали неторопливые круги, иногда взбирались на травинку и поводили усиками, застыв на ее верхушке. Время от времени два муравья встречались и словно затевали оживленный разговор, соприкасаясь усиками. Понадобилось некоторое время, прежде чем я сообразил, что происходит. Передвижения рыжих муравьев были вовсе не такими бесцельными, как мне показалось поначалу; они рыскали, точно свора охотничьих псов, досконально изучая путь, по которому предстояло пройти их армии.
Черные муравьи были явно встревожены. Столкнувшись с рыжим разведчиком, черный муравей обращался в бегство и спешил к своему муравейнику, чтобы присоединиться к сбившимся в кучки, возбужденно совещающимся сородичам. Два дня разведчики «рабовладельцев» занимались рекогносцировкой местности, и я начал склоняться к мысли, что они посчитали крепость черных муравьев неприступной. Но, придя на склон утром третьего дня, обнаружил, что война уже началась.
Разведчики в сопровождении четырех-пяти небольших отрядов сблизились с черными муравьями, и на отдельных участках фронта в метре от осаждаемого муравейника шли бои местного значения. Черные муравьи с каким-то истерическим неистовством бросались на рыжих, а те медленно, но верно отступали, время от времени хватая какого-нибудь противника и безжалостным, резким движением своих могучих челюстей прокусывая ему голову или брюшко. Примерно на середине склона я застал марширующие вниз главные силы «рабовладельцев». Часом позже они приблизились к муравейнику черных на метр-полтора, после чего с поразившей меня изумительной четкостью разделились на три колонны. Одна колонна двинулась прямо на муравейник, а две другие, образовав цепочку, пошли в обход, чтобы взять противника в клещи. Удивительное зрелище! Я чувствовал себя так, словно чудом был вознесен в воздух над каким-нибудь историческим полем битвы — Ватерлоо или что-нибудь в этом роде. Я видел как на ладони расположение войск атакующей и обороняющейся сторон, видел поспешающее через травяную чащу подкрепление и подступающие все ближе к муравейнику обходные отряды, меж тем как черные муравьи, не подозревая об их маневре, все силы бросили против центральной колонны. Для меня было совершенно очевидно, что черные обречены, если вовремя не обнаружат, какая опасность нависла над ними. Я разрывался между стремлением как-то помочь осажденным и желанием оставить все как есть, чтобы проследить, чем это кончится. В конце концов я поймал черного муравья и посадил его на землю перед идущими в обход рыжими, но его тотчас обнаружили и умертвили, и я почувствовал себя виновником его гибели.
Все же черные муравьи наконец заметили, что им грозит полное окружение. В лагере осажденных началась паника, черные заметались взад-вперед; некоторые, потеряв от страха голову, устремлялись навстречу рыжим воинам и погибали. Но более хладнокровные ринулись в глубь муравейника и принялись спасать куколок, вынося их на поверхность и складывая подальше от наступающего врага. Здесь другие члены колонии подхватывали куколок, чтобы доставить их в безопасное место.
Они опоздали. Аккуратные цепочки обходных отрядов внезапно рассыпались и наводнили весь участок сплошным красным потоком. На каждом сантиметре шли поединки. «Рабовладельцы» набрасывались на черных муравьев, сжимающих в своих челюстях куколок, и принуждали их расстаться с драгоценной ношей. Сопротивляющихся безжалостно приканчивали; менее отважные спасали свою жизнь, бросая куколку при виде рыжего воина. Вся земля вокруг была усеяна мертвыми и умирающими представителями обоих видов; между трупиками беспорядочно сновали черные муравьи, а «рабовладельцы» уже собирали куколок и направлялись вверх по склону обратно в собственную крепость. На этой стадии сгущающиеся сумерки вынудили меня покинуть арену боя.
Когда я на другой день рано утром снова пришел на склон, война была уже закончена. Обитель черных муравьев опустела, если не считать разбросанных кругом убитых и раненых. Обе армии исчезли. К муравейнику рыжих я поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как возвращаются последние отряды, бережно неся в челюстях военную добычу. У входа их возбужденно приветствовали черные рабы; они поглаживали куколок усиками и суетились около своих повелителей, ликуя по поводу успешного набега, совершенного «рабовладельцами» на их сородичей. Было что-то очень человеческое и очень неприятное в поведении участников этой сцены.
Может быть, несправедливо говорить о воинственности животных, ведь большинство из них слишком разумны, чтобы затевать войны в том смысле, как мы их понимаем. Исключением являются муравьи, и в частности «рабовладельцы». Что же до большинства других животных, то для них война заключается в нападении на добычу или в обороне от врага.
Увидев, как сражаются «рабовладельцы», я проникся восхищением к их военной стратегии, но любовью к ним не воспылал. И я даже обрадовался, обнаружив, что против них существует, так сказать, подпольное движение. Речь идет о муравьиных львах. Взрослый муравьиный лев очень похож на стрекозу и производит вполне невинное впечатление. Однако детки этого насекомого — прожорливые чудовища, применяющие весьма коварный способ охоты на свою добычу, которая по большей части состоит из муравьев.
У личинки расширенное тело; крупная голова вооружена челюстями, напоминающими клещи. Облюбовав участок с рыхлым песчаным грунтом, она вырывает в нем конусовидную ямку, на дне которой и подстерегает жертву, спрятавшись в песке. Рано или поздно какой-нибудь муравей-хлопотун, спешащий куда-то по своим делам, оступается на краю ловушки и скатывается вниз. Мигом осознав свою промашку, он всячески пытается выбраться на волю, однако это не так-то просто, потому что рыхлый песок не выдерживает его веса. Тщетно перебирая ножками на откосе, муравей сталкивает вниз песчинки, которые будят притаившегося на дне душегуба. Тотчас муравьиный лев начинает действовать. Работая челюстями и головой, как пескоструйным механизмом, он обстреливает песчинками муравья, все еще отчаянно барахтающегося на склоне. От такого обстрела бедняга, и без того с трудом удерживавший равновесие, летит кувырком на дно, где за внезапно раскрывающимся песчаным занавесом его ожидают пылкие объятия, простите, огромные изогнутые челюсти муравьиного льва. Отбивающаяся жертва медленно исчезает, словно поглощаемая зыбучим песком, и через несколько секунд воронка опять пуста, но под невинным на взгляд покровом хищник высасывает жизненные соки из своей жертвы.
Еще одно животное, которое поражает свою добычу (мух, бабочек, мотыльков и других насекомых) пулеметной очередью, — брызгун. Эта довольно симпатичная на вид небольшая рыба, обитающая в пресных и солоноватых водах Азии, развила хитроумнейший охотничий прием. Медленно плывя у самой поверхности, она ждет, когда насекомое сядет на свисающую над водой ветку или лист, и начинает осторожно приближаться к цели. Подойдя на расстояние около метра, прицеливается и внезапно направляет в добычу серию водяных капель. Точность прицела настолько высока, что эти пули сбивают озадаченное насекомое. В ту же секунду рядом оказывается брызгун. Легкий всплеск, завихрение — и насекомого как не бывало.
Мне как-то довелось работать в зоомагазине в Лондоне, и вот однажды с очередной порцией живого товара к нам поступил брызгун. Я был в восторге и с разрешения хозяина выставил тщательно подготовленный аквариум с брызгуном на витрине, поместив рядом табличку с рассказом об удивительных способностях этой рыбы. Моя реклама пользовалась успехом, однако публика хотела видеть своими глазами, как брызгун сбивает добычу, а это было не так-то просто устроить. Наконец меня осенило. По соседству помещалась рыбная лавка, и я подумал, что нет никаких причин, мешающих нам воспользоваться излишками пасущихся там падальных мух. Итак, я подвесил над аквариумом брызгуна кусок мяса не первой свежести и оставил открытой дверь зоомагазина. Хозяин ничего не знал о моей затее. Мне хотелось сделать ему сюрприз.
Я вполне достиг своей цели.
К тому времени, когда он явился, в магазине собралась не одна тысяча мух. Брызгун с упоением демонстрировал свое искусство полусотне запрудивших тротуар зрителей и мне, стоящему за прилавком. Следом за хозяином буквально по пятам в магазин ворвался полицейский; явный невежда в зоологии, он пожелал узнать, чем вызвана пробка. К моему удивлению, хозяин, вместо того чтобы прийти в восторг от моей изобретательности, явно был склонен поддержать представителя власти. Кульминация наступила в тот момент, когда хозяин наклонился над аквариумом, чтобы отвязать подвешенное над ним мясо, и прямо в лицо ему ударила струйка воды, выпущенная брызгуном, который высмотрел особенно заманчивую добычу. Хозяин не стал меня жучить, но на другой день брызгун куда-то исчез, и мне никогда больше не позволяли оформлять витрину.
Хорошо известно, что одна из наиболее популярных военных хитростей в мире животных — когда совершенно безобидное существо внушает потенциальному врагу, будто он натолкнулся на страшного, свирепого зверя, которого лучше не трогать. Один из самых забавных примеров этого рода продемонстрировала мне солнечная цапля в Британской Гвиане, когда я там занимался отловом зверей. Выкормленная индейцем изящная птица с тонким заостренным клювом и с медленной, величественной походкой была абсолютно ручной. Днем я разрешал ей свободно разгуливать по моему лагерю и только на ночь заточал в клетку. Чудесное оперение солнечной цапли переливается всеми красками осеннего леса, и, когда птица замирала на фоне сухой листвы, она порой становилась совсем невидимой. Казалось, такому грациозному и хрупкому созданию нечем обороняться от врага. Но это только казалось.
Однажды в лагерь явился под вечер охотник в сопровождении трех здоровенных воинственных псов, и один из них вскоре приметил цаплю, которая стояла, задумавшись, на краю поляны. Навострив уши и тихо ворча, пес взял птицу на прицел, два других тотчас присоединились к нему, и все три с развязным видом направились к цапле. Когда расстояние между ними сократилось до метра с небольшим, она наконец удостоила их своим вниманием: повернула голову, наградила псов испепеляющим взором, потом повернулась к ним. Псы сперва остановились, не зная толком, как поступить с птицей, которая не обращается в бегство с громкими воплями, затем придвинулись ближе. Внезапно цапля резко опустила голову и расправила крылья широким веером. При этом в центре каждого крыла обозначилось красивое пятно; вместе они в точности напоминали устремленные на вас глазищи огромной совы. Мгновенное превращение маленькой, кроткой, изящной птицы в подобие разъяренного филина ошеломило собак. Они остановились, бросили еще один взгляд на трепещущие крылья и задали стрекача. А солнечная цапля сложила крылья, поправила клювом несколько перышек на груди и снова погрузилась в задумчивость. Было очевидно, что псы ни в коей мере не нарушили ее душевного равновесия.
Особенно изобретательны в делах обороны насекомые. Вот уж кто подлинные мастера камуфляжа, ловушек и других способов ведения войны! И одно из самых поразительных оборонительных средств принадлежит жуку-бомбардиру.
Одно время в моем владении, чем я весьма гордился, находилась настоящая дикая черная крыса, попавшая в плен ко мне в довольно юном возрасте. Это было на редкость красивое животное с черной как смоль лоснящейся шерстью и блестящими черными глазами. Половину времени мой узник посвящал своему туалету, половину — еде. Особенно любил он насекомых любых размеров и видов. Бабочки, богомолы, палочники, тараканы — все они, попав в клетку, тотчас отправлялись куда следует. Даже самые крупные богомолы были бессильны постоять за себя, хотя порой им удавалось вонзить в нос врага свои шипы и выдавить бисеринку крови, прежде чем он их схрупывал. Но однажды я раздобыл насекомое, которое взяло верх над ним. Большой темный жук сидел в раздумье под камнем, моя пытливая рука перевернула этот камень, я заключил, что жук, несомненно, придется по вкусу моей крысе, и сунул его в спичечный коробок. Дома я извлек крысу из спального отсека, потом открыл коробок и вытряхнул лакомство на пол клетки. В зависимости от рода добычи моя крыса расправлялась с ней двумя разными способами. Если речь шла о быстроходном и воинственном насекомом вроде богомола, она бросалась на него и молниеносным укусом выводила из строя. Если же попадался безобидный жук-тихоход, крыса брала его лапами и грызла, словно сухарь.
Завидев беспорядочно ползающую по полу заманчивую тучную добычу, крыса подбежала, схватила ее розовыми лапками и села на корточки с видом гурмана, который приготовился оценить первый трюфель сезона. С дрожащими от нетерпения усиками она поднесла жука ко рту — и тут произошло нечто удивительное. Крыса оглушительно чихнула, выронила жука, отпрянула назад, будто ужаленная, и стала поспешно тереть лапками свою мордочку. Я подумал было, что на нее просто напал чох в ту самую секунду, когда она хотела приступить к трапезе. Вытеревшись, крыса опять приблизилась к жуку, теперь уже более осторожно, подняла и снова поднесла ко рту. Послышалось сдавленное фырканье, крыса отбросила жука, словно раскаленное железо, и с негодующим видом принялась вытирать нос. Двух неудач для нее явно было достаточно, потому что никакие силы не могли больше заставить ее подойти к жуку, более того, она его явно боялась. Стоило ему забрести в тот угол клетки, где сидела крыса, как она отскакивала в сторону. Вернув жука в спичечный коробок, я пошел в дом, чтобы определить его по справочникам. Только тут выяснилось, что я подсунул своей несчастной крысе бомбардира. Обороняясь от врага, этот жук выбрасывает из конца брюшка едкую жидкость, которая на воздухе испаряется с легким треском, образуя облачко едкого и зловонного газа. Понятно, что такой взрыв отбивает у противника всякую охоту впредь иметь дело с жуками-бомбардирами.
Я от души сочувствовал черной крысе. Подумайте сами, каково это: только ты настроился на роскошный обед и протянул за ним лапы, как на тебя внезапно обрушивается газовая атака. После этого случая у моей крысы образовался комплекс, и еще много дней она при одном виде даже самого безобидного и лакомого навозника бросалась в спальный отсек. Впрочем, учитывая ее молодость, я не сомневался, что рано или поздно она уразумеет, что в нашем мире не следует судить о других тварях по их внешности.
Глава шестая
Животные изобретают

Однажды я возвращался домой из Африки на пароходе, которым командовал капитан, довольно отрицательно относящийся к животным. Это было совсем некстати, поскольку большую часть моего багажа составляли громоздившиеся на передней колодезной палубе две сотни клеток с разнообразными представителями дикой фауны. Капитан (скорее из ехидства, чем из каких-либо других побуждений) пользовался всяким удобным случаем, чтобы вызвать меня на спор, пренебрежительно отзываясь о всех животных вообще и о моих в частности. Слава Богу, я не давал себя завести. Прежде всего никогда не надо спорить с капитаном корабля. Тем не менее под конец плавания я решил все-таки, если представится случай, преподать капитану урок.
В один из вечеров, когда оставалось уже совсем немного до Ла-Манша, ветер и дождь загнали нас всех в салон; по радио в этот час передавали беседу о радаре, который тогда еще был новинкой, так что этот предмет мог заинтересовать широкую публику. В глазах капитана светилась хитринка, и, когда передача кончилась, он обратился ко мне.
— Вот вы все про зверей толкуете, — сказал он. — Дескать, они такие умные-разумные. А вот до такой штуки, небось, не додумались.
Бедняга не подозревал, какой козырь мне подбросил, и я приготовился покарать его.
— На что поспорим, — предложил я, — что я назову по меньшей мере два выдающихся изобретения и докажу, что заложенный в них принцип использовался животными задолго до того, как до этого додумался человек?
— Назовите четыре изобретения вместо двух, и я поставлю бутылку виски, — ответил капитан, заранее уверенный в своей победе.
Я согласился.
— Ну что ж, — ухмыльнулся капитан, — поехали.
— Дайте минуту подумать, — возразил я.
— Ага, — сказал он торжествующе, — уже заело.
— Нет-нет, — ответил я, — ничего подобного. Просто очень уж много примеров, не знаю даже, какие выбрать.
Капитан коварно поглядел на меня.
— А почему бы нам не начать с того же радара? — спросил он саркастически.
— Пожалуйста, я готов, — согласился я. — Мне только подумалось, что пример очень уж простой. Но если вы настаиваете…
Мне повезло, что капитан был профаном в естествознании, ведь иначе он ни за что не предложил бы радар. Как бы то ни было, он сильно облегчил мне задачу, потому что я начал с обыкновенной летучей мыши.
На свете найдется немало людей, в чью спальню или гостиную залетала летучая мышь. И если они не слишком пугались, им представлялся случай с восхищением наблюдать ее быстрый, искусный полет и ловкость, с какой она огибает любые препятствия, включая туфли и полотенца, которыми в нее иногда швыряют. Вопреки старой поговорке летучая мышь не слепа. У нее достаточно зоркие глаза, хотя и такие маленькие, что их трудно разглядеть в густой шерсти. И все же одного зрения недостаточно, чтобы исполнять фигуры высшего пилотажа, подвластные летучим мышам. Первым полет этих животных начал изучать в XVIII веке итальянский ученый Спалланцани. Ослепляя летучих мышей, он установил, что такое (кстати, излишне жестокое) вмешательство не мешает подопытным животным свободно летать, не боясь никаких препятствий. Но как им это удается, он не смог выяснить.
Лишь относительно недавно ученые сумели, во всяком случае отчасти, решить эту загадку. Открытие эхолокации — излучения и восприятия отраженных от предмета звуковых сигналов — побудило некоторых исследователей задуматься, не этот ли способ применяют летучие мыши. Опыты позволили обнаружить интереснейшие вещи. Сперва летучим мышам залепили глаза крохотными кусочками воска; как и следовало ожидать, они продолжали летать, благополучно огибая все препятствия. Тогда кроме глаз им залепили уши. Сразу способности обходить препятствия пришел конец, и мыши вообще предпочитали не летать. При одном закрытом ухе они кое-как летали, но часто натыкались на мешающие предметы. Стало ясно, что летучие мыши нащупывают препятствия звуковыми сигналами. Исследователи закрыли подопытным животным ноздри и рот, оставив уши открытыми. И в этом случае летучие мыши не могли избежать столкновений. И получилось, что и уши, и ноздри, и рот животных составляют части локационного аппарата. Тончайшие приборы позволили установить, что в полете летучая мышь непрерывно излучает пучки ультразвуковых импульсов, не воспринимаемых человеческим ухом. В секунду издается около тридцати таких сигналов. Отраженные препятствиями импульсы воспринимаются ушами, а у некоторых видов — своеобразным мясистым наростом на конце мордочки. Так летучая мышь распознает, что и на каком расстоянии находится впереди. Словом, перед нами самый настоящий эхолокационный аппарат. Но один момент продолжал озадачивать исследователей: при излучении звукового импульса необходимо отключать принимающее устройство, включая его только для приема отраженного эха, иначе будут регистрироваться оба сигнала и получится неразбериха. На электрической аппаратуре это возможно, но как справляется с той же задачей летучая мышь? Оказалось, что ухо мыши оснащено крохотным мускулом, который при излучении сигнала сокращается, перекрывая слуховой аппарат. Послан импульс — мускул расслабляется, ухо готово воспринять эхо.
Пожалуй, самое удивительное не только то, что летучие мыши располагают собственным эхолокационным устройством — от природы всякого можно ждать, — сколько то, что они так сильно опередили в этом человека. Окаменелости летучей мыши найдены в отложениях нижнего эоцена; по ним видно, что тогдашние особи мало чем отличались от своих нынешних сородичей. Выходит, летучая мышь пользуется эхолокацией около пятидесяти миллионов лет. Человек освоил этот способ ориентации лишь несколько десятков лет назад.
Первый приведенный мной пример явно заставил капитана призадуматься. Он уже не был уверен, что выиграет пари, однако несколько приободрился, когда я сказал, что обращусь теперь к области электричества. Недоверчиво усмехнувшись, капитан заявил, что не так-то просто будет убедить его, будто животные пользуются электрическим освещением. Я подчеркнул, что речь идет не об освещении, а об электричестве вообще, и здесь можно привести много примеров. Взять хотя бы электрического ската, своеобразное создание, смахивающее на сковороду, побывавшую под паровым катком. У этой рыбы отменная защитная окраска под цвет песчаного дна, к тому же скат обзавелся досадной привычкой наполовину зарываться в песок — поди разгляди его! Мне самому довелось однажды наблюдать эффект от воздействия электрических органов ската, занимающих обширную площадь на его спине.
Дело было в Греции. Я сидел на берегу и смотрел, как один крестьянский паренек ловит рыбу в мелком песчаном заливе. Идя по колено в прозрачной воде, он держал в руках острогу, обычно применяемую для ночного лова. Молодой рыбак явно преуспел: он уже добыл несколько крупных рыб и небольшого осьминога, прятавшегося среди камней. В ту самую минуту, когда паренек поравнялся со мной, произошло нечто весьма странное и неожиданное. Только что он медленно шагал, напряженно всматриваясь в воду и держа наготове острогу, а тут внезапно вытянулся в струнку, будто часовой, чтобы тотчас ракетой вылететь из воды с диким воплем, который, наверно, было слышно за километр. Бедняга плюхнулся обратно в воду и с еще более громким воплем снова прыгнул вверх. Упал и, уже не в силах встать, дополз до берега, волоча ноги по дну. Подбежав к нему, я увидел, что его колотит дрожь; весь белый, он дышал так, словно только что пробежал два круга по стадиону. То ли электрический разряд на него так подействовал, то ли он просто перепугался — не знаю, во всяком случае, больше я в этом заливе не купался.
Среди наделенных электрическими органами рыб, пожалуй, больше всех известен электрический угорь, который, как ни странно, систематически относится вовсе не к угрям, а к карпообразным. Эти крупные, темной окраски рыбы живут в реках Южной Америки, достигая свыше двух метров в длину при толщине с бедро человека. Конечно, многие рассказы про них сильно преувеличены, тем не менее большой электрический угорь способен своим разрядом сбить с ног лошадь, форсирующую поток.
Во время моей экспедиции в Британскую Гвиану мне очень хотелось поймать и привезти в Англию электрического угря. Был случай, когда мы разбили лагерь у реки, кишевшей угрями, однако они укрывались в глубоких норах, вырытых водой в каменистых берегах. Большинство этих нор сообщалось с воздухом промоинами. Подойдешь к такой промоине и потопаешь ногами — раздраженный угорь издает странный рыгающий звук, словно под землей у ваших ног притаился увесистый кабанчик.
Сколько я ни старался, электрические угри не шли мне в руки. Но вот однажды вместе с моим товарищем и двумя индейцами я отправился за несколько километров в деревушку, жители которой славились как завзятые рыболовы. Мы приобрели у них различных животных, в том числе совсем ручного древесного дикобраза. А затем, к моей великой радости, нам принесли электрического угря, заточенного в не слишком прочную на вид корзину. Поторговавшись, мы закупили всю эту живность, погрузили в лодку и направились обратно к своей базе. Дикобраз сидел на носу, с увлечением наблюдая сменяющиеся пейзажи; перед ним стояла корзина с угрем. На полпути к базе угорь вырвался на волю.
Первым это заметил дикобраз. Явно приняв электрического угря за змею, он удрал с носа лодки и попытался вскарабкаться мне на голову. Вырываясь из его когтистых объятий, я вдруг увидел, что угорь решительно направился в мою сторону, и исполнил акробатический трюк, на какой в жизни не считал себя способным. Держа в руках дикобраза, я из сидячего положения подскочил прямо вверх и, пропустив угря, приземлился на то же место, нисколько не нарушив равновесия утлой лодчонки. Перед моим внутренним взором отчетливо встал эпизод с греческим пареньком, который наступил на электрического ската, и мне отнюдь не улыбалось пережить по милости угря нечто подобное. К счастью, никого из нас не ударило током, так как все попытки водворить угря обратно в корзину кончились тем, что он выскользнул через борт в реку. Не могу сказать, чтобы меня это безмерно огорчило.
Помню, как мне в зоопарке довелось кормить электрического угря, обитавшего в бассейне. Смотреть, как он управляется с добычей, было очень интересно. Полутораметровый верзила запросто приканчивал двадцатисантиметровых рыб, которых ему подавали живьем. Поскольку он умертвлял их мгновенно, меня не мучили угрызения совести. Угорь явно знал свои часы кормления и начинал плавать взад-вперед по бассейну с монотонностью караульных, вышагивающих перед королевским дворцом в Лондоне. Как только в бассейне появлялась добыча, он застывал на месте, не сводя с нее глаз. Подпустит сантиметров на тридцать — радиус действия его электрической машины — и вдруг начинает дрожать, словно во всю длину его темного тела заработал генератор. Не успеешь и глазом моргнуть, как его жертва, буквально осаженная на ходу, уже мертва и медленно всплывает кверху брюхом. Угорь подходил вплотную, разевал пасть, и рыба исчезала в его чреве точно в шланге пылесоса.
Благополучно справившись с задачей на электричество, я обратился к другой области — медицине. Объявил, что дальше речь пойдет об анестезии, и увидел на лице капитана еще большее недоверие, чем прежде.
Есть среди ос охотницы, которых можно назвать хирургами мира животных. Причем операции они проводят с таким искусством, что любой наш хирург может позавидовать. Охотницы представлены многими видами, но поведение большинства сходное. Самки некоторых видов сооружают для своего потомства гнездо из глины, аккуратно разделенное на ячейки длиной с полсигареты, шириной около пяти-шести миллиметров. Но прежде чем отложить яйца и закупорить ячейки, надо выполнить еще одно дело. Ведь вылупившейся из яйца личинке нужна пища, пока не придет время ей завершить свое превращение в осу. Самка могла бы запасать умерщвленную добычу, но такой корм успеет испортиться до появления личинок. И пришлось осам усвоить другой способ. Излюбленная добыча дорожных ос — пауки. Самка хищным коршуном набрасывается на ничего не подозревающую жертву и без промаха вонзает свое жало так, что совершенно парализует ее. Подхватив обездвиженного паука, она несет его к гнезду, прячет в ячейку и откладывает на нем яйцо. Если пауки очень мелки, их может поместиться до семи-восьми в одной ячейке. Удостоверившись, что потомство обеспечено нужным запасом корма, оса запечатывает ячейки и улетает.
В жутких осиных яслях недвижимые пауки могут пролежать до семи недель, на вид абсолютно мертвые. Вы можете рассматривать их через лупу, трогать пальцами — никаких признаков жизни. Лежат, будто продукты в холодильнике, в ожидании, когда вылупятся крохотные личинки дорожной осы и примутся их уписывать.
Капитан явно был слегка потрясен, представив себе, как его, обездвиженного, кто-то не спеша поедает, а посему я поспешил перейти к другому, более симпатичному примеру, остановившись на очаровательнейшем и чрезвычайно изобретательном крохотном создании — водяном пауке. Человек лишь относительно недавно придумал устройства, позволяющие ему подолгу находиться под водой, и одним из первых шагов на этом пути было изобретение водолазного колокола. Водяной паук за много тысяч лет до этого разработал свой собственный способ, чтобы проникнуть в подводное царство. Во-первых, он преспокойно плавает под водой, неся на брюшке и на ногах некое подобие акваланга — пузырьки воздуха, позволяющие ему дышать в толще воды. Уже одно это надо признать выдающимся достижением, но паук пошел дальше: он сплетает себе под водой домик из паутины в виде опрокинутого бокала, прочно прикрепленного к водорослям. Снова и снова поднимаясь к поверхности за пузырьками воздуха, паук наполняет им свой воздушный колокол, в котором живет и дышит так же безмятежно, как его сородичи на суше. Во время брачного сезона самец присматривает себе самку, сооружает рядом с ней домик и — видимо, не чуждый романтики — соединяет оба жилища подобием потайного хода, после чего пробивает брешь в стене дома возлюбленной, так что запасенный ими воздух смешивается. В необычной подводной обители паук ухаживает за паучихой, они сочетаются браком и живут вместе, пока из коконов не вылупятся паучата, которые покидают отчий дом, чтобы начать самостоятельную жизнь, унося каждый по пузырьку родительского воздуха.
Мой рассказ о водяном пауке увлек и позабавил капитана; волей-неволей ему пришлось признать, что я выиграл пари.
Приблизительно через год мне довелось беседовать с одной дамой, которая уже после меня совершила плавание на том же пароходе.
— Очаровательный человек, правда? — воскликнула она, когда речь зашла о капитане.
Я вежливо поддакнул.
— Наверно, он был очень рад, когда перевозил вас с вашим грузом, — продолжала дама. — Он ведь так любит животных! Представляете себе, однажды вечером мы не меньше часа слушали как завороженные его рассказы о всяких научных изобретениях вроде радара и так далее и о том, как животные задолго до человека додумались до всех этих вещей. Это было так интересно, так интересно! Я даже посоветовала ему записать свой рассказ и выступить с ним по радио.

Глава седьмая
Исчезающие животные

В свое время мне довелось наблюдать весьма необычную группу беженцев — необычную, ибо в нашей стране они появились не потому, что бежали от религиозных или политических преследований. Чистая случайность привела их к нам и спасла от полного истребления. Они были последними представителями рода, всех остальных членов которого давным-давно выследили, убили и съели. Речь идет о милу, или оленях Давида.
Первым открыл их для науки французский миссионер, патер Давид, живший в Китае в середине прошлого века. В то время Китай, если говорить о фауне, был так же мало изучен, как великие леса Африки, и патер Давид, страстный натуралист, все свободное время собирал образцы флоры и фауны, отправляя их в парижский музей. В 1865 году он попал в Пекин, и здесь до него дошли слухи о каких-то необычных оленях в расположенном к югу от города Императорском парке. Парк этот не одно столетие был местом охотничьих и других забав китайских императоров. Обширная территория за семидесятипятикилометровой высокой оградой тщательно охранялась; никому не разрешалось даже приблизиться к ограде. Рассказ о диковинных оленях до того заинтриговал французского миссионера, что он решил — охрана не охрана — проникнуть в парк и своими глазами посмотреть на этих животных. Наконец выдался благоприятный случай, и, лежа на верху стены, патер увидел пасущихся среди деревьев запретного парка копытных, в том числе стадо оленей, подобных которым он еще никогда не встречал. Перед ним был несомненно неизвестный вид.
Выяснилось, что эти олени строго охраняются; всякое покушение на них чревато смертной казнью. Патер Давид понимал, что на официальную просьбу предоставить хотя бы один экземпляр последует вежливый отказ китайских властей; оставалось прибегнуть к другим, не столь легальным способам добыть желаемое. Он установил, что сторожа потихоньку пополняют свой скудный паек свежей олениной. Отлично сознавая, какая кара им грозит, если их обвинят в браконьерстве, они упорно отвергали все просьбы миссионера продать ему шкуры и рога убитых животных, вообще любой предмет, способный послужить уликой против них. Но патер Давид не сдавался и в конце концов достиг цели. Нашлись сторожа, которые были то ли храбрее, то ли беднеедругих, и они сбыли французу две шкуры. Торжествуя, он поспешил отправить драгоценную добычу в Париж. Как он и ожидал, оказалось, что речь идет о совершенно новом для науки виде. В честь ученого патера вид получил наименование Elaphurus davidanus.
Естественно, как только европейские зоопарки проведали о новом олене, им захотелось обзавестись редкостным животным. После долгих переговоров китайские власти без особого энтузиазма разрешили вывезти в Европу несколько экземпляров. Кто мог подозревать тогда, что тем самым был спасен вид! В 1895 году, через тридцать лет после того, как мир узнал об олене Давида, при разливе реки Хуанхэ под Пекином была разрушена стена Императорского парка. Наводнение погубило посевы на большой площади, крестьянское население голодало. Разбежавшиеся по округе олени были вскоре перебиты местными жителями. Немногих уцелевших особей съела охрана во время Боксерского восстания. Китайская популяция оленей целиком погибла, осталась лишь горстка оленей, разбросанных по зоопаркам Европы.
Небольшое стадо попало и в Англию. Герцог Бедфордский держал в своем поместье Вобурн прекрасную коллекцию редких животных, и он не пожалел усилий, чтобы развести стадо китайских оленей. Закупил в других европейских странах восемнадцать экземпляров и выпустил их в своем парке. Олени явно почувствовали себя как дома, они отлично прижились и стали размножаться. В середине нашего века вобурнское стадо оленей Давида, единственное в мире, насчитывало полтораста особей.
Когда я работал в зоопарке «Уипснейд», из Вобурна поступили четыре новорожденных олененка, которых нам предстояло выкормить. Это были обаятельнейшие существа с длинными непослушными конечностями; своеобразный вид придавали им большие, по-восточному скошенные глаза. На первых порах они, естественно, совсем не представляли себе назначение бутылочки с молоком; приходилось зажимать их между коленями и кормить насильно. Однако телята очень скоро разобрались что к чему, и уже через несколько дней надо было с великой осторожностью открывать дверь стойла, иначе вас грозила сбить с ног лавина толкающихся малышей, каждому из которых не терпелось первым добраться до бутылочки.
Кормить их полагалось три раза в сутки: вечером, в полночь и на рассвете, и мы, четверка смотрителей, поделили между собой ночные дежурства, каждому по неделе. Должен сказать, что мне ночное дежурство было особенно по душе. На пути к стойлам оленят мы проходили мимо озаренных луной клеток и загонов, обитатели которых постоянно находились в движении. Среди зарослей куманики в своем загоне бродили, шаркая ногами и обмениваясь фырканьем, медведи, казавшиеся вдвое больше в сумеречном освещении. Отвлечь их от охоты на улиток и прочие вкусности было нетрудно, если вы не забыли припасти сахар. Подойдут к ограде и садятся на корточки, положив на колени передние лапы — этакие косматые, громко сопящие Будды. Бросишь кусок сахара — ловят на лету, закинув голову, и съедают с хрустом и чмоканьем. А когда убедятся, что ваши карманы опустели, бредут со страдальческим вздохом обратно в кусты.
Часть дорожки проходила через волчий лес. Здесь на площади около гектара стояли темные таинственные лиственницы, и посеребренные луной стволы отбрасывали на землю длинные тени, среди которых быстро и бесшумно сновала и кружила танцующая волчья стая. Безмолвие лишь изредка нарушалось дыханием зверей, а то и цоканьем зубов или ворчанием, когда какой-нибудь волк нечаянно задевал другого.
Но вот и стойла, вы зажигаете фонарь, и оленята, заслышав ваши шаги, беспокойно шевелятся на соломенной подстилке и переливчато блеют. Стоит открыть дверь стойла, как они бегут вам навстречу на подкашивающихся ножках и принимаются жадно сосать ваши пальцы и края куртки, а иной шалун вдруг возьмет да боднет ваши колени, едва не сбивая вас с ног. Наконец наступает блаженная минута — рот олененка захватил соску и нетерпеливо глотает теплое молоко. Глаза выпучены, в уголках рта белыми гирляндами вздуваются молочные пузырьки. Кормить из бутылочки маленького звереныша — чистое удовольствие, хотя бы потому, что он вкладывает в это дело всю душу. А с этими малышами у меня было еще связано особое чувство. В неровном свете фонаря, под чмоканье и чваканье большеглазых сосунков, которые время от времени наклоняли голову, чтобы боднуть воображаемое вымя, я думал о том, что передо мной как-никак последние представители этого редкого животного.
В «Уипснейде» на моем попечении находилась еще одна группа животных исчезнувшего в природе вида, одни из самых обаятельных и потешных четвероногих, с какими я когда-либо встречался. Речь идет о небольшом стаде белохвостых гну.
Белохвостый гну поражает вас странной внешностью. Перед вами животное с туловищем и ногами стройного пони, с широко расставленными ноздрями на тяжелой, тупой морде, с одетой в густую белую гриву толстой шеей и с длинным пышным белым хвостом. Рога с торчащими вверх кончиками изогнуты над глазами, как у буйвола, и животное смотрит на вас из-под них негодующе-настороженным взглядом. Если бы еще гну вели себя нормально, странная внешность, возможно, не так бросалась бы в глаза, но они просто не могут вести себя нормально. Представьте себе помесь балета с бибопом плюс немного гимнастики йогов — нечто в этом роде выкомаривают гну.
Когда мне по утрам надо было их кормить, я тратил вдвое больше времени, чем необходимо, и все потому, что они затевали для меня представление, заставляя совершенно забыть о часах. Антилопы гарцевали, прыгали, извивались, срывались в галоп, становились на дыбы, исполняли пируэты, изгибая свои стройные ноги под какими-то невероятными, анатомически невозможными углами и размахивая длинным хвостом, как инспектор манежа в цирке своим бичом. В самый разгар неистовой пляски они внезапно замирали на месте и таращились на меня, отвечая на мой смех возмущенным фырканьем.
Глядя на причудливые позы танцующих в загоне гну, так и казалось, что зеленую траву перед тобой топчет чудом оживший мифический зверь с какого-нибудь средневекового герба.
Трудно представить себе, как у людей поднималась рука убивать этих резвых и потешных животных. Но факт остается фактом: первые европейские поселенцы в Южной Африке посчитали белохвостого гну ценным источником мяса и безжалостно истребляли огромные стада четвероногих весельчаков. Причем антилопа сама им в этом помогала. Ненасытное любопытство белохвостых гну заставляло их бежать навстречу катящим через вельд фургонам переселенцев. Окружив невиданное диво, антилопы принимались прыгать и танцевать с громким фырканьем. Побегают, попляшут, потом вдруг остановятся. Понятно, столь заманчивая мишень не могла оставить равнодушными предприимчивых стрелков-«спортсменов». Люди тренировались в стрельбе по живой цели, и количество белохвостых гну сокращалось так стремительно, что остается только поражаться, как они вообще не вымерли. В наши дни сохранилось всего лишь около двух тысяч этих прелестных животных, разбросанных группами по разным поместьям в Южной Африке. Если их вовсе не станет, Африка лишится одного из самых интересных и забавных представителей своей фауны, способного оживить даже самый скучный ландшафт.
К сожалению, не только олень Давида и белохвостый гну находятся под угрозой полного вымирания. Список навсегда исчезнувших и почти истребленных животных достаточно велик и являет собой весьма скорбную картину. Расселяясь по земному шару, человек производил чудовищное опустошение в царстве животных, стреляя и расставляя ловушки, сжитая и вырубая леса, бездумно внедряя врагов там, где их прежде не было.
Возьмем хотя бы дронта, большую, грузно ковыляющую птицу величиной с гуся, обитавшую на острове Маврикий. У дронта в его островной обители не было врагов, не от кого было спасаться, а потому он утратил способность к полету и преспокойно гнездился на земле. Увы, заодно это доверчивое, на редкость мирное существо начисто утратило способность распознавать недругов. Люди открыли райскую обитель дронта в начале XVI века, и вместе с людьми на остров явились их злокозненные приятели — собаки, кошки, свиньи, крысы и козы. Дронт созерцал гостей с простодушным интересом. И началось избиение. Козы уничтожали подлесок, служивший убежищем дронту; собаки и кошки ловили старых птиц; свиньи, похрюкивая, пожирали яйца и птенцов; остатки пира доставались крысам. К 1681 году толстый, неуклюжий, безобидный дронт был совершенно истреблен.
По всему свету последовательно и немилосердно искореняли фауну; численность многих симпатичных и интересных животных сведена до такого минимума, что без нашей помощи и защиты популяция уже не возродится. Если не найдется убежища, где они смогут без помех жить и размножаться, эти виды рано или поздно займут место в списке вымерших животных рядом с дронтом, кваггой и бескрылой гагаркой.
Конечно, в последние десятилетия немало сделано для охраны дикой фауны. Учреждены заказники и заповедники, некоторые виды реинтродуцируют в районах прежнего обитания. Так, в Канаде при помощи авиации в ряде мест расселили бобров. Животное помещали в особый ящик, подвешенный к парашюту, и сбрасывали над подходящим участком. Приземлившись, ящик автоматически открывался, и бобер направлялся к ближайшему водоему.
Но сколько ни сделано, предстоит сделать куда больше. К сожалению, основная часть полезных усилий по охране животных была сосредоточена на видах, представляющих экономическую ценность для человека. А сколько мало известных видов, которые, хотя и защищены на бумаге, на самом деле потихоньку вымирают, потому что никто, кроме нескольких пытливых зоологов, не считает их достаточно важными и ценными, чтобы на них стоило тратить деньги.
С каждым годом растет численность населения земного шара, человек осваивает все новые области, сжигая и уничтожая ресурсы природы. Нельзя утешаться мыслью о том, что отдельные частные лица и отдельные учреждения придают значение борьбе, за спасение и сохранение истребляемых животных. Работа эта важна по многим причинам, и, пожалуй, главная из них следующая: человек, при всех его талантах, не может ни создать новый вид, ни возродить уничтоженный. Предложите разрушить лондонский Тауэр — какой поднимется шум! И справедливо. А вот какой-нибудь уникальный и замечательный вид фауны, на эволюцию которого ушли сотни тысяч лет, может запросто сгинуть, и лишь горстка людей возвысит голос протеста. Право же, пока мы не станем относиться к животным с таким же вниманием и почтением, с каким лелеем старинные книги, картины и исторические памятники, до тех пор у нас всегда перед глазами будут животные-беженцы, живущие на грани вымирания, всецело зависящие в своем существовании от милосердия единичных энтузиастов.

Часть третья
Животные в частности

Содержать диких животных, будь то в экспедиции или у себя дома, — дело хлопотное, утомительное и чреватое огорчениями, но есть и немало приятных сторон. Меня часто спрашивают, за что я люблю животных, и всегда я затрудняюсь ответить. С таким же успехом можно спросить меня, почему я люблю есть. Во всяком случае, помимо того что мне приятно и интересно заниматься животными, можно назвать еще один момент. Едва ли не главное обаяние животных заключается в том, что они наделены всеми основными чертами, присущими человеку, но при этом начисто лишены лицемерия, играющего видную роль в мире людей. С животным, как говорится, все ясно: если вы ему не нравитесь, оно недвусмысленно даст вам это понять, если нравитесь — опять же не станет скрывать своих чувств. Впрочем, животное, которому вы нравитесь, тоже не всегда подарок. Не так давно одна пегая ворона из Западной Африки, полгода совершенно игнорировавшая меня, внезапно решила, что на мне для нее сошелся клином белый свет. Стоило мне подойти к клетке, как она, дрожа от восторга и что-то хрипло бормоча, припадала к полу или же норовила сунуть мне какой-нибудь дар — клочок газеты, перышко. И все бы ничего, но, как только я выпускал ее из клетки, она садилась мне на голову, впиваясь когтями в скальп, украшала мой пиджак сзади роскошной влажной лепешкой и ласково долбила клювом по черепу. Если учесть, что у пегой вороны длинный — около восьми сантиметров — и весьма острый клюв, то подобные знаки внимания, мягко выражаясь, были несколько болезненными.
Словом, в отношениях с животными надо знать, где проводить границу дозволенного. Иначе пристрастие к пернатым или четвероногим любимцам рискует перерасти в чудачество. В прошлое Рождество я как раз был вынужден провести границу. Жена получила от меня в подарок североамериканскую летягу; я давно мечтал о таком зверьке и не сомневался, что он придется ей по душе. Летяга поселилась в нашем доме, и мы оба были ею очарованы. А поскольку она оказалась чрезвычайно нервной особой, мы решили, что не дурно будет на неделю-другую поместить ее у себя в спальне. Будем разговаривать с нею ночью, когда она выходит размяться, и дадим ей привыкнуть к нам. И все бы прекрасно, не будь одной загвоздки. Сметливая летяга прогрызла дырочку в клетке и поселилась за платяным шкафом. Поначалу нас это не очень обеспокоило. Сидя ночью в постели, мы смотрели, как зверушка занимается на шкафу акробатикой, носится по трельяжу и собирает разложенные нами орехи и яблоки. Но вот наступил новогодний вечер; я был приглашен на банкет, куда полагалось прийти в смокинге. Ничего не подозревая, я открыл свой ящик в шкафу — и нежданно-негаданно получил ответ на вопрос, который уже некоторое время занимал наши умы: куда летяга складывает все орехи, яблоки, хлеб и прочее угощение? Мой новехонький, ни разу не надеванный белый жилет уподобился куску тончайших испанских кружев. Выгрызенные из него лоскутки отнюдь не пропали — они пошли на маленькие гнездышки, устроенные на моих манишках. В этих гнездышках лежало в общей сложности семьдесят два лесных орешка, пять грецких орехов, четырнадцать кусочков хлеба, шесть мучных хрущаков, пятьдесят два яблочных огрызка и два десятка виноградин. Виноградины и яблочные огрызки, естественно, слегка подгнили от долгого хранения, так что манишки украсились интереснейшими узорами в духе Пикассо.
Пришлось идти на банкет в обычном темном костюме. Летяга перекочевала в Пейнтонский зоопарк.
На днях жена проронила, что было бы чудесно завести дома детеныша выдры, но я поспешно перевел разговор на другую тему.

Глава восьмая
Животные-родители

Я с величайшим уважением отношусь к животным-родителям. Еще в юности я проверил свои способности в уходе за всевозможными тварями; после того, во время зоологических экспедиций в разные концы света, мне пришлось выкармливать немало детенышей, и должен сказать, что это занятие требует стальных нервов.
Моими первыми приемышами в прямом смысле слова были четыре ежонка. Ежиха — очень добросовестная мамаша. Она загодя устраивает для своих отпрысков детскую комнату: круглое помещение на глубине сантиметров тридцати под землей, выстланное толстым слоем сухих листьев. Здесь рождаются ее слепые и беспомощные крошки. Уже через несколько часов у них появляются совсем мягкие, словно резиновые, белые иглы, которые постепенно твердеют, принимая коричневатый цвет. Когда детеныши подрастут, мамаша выводит их из норы и учит охотиться, причем они идут совсем как детсадовские ребятишки, уцепив друг друга зубами за хвостик. Направляющий крепко держится за материнский хвост — и через сумрачные кустарники тянется диковинная колючая сороконожка.
Ежиха явно без труда справляется с воспитанием своего потомства. А вот когда у меня на руках вдруг очутились четыре слепых ежонка в резиновых колючках, я слегка растерялся. Мы тогда жили в Греции; один крестьянин, работая на своем поле, раскопал выстланную дубовыми листьями нору величиной с футбольный мяч. Первой проблемой было — как кормить младенцев, ведь обычные соски слишком велики для их маленьких ртов. К счастью, у юной дочери одного моего приятеля нашлась кукольная бутылочка, и после долгой торговли хозяйка согласилась с ней расстаться. Мало-помалу ежата привыкли к бутылочке и с явной пользой для себя сосали разбавленное коровье молоко.
Первое время я держал их в картонной коробке. Однако устроенное мной гнездо оказалось совершенно негигиеничным, мне приходилось по десять — двенадцать раз в день менять лиственную подстилку. Неужели мать-ежиха целый день только и делает, что носится с чистыми листьями для смены, спрашивал я себя. И как же она в таком случае находит время, чтобы кормить своих малышей? Мои питомцы готовы были есть во все часы дня и ночи. Только коснись коробки, и четыре остреньких рожицы в обрамлении белых колючек, пронзительно крича, высовываются из-под листьев, и столько же черных носиков лихорадочно вертится во все стороны в поисках бутылочки.
Большинство детенышей отлично знают свою норму, но на ежат, как я смог убедиться, это не распространяется. Словно изголодавшиеся жертвы кораблекрушения, набрасывались они на бутылочку и сосали, сосали, сосали… И впрямь можно подумать, что их несколько недель морили голодом. Дай волю, высосут вдвое больше, чем им полезно. Я явно перекармливал своих ежат: крохотные ножки сгибались под весом тучного тела, и малыши передвигались словно вплавь, волоча по ковру животики. Тем не менее они благополучно развивались. Ножки окрепли, глаза открылись, и ежата отваживались совершать вылазки на целых полтора десятка сантиметров от коробки.
Я очень гордился своими колючими приемышами и предвкушал день, когда смогу выводить их на вечернюю прогулку и потчевать разными вкусностями вроде улиток или лесной земляники. Увы, моей мечте не суждено было сбыться. Вышло так, что я на сутки отлучился из дома. Взять младенцев с собой я не мог, а потому оставил их на попечение сестры. И предупредил ее, что ежата жутко жадные и ни в коем случае нельзя давать им больше одной бутылочки молока в день, сколько бы ни пищали и ни просили.
Мне следовало лучше знать собственную сестру.
Вернувшись на другой день утром, я осведомился, как поживают ежата. Сестра укоризненно посмотрела на меня и объявила, что я, оказывается, морил бедняжек голодом. Борясь со страшным предчувствием, я спросил, сколько же она скармливала им за один раз.
— По четыре бутылочки каждому, — ответила она, — и ты бы только посмотрел, какие милые они стали, какие толстенькие.
Что верно, то верно — ежата потолстели. Их животики раздулись до такой степени, что ножки едва доставали до пола. Ежата уподобились диковинным колючим футбольным мячам, к которым по ошибке присобачили четыре ноги и носик. Как ни пытался я их спасти, все четверо погибли еще до следующего дня от острого энтерита. Разумеется, больше всех сокрушалась сестра, но по тому, как холодно я выслушивал все ее извинения, она должна была понять, что ей больше никогда не будет поручено присматривать за моими приемышами.
Не все животные ухаживают за своими детенышами так заботливо, как ежиха. Некоторые весьма небрежно, я бы сказал, вполне на современный лад относятся к родительским обязанностям. Таковы кенгуру. Их отпрыски являются на свет совсем неподготовленными; по существу, это еще зародыши. Судите сами: рост сидящего на корточках рыжего кенгуру — около полутора метров, а длина новорожденного кенгуренка — чуть побольше сантиметра. Этот слепой и голенький живой комочек должен собственными силами добираться по маминому животу до ее сумки. Каково это такому слабенькому, а вы учтите еще, что кенгуренок может работать только передними ножками, ибо задние аккуратно скрещены над его хвостиком. А родительница знай себе сидит и не думает ему помочь, разве смочит языком свою шерсть, наметит, так сказать, дорожку для отпрыска. И вот крохотный недоносок продирается через лес из шерсти, пока удача пополам с расчетом не помогут ему достигнуть сумки, забраться в нее и прильнуть к соску. Восхождение на Эверест ничто перед этим подвигом.
Мне никогда не доводилось выкармливать новорожденного кенгуренка, но я приобрел кое-какой опыт обращения с юным представителем валлаби, которых можно назвать миниатюрными родичами кенгуру. Было это, когда я работал смотрителем в зоопарке «Уипснейд». Валлаби свободно передвигались по территории зоопарка. Случилось однажды, что мальчишки затеяли гоняться за самкой с уже оформившимся детенышем, и от испуга она поступила так, как поступают все члены семейства кенгуру: выбросила своего отпрыска из сумки. Когда я через некоторое время обнаружил его, он лежал и корчился, попискивая, среди высокой травы, делая ртом сосущие движения. Честно говоря, я в жизни не видел менее обаятельного детеныша. Длиной около тридцати сантиметров, слепой, безволосый, с бледно-розовой кожей… Он совершенно не владел своим телом, если не считать энергично взбрыкивающие задние ноги. При падении малыш сильно ушибся, и я боялся, что он не выживет. Тем не менее я отнес бедняжку к себе и после недолгих переговоров с хозяйкой дома поместил его в своей комнате.
Кенгуренок жадно сосал молоко из бутылочки, но главная трудность заключалась в том, чтобы утеплить его. Я кутал кенгуренка во фланелевую пеленку, обкладывал его грелками и все же опасался, что он у меня простудится. Напрашивалось простейшее решение: согревать малыша своим телом — и я сунул его себе за пазуху. Только тут я впервые осознал, каково приходится маме-валлаби. Мало того, что малыш без конца обнюхивал меня и норовил пососать, время от времени он наносил мне меткие удары под ложечку своими задними ногами, на которых успели вырасти достаточно острые когти. Через несколько часов у меня было такое чувство, словно сам чемпион мира по боксу облюбовал мою особу для тренировочных схваток. Одно из двух: либо я изобрету что-нибудь другое, либо наживу язву желудка. Попытался передвинуть кенгуренка на спину, но он живо вернулся на прежнее место, судорожно перехватываясь длинными когтями. Спать с ним в одной постели было подлинной пыткой: мало того, что кенгуренок затевал борьбу, допускающую любые приемы, — от собственных пинков он то и дело сам летел на пол, и приходилось всякий раз поднимать его. К сожалению, через два дня малыш все же скончался, по-видимому, от внутренних кровоизлияний. Должен сознаться, что его кончина меня не очень сильно опечалила, хоть и обидно было лишиться возможности выкормить столь необычного младенца.
Если мамы-кенгуру довольно прохладно выполняют свой родительский долг, то карликовые игрунки, во всяком случае самец этого вида, — образец добродетели. Величиной с крупную мышь, на крохотной рожице — яркие светло-карие глаза, одетый в шубку с изящными зеленоватыми метинами, карликовый игрунок больше всего похож на какого-нибудь сказочного персонажа — то ли на косматого гномика, то ли на шотландского водяного. После брачного сезона, как только самка родит, ее миниатюрный супруг проявляет себя образцовым отцом. Сразу забирает новорожденных (их обычно два) и носит на бедрах, словно ослик вьючные мешки. Следит за чистотой детенышей, поминутно расчесывая их, ночью согревает в своих объятиях и уступает отпрысков не слишком-то рачительной мамаше лишь на время кормления. Да и то ему так не терпится забрать их обратно, что кажется — он сам их кормил бы, если бы мог. Поистине завидный супруг.
Как ни странно, детеныши обезьян не блещут умом; нужно немало времени, чтобы научить их сосать из бутылочки. Не успели вы добиться своего, как долгий процесс обучения начинается сначала: младенцы подросли, теперь им пора пить из блюдечка. Почему-то они убеждены, что полагается погрузить мордочку в молоко и стоять так, пока не захлебнешься или же непроизвольным фырканьем не разбрызгаешь все питье.
Одно время на моем попечении находился очаровательнейший детеныш мартышки. Спинка и хвост мшисто-зеленого цвета; живот и бакенбарды изумительного лютиково-желтого оттенка; через верхнюю губу протянулась сужающая к концам белая метина — ни дать ни взять роскошные усы какого-нибудь отставного вояки. Как и у всех таких детенышей, голова казалась чересчур большой; конечности были длинные и нескладные. А в целом размеры этого малыша позволяли ему вполне уместиться в чайной чашке. Поначалу он решительно отвергал бутылочку, явно приняв ее за нарочно изобретенное мной орудие пытки, потом разобрался и при виде бутылочки приходил в страшное возбуждение. Заберет соску в рот, заключит бутылочку в пылкие объятия и валится на спину. А так как бутылочка была раза в три больше него, то он напоминал жертву воздушной катастрофы, лихорадочно цепляющуюся за белый дирижабль.
Став побольше, детеныш прошел обычную стадию дельфиньего фырканья, пока не научился пить из блюдца. Но трудности на этом отнюдь не кончились. Посадишь его на стол и идешь за молоком. Завидев блюдце, он издает пронзительный визг и дрожит всем телом от возбуждения и ярости, точно в приступе болотной лихорадки или пляски святого Витта. Возбуждение — при виде молока, ярость — от того, что люди недостаточно быстро ставят блюдце на стол. Доходило до того, что малыш начинал подпрыгивать, словно кузнечик. Если забудешь придержать его за хвост, он с торжествующим воплем ныряет прямо в молоко, в лицо вам летят белые каскады, и когда вы протрете глаза, то увидите, как детеныш сидит посреди пустого блюдца, громогласно выражая свое негодование по поводу того, что его оставили без питья.
Когда растишь маленького звереныша, одна из главных задач — утеплять его на ночь. Как ни странно, за этим надо следить и в тропиках, поскольку с приходом темноты становится заметно прохладнее. В нормальных условиях детеныш, понятно, находит тепло и укрытие в шерсти матери. Грелки, как я убедился, плохой заменитель. Очень уж быстро они остывают, надо несколько раз за ночь вставать, чтобы наполнить их горячей водой. А это довольно утомительно, когда на твоем попечении не только куча детенышей, но и целая коллекция взрослых животных. В большинстве случаев ты просто-напросто забираешь малышей к себе в постель. И быстро привыкаешь спать в одном положении, время от времени просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок и не раздавить при этом кого-нибудь из своих питомцев.
Мне доводилось одновременно делить ложе с детенышами самых различных видов. Были дни, когда на узкой раскладушке вместе со мной спали три мангуста, две мартышки, белка и юный шимпанзе. Каким-то чудом еще оставалось место для меня. Казалось бы, в ответ на такую заботу можно рассчитывать на толику благодарности. Увы, слишком часто бывает иначе. Одним из своих самых живописных шрамов я обязан юному мангусту, который посчитал, что я чересчур замешкался с бутылочкой. Когда меня спрашивают про этот шрам, приходится отвечать, что на меня напал ягуар. Кто же поверит, что на самом деле это след схватки под одеялом с детенышем мангуста.

Глава девятая
Разбойники

Впервые мое знакомство с удивительным маленьким животным, известным под названием кусимансе, состоялось в Лондонском зоопарке. Я зашел в Дом грызунов, чтобы поближе рассмотреть несколько симпатичных западноафриканских белок. Мне предстояло отправиться в первую в моей жизни зоологическую экспедицию, и я полагал, что работать будет тем легче, чем больше я узнаю про животных, населяющих великие дождевые леса.
Посмотрев на белок, я пошел дальше, заглядывая в другие клетки. Внушительная табличка на одной из них извещала, что здесь содержится обитатель Западной Африки — кусимансе (Crossarchus obscurus). Сколько я ни присматривался, видел только равномерно вздымающийся пук соломы; при этом до моего слуха доносился тихий храп. Полагая, что мне непременно предстоит встреча с этим животным, я счел себя вправе разбудить его: пусть покажется.
В зоопарках есть правило, которое я строго соблюдаю (и другим советую соблюдать): нельзя мешать спящим животным, тыкая в них палками или бросая орехами. И без того их не так часто оставляют в покое. Тем не менее на сей раз я преступил запрет, проведя несколько раз ногтем большого пальца по прутьям решетки. По правде говоря, я не ждал особого эффекта от своего маневра, однако солому словно разметало взрывом, и в ту же секунду показался гибкий курносый нос, а за ним крысиная мордочка с аккуратными ушками и живыми любопытными глазами. С минуту эти глаза изучали меня, затем остановились на кусочке сахара, который я тактично поднес к решетке, после чего зверек, издав по-девичьи тонкий визг, стал лихорадочно выбираться из окутывавших его соломенных покровов.
Пока из соломы торчала одна голова, мне представлялось, что зверек небольшой, величиной с обыкновенного хорька, но когда он вышел наконец на свободу и заковылял по полу, меня поразило его толстое, как шар, и относительно крупное тело на коротких ножках. Досеменив до решетки, кусимансе набросился на сахар так, словно ему впервые за много лет наконец предложили что-то приличное.
Передо мной, судя по всему, был мангуст, но очень уж непохожий на виденных мною прежде мангустов: подвижный курносый нос, горящие каким-то фанатичным блеском глаза… И я уже не сомневался, что габариты его — плод обжорства, а не продукт природы. Коротенькие ноги оканчивались стройными лапами, и, труся по клетке, тучный зверек перебирал ими так часто, что они почти сливались. Принимая от меня очередное лакомство, он всякий раз взвизгивал, точно укоряя меня за то, что я подбиваю его нарушать диету.
А я был так очарован, что не успел опомниться, как уже скормил лакомке весь припасенный сахар. Убедившись, что угощения больше не будет, зверек страдальчески вздохнул и затрусил обратно к своей постели. Через две-три секунды он опять крепко спал. И я твердо решил: если только в той области, куда я еду, водятся кусимансе, все сделаю, чтобы добыть себе хоть одного.
Три месяца спустя я находился в сердце дождевых лесов Камеруна, и мне представились неограниченные возможности поближе познакомиться с кусимансе. В этих краях они входили в число наиболее распространенных представителей рода мангустов. Сидишь в тайнике в лесу, подстерегая совсем других животных, смотришь — идет кусимансе.
Первый из них неожиданно для меня вынырнул из зарослей на берегу небольшой речушки. Долго я смотрел с улыбкой, как он демонстрирует свое искусство краболова. Войдя в мелкую воду, зверек длинным курносым носом (надо думать, он при этом задерживал дыхание) принялся переворачивать все камни на дне, пока не напал на крупного черного пресноводного краба. Ни секунды не медля, схватил его зубами, быстрым движением головы выбросил на берег и сам, пища от радости, выскочил следом, после чего затеял пляску вокруг своей жертвы, покусывая ее. В конце концов он умертвил добычу. Но когда один особенно крупный краб изловчился ущипнуть клешней вздернутый нос охотника, я не мог удержаться от смеха, и мангуст улепетнул в лес.
В другой раз мне довелось наблюдать, как курносый мангуст без особого успеха пытался, применяя ту же тактику, ловить лягушек. Видно, это был еще молодой и неопытный лягушколов. Он долго рыскал кругом и принюхивался, наконец, обнаружив лягушку, швырял ее на берег, но, пока сам добирался до суши, опомнившаяся добыча давно уже успевала вернуться в воду, и приходилось начинать все сначала.
Как-то утром один местный охотник принес ко мне в лагерь небольшую корзину из пальмовых листьев, в которой лежали три удивительнейших крохотных существа. Сами величиной с новорожденных котят, совсем малюсенькие ножки, какие-то облезлые хвосты. Торчащая кисточками ярко-рыжая шерстка придавала им сходство с не совсем обычными ежами. Пока я рассматривал их, пытаясь определить, они подняли свои маленькие рожицы и уставились на меня. При виде розовых упругих носиков я тотчас понял, что это кусимансе, притом совсем юные, потому что глаза у них только что открылись, а зубы и вовсе не прорезались. Я был весьма доволен таким приобретением, но, когда, расплатившись с охотником, начал прикидывать, как кормить этих младенцев, понял, что задача эта может оказаться непосильной для меня. Я вез с собой целый запас бутылочек, однако соски были слишком велики. Пришлось прибегнуть к старому приему: наматываешь на спичку вату, макаешь в молоко и даешь детенышам сосать. В первую минуту звереныши приняли меня за чудовище, которое вознамерилось их задушить. Они пищали, отбивались; не успеешь засунуть малышу ватку в рот, как он сразу же выталкивает ее язычком. К счастью, они довольно скоро открыли, что ватка пропитана молоком. После этого все пошло гладко, если не считать того, что малыши, увлекшись, иной раз обламывали и глотали кончик спички.
Первое время я держал детенышей в корзине подле своей кровати: самое удобное место, если учесть, что приходилось среди ночи вставать и кормить их. Неделю-другую они вели себя образцово, большую часть дня спокойно лежали с раздувшимися животиками и подергивающимися лапками на своей постели из сухих листьев. Только в часы кормления они оживали и принимались ползать по корзине, топча друг друга и громко пища.
Вскоре у маленьких кусимансе прорезались передние зубки (на беду для спичек с ваткой), а по мере того как крепли их ноги, росло желание малышей ознакомиться с миром, окружающим их корзину. Первый завтрак детенышей совпадал с моим утренним чаем. Я вынимал их из корзины и сажал к себе на кровать, чтобы немного размялись. К сожалению, от этого пришлось довольно скоро отказаться, ибо однажды утром, когда я наслаждался своим чаем, один малыш заметил торчащую из-под одеяла ногу и решил, что из пальца можно выдавить молоко, если хорошенько нажать зубами. Остренькие, словно шильца, зубки вонзились в мою плоть, и братья предприимчивого мальца, боясь, что их обойдут кормежкой, поспешили последовать его примеру. К тому времени, когда я вернул их в корзину, вытерся сам и развесил сушиться простыни, мне было уже совершенно ясно, что разминкам пора положить конец. Очень уж больно обходятся.
Однако это был только первый намек на подстерегающие меня испытания. Несносные сорванцы очень скоро заслужили у нас прозвище Разбойников. Росли они быстро, и с появлением зубов их ежедневный рацион пополнился яйцами и небольшим количеством сырого мяса. Казалось, вся жизнь этих ненасытных зверушек сводится к сплошному, непрерывному поиску съестного. Они абсолютно все считали съедобным, пока на деле не убеждались в обратном. Для начала Разбойники закусили крышкой своей корзины. Расправившись с ней, выбрались на волю и отправились знакомиться с территорией лагеря. На беду, они вышли как раз туда, где в кратчайший срок могли натворить максимум бед: к продовольственному и медицинскому складу. К тому времени, когда я обнаружил побег, они разбили с десяток яиц и явно всласть покатались в их содержимом. Кроме того, Разбойники вступили в бой с двумя банановыми гроздьями — и победили, судя по внешнему виду бананов. Казнив плоды, эта шайка продолжила свои бесчинства и опрокинула две бутылки с витаминным раствором. После чего, к своей великой радости, безобразники нашли и разорвали два пакета с борной кислотой, причем не поленились рассыпать белый порошок, часть которого пристала к их липкой от яичного желтка шерсти. Я застал их в ту минуту, когда они собирались отведать содержимое ведра с весьма зловонной и ядовитой дезинфицирующей жидкостью, и вовремя помешал этой затее. Перемазанные желтком и борной кислотой детеныши напоминали какие-то невиданные рождественские кондитерские изделия. Почти час ушел у меня на то, чтобы отмыть их. После чего я заточил Разбойников в корзину побольше и покрепче, надеясь, что теперь они угомонятся.
Всего два дня потребовалось им, чтобы вырваться на волю из этой корзины.
На сей раз они постановили обойти всех остальных зверей моей коллекции. Надо думать, эта прогулка доставила им немало удовольствия, потому что перед клетками всегда лежали остатки корма.
Одним из украшений коллекции была крупная и удивительно красивая обезьяна по прозвищу Колли (от латинского наименования Colobus). Колли принадлежала к роду гверец, едва ли не самых красивых обезьян Африки. Черная как смоль и белая как снег длинная шерсть облекает тело обезьяны шелковистой бахромой, подобно шали. Хвост тоже черно-белый, длинный и пушистый. Колли была не лишена тщеславия, подолгу расчесывала свое нарядное облачение и принимала живописные позы в разных частях клетки. На сей раз она решила в ожидании фруктов, которые я должен был ей принести, немного вздремнуть в своем убежище и разлеглась, точно курортник на пляже: глаза закрыты, руки аккуратно сложены на груди. Однако, на беду для себя, она просунула хвост наружу между прутьями решетки, и он расстелился на земле, словно оброненный кем-то черно-белый шарф. Только гвереца погрузилась в сон, как на сцене появились Разбойники.
Я уже отмечал, что они любой, даже самый странный на вид предмет готовы были считать съедобным. Что ни увидят — на всякий случай надо отведать. Заприметив на земле явно бесхозное имущество, старший из Разбойников заключил, что само провидение подбросило ему лакомый кусок. Рванувшись вперед, он вонзил свои острые зубки в хвост гверецы. Оба братца, решив, что еды хватит на всех, не замедлили последовать его примеру. В итоге Колли была вырвана из крепкого, освежающего сна тремя комплектами острейших шильцев, которые почти одновременно впились в ее хвост. От ужаса она издала дикий вопль и бросилась вверх, к потолку своей клетки. Однако Разбойники не собирались расставаться без боя с лакомой добычей. Они не разжимали челюстей, и Колли, продолжая карабкаться вверх, тащила их все выше за собой. Прибежав на ее вопли, я обнаружил, что Разбойники, словно какие-нибудь миниатюрные воздушные акробаты, висят на зубах примерно в метре над землей. Пять минут ушло у меня на то, чтобы заставить их разжать зубы; пять минут я дул им в нос табачным дымом, пока они не начали чихать. К тому времени, когда я снова заточил Разбойников в узилище, бедняжку Колли можно было отправлять в санаторий для нервнобольных.
Стало очевидно, что Разбойников надлежит посадить в настоящую клетку, пока они своими выходками не довели до истерики всех остальных моих подопечных. Я смастерил для них замечательную клетку со всеми современными удобствами. В одном конце устроил просторную спальню, в другом — столовую и игровую площадку. Одна дверца позволяла убирать в спальне, другая — класть корм в столовую. Но кормежка оказалась делом весьма хлопотным. Завидев, что я приближаюсь с тарелкой, Разбойники с громким визгом бросались к дверце. Только открою — вся ватага вырывается наружу, выбивает у меня из рук тарелку и валится на землю, предоставляя мне разбираться в месиве из сырого мяса, битых яиц, молока и кусимансе. И мне же сплошь и рядом доставались укусы — не потому, что зверюшки таили зло против меня, а потому, что принимали мои пальцы за нечто съедобное. Что говорить, процесс кормления Разбойников был не только затруднительным, но и болезненным. К тому времени, когда я благополучно привез их в Англию, укусов на моем счету накопилось вдвое больше, чем от любых других животных, каких я когда-либо содержал. Можете представить себе, как облегченно я вздохнул, сдав их в зоопарк.
На другой день я пошел посмотреть, как они осваиваются на новом месте. Разбойники бродили по огромной клетке, явно растерянные и озадаченные обилием непривычных звуков и картин. Бедняжки, сказал я себе, куда подевалась их прыть. Они выглядели такими потерянными и покорными… Мне даже стало жаль, что я разлучился с ними. Просунув палец в дырку проволочной сетки, я поманил бывших своих питомцев. Может, им станет полегче, если пообщаются со знакомым человеком…
Поистине, прежняя наука не пошла мне впрок: в ту же секунду Разбойники дружной ватагой бросились к ограде и вцепились в мой палец, что твои бульдоги. С воплем отдернул я руку и, уходя от клетки и вытирая окровавленный палец, решил, что, пожалуй, не так уж и жаль с ними разлучаться. Конечно, без Разбойников жизнь, быть может, потеряет какие-то яркие краски, зато мучений будет гораздо меньше.

Глава десятая
Вильгельмина

Большинство людей, услышав, что я отлавливаю диких зверей для зоопарков, обычно задают одни и те же вопросы в одной и той же последовательности. Прежде всего их интересует, опасное ли это дело. Отвечаю: нет, не опасное, если не допускать глупых промашек. Затем меня спрашивают, как именно я ловлю животных. Этот вопрос потруднее, потому что есть сотни способов отлова диких зверей, и подчас никакая заранее отработанная методика не годится, приходится импровизировать на ходу. Третий непременный вопрос гласит: вы, наверно, привязываетесь к вашим подопечным и после экспедиции вам должно быть горько с ними расставаться? Отвечаю: конечно, привязываюсь, и зачастую расставание с животным, которое ты содержал восемь месяцев, дается очень тяжело.
Иной раз привязываешься к самым неожиданным животным, к какой-нибудь странной твари, которая в обычных условиях никогда не вызвала бы у тебя симпатии. Одним из таких незабываемых созданий была Вильгельмина.
Вильгельмина представляла отряд фринов, или жгутоногих пауков, и скажи мне кто-нибудь наперед, что наступит день, когда я проникнусь хотя бы малой толикой расположения к жгутоногому, я ни за что не поверил бы в такой прогноз. Жгутоногий паук менее какой-либо иной твари, населяющей нашу землю, заслуживает эпитета «привлекательный». Тому, кто (вроде меня) не поклонник пауков, фрин вполне может показаться ожившим кошмаром. Представьте себе паука величиной с грецкий орех, который побывал под паровым катком, и к получившейся лепешке приделано несметное множество длинных, тонких, изогнутых ног, так что общая площадь, занимаемая этим созданием, примерно равна суповой тарелке. В довершение всего спереди у фрина (если тут вообще можно говорить о каком-либо переде) торчат напоминающие бич, тонкие и чудовищно длинные (у крупных особей — до тридцати сантиметров) ногощупальца. Фрин передвигается вверх, вниз и в стороны с одинаковой легкостью и с поразительной быстротой; его отвратительное тело протискивается в такие щели, куда и папиросную бумагу врядли просунешь.
Таковы жгутоногие пауки, и всякому, кто относится к паукам без симпатии, фрин может показаться олицетворением сатаны. К счастью, фрины совершенно безобидны, разве что у вас слабое сердце.
Впервые я познакомился с родичами Вильгельмины во время одной из моих экспедиций в дождевые леса Западной Африки. По ряду причин охота в этих лесах всегда сопряжена с трудностями. Начнем с того, что деревья здесь огромны, некоторые достигают пятидесяти метров в высоту, а толщиной равны заводской трубе. Густая пышная крона заплетена вьющимися растениями; ветви украшены паразитными растениями и напоминают висячие сады. Когда такая крона начинается в двадцати пяти — тридцати метрах над землей, чтобы добраться до нее, надо лезть по гладкому как доска стволу, и первые двадцать с лишним метров не найдется ни одного сука вам в помощь. А ведь зеленый верхний ярус леса — самый густонаселенный: на макушках деревьев в относительной безопасности обитает множество животных, которые никогда или почти никогда не спускаются на землю. Ставить ловушки среди лесного полога — дело сложное и трудоемкое. Порой полдня уходит лишь на то, чтобы придумать способ добраться до кроны и примостить ловушку. И только вы благополучно спустились на землю, как ловушка с веселым звоном шлепается рядом с вами — начинай всю волынку сначала. А потому, хотя установка ловушек в древесных кронах относится к числу неизбежных неприятных процедур, вы постоянно стараетесь измыслить какой-нибудь более легкий способ добыть нужных вам тварей. Один из самых успешных и увлекательных, на мой взгляд, приемов — окуривание лесных великанов.
Некоторые деревья, на вид совсем здоровые и крепкие, на самом деле оказываются полыми наполовину, а то и на всю свою длину. Вот за ними-то я и охочусь, но высмотреть их не так-то просто. Хорошо, если за целый день поисков попадается полдюжины; еще лучше, если хотя бы одно из них оправдает ваши усилия, когда вы его обкурите.
Окуривание дуплистого дерева — это целое искусство. Сперва, если необходимо, надо расширить отверстие в основании ствола и сложить перед ним сухие прутики для костра. После этого два африканца лезут наверх, чтобы закрыть сетями все дыры и щели в верхней части ствола и перехватывать спасающихся от дыма животных. Завершив эти приготовления, вы разводите костер. Как только пламя начинает с треском пожирать прутики, кладете сверху охапку зеленых листьев. Тотчас пламя пропадает, вместо него над костром поднимается клуб густого едкого дыма. Полая внутренность дерева играет роль огромного дымохода, засасывающего весь дым.
Пока не разведен костер, вы даже не подозреваете, сколько в дуплистом стволе всевозможных щелей и дыр. На глазах у вас тоненькая струйка дыма словно по волшебству начинает виться над невидимой щелочкой метрах в шести над землей. Проходит несколько секунд, и в трех метрах выше извергают клубочки дыма еще какие-то крохотные подобия пушечных жерл. Наблюдая за появляющимися вдоль ствола дымовыми струйками, вы можете следить, как идет окуривание. Если вам попалось удачное дерево, следить придется лишь до половины высоты ствола, после чего животные дружно покидают свои убежища, и вам уже не до наблюдений.
Дуплистое дерево с живыми обитателями можно сравнить с многоэтажным домом. Первый этаж занят, допустим, огромными, с яблоко величиной, улитками-ахатинами, и они покидают свою обитель с предельной скоростью, на какую только способна улитка в минуты тревоги. Примеру ахатин следуют другие животные, предпочитающие жить поближе к земле или попросту не умеющие лазить, например крупные лесные жабы с раскрашенной под цвет сухого листа спиной и с изумительно красивой темно-красной полосой на боках. Жабы выходят вразвалку из недр ствола с удивительно потешным, негодующим выражением на морде, а очутившись на воздухе, припадают к земле и озираются с растерянным и жалким видом.
Выселив нижних жильцов, вы вскоре можете видеть, как устремляются к выходу верхние. Почти всегда впереди идут огромные многоножки, очаровательные существа, напоминающие коричневые сосиски с бахромой ног вдоль нижней части тела, вполне безобидные и несколько глуповатые; я даже испытываю к ним некоторую слабость. Хотите посмотреть на забавный номер — посадите такую многоножку на стол. Лихорадочно перебирая всеми своими ногами, она направится к краю стола и, не замечая, что стол кончился, будет упорно шагать в пустоте, пока тело не начнет перевешивать. Наполовину вися в воздухе, остановится, поразмыслит и в конце концов придет к выводу, что что-то не так. После чего включит задний ход, начиная с последней пары ног, вернется целиком на стол и двинется в обратную сторону — лишь для того, чтобы на другом краю все повторилось.
Тотчас после появления гигантских многоножек дружно покидают свои убежища все остальные обитатели дупла. Одни устремляются вверх, к кроне, другие — вниз. Тут и белочки в зеленоватой шубке, с черными ушками и чудесным оранжево-красным хвостом, и большущие серые сони, которые мчатся галопом, распушив свой хвост наподобие клуба дыма; можно увидеть чету лемуров с огромными простодушными глазами и удлиненными, дрожащими, как у дряхлого старика, тонкими руками. И конечно же, вы увидите летучих мышей — здоровенных, дородных, бурых летучих мышей с причудливым, напоминающим цветок узором на кожистом носу и с большими прозрачными ушами. Есть и ярко-рыжие летучие мыши с поросячьей мордочкой и свисающими на голову черными ушами. Но главные участники карнавального шествия дикой фауны — жгутоногие пауки. С жуткой, даже пугающей скоростью они бесшумно носятся вверх-вниз по стволу, втискивают свое отвратительное на вид тело в тончайшие щели, уходя от вашего сачка, тут же выныривают в трех метрах ниже и бегут прямо на вас, словно намереваясь укрыться в складках вашей рубахи. Вы поспешно отступаете, и тварь опять исчезает, только трепещущие кончики ногощупалец, которые торчат из расщелины, не способной вместить и визитную карточку, выдают ее местонахождение. Ни один из многочисленных обитателей западноафриканских лесов не подвергал мою нервную систему таким испытаниям, как фрин. День, когда особенно крупный и длинноногий экземпляр, воспользовавшись тем, что я прислонился к дереву, решил пробежаться по моей голой руке, навсегда врезался мне в память. Случай этот обошелся мне по меньшей мере в год жизни.
Но вернемся к Вильгельмине. Это было благовоспитанное маленькое дитя из числа десятка жгутоногих паучат, с которыми я близко познакомился после того, как — можно сказать, совершенно случайно — поймал их мамашу.
Уже несколько дней я обкуривал в лесу дерево за деревом, охотясь на редкого и робкого зверька, известного под названием идиуруса, или планирующей мыши. У этих крохотных млекопитающих, похожих на мышь с волосатым длинным хвостом, от лодыжки до запястья тянется своеобразная кожистая перепонка, позволяющая животным перелетать с дерева на дерево с легкостью ласточки. Идиурусы живут колониями в дуплах, так что проблема заключается в том, чтобы найти дерево с такой колонией. И когда мне после долгих бесплодных усилий удалось-таки не только обнаружить желанную семейку, но и поймать несколько особей, я был просто счастлив. Настолько, что даже начал смотреть с благосклонным интересом на метавшихся по стволу многочисленных фринов. Внезапно мой взгляд остановился на каком-то совершенно необычном по виду и поведению экземпляре. Я присмотрелся. Во-первых, шоколадное тело этого фрина было одето в некое подобие зеленоватой шубки. Во-вторых, он спускался вниз по дереву медленно и осторожно, без обычных для фрина рывков и финтов.
Может быть, зеленая шубка и медлительность — признаки весьма преклонного возраста? Я шагнул ближе и с удивлением обнаружил, что шубка состоит из детенышей, каждый из которых не превышал размерами ноготь моего большого пальца. Судя по всему, они лишь недавно появились на свет. Их ядовито-зеленая окраска (излюбленный цвет кондитеров, украшающих торты) резко контрастировала с темным телом мамаши, чьи осторожные, неторопливые движения явно диктовались боязнью уронить кого-нибудь из отпрысков. С легким раскаянием я отметил про себя, что до сих пор не уделял особого внимания личной жизни жгутоногих пауков; мне никогда не приходило в голову, что самка фрина такая заботливая мамаша, даже носит на спине свое потомство. Коря себя за невнимательность, я решил немедленно воспользоваться случаем и заняться изучением этих созданий. С предельной осторожностью, чтобы не пропал ни один отпрыск, поймал самку и отнес в свой лагерь.
Здесь я поместил мамашу со всем потомством в большую коробку, куда положил вдоволь листьев и кусочков коры, чтобы узнице было где прятаться. Каждое утро я заглядывал под кору — сами понимаете, очень осторожно заглядывал, — проверяя, все ли в порядке. Поднимешь кусочек коры, играющей роль укрытия, — самка срывается с места и влезает на стенку коробки. Естественно, это меня огорчало, я каждый раз вздрагивал и спешил закрыть крышку, боясь, как бы нечаянно не прищемить ей ногу или усик. К счастью, дня через три паучиха освоилась и спокойно позволяла мне сменять листья и кору.
Два месяца держал я в коробке паучиху с ее детенышами. Со временем паучата перестали кататься верхом на родительнице. Они расселились в разных уголках коробки и, подрастая, постепенно сменяли зеленую окраску на коричневую. Вырастут из старой шкурки — разрывают вдоль спины и сбрасывают, как и положено паукам. После каждой линьки детеныш становился покрупнее и покоричневее. Если мамаша спокойно уписывала все подряд, от небольших кузнечиков до крупных жуков, то детеныши были более разборчивыми, им подавай мелких паучков, слизняков и тому подобную легко усвояемую пищу. Они явно чувствовали себя отменно, и я даже начал гордиться своими питомцами; Но однажды, вернувшись в лагерь после охоты в лесу, я обнаружил, что случилась трагедия.
Ручная мартышка из рода гусаров, которую я держал на привязи около палатки, перегрызла веревку и решила обследовать лагерь. До того как ее побег был обнаружен, она успела уплести гроздь бананов, три плода манго и четыре крутых яйца, разбила две бутылки с дезинфицирующей жидкостью и в довершение всего сбросила на пол мою коробку с жгутоногими пауками. Коробка развалилась, семейство фринов рассыпалось по полу, и мартышка, это вконец испорченное существо, принялась его уписывать. К тому времени, когда я возвратился в лагерь, она уже опять сидела на привязи и судорожно икала.
Я поднял с пола свой питомник фринов и уныло заглянул внутрь, проклиная себя за то, что держал коробку в легко доступном месте, и понося мартышку за ее ненасытную утробу. И вдруг с удивлением и восторгом обнаружил восседающего на кусочке коры паучонка, единственного уцелевшего после побоища члена фриновой семьи. Бережно перенес его в не столь просторное, зато более надежное убежище, засыпал дарами в виде слизней и подобных лакомств и — сам не знаю почему — окрестил Вильгельминой.
Осуществляя опеку над мамашей Вильгельмины и самой Вильгельминой, я кое-что узнал о повадках жгутоногих пауков. Так, я обнаружил, что голодные фрины не прочь поохотиться и днем, однако всего активнее они ночью. Весь день Вильгельмина производила довольно апатичное впечатление, но вечером словно пробуждалась к жизни и, если можно так выразиться, расцветала. Носилась взад-вперед по своей коробке, держа наготове клешни и прощупывая путь резкими движениями длиннейших педипальпов. Полагают, что эти чудовищно удлиненные ноги играют только роль щупалец, однако у меня сложилось впечатление, что их функции этим вовсе не ограничиваются. На моих глазах они как бы нацеливались на насекомое, замирали в воздухе, чуть подрагивая, и Вильгельмина вся подбиралась, словно учуяла или услышала добычу этими длинными конечностями. Иногда она начинала подкрадываться к жертве в такой позе, иногда же просто выжидала, пока несчастное насекомое само не придет в ее объятия, после чего мощные клешни проворно отправляли его в рот охотницы.
По мере того как Вильгельмина становилась старше, я предлагал ей все более крупную добычу и убедился в том, что моя подопечная наделена незаурядным мужеством. Хочется сравнить ее с драчливым терьером, который на рослого противника бросается с особым остервенением. Отвага и искусство Вильгельмины в поединках с насекомыми, превосходящими ее ростом, настолько меня пленили, что однажды я, поддавшись неразумному порыву, посадил к ней здоровенную кобылку. Без малейшего колебания Вильгельмина бросилась на врага и вонзила клешни в его тучное брюшко. Можете представить себе мой испуг, когда кобылка лихо взбрыкнула своими мощными задними ногами, подскочила вместе с Вильгельминой, с громким стуком ударилась о проволочную сетку, которой был забран верх коробки, и шлепнулась обратно на пол. Однако столь решительный отпор ничуть не обескуражил Вильгельмину, она продолжала крепко стискивать клешнями мечущуюся жертву, пока та не выбилась из сил, после чего охотница в два счета довела до конца расправу. Все же с той поры, боясь, как бы Вильгельмина в столь буйной потасовке не осталась без ноги или без усика, я давал ей только мелких насекомых.
Я успел сильно привязаться к Вильгельмине и гордился ею: насколько мне было известно, до меня никто не содержал в неволе жгутоногого паука. К тому же она стала вполне ручной. Стоило мне постучать пальцами по коробке, как Вильгельмина выходила из-под кусочка коры и отвечала взмахами ногощупалец. Если я затем просовывал руку в ее убежище, она забиралась на мою ладонь и преспокойно поедала столь любимых ею слизней.
Когда подошла пора готовиться к перевозке моей многочисленной коллекции в Англию, я призадумался над дальнейшей судьбой Вильгельмины. Путешествие должно было продлиться не меньше двух недель, и я не видел никакой возможности запасти для нее достаточно корма на такой срок. Решил попытаться приучить ее к сырому мясу. Я далеко не сразу преуспел, но изловчился наконец двигать кусочек мяса так, что он казался живым. Вильгельмина жадно хватала добычу, и столь необычный корм явно шел ей впрок. Всю дорогу до побережья она проделала на грузовике с видом многоопытного путешественника, сидя в своей коробке и посасывая кусок сырого мяса. В первый день на борту парохода Вильгельмина слегка приуныла от непривычной обстановки, но морской воздух вернул ей бодрость, и она стала резвиться. И дорезвилась…
Однажды вечером в час кормления Вильгельмина мигом взбежала по моей руке до самого локтя, и не успел я оглянуться, как она приземлилась на ближайшем люке. Продолжая рекогносцировку, она уже хотела протиснуться в щель под люком, но тут я опомнился и ухитрился схватить ее. С того раза я соблюдал при кормлении величайшую осторожность, да и сама Вильгельмина как будто остепенилась и обрела прежнее самообладание.
Так продолжалось несколько дней, пока жалобные взмахи ногощупалец Вильгельмины не тронули мое сердце и я не посадил ее себе на ладонь, чтобы угостить последними припасенными в железной банке слизнями. Чинно сидя на моей ладони, она спокойно уплела двух слизней, потом вдруг прыгнула. Худшего момента для прыжка нельзя было выбрать, потому что в эту самую секунду налетел порыв ветра и унес ее за переборку. В воздухе мелькнули отчаянно размахивающие ноги, миг — и Вильгельмина очутилась за бортом и затерялась в просторах океана. Я бросился к фальшборту — куда там, разве рассмотришь в хаосе пены и волн такую крошку… Не мешкая, я бросил в море коробку Вильгельмины: авось, натолкнется на нее и воспользуется как плотом. Смешно, разумеется, но не мог же я предоставить Вильгельмине тонуть, не предприняв никаких попыток для ее спасения. Я ругал себя последними словами за то, что вынул ее из коробки. Право, никогда не думал, что на меня так сильно подействует утрата подобного существа. Я по-настоящему привязался к Вильгельмине, да и она явно прониклась ко мне доверием. И надо же было нашей дружбе кончиться так трагически! Одно лишь меня слегка утешало: после знакомства с Вильгельминой я уже никогда не буду смотреть с прежним отвращением на жгутоногих пауков.

Глава одиннадцатая
Воспитание муравьеда
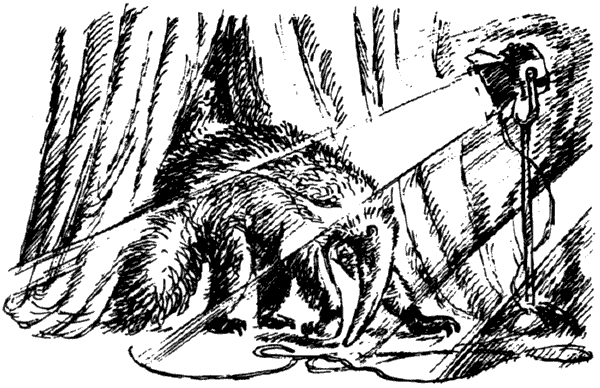
Держать коллекцию из двухсот птиц, рептилий и млекопитающих — примерно то же, что взять на себя заботу о двухстах младенцах ясельного возраста. От вас требуется изрядное терпение и упорный труд. Вы обязаны обеспечить их подходящим питанием и достаточно просторными клетками, следить, чтобы они не перегрелись в тропиках и не озябли, приближаясь к Англии. Вам надлежит освобождать своих подопечных от глистов, клещей и блох и содержать в безупречной чистоте их клетки и посуду.
Но прежде всего вы должны заботиться о хорошем настроении ваших зверей. Даже при самом лучшем уходе дикое животное не приживется в неволе, если будет хандрить. Естественно, речь идет о взрослых пленниках, но иногда в лесу попадается дикий детеныш, оставшийся без матери, которая погибла по той или иной причине. В таких случаях вам предстоит особенно прилежно потрудиться и поволноваться, а главное — вы должны быть готовы окружить звереныша столь важной для него заботой и теплом: ведь через день-два вы превратитесь для него в родителя, малыш будет во всем полагаться на вас.
Понятно, такая ответственность отнюдь не облегчает вашу жизнь. Мне случалось выступать в роли приемного отца одновременно шести зверенышей, а это дело нешуточное. Не вдаваясь в другие подробности, представьте себе только, что вам надо встать в три часа ночи и спросонок бродить по комнате, готовя шесть бутылочек с молоком, вставлять, как говорится, спички в глаза, чтобы добавить в молоко нужное количество витаминных капель и сахара, и сознавать при этом, что ровно через три часа придется снова вставать и повторять всю процедуру. Однажды мы с женой отправились в зоологическую экспедицию в Парагвай — похожую на башмак страну, что расположена почти в самом центре Южной Америки. Здесь, в глухом уголке равнин Гран-Чако, нам удалось собрать отменную коллекцию животных. В зоологической экспедиции вас подстерегают всевозможные эксцессы, не связанные с животными, зато изрядно действующие на нервы, а то и вовсе срывающие ваши планы. Слава Богу, до тех пор нам еще не доводилось сталкиваться с политическими препятствиями. Однако на сей раз в Парагвае был совершен переворот, и нам пришлось выпускать на волю почти всех наших животных, а самим поспешно удирать в Аргентину на крохотном четырехместном самолетике.
Незадолго до нашего бегства в лагерь явился индеец с мешком, из которого доносились весьма необычные звуки, издаваемые то ли рожающей виолончелью, то ли простуженным ослом. Индеец развязал мешок и вытряхнул из него обаятельнейшего звереныша. Это был детеныш большого муравьеда, которому исполнилось не больше недели от роду: величиной с крупного шпица; окраска шерсти — черная, пепельно-серая и белая; длинная узкая морда и малюсенькие, еще мутноватые глаза. По словам индейца, детеныш бродил в лесу и жалобно хныкал. Скорее всего, его мамашу прикончил ягуар.
Появление этого малыша поставило меня в затруднительное положение. Скоро нам улетать, а самолет так мал, что придется оставить большую часть снаряжения, чтобы захватить с собой пять-шесть животных, с которыми мы не хотели расставаться. В такой ситуации казалось безумием приобретать муравьедика — он и весит немало, да к тому же потребует ухода и кормления. И насколько мне было известно, еще никто не пробовал кормить из бутылочки детеныша большого муравьеда. Надо отказываться… Только я принял это решение, как муравьедик, продолжая жалобно озираться мутными глазками, внезапно заметил мою ногу, радостно ухнул, взбежал по ноге вверх и улегся спать у меня на коленях. Я молча расплатился с индейцем и стал отцом одного из самых очаровательных детенышей, какие когда-либо встречались на моем пути.
Первая проблема почти тотчас заявила о себе. Бутылочка у нас нашлась, но наши запасы сосок пришли к концу. К счастью, тщательно обыскав все хижины маленькой деревушки, приютившей нашу экспедицию, мы все же обнаружили одну соску, очень старую и крайне негигиеничную на вид. После двух-трех фальстартов детеныш принялся сосать так энергично, что превзошел все мои ожидания. И все же кормление оказалось для нас мучительной процедурой.
Муравьедики в этом возрасте висят на мамашиной спине, и, поскольку мы взялись исполнять роль родителей, детеныш чуть не круглые сутки требовал, чтобы кто-нибудь из нас носил его на себе. А когти его достигали в длину семи-восьми сантиметров, и хватка была ой-ой. Во время кормления муравьедик нежно обнимал вашу ногу тремя лапами, а четвертой держался за палец руки и время от времени сильно сжимал его, полагая, что это может усилить приток молока из бутылочки. Под конец кормления вы чувствовали себя так, словно побывали в объятиях гризли, а ваши пальцы прищемило в дверях.
Первые дни я носил детеныша на себе, заботясь о его душевном равновесии. Муравьедику нравилось лежать у меня на плечах наподобие мехового воротника, свесив с одной стороны длинный нос, с другой — не менее длинный хвост. Стоило мне шевельнуться, как он от испуга вцеплялся в меня когтями, и я морщился от боли. Простившись с четвертой рубахой, я решил, что пусть уж лучше муравьедик цепляется за что-нибудь другое, и предложил ему мешок, набитый соломой. Детеныш безропотно принял замену и в промежутках между кормлениями преспокойно лежал в своей клетке, обнимая мешок. Мы уже окрестили его Сарой, теперь явился повод прибавить к имени фамилию, и стал наш питомец Сарой Держимешок.
Это был образцовый младенец. В перерывах между трапезами Сара смирно лежала на своем мешке, время от времени позевывая и демонстрируя розово-серый липкий язык длиной около тридцати сантиметров. А приходит пора кормиться — развивает такую энергию, что соска очень скоро из красной стала светло-розовой и уныло свисала с горлышка бутылки, а отверстие на конце расширилось до размеров спичечной головки.
Когда настало время покидать Парагвай на весьма ненадежном с виду четырехместном самолете, Сара всю дорогу мирно спала на коленях у моей жены, тихо посапывая и выдувая ноздрями влажные пузырьки.
Прибыв в Буэнос-Айрес, мы первым делом решили сделать Саре что-нибудь приятное. А именно — купить ей новую, чудесную, блестящую соску. Мы очень постарались и наконец подобрали соску нужного цвета, размера и формы, надели на бутылку и преподнесли муравьедику. Сара была возмущена. При виде новой соски она негодующе заухала и метким ударом лапы отшвырнула бутылочку прочь. Она упорно отказывалась есть и не успокоилась, пока мы не вернули на место старую, изношенную соску. Удивительно прочная привязанность: прошел не один месяц после нашего возвращения в Англию, а Сара все еще отвергала любые попытки заменить соску.
В Буэнос-Айресе мы разместили своих животных в пустующем доме на окраине. Из центра, где мы поселились, туда было около получаса езды на такси, и нам приходилось проделывать этот путь дважды, а то и трижды в день. Очень скоро мы убедились, что роль родителей муравьедика сильно осложняет нам общение с друзьями и знакомыми. Вы когда-нибудь пробовали в разгар обеда объяснить хозяйке дома, что вам немедленно надо уходить, чтобы покормить молоком муравьеда? Отчаявшись что-либо изменить, наши друзья, прежде чем звать нас в гости, стали справляться по телефону о часах кормления Сары Держимешок.
К этому времени Сара заметно подросла и стала куда самостоятельнее. После ужина она в одиночку совершала прогулку по комнате. Большое достижение, если учесть, что до тех пор она поднимала страшный крик, стоило нам хоть на шаг удалиться от нее. После прогулки ее тянуло поиграть. Игра заключалась в том, что Сара проходила мимо вас, задрав кверху носик и волоча по полу хвост, а вам полагалось поймать кончик хвоста и дернуть, в ответ на что она разворачивалась и легонько ударяла вас лапой. Этот маневр повторялся двадцать — тридцать раз, после чего следовало положить Сару на спину и минут десять чесать ей животик, меж тем как она с закрытыми глазами пускала от блаженства пузыри. Наигравшись, Сара послушно укладывалась спать. А попробуй уложить ее без игры — будет брыкаться, вырываться и хныкать, словом, безобразничать, словно испорченный ребенок.
Когда мы наконец погрузились на пароход, стало очевидно, что Сара не слишком одобрительно относится к морским путешествиям. Во-первых, ей не нравился запах парохода; во-вторых, сильный ветер так и норовил сбить ее с ног каждый раз, когда она совершала прогулку по палубе; и наконец, самое отвратительное, палуба никак не хотела вести себя смирно. То в одну сторону наклонится, то в другую, и Сара, жалобно хныкая, качалась и билась носом о переборки и крышки люков. Во второй половине дня, если у меня выдавалось свободное время, я выносил ее на прогулочную палубу, и мы вместе загорали, сидя в шезлонге. По просьбе капитана Сара даже совершила визит на мостик. Я-то подумал, что капитан был пленен ее обаянием, однако он признался, что просто захотел увидеть Сару поближе, чтобы выяснить, где у нее перед, а где зад.
Мы очень гордились Сарой, когда прибыли в Лондонский порт и она позировала для фоторепортеров с непринужденностью отпрыска какого-нибудь достославного рода. Она даже облизала одного репортера своим длинным языком. Это была великая честь, о чем я не преминул сообщить счастливчику, стирая липкую слюну с его пиджака. Я толковал ему, что Сара не каждого станет облизывать. Увы, судя по его лицу, мои слова показались ему малоубедительными.
Прямо из порта Сара отправилась в один из зоопарков Девоншира. Грустно было расставаться с нею, но нам регулярно сообщали, что муравьедик освоился, благополучно здравствует на новом месте и очень привязался к своему смотрителю.
Через несколько недель мне предстояло выступить с рассказом о своей работе в Концертном зале, и устроители решили, что будет неплохо, если я в заключение продемонстрирую каких-нибудь животных. Я сразу подумал о Саре. Администрация зоопарка и дирекция зала не возражали, но, поскольку дело было зимой, я попросил, чтобы Сару до выхода на сцену поместили в одной из артистических уборных.
Сара прибыла вместе со своим смотрителем на Паддингтонский вокзал, где я их и встретил. Она ехала в большой клетке, так как успела подрасти до размеров рыжего сеттера, и произвела немалый переполох на платформе. Заслышав мой голос, Сара бросилась к решетке и в знак нежного приветствия просунула между прутьями свой тридцатисантиметровый влажный язык. Стоявшие поблизости люди кинулись врассыпную, приняв его за необычного вида змею, и нам не сразу удалось найти носильщика, который отважился бы везти клетку к выходу.
Добравшись до Концертного зала, мы выяснили, что здесь только что кончилась репетиция симфонического оркестра. По длинному коридору докатили клетку Сары до отведенного ей помещения, в эту минуту дверь распахнулась и навстречу нам, дымя огромной сигарой, вышел всемирно известный дирижер Томас Бичем. Сара немедленно заняла освободившуюся после него артистическую уборную.
Пока я излагал свой текст, моя жена развлекала Сару, бегая с ней взапуски по комнате, чем изрядно напугала одного из местных рабочих, который решил, что зверь напал на женщину, вырвавшись из клетки. Но вот наступил великий момент, под гром аплодисментов Сару вынесли на сцену. Чрезвычайно близорукая, как и все муравьеды, она не могла рассмотреть публику. Растерянно поглядела по сторонам, пытаясь понять, откуда доносится шум, потом решила, что это не так уж и важно. Пока я расписывал достоинства Сары, она рассеянно бродила по сцене, заглядывала, громко фыркая, в углы, несколько раз подходила к микрофону и облизывала его (полагаю, сменившему нас артисту было потом нелегко от него оторваться). В тот самый миг, когда я рассказывал, как хорошо воспитана Сара, она разглядела стол посреди сцены и принялась чесать свою корму о его ножку, громко сопя от удовольствия. Ее проводили овациями.
После выступления Сара устроила в артистической уборной прием для избранных гостей, причем до того расшалилась, что затеяла беготню в коридоре. Наконец мы хорошенько укутали ее и посадили вместе со смотрителем на ночной девонширский поезд.
Сара вернулась в зоопарк основательно испорченным ребенком. Недолгое пребывание в роли звезды явно ударило ей в голову. Три дня она решительно отказывалась оставаться в одиночестве, бегала по клетке, громко ухала и принимала пищу только из рук.
Через несколько месяцев Сара понадобилась мне для телевизионной программы и снова вкусила сладость публичных выступлений. На всех репетициях она вела себя образцово, если не считать попыток поближе изучить телевизионную камеру, которые приходилось пресекать силой. Когда все кончилось, Сара наотрез отказалась возвращаться в клетку. Понадобились соединенные усилия мои, моей жены, смотрителя и заведующего студией, чтобы водворить ее обратно в узилище, ибо она успела еще подрасти: сто восемьдесят сантиметров от носа до хвоста, высота в холке — девяносто сантиметров, передние лапы толщиной с мою ляжку.
Недавно мы снова повидались с Сарой в ее зоопарке. С предыдущего свидания прошло полгода, и, откровенно говоря, я думал, что она нас забыла. При всей моей любви к муравьедам я первый готов признать, что они не обременены большим интеллектом, а полгода как-никак немалый срок. Однако стоило нам ее окликнуть, как она выскочила из спального отсека и подбежала к решетке, чтобы полизаться. Мы даже вошли в клетку и поиграли с Сарой — верный признак того, что она и впрямь нас узнала, потому что, кроме смотрителя, никто не осмеливался вторгаться в ее обитель.
Но вот настала печальная минута расставания. Сара долго смотрела нам вслед, сидя на соломе и пуская пузыри. Как сказала моя жена, это было все равно, что оставлять родного ребенка в интернате. Сара, несомненно, считала нас своими приемными родителями.
А вчера мы получили приятные новости: для Сары приобретен супруг. Правда, он еще слишком молод, чтобы помещать их в одну клетку, но ждать осталось недолго. Кто знает, может быть, на следующий год в это время мы станем дедушкой и бабушкой чудесного, резвого, здоровенького муравьедика!
Глава двенадцатая
Портрет Пабло

Странное дело: когда держишь у себя ручных животных, появляется склонность смотреть на них как на маленьких человечков, притом настолько сильная склонность, что вы даже начинаете приписывать им какие-то свои черты. Избежать антропоморфического подхода чрезвычайно трудно. Допустим, вы держите золотистого хомячка, смотрите, как он сидя ест орех, как его розовые лапки дрожат от возбуждения и защечные мешки наполняются запасами, и в один прекрасный день вам приходит в голову, что он — вылитый ваш дядюшка Амос, который точно так же восседает в своем любимом клубе, наслаждаясь солеными орешками и портвейном. И все: с этого дня, пусть хомячок остается хомячком, для вас он всегда будет одетым в рыжую меховую куртку миниатюрным дядюшкой Амосом с пухлыми щеками. Мало животных наделено достаточно сильным и самобытным характером, чтобы устоять против такого сравнения, мало среди них ярких индивидуальностей, которые заставляют вас воспринимать их как есть, а не как подобие крохотных человечков. Из сотен отловленных мной для зоопарков или для себя животных наберется не больше дюжины, заметно выделявшихся среди своих сородичей самобытной индивидуальностью и решительно не дававших мне повода принимать их за какое-нибудь другое существо.
К их числу я могу отнести черноухую мармозетку, малютку Пабло. Собственно, все началось во время зоологической экспедиции в Британской Гвиане. Однажды вечером я сидел, притаившись, в зарослях по соседству с поляной и внимательно наблюдал за норой, в которой, по всем данным, обитало некое интересующее меня животное. Заходящее солнце окрасило небо в изумительный нежно-розовый цвет; на этом фоне особенно четко проступали могучие деревья, оплетенные, словно исполинской паутиной, ползучими растениями. Ничто не действует на человека так умиротворяюще, как вечерний тропический лес. Я упивался картинами и красками, и в душе моей царило отрешенно-чуткое состояние, которое буддисты почитают первой ступенью к нирване. Неожиданно мое полузабытье было нарушено протяжным писком такой силы, будто мне вонзили иголку в ухо. Осторожно поворачивая голову, я пытался рассмотреть, откуда исходит звук. Его не могли издать ни древесная лягушка, ни какое-либо насекомое; и на птичий голос непохоже: слишком резко и немелодично. Внезапно метрах в десяти над собой я увидел виновника. По толстому суку, как по шоссе, раздвигая прилепившиеся к коре орхидеи и другие паразитические растения, выступала крохотная мармозетка. Вот остановилась, присела на корточках и снова издала пронзительный писк. На этот раз ей кто-то отозвался, и через несколько секунд на том же суку появились еще две мармозетки. Переговариваясь чирикающими голосами, вся компания пробиралась через орхидеи, тщательно исследуя листья и время от времени издавая ликующий возглас при виде жука или таракана. Одна из охотниц, наметив себе жертву, долго преследовала ее в орхидейной чаще, раздвигая лепестки с напряженным вниманием на своем крохотном личике. Только вознамерится схватить добычу — непременно что-то помешает, и насекомое успевает спрятаться за стеблем. В конце концов мармозетке повезло, и выброшенная наугад рука извлекла из листвы здоровенного таракана. Радостно чирикая, охотница поспешно сунула в рот отбивающуюся добычу, чтобы, чего доброго, не вырвалась. С блаженной мордочкой мармозетка уплетала таракана, после чего внимательно осмотрела свои руки с обеих сторон — не осталось ли еще кусочка?
Я был настолько увлечен картинами частной жизни мармозеток, что лишь после того, как маленький отряд скрылся в густеющих сумерках леса, почувствовал, что у меня онемела нога, а шейная мышца скована судорогой.
Следующая встреча с этими маленькими обезьянами состоялась много времени спустя, уже в Лондоне. Я зашел в один зоомагазин совсем по другому делу, и сразу же в глаза мне бросилась грязная, тесная клетка с десятком жалких взъерошенных мармозеток. Непрерывно толкаясь, они ютились на жердочке, которая явно была чересчур мала для всей ватаги. Вместе с взрослыми особями сидел исстрадавшийся детеныш. Тощенький, до предела запущенный, он был до того слаб, что его поминутно сталкивали с жердочки. Глядя на этих несчастных дрожащих зверушек, я вспомнил семейку веселых охотников среди орхидей в гвианском лесу и понял, что не покину лавку, не попытавшись спасти хотя бы одну мармозетку. Через пять минут выкуп был внесен, самого маленького узника, визжащего от страха, извлекли из клетки и поместили в картонную коробку.
Дома я окрестил нового постояльца Пабло и представил его своим родичам. Они смотрели на него с явным недоверием, но как только Пабло освоился на новом месте, он принялся покорять сердца, и вскоре все мы превратились в его покорных слуг. Невзирая на малые размеры (он вполне мог поместиться в чайной чашке), Пабло был наделен исключительно властным характером. Этому маленькому Наполеону невозможно было противостоять; в головке величиной с грецкий орех явно помещался незаурядный мозг. Первое время мы держали Пабло в просторной клетке в гостиной, где ему отнюдь не грозило одиночество, однако в заточении он чувствовал себя неуютно, и мы стали выпускать его на час-другой. Как говорится, себе на погибель. Пабло быстро убедил нас, что клетка вообще не нужна, и она очутилась на свалке, а бывший ее обитатель свободно разгуливал по всему дому. Превратившись в крохотного члена семьи, он вел себя как хозяин дома, а с нами обращался как с постояльцами. С первого взгляда вы приняли бы его за диковинную белочку, но у этой белочки было совсем человеческое личико и лукавые яркие карие глаза. Мягкая шерстка на туловище казалась пятнистой, потому что каждый волосок был разноцветным, с оранжевой, черной и серой полосой. Хвост — в черных и белых кольцах; на голове и шее шерсть шоколадного цвета, длинная, свисающая неровной бахромой на плечи и грудь. Крупные ушные раковины закрыты длинными кисточками тоже шоколадного цвета. Поперек лба, выше глаз и аристократически изогнутого носика, — широкое белое пятно.
Кто бы к нам ни приходил из людей, смысливших в животных, все в один голос твердили, что Пабло не протянет у нас долго. Дескать, мармозетки, уроженцы жарких тропических лесов Южной Америки, больше года не выдерживают климат Англии. Похоже было, что их «светлые» прогнозы и впрямь оправдаются, потому что через полгода у Пабло развилась какая-то форма паралича, и он совсем не мог двигать нижними конечностями. Упомянутые выше пророки предлагали умертвить беднягу; мы же делали все, чтобы его спасти. Пабло приходилось очень худо, и мы не могли оставаться безучастными зрителями. Четыре раза в день мы растирали ему теплым рыбьим жиром ноги, хвост и ягодицы, добавляли рыбий жир в его корм, включавший такие деликатесы, как виноград и груши. Несчастный малыш лежал на подушке, завернутый для тепла в вату, и мы поочередно ухаживали за ним. Больше всего он нуждался в солнечном свете, но английский климат не богат этим товаром, и соседи могли созерцать необычную картину, как мы целый месяц ходили с нашим увечным лилипутиком по саду, ловя каждый луч солнца. И что же вы думаете: под конец этого срока Пабло начал шевелить ступнями и подергивать хвостом. А еще через две недели он опять как ни в чем не бывало носился по всему дому. Мы были счастливы, хотя в комнатах еще много месяцев держался запах рыбьего жира.
Вместо того чтобы подорвать силы Пабло, болезнь, похоже, только закалила его; временами казалось, что ему вообще все нипочем. Мы не считали нужным его изнеживать; единственная уступка заключалась в том, что зимой ему клали грелку в постель. Он к ней так привык, что даже летом не хотел ложиться спать без грелки. Спальней ему служил ящик комода в комнате моей матери; постель состояла из старого халата и куска шубы. Укладывая Пабло спать, полагалось выполнить целый ритуал. Сначала мы расстилали в ящике халат и завертывали в него грелку, чтобы не обжигала. Из куска шубы делали нечто вроде косматого логова. Пабло забирался внутрь, сворачивался клубочком и блаженно зажмуривал глазки. Первое время мы задвигали ящик, оставляя лишь щелку для воздуха, чтобы Пабло не выходил утром слишком рано. Однако он очень скоро постиг искусство выдвигать ящик, проталкивая свою головенку в щель.
Около шести утра Пабло просыпался оттого, что остыла грелка, и начинал искать теплый уголок. Пробежит по полу, живо влезет по ножке на кровать моей матери и приземляется на перине. С приветственным писком спешит к изголовью, забирается под подушку и нежится в тепле, пока хозяйка постели не решит, что пора вставать. Оставшись один, Пабло приходил в крайнее негодование и сердито кричал что-то, стоя на подушке. Убедившись, что хозяйка отнюдь не помышляет возвращаться в постель, чтобы согреть его, он семенил по коридору к моей комнате и лез под одеяло. Блаженно простирался у меня на груди и наслаждался жизнью, пока и я не вставал. Теперь уже мне приходилось выслушивать его ругательства, изрыгаемые с самым свирепым выражением совершенно человеческого личика. Изложив все, что он обо мне думал, Пабло выбегал и забирался в постель к моему брату. Оттуда его быстро изгоняли, и оставалось искать убежища у моей сестры, где ему удавалось еще немного вздремнуть перед завтраком. Это странствие из кровати в кровать происходило каждое утро.
На первом этаже Пабло было где погреться: в гостиной стоял высокий торшер, которым он прочно завладел. Зимой он устраивался под абажуром возле самой лампочки и наслаждался теплом. Мы поставили у камина стул с подушкой, но Пабло предпочитал торшер, и приходилось ради него постоянно держать лампочку включенной. Естественно, это сильно отразилось на счете за электричество. Весной, с первыми теплыми днями, Пабло выходил в сад. Здесь его любимым местом была ограда; он либо сидел на ней, греясь на солнышке, либо сновал вверх и вниз, ловя пауков и прочие яства. Рядом с оградой стояло нечто вроде простенькой беседки из обросших вьюнками жердей; здесь Пабло укрывался от опасности. Много лет он состоял в непримиримой вражде с большим соседским белым котом. Этот зверь явно принимал Пабло за некую диковинную крысу, расправиться с которой считал своим прямым долгом. Не один томительный час провел он, подкрадываясь к противнику, но, поскольку белый кот на фоне зеленой травы был приметен, как снежный ком, ему не удавалось застичь Пабло врасплох. Сверкая желтыми глазами и облизываясь розовым языком, подходит ближе, ближе… А Пабло, подпустив его вплотную, срывается с места и мчится по ограде в свое укрытие. Очутившись в безопасности среди цветущих вьюнков, Пабло язвительно кричал что-то, будто уличный мальчишка, меж тем как обескураженный кот уныло бродил вокруг беседки, напрасно ища отверстие, куда он мог бы протиснуть свое дородное туловище.
Поблизости от ограды, между домом и зеленой беседкой, росли два молодых фиговых дерева. Мы окопали оба ствола глубокими канавами, которые наполняли водой в жаркую погоду. В один прекрасный день Пабло, беспечно щебеча себе под нос, шел по верху ограды и ловил пауков. Внезапно он поднял глаза и увидел, что его заклятый враг, белый котище, сидит впереди, преграждая путь к беседке. Оставалось только повернуть кругом и бегом возвращаться к дому, что и сделал Пабло, взывая о помощи громкими криками. Тучный кот не был таким опытным канатоходцем, он не мог развить на верху ограды полную скорость, тем не менее просвет между ним и добычей сокращался. Кот почти догнал Пабло, когда они поравнялись с фиговыми деревьями; от испуга малыш споткнулся и с диким воплем шлепнулся прямо в канаву с водой. Тут же вынырнул и, продолжая кричать и фыркать, стал барахтаться в канаве. Кот с изумлением воззрился на невиданное водное существо. К счастью, до того как он опомнился от удивления и выудил из воды добычу, я подоспел к месту происшествия и обратил в бегство белого охотника. Спасенный малыш был вне себя от ярости. Остаток дня он провел перед камином, завернутый в одеяло, и что-то мрачно бормотал себе под нос.
Этот случай пагубно отразился нанервах Пабло: он целую неделю отказывался гулять по ограде, и стоило ему хотя бы уголком глаза увидеть белого кота, как он принимался кричать и не успокаивался, пока кто-нибудь из нас не сажал его к себе на плечо.
Пабло прожил с нами восемь лет. Казалось, в нашем доме поселился озорной гном: никогда нельзя было угадать наперед, какую штуку он выкинет в следующую минуту. Ему в голову не приходило приспосабливаться к нам; это мы должны были подстраиваться под него. В частности, Пабло настаивал на том, чтобы есть вместе с нами, и то же, что ели мы. Сидя на подоконнике, он получал на завтрак блюдечко овсянки или кукурузных хлопьев с теплым молоком и сахаром. В обед ему подавали зелень, картофель и ложку пудинга. Когда мы садились пить чай, приходилось силой отгонять его от стола, иначе он с ликующими воплями нырял в банку с вареньем, полагая, что оно предназначено исключительно для него. Любое возражение на этот счет вызывало у него крайнее негодование. Ровно в шесть часов полагалось укладывать его в постель; если мы запаздывали, он начинал метаться перед своим ящиком, возмущенно вздыбив шерсть.
Нам пришлось приучить себя, прежде чем захлопывать двери, проверять, не примостился ли наверху Пабло: почему-то ему нравилось сидеть и размышлять на дверях. Но больше всего он нас осуждал, когда мы вечером куда-нибудь уходили и оставляли его дома одного. Вернемся — не скрывает своего возмущения. Попытаешься заговорить с ним — поворачивается спиной, забивается в угол и оттуда сверлит вас негодующим взором. Через полчаса весьма неохотно простит вас и с дарственной снисходительностью примет кусок сахару и блюдечко теплого молока на сон грядущий.
Сколько человеческого было в его реакциях! Когда на Пабло находило дурное настроение, он хмурился, ворчал и даже норовил вас ущипнуть. Когда же он был в нежном расположении духа, то подходил к вам с ласковым лицом, чмокая губами и высовывая язычок, взбирался на плечо и любовно пощипывал за ухо.
Нельзя было не восхищаться ловкостью, с какой Пабло передвигался по комнатам нашего дома. Ходить по полу было не в его обычаях, этот способ он не признавал. В своем родном лесу он прыгал бы с дерева на дерево, с лианы на лиану, но в обычном жилом доме нет таких усовершенствований. А потому трассой ему служили рамы картин. Сжимаясь в комочек, будто волосатая гусеница, хватаясь одной рукой и одной ногой, он с невообразимой скоростью переносился с одной рамы на другую, пока не приземлялся на подоконнике. По гладкому торцу двери Пабло взлетал проворнее и легче, чем вы поднялись бы по ступенькам лестницы. Иногда часть пути его подвозил пес, оседлав которого он уподоблялся крохотному цепкому наезднику. Пес прочно усвоил, что личность Пабло священна, и глядел на нас с немой тоской, пока мы не снимали обезьянку с его спины. Он недолюбливал Пабло по двум причинам: во-первых, ему было невдомек, с какой стати такой крысоподобной твари разрешается командовать в доме; во-вторых, Пабло всячески норовил ему досадить. Вися на подлокотнике кресла, ловил миг, когда пес проходил мимо, и дергал его за усы или за шерсть, после чего одним прыжком удалялся на безопасное расстояние. Или же, дождавшись, когда пес уснет, молниеносно атаковал его беззащитный хвост. Впрочем, иногда между ними устанавливалось нечто вроде временного перемирия, и пес разваливался на полу перед камином, а Пабло, восседая на его боку, тщательно расчесывал косматую шерсть.
Когда пришло время Пабло уйти из жизни, он обставил свой уход трогательно и достойно. Несколько дней ему нездоровилось, и он лежал под лучами солнца на своем куске шубы на подоконнике в комнате моей сестры. Однажды утром он стал отчаянным писком звать сестру, она перепугалась и закричала нам, что Пабло, похоже, умирает. Мы все бросили и побежали к ней на второй этаж. Обступив подоконник, внимательно осмотрели Пабло, но ничего тревожного не обнаружили. Он выпил молока и снова лег, глядя на нас бодрыми глазами. Мы заключили, что тревога была ложная, но внезапно Пабло весь обмяк. В ужасе мы силой разжали его челюсти и влили немного молока. Лежа на моих ладонях, он постепенно пришел в себя. Поглядел на нас, собрал последние силы, высунул язык и чмокнул губами в знак нежной любви. Откинулся назад и тихо умер.
Дом и сад сразу опустели без его гордой фигурки и яркой личности. Уже никто не кричал при виде паука: «Где Пабло?» Нас не будило в шесть утра прикосновение его холодных ног. Пабло сумел стать членом семьи, как ни один другой из наших питомцев, и его кончина была для нас настоящим горем. Даже соседский белый кот заметно приуныл, ибо без Пабло наш сад потерял для него всю прелесть.
Часть четвертая
Двуногие прямоходящие

Когда странствуешь по свету, коллекционируя животных, поневоле пополняешь свою коллекцию и представителями рода человеческого. К людским недостаткам я отношусь куда более нетерпимо, чем к изъянам животных, но мне явно везло, потому что чаще всего в своих путешествиях я встречался с чудесными людьми. Конечно, здесь играет роль профессия зверолова: людям всегда интересно познакомиться с представителем столь необычной специальности, и они всячески стараются вам помочь.
Одна из самых милых и мудрых женщин, с какими меня сталкивала жизнь, помогла мне втиснуть двух лебедей в кузов такси в центре Буэнос-Айреса, а всякий, кто когда-либо пытался перевозить живность в буэнос-айресском такси, оценит величие этого подвига. Один миллионер разрешил мне расставить клетки с зверьем на парадном крыльце его элегантной виллы и продолжал сохранять полную невозмутимость даже после того, как вырвавшийся на волю броненосец прошелся по самой роскошной клумбе, что твой бульдозер. Однажды нас поселила у себя хозяйка борделя (и все девушки в свободное время выступали в роли наших горничных), причем она не побоялась оскорбить начальника местной полиции, защищая наши интересы. В Африке один человек, известный своей неприязнью к чужакам и к животным, полторы недели терпел у себя в доме не только нас, но и пеструю коллекцию лягушек, змей, белок и мангустов. Капитан одного парохода в одиннадцать ночи спустился в трюм, сбросил китель, засучил рукава, стал помогать мне чистить клетки и готовить животным корм. Среди моих знакомых есть художник, который отправился за много тысяч километров, чтобы писать картины из жизни индейских племен, а, прибыв на место, настолько увлекся моими делами, что занялся отловом животных и не написал ни одной картины. Впрочем, он при всем желании не смог бы заниматься живописью, после того как я забрал у него все холсты на клетки для змей. Или возьмите маленького лондонца, служащего министерства общественных работ, который, совершенно не зная, что я за человек, вызвался отвезти меня за сотни километров на своем новеньком «остине» по совершенно жутким африканским дорогам, чтобы я мог проверить слух о поимке детеныша гориллы. Единственной наградой ему было зверское похмелье и лопнувшая рессора.
Иной раз мне попадались такие интересные и необычные люди, что я боролся с соблазном бросить животных и заняться антропологией. Но тут, как назло, дорогу переходил какой-нибудь неприятный образец. Полицейский чин, который цедил: «Наш долг, ребята, помогать вам, во всем помогать…» — и тут же делал все, чтобы испортить нам настроение. Инспектор в Парагвае, который, невзлюбив меня, две недели молчал о том, что местные индейцы поймали по моей просьбе чудного редкого зверя и ждали, когда я за ним приду. К тому времени, когда зверь попал в мои руки, он настолько ослаб, что не мог стоять на ногах и через двое суток умер от пневмонии. Моряк, который однажды ночью в приступе садистского юмора опрокинул несколько клеток, в том числе клетку с четой чрезвычайно редких белок и новорожденным бельчонком. Бельчонок погиб.
К счастью, такого рода типы редки. Я с лихвой вознагражден приятными знакомствами и все же буду, пожалуй, держаться животных.

Глава тринадцатая
Мактуутл

Услышав, в чем заключается моя работа, меня непременно начинают упрашивать, чтобы я поподробнее рассказал о своих многочисленных приключениях в «джунглях», как люди упорно выражаются.
Возвратившись в Англию после первого путешествия, я с жаром описывал сотни квадратных километров дождевого леса, в котором жил и трудился восемь месяцев. Рассказывал, что у меня там было много чудесных дней и за все время я пережил одно лишь приключение, заслуживающее название «жуткого», после чего мои слушатели заключали, что я либо не в меру скромен, либо дурачу их.
Направляясь вторично в Западную Африку, я познакомился на пароходе с молодым ирландцем по фамилии Мактуутл; его ожидала какая-то работа на банановой плантации в Камеруне. Он признался мне, что еще никогда не выезжал за пределы Англии; Африка казалась ему самым опасным местом, какое только можно себе представить. Больше всего он явно страшился, что все ядовитые змеи африканского материка соберутся в порту встречать его. Чтобы успокоить моего знакомца, я рассказал, что за многие месяцы, проведенные в лесу, встретил ровным счетом пять змей, да и те улепетнули так молниеносно, что мне не удалось поймать ни одной. Тогда Мактуутл спросил, опасно ли вообще их ловить; я ответил, как это и есть на самом деле, что большинство змей совсем нетрудно поймать, надо только не терять голову и хорошо знать повадки данного вида. Мои слова заметно утешили Мактуутла, и, сходя на берег, он поклялся к моему возвращению в Англию снабдить меня какими-нибудь редкими особями. Я сказал ему спасибо и тут же позабыл об этом разговоре.
Пять месяцев спустя я был готов отправляться в Англию с коллекцией, насчитывающей две сотни представителей разных видов, от кузнечиков до шимпанзе. Пароход должен был отходить поздно ночью, а незадолго до этого перед моим временным лагерем, взвизгнув тормозами, остановился небольшой фургон, и я увидел молодого ирландца в сопровождении нескольких друзей. Ликуя, он сообщил, что обещанные экземпляры ждут меня. Из его описания я понял, что на плантации, где он работал, есть большая канава, очевидно вырытая для дренажа, и в этой канаве полным-полно змей, мне остается лишь поехать туда и забрать их.
Он был так счастлив оттого, что нашел для меня столько ценных экземпляров, что у меня не хватило духу прямо сказать: хоть я и влюблен в свою профессию натуралиста, мне вовсе не улыбалась перспектива в полночь барахтаться в канаве, набитой гадами. К тому же он успел расписать мои подвиги своим друзьям, так что им тоже не терпелось посмотреть, как я ловлю змей. Скрепя сердце я заставил себя произнести, что готов отправиться на лов рептилий. Редко доводилось мне задним числом так сожалеть о принятом решении…
Вооружившись большим брезентовым мешком и палкой с металлической рогулей на конце, я вместе с возбужденными болельщиками втиснулся в фургон, и мы тронулись в путь. В половине первого машина остановилась перед домиком молодого ирландца, и мы пропустили по стаканчику, прежде чем идти к канаве.
— Может быть, вам понадобится веревка? — спросил Мактуутл.
— Веревка? Зачем это?
— Ну как же, чтобы спуститься в ров, — бодро объяснил он.
Я ощутил неприятное щекотание под ложечкой. Попросил подробнее описать мне ров и услышал, что длина его — около восьми метров, ширина — побольше метра, глубина — три с половиной метра. Товарищи Мактуутла принялись дружно заверять меня, что без веревки я туда не спущусь. Пока хозяин отправился искать веревку (мысленно я изо всех сил желал ему вернуться ни с чем), я живо пропустил еще стаканчик, снова и снова спрашивая себя: как это меня угораздило отмочить такую глупость — согласился ехать на какую-то дурацкую охоту за змеями?.. Ловить змей на деревьях, на земле, в мелкой канаве — еще куда ни шло, но скопище рептилий на дне глубокого рва, в который без веревки не спуститься, не сулило ничего хорошего. Заговорили об освещении, выяснилось, что ни у кого нет фонаря. Я сразу воспрянул духом, усмотрев повод отступить, не теряя достоинства. Однако молодой ирландец, вернувшийся к этому времени с веревкой, был твердо намерен одолеть все препоны на пути к осуществлению своего плана. Освещение? Он привяжет на веревочку керосиновый фонарь и лично спустит его в ров, чтобы посветить мне! Стараясь подавить предательскую дрожь в голосе, я поблагодарил его.
— Вот и хорошо, — сказал он. — Уверен, что вы будете вполне довольны. Этот фонарь куда лучше электрического, а свет вам еще как понадобится, ведь там этих чертей видимо-невидимо!
Нам пришлось еще подождать, пока подоспел брат ирландца со своей женой. Молодой хозяин считал, что будет очень жаль, если они упустят — быть может, единственный в жизни! — случай посмотреть, как ловят змей.
И вот маленькая группа в составе восьми человек шагает через банановую плантацию. Семеро оживленно смеялись и болтали, предвкушая ожидающее их представление, а я вдруг сообразил, что моя одежда вовсе не подходит для охоты на змей. На мне были тонкие шорты и легкие парусиновые туфли; даже самая тщедушная рептилия без труда пронзит зубами мою кожу при такой защите. Однако, прежде чем я успел сообщить об этом своим спутникам, мы уже очутились на краю рва. При свете лампы он показался мне удивительно похожим на просторную могилу. Описание моего молодого приятеля было достаточно верным, он забыл только уточнить, что сухие земляные стенки рва испещрены дырами и щелями, в которых могло укрыться несметное множество рептилий. Я наклонился над краем ямы, и услужливые руки опустили фонарь на веревочке вниз, чтобы я мог оценить обстановку и попытаться определить змей. До этой минуты я подбодрял себя надеждой, что Бог милостив и мне предстоит потягаться с каким-нибудь безобидным видом, но, когда фонарь повис над дном, надежда эта мигом улетучилась, ибо я увидел, что ров кишит молодыми габонскими гадюками, а эти змеи относятся к самым ядовитым в мире.
Днем габонская гадюка крайне флегматична и поймать ее проще простого, однако ночью, когда змея оживает и выходит на охоту, она способна развить грозную скорость. Молодые обитательницы рва были длиной побольше полуметра, толщиной сантиметров около пяти и явно чувствовали себя весьма бодро. Они резво ползали по кругу, то и дело поднимая стреловидную голову, чтобы обозреть лампу, и очень многообещающе манипулировали длинным языком.
Мне показалось, что всего гадюк восемь, однако их раскраска сливалась с цветом прелой листвы на дне ямы, и я вполне мог посчитать дважды одну и ту же змею. В это мгновение мой приятель тяжело ступил на край рва, обрушив вниз большой ком земли, рептилии дружно подняли головы и громко зашипели. Зрители отпрянули назад, и я решил, что сейчас самое время заявить об изъянах моей одежды. Мактуутл тотчас вызвался одолжить мне свои брюки из плотной саржи и крепкие башмаки. Отпала последняя зацепка. У меня не хватило духу больше возражать, и мы обменялись одеждой, скромно зайдя за куст. Мактуутл был телом покрупнее меня, так что брюки его висели на мне мешком; впрочем, как он справедливо заметил, подвернув внизу штанины, я только лучше защищу от укусов лодыжки…
С тоской в душе приблизился я снова к яме. Болельщики плотным кольцом окружили ров и взволнованно переговаривались. Я обвязался вокруг пояса веревкой (как вскоре выяснилось, скользящим узлом) и полез в яму. Мой спуск отнюдь не походил на воздушные движения театральной феи; стенка рва была далеко не прочной, и, пытаясь упереться ногами, я каждый раз сбрасывал вниз комья земли, чем вызывал недовольное шипение рептилий. А без опоры я болтался в воздухе на веревке, которую постепенно опускали мои спутники, и скользящая петля все больнее врезалась мне в поясницу. Наконец, глянув вниз и убедившись, что до земли осталось всего около метра, я крикнул, чтобы перестали опускать, дескать, мне сперва надо осмотреться и выбрать для приземления место, свободное от змей. Тщательное визуальное исследование показало, что как раз подо мной есть подходящий участок, и я скомандовал «майна!», всей душой надеясь, что мой голос звучит бодро и бесстрашно. Спуск возобновился, и тут одновременно произошли две вещи: во-первых, с одной ноги свалился одолженный мне башмак, во-вторых, фонарь, который никто из нас не сообразил получше накачать, почти совсем потух, так что света от него было не больше, чем от кончика сигары. В ту же секунду моя босая нога коснулась земли, и я ощутил дикий страх, равного которому не испытывал за всю свою жизнь.
Пока я стоял недвижимо, обливаясь холодным потом, фонарь поспешно подняли, накачали и опустили снова. Никогда еще меня не радовало так зрелище простого керосинового фонаря, как в эту минуту.
Дно рва озарилось ярким светом, и я несколько приободрился. Отыскал упавший ботинок, надел и еще больше воспрянул духом. Влажной от пота рукой взялся за палку с рогулей, пошел на ближайшую змею, пригвоздил ее к земле, схватил и сунул в мешок. Все это я проделывал спокойно, ибо процедура поимки проста и вполне безопасна, если только соблюдать необходимую осторожность. Надо точным приемом прижать голову рептилии к земле и крепко взять ее за шею, прежде чем поднимать. Одно меня беспокоило: пока я был занят очередным экземпляром, остальные тревожно метались кругом, и приходилось непрестанно следить за тем, чтобы нечаянно не наступить на змею, очутившуюся сзади тебя. Туловище габонской гадюки покрыто красивым сложным узором из коричневых, серебристых, розовых и светло-желтых пятен, и, как только змеи застывали на месте, рассмотреть их на пестром фоне становилось почти невозможно. Каждый раз, когда я пригвождал какую-нибудь из них к земле, она шипела, будто кипящий чайник, а остальные сочувственно вторили ей. Очень неприятный звук.
Помню страшную минуту, когда я нагнулся за рептилией и вдруг услышал грозное шипение почти над самым ухом. Поднял голову и увидел сантиметрах в тридцати устремленные прямо на меня свирепые серебристые глаза. Путем некоторых сложных манипуляций мне удалось заставить гадюку опустить голову на землю, после чего я пустил в ход рогулю. По чести говоря, змеи боялись меня ничуть не меньше, чем я их, и всячески старались ускользнуть. Лишь после того, как палка прижимала их к земле, они начинали отбиваться и яростно ее атаковали, но зубы с ласкающим мой слух звоном отскакивали от металлической рогули. Правда, одна гадюка оказалась похитрее других: нацелившись на рукоятку, она впилась в дерево с такой силой, что повисла на палке, словно бульдог, и не хотела отпускать даже после того, как я оторвал ее от земли. Я сильно встряхнул палку, гадюка пролетела по воздуху, ударилась о стенку и с яростным шипением приземлилась на дне рва. При моей повторной атаке она уже не стала кусаться, и я без труда присоединил ее к своему улову.
За полчаса, проведенных во рву, я поймал двенадцать габонских гадюк; наверно, там оставались еще экземпляры, но я предпочел не испытывать судьбу через край. Распаренный, грязный, обливающийся потом, сжимая в одной руке мешок с громко шипящими змеями, я был извлечен болельщиками на поверхность.
— Ну что, — торжествующе произнес Мактуутл, пока я переводил дух, — разве я не обещал, что найду для вас интересные экземпляры?
Я молча кивнул, не в силах найти слова. Сел на землю, жадно закурил и попытался усмирить дрожащие руки. Лишь теперь, когда опасность миновала, я до конца осознал, как безрассудно поступил, согласившись спуститься в змеиный ров, и как фантастически мне повезло, что я вышел живым из этой переделки. И я поклялся себе, если кто-нибудь спросит, опасна ли профессия зверолова, отвечать, что опасность этой профессии измеряется степенью вашей глупости.
Отойдя немного, я осмотрелся кругом и обнаружил, что одного из зрителей недостает.
— А где же ваш брат? — спросил я своего ирландского приятеля.
— A-а, он-то, — ответил Мактуутл с легким презрением. — Ему, видите ли, стало невмоготу глядеть на это. Ждет нас там, неподалеку. Вы уж извините его, не выдержал парень. Да и то сказать, страшновато было смотреть, как вы там возитесь со всеми этими гадами.

Глава четырнадцатая
Себастиан

Не так давно мне довелось провести несколько месяцев в Аргентине; там я и познакомился с Себастианом. Он был по профессии гаучо — это южноамериканский эквивалент североамериканского ковбоя. Подобно ковбоям, гаучо в наши дни становятся редкостью, потому что аргентинские фермы и поместья все больше применяют машины.
Меня привели в Аргентину две причины: во-первых, я намеревался отловить для английских зоопарков представителей местной фауны, во-вторых, хотел заснять зверей на кинопленку в их естественной среде. Один мой друг владел крупным поместьем километрах в ста с лишним от Буэнос-Айреса, в районе, славящемся своей фауной, и, когда он предложил мне погостить там недельку-другую, я с величайшей готовностью принял его приглашение. К сожалению, дела не позволили хозяину составить мне компанию на этот срок, он извинился и сказал, что отвезет меня в поместье и познакомит с людьми, а сам будет вынужден тут же мчаться в город.
На маленьком полустанке меня ожидала двухместная коляска, мы затряслись по пыльному проселку, и мой друг поспешил заверить меня, что все уже налажено.
— Я приставлю к тебе Себастиана, так что будет полный порядок.
— А кто этот Себастиан? — спросил я.
— Один из моих гаучо, — последовал не очень ясный ответ. — Он знает все, что стоит знать о здешней фауне. В мое отсутствие он будет заправлять хозяйством, так что со всеми делами обращайся к нему.
После того как мы перекусили на веранде главной усадьбы, хозяин предложил познакомить меня с Себастианом, мы оседлали коней и двинулись в путь. Перед нами простиралось мерцающее под лучами солнца море золотистых трав, торчали кущи высоченного чертополоха, где мы скрывались с головой. За полчаса мы добрались до эвкалиптовой рощи, посреди которой белело длинное низкое строение. В пропеченной солнцем пыли лежал огромный престарелый пес; он поднял голову, лениво тявкнул и снова задремал. Мы спешились и привязали коней.
— Этот дом Себастиан сам построил, — сообщил мой друг. — Должно быть, отдыхает где-нибудь там сзади.
Мы обогнули дом и увидели подвешенный к двум стройным деревцам здоровенный гамак, а в гамаке — Себастиана.
В первую минуту он показался мне карликом. Позже я установил, что его рост примерно сто пятьдесят пять сантиметров, но на обширной площади гамака он выглядел буквально лилипутом. Невероятно длинные и сильные руки свисали почти до земли; на фоне интенсивного темного загара белел пушок седых волос. Лица я не видел, оно было закрыто черной шляпой, которая ритмично вздымалась и опускалась в лад редкостно могучему и продолжительному храпу. Мой друг наклонился, взял одну из болтающихся рук Себастиана и, энергично дергая ее, во всю глотку заорал прямо в ухо спящему:
— Себастиан! Себастиан! Проснись, принимай гостей!
Столь громкое приветствие не возымело никакого эффекта, Себастиан продолжал храпеть под шляпой. Мой друг посмотрел на меня и пожал плечами.
— Вот так всегда — как уснет, хоть из пушек стреляй. Берись-ка за вторую руку, стащим его с гамака.
Я взялся за вторую руку Себастиана, и мы посадили его. Черная шляпа скатилась, я увидел круглое, загорелое, пухлое лицо, разделенное на три части золотистыми от никотина лихими усами и белоснежными бровями, которые загибались кверху, будто козлиные рога. Мой друг принялся трясти Себастиана за плечи, громко твердя его имя. Внезапно ниже седых бровей раскрылись сердитые черные глаза и воззрились на нас. Узнав хозяина, гаучо с покаянным воплем вскочил на ноги.
— Сеньор! — закричал он. — Как же я рад вас видеть… Вы уж простите меня, сеньор, вы тут приехали, а я дрыхну, как свинья… ради Бога, простите. Я не ждал вас так рано, не то принял бы как полагается.
Мой друг представил меня. Себастиан пожал мне руку, затем повернулся к дому и заорал во всю глотку:
— Мария! Мария!
В ответ на душераздирающий призыв показалась миловидная женщина лет тридцати, которую Себастиан с нескрываемой гордостью представил как свою жену. После чего сжал мое плечо могучей ручищей и пристально посмотрел на меня.
— Что предпочитаете, кофе или мате, сеньор? — небрежно осведомился он.
К счастью, мой друг успел меня предупредить, что первое впечатление Себастиана о человеке определяется ответом на этот вопрос. На кофе он смотрел с отвращением, почитая его напитком горожан и прочих испорченных представителей рода человеческого. Разумеется, я попросил мáте — так называется аргентинский зеленый чай, настоенный на травах. Себастиан гневно уставился на жену.
— Ну? Ты что — не слышала, что сеньор хочет мате? Или гости должны стоять тут и помирать от жажды, пока ты таращишься на них, как сова на солнце?
— Вода уже закипает, — спокойно ответила женщина. — И гости вовсе не обязаны стоять, если ты предложишь им сесть.
— Не смей дерзить мне, женщина! — заорал Себастиан, топорща усы.
— Вы извините его, сеньор, — сказала Мария, нежно улыбаясь своему супругу. — Он всегда так волнуется, когда к нам приходят гости.
Лицо Себастиана уподобилось цветом кирпичу.
— Волнуется? — негодующе воскликнул он. — Волнуется? Кто волнуется? Я спокоен, как дохлая лошадь… прошу, сеньоры, садитесь… надо же, волнуется… сеньор, вы простите мою жену, у нее такая способность к преувеличениям, что, родись она мужчиной, отменно преуспела бы в области политики.
Мы сели в тени деревьев, и Себастиан закурил маленькую слоновую сигару, продолжая добродушно ворчать.
— Черт дернул меня жениться снова, — доверительно сообщил он нам. — Вся беда в том, что мои жены умирают раньше меня. Четыре раза был женат, и каждый раз, когда хоронил покойницу, говорил себе: «Все, Себастиан, довольно». Так нет, не успеешь оглянуться — снова женат! Душа тянет к одиночеству, но плоть слаба, и вся беда в том, что во мне больше плоти, чем души.
Он грустно обозрел свое великолепное брюшко, потом снова поднял на нас глаза, обнажив в широкой обезоруживающей улыбке светлые десны, где сохранилось всего лишь два сточенных зуба.
— Видно, никогда уже не избавиться мне от своей слабости, сеньор… да ведь мужчина без жены все равно что корова без вымени.
Мария принесла мате, и кастрюлька пошла по кругу. Пока мы поочередно тянули напиток через тонкую серебряную трубку, мой друг объяснил Себастиану, в чем состояла цель моего приезда. Гаучо внимал с большим интересом; услышав, что, возможно, понадобится снять несколько кадров с его участием, он пригладил усы и хитро глянул на супругу.
— Слыхала? — произнес он. — Меня будут показывать в кино. Так что ты уж укороти свой язычок, душечка, ведь женщины в Англии, как увидят меня на экране, гуртом ринутся сюда, драку из-за меня устроят.
— Как же, как же, — отпарировала жена. — Небось, такого добра и там хоть отбавляй.
Себастиан испепелил ее взглядом, потом обратился ко мне.
— Не беспокойтесь, сеньор. Я сделаю все, чтобы помочь вам в работе. Все, что вы пожелаете.
И он сдержал свое слово. Вечером мой друг отбыл в Буэнос-Айрес, а я остался в его поместье на две недели, и все это время Себастиан почти не отходил от меня. Наделенный неистощимой энергией и пламенным темпераментом, он быстро взял бразды правления в свои руки. Мне достаточно было слово сказать, и он тотчас все выполнял. Чем труднее и необычнее были мои задания, тем с большей радостью он за них брался. Никто не мог сравниться с ним в умении заставлять трудиться пеонов и наемных рабочих, причем добивался он этого, как ни странно, не уговорами и умасливанием, а тем, что бранил и поддразнивал их, пересыпая речь такими роскошными эпитетами, что люди вместо того, чтобы злиться, корчились от смеха и работали за милую душу.
— Нет, вы посмотрите, — ехидно орал он, — вы только посмотрите на них… двигаются, точно улитки на птичьем клею… диву даюсь, как ваши лошаденки не ударяются в панику, когда вы скачете галопом, ведь даже мне слышно, с каким стуком ваши глазные яблоки перекатываются в пустых черепах… да сложи вместе все ваши мозги, и то не хватит клопу на обед…
После чего пеоны, давясь от хохота, трудились с удвоенной энергией.
Конечно, им нравился его острый язык, но, главное, каждый знал, что Себастиан сам справится с любой работой, никого не заставит выполнять непосильное задание. Пеоны так и говорили о каком-нибудь совсем уж невозможном деле: «Это даже и Себастиану не под силу». Верхом на своем рослом вороном, в красно-синем пончо, облегающем плечи живописными складками, Себастиан выглядел весьма внушительно. Пустит коня галопом и рассекает воздух свистящим лассо, показывая мне разные способы заарканивать бычков. Таких способов шесть, и Себастиан всеми владел одинаково ловко. Казалось, чем скорее скачет конь и чем больше неровностей на земле, тем точнее броски. Как будто бычков магнитом притягивало к канату, и Себастиан просто не мог промахнуться.
Если Себастиан мастерски владел арканом, то кнутом он буквально творил чудеса. На короткую рукоятку был насажен длинный тонкий ремень, и он никогда не расставался с этим грозным оружием. На моих глазах Себастиан, выхватив кнут из-за пояса, на полном скаку одним хлестким ударом аккуратненько срезал головку чертополоха. Выбить сигарету изо рта человека было для него пустячным делом. Мне рассказали прошлогодний случай, как один заезжий гость усомнился в искусстве Себастиана, и тот ответил тем, что распорол ему кнутом рубаху на спине, не коснувшись кожи. Но хотя Себастиан предпочитал послушный ему кнут другим видам оружия, он достаточно искусно владел также ножом и топориком. С десяти шагов рассекал топором спичечный коробок на две части. Да, с таким человеком, как говорится, лучше не вздорить…
Нередко мы с Себастианом отправлялись на охоту поздно вечером, когда выходят из нор ночные животные. Захватив фонари, мы покидали поместье сразу после наступления сумерек и возвращались в полночь, а то и в два часа ночи почти всегда с двумя-тремя представителями того или иного вида фауны. В ночной охоте нам помогал любимый пес Себастиана, престарелое существо неопределенной породы, со стесанными до корней зубами. Охотник он был идеальный — ведь даже схватив какого-нибудь зверька, пес не мог его повредить, поскольку зубов-то не было. Но чаще всего он, выследив добычу, сторожил ее и подзывал нас отрывистым тявканьем.
Как раз во время ночной охоты я воочию смог убедиться, какой могучей силой наделен Себастиан. Пес выследил броненосца, преследовал его несколько сот метров и загнал в нору. В охоте участвовали трое: Себастиан, один из пеонов и я. Мы с пеоном намного опередили коротышку гаучо, который в беге был не очень силен. К норе мы подбежали в ту самую минуту, когда броненосец успел наполовину скрыться в ней. Бросившись на землю, я ухватил добычу за хвост, пеон — за задние ноги. Но броненосец зарылся в стенки норы своими длинными передними когтями, и, сколько мы ни дергали и ни тянули, стронуть его было невозможно, словно он врос в цемент. Неожиданно зверь сильно рванулся вперед, и пеон впопыхах выпустил его ноги. Броненосец удвоил свои усилия, я почувствовал, как его хвост выскальзывает у меня из пальцев. Тут, тяжело дыша, на помощь к нам подоспел Себастиан. Оттолкнул меня в сторону, взялся за хвост броненосца, хорошенько уперся ногами и дернул. Нас обдало комьями земли, и броненосец выскочил из норы, словно пробка из бутылки. Одним-единственным рывком Себастиан сделал то, чего мы не могли добиться вдвоем.
К числу животных, которых я намеревался снять на кинопленку, принадлежал нанду. Этот южноамериканский страус, как и его африканский родич, бегает что твой рысак. Мне хотелось заснять старинный способ охоты — верхом на лошадях и с применением болеодора. Речь идет о разветвляющейся веревке, к трем концам которой привязано по деревянному шару. Раскрутив ее над головой, охотник бросает шары, они обматываются вокруг ног птицы, и она падает на землю. Себастиан взял на себя организацию охоты; весь последний день моего пребывания в поместье ушел на съемки. Предполагалось участие почти всех пеонов, и они явились утром в своих лучших одеждах, явно стремясь перещеголять друг друга. Сидя верхом, Себастиан мрачно обозревал их.
— Нет, вы только посмотрите на них, сеньор! — Он презрительно сплюнул. — Вырядились, взбудоражены, а все потому, что мечтают увидеть свои физиономии на киноэкране. Тошно глядеть на них.
Тем не менее я заметил, что перед началом съемок Себастиан старательно расчесал свои усы.
Как я уже говорил, мы целый день парились под жарким солнцем, и к вечеру, когда были сняты последние кадры, все думали только об отдыхе. Все, кроме Себастиана: он выглядел свежим, как огурчик. На пути обратно к дому он предупредил меня, что назначил на сегодняшний вечер прощальный праздник в мою честь. Приглашены абсолютно все, будет много вина, много песен и танцев. Его глаза сияли предвкушением. Пришлось принять приглашение, у меня язык не поворачивался сказать ему, что я смертельно устал и не чаю, как бы скорее завалиться спать.
Празднество происходило в просторной задымленной кухне, при свете полудюжины мерцающих масляных ламп. Оркестр составляли три на редкость пылких гитариста. Надо ли говорить, что душой вечера был Себастиан. Он пил больше всех, оставаясь трезвым; он исполнял соло на гитаре; он пел всевозможные песни, от непристойных до трогательных, и ел за милую душу. А главное, он плясал, исполняя буйные танцы гаучо с их мудреными па и лихими прыжками, — плясал так, что дрожали потолочные балки, а шпоры сапог высекали искры из каменного пола.
В разгар веселья появился мой друг, который приехал из Буэнос-Айреса, чтобы отвезти меня в город. Он присоединился к празднеству, мы сели в уголке и, потягивая вино, смотрели, как Себастиан отплясывает под одобрительные возгласы и аплодисменты пеонов.
— Фантастическая энергия, — не выдержал я. — Ведь он сегодня потрудился больше любого из нас, а теперь еще и всех переплясал.
— Что значит жить в пампе! — отозвался мой друг. — А вообще-то для своего возраста он и в самом деле феномен, согласен?
— В каком это смысле? — осторожно спросил я. — Сколько ему лет?
Друг удивленно воззрился на меня:
— Разве ты не знал? Через два месяца Себастиану исполнится девяносто пять.
Моя семья и другие звери

Перевод с английского Л. А. Деревянкиной
Gerald Durrell
MY FAMILY AND OTHER ANIMALS
London, Penguin Books, 1967
Слово в свое оправдание

Так вот, иногда я успевала еще до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное.В этой книге я рассказал о пяти годах, прожитых нашей семьей на греческом острове Корфу. Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в которой было бы немножко грусти по ушедшим дням. Однако я сразу сделал серьезную ошибку, впустив на первые страницы своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреплять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во все главы. Лишь ценой невероятных усилий и большой изворотливости мне удалось отстоять кое-где по нескольку страничек, которые я мог целиком посвятить животным. Я старался дать здесь точные портреты своих родных, ничего не приукрашивая, и они проходят по страницам книги такими, как я их видел. Но для объяснения самого смешного в их поведении должен сразу сказать, что в те времена, когда мы жили на Корфу, все были еще очень молоды: Ларри, самому старшему, исполнилось двадцать три года, Лесли — девятнадцать, Марго — восемнадцать, а мне, самому маленькому, было всего десять лет. О мамином возрасте никто из нас никогда не имел точного представления по той простой причине, что она никогда не вспоминала о днях своего рождения. Могу только сказать, что мама была достаточно взрослой, чтобы иметь четырех детей. По ее настоянию я объясняю также, что она была вдовой, а то ведь, как проницательно заметила мама, люди всякое могут подумать. Чтобы все события, наблюдения и радости за эти пять лет жизни могли втиснуться в произведение, не превышающее по объему «Британскую энциклопедию», мне пришлось все перекраивать, складывать, подрезать, так что в конце концов от истинной продолжительности событий почти ничего не осталось. Пришлось также отбросить многие происшествия и лиц, о которых я рассказал бы тут с большим удовольствием. Разумеется, книга эта не могла бы появиться на свет без поддержки и помощи некоторых людей. Говорю я об этом для того, чтобы ответственность за нее разделить на всех поровну. Итак, я выражаю благодарность: Доктору Теодору Стефанидесу. Со свойственным ему великодушием он разрешил мне воспользоваться материалами из своей неопубликованной работы об острове Корфу и снабдил меня множеством плохих каламбуров, из которых я кое-что пустил в ход. Моим родным. Как-никак это они все же дали мне основную массу материала и очень помогли в то время, пока писалась книга, отчаянно споря по поводу каждого случая, который я с ними обсуждал, и изредка соглашаясь со мной. Моей жене — за то, что она во время чтения рукописи доставляла мне удовольствие своим громким смехом. Как она потом объяснила, ее смешила моя орфография. Софи, моей секретарше, которая взялась расставить запятые и беспощадно искореняла все незаконные согласования. Особую признательность я хотел бы выразить маме, которой и посвящается эта книга. Как вдохновенный, нежный и чуткий Ной, она искусно вела свой корабль с несуразным потомством по бурному житейскому морю, всегда готовая к бунту, всегда в окружении опасных финансовых мелей, всегда без уверенности, что команда одобрит ее управление, но в постоянном сознании своей полной ответственности за всякую неисправность на корабле. Просто непостижимо, как она выносила это плавание, но она его выносила и даже не очень теряла при этом рассудок. По верному замечанию моего брата Ларри, можно гордиться тем методом, каким мы ее воспитали; всем нам она делает честь. Думаю, мама сумела достичь той счастливой нирваны, где уже ничто не потрясает и не удивляет, и в доказательство приведу хотя бы такой факт: недавно, в какую-то из суббот, когда мама оставалась одна в доме, ей вдруг принесли несколько клеток. В них было два пеликана, алый ибис, гриф и восемь обезьянок. Менее стойкий человек мог бы растеряться от такой неожиданности, но мама не растерялась. В понедельник утром я застал ее в гараже, где за нею гонялся рассерженный пеликан, которого она пыталась кормить сардинами из консервной банки. — Хорошо, что ты пришел, милый, — сказала она, еле переводя дух. — С этим пеликаном трудновато было управиться. Я спросил, откуда она знает, что это мои животные. — Ну, конечно, твои, милый. Кто же еще мог бы мне их прислать? Как видите, мама очень хорошо понимает по крайней мере одного из своих детей. И в заключение я хочу особо подчеркнуть, что все рассказанное тут об острове и его жителях — чистейшая правда. Наша жизнь на Корфу вполне бы могла сойти за одну из самых ярких и веселых комических опер. Мне кажется, что всю атмосферу, все очарование этого места верно отразила морская карта, которая у нас тогда была. На ней очень подробно изображался остров и береговая линия прилегающего континента, а внизу, на маленькой врезке, стояла надпись:Белая королева.Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье»
Предупреждаем: бакены, отмечающие мели, часто оказываются здесь не на своих местах, поэтому морякам во время плавания у этих берегов надо быть осмотрительней.
Часть первая
Переезд

Резкий ветер задул июль, как свечу, и над землей повисло свинцовое августовское небо. Бесконечно хлестал мелкий колючий дождь, вздуваясь при порывах ветра темной серой волной. Купальни на пляжах Борнмута обращали свои слепые деревянные лица к зелено-серому пенистому морю, а оно с яростью кидалось на береговой бетонный вал. Чайки в смятении улетали в глубь берега и потом с жалобными стонами носились по городу на своих упругих крыльях. Такая погода специально рассчитана на то, чтобы изводить людей.
В тот день все наше семейство имело довольно неприглядный вид, так как плохая погода принесла с собой весь обычный набор простуд, которые мы очень легко схватывали. Для меня, растянувшегося на полу с коллекцией раковин, она принесла сильный насморк, залив мне, словно цементом, весь череп, так что я с хрипом дышал через открытый рот. У моего брата Лесли, примостившегося у зажженного камина, были воспалены оба уха, из них беспрестанно сочилась кровь. У сестры Марго прибавились новые прыщики на лице, и без того испещренном красными точками. У мамы сильно текло из носа и вдобавок начался приступ ревматизма. Только моего старшего брата Ларри болезнь не коснулась, но было уже достаточно и того, как он злился, глядя на наши недуги.
Разумеется, Ларри все это и затеял. Остальные в то время просто не в состоянии были думать еще о чем-нибудь, кроме своих болезней, но Ларри само Провидение предназначило для того, чтобы нестись по жизни маленьким светлым фейерверком и зажигать мысли в мозгу у других людей, а потом, свернувшись милым котеночком, отказываться от всякой ответственности за последствия. В тот же день злость разбирала Ларри со все нарастающей силой, и вот наконец, окинув комнату сердитым взглядом, он решил атаковать маму как явную виновницу всех бед.
— И чего ради мы терпим этот проклятый климат? — спросил он неожиданно, поворачиваясь к залитому дождем окну. — Взгляни вон туда! И, уж если на то пошло, взгляни на нас… Марго раздулась, как тарелка с распаренной кашей… Лесли слоняется по комнате, заткнув в каждое ухо по четырнадцать саженей ваты… Джерри говорит так, будто он родился с волчьей пастью… И посмотри на себя! С каждым днем ты выглядишь все кошмарнее.
Мама бросила взгляд поверх огромного тома под названием «Простыерецепты из Раджпутаны» и возмутилась.
— Ничего подобного! — сказала она.
— Не спорь, — упорствовал Ларри. — Ты стала выглядеть как самая настоящая прачка… а дети твои напоминают серию иллюстраций из медицинской энциклопедии.
На эти слова мама не смогла подыскать вполне уничтожающего ответа и поэтому ограничилась одним лишь пристальным взглядом, прежде чем снова скрыться за книгой, которую она читала.
— Солнце… Нам нужно солнце! — продолжал Ларри. — Ты согласен, Лесс?.. Лесс… Лесс!
Лесли вытащил из одного уха большой клок ваты.
— Что ты сказал? — спросил он.
— Вот видишь! — торжествующе произнес Ларри, обращаясь к маме. — Разговор с ним превращается в сложную процедуру. Ну, скажи на милость, разве это дело? Один брат не слышит, что ему говорят, другого ты сам понять не можешь. Пора наконец что-то предпринять. Не могу же я создавать свою бессмертную прозу в такой унылой атмосфере, где пахнет эвкалиптовой настойкой.
— Конечно, милый, — рассеянно отвечала мама.
— Солнце, — говорил Ларри, снова приступая к делу. — Солнце, вот что нам нужно… край, где мы могли бы расти на свободе.
— Конечно, милый, это было бы славно, — соглашалась мама, почти не слушая его.
— Сегодня утром я получил письмо от Джорджа. Он пишет, что Корфу — восхитительный остров. Может быть, стоит собрать вещички и поехать в Грецию?
— Конечно, милый, если тебе хочется, — неосторожно произнесла мама.
Там, где дело касалось Ларри, мама обычно действовала с большей осмотрительностью, стараясь не связывать себя словом.
— Когда? — спросил Ларри, удивившись ее покладистости.
Мама, поняв свою тактическую ошибку, осторожно опустила «Простые рецепты из Раджпутаны».
— Мне кажется, милый, — сказала она, — тебе лучше поехать сперва одному и все уладить. Потом ты напишешь мне, и, если там будет хорошо, мы все к тебе приедем.
Ларри посмотрел на нее испепеляющим взглядом.
— То же самое ты говорила, когда я предложил ехать в Испанию, — напомнил он. — Я просидел в Севилье целых два месяца в ожидании вашего приезда, а ты лишь писала мне длинные письма о питьевой воде и канализации, словно я был секретарем муниципального совета или вроде того. Нет уж, если ехать в Грецию, то только всем вместе.
— Ты все преувеличиваешь, Ларри, — жалобно сказала мама. — Во всяком случае, я не могу так вот сразу уехать. Надо что-то решить с этим домом.
— Решить? Господи, ну что тут решать? Продай его, вот и все.
— Я не могу этого сделать, милый, — ответила мама, потрясенная подобным предложением.
— Не можешь? Почему не можешь?
— Но ведь я его только что купила.
— Вот и продай, пока он еще не облупился.
— Не говори глупостей, милый. Об этом даже речи быть не может, — твердо заявила мама. — Это было бы просто безумием.
И вот мы продали дом и, как стая перелетных ласточек, унеслись на юг от хмурого английского лета.
Путешествовали мы налегке, взяв с собой только то, что считали жизненно необходимым. Когда на таможне мы открыли для досмотра свой багаж, содержимое чемоданов со всей наглядностью продемонстрировало характер и интересы каждого из нас. Багаж Марго, например, состоял из вороха прозрачной одежды, трех книг с советами, как сохранить стройную фигуру, и целой батареи флаконов с какой-то жидкостью от прыщей. В чемодане Лесли оказалось два свитера и пара трусов, куда были завернуты два револьвера, духовой пистолет, книжка под названием «Будь сам себе оружейным мастером» и большая бутыль смазочного масла, которая подтекала. Ларри вез с собой два сундука книг и чемоданчик с одеждой. Мамин багаж был разумно поделен между одеждой и книгами по кулинарии и садоводству. Я взял с собой в путешествие только то, что могло скрасить длинную, скучную дорогу: четыре книги по зоологии, сачок для бабочек, собаку и банку из-под варенья, набитую гусеницами, которые в любой момент могли превратиться в куколок.
Итак, полностью, по нашим стандартам, оснащенные, мы покинули холодные берега Англии.
Мимо пронеслась Франция, грустная, залитая дождями; Швейцария, похожая на рождественский торт; яркая, шумная, пропитанная резкими запахами Италия — и скоро от всего остались лишь смутные воспоминания. Крошечный пароходик отвалил от каблука Италии и вышел в сумеречное море. Пока мы спали в своих душных каютах, где-то посреди отполированной луною водной глади судно пересекло невидимую линию раздела и оказалось в светлом зазеркалье Греции. Постепенно ощущение этой перемены каким-то образом проникло в нас, мы все проснулись от непонятного волнения и вышли на палубу.
В свете ранней утренней зари море катило свои гладкие синие волны. За кормой, словно белый павлиний хвост, тянулись легкие пенистые струи, сверкавшие пузырями. Бледное небо начинало желтеть на востоке. Впереди неясным пятном проступала шоколадно-коричневая земля с бахромкой белой пены внизу. Это был Корфу.
Напрягая зрение, мы вглядывались в очертания гор, стараясь различить долины, пики, ущелья, пляжи, но перед нами по-прежнему был только силуэт острова. Потом солнце вдруг сразу выплыло из-за горизонта, и все небо залилось ровной голубой глазурью, как глаз у сойки. Море вспыхнуло на миг всеми своими мельчайшими волночками, принимая темный, пурпуровый оттенок с зелеными бликами, туман мягкими струйками быстро поднялся вверх, и перед нами открылся остров. Горы его как будто спали под скомканным бурым одеялом, в складках зеленели оливковые рощи. Среди беспорядочного нагромождения сверкающих скал золотого, белого и красного цвета бивнями изогнулись белые пляжи. Мы обошли северный мыс, гладкий крутой обрыв с вымытыми в нем пещерами. Темные волны несли туда белую пену от нашего кильватера и потом, у самых отверстий, начинали со свистом крутиться среди скал. За мысом горы отступили, их сменила чуть покатая равнина с серебристой зеленью олив. Кое-где к небу указующим перстом поднимался темный кипарис. Вода в мелких заливах была ясного голубого цвета, а с берега даже сквозь шум пароходных двигателей до нас доносился торжествующий звон цикад.

Глава первая
Неожиданный остров

Пробившись сквозь гам и сутолоку таможни, мы оказались на залитой ярким солнечным светом набережной. Перед нами по крутым склонам поднимался город — спутанные ряды разноцветных домиков с зелеными ставнями, будто распахнутые крылья тысячи бабочек. Позади расстилалась зеркальная гладь залива с его невообразимой синевой.
Ларри шел быстрым шагом, гордо откинув голову и с выражением такой царственной надменности на лице, что можно было не заметить его маленького роста. Он не спускал глаз с носильщиков, еле справлявшихся с его двумя сундуками. Сзади воинственно выступал крепыш Лесли, а следом за ним в волнах духов и муслина шествовала Марго. Маму, имевшую вид захваченного в плен беспокойного маленького миссионера, нетерпеливый Роджер насильно утащил к ближайшему фонарному столбу. Она стояла там, устремив взор в пространство, пока он давал разрядку своим напряженным чувствам после долгого сидения взаперти. Ларри нанял две на удивление замызганные пролетки, в одну поместил багаж, в другую забрался сам и сердито посмотрел вокруг.
— Ну, что? — спросил он. — Чего мы еще дожидаемся?
— Мы дожидаемся маму, — объяснил Лесли. — Роджер нашел фонарь.
— О Господи! — воскликнул Ларри и, выпрямившись в пролетке во весь рост, проревел: — Скорее, мама! Собака может потерпеть.
— Иду, милый, — послушно отозвалась мама, не трогаясь с места, потому что Роджер еще не собирался уходить от столба.
— Этот пес мешал нам всю дорогу, — сказал Ларри.
— Надо иметь терпение, — возмутилась Марго. — Собака не виновата… Мы ведь ждали тебя целый час в Неаполе.
— У меня тогда расстроился желудок, — холодно объяснил Ларри.
— И у него, может, тоже желудок, — с торжеством ответила Марго. — Какая разница? Что в лоб, что на лбу.
— Ты хотела сказать — по лбу?
— Чего бы я ни хотела, это одно и то же.
Но тут подошла мама, слегка взъерошенная, и наше внимание переключилось на Роджера, которого надо было водворить в пролетку. Роджеру еще ни разу не доводилось ездить в подобных экипажах, поэтому он косился на него с подозрением. В конце концов пришлось втаскивать его силой и потом под бешеный лай втискиваться вслед за ним, не давая ему выскочить из пролетки. Испуганная всей этой суетой лошадь рванулась с места и понеслась во всю прыть, а мы свалились в кучу, придавив завизжавшего что есть мочи Роджера.
— Хорошенькое начало, — проворчал Ларри. — Я надеялся, что у нас будет благородно-величественный вид, и вот как все обернулось… Мы въезжаем в город, словно труппа средневековых акробатов.
— Полно, полно, милый, — успокаивала его мама, расправляя свою шляпку. — Скоро мы будем в гостинице.
Когда извозчик с лязгом и стуком въезжал в город, мы, разместившись кое-как на волосяных сиденьях, старались принять так уж необходимый Ларри благородно-величественный вид. Роджер, стиснутый в мощных объятиях Лесли, свесил голову через край пролетки и закатил глаза, как при последнем издыхании. Потом мы промчались мимо переулка, где грелись на солнце четыре облезлые дворняги. Завидев их, Роджер весь напрягся и громко залаял. Тут же ожившие дворняги с пронзительным визгом бросились вслед за пролеткой. От всего нашего благородного величия не осталось и следа, так как двое теперь держали обезумевшего Роджера, а остальные, перегнувшись назад, отчаянно махали книгами и журналами, стараясь отогнать визгливую свору, но только раздразнили ее еще сильнее. С каждой новой улочкой собак становилось все больше, и, когда мы катили по главной магистрали города, у наших колес уже вертелось двадцать четыре разрывавшихся от злости пса.
— Почему вы ничего не сделаете? — спросил Ларри, стараясь перекричать собачий лай. — Это же просто сцена из «Хижины дяди Тома».
— Вот и сделал бы что-нибудь, чем разводить критику, — огрызнулся Лесли, продолжая единоборство с Роджером.
Ларри быстро вскочил на ноги, выхватил из рук удивленного кучера кнут и хлестнул по собачьей своре. До собак он, однако, не достал, и кнут пришелся по затылку Лесли.
— Какого черта? — вскипел Лесли, поворачивая к нему побагровевшее от злости лицо. — Куда ты только смотришь?
— Это я нечаянно, — как ни в чем не бывало объяснил Ларри. — Не было тренировки… давно не держал кнута в руках.
— Вот и думай своей дурацкой башкой, что делаешь, — выпалил Лесли.
— Успокойся, милый, он же не нарочно, — сказала мама.
Ларри еще раз щелкнул кнутом по своре и сбил с маминой головы шляпку.
— Беспокойства от тебя больше, чем от собак, — заметила Марго.
— Будь осторожнее, милый, — сказала мама, хватаясь за шляпку. — Так ведь можно убить кого-нибудь. Лучше бы ты оставил крут в покое.
В этот момент извозчик остановился у подъезда, над которым по-французски было обозначено: «Швейцарский пансионат». Дворняги, почуяв, что им наконец можно будет схватиться с изнеженным псом, который разъезжает на извозчиках, окружили нас плотной рычащей стеной. Дверь гостиницы отворилась, на пороге показался старый привратник с бакенбардами и стал безучастно наблюдать за суматохой на улице. Нелегко нам было перетащить Роджера с пролетки в гостиницу. Поднять тяжелую собаку, нести ее на руках и все время сдерживать — для этого потребовались совместные усилия всей семьи. Ларри, не думая больше о своей величественной позе, развлекался теперь вовсю. Он спрыгнул на землю и с кнутом в руках двинулся по тротуару, пробиваясь сквозь собачий заслон. Лесли, Марго, мама и я шли вслед за ним по расчищенному проходу с рычащим и рвущимся из рук Роджером. Когда мы наконец протиснулись в вестибюль гостиницы, привратник захлопнул входную дверь и налег на нее так, что у него задрожали усы. Появившийся в этот момент хозяин посмотрел на нас с любопытством и опасением. Мама, в съехавшей набок шляпе, подошла к нему, сжимая в руках мою банку с гусеницами, и с милой улыбкой, словно приезд наш был самым обыкновенным делом, сказала:
— Наша фамилия Даррелл. Надеюсь, для нас оставили номер?
— Да, мадам, — ответил хозяин, обходя сторонкой все еще ворчащего Роджера. — На втором этаже… четыре комнаты с балконом.
— Как хорошо, — просияла мама. — Тогда мы сразу поднимемся в номер и немного отдохнем перед едой.
И с вполне величественным благородством она повела свою семью наверх.
Через некоторое время мы спустились вниз и позавтракали в большой унылой комнате, уставленной пыльными пальмами в кадках и кривыми скульптурами. Обслуживал нас привратник с бакенбардами, который, переодевшись во фрак и целлулоидную манишку, скрипевшую, как целый взвод сверчков, превратился теперь в метрдотеля. Еда, однако, была обильная и вкусная, все ели с большим аппетитом. Когда принесли кофе, Ларри с блаженным вздохом откинулся на стуле.
— Подходящая еда, — сказал он великодушно. — Что ты думаешь об этом месте, мама?
— Еда здесь хорошая, милый, — уклончиво ответила мама.
— А они обходительные ребята, — продолжал Ларри. — Сам хозяин переставил мою кровать поближе к окну.
— Он был не таким уж обходительным, когда я попросил у него бумагу, — сказал Лесли.
— Бумагу? — спросила мама. — Зачем тебе бумага?
— Для туалета… ее там не оказалось, — объяснил Лесли.
— Тс-с-с! Не за столом, — шепотом произнесла мама.
— Ты просто плохо смотрел, — сказала Марго ясным, громким голосом. — У них там ее целый ящичек.
— Марго, дорогая! — испуганно воскликнула мама.
— Что такое? Ты не видела ящичка?
Ларри хихикнул.
— Из-за некоторых странностей городской канализации, — любезно объяснил он Марго, — этот ящичек предназначается для… э…
Марго покраснела.
— Ты хочешь сказать… хочешь сказать… что это было… Боже мой!
И, заливаясь слезами, она выскочила из столовой.
— Да, очень негигиенично, — строго заметила мама. — Просто безобразно. По-моему, даже не важно, ошиблись вы или нет, все равно можно подхватить брюшной тиф.
— Никто бы не ошибался, если б тут был настоящий порядок, — заявил Лесли.
— Конечно, милый. Только я думаю, что нам не стоит заводить сейчас об этом спор. Лучше всего поскорее найти себе дом, пока с нами ничего не случилось.
Вдобавок ко всем маминым тревогам «Швейцарский пансионат» был расположен на пути к местному кладбищу. Когда мы сидели на своем балкончике, по улице нескончаемой вереницей тянулись похоронные процессии. Очевидно, из всех обрядов жители Корфу больше всего ценили похороны, и каждая новая процессия казалась пышнее предыдущей. Наемные экипажи утопали в красном и черном крепе, а на лошадях было накручено столько попон и плюмажей, что даже представить было трудно, как они только могут двигаться. Шесть или семь таких экипажей с людьми, охваченными глубокой, безудержной скорбью, следовали друг за другом впереди тела усопшего, а оно покоилось на дрогах вроде повозки в большом и очень нарядном гробу. Одни гробы были белые с пышными черно-алыми и синими украшениями, другие — черные, лакированные, обвитые замысловатой золотой и серебряной филигранью и с блестящими медными ручками. Мне еще никогда не приходилось видеть такой заманчивой красоты. Вот, решил я, так и надо умирать, чтоб были лошади в попонах, море цветов и толпа убитых горем родственников. Свесившись с балкона, я в восторженном самозабвении наблюдал, как проплывают внизу гробы.
После каждой процессии, когда вдали замирали стенания и умолкал стук копыт, мама начинала волноваться все сильнее.
— Ну ясно, это эпидемия, — воскликнула она наконец, с тревогой оглядывая улицу.
— Какие глупости, — живо отозвался Ларри. — Не дергай себе зря нервы.
— Но, милый мой, их ведь столько… Это же противоестественно.
— В смерти нет ничего противоестественного, люди все время умирают.
— Да, но они не мрут как мухи, если все в порядке.
— Может, они скапливают их, а потом уж хоронят всех заодно, — бессердечно высказался Лесли.
— Не говори глупостей, — сказала мама. — Я уверена, что это все от канализации. Если она так устроена, люди не могут быть здоровы.
— Господи! — произнесла Марго замогильным голосом. — Значит, я заразилась.
— Нет, нет, милая, это не передается, — рассеянно сказала мама. — Это, наверно, что-нибудь незаразное.
— Не понимаю, о какой можно говорить эпидемии, если это что-то незаразное, — логично заметил Лесли.
— Во всяком случае, — сказала мама, не давая втянуть себя в медицинские споры, — надо все это выяснить. Ларри, ты не мог бы позвонить кому-нибудь из местного отдела здравоохранения?
— Здесь, наверно, нет никакого здравоохранения, — ответил Ларри. — А если б и было, то там мне ничего не сказали бы.
— Ну, — решительно произнесла мама, — другого выхода у нас нет. Надо уезжать. Мы должны покинуть город. Нужно немедленно подыскивать себе дом в деревне.
На другое утро мы отправились искать дом в сопровождении мистера Билера, агента из гостиницы. Это был невысокий толстый человек с заискивающим взглядом и вечной испариной. Когда мы выходили из гостиницы, у него было довольно веселое настроение, но он тогда еще не знал, что его ждет впереди. Да и ни один человек не смог бы этого вообразить, если он ни разу не помогал маме подыскивать жилье. В тучах пыли мы носились по всему острову, и мистер Билер показывал нам один дом за другим. Они были самые разнообразные по величине, цвету и местоположению, но мама решительно качала головой, отвергая каждый из них. Наконец мы осмотрели десятый, последний в списке Билера дом, и мама еще раз потрясла головой. Мистер Билер без сил опустился на ступеньки, вытирая лицо носовым платком.
— Мадам Даррелл, — вымолвил он наконец, — я показал вам все дома, какие знал, и вам ни один не подошел. Что же вам нужно, мадам? Скажите, какой у этих домов недостаток?
Мама посмотрела на него с удивлением.
— Неужели вы не заметили? — спросила она. — Ни в одном из них нет ванны.
Мистер Билер глядел на маму, вытаращив глаза.
— Не понимаю, мадам, — проговорил он с истинной мукой, — для чего вам ванна? Разве тут нет моря?
В полном молчании мы возвратились в гостиницу.
На следующее утро мама решила, что нам надо взять такси и отправиться на поиски одним. Она была уверена, что где-то на острове все же прячется дом с ванной. Мы не разделяли маминой веры, роптали и пререкались, пока она вела нас, как строптивое стадо, к стоянке такси на главной площади. Шоферы такси, заметив наше невинное простодушие, налетели на нас, словно коршуны, стараясь перекричать один другого. Голоса их становились все громче, в глазах вспыхивал огонь. Они хватали друг друга за руки, скрежетали зубами и тянули нас в разные стороны с такой силой, точно хотели разорвать на части. На самом деле это был нежнейший из нежных приемов, просто мы еще не привыкли к греческому темпераменту, и поэтому нам казалось, будто жизнь наша находится в опасности.
— Что же делать, Ларри? — вскрикнула мама, с трудом вырываясь из цепких объятий огромного шофера.
— Скажи им, что мы пожалуемся английскому консулу, — посоветовал Ларри, стараясь перекричать шоферов.
— Не говори глупостей, милый, — задыхаясь, произнесла мама. — Просто объясни им, что мы ничего не понимаем.
Марго с глупой улыбкой бросилась на выручку.
— Мы англичане, — крикнула она пронзительно. — Мы не понимаем греческого языка.
— Если этот тип толкнет меня еще раз, я ему двину в ухо, — сказал Лесли, вспыхивая от злости.
— Успокойся, милый, — с трудом выговорила мама, все еще отбиваясь от шофера, тянувшего ее к своему автомобилю. — По-моему, они не хотят нас обидеть.
И в это время все вдруг сразу замолкли. Перекрывая общий гвалт, в воздухе прогремел низкий, сильный, раскатистый голос, какой мог бы быть у вулкана.
— Эй! — громыхнул голос и, сильно коверкая слова, спросил по-английски: — Почему вы не берете с собой человека, который умеет говорить на вашем языке?
Обернувшись, мы увидели у обочины дороги старенький «додж» а за рулем невысокого плотного человека с большущими руками и широким, обветренным лицом. Он бросил хмурый взгляд из-под лихо надвинутой кепки, открыл дверцу автомобиля, выкатился на тротуар и поплыл в нашу сторону. Потом остановился и, нахмурившись еще сильнее, стал глядеть на примолкших таксистов.
— Они вас осаждали? — спросил он маму.
— Нет, нет, — ответила мама, стараясь все сгладить. — Мы просто не могли их понять.
— Вам нужен человек, умеющий говорить на вашем языке, — повторил он еще раз. — А то эти подонки… простите за слово… облапошат собственную мать. Одну минуту, я им сейчас покажу.
И он обрушил на шоферов такой поток греческих слов, что чуть не сбил их с ног. Выражая свою злость и обиду отчаянной жестикуляцией, шоферы вернулись к своим автомобилям, а этот чудак, послав им вслед последний и, очевидно, уничтожающий залп, снова обратился к нам.
— Куда вам надо ехать? — спросил он почти свирепо.
— Мы подыскиваем себе дом, — сказал Ларри. — Вы не можете повезти нас за город?
— Конечно. Я могу повезти вас куда угодно. Только скажите.
— Мы ищем дом, — твердо заявила мама, — в котором была бы ванна. Вы знаете такой дом?
Его загорелое лицо забавно сморщилось в раздумье, черные брови нахмурились.
— Ванна? — спросил он. — Вам нужна ванна?
— Все дома, какие мы уже видели, были без ванны, — ответила мама.
— Я знаю дом с ванной, — сказал наш новый знакомый. — Только сомневаюсь, подойдет ли он вам по размерам.
— Вы можете нас туда повезти? — спросила мама.
— Конечно, могу. Садитесь в машину.
Все забрались в поместительный автомобиль, а наш шофер уселся за руль и со страшным шумом включил мотор. Беспрерывно подавая оглушительные сигналы, мы промчались по кривым улочкам на окраине города, лавируя среди навьюченных ослов, тележек, деревенских женщин и бесчисленных собак. За это время шофер успел завести с нами разговор. Всякий раз, произнеся фразу, он поворачивал к нам свою большую голову, чтобы проверить, как мы отреагировали на его слова, и тогда автомобиль начинал метаться по дороге, как ошалелая ласточка.
— Вы англичане? Так я и думал… Англичанам всегда нужна ванна… в моем доме есть ванна… меня зовут Спиро, Спиро Хакьяопулос… но все называют меня Спироамериканец, потому что я жил в Америке… Да, пробыл восемь лет в Чикаго… Там я и научился так хорошо говорить по-английски… Ездил туда делать деньги… Через восемь лет я сказал: «Спиро, с тебя уже хватит…» — и вернулся в Грецию… привез вот этот автомобиль… самый лучший на острове, ни у кого нет такого. Меня знают все английские туристы, и все меня спрашивают, когда приезжают сюда… они понимают, что их не надуют.
Мы ехали по дороге, покрытой толстым слоем шелковистой белой пыли, взвивавшейся за нами огромными густыми тучами. По бокам дороги тянулись заросли опунции, как забор из зеленых тарелок, ловко поставленных друг на друга и усеянных шишечками ярко-малиновых плодов. Мимо проплывали виноградники с кудрявой зеленью на крошечных лозах, оливковые рощи с дуплистыми стволами, обращавшими к нам свои удивленные лица из-под сумрака собственной тени, полосатые заросли тростника с реющими, как зеленые флажки, листьями. Наконец мы с ревом поднялись по склону холма, Спиро нажал на тормоза, и автомобиль остановился в облаке пыли.
— Вот, — показал Спиро своим коротким толстым пальцем, — тот самый дом с ванной, какой вам нужно.
Мама, ехавшая всю дорогу с крепко зажмуренными глазами, теперь осторожно их открыла и огляделась. Спиро показывал на пологий склон, спускавшийся прямо к морю. Весь холм и долины вокруг утопали в мягкой зелени оливковых рощ, серебрившихся, как рыбья чешуя, чуть только ветерок трогал листву. Посредине склона, в окружении высоких стройных кипарисов, приютился небольшой дом землянично-розового цвета, словно какой-нибудь экзотический плод, обрамленный зеленью. Кипарисы слегка раскачивались на ветру, как будто они красили небо к нашему приезду, чтобы сделать его еще голубее.

Глава вторая
Землянично-розовый дом

Этот небольшой квадратный дом стоял посреди маленького садика с выражением какой-то решимости на своем розовом лике. Зеленая краска на его ставнях побелела от солнца, растрескалась и вздулась кое-где пузырями. В садике с живой изгородью из высоких фуксий были разбиты цветочные клумбы самой разнообразной формы, обложенные по краям гладкими белыми камешками. Светлые мощеные дорожки узкой лентой вились вокруг клумб в форме звезд, полумесяцев, кругов, треугольников размером чуть побольше соломенной шляпы. Цветы на всех клумбах, давно оставленных без присмотра, буйно заросли травой. С роз осыпались шелковые лепестки величиной с блюдце — огненно-красные, серебристо-белые, без единой морщиночки. Ноготки тянули к солнцу свои пламенные головки, точно это были его дети. У самой земли среди зелени скромно сияли бархатные звездочки маргариток, а из-под сердцевидных листьев выглядывали грустные фиалки. Над небольшим балконом пышно раскинулась бугенвиллея, увешанная, будто для карнавала, фонариками ярко-малиновых цветков; на сомкнутых кустах фуксий, как маленькие балерины в пачках, застыли в трепетном ожидании тысячи распустившихся бутонов. Теплый воздух был пропитан ароматом вянущих цветов и наполнен тихим, мягким шелестом и жужжанием насекомых. Нам сразу захотелось жить в этом доме, как только мы его увидели. Он стоял и будто дожидался нашего приезда, и мы все почувствовали себя тут как дома.
Ворвавшись так неожиданно в нашу жизнь, Спиро теперь взялся за устройство всех наших дел. Как он объяснил, от него будет гораздо больше проку, потому что все его тут знают, и он постарается, чтобы нас не надули.
— Вы ни о чем не беспокойтесь, миссис Даррелл, — сказал он, хмуря брови. — Предоставьте все мне.
И вот Спиро стал ездить с нами за покупками. После целого часа невероятных усилий и громких споров ему в конце концов удавалось снизить цену какой-нибудь вещи драхмы на две, что составляло примерно один пенс. Это, конечно, не деньги, объяснял он, но все дело в принципе! И разумеется, дело еще заключалось в том, что он очень любил торговаться. Когда Спиро узнал, что наши деньги еще не прибыли из Англии, он дал нам в долг определенную сумму и взялся поговорить как следует с директором банка о его плохих организаторских способностях. А то, что это вовсе не зависело от бедного директора, не смущало его ни в малейшей степени. Спиро оплатил наши счета в гостинице, раздобыл подводу для перевозки багажа в розовый дом и доставил нас туда самих на своем автомобиле вместе с грудой продуктов, которые он для нас закупил.
Как мы вскоре убедились, его заявление о том, что он знал каждого жителя острова и все знали его, не было пустым бахвальством. Где бы ни остановился его автомобиль, всегда с десяток голосов окликали Спиро по имени, приглашая на чашку кофе к столику под деревом. Полицейские, крестьяне и священники приветливо здоровались с ним на улице, рыбаки, бакалейщики, владельцы кафе встречали его как родного брата. «А, Спиро!» — говорили они и ласково улыбались ему, как непослушному, но милому ребенку. Его уважали за честность, горячность, а пуще всего ценили в нем истинно греческое бесстрашие и презрение ко всякого рода чиновникам. Когда мы приехали на остров, таможенники конфисковали у нас два чемодана с бельем и другими вещами на том основании, что это был товар для продажи. Теперь, когда мы перебрались в землянично-розовый дом и встал вопрос о постельном белье, мама рассказала Спиро о чемоданах, задержанных на таможне, и попросила его совета.
— Вот те раз, миссис Даррелл! — проревел он, багровея от гнева. — Почему же вы до сих пор молчали? На таможне одни подонки. Завтра же мы поедем туда с вами, и я их поставлю на место. Я всех там знаю, и они меня знают. Предоставьте дело мне — я их всех поставлю на место.
На следующее утро он повез маму на таможню. Чтобы не упустить веселого представления, мы тоже отправились вместе с ними. Спиро ворвался в помещение таможни, словно разъяренный тигр.
— Где вещи этих людей? — спросил он у пухленького таможенника.
— Вы говорите о чемоданах с товарами? — спросил таможенник, старательно выговаривая английские слова.
— Не понимаете, о чем я говорю?
— Они здесь, — осторожно сказал чиновник.
— Мы приехали за ними, — нахмурил брови Спиро. — Так что приготовьте-ка их.
Он повернулся и торжественно вышел, чтобы поискать себе кого-нибудь на подмогу для погрузки багажа. Вернувшись, он увидел, что таможенник взял у мамы ключи и как раз открывает крышку на одном из чемоданов. Спиро заревел от злости и, мигом подскочив к таможеннику, хлопнул крышкой прямо ему по пальцам.
— Зачем открываешь, сукин ты сын? — спросил он свирепо.
Таможенник, махая в воздухе прищемленной рукой, сказал со злостью, что это его обязанность — просматривать багаж.
— Обязанность? — спросил Спиро насмешливо. — Что значит обязанность? Обязанность нападать на бедных иностранцев? Обращаться с ними, как с контрабандистами? Это ты считаешь обязанностью?
Спиро на миг остановился, перевел дух, схватил оба огромных чемодана и направился к выходу. На пороге он обернулся, чтобы выпустить еще заряд на прощание.
— Я тебя знаю, Кристаки, и ты уж лучше не заводи со мной разговоров об обязанностях. Я не забыл, как тебя оштрафовали на двадцать тысяч драхм за то, что ты глушил рыбу динамитом, и не желаю, чтобы каждый уголовник говорил со мной об обязанностях.
Мы возвращались из таможни с торжеством, забрав свой багаж без проверки и в полной сохранности.
— Эти подонки думают, что они тут хозяева, — комментировал Спиро, видимо, не подозревая, что и сам действует как хозяин острова.
Взявшись однажды нас опекать, Спиро так и остался с нами. За несколько часов он превратился из шофера такси в нашего защитника, а через неделю стал нашим проводником, философом и другом. Очень скоро мы уже воспринимали его как члена нашей семьи, и без него не обходилось почти ни одно событие, ни одна затея. Он всегда был под рукой со своим громовым голосом и сдвинутыми бровями, устраивал наши дела, говорил, сколько за что платить, внимательно следил за нами и сообщал маме все, что, по ее мнению, она должна была знать. Грузный, нескладный ангел с дубленой кожей, он охранял нас так нежно и заботливо, словно мы были неразумные дети. На маму он глядел с искренним обожанием и повсюду громким голосом расточал ей комплименты, чем немало смущал ее.
— Вы должны думать, что делаете, — говорил он нам с серьезным видом. — Маму нельзя огорчать.
— Это почему же? — спрашивал Ларри с притворным удивлением. — Она для нас никогда не старается, так чего же нам о ней думать?
— Побойтесь Бога, мастер Ларри, не надо так шутить, — говорил Спиро с болью в голосе.
— Он совершенно прав, Спиро, — со всей серьезностью подтверждал Лесли. — Не такая уж она хорошая мать.
— Не смейте так говорить, не смейте! — ревел Спиро. — Если бы у меня была такая мать, я б каждое утро опускался на колени и целовал ей ноги.
Итак, мы поселились в розовом доме. Каждый устраивал свою жизнь и приноравливался к обстановке сообразно своим привычкам и вкусам. Марго, например, загорала в оливковых рощах в микроскопическом купальном костюме и собрала вокруг себя целую ватагу красивых деревенских парней, которые всякий раз появлялись словно из-под земли, если надо было отогнать пчелу или передвинуть шезлонг. Мама сочла своим долгом сказать ей, что считает эти загорания довольно неразумными.
— Ведь этот костюм, моя милая, — пояснила она, — не так уж много закрывает.
— Не будь старомодной, мама, — вспыхнула Марго. — В конце концов, мы ведь умираем всего лишь раз.
На это замечание, в котором было столько же неожиданности, сколько истины, мама не нашла ответа.
Чтобы занести в дом сундуки Ларри, троим крепким деревенским парням пришлось целых полчаса потеть и надрываться, в то время как сам Ларри бегал вокруг и давал ценные указания. Один сундук оказался таким огромным, что его надо было втаскивать через окно. Когда оба сундука водворили наконец на место, Ларри провел счастливый день за их распаковкой, так загромоздив книгами всю комнату, что нельзя было ни войти, ни выйти. Потом он возвел из книг зубчатые башни вдоль стен и целый день просидел в этой крепости со своей пишущей машинкой, выходя только к столу. На другое утро Ларри появился в очень дурном расположении духа, потому что какой-то крестьянин привязал осла возле самой ограды нашего сада. Время от времени осел вскидывал голову и протяжно кричал своим надрывным голосом.
— Ну подумайте! — сказал Ларри. — Разве не смешно, что грядущие поколения будут лишены моей книги только оттого, что какому-то безмозглому идиоту вздумалось привязать эту мерзкую вьючную скотину прямо у меня под окном.
— Да, милый, — откликнулась мама. — Почему же ты не уберешь его, если он тебе мешает?
— Дорогая мамочка, у меня нет времени гонять ослов по оливковым рощам. Я запустил в него книжкой по истории христианства. Что, по-твоему, я еще мог сделать?
— Это бедное животное привязано, — сказала Марго. — Нельзя же думать, что оно само отвяжется.
— Надо, чтоб был закон, запрещающий оставлять этих мерзких животных около дома. Может кто-нибудь из вас увести его?
— С какой стати? — сказал Лесли. — Он нам вовсе не мешает.
— Ну и люди, — сокрушался Ларри. — Никакой взаимности, никакого участия к ближнему.
— Очень уж у тебя много участия к ближнему, — заметила Марго.
— А все твоя вина, мама, — серьезно сказал Ларри. — Зачем было воспитывать нас такими эгоистами?
— Вы только послушайте! — воскликнула мама. — Я их воспитала эгоистами!
— Конечно, — сказал Ларри. — Без посторонней помощи нам бы не удалось достичь таких результатов.
В конце концов мы с мамой отвязали осла и отвели его подальше от дома.
Тем временем Лесли распаковал свои пистолеты и принялся палить из окна по старой консервной банке. Пережив и без того оглушительное утро, Ларри выскочил из комнаты и заявил, что вряд ли сможет работать, если каждые пять минут весь дом будет сотрясаться до основания. Обиженный Лесли сказал, что ему необходимо тренироваться. Ларри ответил, что пальба эта похожа не на тренировку, а на восстание сипаев в Индии. Мама, у которой нервы тоже страдали от выстрелов, предложила тренироваться с незаряженным пистолетом. Лесли целых полчаса старался втолковать ей, почему это невозможно, но в конце концов ему пришлось взять консервную банку и удалиться на некоторое расстояние от дома. Выстрелы теперь звучали несколько глуше, но все еще заставляли нас вздрагивать.
Не переставая следить за нами, мама в то же время продолжала вести и свои собственные дела. Весь дом был наполнен ароматом трав и резким запахом чеснока и лука, на кухне кипели разные горшки и кастрюльки, а между ними в съехавших набок очках двигалась мама, бормоча себе что-то под нос. На столе подымалась пирамида истрепанных книг, куда мама время от времени заглядывала. Если можно было отлучиться из кухни, мама с удовольствием копалась в саду, что-то сердито подрезала и обрывала, что-то вдохновенно сеяла и подсаживала.
Меня сад тоже притягивал. Вместе с Роджером мы открыли там много интересного. Роджер, например, узнал, что не следует нюхать шершней, что деревенские собаки убегают с громким визгом, если поглядеть на них через калитку, и что цыплята, которые соскакивают вдруг с кустов фуксии и уносятся с безумным кудахтаньем, хотя и желанная, но недозволенная добыча.
Этот сад игрушечных размеров был для меня настоящей волшебной страной, где в цветочной чаще суетилась такая живность, какой я еще ни разу не встречал. В каждом розовом бутоне среди тугих шелковых лепестков жили крохотные, похожие на крабов паучки, поспешно удиравшие в сторону от ваших любопытных глаз. Их маленькие прозрачные тельца были окрашены в тон цветов, на которых они обитали: розовые, кремовые, винно-красные, маслянисто-желтые. По усеянным тлями стеблям, будто лакированные игрушки, ползали божьи коровки — бледно-красные с крупными черными пятнами, ярко-красные с бурыми пятнами, оранжевые в серых и черных крапинках. Кругленькие, симпатичные божьи коровки переползали со стебля на стебель и поедали анемичных тлей. А над цветами с солидным деловым гудением летали пчелы-плотники, похожие на пушистых голубых медведей. Аккуратные гладкие бражники весело носились над дорожками, замирая иногда в воздухе на распахнутых, дрожащих крыльях, чтобы запустить в середину цветка свой длинный гибкий хоботок. По белым мощеным дорожкам сновали крупные черные муравьи, собираясь кучками вокруг какой-нибудь диковины: дохлой гусеницы, обрывка розового лепестка или метелочки травы, набитой семенами. А из окрестных оливковых рощ через ограду из фуксий лился бесконечный звон цикад. Если бы знойное полуденное марево стало вдруг издавать звуки, это и было бы как раз вот такое удивительное звенящее пение.
Сначала я просто ошалел от этого буйства жизни прямо у нашего порога и мог только бродить в изумлении по саду, наблюдать то за одним, то за другим насекомым, каждую минуту провожая взглядом яркую бабочку, перелетавшую через изгородь. Со временем, когда я уже немного привык к такому изобилию насекомых среди цветов, мои наблюдения стали более сосредоточенными. Присев на корточки или растянувшись на животе, я мог теперь часами наблюдать за повадками разных живых существ вокруг меня, в то время как Роджер сидел где-нибудь поблизости с выражением полного смирения на морде. Таким вот образом я открыл для себя множество удивительных вещей.
Я узнал, что маленькие паучки-крабы могут наподобие хамелеона менять свою окраску. Возьмите паучка с красной розы, где он сидел, как коралловая бусинка, и поместите в прохладную глубину белой розы. Если паучок там останется (а они обычно остаются), вы увидите, как он постепенно бледнеет, словно эта перемена отнимает у него силы. И вот дня через два он уже сидит среди белых лепестков совсем как жемчужинка.
В сухой листве под оградой из фуксий жили паучки совершенно иного рода — маленькие злые охотники, ловкие и свирепые, как тигры. Сверкая на солнце глазами, они разгуливали по своей вотчине среди листвы, останавливались по временам, подтягиваясь на волосатых ногах, чтобы оглядеться вокруг. Заметив какую-нибудь присевшую погреться на солнышке муху, паук замирал, потом медленно-медленно, прямо-таки не превышая скорости роста былинки, начинал переставлять ноги, незаметно пододвигаясь все ближе и ближе и прикрепляя по пути к поверхности листьев свою спасительную шелковую нить. И вот, оказавшись совсем близко, охотник останавливался, слегка шевелил ногами, отыскивая опору понадежнее, затем бросался вперед, прямо на задремавшую муху, и заключал ее в свои волосатые объятия. Ни одного раза я не видел, чтобы жертва ушла от паучка, если он заранее выбирал нужную позицию.
Все эти открытия приводили меня в неописуемый восторг, его надо было разделить с кем-то, и вот я врывался в дом и поражал всех новостью, что непонятные, обитавшие на розах черные гусеницы с колючками вовсе не гусеницы, а детеныши божьей коровки, или же не менее удивительной новостью, что златоглазки откладывают яички на ходулях. Это последнее чудо мне посчастливилось увидеть собственными глазами. Заметив златоглазку на розовом кусте, я стал смотреть, как она карабкается по листьям, и восхищался ее красивыми, нежными, будто из зеленого стекла, крылышками и огромными прозрачно-золотыми глазами. Через некоторое время златоглазка остановилась посреди листа, опустила книзу брюшко, посидела так с минуту, потом подняла хвост, и, к моему изумлению, оттуда потянулась тоненькая, как волосок, бесцветная ниточка, а затем на самом ее кончике появилось яичко. Чуть передохнув, златоглазка снова проделала то же самое, и вскоре вся поверхность листа была покрыта как бы миниатюрными зарослями плауна. Закончив кладку, самка слегка пошевелила усиками и упорхнула в зеленой дымке своих газовых крыльев.
Но, может быть, самым волнующим открытием, которое мне удалось сделать в этой многокрасочной Лилипутии, было гнездо уховертки. Я уже давно пытался его отыскать, только все безуспешно. И вот, наткнувшись теперь на него нечаянно, я так обрадовался, будто получил вдруг замечательный подарок. Гнездо было под куском коры, который я случайно сдвинул с места. Под корой оказалось небольшое углубление, вырытое, должно быть, самим насекомым, и в нем устроено гнездо. В середине гнезда сидела уховертка, заслоняя собой кучку белых яиц. Она сидела на них, точно курица, ее не согнали даже потоки солнечного света, когда я поднял кору. Яиц я сосчитать не мог, но их было совсем немного. Видимо, она еще не все успела отложить.
С большой осторожностью я снова прикрыл ее куском коры и с этой минуты стал ревностно следить за гнездом. Я возвел вокруг него защитную стенку из камней и вдобавок поместил рядом на столбике выведенную красными чернилами надпись, чтобы предупредить всех своих домашних. Надпись гласила: «АСТАРОЖНО — ГНЕЗДО УХОВЕРТКИ — ПАЖАЛУСТА ОБХАДИТЕ». Примечательно, что оба правильно написанных слова имели отношение к биологии. Почти каждый час я подвергал уховертку пристальному десятиминутному осмотру. Чаще я проверять ее не смел, опасаясь, как бы она не покинула гнезда. Постепенно груда яиц под ней росла, и уховертка, очевидно, привыкла к тому, что крыша из коры у нее над головой все время поднимается. Мне даже показалось, что она начинает узнавать меня и дружески кивает усиками.
К моему горькому разочарованию, все мои усилия и постоянный надзор пошли прахом. Детки вывелись в ночное время. Мне казалось, что после всего, что я сделал, они могли бы помедлить немного, дождаться моего прихода. Однако все они уже были там, чудесный выводок крохотных, хрупких уховерточек, будто вырезанных из слоновой кости. Они тихонько копошились под материнским телом, ползали между ее ножками, а более отважные даже взбирались к ней на челюсти. Это было трогательное зрелище. На следующий день детская опустела: все мое милое семейство разбрелось по саду. Позднеемне встретился один из детенышей. Он, конечно, сильно подрос, окреп и побурел, но я сразу же его узнал. Он спал, зарывшись в розовые лепестки, и, когда я его потревожил, только поднял челюсти. Мне хотелось думать, что это было приветствие, дружеское приветствие, однако совесть заставляла меня признать, что он просто делал предостережение возможному противнику. Но я ему все прощал. Ведь он был совсем маленький, когда мы виделись последний раз.
В скором времени я сумел подружиться с деревенскими девушками, которые каждое утро и вечер проезжали мимо нашего сада. Болтовня и смех этих шумных и ярко одетых толстушек, восседавших на спинах ослов, разносились по всем окрестным рощам. Проезжая мимо нашего сада по утрам, девушки весело улыбались мне и выкрикивали громкие слова приветствия, а вечером, на обратном пути, они подъезжали к самому саду и, рискуя свалиться со спины своих вислоухих скакунов, с улыбкой протягивали мне через ограду разные дары: янтарную гроздь винограда, все еще хранившую солнечное тепло, черные как смоль спелые плоды инжира с полопавшимися бочками или же огромный арбуз с прохладной розовой сердцевиной. Понемногу я научился понимать их разговор. Сначала мое ухо стало выделять из общего неясного потока отдельные звуки, потом эти звуки приобрели вдруг значение, и я начал медленно, с запинками выговаривать их сам и наконец принялся без всяких грамматических правил складывать из этих только что выученных слов отдельные неуклюжие фразы. Наших соседок это приводило в восторг, как будто я говорил им самые изысканные комплименты. Перегнувшись через ограду, они напряженно слушали, как я пытаюсь произнести приветствие или простенькую фразу, и, когда я кое-как справлялся с этим, радостно кивали, улыбались и хлопали в ладоши. Постепенно я запомнил все их имена, узнал, кто чей родственник, кто уже замужем, а кто собирается выйти замуж и разные другие подробности. Потом я узнал, кто где живет, и, если нам с Роджером случалось проходить мимо чьего-нибудь домика в оливковых рощах, вся семья высыпала на улицу, встречая нас громкими и радостными приветствиями, из дома тут же выносили стул, чтобы я смог посидеть под лозами и поесть с ними винограду.
Мало-помалу остров незаметно, но властно подчинял нас своим чарам. Каждый день нес в себе такое спокойствие, такую отрешенность от времени, что хотелось удержать его навсегда. Но потом ночь опять сбрасывала свои темные покровы, и нас ждал новый день, блестящий и яркий, как детская переводная картинка, и с тем же впечатлением нереальности.

Глава третья
Человек с Золотыми Бронзовками

Утром, когда я просыпался, сквозь ставни в мою спальню золотыми полосками лился яркий солнечный свет. В утреннем воздухе стоял запах дымка от разожженной на кухне печки, раздавалось звонкое петушиное пение, далекий лай собак, печальный звон колокольчиков, если в то время на пастбище гнали коз.
Завтракали мы в саду под сенью небольшого мандаринового дерева. Прохладное сияющее небо еще не приобрело пронзительной полуденной синевы, оттенок у него был светлый, молочно-опаловый. Цветы еще не совсем очнулись от сна, розы густо обрызганы росой, ноготки плотно закрыты. За завтраком обычно все было тихо и спокойно, потому что в такую рань никому еще не хотелось болтать, и только к самому концу завтрака кофе, гренки и яйца делали свое дело. Все понемногу оживали и принимались рассказывать друг другу, что каждый из них собирается делать и почему собирается это делать, а потом серьезно начинали обсуждать, стоило ли браться за это дело. Я в таких дискуссиях участия не принимал, так как знал совершенно точно, что собираюсь делать, и старался как можно скорей покончить с едой.
— Тебе обязательно надо давиться пищей? — спрашивал Ларри сердитым голосом, ловко орудуя зубочисткой из спички.
— Жуй получше, милый, — тихо говорила мама. — Торопиться-то ведь некуда.
Некуда торопиться? А если Роджер ждет вас с нетерпением у садовой калитки и следит за вами беспокойными карими глазами? Некуда торопиться, когда среди олив первые сонные цикады настраивают уже свои скрипочки? Некуда торопиться, когда весь остров с его прохладным, ясным как звезда утром ждет своего исследователя? Но едва ли можно было надеяться, что родные сумеют стать на мою точку зрения, поэтому я начинал есть медленней, пока их внимание не переключалось на что-нибудь другое, и тогда я снова набивал рот до отказа.
Разделавшись наконец с едой, я поспешно вставал из-за стола и удирал к калитке, где меня встречал вопросительный взгляд Роджера. Сквозь чугунные прутья калитки мы смотрели с ним на оливковые рощи, и я намекал Роджеру, что, быть может, нам лучше никуда не ходить сегодня. Он протестующе махал обрубком хвоста и трогал носом мою руку. Да нет же, нет, я ведь в самом деле не собираюсь никуда идти. Наверное, скоро начнется дождь — и я с тревогой поглядывал на ясное, сияющее небо. Навострив уши, Роджер тоже смотрел на небо, потом обращал ко мне умоляющий взгляд. Ну, может, сейчас дождя и не будет, продолжал я, но позднее он уж обязательно начнется, так что лучше всего посидеть с книгой в саду. Роджер в отчаянии хватался за калитку своей огромной черной лапой и снова смотрел на меня. Его верхняя губа начинала кривиться в заискивающей улыбке, обнажая белые зубы, а короткий хвост дрожал от возбуждения. Это был его главный козырь. Ведь он отлично понимал, что я не устою перед такой забавной улыбкой. Я переставал дразнить Роджера и бежал за своими спичечными коробками и сачком для бабочек. Скрипучая калитка отворялась, с лязгом захлопывалась снова, и Роджер, как вихрь, проносился сквозь оливковые рощи, приветствуя новый день своим громким лаем.
В те дни, когда я только начинал свое знакомство с островом, Роджер был моим неизменным спутником. Вместе мы отваживались уходить все дальше и дальше от дома, отыскивали уединенные оливковые рощи, которые надо было исследовать и запомнить, пробирались сквозь миртовые заросли — излюбленное пристанище черных дроздов, заходили в узкие долины, окутанные густой тенью кипарисов. Роджер был для меня идеальным спутником, его привязанность не переходила в навязчивость, храбрость — в задиристость, он был смышлен, добродушен и весело сносил все мои выдумки. Если мне случалось поскользнуться где-нибудь на влажном от росы склоне, Роджер уже был тут как тут, фыркал, будто в насмешку, бросал на меня быстрый взгляд, встряхивался, чихал и, сочувственно лизнув, улыбался мне своей кривой улыбкой. Если я отыскивал что-нибудь интересное — муравейник, лист с гусеницей, паука, пеленающего муху шелковым свивальником, — Роджер останавливался и ждал, пока я закончу свое исследование. Когда ему казалось, что я слишком замешкался, он подходил поближе, жалобно тявкал и начинал вилять хвостом. Если находка была пустяковой, мы сразу отправлялись дальше, если же встречалось что-нибудь, заслуживающее пристального внимания, мне стоило только строго взглянуть на Роджера, и он сразу понимал, что дело затянется надолго. Уши у него тогда опускались, он переставал вилять хвостом, плелся к ближайшему кусту и растягивался в тени, глядя на меня глазами страдальца.
Во время этих походов мы с Роджером завязывали в разных местах знакомство со многими людьми. Среди них была, например, веселая, толстая Агати, жившая в маленьком ветхом домишке на горе. Она всегда сидела около своего дома с веретеном в руках и пряла овечью шерсть. Должно быть, ей давно уже перевалило за семьдесят, но волосы у нее до сих пор оставались черными и блестящими. Они были аккуратно заплетены в косы и намотаны на пару отполированных коровьих рогов — украшение, которое можно еще увидеть на некоторых старых крестьянках. Агати сидела на солнышке в алой повязке, накрученной поверх рогов, в руках у нее, как волчок, ходило вверх и вниз веретено, пальцы ловко направляли нить, а морщинистые губы широко открывались, обнажая неровный ряд уже пожелтевших зубов, — она пела песню хрипловатым, но все еще сильным голосом.
От нее-то я и узнал самые красивые и самые известные народные песни. Усевшись на старую консервную банку, я ел виноград и гранаты из ее сада и пел вместе с нею. Агати то и дело прерывала пение, чтобы исправить мой выговор. Куплет за куплетом мы пели веселую, живую песню о реке — как она стекает с гор и орошает сады и поля и как деревья сгибаются под тяжестью плодов. С усиленным кокетством строя друг другу глазки, мы пели забавную любовную песенку под названием «Обман».
— Обман, обман, — выводили мы, тряся головой, — кругом обман, но ведь это я научил тебя рассказывать всем людям, как я тебя люблю.
Потом мы переходили к печальным мелодиям и пели для начала неторопливую, но живую песенку «Зачем ты меня покидаешь?» и, совсем размякнув, принимались петь дрожащими голосами длинную чувствительную песню. Когда мы подходили к заключительной, самой душераздирающей ее части, глаза Агати заволакивались дымкой, подбородок дрожал от волнения, и она прижимала руки к своей обширной груди. Наконец замирал последний звук нашего не очень-то стройного пения, Агати вытирала нос уголком повязки и поворачивалась ко мне.
— Ну скажи, разве мы не остолопы? Конечно, остолопы. Сидим тут на солнце и поем. Да еще о любви! Я для этого слишком стара, ты слишком мал, и все-таки мы теряем время и поем о ней. Ну ладно, давай выпьем по стаканчику вина.
Кроме Агати среди моих любимцев был еще старый пастух Яни, высокий, сутулый человек с большим орлиным носом и невероятными усами. Первый раз я встретился с ним в очень жаркий день, после того как мы с Роджером больше часу напрасно старались вытащить крупную зеленую ящерицу из ее норы в каменной стене. Сомлев от жары и усталости, мы растянулись у пяти невысоких кипарисов, бросавших ровную, четкую тень на выгоревшую траву. Я лежал, прислушиваясь к тихому, сонному позвякиванию колокольчиков, и вскоре увидел стадо коз. Проходя мимо кипарисов, каждая коза останавливалась, пялила на нас свои бессмысленные желтые глаза и шла дальше, качая своим большим, похожим на волынку выменем и с хрустом пощипывая листья кустарника. Эти мерные звуки и тихий звон колокольчиков совсем убаюкали меня. Когда все стадо прошло мимо и показался пастух, я уже почти засыпал. Старик остановился, опираясь на темную палку из оливы, и окинул меня взглядом. Его небольшие черные глаза смотрели строго из-под кустистых бровей, огромные башмаки плотно прижимали к земле вереск. — Добрый день, — окликнул он меня сердито. — Ты иностранец… маленький лорд? Я уже знал тогда, что крестьяне почему-то считают всех англичан лордами, и ответил старику утвердительно. Он повернулся и закричал на козу, которая, поднявшись на задние ноги, общипывала молодое оливковое деревце, потом снова обратился ко мне. — Я хочу сказать тебе кое-что, маленький лорд, — произнес он. — Опасно тут лежать под деревьями. Я посмотрел на кипарисы, не нашел в них ничего опасного и спросил старика, почему он так думает. — Посидеть-то под ними хорошо, у них густая тень, прохладная, как вода в роднике. Но вся беда в том, что они усыпляют человека. И ты никогда, ни в коем случае не ложись спать под кипарисом. Он остановился, погладил усы, подождал, покуда я не спросил, почему нельзя спать под кипарисами, и продолжал: — Почему, почему! Потому что, проснувшись, ты станешь другим человеком. Да, эти черные кипарисы очень опасны. Пока ты спишь, их корни врастают тебе в мозги и крадут твой ум. Когда ты проснешься, ты уже ненормальный, голова у тебя пустая, как свистулька. Я спросил у него, относится ли это только к кипарисам или же ко всем деревьям. — Нет, только к кипарисам, — ответил старик и строго посмотрел на деревца, под которыми я лежал, будто опасаясь, что они могут подслушать наш разговор. — Только кипарисы воруют рассудок. Так что смотри, маленький лорд, не спи здесь. Он слегка кивнул мне, еще раз сердито посмотрел на темные пирамиды кипарисов, словно ждал от них объяснения, и осторожно начал пробираться сквозь заросли миртов к склону холма, где разбрелись его козы. С Яни мы потом стали хорошими друзьями. Я всякий раз встречался с ним во время своих экскурсий, а иногда заходил в его маленький домик, где он угощал меня фруктами и давал всякие наставления, советуя вести себя поосторожней на прогулках. Но, быть может, одной из самых необычных и притягательных личностей, которые мне довелось встретить в своих походах, был Человек с Золотыми Бронзовками. Он как будто вышел прямо из волшебной сказки и был просто неотразим. Встречаться с ним мне удавалось нечасто, и встреч этих я ждал с большим нетерпением. Первый раз я увидел его на пустынной дороге, ведущей к одной из горных деревушек. Услышал я его гораздо раньше, чем увидел, так как он наигрывал мелодичную песенку на пастушьей свирели, останавливаясь временами, чтобы произнести несколько слов каким-то чудным, гнусавым голосом. Когда он показался из-за поворота дороги, мы с Роджером остановились и раскрыли рот от изумления. У него было острое, лисье личико и большие раскосые глаза темно-карего, почти черного цвета. Было в них что-то странное, неуловимое, и покрывал их какой-то налет, будто на сливе, какая-то жемчужная пленка, почти как катаракта. Небольшого роста, худенький, с невероятно тонкой шеей и запястьями, он был облачен в фантастический наряд. На голове у него была бесформенная шляпа с очень широкими, обвислыми полями, когда-то темно-зеленая, но теперь посеревшая от пыли, покрытая винными пятнами и прожженная сигаретами. На шляпе колыхался целый лес перьев, заткнутых за ленту, — петушиных, совиных, удодовых, крыло зимородка, ястребиная лапа и одно большое, грязное белое перо, должно быть, лебединое. Старая изношенная рубаха побурела от пота, у шеи болтался невероятных размеров галстук из ослепительного голубого атласа. На темном бесформенном пиджаке красовались разноцветные заплаты — на рукаве белая с розочками, на плече красный треугольник в белую крапинку. Из сильно оттопыренных карманов этого одеяния почти вываливалось все их содержимое: гребни, воздушные шары, раскрашенные образки, вырезанные из оливкового дерева змеи, верблюды, собаки и лошади, дешевые зеркальца, яркие платки и плетеные батоны с тмином. Штаны его, тоже в заплатках, спадали на алые кожаные башмаки с задранными носами и большими черно-белыми помпонами. На спине у этого удивительного человека громоздились клетки с голубями и цыплятами, какие-то таинственные мешки и большой пучок свежего зеленого лука-порея. Одной рукой он придерживал свирель, в другой сжимал пук ниток с привязанными на концах золотыми бронзовками величиной с миндалину. Сверкая на солнце, золотисто-зеленые жуки летали вокруг шляпы и отчаянно гудели, стараясь сорваться с ниток, крепко обхватывающих их тельце. По временам какой-нибудь жук, устав кружиться без толку, отдыхал минуточку на его шляпе, прежде чем снова пуститься в бесконечную карусель. Когда Человек с Золотыми Бронзовками заметил нас, он остановился с преувеличенным изумлением, снял свою смешную шляпу и отвесил низкий поклон. Это неожиданное внимание так подействовало на Роджера, что он в удивлении залаял. Человек улыбнулся, снова надел шляпу, поднял руки и помахал мне своими длинными костлявыми пальцами. Я посмотрел на него с радостным удивлением и вежливо поздоровался. Человек еще раз отвесил любезный поклон и на мой вопрос, не с праздника ли он возвращается, закивал головой. Потом поднес к губам свирель, извлек из нее веселую мелодию, сделал несколько прыжков посреди пыльной дороги и, остановившись, показал большим пальцем через плечо, откуда он пришел. Улыбаясь, он похлопал себя по карманам и потер большим пальцем об указательный — так обычно изображают деньги. И тут я вдруг понял, что Человек с Бронзовками немой. Мы стояли посреди дороги, я продолжал разговаривать с ним, а он отвечал мне очень остроумной пантомимой. Когда я спросил, для чего ему нужны бронзовки и зачем он привязывает их за нитки, он вытянул руку ладонью книзу, обозначив маленьких ребятишек, потом взял одну нитку с жуком на конце и стал вертеть ею над головой. Насекомое сразу ожило и пустилось летать по своей орбите вокруг шляпы, а он взглянул на меня сияющими глазами, показал на небо, раскинул руки и громко загудел через нос, делая на дороге всякие виражи и спуски. Сразу было видно, что это самолет. Потом он показал на жуков, снова обозначил ладонью маленьких детей и принялся вертеть над головой целой связкой жуков, так что все они сердито зажужжали. Утомленный этим объяснением, Человек с Бронзовками уселся на краю дороги и заиграл на своей свирели простенькую мелодию, останавливаясь порой, чтобы пропеть своим необычным голосом несколько тактов. Это не были отчетливые слова, а просто поток носовых и гортанных звуков, мычание и писк. Однако он произносил их с такой живостью и с такой удивительной мимикой, что вам казалось, будто эти странные звуки имеют какое-то значение. Засунув потом свою дудку в оттопыренный карман, человек посмотрел на меня в раздумье, сбросил с плеча небольшой мешочек, развязал его и, к моему изумлению и восторгу, вытряхнул на пыльную дорогу с полдюжины черепашек. Панцири их были до блеска натерты маслом, а передние ноги он каким-то образом умудрился украсить алыми бантиками. Черепахи не спеша выпростали головы и ноги из-под блестящих панцирей и лениво поползли вдоль дороги. Я глядел на них восторженными глазами. Особенно понравилась мне одна маленькая черепаха размером не больше чайной чашки. Она казалась живее других, глаза у нее были ясные и панцирь посветлее — смесь янтаря, каштана и жженого сахара. Двигалась она со всем доступным черепахе проворством. Я долго следил за нею, старясь убедить себя, что дома у нас ее примут с большим восторгом и, может быть, даже поздравят меня с таким славным приобретением. Отсутствие денег не смущало меня ни в малейшей степени, потому что я просто мог попросить человека прийти к нам за деньгами завтра. Мне даже не приходило в голову, что он может не поверить. Я спросил Человека с Золотыми Бронзовками, сколько стоит маленькая черепашка. Он показал обе руки с растопыренными пальцами. Однако я ни разу не видел, чтобы крестьяне на острове заключали сделку просто так, не торгуясь. Я решительно покачал головой и поднял два пальца, непроизвольно подражая своему продавцу. Он в ужасе закрыл глаза и поднял девять пальцев. Тогда я поднял три. Он покачал головой, немного подумал и показал шесть пальцев. Я тоже покачал головой и показал пять. Человек с Золотыми Бронзовками снова затряс головой и тяжело вздохнул. Мы оба сидели теперь не двигаясь и с решительным, бесцеремонным любопытством маленьких детей смотрели на черепах, неуверенно ползавших по дороге. Немного погодя Человек с Золотыми Бронзовками показал на маленькую черепашку и опять поднял шесть пальцев. Я помотал головой и поднял пять. Роджер громко зевнул. Ему надоел этот безмолвный торг. Человек с Бронзовками поднял черепаху с земли и жестами показал мне, какой у нее гладкий и красивый панцирь, какая прямая головка, какие острые коготки. Я был неумолим. Он пожал плечами, протянул мне черепашку и поднял пять пальцев. Тогда я сказал, что у меня нет денег и что за ними надо прийти завтра к нам домой. Он кивнул в ответ, как будто это было самым обычным делом. Мне не терпелось вернуться поскорее домой и показать всем свое новое приобретение, поэтому я сразу попрощался, поблагодарил человека и помчался что есть духу по дороге. Добежав до того места, где надо было сворачивать в оливковые рощи, я остановился и как следует рассмотрел свою покупку. Разумеется, такой прекрасной черепахи я еще никогда не видел. По-моему, она стоила раза в два дороже, чем я за нее заплатил. Я погладил черепаху пальцем по чешуйчатой головке, положил осторожно в карман и, прежде чем спуститься с пригорка, оглянулся. Человек с Золотыми Бронзовками стоял на том же самом месте, но теперь он танцевал что-то вроде джиги, раскачивался, прыгал, подыгрывая себе на свирели, а на дороге, у его ног, копошились маленькие черепахи. Моя черепашка оказалась очень умным и милым созданием с необычайным чувством юмора. Имя ей дали Ахиллес. Сперва мы привязали ее за ногу в саду, но потом, когда черепаха стала совсем ручной, она могла идти куда ей заблагорассудится. Очень скоро Ахиллес научился узнавать свое имя. Стоило только раза два-три окликнуть его, немного подождать, и он обязательно появлялся откуда-нибудь, ковыляя на цыпочках по узкой мощеной дорожке и с волнением вытягивая шею. Ему очень нравилось, чтоб его кормили из рук, он усаживался тогда, словно принц на солнышке, а мы по очереди протягивали ему листья салата, одуванчика или кисточку винограда. Виноград он любил так же страстно, как Роджер, и соперничество между ними никогда не ослабевало. Ахиллес сидел обычно с полным ртом и потихоньку пережевывал виноградины, заливаясь соком, а Роджер лежал где-нибудь поблизости и, исходя слюной, смотрел на него завистливыми глазами. Роджеру тоже всегда честно выдавалась его доля, но, наверно, он все же считал, что на черепах не стоит изводить деликатесы. Если я переставал следить за ним, Роджер подбирался после кормежки к Ахиллесу и жадно слизывал с него виноградный сок. Оскорбленный такой бесцеремонностью, Ахиллес хватал Роджера за нос, а если тот продолжал лизать слишком настойчиво, с негодующим шипением прятался в свой панцирь и не показывался оттуда до тех пор, пока мы не уводили Роджера. Но еще больше, чем виноград, Ахиллес любил землянику. Он становился просто невменяем при одном только ее виде. Начинал метаться из стороны в сторону, умоляюще смотрел на вас своими маленькими, как пуговки, глазами и поворачивал вслед за вами голову, проверяя, собираетесь ли вы давать ему ягоды или нет. Мелкую землянику, размером с горошину, Ахиллес мог проглотить сразу, но, если вы предлагали ему ягоду величиной, скажем, с лесной орех, поведение его становилось необычным для черепахи. Схватив ягоду и крепко зажав ее во рту, он торопливо ковылял в какое-нибудь укромное, надежное местечко среди цветочных клумб, опускал ягоду на землю, не спеша съедал ее, после чего возвращался за другой. Вместе с неодолимой страстью к землянике у Ахиллеса появилась страсть к человеческому обществу. Стоило только войти в сад, чтобы позагорать, почитать или с каким-нибудь другим намерением, как среди турецкой гвоздики слышался шорох и оттуда высовывалась морщинистая, серьезная мордочка Ахиллеса. Если вы сидели на стуле, Ахиллес просто подползал как можно ближе к вашим ногам и погружался в крепкий, мирный сон — голова его вываливалась из панциря и касалась земли. Но если вы легли на коврик загорать, Ахиллес нисколько не сомневался, что растянулись вы на земле просто ради его удовольствия. Он устремлялся к вам по дорожке, забирался на коврик и в радостном возбуждении останавливался на минутку, чтобы прикинуть, какую часть вашего тела надо выбрать для восхождения. И тут вы вдруг чувствовали, как вам в ляжку впиваются острые коготки черепахи — это она приступила к решительному штурму вашего живота. Вам, конечно, не по нраву такой отдых, вы решительно стряхиваете черепаху и перетаскиваете подстилку в другую часть сада. Но это всего лишь временная передышка. Ахиллес будет упорно кружиться по саду до тех пор, покуда не отыщет вас снова. В конце концов это всем так надоело и на меня стало сыпаться столько жалоб и угроз, что мне приходилось сажать черепаху под замок всякий раз, как в сад кто-нибудь выходил. Но вот в один прекрасный день кто-то оставил садовую калитку незакрытой, и Ахиллеса в саду не оказалось. Не медля ни секунды, все бросились на его поиски, хотя до этого целыми днями повсюду только и слышались угрозы прикончить черепаху. Теперь же все рыскали по оливковым рощам и кричали: — Ахиллес… земляника, Ахиллес… Ахиллес… земляника… Наконец мы нашли его. Разгуливая со своей обычной отрешенностью, Ахиллес свалился в старый колодец, давно разрушенный и заросший папоротником. К нашему великому огорчению, он был мертв. Ни попытки Лесли сделать искусственное дыхание, ни предложение Марго запихнуть ему в горло землянику (чтобы дать черепахе, как она выразилась, жизненный стимул) не могли вернуть Ахиллеса к жизни. Печально и торжественно мы погребли его тело под кустиком земляники (мамина идея). У всех в памяти осталась короткая надгробная речь, сочиненная Ларри, которую он читал дрожащим голосом. И только один Роджер портил все дело. Как я ни старался его образумить, он не переставал вилять хвостом в течение всей погребальной церемонии. Вскоре после печальной разлуки с Ахиллесом я приобрел у Человека с Золотыми Бронзовками другого питомца. На сей раз это был голубь, почти еще птенец, которому приходилось давать хлеб с молоком и размоченное зерно. Вид у этой птицы был самый безобразный. Перья торчали из его красной сморщенной кожи вперемешку с противным желтым пухом, какой бывает у птенчиков, как будто это вытравленные перекисью водорода волосы. Из-за некрасивой внешности Ларри предложил назвать его Квазимодо. Я согласился. Слово мне понравилось, а значения его я в то время еще не понимал. Когда Квазимодо уже научился сам добывать себе пищу и давно отросли его перья, на голове у него все еще оставался хохолок желтого пуха, что придавало ему сходство с надутым судьей в слишком узком парике. Квазимодо вырос в необычных условиях, без родителей, которые бы могли научить его уму-разуму, поэтому он, видно, не считал себя птицей и отказывался летать, предпочитая всюду ходить пешком. Если ему надо было забраться на стол или на стул, он останавливался внизу, начинал кивать головой и ворковал своим мягким контральто до тех пор, пока кто-нибудь не подхватывал его с полу. Он всегда горел желанием принять участие во всех наших делах и даже порывался ходить с нами на прогулки. Порывы эти мы, однако, старались пресечь, потому что голубя приходилось нести на плече, и тогда вы подвергали риску свою одежду, или же он ковылял сзади на собственных ногах, а вам надо было приноравливаться к его шагу. Если же вы уходили слишком далеко вперед, до вас вдруг доносилось душераздирающее воркование, и, обернувшись, вы видели, как Квазимодо мчится за вами что есть духу, хвост его отчаянно трепещет, переливчатая грудь раздувается от негодования. Спать Квазимодо соглашался только в доме. Никакие уговоры и нотации не могли заставить его поселиться в голубятне, которую я соорудил специально для него. Он все-таки предпочитал краешек кровати Марго. Однако позднее его прогнали на диван в гостиную, потому что всякий раз, как Марго поворачивалась ночью в кровати, Квазимодо просыпался, шагал по одеялу и с нежным воркованием усаживался ей на лицо. Ларри первый обнаружил у него музыкальные способности. Голубь не только любил музыку, но, казалось, умел различать две определенные мелодии — вальс и военный марш. Если ставили другую музыку, он подбирался поближе к патефону и сидел там с полузакрытыми глазами, выпятив грудь и мурлыча что-то себе под нос. Если же это был вальс, голубь начинал скользить вокруг патефона, вертелся, кланялся и ворковал трепетным голосом. Марш, и особенно джазовый, напротив, заставлял его вытянуться во весь рост, раздуть грудную клетку и маршировать взад и вперед по комнате. Воркование его становилось таким громким и хриплым, что, казалось, он вот-вот задохнется. Ни разу не пытался Квазимодо проделывать все это под какую-нибудь иную музыку, кроме маршей и вальсов. Правда, иногда, если ему долго не приходилось слышать вообще никакой музыки, он начинал (в восторге, что наконец ее слышит) маршировать под вальс или же наоборот. Однако всякий раз он неизменно останавливался и исправлял свою ошибку. В один прекрасный день, отправившись будить Квазимодо, мы обнаружили вдруг, что он всех нас одурачил, потому что там, среди подушек, лежало белое блестящее яйцо. Это событие сильно повлияло на Квазимодо, он стал злой, раздражительный и, если вы протягивали к нему руку, с остервенением клевал ее. Потом появилось второе яйцо, и нрав Квазимодо изменился окончательно. Он, вернее, она становилась все возбужденней, обращалась с нами так, словно мы были ее злейшими врагами. К кухонной двери за пищей она старалась подобраться незаметно, будто опасалась за свою жизнь. Даже патефон не мог заманить ее обратно в дом. Последний раз я видел ее на оливковом дереве, где она ворковала с самым притворным смущением, а чуть подальше на ветке вертелся крупный и очень мужественный на вид голубь, ворковавший в полном самозабвении. Первое время Человек с Золотыми Бронзовками заглядывал к нам в дом довольно часто и всякий раз приносил какую-нибудь новинку для моего зверинца: лягушку или воробья с перебитым крылом. Однажды мы с мамой в припадке непомерной доброты скупили весь его запас золотых бронзовок и, когда он ушел, выпустили их в саду. Бронзовки надолго заполонили весь наш дом. Они ползали по кроватям, забирались в ванную комнату, натыкались по вечерам на лампы и сыпались изумрудами к нам на колени. Последний раз я видел Человека с Золотыми Бронзовками как-то под вечер, когда он сидел на пригорке у дороги. Наверно, он возвращался откуда-то с праздника, где выпил много вина, и теперь его качало из стороны в сторону. Он шел и наигрывал на своей свирели грустную мелодию. Я громко окликнул его, но он не обернулся, а только приветливо помахал мне рукой. На повороте дороги его силуэт ясно обозначился на фоне бледно-сиреневого вечернего неба. Мне хорошо была видна потертая шляпа с перьями, оттопыренные карманы пиджака, бамбуковые клетки с сонными голубями и медленный хоровод чуть приметных точек — это кружились над его головой золотые бронзовки. Но вот он уже скрылся за поворотом, и теперь передо мной было одно лишь бледное небо, где плавало серебряное перышко молодого месяца. Вдали, в сгустившихся сумерках, замирали нежные звуки свирели.

Глава четвертая
Полный кошель знаний

Как только мы перебрались в землянично-розовый дом, мама сразу решила, что мне нельзя оставаться неучем и в общем-то надо получить хоть какое-нибудь образование. Но что можно было сделать на маленьком греческом островке? Всякий раз, как поднимался этот вопрос, вся семья бросалась решать его с невероятным воодушевлением. Каждый знал, какое занятие было для меня самым подходящим, и каждый отстаивал свою точку зрения с такой горячностью, что все споры о моем будущем всегда кончались неистовым ревом.
— Времени у него хоть отбавляй, — говорил Лесли. — В конце концов он сам может читать книжки. Разве не так? Я могу обучить его стрельбе, а если мы купим лодку, научу, как управлять ею.
— Но, милый, будет ли для него от этого какой-нибудь прок в будущем? — спрашивала мама и рассеянно добавляла: — Разве что он пойдет в торговый флот или еще куда-нибудь.
— Я думаю, ему непременно надо научиться танцевать, — говорила Марго, — иначе он вырастет просто неотесанным увальнем.
— Конечно, милая, но ведь это совсем не к спеху. Сначала ему надо освоить такие предметы, как математика, французский… да и с орфографией у него очень неважно.
— Литература, — убежденно произносил Ларри. — Вот что ему необходимо. Хорошие, твердые знания по литературе. Остальное приложится само собой. Я всегда стараюсь давать ему хорошие книги.
— Но, может быть, ему все-таки рановато читать Рабле? — неуверенно спрашивала мама.
— Что за ерунда! — отвечал не задумываясь Ларри. — Важно, чтобы у него уже теперь складывалось верное представление о сексе.
— Ты просто помешан на сексе, — строгим голосом заметила Марго. — О чем бы ни спросили, ты всегда лезешь со своим сексом.
— Что ему надо, так это побольше упражнений на свежем воздухе. Если он научится стрелять и ставить парус… — начал Лесли.
— Э-э! Да брось ты все эти штуки… сейчас начнешь проповедовать холодный душ.
— Слишком много ты о себе воображаешь и все знаешь лучше других. Не можешь даже выслушать чужую точку зрения.
— Такую ограниченную точку зрения, как твоя? Неужели ты думаешь, что я стану ее слушать?
— Ладно, ладно. К чему ругаться? — говорила мама.
— Да вот Ларри такой безрассудный.
— Хорошенькое дело! — возмущался Ларри. — Я гораздо рассудительнее всех в этом доме.
— Конечно, милый, но руганью ничего не добьешься. Нам нужен человек, который мог бы обучать Джерри и развивать его склонности.
— У него, кажется, только одна склонность, — едко вставил Ларри, — а именно стремление забить все в доме зверьем. Эта его склонность, я думаю, в развитии не нуждается. Нам и так отовсюду грозит опасность. Не далее как сегодня утром я пошел зажечь сигарету, а из коробки выскочил здоровенный шмель.
— А у меня кузнечик, — проворчал Лесли.
— Да, этому надо положить конец, — заявила Марго. — Не где-нибудь, а у себя на туалетном столике я нашла отвратительную банку с какими-то червяками.
— Бедный мальчик, ведь у него не было дурных намерений, — миролюбиво проговорила мама. — Он так увлекается всем этим.
— Я бы еще мог вынести нападение шмелей, — рассуждал Ларри, — если б это к чему-нибудь привело. А то ведь сейчас у него просто такой период… к четырнадцати годам он закончится.
— Этот период, — возразила мама, — начался у него еще с двух лет, и что-то не заметно, чтобы он кончался.
— Ну что ж, — сказал Ларри. — Если тебе угодно набивать его всякими ненужными сведениями, думаю, что Джордж возьмется его обучать.
— Вот замечательно! — обрадовалась мама. — Пожалуйста, сходи к нему. Чем раньше он начнет, тем лучше.
Обхватив рукой косматую шею Роджера, я в это время сидел в темноте под раскрытым окном и с интересом, но не без возмущения слушал, как решают мою судьбу. Когда дело наконец уладилось, я было стал думать, кто это такой Джордж и почему мне так уж необходимы уроки, но в вечернем сумраке был разлит аромат цветов, а темные оливковые рощи были так прекрасны и загадочны, что я забыл о нависшей надо мной опасности образования и отправился с Роджером в заросли ежевики ловить светлячков.
Джордж оказался старым приятелем Ларри, на Корфу он приехал писать. В этом не было ничего такого уж необыкновенного, потому что в те дни все знакомые Ларри были писатели, поэты или художники. К тому же и на Корфу-то мы оказались именно благодаря Джорджу. Он писал об этом острове такие восторженные письма, что Ларри уже просто не мыслил себе жизни в другом месте. И вот теперь этот Джордж должен был расплачиваться за свою неосмотрительность. Он пришел обсудить с мамой вопрос о моем образовании, и нас представили. Мы подозрительно оглядели друг друга. Джордж был очень высокий и очень тонкий человек, двигался он со странной, развинченной грацией марионетки. Его худое, изможденное лицо было наполовину скрыто острой темной бородкой и большими очками в черепаховой оправе. Говорил он низким меланхолическим голосом, и в его невозмутимых шутках чувствовался сарказм. Всякий раз, сказав что-нибудь остроумное, он хитро улыбался себе в бородку, не заботясь о произведенном впечатлении.
Обучать меня Джордж взялся всерьез. Его не страшило даже то, что на острове нельзя было достать учебников. Он просто перерыл всю свою библиотеку и в назначенный день явился вооруженный самым фантастическим набором книг. Сосредоточенно и терпеливо он обучал меня начаткам географии по картам на обороте обложки старого тома «Энциклопедии», английскому языку — по самым разнообразным книгам, от Уайльда до Гиббона, французскому — по толстой яркой книжке с названием «Малый Лярусс» и арифметике — по памяти. Однако, с моей точки зрения, важнее всего было уделять какое-то время естествознанию, и Джордж стал добросовестно учить меня, как вести наблюдения и как записывать в дневник. И вот тогда мое восторженное, но бестолковое увлечение природой вошло в определенное русло. Я увидел, что записи дают мне возможность узнать и запомнить всего гораздо больше. На уроки я не опаздывал только в те дни, когда мы занимались естествознанием.
Каждое утро, в девять часов, среди оливковых деревьев торжественно появлялась фигура Джорджа, облаченная в шорты, сандалии и огромную соломенную шляпу с обтрепанными полями. Под мышкой у Джорджа была зажата стопка книг, в руке трость, которой он размахивал весьма энергично.
— Доброе утро. Надеюсь, что ученик с большим нетерпением ждет своего учителя? — приветствовал он меня, хмуро улыбаясь.
В маленькой столовой с закрытыми от солнца ставнями царил зеленый полумрак. Разморенные жарой мухи медленно ползали по стенам или с сонным жужжанием одурело летали по комнате, а за окном цикады восторженно приветствовали новый день пронзительным звоном. Джордж стоял у стола и аккуратно раскладывал на нем свои книги.
— Посмотрим, посмотрим, — бормотал он, водя длинным указательным пальцем по нашему тщательно составленному расписанию. — Так, так, арифметика. Если я правильно запомнил, мы трудились над грандиозной задачей, пытаясь определить, в какой срок смогут шесть рабочих построить стену, если трое из них справились с этим за неделю. Кажется, мы потратили на эту задачу столько же времени, сколько рабочие на стену. Ну ладно, препояшем чресла и попробуем еще раз. Может, тебе не нравится содержание задачи? Посмотрим, нельзя ли сделать его поинтереснее.
Он склонился над задачником, в задумчивости пощипывая бородку, потом, переделав задачу на новый лад, выписал ее своим крупным четким почерком.
— Две гусеницы съедают за неделю восемь листьев. Сколько времени потребуется четырем гусеницам, чтобы съесть такое же количество листьев? Ну вот, попробуй решить теперь.
Покуда я бился над непосильной задачей о прожорливых гусеницах, Джордж занимался другими делами. Он был искусным фехтовальщиком и страстно увлекался в то время изучением местных деревенских танцев. И вот, пока я решал задачу, Джордж двигался по затемненной комнате, упражняясь в фехтовании или отрабатывая танцевальные па. Меня как-то смущали все эти упражнения, и впоследствии я всегда именно им приписывал свою неспособность к математике. Даже теперь, стоит мне только столкнуться с простейшей арифметической задачей, как передо мной тут же встает долговязая фигура Джорджа. Он кружится по слабо освещенной столовой в танце и низким голосом гудит себе под нос какую-то неопределенную мелодию.
— Там-ти-там-ти-там… — доносится словно из потревоженного улья. — Тидл-тидл-тамти-ди… левая нога вперед… три шага вправо… там-ти-там-ти-там-ти-дам… назад, кругом, вверх и вниз… тидл-идл-ампти-ди…
Он шагает и выделывает пируэты, словно тоскующий журавль. Потом гудение вдруг стихает, во взгляде появляется непреклонность, и Джордж занимает оборонительную позицию, направляя воображаемую рапиру на воображаемого противника. Сощурив глаза и сверкая стеклами очков, он гонит врага через всю комнату, ловко обходя мебель, и, наконец, загнав его в угол, делает финты и вьется вокруг с проворством осы. Выпад. Удар. Удар. Я почти вижу блеск стали. И вот завершающий момент — резким движением снизу и вбок оружие противника отведено в сторону, быстрый рывок назад, затем глубокий прямой выпад, и кончик рапиры вонзается прямо в сердце противника. Забыв про задачник, я с восторгом слежу за всеми движениями Джорджа. В математике мы так и не добились больших успехов.
Гораздо лучше обстояло дело с географией, потому что Джордж сумел придать этому предмету зоологическую окраску. Мы вычерчивали с ним огромные карты, изборожденные горами, и потом наносили в определенных местах условные знаки вместе с изображением самых интересных животных, которые там водились. Таким образом у меня выходило, что основная продукция Цейлона — слоны и чай, Индии — тигры и рис, Австралии — кенгуру и овцы, а в океанах голубые плавные линии морских течений несли с собой не только ураганы, пассаты, хорошую и плохую погоду, но также китов, альбатросов, пингвинов и моржей. Карты наши были настоящими произведениями искусства. Главные вулканы на них извергали целые потоки огненных струй и искр, заставляя вас опасаться, как бы от этого не вспыхнули бумажные континенты, а самые высокие горные цепи мира сияли такой синевой и белизной ото льда и снега, что, глядя на них, вы невольно начинали ежиться от холода. Наши бурые, прокаленные солнцем пустыни были сплошь покрыты буграми пирамид и верблюжьих горбов, а тропические леса отличались такой густотой, таким буйством, что сквозь них лишь с большим трудом могли продираться неуклюжие ягуары, гибкие змеи и насупленные гориллы. На опушках леса худые туземцы рубили раскрашенные деревья, расчищая полянки, видимо, лишь для того, чтобы на них можно было написать неровными печатными буквами «кофе» или «зерно». Наши широкие, голубые, как незабудки, реки были усеяны лодками и крокодилами. Наши океаны не казались пустынными, так как повсюду, если только там не бушевали свирепые штормы и страшная приливная волна не нависала над одиноким пальмовым островком, бурно кипела жизнь. Добродушные киты позволяли даже самым жалким галеонам, ощетинившимся гарпунами, неотступно преследовать себя; невинные, как младенцы, осьминоги нежно сжимали в своих щупальцах мелкие суда; стаи зубастых акул гнались за китайскими джонками, а закутанные в меха эскимосы пробирались за огромными стадами моржей по ледяным полям, где толпами бродили полярные медведи и пингвины. Это были карты, живущие своей жизнью, их можно было изучать, обдумывать, кое-что добавлять к ним. Короче говоря, эти карты действительно что-то обозначали.
Уроки истории сначала проходили у нас без заметных успехов, пока Джордж не сообразил, что, если к унылым фактам прибавить чуточку зоологии и привлечь какие-нибудь совсем посторонние подробности, можно вполне завладеть моим вниманием. Таким образом мне стали известны некоторые исторические данные, которые, насколько я знаю, нигде раньше не были зафиксированы. От урока к уроку я следил с затаенным дыханием, как Ганнибал переходит через Альпы. Меня мало беспокоили причины, толкнувшие его на такой подвиг, и я совсем не интересовался, что он думал делать на той стороне. Зато в этой экспедиции, очень плохо, на мой взгляд, организованной, меня привлекала возможность узнать имена всех до одного слонов. Мне также стало известно, что Ганнибал специально назначил человека не только кормить и оберегатьслонов, но и давать им в холодную погоду бутылки с горячей водой. Этот интересный факт, очевидно, остался неизвестен большинству серьезных историков. Еще одна подробность, о которой не упоминают книги по истории, касалась Колумба. Когда он ступил на землю Америки, первые его слова были: «Боже мой, глядите… ягуар!» После такого введения как можно было не заинтересоваться историей этого континента? Таким вот образом Джордж, имея на руках нерадивого ученика и совсем неподходящие книги, старался оживить свое преподавание и сделать уроки интересными.
Роджер, разумеется, думал, что по утрам я просто без толку извожу время. Однако же он меня не покидал и, пока я управлялся с учебой, спокойно дремал под столом. Время от времени, когда я отлучался за книгой, Роджер просыпался, встряхивал свою шерсть, громко зевал и начинал вилять хвостом. Но тут он замечал, что я снова возвращаюсь к столу. Уши его тогда сразу обвисали, он плелся опять в свой угол и со смиренным вздохом плюхался на пол. Джордж не возражал против присутствия Роджера на уроках, так как тот держал себя вполне прилично и не отвлекал моего внимания. Только изредка, когда ему случалось очень крепко заснуть и до него вдруг доносился лай деревенской собаки, Роджер, мгновенно проснувшись, начинал сердито рычать. Но потом, сообразив, где находится, он со смущением смотрел на наши осуждающие лица, дергал хвостом и застенчиво отводил взгляд в сторону.
Некоторое время Квазимодо тоже присутствовал на уроках и вел себя замечательно. Все утро он сидел у меня на коленях, подремывал, что-то тихонечко ворковал про себя. Но вскоре мне пришлось самому изгнать его, так как в один прекрасный день он опрокинул бутылку зеленых чернил прямо посередине большой, очень красивой карты, которую я только что нарисовал. Конечно, варварство это не было предумышленным, но все-таки я сильно разозлился.
Целую неделю Квазимодо пытался вернуть мое расположение. Он садился у двери и обворожительно ворковал сквозь щелку, однако всякий раз, как мое сердце начинало смягчаться, я смотрел на его омерзительный ярко-зеленый хвост и снова ожесточался.
Ахиллес тоже присутствовал один раз на уроке, но ему не понравилось сидеть взаперти. Он без конца бродил по комнате, тыкался в дверь и в плинтусы, потом, забившись куда-нибудь под диван или шкаф, начинал скрестись с такой силой, что нам приходилось вызволять его оттуда. А так как комната была совсем маленькая, то, чтобы передвинуть одну вещь, нам, по существу, приходилось двигать всю мебель. После третьей передвижки Джордж заявил, что он никогда не работал у Картера Патерсона[2] и не привык к таким усилиям, поэтому лучше уж выпустить Ахиллеса в сад.
Итак, оставался один только Роджер. Конечно, утешительно располагать возможностью поставить свои ноги на его косматую спину, покуда корпишь над задачей, и все-таки мне трудно было сосредоточиться, когда сквозь щели в ставнях в комнату лился солнечный свет и протягивался полосками на столе и на полу, напоминая мне о множестве всяческих дел, которыми я мог бы теперь заняться.
Там, за окном, меня ждали просторные оливковые рощи, наполненные звоном цикад, виноградники на склонах, разделенные замшелыми каменными стенами, по которым сновали расписные ящерицы, густые заросли миртов, усеянные насекомыми, и каменистая пустошь, где стайки нарядных щеглов с радостным свистом перепархивали с одного цветка чертополоха на другой.
Учитывая все это, Джордж благоразумно учредил особые уроки на открытом воздухе. Теперь по определенным дням он стал являться с большим махровым полотенцем, и мы вместе выходили через оливковые рощи на дорогу, покрытую пылью, словно белым бархатом, потом сворачивали в сторону и шли вдоль гребня миниатюрных скал по узенькой козьей тропке, пока она не выводила нас к уединенному заливчику с белым песчаным пляжем в форме полумесяца. У самого берега, давая приятную тень, раскинулась рощица приземистых олив. С вершины небольшой скалы вода в этой бухточке казалась такой спокойной и прозрачной, будто ее и вовсе там не было, а рыбы, снующие над рябым, волнистым песком, словно бы парили в воздухе. Сквозь шестифутовый слой прозрачной воды на камнях были видны актинии с поднятыми вверх яркими, нежными щупальцами и раки-отшельники, таскающие за собой свои витые домики.
Сбросив одежду под оливами, мы входили в теплую светлую воду и плыли, лицом вниз, над камнями и водорослями, ныряя иногда, чтобы достать со дна какую-нибудь особенно яркую ракушку или особенно крупного рака-отшельника с актинией на раковине, похожей на шапочку, украшенную розовым цветком. Кое-где на песчаном дне виднелись вытянутые темные куртинки водорослей-ламинарий, и там среди них жили голотурии, или морские огурцы. Опустив в воду ноги, мы старались разглядеть дно под густым сплетением узких блестящих листьев зеленых и черных водорослей, над которыми мы парили, как ястребы над лесом. В просветах между водорослями лежали голотурии, по виду, наверно, самые противные среди всех обитателей моря. Дюймов шести в длину, они выглядели прямо как раздувшиеся сосиски, покрытые толстой бородавчатой кожей бурого цвета. Эти примитивные, невразумительные создания неподвижно лежали на одном месте, лишь слегка покачиваясь в набегавших волнах, втягивали в себя морскую воду с одного конца тела и выпускали с другого. Обитавшие в воде крохотные растительные и животные организмы отфильтровывались где-то внутри сосиски и поступали в ее несложно устроенный желудок. Не скажешь, что голотурии ведут такую уж интересную жизнь. Они просто монотонно покачиваются да без конца тянут в себя воду. Трудно представить, чтобы они сумели как-то защитить себя или даже нуждались бы в такой защите. И тем не менее у них есть необычный способ выразить свое неудовольствие. Вытащите их из моря, и они без видимых мускульных усилий пустят в воздух струю воды с какого-нибудь конца своего тела.
Вот с этим-то водяным пистолетом мы и придумали игру. Взяв в руки по голотурии, мы заставляли наше оружие выпускать струю, замечали точку, где струя касалась поверхности воды, и быстро плыли туда. Победителем считался тот, кто больше найдет в этом месте разных морских обитателей. Порою, как и во всякой игре, мы начинали горячиться, обвинять друг друга в надувательстве, спорить. Вот тогда голотурии оказывались особенно подходящим оружием, которое можно было направить на противника. Воспользовавшись услугами сосисок, мы потом всегда водворяли их на прежнее место в подводных зарослях. А когда в другой раз являлись туда снова, все было без изменений. Голотурии лежали точно в таком положении, как мы их оставили, и мирно покачивались из стороны в сторону.
Исчерпав все возможности морских огурцов, мы принимались собирать ракушки для моей коллекции или пускались в долгие дискуссии по поводу найденных нами животных. Иногда Джордж вдруг спохватывался, что все эти занятия, как бы увлекательны они ни были, все же нельзя назвать образованием в строгом смысле слова. Тогда мы переходили ближе к берегу и устраивались на мелком месте. Пока продолжался урок, вокруг нас собирались стайки мелких рыбок и слегка пощипывали наши ноги.
— Итак, французская и английская флотилии сходились для решительного сражения. Когда показался враг, Нельсон стоял на мостике и смотрел в подзорную трубу… О приближении французов он уже был предупрежден дружественной чайкой… Что?.. О, я думаю, что это была большая морская чайка… Так вот, корабли разворачивались друг перед другом… разумеется, в те дни они не могли двигаться с большой скоростью, они ведь были парусные… ни одного мотора, даже подвесного. Английские моряки немного нервничали, потому что французы казались очень сильными. Но когда они заметили, что Нельсон даже не обращает на них внимания, а спокойно сидит на мостике и возится со своей коллекцией птичьих яиц, они решили, что бояться им просто нечего…
Море, как теплое шелковистое одеяло, окутывало мое тело и легонько покачивало его. Волн не было, только слабое, убаюкивающее меня подводное движение, пульс моря. Вокруг моих ног суетились яркие рыбки. Они становились на голову и пытались ухватить мою кожу своими беззубыми челюстями. Среди поникших олив что-то тихо шептала цикада.
— …и они поспешили унести Нельсона с палубы, чтобы никто из команды ничего не заметил… Он был смертельно ранен и лежал теперь тут, внизу, а над ним все еще кипела битва. «Поцелуй меня, Харди», — произнес Нельсон свои последние слова и умер. Что? Ах, да. Он уже предупредил Харди, что тот может взять себе коллекцию птичьих яиц, если что-нибудь случится… Так вот, хотя Англия потеряла своего лучшего моряка, битва была выиграна, и это имело важные последствия для Европы…
Мимо залива проплывала облезлая лодка, на корме ее стоял загорелый рыбак в рваных штанах и взмахивал веслом. Подняв руку, рыбак лениво посылал нам приветствие, а весло его, словно рыбий хвост, рассекало спокойное синее море, жалобно поскрипывало в воздухе и с легким чмоканьем погружалось в воду.

Глава пятая
Паучье сокровище

Однажды, в томительный знойный день, когда все, кроме гремящих цикад, было погружено в сон, мы с Роджером отправились побродить по горам, рассчитывая вернуться домой к вечеру. Сперва наш путь шел через оливковые рощи, испещренные бликами яркого солнечного света, где воздух был горячий и неподвижный, потом деревья остались внизу, а мы, карабкаясь по склону, добрались наконец до голой каменистой вершины и сели там передохнуть. Внизу, у наших ног, мирно дремал остров, мерцая в знойной дымке, словно акварель: серо-зеленая листва олив, темные кипарисы, разноцветные скалы у берега и спокойное море, опаловое, синее, нефритовое, с двумя-тремя складочками на гладкой поверхности — в тех местах, где оно огибало скалистые мысы, заросшие оливами. Прямо под нами сиял небольшой заливчик с белым песчаным пляжем в форме полумесяца, заливчик такой мелкий и с таким ослепительным песком на дне, что вода в нем была бледно-голубой, почти белой. После подъема на гору с меня лился пот в три ручья, а Роджер сидел, вывалив язык, с клочьями пены на морде. Мы решили, что лазить теперь по горам все-таки не стоит, лучше вместо этого пойти искупаться. Быстро спустившись по склону к тихому, безлюдному заливчику, искрившемуся под жгучими лучами солнца, мы в изнеможении погрузились в теплую мелкую воду. Я сидел и копал песчаное дно, вытаскивая иногда гладкий камешек или осколок бутылочного стекла, окатанный и отшлифованный морем до такой степени, что он превратился в изумительный, полупрозрачно-зеленый драгоценный камень. Все эти находки я передавал следившему за моими действиями Роджеру. Он не знал, что с ними делать, однако, не желая меня обидеть, брал их осторожно в зубы, а затем, решив, что я больше на него не смотрю, опять ронял их в воду и тяжело вздыхал.
Пока я обсыхал на камне, Роджер носился по мелководью, пытаясь поймать одну из синеперых морских собачек с их надутыми, бессмысленными мордочками. Эти рыбки шныряли среди камней с быстротой ласточек. Запыхавшийся Роджер преследовал их с сосредоточенным видом, не отрывая глаз от прозрачной воды. Слегка обсохнув, я надел штаны и рубашку и окликнул Роджера. Он шел ко мне неохотно, без конца оборачивался назад, провожая взглядом рыбок, по-прежнему снующих у пронизанного солнцем песчаного дна залива. Подойдя поближе, Роджер сильно встряхнулся и обдал меня с ног до головы брызгами, летевшими с его кудрявой шерсти.
После купания кожа моя покрылась шелковистой корочкой соли, и весь я стал сонным и вялым. Ленивым шагом плелись мы с Роджером от залива к дороге, и тут, почувствовав вдруг сильный голод, я начал соображать, как лучше всего добраться до ближайшего дома, где можно получить еду. Некоторое время я стоял в раздумье на дороге и взбивал ногой облака тонкой белой пыли. Если навестить Леонору, которая, несомненно, живет ближе всех, она даст мне инжиру и хлеба, но будет страшно надоедать разговорами о здоровье своей дочери. Ее дочь, сварливую, хриплоголосую женщину, косящую на один глаз, я совсем не любил, и поэтому ее здоровье меня не интересовало. Нет, к Леоноре я не пойду. Конечно, это ужасная жалость, потому что у Леоноры самый лучший инжир на многие мили вокруг, но не мог же я из-за черного инжира выносить Бог знает что. Если пойти к рыбаку Таки, он, наверно, будет как раз отдыхать и просто крикнет мне из-за плотно прикрытых ставней:
— Проходи, проходи, постреленок.
Кристаки, скорее всего, будут дома и дадут мне поесть, но там придется отвечать на множество скучных вопросов: а что, Англия больше, чем Корфу? Сколько там живет людей? Правда, что все они лорды? На что похож поезд? Растут ли в Англии деревья? И так без конца. Если б сейчас было утро, я бы отправился домой прямо через поля и виноградники, собирая по пути обильную дань со своих друзей: оливки, хлеб, виноград, инжир. А под конец сделал бы небольшой крюк и заглянул на поле Филомены, где наверняка бы смог завершить свою трапезу сочным розовым ломтиком арбуза, холодным как лед. Но, к сожалению, теперь было жаркое послеполуденное время, когда почти все крестьяне спят в своих домах за плотно закрытыми дверями и ставнями. Да, задача была трудная, и, пока я ее решал, голод терзал меня все сильнее и я все отчаяннее взбивал ногой пыль на дороге, так что Роджер обиженно чихнул и посмотрел на меня с укоризной.
И вдруг я вспомнил, что как раз вон за той горкой в малюсеньком, ослепительно белом домике живет старый пастух Яни со своей женой. Днем Яни обычно спит около своего дома, в тени виноградных лоз, и если я буду посильнее шуметь, то наверняка разбужу его. А уж если Яни проснется, он не сможет отказать мне в гостеприимстве. На острове не было ни одного крестьянского дома, откуда бы вы могли уйти голодным. Обрадованный, что вспомнил о Яни, я зашагал по неровной каменистой тропе, выбитой козьими копытами вдоль края горы, и направился к долине, где среди огромных стволов олив виднелась красная крыша домика пастуха. Когда мы подошли на достаточно близкое, по моей оценке, расстояние, я остановился и бросил камешек, чтобы Роджер нашел его и принес мне обратно. Это было любимое развлечение Роджера. Но если уж вы начинали с ним такую игру, ее надо было вести и дальше, иначе Роджер станет прямо перед вами и будет лаять так громко, что вы в полном отчаянии уступите ему. Роджер принес теперь камешек, положил его у моих ног и в нетерпеливом ожидании сделал шаг назад. Уши его насторожились, глаза горели, напряженные мускулы были готовы к действию. Я не замечал ни его, ни камешка. Роджер слегка удивился. Осторожно обследовав камень, он снова посмотрел на меня. Я насвистывал веселую песенку и глядел в небо. Роджер тявкнул для пробы, потом, видя, что я его по-прежнему не замечаю, разразился оглушительным, заливистым лаем, так что эхо раскатилось среди олив. Я дал ему полаять минут пять. Вполне достаточно, чтобы известить Яни о нашем приходе. Потом я бросил для Роджера еще один камешек и, когда тот весело побежал за ним, свернул к домику Яни.
Как я и думал, старый пастух расположился на отдых в кружевной тени виноградных лоз, обвивавших железную решетку над головой, однако, к моей величайшей досаде, он крепко спал, развалившись на простом сосновом стуле, наклоненном к стенке под опасным углом. Руки его свесились к земле, ноги были вытянуты вперед, а замечательные усы, оранжево-белые от никотина и старости, вздымались и опадали от храпа, словно какие-нибудь водоросли на легкой волне. Короткие толстые пальцы на руках Яни шевелились во сне, и мне были видны ногти с тупыми краями, похожие на кусочки стеарина. Его загорелое лицо в глубоких, как на сосновой коре, морщинах, ничего не выражало, глаза были плотно закрыты. Я смотрел на него, стараясь усилием воли заставить его проснуться, но это не помогало. Будить Яни было бы слишком нетактично, и вот я размышлял, стоит ли ждать, когда он сам проснется, или уж лучше идти к Леоноре слушать ее излияния. Как раз в это время из-за угла дома показался искавший меня Роджер. Уши у него были навострены, язык высунут наружу. Увидев меня, Роджер приветливо вильнул хвостом и огляделся вокруг с видом посетителя, который знает, что он тут желанный гость. Но вдруг он застыл на месте, весь ощетинился, напрягся и начал медленно пробираться вперед, дрожа от возбуждения. Он сразу сумел разглядеть то, чего я не заметил: выгнув спину, под наклоненным стулом Яни сидела большая поджарая серая кошка, глядевшая на нас злыми зелеными глазами. Подскочить к Роджеру и удержать его я не успел. Он уже сделал прыжок. Привычным гибким движением кошка вывернулась из-под стула, пролетела, как метеор, по воздуху и вцепилась острыми когтями в узловатую виноградную плеть, обвивавшую решетку. Притаившись среди гроздьев светлого винограда, кошка смотрела вниз на Роджера и чуть пофыркивала. Сердитый, расстроенный Роджер закинул голову кверху и залился громким лаем, в котором звучали угрозы и оскорбления. Яни открыл глаза. Стул под ним шатнулся, руки замолотили воздух, силясь удержать равновесие. Некоторое время стул неопределенно покачался, а потом с грохотом опустился на все четыре ножки.
— Святой Спиридион, защити меня! — громко воскликнул Яни, и усы его заколыхались. — Господи, спаси нас и помилуй!
Он стал озираться вокруг, пытаясь определить, откуда это взялось столько шуму, и заметил меня, сидевшего с притворной скромностью на каменном заборе. Я поздоровался с ним очень ласково и вежливо, как будто ничего не случилось, и спросил, хорошо ли он спал. Яни встал на ноги, улыбнулся, энергично почесал живот.
— А, это от твоего шума у меня раскалывается голова? Будь здоров, будь здоров. Садись, маленький лорд. — Он вытер стул и предложил его мне: — Рад тебя видеть. Может, пообедаешь со мной и выпьешь вина? Очень жаркий сегодня день, очень жаркий. От такой жары может расплавиться бутылка.
Он потянулся, громко зевнул, обнажив беззубые, как у младенца, десны. Потом, повернувшись к дому, закричал:
— Афродита… Афродита… проснись… иностранцы пришли… маленький лорд сидит тут у меня… Принеси чего-нибудь поесть… ты меня слышишь?
— Слышу, слышу, — донесся из-за ставней заглушенный голос.
Яни опять обратился ко мне:
— Сегодня собирался гнать своих коз в Гастури. Только было очень жарко, слишком уж жарко. В горах камни так раскалились, что от них можно было прикурить папироску. Поэтому я решил лучше пойти к Таки и попробовать его молодого вина. Святой Спиридион! Что за вино!.. Как будто кровь дракона и само течет в горло… Что за вино! Когда я вернулся домой, воздух совсем меня сморил, вот я и задремал тут.
Он вздохнул глубоко, но без покаяния и достал из кармана помятую жестянку с табаком и серую папиросную бумагу. Его смуглая огрубелая рука вынула щепоть табаку, а пальцы другой руки ловко разровняли его и быстро скрутили папиросу. Оборвав свисающий по концам табак, он бросил его обратно в жестянку и стал прикуривать от большой металлической зажигалки с фитильком, крутившимся, будто рассерженная змея. Подымив с минуту в задумчивости, Яни смахнул с усов крошки табака и снова полез в карман.
— На вот, возьми, ты ведь интересуешься божьими тварями, — сказал он, доставая из кармана плотно закупоренную бутылочку, наполненную золотистым оливковым маслом. — Посмотри, что я поймал сегодня утром. Притаился под камнем, как сатана. Хитрая бестия, борец. Такого борца больше нет, он может ужалить своим задним концом.
Бутылочка, до краев наполненная маслом, светилась, как бледный янтарь. Внутри нее, в самой середине, был заключен маленький шоколадно-коричневый скорпион с хвостом, загнутым на спину наподобие турецкой сабли. Скорпион был мертв, он задохнулся в своей вязкой могиле. Вокруг его трупика в золотистом масле образовалось легкое, как дымка, мутное облако.
— Вот, видишь? — сказал Яни. — Это яд. Он весь был наполнен ядом.
Я спросил, зачем надо было сажать скорпиона в масло.
Яни довольно хмыкнул и потрогал усы.
— Разве ты не знаешь, маленький лорд? — спросил он весело. — Ты ведь целыми днями ползаешь за ними на животе. Ну ладно, я тебе скажу. Кто знает — может, это тебе пригодится. Сперва надо поймать скорпиона, живого скорпиона. Лови его осторожно, как перышко в воздухе. Потом положи живого — запомни, живого — в бутылку с маслом. Дай маслу закипеть, пусть он там издохнет, и пусть свежее масло пропитается ядом. А потом, если кто-нибудь из его собратьев вдруг ужалит тебя (да спасет тебя от этого святой Спиридион), потри ужаленное место этим маслом, и тогда оно не станет болеть, жало тебе будет нипочем, все равно что укол булавки.
Пока я переваривал это интересное сообщение, на пороге домика показалось морщинистое лицо Афродиты, алевшее точно зернышко граната. В руках у нее был металлический поднос, где стояла бутылка вина, кувшин воды и тарелка с хлебом, оливками и инжиром. Мы с Яни выпили вина, разведенного водой до бледно-розового цвета, и молча приступили к еде. Несмотря на беззубые десны, Яни откусывал хлеб, жевал его торопливо и проглатывал большими кусками, так что вздувалось его морщинистое горло. Покончив с едой, он отодвинулся от стола, старательно вытер усы и снова принялся за беседу, как будто и не прерывал ее.
— Я знал одного человека, такого же пастуха, как и я сам, который отправился как-то на праздники в дальнюю деревню. На обратном пути, разморенный вином, он решил немножко соснуть и выбрал себе место под миртами. Пока он там спал, из-под листьев выполз скорпион, забрался ему в ухо и ужалил.
В этом драматическом месте Яни остановился, сплюнул через забор и скрутил себе новую папироску.
— Да, — вздохнул он, — это очень грустно… такой молодой человек. Маленький скорпиончик ужалил его в ухо… жик! — вот так. Бедный парень не находил себе места от боли. Он с криком носился среди оливковых деревьев, ветки царапали ему лицо… Как это было ужасно! Никто не слышал его криков, никто не мог прийти на помощь… ни один человек. Обезумев от боли, он бросился бегом к деревне, но не сумел добежать до нее. Он упал замертво вон там, в долине, недалеко от дороги. Мы нашли его на другое утро, когда отправились на работу в поле. Какой у него был ужасный вид! Ужасный! От такого маленького укуса голова его раздулась, как шар, и он был мертвый, совсем мертвый.
Яни горестно вздохнул.
— Вот почему, — продолжал он, вертя в руках бутылочку с маслом, — я никогда не рискую спать в горах. А на случай, если выпью с друзьями и забуду об опасности, у меня всегда с собой бутылка со скорпионом.
Потом разговор перешел на другие, не менее увлекательные предметы, и только примерно через час я поднялся со стула, стряхнул с коленей крошки, поблагодарил старика и его жену за гостеприимство и, получив на прощанье в подарок кисть винограда, отправился домой. Роджер не отступал от меня ни на шаг и не отводил глаз от моего кармана, так как уже успел заметить виноград. Отыскав наконец оливковую рощу, темную и прохладную от длинных вечерних теней, мы сели у мшистого бугорка и разделили виноград поровну. Роджер поедал свои ягоды целиком, вместе с косточками и всем остальным, а я выплевывал косточки во все стороны, образовав вокруг себя кольцо, и с удовольствием воображал, как на этом месте когда-нибудь разрастется пышный виноградник. Покончив с виноградом, я перевернулся на живот и, подперев руками подбородок, принялся исследовать бугорок.
Крохотный зеленый кузнечик с длинной, меланхолической мордочкой беспокойно перебирал своими задними ножками; хрупкая улитка задумчиво сидела на веточке мха, мечтая о вечерней росе; пухлый алый клещ величиной со спичечную головку пробирался, будто охотник, через моховую чашу. Это был микроскопический мир со своей пленительной жизнью. Пока я наблюдал за медленным продвижением клеща, в глаза мне бросилась одна любопытная вещь. В разных местах на зеленом плюше мохового покрова проступили бледные круглые пятна величиной с монету. Увидеть эти едва приметные кружочки можно было только под определенным углом. Они как будто все время двигались и изменялись, напоминая мне полную луну, выплывавшую из-за облаков. Я лежал и думал, откуда могли взяться эти круги. Они были слишком беспорядочно разбросаны, чтобы принять их за след какого-нибудь животного, да и какое это животное могло разгуливать по такому крутому бугру? К тому же они не были похожи на отпечатки. Я потыкал травинкой в край одного пятна. Все оставалось неподвижным. Тогда я начал думать, что это какая-нибудь особенность самого мха, и снова потыкал один кружок травинкой — на этот раз посильнее. И вдруг у меня засосало под ложечкой от невероятного волнения: мой стебелек травы как будто нащупал скрытую пружину, и весь кружок поднялся, точно крышка люка. К моему удивлению, это и вправду оказалась крышка с аккуратно скошенными краями, подбитая с обратной стороны шелком. Крышка плотно входила в устьице тоже обтянутой шелком шахточки, которую она прикрывала. Одна ее сторона прикреплялась к краю люка шелковым клапаном, действовавшим, как дверные петли. Я рассматривал это замечательное произведение искусства и размышлял, кто же его мог создать. В глубине шелкового туннеля мне ничего не удалось разглядеть, и стебель травы тоже ничего там не нащупал. Долго созерцал я это фантастическое жилище, пытаясь отгадать, какое существо его соорудило. Я подумал, что это какая-нибудь оса, только раньше мне никогда не приходилось слышать, чтобы осы устраивали себе гнезда с потайной дверью. Надо немедленно выяснить, в чем тут дело. Пойду прямо к Джорджу и спрошу, знает ли он, что это за таинственный зверь такой. Я свистнул Роджеру, который в это время старался выдрать с корнем оливковое дерево, и бодрой рысцой пустился в путь.
К дому Джорджа я подошел, еле переводя дух, и прямо-таки разрывался на части от волнения. Кое-как постучавшись, я ворвался в дом и тут только сообразил, что у Джорджа гости. Около него на стуле сидел человек, которого я сначала принял за брата Джорджа, так как у него тоже была борода. Однако в отличие от Джорджа он был безукоризненно одет: костюм из серой фланели, жилетка, белоснежная рубашка, со вкусом подобранный, хотя и мрачноватый галстук и большие, крепкие башмаки, начищенные до блеска. Я в смущении остановился на пороге, в то время как Джордж окинул меня насмешливым взглядом.
— Добрый вечер, — произнес он. — Судя по тому, с какой скоростью ты сюда влетел, можно думать, что тебя интересуют не дополнительные занятия.
Я извинился за вторжение, а потом рассказал Джорджу про странные гнезда.
— Вот хорошо, что вы здесь, Теодор, — обратился Джордж к своему бородатому собеседнику. — Теперь я могу передать этот вопрос в руки специалиста.
— Ну уж, специалиста… — возразил человек по имени Теодор.
— Джерри, это доктор Теодор Стефанидес, — сказал Джордж. — Он знает почти все, о чем ты только можешь спросить, он сам тебе расскажет. Так же, как и ты, он помешан на природе. Теодор, это Джерри Даррелл.
Я вежливо поздоровался, но, к моему удивлению, бородатый человек встал с места, быстро прошел по комнате и протянул мне большую белую руку.
— Очень рад познакомиться, — сказал он, явно обращаясь к собственной бороде, и смущенно взглянул на меня своими лучистыми голубыми глазами.
Я пожал его руку и ответил, что тоже очень рад с ним познакомиться. Потом мы оба стояли в неловком молчании, а Джордж смотрел на нас и улыбался.
— Ну что, Теодор? — сказал он наконец. — Как вы думаете, кто соорудил эти странные тайники?
Теодор заложил руки за спину, поднялся несколько раз на носках, так что его ботинки протестующе скрипнули, и принялся внимательно разглядывать пол.
— Ну… э… — произнес он, неуверенно подбирая слова. — Сдается мне, что это могут быть норки земляного паука… э… — вид, вполне обычный здесь, на Корфу… то есть, если я говорю обычный, это значит, что мне встретилось около тридцати или… э… сорока экземпляров за то время, пока я тут живу.
— А-а! — сказал Джордж. — Вы говорите, земляные пауки?
— Да, — ответил Теодор. — Мне кажется, что это именно они и есть. Впрочем, я мог и ошибиться.
Чуть скрипнув ботинками, он поднялся на носки, опустился снова и посмотрел на меня проникновенным взглядом.
— Если они не очень далеко, то, может, нам лучше пойти туда и проверить, — осмелился он предложить. — То есть, я хотел сказать, если у тебя нет других дел и если это не очень далеко…
Его голос замолк на вопросительной ноте. Я сказал, что это не так уж далеко, как раз у самой горы.
— Гм, — произнес Теодор.
— Не позволяйте ему таскать себя по всему острову, — вмешался Джордж. — Еще недоставало, чтобы вас гоняли по горам и долам.
— Да нет, нет, — ответил Теодор. — Я как раз собирался уходить и вполне бы мог пройтись домой пешком. Это совсем не трудно для меня… э… я срежу путь до Канони через оливковые рощи.
Он надел свою изящную серую шляпу и, расставаясь с Джорджем, крепко тряхнул ему руку.
— Благодарю за восхитительный чай, — сказал он на прощанье и тяжелой поступью направился по тропинке рядом со мной.
По дороге я украдкой разглядывал Теодора. У него был прямой, хорошей формы нос, насмешливые губы, скрытые пепельной бородой, а из-за прямых, довольно пушистых бровей на мир глядели проницательные глаза, смягченные веселым огоньком и добрыми морщинками в уголках. Теодор шел бодрым шагом, что-то напевая про себя. Когда мы проходили канаву со стоячей водой, он на минуту остановился, чтоб заглянуть в нее.
— Гм, — поспешил он поделиться со мной. — Daphnia magna.
Потом пригладил большим пальцем растрепавшуюся бороду и снова пустился в путь.
— К сожалению, — сообщил он мне, — я приходил сюда в гости… э… к моим друзьям и поэтому не захватил с собой коллекционной сумки. Досадно, потому что в этой канаве может оказаться кое-что интересное.
Когда мы свернули с довольно ровной дороги и пошли по каменистой козьей тропке, я ожидал протеста, однако Теодор шагал за мной с прежней бодростью, продолжая напевать себе под нос. Наконец мы вступили в темную оливковую рощу. Я подвел Теодора к моховому бугру и показал таинственный люк.
Теодор разглядывал его, прищурив глаза.
— Ага, — произнес он, — да… гм… да.
Вынув из жилетного кармана маленький перочинный ножик, он легонько поддел кончиком лезвия дверцу люка и отворил ее.
— Гм… да, — повторил он. — Cteniza.
Заглянув в отверстие, Теодор подул туда и снова захлопнул дверцу.
— Да, это норки земляных пауков, — сказал он. — Только в этой, видимо, никто не живет. Обычно паук упирается в крышку погребка ногами или, вернее, коготками и прижимает ее так крепко, что, если вы захотите открыть ее, надо действовать очень осторожно, иначе она сломается. Гм… да… это, конечно, норки самок. Самец роет такую же норку, только раза в два меньше.
Я сказал, что это самые замечательные постройки, какие мне приходилось видеть.
— Ага, — отозвался Теодор. — Конечно, они замечательные. Но вот что меня всегда удивляет: как это самка узнает о приближении самца?
Я заморгал глазами, а Теодор взглянул на меня, покачался на носках и продолжал:
— Паук, конечно, сидит внутри своей норки и дожидается, пока какое-нибудь насекомое — муха, кузнечик или еще кто-нибудь — не окажется поблизости. Вероятно, паук как-то умеет определять, достаточно ли близко насекомое, чтобы его схватить. Если оно близко, паук… э… выскакивает вдруг из своего убежища и хватает беднягу. Ну вот, а когда самец разыскивает самку, он ведь тоже должен пробираться к погребку через мох, и я часто думаю, почему же его никогда… э… не сожрет по ошибке самка. Конечно, возможно допустить, что его шаги звучат иначе. А может, он умеет издавать… ну, знаешь… какой-нибудь звук, и самка узнает его.
На обратном пути мы оба молчали, а когда дошли до того места, где тропка разветвлялась, я остановился и сказал, что здесь нам надо расстаться.
— Да, да, до свиданья, — ответил Теодор, разглядывая кончики своих ботинок. — Очень рад был с тобой познакомиться.
С минуту мы постояли в молчании. Вероятно, Теодор всегда чувствовал сильное смущение, когда ему приходилось здороваться или прощаться с людьми. Еще с минуту он упорно продолжал глядеть на ботинки и наконец протянул мне руку.
— До свиданья, — серьезно сказал он. — Я… э… я надеюсь, что мы еще встретимся.
Он повернулся и, размахивая тростью, зашагал вниз по склону. Я глядел ему вслед, пока он не скрылся из виду, а потом медленно побрел к себе домой. Теодор привел меня в смущение и в то же время вызвал восторг. Во-первых, он казался мне личностью необыкновенно значительной, так как, без сомнения, был очень крупным ученым (я мог судить об этом по его бороде), и, в сущности, это был единственный человек из всех, кого я до сих пор встречал, разделявший мою любовь к зоологии. Во-вторых, мне было чрезвычайно лестно, что он обращался и разговаривал со мной так, будто мы были одного возраста. У нас в семье со мной никто не говорил снисходительно, и я всегда не любил тех людей, кто пробовал это делать. Но Теодор обращался со мной как с равным не только по возрасту, но и по знаниям.
Всю дорогу у меня не выходило из головы то, что он рассказал мне о земляном пауке. Я пытался представить, как паук сидит у себя в шелковом погребке, держит крышку изогнутыми лапами и прислушивается к движениям насекомых наверху. Интересно, как это все звучит для паука? Я мог вообразить, что улитка, переползающая по моховому покрову, производит такой звук, словно кто-то потихоньку отдирает липкий пластырь, а сороконожка топает, наверно, как целая конница. Быстрые, семенящие шажки мухи прерываются вдруг паузой, когда муха начинает мыть передние лапки — тупой, режущий звук, будто точильщик ножей пустил в ход свое колесо. Большие жуки, решил я, грохочут, как паровые катки, а жуки помельче — божьи коровки там и всякие прочие — те, наверное, ползут по моховому ковру с шуршанием заводных автомобильчиков. Поглощенный такими мыслями, я шагал в наступающих сумерках через поля, собираясь рассказать дома о своем новом открытии и о знакомстве с Теодором. Я надеялся встретиться с ним снова, так как мне надо было задать ему тысячи всяких вопросов, но боялся, что он не станет тратить на меня время. Однако я ошибся. Через два дня Лесли, вернувшись из города, передал мне небольшой пакет.
— Встретил бородатого франта, — коротко объявил он. — Ну, знаешь, того ученого парня. Сказал, что это для тебя.
Я с недоверием посмотрел на пакет. Неужели для меня? Нет, должно быть, здесь какая-то ошибка. Не станет же такой видный ученый посылать мне посылки. Я перевернул пакет и на обратной стороне увидел свое имя, написанное мелким, аккуратным почерком. В волнении я поспешил сорвать бумагу. Внутри оказалась небольшая коробка и письмо.
«Дорогой Джерри Даррелл,
после нашей недавней беседы я подумал, что тебе для исследования местной природы неплохо было бы иметь какой-нибудь увеличительный прибор. Поэтому я решил послать этот карманный микроскоп в надежде, что он тебе пригодится. У него, конечно, не очень сильное увеличение, но ты увидишь, что для работы в поле оно достаточно.
Желаю тебе всего хорошего,
искренне твой Тео Стефанидес
P.S. Если в четверг ты ничем не занят и захочешь прийти ко мне на чашку чая, я смогу показать тебе кое-какие свои препараты».

Глава шестая
Чудесная весна

В последние дни уходящего лета в течение всей теплой, влажной зимы наши чаепития у Теодора стали постоянными. Каждый четверг я набивал карманы спичечными коробками и пробирками со всякой живностью, и Спиро отвозил меня в город.
Такое свидание я не променял бы ни на что в мире.
Теодор принимал меня в своем кабинете, который пришелся мне очень по вкусу. Именно такой, в моем представлении, и должна быть комната ученого. Все стены уставлены высокими книжными шкафами, где собраны тома по биологии пресных вод, ботанике, астрономии, медицине, фольклору и другим таким же важным и увлекательным предметам и вперемежку с ними — разные детективные романы. Шерлок Холмс, таким образом, оказывался здесь ближайшим соседом Дарвина, а Ле Фаню стоял плечом к плечу с Фабром. Так оно, на мой взгляд, и должно было быть в хорошей библиотеке. У одного окна, задрав к небу нос, точно воющая собака, стоял телескоп Теодора, а на всех подоконниках красовались банки и бутылки, где среди нежной зелени водных растений крутилась и вертелась мелкая пресноводная фауна. С одной стороны стоял огромный письменный стол, заваленный газетными вырезками, микроснимками, пачками рентгеновских снимков, календарями и записными книжками. На другой стороне был столик для микроскопа с мощной лампой, склонившейся, словно лилия, на своей подвижной ножке над плоскими ящичками, где у Теодора хранились препараты. А сам микроскоп, сиявший, как именинник, был накрыт стеклянными колпаками в виде ульев.
— Мое почтение, — приветствовал меня Теодор, как будто я был незнакомым ему человеком, и пожимал мне руку в своей обычной манере — резко дергал ее книзу, словно проверял прочность узла на веревке. Покончив с формальностями, мы могли переключать свое внимание на более важные вещи.
— Как раз перед твоим приходом, — сообщал Теодор, — я просматривал препараты и отыскал среди них то, что могло бы тебя заинтересовать. Это ротовые части крысиной блохи… понимаешь ли, Ceratophyllus fasciatus. Постой, я сейчас наведу микроскоп… Ну вот… видишь? Очень интересно. Я хочу сказать, что это похоже на человеческое лицо, правда ведь? А вот тут другое… э… предметное стекло. Очень занятное. Вот, смотри. Это прядильный орган садового паука, или паука-крестовика… э… по-латыни Epeira fasciata.
И мы, забыв все на свете, склонялись с ним над микроскопом и увлеченно обсуждали одну тему за другой. Если Теодор не мог ответить на все мои многочисленные вопросы, у него для этого были книги. В книжных шкафах начинали появляться просветы, Теодор вынимал оттуда для справки том за томом, и около нас постепенно вырастала целая гора книг.
— А это вот циклоп… Cyclops viridis… Я поймал его как-то около Говино. Это самка с яичными сумками. Я сейчас отрегулирую… ты сможешь очень хорошо рассмотреть яички… А теперь я помещу ее в пробирку… э… гм… тут вот еще несколько видов циклопов, найденных на Корфу.
В кружке яркого белого света появляется странное существо. Грушевидное тело, длинные усики дрожат в негодовании, хвост как веточка вереска и с каждой стороны (словно переброшенные через спину осла мешки с луком) две большие сумки, набитые розовыми бусинками.
— …называются они циклопами потому, что у них, как ты можешь видеть, всего один глаз посреди лба. То есть посреди того, что могло бы быть лбом, если бы циклопы его имели. В греческой мифологии циклоп был из тех великанов… с одним глазом. Они ковали для Гефеста железо.
За окном теплый ветер трогал скрипучие ставни, а по оконному стеклу, будто прозрачные головастики, катились друг за другом дождевые капли.
— Ага! Удивительно, что ты об этом заговорил. У крестьян в Салониках есть такое же… э… суеверие. Нет, не только суеверие. Тут у меня в одной книге очень интересно рассказано о вампирах в… гм… Боснии. Видимо, местные жители…
Приносили чай, пирожные с пышным слоем крема, горячие гренки под пеленой тающего масла. Сияли чашки, легкий пар поднимался из носика чайника.
— …но, с другой стороны, нельзя утверждать, что на Марсе не может быть жизни. Мне кажется, какие-то формы жизни там будут найдены… э… открыты, если нам удастся когда-нибудь туда попасть. Только не надо думать, что любая форма жизни, найденная там, будет сходна…
Теодор сидел за столом в своем изящном костюме из твида и медленно, методично жевал гренок. Борода его распушилась, в глазах всякий раз вспыхивал огонь, как только в наш разговор вплеталась новая тема. Запас его знаний казался мне неистощимым. Это был настоящий кладезь премудрости, и я без устали черпал из него. Чего бы мы ни коснулись в нашей беседе, Теодор обо всем мог рассказать что-нибудь интересное.
Наконец Спиро подавал мне с улицы громкие сигналы, и я с сожалением поднимался из-за стола.
— До свиданья, — говорил Теодор, дергая мне руку. — Рад был повидаться с тобой… э… нет, нет, нисколько. Жду тебя в четверг. Когда наладится погода… э… будет не так мокро… словом, весною… мы сможем совершать с тобой прогулки… поищем что-нибудь… В канавах в Вальде-Ропа встречается кое-что интересное… гм, да… Ну, до свиданья… Не стоит.
Весело насвистывая песенку, Спиро вез меня домой по темной, мокрой дороге, а я сидел рядом с ним и мечтал о весне, мечтал о тех замечательных животных, которых мы с Теодором будем ловить.
Теплый ветер и зимние дожди в конце концов так отполировали небо, что, когда наступил январь, оно засияло ясной, нежной голубизной, той самой голубизной, какою светятся маленькие язычки пламени, пожирающие стволы олив в ямах, где выжигают древесный уголь. Ночи стояли тихие и прохладные, луна на небе была совсем тусклая, и на море от нее ложились лишь едва приметные серебряные блики. После бледной, прозрачной зари в небо, будто гигантский кокон, поднималось закутанное в дымку солнце и обрызгивало остров тонкой золотой пылью.
С мартом пришла весна. Остров покрылся цветами, заблагоухал, заиграл светлой зеленью. Кипарисы, всю зиму со свистом метавшиеся по ветру, стояли теперь прямые и гладкие, под легким плащом из зеленовато-белых шишечек. Всюду цвели восковые желтые крокусы, кучками выбивались среди корней деревьев, сбегали по откосам речных берегов. Под кустами миртов гиацинты набирали свои похожие на фуксиновые леденцы бутоны, а по дубовым чащам разлилась синеватая дымка буйно цветущих ирисов. Хрупкие, нежные анемоны распускали кремовые венчики с винно-красным отливом по краям. Лютики, чина, асфодели и сотни других цветов сплошь покрывали теперь поля и леса. Даже тысячелетние оливы, согнутые и дуплистые, украсились кистями мелких кремовых цветков, скромных и все же нарядных, как и подобает в их почтенном возрасте. Да, уж это была весна так весна: весь остров дрожал и гудел от ее шагов, все живое откликалось на ее приход. Это узнавалось по сиянию цветочных лепестков, по яркости птичьих перьев, по блеску в темных влажных глазах деревенских девушек. Среди сочной зелени в залитых водой канавах гремел восторженный хор лягушек. Вдеревенских кофейнях вино словно бы потемнело и стало как-то хмельней. Загрубелые, шершавые пальцы перебирали струны гитары с какой-то удивительной мягкостью, а звучные голоса распевали живую веселую песенку.
На нашу семью весна действовала по-разному. Ларри купил себе гитару и большой бочонок крепкого красного вина. Теперь он отрывался иногда от работы, бренчал на гитаре и мягким голосом пел старинные романсы, все время подливая себе в стакан. Это навевало на Ларри меланхолию, песни его становились все печальнее, и после каждой из них он делал передышку, чтобы сообщить, если кто-либо из нас оказывался поблизости, что весна для него означает не начало нового года, а смерть старого. Кончину, говорил он, извлекая из гитары зловещие звуки, и начинал зевать все сильнее.
Как-то вечером мы все ушли из дому, оставив Ларри наедине с мамой. Весь вечер он пел песни, одну заунывнее другой, и это в конце концов вызвало у обоих острый приступ тоски. Они попробовали смягчить ее вином, но, к сожалению, результат получился обратный, так как оба не привыкли к крепким винам Греции. Вернувшись домой, мы были несколько удивлены, что мама встречает нас на пороге дома с фонарем в руках. С большим достоинством и точностью она сообщила нам, что хочет быть похороненной под кустами роз. Новизна этого сообщения заключалась в том, что для погребения останков было выбрано такое доступное место. Мама уже потратила немало времени, выбирая места, где ее похоронят, но все они были расположены в такой невероятной дали, что нам всегда представлялась похоронная процессия, свалившаяся у дороги без сил еще задолго до конца пути.
Но, если не считать таких случаев, весна для мамы означала бесконечное множество свежих овощей, с которыми она экспериментировала, и изобилие новых цветов в саду, так восхищавших ее. Из кухни стало поступать потрясающее количество новых блюд — супов, тушений, закусок, приправ — и каждое из них было сочнее, душистее и экзотичнее, чем предыдущее. У Ларри начались нелады с желудком. Презирая простейшее лекарство — есть поменьше, — он запасся огромной банкой соды и торжественно принимал определенную дозу всякий раз после еды.
— Зачем столько есть, милый, если это тебе вредит? — спросила мама.
— Если бы я ел меньше, это было бы неуважением к твоему кулинарному искусству, — ответил Ларри елейным голосом.
— Ты ужасно толстеешь, — заявила Марго. — Это тебе не на пользу.
— Ерунда! — с беспокойством произнес Ларри. — Я вовсе не толстею. Мама, скажи?
— Пожалуй, ты прибавил немного в весе, — решила мама, окидывая его критическим взглядом.
— А все по твоей вине, — необдуманно сказал Ларри. — Без конца соблазняешь меня этими ароматными блюдами. Дело дойдет до язвы. Надо переходить на диету. Марго, ты можешь предложить мне хорошую диету?
— Конечно, — сказала Марго, с восторгом обращаясь к своей излюбленной теме. — Попробуй диету из апельсинового сока и салата. Это очень полезно. А можешь сесть на молоко и сырые овощи. Тоже очень полезная диета, но отнимает много времени. Есть еще диета из вареной рыбы и черного хлеба. Только я пока не знаю, что это такое, я ее еще не пробовала.
— Бог мой! — воскликнул совершенно потрясенный Ларри. — И это называется диетой?
— Да, — серьезно ответила Марго. — И все они очень полезны.
— Ну нет! — твердо сказал Ларри. — Не стану я этого делать. Я не какое-нибудь копытное, чтобы мерами изгрызать сырые фрукты и овощи. Вы все должны примириться с тем, что я уйду от вас в молодые годы, погибнув от ожирения сердца.
В следующий раз он принял большую порцию соды перед едой и потом жаловался, что вся пища имеет какой-то странный вкус.
На Марго весна всегда действовала скверно. Заботы о внешности, и без того имевшие для нее первостепенное значение, стали теперь настоящим безумием. Спальня ее была сплошь завалена кипами выстиранной и выглаженной одежды, а кругом на веревках болталось еще множество всяких только что постиранных вещей. Марго носилась по дому с грудами прозрачного белья и флаконами духов, и всюду слышалось ее нескладное пение. Она ловила каждый удобный случай, чтобы юркнуть вдруг в ванную, взметнув за собой белый вихрь полотенец. А уж оттуда ее нельзя было вытянуть никакими силами. Все мы по очереди кричали и колотили в дверь и в ответ всякий раз слышали заверения, что она уже почти готова. Заверения эти, как мы знали по горькому опыту, вовсе ничего не значили. Но вот наконец Марго появлялась перед нами вымытая до блеска и, напевая, уходила загорать в оливковые рощи или же спускалась к морю купаться. В одну из таких экскурсий она встретила на берегу невероятно красивого турка. По своей скромности Марго никому не сообщила о частых свиданиях с этим красавцем, думая, как она объясняла потом, что для нас это будет неинтересно. Обнаружил все, разумеется, Спиро. Он неустанно пекся о благоденствии Марго с ревностным участием сенбернара, и ей почти никогда не удавалось ничего сделать, о чем бы не проведал Спиро. Теперь он постарался застать маму утром на кухне одну, осторожно огляделся, убеждаясь, что их никто не подслушивает, глубоко вздохнул и открыл тайну.
— Мне очень не хочется говорить вам об этом, миссис Даррелл, — пробурчал он, — но я думаю, что вы должны это знать.
Мама уже давно привыкла к заговорщицкому виду Спиро, когда он приносил о нас какие-нибудь вести, и теперь это ее больше не тревожило.
— Ну, что у тебя на этот раз? — спросила мама.
— Миссис Марго, — сказал огорченный Спиро.
— А что с нею?
Спиро тревожно оглянулся.
— Вы знаете, что она встречается с мужчиной? — спросил он дрогнувшим шепотом.
— С мужчиной? А… э… Да, знаю, — отважно солгала мама.
Спиро поддернул брюки и подался вперед.
— А вы знаете, что это турок? — спросил он свирепым голосом.
— Турок? — рассеянно откликнулась мама. — Нет, я не знала, что он турок. А что в этом плохого?
Спиро был потрясен.
— Боже мой, миссис Даррелл, что в этом плохого? Он же турок! А этим сукиным сынам нельзя доверять девушек. Он перережет ей горло, вот что он сделает. Клянусь вам, миссис Даррелл, это опасно. Миссис Марго плавает с ним.
— Ладно, Спиро, — успокоила его мама. — Я поговорю с Марго.
— Я только думал, что вам это надо знать, вот и все. Но вы не волнуйтесь… Если этот тип сделает что-нибудь миссис Марго, я его поставлю на место, — серьезно уверял ее Спиро.
Получив такие сведения, мама пересказала их Марго, в несколько менее жутком тоне, чем Спиро, и посоветовала пригласить юного турка к чаю. Обрадованная Марго побежала за турком, а мама тем временем испекла на скорую руку пирог, немного коржиков и предупредила всех нас, чтобы мы вели себя прилично. Турок оказался высоким молодым человеком с курчавыми волосами и парадной улыбкой, в которой было очень мало юмора и очень много снисходительности. В нем чувствовалось хладнокровие самодовольного, вкрадчивого мартовского кота. Молодой человек прижал мамину руку к губам, будто оказывал ей честь, и щедро рассыпал улыбки для остальных. Чувствуя, как мы все ощетиниваемся, мама отчаянно бросилась на выручку.
— Рада вас видеть в доме… давно собиралась… все нет времени, знаете… дни так летят… Марго много нам о вас рассказывала… попробуйте коржик, — говорила она, не переводя дыхания, и с ослепительной улыбкой передавала ему кусок пирога.
— Очень приятно, — пробормотал турок, обращаясь не то к нам, не то к самому себе.
Наступило молчание.
— Он здесь на каникулах, — сообщила вдруг Марго, как будто в этом было что-то необыкновенное.
— В самом деле? — язвительно спросил Ларри. — На каникулах? Потрясающе!
— Я был однажды на каникулах, — выговорил Лесли, еле прожевывая пирог. — Очень хорошо это помню.
Мама старалась за всем следить и нервно передвигала чашки.
— Сахару? — спросила она мелодичным голосом. — Вам положить еще сахару?
— Да, пожалуйста.
Снова наступило молчание, и мы все смотрели, как Марго разливает чай и усиленно старается придумать тему для разговора. Наконец турок обратился к Ларри.
— Вы, кажется, пишете? — спросил он совершенно равнодушно.
Глаза Ларри сверкнули. Заметив признаки опасности, мама немедленно вступила в разговор, прежде чем Ларри успел ответить.
— Да, да, — улыбнулась она. — Он все пишет, день за днем. Непрестанно стучит на машинке.
— Мне всегда казалось, — заметил турок, — что я смогу отлично писать, если попробую.
— В самом деле? — откликнулась мама. — Да, тут, я думаю, нужен талант, как и во многом другом.
— Он хорошо плавает, — сообщила Марго. — Заплывает ужасно далеко.
— Я не боюсь, — скромно сказал турок. — Я очень хорошо плаваю, поэтому не боюсь. На лошади я тоже не боюсь, потому что хорошо езжу верхом. Я могу отлично управлять парусной лодкой во время тайфуна и тоже не боюсь.
Он не торопясь попивал свой чай и с одобрением глядел на наши лица, где видел благоговение.
— Вот видите, — пояснил он на тот случай, если мы упустили главное. — Вот видите, я не из трусливых.
На другой день после чаепития Марго получила от турка записку с предложением пойти с ним вечером в кино.
— Как ты думаешь, мне надо пойти? — спросила она у мамы.
— Иди, если тебе хочется, милая, — ответила мама и твердо добавила: — Но только скажи ему, что я тоже пойду.
— Веселенький тебя ждет вечерок, — заметил Ларри.
— Пожалуйста, мама, не ходи, — запротестовала Марго. — Это покажется подозрительным.
— Глупости, милая, — неуверенно ответила мама. — Турки привыкли ко всяким стражам… вспомни только их гаремы.
В тот вечер, принарядившись, мама и Марго вышли вместе из дому. В городе был один-единственный кинотеатр под открытым небом, и все мы рассчитывали, что представление должно закончиться уж в крайнем случае к десяти часам. Ларри, Лесли и я с нетерпением ждали их возвращения. В половине второго ночи Марго и мама, полумертвые от усталости, вошли в дом и без сил повалились на стулья.
— О, так вы вернулись? — сказал Ларри. — А мы уж тут думали, что вы умчались вместе с ним, разъезжаете теперь по Константинополю на верблюдах и ветерок играет вашей чадрой.
— Какой ужасный вечер, — сказала мама, сбрасывая туфли. — Просто кошмар.
— Что случилось? — спросил Лесли.
— Уж одни его духи чего стоят, — сказала Марго. — Они сразу убили меня наповал.
— Мы сидели так близко к экрану, что у меня разболелась голова. Народу набилось, как сельдей в бочке. И в довершение всего меня стала кусать блоха. Тут нет ничего смешного, Ларри. Я просто не знала, куда деваться. Проклятая блоха забралась мне под одежду, и я чувствовала, как она там бегает. Нельзя было по-настоящему почесаться, это выглядело бы неприлично. Я старалась прижаться к спинке сиденья. Он, наверно, это заметил… потому что все время как-то косился на меня. Потом, в перерыве, он вышел и вернулся с отвратительными восточными сладостями, мы все обсыпались сахарной пудрой, и меня начала мучить жажда. Во время второго перерыва он принес цветы. Ну, скажите на милость, цветы в середине фильма. Вот букет Марго, на столе.
Мама показала на большой букет весенних цветов, перевязанный цветными лентами. Порывшись в сумочке, она вынула из нее букетик фиалок, имевший такой вид, будто он побывал под копытами лошади.
— Вот, — сказала она, — мои цветы.
— Но хуже всего была обратная дорога, — заметила Марго.
— Просто ужасная, — согласилась мама. — Когда мы вышли из кинотеатра, я полагала, что мы возьмем такси. Не тут-то было! Он затиснул нас на извозчика, и притом со всякими ароматами. Просто безумие проехать весь этот путь на извозчике. А мы ехали целую вечность, потому что бедная лошадь уже выбилась из сил. Всю дорогу я старалась быть любезной, умирая от желания почесаться и от жажды. А этот дурень с улыбкой глядел на Марго и распевал любовные песни. Так бы и пристукнула его. Мне казалось, что конца пути не будет, даже у своего холма мы не смогли избавиться от турка. Он объявил, что в это время года кругом в зарослях полно змей, и пошел нас провожать со здоровенной палкой. Только когда он наконец ушел, я могла вздохнуть свободно. Знаешь, Марго, впредь ты должна выбирать себе приятелей поосторожней. Второй раз я этого не вынесу. Я так боялась, что он окажется у самой двери и нам тогда придется пригласить его в дом.
— Да, не очень-то ты была грозным стражем, — сказал Ларри.
Для Лесли наступление весны означало мягкий свист крыльев горлиц и вяхирей или внезапное появление какой-нибудь еще дичи среди зарослей миртов. Он исходил все охотничьи магазины, вел разговоры со специалистами и наконец явился домой, с гордостью показывая нам двустволку. Лесли сразу унес ее в свою комнату, разобрал на части и стал чистить, а я стоял рядом и не отводил восхищенного взора от блестящих стволов и ложа, с удовольствием вдыхая тяжелый запах смазочного масла.
— Правда ведь, красотка? — говорил он с умилением, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. — Правда ведь, душечка?
Лесли с нежностью погладил свое красивое ружье, потом, вскинув его вдруг к плечу, начал целиться в воображаемую стаю птиц под потолком.
— Паф! Паф!.. — восклицал он, слегка ударяя прикладом в плечо. — Левый, правый, и они на земле.
Он в последний раз обтер ружье масляной тряпкой и осторожно поставил в угол, рядом со своей кроватью.
— Поохотимся завтра на горлиц, а? — продолжал он, разрывая пакет и вытряхивая на постель алые патроны. — Они начинают появляться около шести. Вон тот пригорок за долиной как раз подходящее место.
И вот мы шагаем с ним на заре сквозь туман через притихшие оливковые рощи вверх по склону долины, где ветки миртов гнутся под тяжестью росы, и взбираемся на вершину пригорка. Мы стоим среди виноградных лоз, ожидая, когда совсем рассветет и появятся птицы. Неожиданно бледное утреннее небо покрывается черными точками, они движутся с быстротою стрелы, и мы уже слышим трепет крыльев. Лесли ждет. Он стоит, широко расставив ноги, прижав ружье к бедру, и напряженно следит за птицами. А птицы все приближаются и приближаются, и вот они уже над нами и сейчас скроются за серебристыми верхушками олив позади нас. В самый последний миг ружье плавно поднимается к плечу, блестящие стволы обращаются в небо. Легкий толчок и звук выстрела, словно треснула ветка в тихом лесу. Горлица, которая еще секунду назад неслась в стремительном полете, безжизненно падает на землю, а в воздухе кружатся мягкие светло-коричневые перья. Когда на поясе у Лесли болталось уже пять окровавленных птиц, он зажал ружье под мышкой, закурил сигарету и надвинул шляпу прямо на глаза.
— Пошли, — сказал он. — Хватит с нас. Дадим этим беднягам передышку.
Мы возвращались через рощи, уже освещенные солнцем, где среди листвы виднелось множество зябликов — будто сотни монеток были нанизаны на ветвях. Пастух Яни выгонял на пастбище своих коз. Его темное лицо с большими, желтыми от никотина усами осветилось улыбкой, из-под тяжелых складок овчинной накидки высунулась узловатая рука и поднялась над головой.
— Херете, — произнес он своим низким голосом красивое греческое приветствие. — Херете кирие… будь счастлив.
Козы разбрелись среди олив и громким меканьем окликали друг друга, впереди ритмично позвякивал колокольчик вожака. Звонко заливались зяблики, а в миртах, выставив свою грудь, словно мандарин, выводила тонкую трель малиновка. Пропитанный росою остров искрился в лучах утреннего солнца, всюду кипела жизнь. Будь счастлив. Что же, кроме счастья, можно было испытывать в такое время года?

Разговор

Как только мы устроились на острове и стали наслаждаться спокойной жизнью, Ларри с обычным для него благодушием написал всем своим друзьям и пригласил их в гости. Очевидно, ему и в голову не пришло, что в доме едва хватало места для нас самих.
— Я пригласил тут кое-кого приехать к нам на недельку, — сообщил он маме как-то мимоходом.
— Очень приятно, милый, — опрометчиво ответила мама.
— Мне кажется, нам не мешает иметь вокруг себя умных, живых людей. Мы не должны тут закисать.
— Надеюсь, они не слишком заумные интеллигенты?
— Господи, мама! Разумеется, нет. Это очень простые, милые люди. Не понимаю, откуда у тебя такая неприязнь к интеллигентам?
— Не люблю я их, — жалобно ответила мама. — Сама я не отличаюсь ученостью и не могу вести разговоры о поэзии и прочем. А эти люди, кажется, воображают, что, поскольку я твоя мать, я могу пространно рассуждать с ними о литературе. И они всегда приходят задавать мне свои глупые вопросы как раз в то время, когда я особенно занята на кухне.
— Я не заставляю тебя спорить с ними об искусстве, — вспыхнул Ларри, — но, мне кажется, ты могла бы не показывать своего пристрастия к скверной литературе. Я завалил весь дом настоящими книгами, а твой столик в спальне просто ломится под тяжестью томов по кулинарии и садоводству и этих вульгарных книжек о сыщиках. Не понимаю, где ты их только достаешь?
— Это очень хорошие детективы, — защищалась мама. — Мне приносит их Теодор.
Сердито вздохнув, Ларри снова принялся за свою книгу.
— Ты бы лучше сообщил в «Швейцарский пансионат», когда они приезжают, — заметила мама.
— Для чего? — удивился Ларри.
— Чтобы там забронировали номера, — с неменьшим удивлением ответила мама.
— Но я их пригласил к себе домой, — пояснил Ларри.
— Ларри! Ну как ты мог?! Это же безрассудство. Разве они могут здесь остановиться?
— Я просто не понимаю, из-за чего тебе так волноваться, — холодно ответил Ларри.
— Но где же они будут спать? — все больше расстраивалась мама. — Ты же видишь, что тут и нам едва хватает комнат.
— Все это чепуха, мама. Комнат тут вполне достаточно, если как следует организовать дело. Марго и Лесс могут спать на веранде, вот тебе уже две комнаты. Вы с Джерри переходите в гостиную и освобождаете еще две комнаты.
— Какая ерунда, милый. Мы не можем устроить здесь цыганский табор. К тому же ночи еще холодные, и Марго с Лессом не будут спать на улице. В доме просто нет места для гостей. Так что ты напиши этим людям и постарайся отговорить их.
— Я не могу их отговорить, — сказал Ларри. — Они уже выехали.
— Ты просто невыносим, Ларри! Почему же ты мне раньше не сказал! Когда люди уже на пороге, говорить поздно.
— Я не предполагал, что ты отнесешься к приезду нескольких друзей как к грандиозной катастрофе.
— Но ты же должен знать, милый, что нельзя приглашать людей, если в доме для них нет места.
— Ах, мама, перестань, пожалуйста, — разозлился Ларри. — Из всего этого есть очень простой выход.
— Какой же? — с тревогой спросила мама.
— Ну, если в доме не хватает места, надо переехать в другой, где будет хватать.
— Подумай, что ты говоришь! Где это слыхано, чтобы люди переезжали в более просторный дом только потому, что они пригласили к себе друзей?
— А чем плохая мысль? Мне кажется, это вполне разумное решение. Ты же сама говоришь, что здесь нет места, из этого следует, что надо переехать.
— Из этого следует, что не надо приглашать людей, — возразила мама.
— Не думаю, чтобы жизнь отшельников пошла нам на пользу, — сказал Ларри. — Я ведь пригласил их только ради тебя. Все они очень славные люди. Я думал, что ты им обрадуешься. И жизнь твоя стала бы тогда чуточку веселей.
— Спасибо, она у меня и так достаточно веселая, — с достоинством ответила мама.
— Теперь я просто не представляю, что тут можно сделать.
— Не понимаю, милый, почему им нельзя остановиться в «Швейцарском пансионате»?
— Нельзя же пригласить людей к себе, а потом выставить их в третьеразрядную гостиницу.
— Сколько человек ты пригласил? — спросила мама.
— О, совсем немного… двоих-троих. Они приедут не все сразу. Думаю, что они будут поступать партиями.
— Можешь ты мне все-таки сказать, сколько человек ты пригласил? — настаивала мама.
— Я просто не помню. Некоторые из них мне не ответили, но это ничего не значит… они, может быть, уже едут и думают, что уведомлять нас об этом не стоит. Во всяком случае, если ты будешь рассчитывать свой бюджет на семь или восемь человек, это как раз достаточно.
— Ты хочешь сказать, вместе с нами?
— Нет, нет, я имею в виду семь или восемь человек плюс наша семья.
— Но это же просто смешно, Ларри. Мы при всем желании не сможем втиснуть в этот дом тринадцать человек.
— Значит, надо переезжать. Я предлагаю тебе очень разумный выход. Не понимаю, о чем тут еще можно спорить?
— Не болтай чепухи, милый. Если мы даже переедем в дом, где могут поместиться тринадцать человек, что нам делать с лишней площадью потом, когда они уедут?
— Пригласим еще гостей, — ответил Ларри, удивленный тем, что мама сама не додумалась до такой простой вещи.
Мама застыла с открытым ртом, очки ее съехали куда-то в сторону.
— Послушай, Ларри, — выговорила она наконец. — Ты выводишь меня из терпения.
— Ты просто несправедлива ко мне. Я же не виноват, что твое хозяйство рушится от приезда нескольких гостей.
— Нескольких гостей! — воскликнула мама. — Рада узнать, что восемь человек — это несколько гостей, как ты считаешь.
— Я считаю, что ты занимаешь самую неразумную позицию.
— А в том, что ты пригласил людей и не предупредил меня, не было ничего неразумного?
Ларри обиженно посмотрел на нее и вновь взялся за книгу.
— Ну, я сделал все, что мог, — сказал он. — Большего я сделать не могу.
Наступила продолжительная пауза, в течение которой Ларри спокойно читал свою книгу, а мама расставляла розы в вазочки с водой и с ворчанием разносила их по комнате.
— Ну что ты лежишь, как бревно? — сказала она немного спустя. — В конце концов это твои друзья. Ты и должен о них заботиться.
Ларри со страдальческим видом отложил книгу.
— Не понимаю, что я должен делать? — сказал он. — Ты же отвергла все мои предложения.
— Если бы это были разумные предложения, я бы их не отвергала.
— Не вижу ничего неприемлемого во всем, что я предлагал.
— Но, Ларри, милый, будь благоразумен. Нельзя же бросаться в новый дом только потому, что к нам приезжают люди. Да мы и не успеем уже его найти. И потом — уроки Джерри.
— При желании все это можно легко уладить.
— В другой дом мы не поедем, — твердо заявила мама. — Это я уже решила.
Мама поправила очки, с вызовом поглядела на Ларри и гордой походкой отправилась на кухню, каждым своим шагом выражая решимость.
Часть вторая
Глава седьмая
Бледно-желтый дом

Это был высокий, просторный венецианский особняк с выцветшими бледно-желтыми стенами, зелеными ставнями и буровато-красной крышей. Он стоял на холме у моря в окружении заброшенных оливковых рощ и безмолвных садов, где росли лимоны и апельсины. Все здесь наводило на грустные мысли о прошлом: дом с облупленными, потрескавшимися стенами, огромные гулкие комнаты, веранды, засыпанные прошлогодними листьями и так густо заплетенные виноградом, что в нижнем этаже постоянно держались зеленые сумерки. С одной стороны тянулся маленький, запущенный садик с каменной оградой и чугунными ржавыми воротами. Там над заросшими дорожками раскинулись розы, анемоны, герань, а мандариновые деревья были так густо усыпаны цветами, что от их запаха кружилась голова. В цитрусовых садах все было тихо и спокойно, только гудение пчел доносилось оттуда да изредка птичий щебет. Заброшенный дом постепенно ветшал, и все вокруг приходило в запустение на этом холме, обращенном к сияющему морю и к темным изрезанным горам Албании. Все тут лежало как бы в полусне, напоенное весенним солнцем и отданное во власть мхам, папоротникам и зарослям мелких поганок.
Место присмотрел, разумеется, Спиро, он же постарался организовать наш переезд с наименьшей суетой и наибольшей эффективностью. Через два дня после того, как мы впервые увидели дом, длинные дощатые телеги, нагруженные нашим имуществом, вереницей потянулись по пыльным дорогам, а на четвертый день мы уже устраивались на новом месте.
На краю усадьбы в небольшом домике жил садовник с женой. Эта чета преклонного возраста, казалось, дряхлела вместе с особняком. Садовник обязан был наполнять чаны водой, собирать фрукты, давить оливки и раз в год, подвергаясь яростным атакам пчел, извлекать мед из семнадцати ульев, расставленных под лимонными деревьями. Как-то в минуту непомерного душевного подъема мама пригласила его жену поработать в нашем доме. Звали ее Лугареция. Это была худая, неприветливая на вид женщина, у которой из-под шпилек и гребенок вечно выбивались пряди волос. Как вскоре выяснилось, Лугареция была необыкновенно обидчивой, малейшее замечание о ее работе, в какой бы вежливой форме оно ни выражалось, источало из ее карих глаз обильные слезы, будто на нее обрушивалось горе. Смотреть на это не было никаких сил, и скоро мама вообще перестала делать ей замечания.
Существовала только единственная вещь на свете, которая могла озарить улыбкой мрачное лицо Лугареции, зажечь огонь в ее смиренных глазах, — это разговоры о своих болезнях. Если большинство людей предается ипохондрии лишь в свободное время, то Лугареция превратила это хобби в свое постоянное занятие. Когда мы только что поселились в доме, предметом ее беспокойства был желудок. Сведения о его состоянии начинали поступать с семи часов утра, когда Лугареция приносила нам чай. Передвигаясь с подносом из одной комнаты в другую, она каждому из нас давала самый полный отчет о ночных приступах. Описания ее отличались необыкновенной наглядностью. Шлепая по комнатам, Лугареция вздыхала, стонала, корчилась от боли и давала нам настолько реалистическую картину своих страданий, что все мы начинали испытывать то же самое.
— Не можешь ли ты что-нибудь сделать с этой женщиной? — обратился Ларри к маме как-то утром, после особенно скверной для желудка Лугареции ночи.
— Что же я могу сделать? — спросила мама. — Я уже дала ей твою соду.
— Вот поэтому ей и было плохо ночью.
— Мне кажется, она ест не то, что нужно, — сказала Марго. — Ей просто необходима хорошая диета.
— Конечно, она несколько надоедлива, — сказала мама, — но ведь бедная женщина так страдает.
— Глупости, — сказал Лесли. — Она получает от всего этого удовольствие. Так же, как и Ларри, когда он заболевает.
— Как бы то ни было, — поспешно вставила мама, — придется все-таки мириться с нею, ведь больше здесь никого не найдешь. Я попрошу Теодора осмотреть ее в следующий раз.
В скором времени желудок Лугареции поправился, все мы вздохнули с облегчением, но, увы, почти сразу же что-то вдруг случилось с ее ногами, и она с беспрерывными жалобными стонами, прихрамывая, ковыляла по всему дому. Ларри сказал, что мама наняла не служанку, а вампира, и предложил приковать к ее ногам ядро. Это по крайней мере даст нам возможность узнавать о ее приближении и вовремя спасаться бегством, так как Лугареция имела обыкновение неслышно подбираться к человеку сзади и громко стонать у него над ухом. После того как Лугареция сняла в столовой башмаки, чтобы продемонстрировать, какие именно пальцы у нее болят, Ларри стал завтракать в своей комнате.
В доме, помимо болячек Лугареции, имелись и другие сокровища. Мебель (которую мы арендовали вместе с домом) представляла собой невообразимую смесь реликтов викторианской эпохи, запертых в комнатах в течение последних двадцати лет. Эти нескладные, некрасивые, неудобные вещи заполняли весь дом и ужасно скрипели, как бы жалуясь друг другу, а если вы слишком стремительно проходили мимо, от них с громким, как мушкетный выстрел, треском отлетали щепки, взметая облачка пыли. В первый же вечер у обеденного стола отломилась ножка, и вся еда посыпалась на пол. Несколько дней спустя Ларри едва присел на массивный, крепкий с виду стул, как от него тут же отвалилась спинка и исчезла в тучах едкой пыли. Однажды мама подошла к платяному шкафу размером чуть ли не с дом, стала открывать его, но дверца осталась у нее в руках. И вот тогда она решила что-то предпринять.
— Нельзя же приглашать людей в дом, где все разлетается на части от одного только взгляда, — сказала она. — Ничего не поделаешь, придется купить кое-что из мебели. Да, эти гости дорого нам обойдутся. Такого с нами еще не бывало.
На следующее утро Спиро повез маму, Марго и меня в город за мебелью. Мы сразу заметили, что на улицах было больше народу и больше шуму, чем обычно, но как-то не придали этому значения. Когда же мы закончили свои дела в магазине и стали пробираться по кривым улочкам к тому месту, где оставался наш автомобиль, толпа затолкала и завертела нас в разные стороны. Люди все прибывали, толпа становилась гуще и гуще и уже несла нас против нашей воли.
— Наверно, тут что-нибудь происходит, — сообразила Марго. — Какой-нибудь праздник или какое-то важное событие.
— Это все равно, — сказала мама. — Только бы нам добраться до автомобиля.
Но толпа уносила нас совсем в другую сторону и наконец вытолкнула на главную площадь города, где народу скопилось видимо-невидимо. Я спросил пожилую крестьянку, стоявшую рядом со мной, что тут происходит. Она повернула ко мне освещенное гордой улыбкой лицо и объяснила:
— Это святой Спиридион, кириа. Сегодня можно пойти в церковь и поцеловать ему ноги.
Святой Спиридион был покровителем острова. Мощи его в серебряном гробу, помещенном в раке, хранились в церкви, и раз в год процессия с мощами ходила по городу. Это был очень могущественный святой, он мог исполнять желания, исцелять от болезней и делать множество других чудесных вещей — если попросить его в подходящий момент, когда он бывал в хорошем настроении. Жители острова верят в него и каждому второму младенцу мужского пола дают в его честь имя Спиро. Вот это и был как раз тот день, когда открывали гроб и позволяли верующим поцеловать обутые в тапочки ноги святого и обратиться к нему с просьбой. Состав толпы показывал, как чтили святого повсюду на Корфу. Там были пожилые крестьянки в праздничных черных платьях и их согбенные, как оливы, мужья с большими белыми усами; сильные, загорелые рыбаки в рубашках со следами чернильных пятен от темной жидкости спрутов; были там больные, слабоумные, чахоточные, калеки, немощные старики и завернутые в пеленки младенцы с бледными восковыми личиками, сморщенными от беспрерывного кашля. Мы заметили даже нескольких высоких, диковатых с виду албанских пастухов, усатых и бритоголовых, в огромных плащах из овчины. Разноцветный поток людей медленно вливался в двери церкви. Нас будто камешки втянуло в этот поток. Марго оказалась намного впереди меня, тогда как мама осталась где-то позади. Я был затиснут между несколькими толстыми крестьянками, которые напирали на меня, как подушки, обдавая запахом чеснока и пота, а мама безнадежно затерялась между двумя здоровенными пастухами-албанцами. Толпа решительно внесла нас по ступеням лестницы и направила к дверям. Внутри церкви было темно, как в колодце, только у одной стены желтыми крокусами колыхались огоньки свечей.
Бородатый священник в черном облачении и высоком головном уборе точно птица метался в полутьме, направляя людей, растянувшихся теперь цепочкой, к большому серебряному гробу и дальше, через другой выход, на улицу. Гроб, похожий на серебряную куколку, стоял вертикально, в нижней его части покров был отодвинут, и из-под него выглядывали ноги святого в красивых вышитых тапочках.
Каждый, подходя к гробу, наклонялся, целовал ноги, шептал молитвы, а сверху сквозь стекло саркофага с выражением сильного отвращения на толпу глядело черное, высохшее лицо святого. Было совершенно ясно, что, хотим мы этого или нет, нам тоже придется целовать ноги святого Спиридиона. Я оглянулся и увидел, что мама делает отчаянные попытки пробиться ко мне, но ее албанцы-телохранители не сдвинулись ни на дюйм, и все ее усилия были бесплодны. Когда ей удалось перехватить мой взгляд, она повела глазами на гроб и энергично затрясла головой. Я был в сильном замешательстве, так же, как и оба албанца, наблюдавшие за мамой с явным подозрением. Им, верно, казалось, что она вот-вот упадет в обморок, и не без основания, — лицо у мамы было красное, а мимика становилась все выразительней. Наконец, доведенная до отчаяния, мама отбросила всякую осторожность и громко зашептала мне через головы людей:
— Скажи Марго… не надо целовать… целуйте воздух… целуйте воздух.
Я повернулся, чтобы передать Марго мамин наказ, но было уже поздно. Марго стояла у гроба и, склонившись к ногам святого, пылко целовала их, к восторгу и удивлению толпы. Когда очередь дошла до меня, я, следуя наставлениям мамы, громко и почтительно поцеловал воздух, дюймов на шесть повыше левой ноги мумии. Потом меня понесли дальше и вытолкнули через дверь на улицу, где, собравшись кучками, шумели и смеялись люди. Марго с очень довольным видом ждала нас на ступеньках лестницы. Через минуту показалась мама, пролетая сквозь двери под натиском могучих плеч пастухов. Она стрелой пронеслась по ступеням и остановилась около нас.
— Эти пастухи, — воскликнула она слабеющим голосом, — такие грубые… и потом я чуть не умерла от запаха… смесь чеснока и ладана. Откуда только берется этот запах?
— Ну ничего, — весело сказала Марго. — Все это можно вынести, только б вот святой Спиридион выполнил мою просьбу.
— Очень негигиеничное мероприятие, — сказала мама. — Гораздо больше способствует распространению болезней, чем исцелению от них. Страшно подумать, что только мы могли бы подцепить, если б и впрямь целовали эти ноги.
— Но ведь я поцеловала ноги, — сказала удивленная Марго.
— Марго! Как ты могла?!
— Все же так делали.
— Подумать только! Я же специально предупредила…
— Не знаю, ты мне ничего не говорила…
Тогда я объяснил, что не успел передать мамино предупреждение.
— Столько людей слюнявили эти тапки, и ты все-таки пошла их целовать!
— Я делала только то, что делают другие.
— Просто не представляю, с какой стати ты это делала.
— Я думала, он поможет мне избавиться от прыщей.
— Прыщей! — передразнила мама. — Смотри, как бы заодно с прыщами не подхватить еще чего-нибудь.
На следующий день Марго свалилась от жестокого гриппа, и престиж святого Спиридиона разлетелся вдребезги. Спиро был срочно отряжен в город за доктором. Вскоре он вернулся и привез с собой невысокого коренастого человека с лакированными волосами, чуть приметной щеточкой усов и живыми черными глазами за стеклами очков в роговой оправе.
Это был доктор Андручелли, очень милый человек, который вел себя у постели больного довольно необычно.
— Ай-ай-ай, — произнес он, входя в комнату и насмешливо разглядывая Марго. — Ай-ай-ай. Очень неразумно вели себя, а? Целовали ноги святого! Ай-ай-ай-ай-ай! Вполне могли чем-нибудь заразиться. Вам повезло, это всего лишь грипп. Ну так вот, делайте, что я вам скажу, иначе я умываю руки! И пожалуйста, не прибавляйте мне работы таким глупым поведением. Если вы еще раз поцелуете ноги святого, я не приеду вас лечить. Ай-ай-ай… что наделали!
Пока Марго в течение трех недель валялась в постели и доктор каждые два или три дня произносил над нею свои «ай-ай-ай», остальные устраивались на новом месте. Ларри захватил себе огромную мансарду и пригласил двух плотников строить там книжные полки. Лесли превратил большую крытую веранду позади дома в тир и всякий раз, когда упражнялся в стрельбе, вывешивал снаружи огромный красный флаг. Мама ходила в рассеянности по большой, выложенной плитками полуподвальной кухне, готовила целыми галлонами бульон, слушала монологи Лугареции и в то же время беспокоилась о Марго. Что касается Роджера и, разумеется, меня, то в нашем распоряжении теперь был сад в пятнадцать акров — просторный новый рай, спускавшийся к мелкому теплому морю. Поскольку у меня временно не было учителя (Джордж уехал), я мог целыми днями бродить где угодно и забегал домой только поесть.
На этом интересном участке, совсем рядом с домом, я нашел много животных, которых считал теперь своими старыми друзьями: золотых бронзовок, божьих коровок, голубых пчел-плотников и земляных пауков. На ветхой стене сада обитало множество маленьких темных скорпионов, гладких и блестящих, будто сделанных из пластмассы. Среди листвы инжира и лимонных деревьев, чуть пониже сада с цветами, в несметном количестве жили изумрудные квакши, древесные лягушки — прямо как атласные конфетки. На склонах холма водились разные виды змей, замечательные ящерицы и черепахи. Во фруктовых садах гнездились всякие птицы: щеглы, зеленушки, горихвостки, трясогузки, иволги, изредка встречались удоды с оранжево-розовыми, черными и белыми перьями, ковырявшие рыхлую землю длинным изогнутым клювом. Заметив меня, они удивленно вскидывали свои хохолки и улетали.
Под карнизом дома жили ласточки. Они прилетели сюда незадолго до нашего переезда и только что закончили постройку своих бугроватых глиняных гнезд, пока еще темно-бурых и влажных, как сдобный кекс с изюмом. Когда гнезда подсохли и посветлели, ласточки начали выкладывать их изнутри, летая на поиски корешков, овечьей шерсти, перышек. Два гнезда были расположены пониже остальных, на них-то я и сосредоточил свое внимание. Приставив к стене длинную лестницу, как раз между двумя гнездами, я стал постепенно, день за днем, взбираться по ней все выше и выше, пока не дошел до верхней ступеньки, и мог сидеть там, заглядывая в гнезда, которые были теперь футах в четырех от меня. Ласточек мое присутствие, по-видимому, нисколько не беспокоило, они продолжали упорно трудиться, готовя жилье для своей семьи, пока я сидел на верхушке лестницы, а Роджер лежал внизу. Я уже вполне освоился с жизнью той и другой четы и с большим интересом следил за их повседневной работой. В поведении обеих ласточек, которых я считал самками, было очень много сходного: серьезность, озабоченность, тревога и суетливость. Самцы, напротив, вели себя совершенно по-разному. Один из них, пока оборудовалось гнездо, приносил отличный материал, но, видимо, не считал это серьезным занятием и часто, возвращаясь домой с клочком овечьей шерсти в клюве, попусту тратил драгоценные минуты: то пролетал по саду почти над самыми цветами, то выписывал в воздухе восьмерки или же метался среди подпорок для винограда. Подруга его в это время держалась у гнезда и взывала к нему отчаянным щебетом, однако он отказывался принимать жизнь всерьез. У другой самки тоже были хлопоты с супругом, но совсем иного свойства. Он у нее был, пожалуй, чересчур уж старательный и прилагал все силы, чтобы обеспечить свое потомство наилучшей подстилкой. Но, к сожалению, он не обладал математическими способностями и, как ни старался, не мог запомнить размеров гнезда. Обычно он возвращался домой с радостным, хотя и заглушенным, щебетом и нес куриное или индюшиное перо величиной с самого себя и с таким толстым стволом, что согнуть его было невозможно. Жене приходилось по нескольку минут убеждать его, что засунуть такое перо в гнездо нельзя, как бы они ни старались, как бы ни крутились. Ужасно разочарованный, он в конце концов бросал перо, и оно, покружившись в воздухе, падало на землю, на все растущую груду под гнездом. Потом он улетал снова на поиски чего-нибудь более подходящего и вскоре возвращался с клоком спутанной и затвердевшей от земли и навоза шерсти, таким тяжелым, что ему с трудом удавалось подняться к карнизу.
Когда наконец были готовы гнезда, отложены и высижены крапчатые яички, характер обоих самцов заметно переменился. Тот, что раньше приносил к гнезду так много ненужного, охотился теперь привольно на склонах холма и возвращался назад с небрежно зажатыми в клюве насекомыми — как раз подходящей величины и мягкости, чтобы угодить своему пушистому дрожащему выводку. Второй же самец совсем потерял покой и, видимо, извелся от страха, что дети его могут умереть с голоду. Он выбивался из сил в погоне за пищей и все же приносил домой самое неподходящее: каких-то крупных жуков с жесткими, колючими ногами и надкрыльями или же огромных, сухих и совершенно несъедобных стрекоз. Он вертелся у края гнезда и делал героические, но бесплодные попытки запихнуть эти гигантские гостинцы в разинутые рты своих птенцов. Страшно было даже подумать, что могло бы произойти, если б он все-таки умудрился втиснуть им в глотку хоть одну из своих устрашающих жертв. К счастью, это ему никогда не удавалось, и, изведенный вконец, он бросал насекомое на землю и опять торопился за добычей. Я был очень признателен этой ласточке, так как получил от нее три новых вида бабочек, шесть стрекоз и двух муравьиных львов, каких еще не было в моей коллекции.
Поведение самок с появлением на свет птенцов мало в чем изменилось. Разве что летать они стали чуточку быстрее и в них появилось особое проворство. Но на этом все и кончалось. Очень интересно было увидеть первый раз, как происходит уборка птичьего гнезда. Раньше, когда мне приходилось держать в руках птенца, я всегда удивлялся, отчего это он задирает к небу хвостик и так вот машет им, если ему нужно облегчиться. Теперь я узнал причину. Экскременты птенцов ласточек представляют собой шарик, покрытый слоем студенистой слизи. В гнезде птенчик становится на голову, дергает хвостиком, как бы отбивая лихую румбу, и оставляет на краю гнезда свое маленькое подношение. Потом прилетает мать и, рассовав в разинутые рты птенцов собранный корм, осторожно берет шарик в клюв и уносит его куда-нибудь через оливковые рощи. Это было замечательно. Я с восторгом следил за всеми действиями, начиная с дерганья хвостика, что меня всегда смешило, и кончая полетом матери над рощей, где она сбрасывала свою маленькую черно-белую бомбочку.
Памятуя о привычке ласточки-самца собирать для своего выводка неподходящих насекомых, я два раза в день осматривал пространство под гнездом в надежде отыскать что-нибудь новенькое для своей коллекции. Именно там я и нашел однажды утром необыкновенного жука. Я даже представить себе не мог, как эта ненормальная ласточка могла донести такую громадину или просто поймать ее, однако он оказался там, под гнездами. Это был крупный, неуклюжий черно-синий жук с большой круглой головой, длинными членистыми усиками и вздутым туловищем. Удивили меня его надкрылья. Можно подумать, что он отдавал их в прачечную и они сели послестирки, так как были очень маленькие, будто предназначались для жука вдвое меньших размеров. Сначала я забавлял себя шуткой, что жук этот, не обнаружив утром чистой пары надкрыльев, позаимствовал их у младшего брата, но потом я все-таки решил, что эта мысль, хотя и очень увлекательная, вряд ли сойдет за научную. Подобрав жука, я заметил, что пальцы у меня стали чуть маслянистыми и отдают чем-то едким, хотя никакой жидкости он вроде бы и не выделял. Я дал понюхать жука Роджеру, чтобы посмотреть, согласится он со мной или нет, и тот сильно зачихал и отодвинулся, из чего можно было заключить, что запах шел от жука, а не от моих рук. Я старательно берег жука, дожидаясь прихода Теодора, который сможет определить его вид.
Теперь, когда наступили теплые весенние дни, Теодор бывал у нас каждый четверг. Он приезжал из города на извозчике в своем безупречном костюме, крахмальном воротничке и фетровой шляпе, что вовсе не сочеталось с его сачками, коллекционными сумками и коробками пробирок. Перед чаем мы просматривали все собранные мной за неделю новые образцы и определяли их, а после чая бродили по усадьбе в поисках насекомых или же совершали экскурсии, как называл их Теодор, к соседнему пруду или канаве, где собирали мелкую фауну для коллекции Теодора. Он с легкостью определил вид моего странного жука с такими неподходящими надкрыльями и стал рассказывать о нем удивительные вещи.
— Ага! Да, — сказал он, разглядывая насекомое. — Это жук-майка… Meloe proscarabaeus… Да… самые странные на вид жуки. Что ты говоришь? Ну да, надкрылья… Видишь, эти жуки не могут летать. Существует несколько видов жесткокрылых, по той или иной причине утративших способность летать. Очень любопытная биография у этого жука. Это, конечно, самка. Самец гораздо меньше, я бы сказал, раза в два меньше. Самка откладывает множество маленьких желтых маслянистых яичек. Когда из них выводятся личинки, они забираются в чашечки каких-нибудь цветов и ждут там, внутри. Есть такой особый вид одиночной пчелы, ее-то они и ждут и, когда она залетает в цветок, личинки… садятся на нее… э… хватаются что есть силы за ее мех челюстями. Если пчела оказывается самкой, которая собирается столкнуть в соты свои яички, значит, им повезло. Когда пчела заполнит медом отдельную ячейку и отложит туда яичко, личинка прыгает вслед за яичком, и пчела закрывает ячейку. Потом личинка съедает яичко и начинает развиваться внутри ячейки. Меня всегда поражало, что существует только единственный вид пчелы, за которой охотятся личинки. Надо думать, большая часть личинок нападает не на ту пчелу и впоследствии погибает. Ну и, конечно, если даже встречается нужная пчела, нет никакой… гм… гарантии, что это будет самка, готовая отложить яички.
Теодор помолчал с минуту, поднялся несколько раз на носках и стал в задумчивости разглядывать пол, потом, весело блеснув глазами, посмотрел на меня и продолжал:
— Я хотел сказать, это все равно что ставить на скачках на лошадь… гм… при очень малых шансах.
Он слегка потряс коробочку со стеклянной крышкой, так что жук съехал с одного ее конца на другой и в удивлении задвигал усами, затем осторожно поставил ее опять на полку, где я держал свои образцы.
— Кстати, о лошадях, — весело сказал Теодор, положив руки на бедра и чуть раскачиваясь. — Рассказывал я тебе когда-нибудь о тех временах, когда я победно въехал в Смирну на белом коне? Понимаешь ли, это было в первую мировую войну, и командир батальона решил, что нам надо войти в Смирну победным маршем, впереди должен был ехать человек на белой лошади. К сожалению, эта сомнительная честь возглавлять колонну досталась мне. Разумеется, я учился ездить верхом, но вовсе не считал себя… гм… отличным наездником. Ну, все шло хорошо и лошадь вела себя замечательно, пока мы не въехали на окраину города. Понимаешь, в Греции в некоторых местах существует обычай опрыскивать духами, розовой водой и всякими такими штуками своих… э… доблестных героев. Ну так вот, я ехал впереди колонны, а тут из переулка выскочила какая-то женщина и давай расплескивать одеколон. Лошадь ничего не имела против, но на беду капелька одеколона попала ей в глаз. Лошадь была приучена ко всяким парадам, ликующим толпам и тому подобным вещам, но совсем не привыкла, чтобы ей заливали глаза одеколоном. Это очень… э… вывело ее из равновесия, и она стала вести себя скорее как цирковая лошадь, а не боевой конь. Я сумел удержаться в седле только потому, что ноги у меня запутались в стременах. Колонне пришлось расстроить свои ряды и усмирять лошадь, но она была так взбудоражена, что командир в конце концов решил не допускать ее к дальнейшему участию в победном шествии. И вот, пока колонна маршировала по главным улицам под звуки оркестра и приветственные толпы, я вынужден был пробираться по боковым улочкам на своем белом коне, и вдобавок ко всем бедам оба мы благоухали одеколоном. Гм… с тех пор я уж больше никогда не ездил верхом.
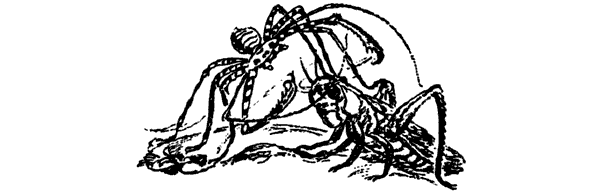
Глава восьмая
Черепашьи горы

За нашим домом над оливковыми рощами поднималась гряда невысоких гор с зубчатыми гребнями. Склоны гор были покрыты зарослями миртов и высоким вереском, кое-где среди них виднелись стрелы кипарисов.
Кажется, это было самое замечательное место в усадьбе, потому что жизнь там била ключом. Посреди песчаных тропок личинки муравьиного льва понарыли маленьких конических ямок и сидели там в ожидании, когда какой-нибудь неосторожный муравей переступит через край, чтобы бомбардировать его песком и сбить на дно этой ловушки, где его хватали страшные, похожие на щипцы челюсти личинки. На красных песчаных бугорках осы-охотницы рыли свои туннели и охотились на пауков. Вонзив в них жало, они парализовали их и уносили на хранение. Это был корм для личинок. По цветкам вереска медленно, будто ожившие меховые воротники, ползали мохнатые, большие, толстые гусеницы павлиноглазок. Среди миртов, в теплом, душистом сумраке их листвы, таились богомолы, вертевшие головой то в одну, то в другую сторону в поисках жертвы. В ветвях кипарисов приютились аккуратные гнезда зябликов с горластыми, пучеглазыми птенцами, а повыше желтоголовые корольки ткали свои маленькие хрупкие чашечки из волос и мха или разыскивали насекомых, повиснув на краю веток вниз головой, и еле слышно попискивали от радости, если им удавалось обнаружить паучка или комара. В густой тени ветвей их золотые хохолки поблескивали, словно маленькие фуражечки.
Эти горы я открыл сразу же после нашего переезда. Владели ими черепахи. Как-то в жаркий день мы с Роджером, спрятавшись за куст, терпеливо ждали, когда крупный махаон вернется на свое излюбленное солнечное пятно и мы сможем поймать его. Это был первый такой жаркий день в то лето, и все вокруг, прогретое солнцем, казалось, оцепенело и погрузилось в дремоту. Махаон не торопился. Он был внизу, возле оливковых рощ, танцевал там один в лучах солнца, кружился, прыгал, выделывал пируэты. Пока мы следили за ним, я уловил краем глаза какое-то движение у куста, за которым мы скрывались. Я перевел взгляд в ту сторону, но бурая, залитая солнцем земля казалась безжизненной. Тогда я было снова сосредоточил свое внимание на бабочке и в тот же миг заметил нечто такое, чему едва мог поверить: как раз в том месте, куда я только что смотрел, земля вдруг вспучилась, будто кто снизу двинул ее кулаком, потом на ней появилась трещина. Крохотное деревце, пробившееся там из семени, сильно затряслось, прежде чем сломались его бледные корешки, и упало.
Я пытался понять причину такого внезапного взрыва. Землетрясение? Конечно, нет. Слишком мало пространство. Крот? Тоже нет. Место это очень сухое, безводное. Пока я раздумывал, земля поднялась еще раз, во все стороны полетели комья, и я увидел перед собой желто-бурый панцирь. Он поднимался все выше, продолжая разметать землю, потом из отверстия осторожно высунулась морщинистая, чешуйчатая голова и за нею длинная, тонкая шея. Черепаха окинула меня туманным взором, мигнула раз-другой и, решив, что я существо безвредное, принялась с беспредельной осторожностью и невероятными усилиями высвобождать себя из земляной темницы. Ступив по земле два или три шага, она разлеглась на солнышке и задремала. После долгой зимы в сыром и холодном подземелье первая солнечная ванна, должно быть, подействовала на рептилию, как живительный глоток вина. Она выпростала из-под панциря ноги, вытянула как можно дальше шею и, закрыв глаза, положила голову на землю. Казалось, она поглощает солнце каждой клеточкой своего существа. Полежав так минут десять, черепаха не спеша поднялась и заковыляла по дорожке к тому месту, где в тени кипариса разрослись одуванчики и клевер. Тут ее ноги как бы подкосились, и низ панциря с глухим стуком коснулся земли. Вскоре из него высунулась голова, медленно потянулась к пышной зелени, рот широко раскрылся и, минуту помедлив, сомкнулся над сочными листьями клевера. Дернув головой, черепаха оторвала листья и со счастливым видом принялась их пережевывать — первая трапеза в этом году.
Выход этой весенней вестницы из ее подземной спальни послужил, видно, сигналом, и все горы покрылись вдруг черепахами. Я еще ни разу не видел, чтобы на таком небольшом пространстве скопилось столько черепах. Крупные черепахи, величиной с глубокую тарелку, и мелкие, не больше чашки, темно-шоколадные прадедушки и светлоокрашенные юнцы неуклюже двигались по песчаным тропкам, ковыляли среди вереска и миртов, иногда спускались к оливковым рощам, где была более сочная зелень. Если посидеть около часа на одном месте, можно было насчитать не меньше десятка черепах, прошлепавших мимо, а однажды я ради опыта, бродя по склонам, собрал их целых тридцать пять штук, в то время как они с сосредоточенным видом двигались куда-то и глухо постукивали о землю своими неуклюжими лапами.
Не успели закованные в панцирь владельцы гор выйти из своих зимних квартир и отведать первой пищи, как самцы уже настроились на романтический лад. Поднявшись на цыпочки и вытянув вперед шею, они с неуклюжей стремительностью рыскали по склонам в поисках подруги, останавливались время от времени и издавали странный тявкающий крик — это была черепашья песня любви. Самки, ковылявшие среди вереска в поисках зеленого корма, небрежно откликались на эти страстные призывы. Два или три самца сразу неслись туда галопом (в черепашьем представлении о скорости) и обычно прибывали к одной и той же самке. Запыхавшиеся, охваченные страстью, они впивались друг в друга взглядом, судорожно глотали воздух и начинали готовиться к битве.
Это были исключительно интересные сражения, напоминавшие скорее вольную борьбу, чем бокс, так как борцы не обладали ни быстротой, ни ловкостью, чтобы позволить себе сложные приемы. В основном они стремились как можно быстрее броситься на противника и перед самым ударом спрятать голову в панцирь. Наилучшим считался удар сбоку, он давал возможность (если долбануть как следует под низ панциря) перевернуть противника на спину и оставить его в этом беспомощном положении. Если заход сбоку не удавался, годилась и любая другая часть тела противника. Напрягая все силы, бойцы налетали друг на друга, так что от их столкновения грохотали панцири, иногда впивались друг другу в шею или с шипением втягивали голову внутрь. А тем временем самка, объект их безумия, не спеша продвигалась вперед, срывала изредка листок-другой, будто и не слышала скрежета и треска панцирей позади себя. Эти битвы не раз принимали такой оборот, что обезумевший от ярости самец по ошибке наносил боковой удар своей возлюбленной. Она при этом лишь сердито фыркала и пряталась в панцирь, а потом терпеливо ждала окончания битвы. Эти поединки казались мне совершенно ненужным, несправедливым делом, так как победа в них не всегда доставалась сильнейшему. Заняв выгодную позицию, маленькая черепаха могла без труда перевернуть противника вдвое больше себя. И, кроме того, дама не всегда доставалась одному из воинов. Мне несколько раз случалось наблюдать, как самка покидала сражавшуюся пару, чтобы начать флирт с совершенно посторонним кавалером (который даже панциря не царапнул ради нее), и потом уходила с ним вполне счастливая.
Мы с Роджером по целому часу сидели в зарослях вереска и не без удовольствия наблюдали, как эти черепашьи рыцари в неуклюжих доспехах бьются на турнире за своих дам. Иногда мы заключали пари друг с другом, пытаясь отгадать победителя, и Роджер так часто ошибался, что к концу лета задолжал мне крупную сумму. Если битва становилась очень уж жестокой, Роджер, охваченный боевым пылом, пробовал вмешаться, и тогда я с трудом сдерживал его.
После того как дама делала наконец свой выбор, мы сопровождали счастливую пару в их свадебном путешествии по зарослям миртов и даже наблюдали (скромно спрятавшись за кустами) заключительный акт романтической драмы.
Я с таким вниманием и интересом следил за повседневной жизнью черепах, что уже многих из них мог различать по виду… Одних я узнавал по цвету и форме, других по некоторым физическим недостаткам: отбитому краю панциря, отсутствию ногтя на пальце или еще по чему-нибудь. Одну крупную золотисто-черную самку я всегда узнавал безошибочно, так как она была одноглазая. У нас с нею установились самые дружеские отношения, и я называл ее мадам Циклоп. Она уже вполне освоилась со мной и, понимая, что я не причиню ей никакого зла, не пряталась при моем приближении в панцирь, а, наоборот, вытягивала шею, желая удостовериться, принес ли я с собой лакомства, вроде листьев салата или мелких улиток, которые она безумно любила. Черепаха совершенно спокойно занималась своими делами, в то время как мы с Роджером следовали за ней по пятам, а иногда в знак особой милости устраивали ей пикники в оливковых рощах, где она могла на свободе лакомиться клевером. К моему величайшему сожалению, на свадьбе ее я не присутствовал, зато потом мне посчастливилось увидеть последствия медового месяца.
Однажды, наткнувшись на черепаху, я заметил, что она роет ямку в рыхлой почве около песчаного бугорка. Когда я подошел, она уже вырыла ее на порядочную глубину и, видно, рада была отдохнуть и слегка подкрепиться цветками клевера, после чего опять принялась за работу, гребла землю передними лапами и отталкивала ее панцирем к одной сторонке. Я не был вполне уверен, какую цель она преследовала, поэтому не пытался ей помочь, а просто лежал среди вереска на животе и наблюдал. Через некоторое время, набросав уже целую горку земли, черепаха внимательно оглядела ямку со всех сторон и, очевидно, осталась довольна. Затем она повернулась, поместила над ямкой заднюю часть своего тела и как бы в счастливой рассеянности отложила туда десяток белых яиц. Я был вне себя от радости и удивления, сердечно поздравил ее с таким важным событием, а она глядела на меня в задумчивости и глотала воздух. Потом черепаха начала сгребать землю обратно, чтобы засыпать яйца, и плотно приминать ее, пользуясь при этом очень простым способом: поместившись над взрыхленным местом, она несколько раз хлопнулась животом о землю. После своей тяжелой работы мадам Циклоп отдохнула и приняла от меня остатки клевера.
Я оказался в довольно затруднительном положении. Мне безумно хотелось взять одно яйцо для своей коллекции, но сделать это в присутствии черепахи я не мог, опасаясь, что она, сочтя себя оскорбленной, выроет остатки яиц и съест их или сотворит еще что-нибудь не менее ужасное. Поэтому я сидел и терпеливо ждал. Разделавшись с клевером и чуточку вздремнув, черепаха удалилась наконец в заросли кустарника. Некоторое время я шел за нею следом, пока не удостоверился, что о возвращении она и не помышляет, потом бросился к гнезду и осторожно вырыл из ямки одно яйцо. Величиной оно было примерно с голубиное, овальное по форме и в шероховатой известковой скорлупе. Я опять примял землю над гнездом, чтобы черепаха ничего не заподозрила, и торжественно понес свою добычу домой. Там я осторожно выдул из яйца клейкий желток, а скорлупку поместил среди других образцов своей коллекции, положив ее в маленькую коробочку со стеклянной крышкой. Этикетка на ней гласила: «Яйцо греческой черепахи (Testudo greaca). Снесено мадам Циклоп».
В течение весны и в первые дни лета, пока я изучал любовные похождения черепах, дом наш заполнялся нескончаемыми потоками друзей Ларри. Не успевали мы со вздохом облегчения проводить одних, как прибывал новый пароход, раздавались автомобильные гудки и цокот копыт, на дороге появлялась вереница такси и извозчиков, и дом наш снова наполнялся людьми. Случалось, что новая партия гостей прибывала раньше, чем мы успевали выпроводить предыдущую, и тогда наступало настоящее светопреставление. По всему дому и саду бродили поэты, прозаики, художники и драматурги, они спорили, рисовали, пили, печатали на машинке, сочиняли. Эти простые, милые люди, как описал нам их Ларри, отличались, все до одного, необыкновенной эксцентричностью и были так высокообразованны, что с трудом понимали друг друга. Одним из первых прибыл поэт Затопеч, невысокий плотный человек с орлиным носом, гривой серебряных волос по самые плечи и со вздутыми, скрученными венами на руках. Он явился к нам в широком черном плаще и черной широкополой шляпе, в экипаже, набитом ящиками вина. Голос его сотрясал дом, когда он ворвался туда в развевающемся плаще и с бутылками в руках. За все время пребывания у нас красноречие его не иссякало ни на минуту. Он говорил с утра до поздней ночи, выпивал невероятное количество вина, мог задремать везде, куда бы ни приткнулся, и по-настоящему никогда не ложился в постель. Несмотря на свои уже весьма немолодые годы, Затопеч нисколько не утратил интереса к прекрасному полу, со старомодной обходительностью ухаживал за мамой и Марго, и в то же время ни одна деревенская девчонка во всей округе не была обойдена его вниманием. Он старался настичь их в оливковых рощах, расхаживая там в своем взлетающем плаще и с бутылкой вина в оттопыренном кармане, громко хохотал и выкрикивал всякие нежные словечки. Даже Лугареция не избежала опасности. Всякий раз, как она протирала пол под диваном, он норовил ущипнуть ее сзади. Правда, это оказалось некоторым благодеянием — она забыла на время о своих болезнях, и когда появлялся Затопеч, вспыхивала и начинала игриво хихикать. Наконец он уехал. Так же, как и при приезде, он завернулся в плащ и с царственным видом откинулся в экипаже. Пока лошадь спускалась с холма, Затопеч посылал прощальные приветствия и обещал в скором времени вернуться к нам из Боснии и привезти еще вина.
В следующем нашествии принимали участие три художника: Жонкиль, Дюран и Майкл. Жонкиль выглядела и говорила, как настоящая кокни, этакая дуреха с челкой. Долговязый Дюран имел всегда мрачный вид и такие слабые нервы, что чуть не подскакивал в воздух, если с ним неожиданно заговаривали. Майкл, напротив, был маленький, толстый человечек, похожий на переваренную креветку, с копной темных курчавых волос. Единственное, что объединяло этих людей, было их постоянное стремление работать. Жонкиль, впервые переступив порог нашего дома, выразила это вполне определенно, чем сильно удивила маму.
— Я приехала сюда вовсе не для отдыха, — объявила она. — Я приехала сюда работать, и мне ни к чему всякие там пикники, вы понимаете?
— А… э… нет, нет, конечно, нет, — ответила мама с таким виноватым видом, будто она собиралась устроить специально для Жонкиль роскошный пир среди миртов.
— Просто чтоб вы знали, — пояснила Жонкиль. — Я не хочу нарушать тут порядка, понимаете? Мне надо только немного поработать.
После этого она сразу отправилась в сад, облачилась в купальный костюм и спокойно продремала на солнышке все время, пока они у нас были.
Дюран, как он нам сообщил, тоже собирался работать, только сначала ему надо было привести в порядок свои нервы. Последние события, сказал он, вывели его из строя, совершенно вывели его из строя. Когда он был в Италии, ему вдруг безумно захотелось создать шедевр. Хорошенько поразмыслив, он решил, что миндальные деревья в полном цвету могут дать некоторый простор его воображению, и потратил немало времени и денег, разъезжая по деревням в поисках подходящего сада. В конце концов он нашел как раз то, что нужно. Обрамление было великолепное, миндаль цвел в полную силу. Дюран лихорадочно схватился за кисти и к концу первого дня полностью нанес основу на полотно. Уставший, но довольный, он собрал вещи и вернулся в деревню, а утром, после крепкого сна, почувствовал прилив новых сил и сразу помчался в сад заканчивать картину. И там он онемел от ужаса, потому что все деревья в саду стояли голые и мрачные, а земля вокруг была густо усыпана белыми и розовыми лепестками. Видно, за ночь весенний ветер посбивал весь цвет в садах, в том числе и в саду Дюрана.
— Я был убит, — сообщил он нам дрожащим голосом и с глазами, полными слез. — Я поклялся, что никогда в жизни не возьмусь за кисть… никогда! Но постепенно я пришел в себя… Теперь у меня лучше с нервами… Со временем я снова начну рисовать.
Это печальное событие, как мы потом узнали, произошло два года назад, и Дюран все еще не оправился от него.
Майклу у нас не повезло с самого начала. Увлеченный колоритом острова, он с восторгом объявил нам, что собирается писать большое полотно, где будет схвачена самая сущность Корфу. Ему не терпелось приступить к работе, но тут, на его беду, у него начался приступ астмы. И также на его беду, Лугареция оставила на стуле у него в комнате одеяло, которым я пользовался вместо седла, когда ездил верхом. В середине ночи мы все вдруг проснулись от шума. Можно было подумать, что где-то душили целую свору ищеек. Еще не очнувшись от сна, мы сошлись в комнате Майкла и увидели, как он хрипит и задыхается и по лицу его градом катится пот. Марго побежала греть чайник, Ларри отправился за коньяком, Лесли стал открывать окна, а мама снова уложила Майкла в постель и, так как он был теперь весь в холодном поту, заботливо накрыла его тем самым одеялом. К нашему удивлению, несмотря на все принятые меры, Майклу стало хуже. Пока он еще мог говорить, мы задавали ему вопросы об этом недуге и его причинах.
— Психологически, чисто психологически, — сказал Ларри. — Вам о чем-то напоминает этот хрип?
Майкл молча покачал головой.
— Ему надо дать чего-нибудь понюхать, — посоветовала Марго. — Что-нибудь вроде нашатырного спирта. Очень хорошо помогает, если человек начинает терять сознание.
— Он не теряет сознания, — оборвал ее Лесли. — Но потеряет, если понюхает спирта.
— Да, милая, это слишком сильное средство, — сказала мама. — Интересно, чем вызван приступ? Майкл, у вас есть к чему-нибудь аллергия?
Между приступами удушья Майкл объяснил нам, что у него аллергия только к трем вещам: пыльце сирени, кошкам и лошадям. Все поглядели в окно, но сирени там нигде не было, кошку мы в комнате тоже не нашли. Ларри ужасно разозлил меня, пытаясь доказать, что это я тайком протащил в дом лошадь. И вот, когда Майкл был уже, можно сказать, на краю смерти, мы вдруг заметили лошадиную подстилку, которую мама старательно подсунула ему под подбородок. Этот случай так подействовал на беднягу, что он уже до самого отъезда не в состоянии был взять кисть в руки. Вместе с Дюраном они лежали целыми днями в шезлонгах и укрепляли свои нервы.
Пока мы управлялись с нашей троицей, прибыл еще один гость в лице графини Мелани де Торро. Это была высокая худая женщина с лицом старой лошади, угольно-черными бровями и целым стогом огненно-рыжих волос. Не успела она пробыть в доме и пяти минут, как стала жаловаться на духоту, потом, к моему восторгу и маминому изумлению, схватилась за свои красные волосы и стащила их вниз, обнажив совершенно гладкую, как шляпка гриба, голову. Заметив мамин испуганный взгляд, графиня объяснила своим резким, квакающим голосом:
— Я только что перенесла рожистое воспаление и потеряла все волосы… не могла найти в Милане подходящих друг к другу бровей и парика… может, подберу что-нибудь в Афинах.
Вдобавок ко всему графиня из-за какого-то изъяна во вставной челюсти не очень внятно произносила слова, и у мамы создалось впечатление, что болезнь, которую она перенесла, была дурного свойства. При первом же удобном случае она приперла Ларри к стене.
— Ужасно! — сказала она прерывистым шепотом. — Ты не знаешь, что у нее было? Ничего себе друг!
— Друг? — удивился Ларри. — Да я ее почти не знаю… терпеть не могу эту женщину, но она очень интересный персонаж, и мне надо понаблюдать за ней вблизи.
— Еще чего! — возмутилась мама. — Нет, Ларри, ты как хочешь, а она должна отсюда уехать.
Они проспорили шепотом весь остаток дня, но мама была как алмаз. Наконец Ларри предложил позвать Теодора, чтобы тот высказал свое мнение, и мама на это согласилась. Теодору послали записку с приглашением приехать к нам на день. Его ответ, в котором он принимал приглашение, был доставлен на извозчике, где возлежала завернутая в плащ фигура Затопеча. Оказывается, прощаясь с островом Корфу, поэт выпил такое количество вина, что сел не на тот пароход и прибыл в Афины. К тому времени он уже прозевал срок свидания, назначенного в Боснии, и вот, философски поразмыслив, сел на первое же судно, идущее до Корфу, и вернулся на остров вместе с несколькими ящиками вина. Теодор приехал к нам на следующий день. На голове у него, как уступка лету, красовалась панама вместо неизменной фетровой шляпы. Мама еще не успела улучить момента, чтобы предупредить его о нашей безволосой гостье, как Ларри уже их представил.
— А, доктор? — сверкнула глазами Мелани, графиня де Торро. — Как интересно. Может, вы дадите мне совет? Я только что перенесла рожистое воспаление.
— Ага! В самом деле? — сказал Теодор, окидывая ее пристальным взглядом. — Какое же вам было назначено… э… лечение?
И оба с воодушевлением пустились в бесконечные медицинские рассуждения. Только благодаря маминому решительному вмешательству их удалось отвлечь от этой темы, которая казалась маме неприличной.
— Право же, Теодор нисколько не лучше этой женщины, — заявила она Ларри. — Как я ни стараюсь держаться широких взглядов, но всему ведь есть предел. Мне кажется, за столом о таких вещах не говорят.
Позднее мама залучила к себе Теодора, и вопрос о болезни графини был утрясен. Маму потом все время терзали угрызения совести за несправедливое суждение об этой женщине, и она всеми силами старалась быть с нею любезной, даже предлагала снять парик, если ей трудно переносить духоту.
Обед в тот день был необыкновенно интересный. Меня так занимали все эти люди с их разговорами, что я просто не знал, кого слушать. Лампы тихо разливали над столом теплый, золотистый свет, заставляли сверкать стекло и фарфор, зажигали огнем красное вино, когда оно лилось в стаканы.
— Но, дорогой мальчик, вы же не разглядели там смысла… да, да, не разглядели! — гремел голос Затопеча, склонившего свой горбатый нос над рюмкой. — Нельзя судить о поэзии как о малярном ремесле.
— …вот я ему и говорю: «Не стану я надрываться над рисунком меньше чем за десятку сеанс, это же дешевка», я говорю…
— …и на следующее утро я был парализован… Потрясен до основания… тысячи цветков… сорваны и смяты… я сказал, что больше не возьму кисть в руки… мои нервы сдали… целый сад исчез… фю-у-ить! И все… А я стоял там и смотрел…
— …и потом я, конечно, принимала серные ванны…
— А, да… гм… но, знаете, я считаю, что лечение ваннами несколько… э… несколько… знаете… несколько переоценивают. Мне кажется, девяносто два процента больных…
Тарелки с едой дымились, как вулканические конусы; в самом центре стола на блюде сияла гора ранних фруктов; Лугареция ковыляла вокруг гостей и потихоньку стонала; борода Теодора поблескивала в свете лампы; Лесли старательно катал хлебные шарики, чтоб обстрелять ими бабочку, летавшую вокруг лампы; мама раскладывала еду, всем слегка улыбаясь, и в то же время не спускала глаз с Лугареции; под столом холодный нос Роджера прижимался в немой мольбе к моему колену.
Марго и все еще хрипевший Майкл говорили об искусстве:
— …вот я и думаю, что Лоуренс делает такие вещи гораздо лучше. Он отличается какой-то особенной свежестью, так сказать… Вы согласны? Возьмем хотя бы леди Чэттерли, а?
— Да, вполне согласен. К тому же он творит чудеса в пустыне… и пишет эту замечательную книгу… как ее там… «Семь столпов мудрости», что ли…
Ларри и графиня тоже говорили об искусстве:
— …но ведь надо обладать простотой и наивностью, иметь ясный глаз ребенка… Возьмите лучшие детские стихи… возьмите Хампти-Дампти… Вот вам поэзия… наивность и свобода от штампов и затасканных приемов.
— …но это же будет пустой болтовней о простодушном подходе к поэзии, если вы собираетесь производить созвучия, такие же несложные, как желания верблюда…
Мама и Дюран:
— …можете представить, как это на меня подействовало… я был сломлен.
— Да, представляю. Такая досада, после всех этих волнений. Положить вам еще рису?
Жонкиль и Теодор:
— …и бельгийские крестьяне… ничего подобного я никогда не видела…
— Да, здесь, на Корфу, и… э… мне кажется, кое-где в Албании, у крестьян существует очень… э… сходный обычай…
За окном сквозь узоры виноградных листьев проглядывал месяц, слышался странный, размеренный крик сов.
Кофе и вино вышли пить на балкон, увитый виноградом. Ларри бренчал на гитаре и пел елизаветинский марш. Это заставило Теодора вспомнить одну из его фантастических, но правдивых историй о Корфу, которую он рассказал с веселым задором.
— Вы понимаете, тут, на Корфу, ничто не делается как у людей. Намерения бывают самые хорошие, но потом непременно что-то случается. Когда несколько лет назад греческий король посетил остров, его визит должен был завершиться… э… представлением… спектаклем. Кульминацией драмы была битва при Фермопилах. Когда падал занавес, греческой армии полагалось победно гнать персов за… как это их называют? Ах да, за кулисы. Ну а людям, игравшим персов, видно, не захотелось отступать в присутствии короля, и то, что они должны были играть персов, тоже, знаете, оскорбляло их. Сущий пустяк мог испортить все дело. И тут во время батальной сцены греческий полководец… гм… не рассчитал расстояния и хватил с размаху персидского полководца деревянным мечом. Это, конечно, произошло случайно. Я хочу сказать, что бедный парень сделал все неумышленно. Однако этого было достаточно, чтобы… э… возбудить персидскую армию до такой степени, что вместо… э… отступления они стали наступать. Теперь посередине сцены крутился хоровод воинов в шлемах, схватившихся в смертельной борьбе. Прежде чем кто-то догадался закрыть занавес, двое из них были сброшены в оркестр. Король потом рассказывал, какое сильное впечатление произвел на него… гм… реализм этой батальной сцены.
Взрыв хохота распугал бледных геккончиков, умчавшихся вверх по стене.
— Теодор! — дразнил его Ларри. — Вы это, конечно, выдумали.
— Нет, нет! — протестовал Теодор. — Это правда… я сам все видел.
— Но это звучит как анекдот.
— Здесь, на Корфу, — гордо сверкнул глазами Теодор, — может случиться все что угодно.
Сквозь ветки олив сияло залитое лунным светом море. Внизу, у родника, надрывались древесные лягушки. Две совы затеяли спор на дереве за верандой. По виноградным лозам у нас над головой осторожно пробирались гекконы, следившие лихорадочным взором за потоками насекомых, которых, словно водоворот, затягивал свет лампы.

Глава девятая
Мир на стене
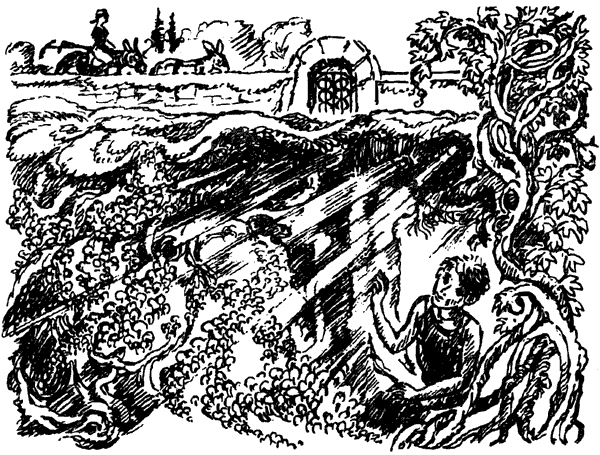
Полуразрушенная стена заглохшего сада оказалась для меня богатым охотничьим угодьем. Это была старая стена, когда-то покрытая штукатуркой, но теперь позеленевшая от мха. За долгие годы слой штукатурки вспучился и просел, а вся поверхность стены покрылась сложным узором трещин — шириной до нескольких дюймов или же тонких как волосок. Кое-где штукатурка совсем обвалилась, и под ней, словно ребра, обнажились ряды розово-красных кирпичей. Если присмотреться получше, на стене можно было разглядеть целый пейзаж: шляпки сотен крохотных поганок, красных, желтых и бурых, казались крышами домов в поселках, разбросанных по сырым местам; темно-зеленый мох рос такими ровными пучками, что вполне мог бы сойти за подстриженные деревья в парках, а затененные трещины, откуда выбивался целый лес маленьких папоротничков, струились, будто зеленые ручейки. На верху стены раскинулась настоящая пустыня, сухая и жаркая, росли там только ржаво-красные мхи, и лишь стрекозы прилетали туда греться на солнышке. У подножия стены среди обломков черепицы пробивались листья цикламенов, крокусов и асфоделей, и вся эта полоса была опутана непролазными зарослями ежевики, усыпанной в середине лета крупными сочными черными ягодами.
Обитатели стены были очень разнообразны, вели дневной или ночной образ жизни и делились на охотников и дичь. По ночам на охоту выходили жабы, жившие среди зарослей ежевики, и гекконы, бледные, почти прозрачные создания с выпуклыми глазами, обитавшие в трещинах в верхней части стены. Их жертвами были глупые, рассеянные долгоножки, неуклюже метавшиеся среди листвы; мотыльки всех размеров и видов — полосатые, мозаичные, клетчатые, пятнистые, в крапинку, которые мягким облаком кружились у растрескавшейся штукатурки; жуки, толстенькие и прилично одетые, будто солидные бизнесмены, спешащие по каким-то ночным делам. Когда последний светлячок уносил свой холодный изумрудный фонарик в моховую постель и над землей появлялось солнце, стена переходила во владение других обитателей. Днем было труднее отличить жертву от хищника, казалось, что все тут поедают друг друга без разбора. Хищные осы, например, охотились на гусениц и пауков, пауки ловили мух, большие, хрупкие охотницы-стрекозы поедали пауков и мух, а быстрые, юркие цветистые ящерицы уничтожали их всех вместе.
Однако наибольшую опасность представляли самые робкие и незаметные обитатели стены. Они никогда не попадались вам на глаза, если вы сами не разыскивали их, а между тем в трещинах стены они гнездились сотнями. Если осторожно поддеть лезвием ножа кусок отставшей штукатурки и тихонько отделить ее от кирпича, вы обнаружите под ней маленького темного скорпиона, будто бы отлитого из шоколада. У этих странных малюток плоское овальное тельце, аккуратные изогнутые ножки и огромные, словно крабьи, вздутые клешни с сочленениями, как на скафандре. Хвост их, похожий на нитку коричневых бусин, заканчивается жалом вроде шипа розы. Пока вы рассматриваете скорпиона, он лежит совсем тихо и только слегка поднимает изогнутый хвост, предостерегая вас почти извиняющимся жестом, когда вы слишком уж сильно начинаете дышать на него. Если долго держать скорпиона на солнце, он просто повернется к вам спиной и уйдет, а потом постарается заползти под другой кусок штукатурки.
Я проникся большой любовью к скорпионам. Они казались мне очень милыми и скромными созданиями с восхитительным в общем-то характером. Если вы не делаете ничего глупого и бестактного (не трогаете, например, их руками), скорпионы будут относиться к вам почтительно и только постараются поскорее удрать и где-нибудь спрятаться. Меня они считали, должно быть, сущим наказанием, так как я постоянно отдирал от стены штукатурку и наблюдал за ними или же ловил их и заставлял маршировать в банках из-под варенья, чтобы посмотреть, как движутся у них ножки. Устраивая неожиданные налеты на стенку, я сумел разузнать о скорпионах немало интересного. Например, обнаружил, что едят они синих мух (до сих пор не могу понять, как они их ловят), кузнечиков, бабочек и златоглазок. Несколько раз мне довелось видеть, как скорпионы поедают друг друга — весьма прискорбная, на мой взгляд, привычка у столь безукоризненных во всех отношениях созданий.
Пристроившись как-то в ночной темноте у стены с фонариком в руках, я умудрился подсмотреть удивительный брачный танец скорпионов. Сцепив клешни, они тянулись вверх и нежно обвивали друг друга хвостами. Я видел, как они медленно кружатся в вальсе среди пышных куртинок мха. Но видения эти мелькали передо мной лишь на краткий миг. Не успевал я зажечь фонарик, как партнеры тут же останавливались, минутку медлили и потом, видя, что я не собираюсь выключать свет, решительно удалялись, шествуя бок о бок, клешня в клешню. Определенно эти существа предпочитали уединение. Если бы можно было держать их у себя в плену, я бы, вероятно, сумел увидеть весь брачный обряд, однако мне строго-настрого запретили приносить скорпионов в дом, как я ни старался за них заступиться.
Но вот однажды я заметил на стене жирную скорпиониху, одетую, как мне сперва показалось, в светло-рыжее меховое пальто. Приглядевшись получше, я увидел, что это странное одеяние состоит из множества крошечных скорпиончиков, вцепившихся в материнскую спину. Я был в восторге от этого семейства и решил тайно пронести его в дом, наверх, в свою спальню, чтобы наблюдать потом, как подрастают малыши. С большой предосторожностью я водворил мамашу вместе со всем выводком в спичечный коробок и помчался домой. Но, на мою беду, как раз в тот момент, когда я входил в дом, вся наша семья садилась за стол. Тогда я решил оставить пока коробок в гостиной. Осторожно положив его на камин, чтобы у скорпионов не было недостатка в воздухе, я вошел в столовую и тоже сел за стол. Слушая разговоры и тайком переправляя Роджеру куски под стол, я закопался с едой и совсем позабыл о своих необычных пленниках. А в это время Ларри, закончив еду, сходил в гостиную за сигаретами и, усевшись снова на стул, всунул в рот сигарету. Не думая о нависшей надо мной опасности, я с интересом следил, как Ларри, все еще продолжая оживленную беседу, открыл коробок.
Я и по сей день твердо убежден, что у скорпионихи не было дурных намерений. Просто она была возбуждена и чуточку раздосадована долгим заточением, поэтому и воспользовалась первым же удобным случаем, чтобы удрать. Моментально выскочив из коробка вместе с уцепившимися за нее малютками, она побежала по руке Ларри. Потом, не зная, что делать дальше, остановилась и приподняла свое жало. Чувствуя, как по его руке что-то движется, Ларри обратил туда свой взор, и с этого мгновения события стали разворачиваться с поразительной быстротой.
От ужаса Ларри испустил такой громкий крик, что Лугареция уронила тарелку, а Роджер выскочил из-под стола и залился бешеным лаем. Резким взмахом руки Ларри стряхнул несчастную скорпиониху на стол, и та с глухим стуком приземлилась на скатерти между Марго и Лесли, рассыпая, словно конфетти, своих малюток. Разгневанная таким дурным обращением, она быстро направилась в сторону Лесли, изогнув свое дрожащее от негодования жало. Лесли, опрокидывая стул, вскочил на ноги и отчаянно махнул салфеткой. Скорпиониха покатилась по скатерти в сторону Марго, которая вдруг так громко заревела, что ей мог бы позавидовать любой паровоз. Мама, совершенно сбитая с толку внезапной суматохой, надела очки и принялась разглядывать скатерть, пытаясь определить, что же все-таки было причиной такого столпотворения. И как раз в этот момент Марго, стараясь отогнать скорпиона, выплеснула на него стакан воды. В скорпиона она не попала, и весь душ пришелся на долю мамы, совершенно не выносившей холодной воды. Почти задыхаясь, она присела у края стола, не в силах даже вымолвить слова. Скорпиониха тем временем нашла убежище под тарелкой Лесли, тогда как ее малыши дико метались по всему столу. Роджер, не понимая причин переполоха, но твердо решив принять в нем участие, с неистовым лаем носился по всей комнате.
— Опять этот проклятый мальчишка… — проревел Ларри.
— Смотрите! Смотрите! Они ползут сюда! — взвизгнула Марго.
— Надо сходить за книгой! — крикнул Лесли. — Не подымайте панику, бейте их книгой!
— Что же тут все-таки происходит? — умоляющим голосом спрашивала мама, протирая очки.
— Этот проклятый мальчишка… Он убьет нас всех… Взгляните на стол… Там по колено скорпионов…
— Скорей… скорей… сделайте что-нибудь… Осторожно, осторожно!
— Ради Бога, перестаньте орать и сходите за книгой… Вы хуже собаки… Замолкни, Роджер…
— Слава Богу, меня не укусили…
— Осторожно… вот еще один… Скорей… Скорей…
— Да заткнитесь же вы все и дайте мне книгу или что-нибудь такое…
— Но, милые мои, как же скорпионы очутились на столе?
— Этот проклятый мальчишка… Каждый спичечный коробок в доме таит опасность.
— Смотрите, он ползет ко мне… Скорее, сделайте что-нибудь…
— Стукни его своим ножом… своим ножом… Да стукни же…
Поскольку никто не взял на себя труда объяснить Роджеру смысл происходящих событий, он по ошибке решил, что всей нашей семье грозит беда и что его долг защитить нас. А так как Лугареция была единственным чужим человеком в комнате, он сделал логический вывод, что это она во всем виновата, и цапнул ее за лодыжку. Шума от этого, конечно, не убавилось.
К тому времени, когда порядок был кое-как восстановлен, все маленькие скорпиончики успели попрятаться под тарелками, вилками и ножами. После моей страстной мольбы и маминых просьб предложение Лесли перебить семейство скорпионов было в конце концов отвергнуто, и вся компания, не оправившись еще от страха и злости, удалилась в гостиную. Целых полчаса вылавливал я малюток, собирая их в чайную ложку, и возвращал на спину матери, а потом вынес на блюдце из дому и с грустью выпустил на стенку сада. После этого мы с Роджером поспешили уйти и всю вторую половину дня провели на пригорке вдали от дома, так как, по моим соображениям, надо было дать всем как следует отдохнуть, прежде чем снова показываться им на глаза.
Последствия этого происшествия были самые разнообразные. У Ларри появился неодолимый страх перед спичечными коробками, и он открывал их с величайшей предосторожностью, обмотав сначала руку носовым платком. Лугареция, с накрученными на лодыжку пухлыми бинтами, прихрамывая, ковыляла по дому еще много недель после того, как зажил укус, и каждое утро, подавая чай, показывала нам свои струпья. Но история эта имела еще и худшие, на мой взгляд, последствия: мама пришла к выводу, что я снова отбиваюсь от рук и что теперь самое время продолжить мое образование. Покуда для меня подыскивали домашнего учителя по всем предметам, мама решила, что по крайней мере к французскому языку я могу приступить не мешкая. И вот после некоторых переговоровСпиро было поручено возить меня каждое утро в город на урок французского языка к бельгийскому консулу.
Дом консула находился в лабиринте узких, вонючих улочек, составляющих еврейский квартал города. Это очаровательное место — мощенные булыжником улицы с множеством лавчонок, заваленных кипами ярких тканей, горами блестящих леденцов, разной утварью из чеканного серебра, фруктами и овощами. Улицы были настолько узки, что приходилось всякий раз прижиматься к стенам домов и давать дорогу навьюченным товарами ослам. Меня очень привлекала эта красочная часть города, шумная и суетливая, где постоянно слышались голоса торгующихся женщин, кудахтанье кур, лай собак и протяжные крики мужчин, несущих на голове огромные подносы с горячим, только что испеченным хлебом. Как раз в самом центре этого района, в верхнем этаже высокого ветхого здания, уныло маячившего над крохотной площадью, жил бельгийский консул.
Это был приятный маленький человек с поразительной трехклинной бородой и старательно нафабренными усами. Он довольно серьезно относился к своей работе и всегда был одет так, словно отправлялся на важный официальный прием: черная визитка, брюки в полоску, светло-коричневые гетры над начищенными до блеска башмаками, огромный, спадающий шелковым водопадом галстук, прихваченный скромной золотой булавкой, и в довершение всего высокий, сияющий цилиндр. В любой час дня его можно было увидеть одетого подобным образом на какой-нибудь грязной улочке, где он изящно ступал среди луж или прижимался к стене, с восхитительной учтивостью уступая дорогу ослу и легонько постукивая его по задней ноге своей ротанговой тростью. Жители города не видели в его костюме ничего необычного. Они думали, что консул англичанин, а так как, по их представлениям, все англичане лорды, то им не только пристало, но просто необходимо носить соответствующую одежду.
Когда я приехал к консулу первый раз, он провел меня в комнату, сплошь увешанную фотографиями в массивных рамках, где он был изображен в различных наполеоновских позах. Спинки старинных кресел, обтянутых красной парчой, украшало множество салфеточек, а стол, за которым мы работали, был накрыт бархатной скатертью винно-красного цвета с ярко-зеленой бахромой. Это была на удивление безобразная комната. Чтобы определить объем моих познаний во французском языке, консул усадил меня за стол, вынул объемистый, потрепанный том словаря «Лярусс» и положил его передо мной, открыв на первой странице.
— Пожалуйста, почитайте вот это, — сказал он по-английски с небольшим акцентом, и в его бороде приветливо сверкнул золотой зуб.
Потом он подкрутил кончики усов, поджал губы, заложил руки за спину и медленно стал шагать по комнате, направляясь к окну, а я принялся за слова, начинающиеся с буквы «А». Едва с грехом пополам я одолел первые три слова, как консул неожиданно застыл на месте и про себя чертыхнулся. Я было подумал, что его шокирует мое произношение, но, видно, все это относилось вовсе не ко мне. Бормоча что-то себе под нос, мой учитель стремительно пронесся через комнату, с силой распахнул дверцы шкафа и выхватил оттуда внушительное на вид духовое ружье. Я следил за его действиями со все возрастающим удивлением и интересом, но все же опасаясь за свою жизнь. Консул зарядил ружье, рассыпая в отчаянной спешке дробинки по всему ковру, потом, пригнувшись, выглянул на улицу. Затем он поднял ружье, внимательно прицелился и выстрелил. Когда консул отошел от окна и отложил ружье в сторону, я с удивлением заметил, что в его глазах стоят слезы. Скорбно покачивая головой, он вытащил из верхнего кармана шелковый носовой платок невероятных размеров и с шумом высморкался.
— Ай-яй-яй! — протянул он нараспев. — Бедное создание… Однако надо нам работать… Читайте, пожалуйста, дальше, мон ами.
В течение всего урока я не мог отделаться от мысли, что консул прямо у меня на глазах совершил убийство или по крайней мере свел счеты с владельцем какого-нибудь соседнего дома по законам кровной мести. Однако после четвертого урока, когда консул все еще продолжал по временам палить из окна, я решил, что мое объяснение сюда не подходит, разве что семья, с которой он воевал, была необыкновенно большая и, сверх того, ни один из ее членов не в состоянии был ответить ему выстрелом. Только неделю спустя я узнал подлинную причину непрерывной ружейной канонады. А причиной были кошки. В еврейском квартале, как и в остальных частях города, кошки могли плодиться без всяких препятствий и бродили по улицам буквально целыми сотнями. Хозяев у кошек не было, никто за ними не следил, поэтому выглядели они ужасно — все в болячках и язвах, с вылезшей клоками шерстью, с кривыми рахитичными лапами и невообразимо костлявые. Трудно было представить, в чем только держится их душа. Консул обожал кошек. В его собственном доме жили три огромных, раскормленных кота персидской породы. Однако видеть этих голодных, шелудивых представителей кошачьего племени, бродивших по крышам напротив его окна, было слишком большим испытанием для чувствительной натуры консула.
— Я не могу их всех накормить, — объяснил он, — поэтому, чтобы они были счастливы, я их убиваю. Им так лучше, но мне это приносит большое огорчение.
Всякий, кто увидел бы этих кошек, легко бы мог понять, какой благородный и полезный труд взял на себя этот человек. Так вот и шли наши уроки французского языка, с постоянными перерывами, когда консул бросался вдруг к окну, чтобы отправить в более радостный мир еще одну кошку. После каждого выстрела на минуту воцарялась тишина, из почтения к смерти, затем консул громко сморкался, трагически вздыхал, и мы опять углублялись в запутанный лабиринт французских глаголов.
По какой-то непонятной причине у консула создалось впечатление, что моя мама умеет говорить по-французски, и он никогда не упускал случая завязать с ней беседу. Если во время своего приезда в город за покупками маме удавалось издали заметить среди толпы его цилиндр, она поспешно сворачивала в ближайшую лавчонку и покупала там всякие ненужные ей вещи, пока не минует опасность. Но иногда консул появлялся вдруг из какого-нибудь переулка и заставал маму врасплох. Приветливо улыбаясь и помахивая тростью, он подходил поближе, срывал с головы цилиндр и сгибался пред мамой почти вдвое, хватая неохотно протянутую руку и пылко прижимая ее к бороде. Они стояли посреди улицы (иногда их разделял проходивший мимо осел), и консул изливал на маму потоки французской речи, изящно жестикулируя палкой и цилиндром и вовсе не замечая растерянного выражения на мамином лице. Время от времени консул завершал свои фразы вопросом «n est се pas, madame?», на что мама должна была ему отвечать. Собравшись как следует с духом, она демонстрировала все свое совершенное знание французского языка.
— Oui, oui! — произносила мама с нервной улыбкой и, если это звучало не очень выразительно, добавляла более четко: — OUI, OUI.
Ответ вполне удовлетворял консула, и он, очевидно, так никогда и не понял, что это было единственное французское слово, которое знала мама. Эти беседы были тяжким испытанием для ее нервной системы, и нам стоило только произнести: «Мама, смотри, консул идет», как она пускалась по улице предельно быстрым шагом, переходившим почти в галоп.
Мне эти уроки французского языка определенно пошли на пользу. Языка я, правда, не выучил, но каждый день к концу занятий мной овладевала такая скука, что в свои послеполуденные вылазки по окрестностям я пускался с удвоенной энергией. И конечно же, всякий раз я с нетерпением ждал четвергов, когда к нам приходил Теодор. Он появлялся в нашем доме после ленча, выждав для приличия некоторый срок, и оставался до тех пор, пока высоко над Албанскими горами не поднималась луна.
В этот день мы с Теодором уходили вместе из дому, иногда просто в сад, иногда и подальше. Нагруженные коробками и сачками, мы шествовали среди олив, а впереди, обнюхивая землю, носился Роджер. Нас привлекало все, что попадалось на пути: цветы, насекомые, камни, птицы. У Теодора, несомненно, был неисчерпаемый запас сведений обо всем на свете, только он сообщал эти сведения особым способом, будто не преподносил вам нечто новое, а скорее напоминал о том, что вы уже знали, но почему-то не могли припомнить. Его рассказы были пересыпаны веселыми анекдотами, очень плохими каламбурами и еще худшими шутками, которые он выпаливал с удовольствием. В глазах его вспыхивали огоньки, нос морщился, и он беззвучно смеялся в бороду и над собой, и над своими шутками.
Каждый прудок, каждая канава с водой были для нас словно неисследованные джунгли, битком набитые зверьем. Крохотные циклопы, водяные блохи, зеленые и кораллово-розовые, парили среди подводных зарослей, будто птицы, а по илистому дну крались тигры прудов: пиявки и личинки стрекоз. Всякое дуплистое дерево, если в нем оказывалась лужица воды, где обитали личинки комаров, подвергалось самому тщательному исследованию, всякий замшелый камень переворачивался, а трухлявое бревно разламывалось. Прямой, подтянутый Теодор стоял у края пруда и осторожно водил под водой своим маленьким сачком, потом вытаскивал его и пристально вглядывался в болтавшийся на конце стеклянный пузырек, куда соскальзывали все мелкие водяные обитатели.
— Ага! — обычно произносил он звенящим от волнения голосом, и борода его задиралась кверху. — Думаю, что это Ceriodaphnia laticaudata.
Он выхватывал из жилетного кармана лупу и принимался разглядывать пузырек еще внимательней.
— А, гм… да… весьма любопытно… это laticaudata. Пожалуйста… э… передай мне чистую пробирку… гм… спасибо.
Он опускал в пузырек стержень авторучки, всасывая им крошечное животное, и, осторожно пересадив в пробирку, принимался за остальной улов.
— Кажется, там больше нет ничего такого уж интересного… Ах да, я и не заметил… довольно любопытная личинка веснянки… вон там, видишь?.. Гм… она устроила себе чехлик из обломков раковин неких моллюсков… Ничего не скажешь, она прелестна.
На дне пузырька лежал тонкий в полдюйма длиной чехлик, сделанный будто из шелка и покрытый, как пуговицами, крошечными плоскими раковинками улиток. С одного конца этого восхитительного жилища выглядывал его владелец — препротивнейшее создание, похожее на червяка с муравьиной головой. Личинка медленно ползла по стеклу и тащила за собой свой замечательный домик.
— Я проделал однажды интересный опыт, — сказал Теодор. — Наловил этих… э… личинок и посдирал с них чехлики. Личинок я, разумеется, не повредил. Я разместил их по банкам с совершенно чистой водой, где не было ничего такого… э… материала для строительства новых оболочек. Потом положил в каждую банку строительный материал разного цвета: в одну мелкие голубые и зеленые бусинки, в другую крошки кирпича, потом белый песок и даже в одну банку… э… осколки цветного стекла. Они соорудили из всего этого новые домики и, должен сказать, результат был очень любопытный и… э… красочный. Несомненно, это очень способные архитекторы.
Он вылил содержимое пузырька обратно в пруд, забросил сачок на плечо, и мы отправились дальше.
— Кстати, об архитектуре, — произнес Теодор, и в глазах его вспыхнули искорки. — Я еще не рассказывал о том, что случилось с одним моим… э… приятелем? Гм, да. Ну, вот, у него был за городом небольшой домик, а так как его семья… гм… увеличилась, он решил, что дом для них маловат и надо надстроить еще этаж. Но мне кажется, он слегка переоценил свои архитектурные… гм… возможности и сам составил проект. Гм, ха, да. Ну вот, все шло хорошо, этаж был надстроен очень быстро, со всеми его спальнями, ванными и прочим. В честь завершения работ мой приятель собрал гостей, и все мы подняли тост за… гм… новую часть здания. С большой торжественностью леса были сняты… гм… убраны, и никто не заметил ничего… гм… особенного, пока один опоздавший гость не захотел взглянуть на новые комнаты. Вот тогда и обнаружили, что там не было лестницы. Понимаешь, в своих чертежах мой приятель, видно, забыл вставить лестницу, а когда началось строительство, он и его рабочие так привыкли взбираться на верхний этаж по лесам, что никто из них даже не заметил никакого… э… недостатка.
Мы бродили по жаре весь остаток дня, останавливались около прудов, канав и ручьев, пробирались сквозь душистые заросли цветущих миртовых кустов, шагали по вересковым холмам, по пыльным белым дорогам, где изредка нам навстречу плелся понурый осел с сонным крестьянином на спине.
К вечеру, когда наши банки, бутылки и пробирки наполнялись замечательной разнообразной живностью, мы возвращались домой. Небо в это время приобретало слегка золотистый оттенок, воздух становился прохладней и душистей. Мы шли через оливковые рощи, уже покрытые глубокой тенью. Впереди, высунув язык, бежал Роджер. Он то и дело оглядывался назад, боясь потерять нас из виду. Разморенные жарой, пыльные и усталые, обвешанные раздувшимися тяжелыми сумками, от чего приятно ныли плечи, мы с Теодором двигались вперед и распевали песню, которой он меня научил. Бодрый мотив этой песни оживлял наши уставшие ноги, мы начинали шагать веселее, и по всей роще радостно разносился баритон Теодора и мой пронзительный дискант.

Глава десятая
Парад светлячков

Весну незаметно сменили долгие, жаркие дни лета, пронизанные солнцем и веселым, неумолчным звоном цикад, от которого дрожал весь остров. В полях начинали наливаться початки кукурузы, закутанные в шелковую кремовую бахрому с рыжими верхушками. Если содрать с початка зеленую обертку и запустить зубы в ряды жемчужных зерен, рот ваш весь наполнится млечным соком. На виноградных лозах висели маленькие пятнистые гроздья, оливковые деревья гнулись под тяжестью плодов, гладких, точно из нефрита, зеленых шариков, и там всегда гремел мощный хор цикад, а в апельсиновых рощах в темной глянцевитой листве начинали румяниться апельсины — их рябые зеленые щеки как бы заливались краской смущения.
Вверху, на холмах, среди вереска и темных кипарисов, словно подхваченные ветром конфетти, кружились хороводы бабочек. Время от времени какая-нибудь из них присаживалась на листок, чтобы отложить там яички. Под ногами у меня тикали, как часы, кобылки и ошалело неслись через вереск, поблескивая на солнце крыльями. Среди миртов двигались богомолы, медленно, осторожно — настоящее воплощение зла. Они были худые и зеленые, лицо без подбородка и чудовищные, круглые глаза, как холодное золото. В них горело упорное, хищное безумие. Изогнутые передние ноги с острой зубчатой бахромой, поднятые в притворной, взывающей к миру насекомых мольбе — такой страстной, такой смиренной, — чуть подрагивали, если мимо проносилась бабочка.
Вечером, когда становилось прохладней, цикады переставали петь, и их сменяли зеленые древесные лягушки, приклеенные к поникшим лимонным листьям у родничка. Их выпученные глаза словно гипнотизировали вас, спинки сияли глянцем, как и листья, на которых они сидели, голосовые мешки раздувались, и лягушки испускали свои трели с такой отчаянной силой, что их влажная кожа, казалось, вот-вот лопнет от напряжения. После захода солнца наступали короткие, зеленоватые сумерки, их сменял сиреневый полумрак, и в прохладном воздухе разливались вечерние ароматы. Из укрытий выходили жабы цвета оконной замазки, расписанные причудливыми, как на географической карте, темно-зелеными пятнами. Они незаметно двигались среди пучков высокой травы в оливковых рощах, где крутилось облако неуклюжих долгоножек — как будто тонкий газовый занавес колыхался над землей. Жабы сидели, прикрыв глаза, потом внезапно хватали пролетавшую мимо долгоножку и, садясь обратно, со слегка смущенным видом подпихивали пальцами в свой огромный рот свисающие концы крыльев и ножек. А над ними, на ветхой стене старого сада, среди пышных шапок зеленого мха и зарослей крохотных поганок торжественно разгуливали пары маленьких скорпионов.
Море было спокойное, теплое и темное, как черный бархат, ни малейшая рябь не тревожила его гладкой поверхности. Далеко на горизонте легким красноватым заревом мерцало побережье Албании. Постепенно, минута за минутой, зарево растекалось по небу, сгущалось и светлело. И вдруг над зубчатой стеной гор поднималась огромная винно-красная луна, и от нее по темному морю пробегала прямая огненная дорожка. Совы, уже летавшие бесшумными тенями от дерева к дереву, вскрикивали в изумлении, замечая, как луна, подымаясь все выше и выше, становится розовой, потом золотой и наконец серебряным шаром вплывает в обитель звезд.
С наступлением лета у меня появился учитель Питер, высокий, красивый молодой человек, только что из Оксфорда и с довольно решительными взглядами на образование, что было мне, конечно, не по нраву. Однако атмосфера острова начала незаметно делать свое дело. Взгляды Питера понемногу смягчались, и он стал вполне похож на человека. Первые наши уроки были тяжелы до ужаса: нескончаемая возня с дробями, процентами, геологическими пластами и теплыми течениями, существительными, глаголами и наречиями. Но, по мере того как солнце оказывало на Питера свое магическое воздействие, дроби и проценты перестали казаться ему такой уж исключительно важной частью жизни, и мало-помалу они отходили на задний план. Кроме того, Питер обнаружил, что все сложности с геологическими пластами и влиянием теплых течений можно гораздо легче объяснить, плавая вдоль побережья, и что самый простой способ преподавать английский язык — предоставить мне возможность каждый день писать что-нибудь самостоятельно и потом исправлять ошибки. Он предложил вести дневник, но я отказался, потому что у меня был уже один дневник о природе, куда я ежедневно записывал все, что встречал интересного. Если завести новый дневник, чем же я буду его заполнять? На такое возражение Питер не смог ничего ответить. Тогда я предложил попробовать что-нибудь более сложное и интересное. Например, написать книгу. Питера это слегка удивило, однако он не нашел резонного возражения против книги и согласился. И вот каждое утро примерно в течение часа я с удовольствием трудился над очередной главой своего эпического повествования — захватывающей истории, где мы всей семьей совершали путешествие вокруг света и по пути ловили всех, каких только можно себе вообразить, животных совершенно немыслимыми силками и капканами. Я писал свою книгу в духе «Журнала для мальчиков», поэтому каждая глава у меня кончалась потрясающей сценой — на маму вдруг набрасывался ягуар или Ларри сражался с огромным, обвившим его кольцами питоном. Иногда эти кульминации бывали так сложны и опасны, что на следующий день мне лишь с огромным трудом удавалось выцарапать своих родных из подобных ситуаций целыми и невредимыми. Пока я, высунув язык, трудился над своим шедевром, советуясь иногда с Роджером по поводу самых тонких сюжетных ходов, Питер и Марго отправлялись на прогулку по заросшему саду и любовались цветами. К моему удивлению, оба они обрели вдруг вкус к ботанике. Таким вот приятным для всех нас образом проходило каждое утро. В самом начале Питера еще терзали по временам угрызения совести, тогда мое сочинение перекочевывало в ящик стола и мы углублялись в математические задачи. Но когда летние дни стали длиннее, а интерес Марго к садоводству заметно возрос, эти досадные периоды наступали гораздо реже.
После злосчастной истории со скорпионами мне отвели большую комнату на втором этаже, где я мог держать своих зверей, и все стали смутно надеяться, что теперь наконец-то вся живность будет сосредоточена только в одной определенной части дома. Эта комната (я называл ее своим кабинетом, а остальные члены семьи — козявочником) приятно пахла эфиром и этиловым спиртом. Теперь я держал тут книги по естественной истории, свои дневники, микроскоп, скальпели, сачки, мешочки для сбора животных и другие не менее важные предметы. В больших картонных коробках хранились коллекции птичьих яиц, жуков, бабочек, стрекоз, а вверху на полках выстроились бутылки, в которых были заспиртованы такие интересные вещи, как цыпленок с четырьмя ножками (подарок мужа Лугареции), всевозможные ящерицы и змеи, лягушачья икра на разных стадиях развития, маленький осьминог, три бурых крысенка (дань Роджера) и крохотная черепашка, только что вылупившаяся из яйца и не вынесшая суровости зимы. На стенах висели немногочисленные, но со вкусом подобранные украшения: сланцевая плитка с окаменелыми остатками рыбы, фотография моей собственной персоны, пожимающей руку шимпанзе, и чучело летучей мыши. Чучело я набивал сам, без посторонней помощи, и очень им гордился. Если принять во внимание мою неопытность в этом искусстве, то чучело было вполне похоже на летучую мышь, особенно если стоять на другом конце комнаты. Раскинув крылья, она сердито смотрела со стены, прикованная к своей пробковой дощечке. Но когда наступило лето, летучая мышь, видно, почувствовала жару: она слегка одрябла, мех ее утратил свой блеск, и новый таинственный аромат пополз по комнате, перебивая запахи эфира и этилового спирта. Бедняга Роджер, это его объявили сперва виновником! И только позднее, когда запах уже проник в спальню Ларри, тщательное расследование привело к моему чучелу. Я был удивлен и немало раздосадован. Под нажимом родных чучело пришлось выбросить. Питер объяснил, что я плохо его обработал, и обещал, если я достану еще один экземпляр летучей мыши, показать мне, как это делается по всем правилам. Я от души благодарил его, но осторожно посоветовал держать это в тайне, так как чувствовал, что теперь все домашние будут относиться к искусству набивки чучел с величайшим подозрением, придется потратить немало сил, чтобы настроить их на иной лад.
Добыть еще одну летучую мышь мне никак не удавалось. Вооруженный длинной бамбуковой палкой, я часами простаивал в залитых лунным светом узких аллеях оливковых рощ, однако летучие мыши проносились мимо меня вихрем, я даже не успевал поднять свое оружие. Но покуда я стоял вот так, безнадежно подкарауливая случай, чтобы оглушить летучую мышь, я видел много других животных, которых при иных обстоятельствах мне бы увидеть не довелось. На склоне холма молодой лисенок с вожделением разыскивал жуков, роя землю своими неокрепшими лапками, и, откопав насекомое, тут же с хрустом поедал его. Однажды из-за миртовых кустов показались вдруг пять шакалов. Заметив меня, они остановились в недоумении и потом растаяли, как тени, среди деревьев. Между рядами олив, у самой травы, на бесшумных шелковых крыльях плавно, будто большие черные ласточки, скользили козодои, преследуя пьяных танцующих долгоножек. Однажды у меня над головой появилась чета сонь. В диком возбуждении они носились по всей роще, прыгая, точно акробаты, с ветки на ветку и скользя вверх и вниз по стволам деревьев. В лунном свете их поднятые пушистые хвосты мелькали, как клубы серого дыма. Меня очаровали эти зверьки, и я решил поймать одного из них. Конечно, лучше всего было ловить их днем, когда они спят. В поисках убежища сонь я старательно обшарил все оливковые рощи, однако это оказалось пустой затеей, потому что каждый корявый ствол имел дупло с полдюжиной выходов. Но все же поиски мои не были такими уж бесплодными. Однажды я запустил руку в дупло, и мои пальцы наткнулись на какой-то мягкий комочек. Он зашевелился у меня под рукой, и я его вытащил. На первый взгляд добыча показалась мне большим клубком из пушинок одуванчика с парой огромных золотистых глаз, потом я увидел, что эта сплюшка, совсем маленький птенчик, еще покрытый пухом. С минуту мы смотрели друг на друга, затем совенок, оскорбленный, должно быть, моим грубым смехом над его внешностью, вонзил мне в палец свои крошечные коготки. От неожиданности я выпустил из рук ветку, за которую держался, и мы вместе с ним грохнулись на землю.
Я посадил негодующего птенца в карман и понес домой, с некоторым трепетом представив его своим родным. К моему удивлению, он был принят с несомненной благосклонностью, мне без всяких оговорок разрешили держать его в доме. Поселился он в моем кабинете в плетеной корзинке и после продолжительных споров был наречен Улиссом. С самого начала совенок показал, что он птица с сильным характером, поэтому шутить с ним не стоит. Хотя его самого можно было поместить в чайной чашке, он проявлял необыкновенную отвагу и бесстрашно набрасывался на всё и всех, независимо от роста. Так как жить нам предстояло в одной комнате, мне очень хотелось, чтобы у него с Роджером установились хорошие отношения, поэтому, как только совенок слегка осмотрелся на новом месте, я представил их друг другу, посадив Улисса на пол и приказав Роджеру приблизиться к нему и подружиться. У Роджера уже выработался философский подход к дружбе со всякого рода зверушками, которым я давал у себя приют, и теперь он старался подражать совиным манерам. Весело виляя хвостом, он любезно направился к Улиссу, который сидел посреди комнаты с далеко не дружественным выражением «лица» и сверлил Роджера свирепым, немигающим взглядом. Шаги собаки стали менее уверенными. Улисс не сводил с нее взгляда, будто пытался загипнотизировать. Роджер остановился, уши у него обвисли, хвост лишь чуть подрагивал, и взор обратился ко мне за поддержкой. Я строго приказал ему следовать к намеченной цели. Роджер нервозно посмотрел на совенка, а потом спокойно стал обходить его сзади. Однако Улисс тут же повернул голову на сто восемьдесят градусов и по-прежнему не сводил с собаки глаз. Роджеру еще ни разу не приходилось встречать зверя, который бы мог, не поворачиваясь, глядеть назад, поэтому он был в некотором замешательстве. Но, чуть поразмыслив, Роджер решил избрать легкий, игривый тон. Он растянулся на животе, положил голову на лапы и стал медленно подползать к птице, слегка повизгивая и непринужденно виляя хвостом. Улисс продолжал сидеть неподвижно, будто чучело. Роджеру удалось подползти совсем близко, но тут он совершил роковую ошибку. Вытянув морду вперед, он шумно и с любопытством обнюхал птицу. Многое мог бы вынести Улисс. Но позволить лохматому барбосу обнюхивать себя — никогда! Сейчас он покажет этой неуклюжей громадине без крыльев, где ее место. Прикрыв глаза, щелкая клювом, Улисс подпрыгнул в воздух и опустился прямо на морду собаки, вонзив в ее черный нос свои острые как бритва когти. Роджер в изумлении тявкнул, стряхнул с себя совенка и спрятался под стол. Никакие уговоры не могли заставить его выйти оттуда, пока Улисс не был водворен обратно в свою корзинку.
Когда совенок немного подрос, детский пушок сошел с него, и он весь покрылся замечательными пепельно-серыми, ржаво-красными и черными перьями. На светлой грудке красиво обозначились темные мальтийские кресты, на ушах отросли длинные кисточки, которые он всегда поднимал в негодовании, если вы позволяли себе вольничать с ним. Теперь Улисс был слишком взрослый, чтобы жить в корзинке, о клетке же он просто слышать не хотел, так что пришлось отдать ему во владение весь кабинет. Свои упражнения в полетах он проводил между столом и ручкой двери и, как только освоил это искусство, выбрал себе жилье в углублении над окном и сидел там целый день с закрытыми глазами, точь-в-точь сучок оливы. Если с ним заговорить, глаза его сразу широко распахнутся, кисточки на ушах поднимутся вверх, все тело вытянется, и на вас взглянет загадочный китайский идол с изможденным лицом. Если Улисс к вам расположен, он приветливо пощелкает клювом или же, как знак величайшей милости, слетит вниз и торопливо чмокнет вас в ухо.
После захода солнца, когда по темным стенам дома начинали бегать гекконы, Улисс просыпался. Он деликатно зевал, расправлял крылья, чистил хвост и так энергично встряхивался, что все его перья вставали дыбом, будто лепестки распушенной ветром хризантемы. Затем с большой непринужденностью он выпускал шарик полупереваренной пищи вниз на газету, расстеленную специально для этой, а также для других целей. Чтобы приготовиться к ночной охоте, он издавал пробное «ту-гу», удостоверялся, что голос у него в порядке, и отчаливал на своих мягких крыльях. Беззвучно, как пушинка, облетев комнату, он опускался мне на плечо, сидел там минутку-другую, легонько пощипывая мое ухо, потом снова встряхивался, отбрасывал сантименты в сторону и принимал деловой вид. Подлетев к подоконнику, он издавал еще одно вопросительное «ту-гу?», уставясь на меня медовыми глазами. Это был знак, чтоб ему открыли ставни. Как только я распахивал их, Улисс выплывал из окна, и с минуту его силуэт вырисовывался на диске луны, прежде чем пропасть в темноте олив. А еще минутой позже раздавалось громкое, вызывающее «ту-гу! ту-гу!» — предупреждение, что Улисс вышел на охоту.
Охота его продолжалась разное время. Иногда уже через час он снова появлялся в комнате, иногда же пропадал всю ночь. Но куда бы совенок ни улетал, он ни разу не забыл вернуться в дом к ужину — между девятью и десятью часами. Если в моем кабинете свет не горел, Улисс спускался к окну гостиной и заглядывал в него — нет ли меня там. Если меня не было, он снова летел вверх, садился на окно моей спальни и нетерпеливо колотил по ставням, пока я не открывал их и не протягивал ему блюдце с фаршем, искрошенным сердцем цыпленка или еще каким-нибудь деликатесом, припасенным в тот день. Проглотив последний кусочек сырого мяса, Улисс издавал тихий, вроде икоты, звук, минуту раздумывал и улетал снова, проплывая над верхушками деревьев, залитых лунным светом.
С тех пор как Улисс показал себя храбрым бойцом, он стал относиться к Роджеру вполне по-дружески, и теперь, когда мы шли вечером купаться, мне порой удавалось залучить его в нашу компанию. Обычно он сидел на спине Роджера, крепко вцепившись в его черную шерсть, и если, как это иногда случалось, Роджер забывал о своем пассажире и бежал слишком быстро или же слишком резво перепрыгивал через камень, в глазах Улисса загорался огонь, крылья начинали бить воздух в отчаянном усилии удержать равновесие, и он громко и с возмущением щелкал клювом, пока я не принимался отчитывать Роджера за беспечность. На берегу моря Улисс восседал на моих штанах и рубашке, а мы с Роджером кувыркались на мелком месте в теплой воде. Вытянувшись, как гвардеец на карауле, Улисс следил за нашими проделками круглыми, слегка осуждающими глазами. Нередко он покидал свой пост, кружился над нами, щелкая клювом, и опять возвращался на берег. Опасался ли он за нашу жизнь или просто хотел поиграть с нами, я так и не смог решить. Если мы купались слишком долго, ему это надоедало, он взмывал над холмом и летел в сад, крикнув нам на прощанье «ту-гу».
Летом, в полнолуния, мы всей семьей отправлялись на ночные купания, так как днем слишком сильно палило солнце и перегретое море ничуть не освежало. Как только выходила луна, мы спускались через рощу к скрипучей деревянной пристани и залезали на «Морскую корову». Ларри и Питер садились на одно весло, Марго и Лесли на другое, а мы с Роджером пробирались на нос и были впередсмотрящие. Примерно через полмили показывался небольшой заливчик с пляжами из белого песка и грудой гладких, все еще теплых камней, на которых было так приятно полежать. Мы ставили «Морскую корову» на якорь в глубоком месте и потом, перемахнув через борт, весело плескались и ныряли, так что лунный свет дрожал на взбаламученных водах залива. Всласть накувыркавшись, мы не спеша плыли к берегу и ложились на теплые камни, лицом к звездному небу. Обычно через полчаса мне надоедало слушать разговоры взрослых, я снова входил в воду и медленно плавал по заливу на спинке, любуясь луной. И вот однажды, покачиваясь так на волнах, я обнаружил, что залив этот привлекал не только нас одних.
Свободно раскинувшись в теплой, ласковой воде и лишь чуть-чуть шевеля руками, чтобы держаться на поверхности, я разглядывал Млечный Путь, протянувшийся через небо шифоновым шарфом, и соображал, сколько же в нем звезд. С берега, гулко отдаваясь эхом, до меня доносились голоса и смех, а если я слегка приподнимал голову, мне были видны очертания фигур, освещенных вспыхивающими огоньками сигарет. Совсем убаюканный, я продолжал тихо плыть по заливу, как вдруг почти рядом с собой услыхал какой-то громкий шлепок и бульканье. Затем последовал длинный, глубокий вздох, и я закачался на легких волнах. Мгновенно выпрямившись, я высунулся из воды, чтобы определить, далеко ли уплыл от берега, и вдруг с ужасом увидел, что был на порядочном расстоянии не только от берега, но и от «Морской коровы». И как знать, что это тут плавает вокруг меня в темной воде? С берега все еще доносились взрывы смеха, и я видел, как высоко в воздухе красной звездой взлетал окурок сигареты, описывал кривую и гас у кромки воды.
Беспокойство охватывало меня все сильнее, и я уже готов был позвать на помощь, когда футах в двадцати от меня море вдруг как будто расступилось с легким плеском и бульканьем, и на поверхности показалась гладкая, блестящая спина, издала глубокий удовлетворенный вздох и снова скрылась под водой. Едва я успел сообразить, что это был дельфин, как тут же понял, что дельфины окружили меня со всех сторон. Они всплывали на поверхность, выставив свои горбатые темные спины, сиявшие в лунном свете, и с наслаждением вдыхали воздух. Всего их было, наверно, штук восемь. Один из них вынырнул от меня так близко, что я мог бы через три взмаха оказаться рядом с его черной головой. Издавая глубокие, тяжкие вздохи, дельфины играли посреди залива, а я плавал вместе с ними и зачарованным взглядом следил, как они с бульканьем подымаются из воды, делают медленный вдох и снова исчезают в глубине, оставляя на поверхности лишь легкие пенные круги. Но вскоре все дельфины, как по команде, повернулись и уплыли в сторону далекого Албанского побережья. Я высунулся из воды и смотрел, как они плывут вдоль светлой лунной дорожки, то выныривая на поверхность, то с блаженным вздохом снова уходя под воду, теплую как парное молоко. За ними тянулся след из крупных дрожащих пузырей пены, которые вспыхивали, точно маленькие луны, прежде чем исчезнуть в волнах.
После этого мы стали часто встречать дельфинов во время своих поздних купаний при лунном свете, и однажды они устроили в нашу честь иллюминированное представление с участием одного из самых привлекательных насекомых, населяющих остров. Мы знали, что в жаркие летние месяцы море здесь начинает фосфоресцировать. В лунные ночи это было не так заметно — лишь слабое зеленоватое мерцание вокруг носа лодки да короткая вспышка, когда кто-нибудь из нас нырял в воду. Мы считали, что лучшее время для фосфоресценции — безлунные ночи. В летние месяцы на острове появлялся и другой светящийся обитатель — светлячок. Эти небольшие бурые жучки вылетали с наступлением темноты и десятками кружились среди оливковых рощ, то зажигая, то гася фонарики, излучавшие зеленовато-белый, а не золотисто-зеленый, как на море, свет. Лучшей порой для светлячков тоже были темные ночи, когда яркий лунный свет не затмевал сияния их огоньков. Но все-таки нам бы никогда не удалось увидеть одновременно и дельфинов, и светлячков, и фосфоресценцию, если бы не мамин купальный костюм.
Мама давно уже с завистью смотрела на наши купания, как дневные, так и ночные, но когда мы предложили ей ходить вместе с нами, она заявила, что слишком стара для подобного рода вещей. И все же под нашим постоянным нажимом она в конце концов наведалась в город и возвратилась домой с таинственным пакетом в руках. Смущенно развязав пакет, мама изумила нас всех, вытащив оттуда на редкость бесформенное одеяние из черной материи, покрытое сверху донизу бесчисленными оборочками и складочками.
— Ну, что вы об этом скажете? — спросила мама.
Мы уставились на странный наряд, пытаясь отгадать, для чего он предназначен.
— Что это такое? — спросил наконец Ларри.
— Купальный костюм, разумеется, — ответила мама. — Что же это еще, по-вашему, может быть?
— Он напоминает мне сильно исхудавшего кита, — сказал Ларри, приглядываясь к костюму.
— Ты это ведь не наденешь, мама, — сказала пораженная Марго. — Можно подумать, что он сшит в двадцатом году.
— А для чего тут оборки и все вот эти штуки? — с интересом спросил Ларри.
— Для украшения, конечно, — с негодованием ответила мама.
— Ничего себе украшения! Не забудь вытряхивать из них рыбу, когда будешь выходить из воды.
— Могу лишь сказать, что мне это нравится, — твердо заявила мама, засовывая чудовище обратно в пакет. — И я буду его носить.
— Ты можешь затонуть во всей этой амуниции, — серьезно сказал Ларри.
— Мама, это ужасно. Его нельзя носить, — сказала Марго. — Ну почему ты не купила что-нибудь более современное?
— Когда ты доживешь до моих лет, милая, ты не станешь ходить в трусах и лифчике… У тебя будет не та фигура.
— Хотел бы я знать, на какую же фигуру было рассчитано вот это, — заметил Ларри.
— Ты просто безнадежна, мама, — с отчаянием сказала Марго.
— Но мне это нравится… я же вас не прошу его носить, — воинственно возразила мама.
— Ну правильно. Это твое личное дело, — согласился Ларри. — А ты его не снимай. Может быть, потом он окажется тебе в самую пору, если для этого ты сумеешь отрастить еще три или четыре ноги.
Фыркнув от возмущения, мама ушла наверх примерять костюм. Через некоторое время она позвала нас оценить результат, и мы всей гурьбой двинулись в ее спальню. Прежде всех вошел Роджер и, очутившись перед странным видением в пышном черном костюме с массой оборок, поспешно отступил к двери, пятясь задом, и залился яростным лаем. Нам не сразу удалось убедить его, что это просто наша мама, но даже и после этого он все еще продолжал коситься на нее не очень доверчивым взглядом. Однако же, несмотря на все противодействие, мама не захотела расстаться со своим похожим на шатер костюмом, и в конце концов мы отступились.
В честь ее первого морского купания мы решили устроить в лунную ночь пикник на берегу залива и послали приглашение Теодору. Он был единственный из посторонних людей, кого мама могла допустить на такое торжество. И вот день великого омовения наступил. Мы припасли вина и закусок, вычистили лодку, набросали в нее подушек, и все уже было готово к отъезду, когда явился Теодор. Услыхав о нашем намерении устроить при лунном свете пикник с купанием, Теодор объявил, что сегодняшней ночью луны на небе не будет. Все тут же принялись упрекать друг друга в том, что никто не следил за лунными фазами, и спор продолжался до самых сумерек. Наконец было решено, что хочешь — не хочешь, а на пикник отправляться надо, раз уже все наготове. Мы забрались в лодку, набитую едой, вином, полотенцами и сигаретами, и поплыли вдоль берега. Я с Теодором сидел на носу, мама была рулевым, а все остальные гребли по очереди. Пока мама еще не освоилась с темнотой, она искусно провела нас по кругу, так что после десяти минут энергичной гребли мы вдруг снова очутились перед пристанью, врезавшись в нее что есть силы. Расстроенная такой неудачей, мама пустилась в другую крайность, направив лодку прямо в открытое море, и, не заметь Лесли этого обстоятельства вовремя, мы бы в конце концов оказались где-нибудь у берегов Албании. После этого управление взяла на себя Марго, и она справлялась со своим делом вполне сносно, если не считать тех критических моментов, когда она начинала волноваться и совсем забывала, что при повороте направо румпель надо отвести влево. Поэтому нам приходилось напрягать все силы и минут по десять выравнивать лодку, которую Марго направляла прямо на скалу, вместо того чтобы отвести ее от скалы. В целом же это было доброе начало маминого первого купания.
В конце концов мы благополучно добрались до залива, расстелили на песке коврики, разложили еду, выстроили на отмели батарею бутылок, чтобы они охлаждались, и торжественный момент наступил. Под громкие приветственные крики мама сбросила халат и предстала перед нами во всем блеске. В своем купальном костюме она вполне могла бы сойти, как выразился Ларри, за морской вариант памятника принцу Альберту[3]. Роджер вел себя прекрасно, пока не увидел, как мама неторопливо и с достоинством ступает по мелководью. Это его очень взбудоражило. Видно, он принял купальный костюм за некое морское чудовище, которое обхватило маму со всех сторон и вот-вот утащит в глубины. С диким лаем он бросился ей на выручку, вцепился в одну из бесчисленных оборок, идущих по краю костюма, и потянул что есть силы. Мама в это время как раз успела вымолвить, что вода немножко холодновата, и вдруг почувствовала, как ее тянут назад. Она вскрикнула от испуга и, потеряв равновесие, шлепнулась в воду, а Роджер продолжал тянуть изо всех сил, пока не оторвал порядочный кусок оборки. Обрадованный, что враг распадается на части, Роджер подбодрил маму рычанием и принялся сдирать с нее остатки гнусного чудовища. Мы корчились на песке от хохота, а мама сидела на мелком месте и, еле переводя дух, старалась подняться на ноги, отбиваясь в то же время от Роджера, и, как могла, придерживала купальный костюм. На ее беду, костюм, сконструированный из слишком плотного материала, наполнился воздухом и, намокнув в воде, раздулся как шар. Теперь положение мамы стало еще тяжелее, так как ей приходилось управлять этим дирижаблем из оборок и складок. Спас ее Теодор. Он прогнал Роджера и помог маме подняться. После того как мы выпили по стакану вина, чтобы прийти в себя и отметить такое событие (спасение Тезеем Андромеды, как обозначил это Ларри), все пошли купаться. Мама благоразумно сидела на мелком месте. Роджер расположился рядом с нею и грозно рычал на костюм, если он пузырился или хлопал вокруг маминой талии.
Море в ту ночь светилось особенно ярко. Стоило провести рукой по воде, как на море вспыхивала широкая золотисто-зеленая лента застывшего огня, а при прыжке в воду вам казалось, что вы погружаетесь в холодный расплав сверкающего света. Вдоволь наплескавшись, мы вышли на берег, все в огненных струях, и приступили к закускам. Когда к концу ужина были откупорены бутылки, в оливах позади нас, будто по заказу, появилось несколько светлячков — увертюра к представлению.
Сначала там мигали только две или три зеленые точки, плавно скользившие среди деревьев. Но постепенно их становилось больше, и вот уже вся роща освещена фантастическим зеленым заревом. Никогда нам не приходилось видеть такого огромного скопления светлячков. Они носились облаком среди деревьев, ползали по траве, кустам и стволам, кружились у нас над головой и зелеными угольками сыпались на подстилки. Потом сверкающие потоки светлячковпоплыли над заливом, мелькая почти у самой воды, и как раз в это время, словно по сигналу, появились дельфины. Они входили в залив ровной цепочкой, ритмично раскачиваясь и выставляя из воды свои точно натертые фосфором спины. Посреди залива они завертелись хороводом — ныряли, кувыркались, изредка выпрыгивали из воды и снова падали в полыхающие потоки света. Вверху светлячки, внизу озаренные светом дельфины — это было поистине фантастическое зрелище. Мы видели даже светящиеся следы под водой, у самого дна, где дельфины выводили огненные узоры, а когда они подпрыгивали высоко в воздух, с них градом сыпались сверкающие изумрудные капли, и уже нельзя было разобрать, светлячки перед вами или фосфоресцирующая вода.
Почти целый час любовались мы этим ослепительным представлением, а потом светлячки стали возвращаться к берегу и постепенно рассеиваться. Вскоре и дельфины потянулись цепочкой в открытое море, оставляя за собой огненную дорожку, которая искрилась и сверкала и наконец медленно гасла, будто тлеющая ветка, брошенная в залив.

Глава одиннадцатая
Очарованный архипелаг

С каждым днем жара становилась все сильнее. При таком пекле вести «Морскую корову» на веслах до нашего заливчика казалось нам делом изнурительным, и мы купили подвесной мотор. Приобретение этого механизма открыло для нас обширные береговые пространства, так как теперь мы отваживались уходить гораздо дальше, совершая путешествия вдоль изрезанных берегов к самым отдаленным пустынным пляжам, золотым, как кукуруза, или серебряным — будто месяц упал там среди нагромождения камней. Только теперь я узнал, что здесь вдоль берега на целые мили тянется архипелаг мелких островков. Одни из них были довольно обширны, другие же всего лишь большие скалы с пучком случайной зелени на верхушке. По каким-то причинам, разгадать которые я не умел, архипелаг этот очень привлекал морских животных. Везде вокруг островов, в скалистых бухточках и песчаных заливчиках размером с большой стол обитала разнообразнейшая живность. Несколько раз мне удалось соблазнить всех поездкой на эти островки, но там было слишком мало удобных для купания мест, так что вскоре всем надоело жариться на горячих камнях, пока я выуживал, а иногда выкапывал странных и, по их мнению, отвратительных морских обитателей. К тому же островки были расположены слишком близко у берега, иногда их отделял от него пролив не шире двадцати футов, со множеством рифов и скал. Нужна была большая осторожность, чтобы провести «Морскую корову» через эти опасные места и сохранить мотор в целости. Несмотря на мои отчаянные уговоры, поездки туда становились все реже, и я изводился от мыслей обо всех чудесных животных, каких можно было бы поймать в прозрачной воде тех заливчиков. Однако поделать я тут ничего не мог просто потому, что у меня не было лодки. Я выпрашивал разрешение ездить туда на «Морской корове» одному, скажем, раз в неделю, но все — по разным соображениям — были против этого. И вот, когда я уже почти отчаялся, меня вдруг осенила блестящая мысль: близился день моего рождения, и если теперь ловко повести дело, можно получить не только лодку, но и кучу другого снаряжения. Не теряя времени, я постарался довести до сведения всех, что будет гораздо лучше, если они не станут сами выбирать для меня подарки, а послушают, что мне больше всего нужно, тогда ни у кого не будет опасения разочаровать меня. Застигнутые врасплох, они согласились, но потом с некоторым беспокойством стали спрашивать, что же я хочу получить. Я с невинным видом заявил, что еще не очень-то об этом думал, но вот составлю для каждого список, и тогда они могут выбрать из него, что захотят.
На составление списков мне пришлось потратить немало времени и сил, а также придумать уйму психологических уловок. Понимая, например, что мама купит мне все, что я попрошу, я включил в ее список самые необходимые и дорогостоящие вещи: пять деревянных ящиков со стеклянным верхом и пробковой прокладкой для коллекции насекомых; две дюжины пробирок; пять пинт этилового спирта, пять пинт формалина и микроскоп. Составить список для Марго оказалось несколько труднее, так как здесь выбирать надо было все с таким расчетом, чтобы она могла ходить по своим излюбленным магазинам. Поэтому от нее я требовал десять ярдов марли, десять ярдов белого коленкора, шесть больших пачек булавок, два пакета ваты, две пинты эфира, пинцет и два стержня для авторучки. Совершенно бесполезно, рассуждал я со смирением, просить у Ларри такие вещи, как формалин или булавки, но если мой список обнаружит некоторую склонность к литературе, то у меня могут быть неплохие шансы. Поэтому я взял огромный лист бумаги и сплошь исписал его заглавиями, именами авторов, издателей и ценами всех книг по естествознанию, какие только считал нужными, отметив звездочкой те, что будут приняты с особой благодарностью. Теперь у меня оставалась только одна заявка, и я решил, что на Лесли лучше нападать словесно, но момент для этого надо выбирать с большой осторожностью. Мне пришлось ждать несколько дней, прежде чем наступила эта благоприятная, на мой взгляд, минута.
Я только что помог Лесли успешно завершить затеянные им баллистические опыты, где требовалось привязать к дереву старинное, заряжающееся с дула ружье и стрелять из него при помощи длинной пружины, приделанной к спусковому крючку. На четвертой попытке мы достигли того, что Лесли, очевидно, считал успехом: ствол взорвался, и куски металла с жалобным воем разлетелись во все стороны. Лесли был в восторге, он делал многочисленные пометки на обороте конверта, а потом мы вместе отправились собирать остатки ружья. И вот во время этого занятия я спросил как бы невзначай, что он собирается подарить мне ко дню рождения.
— Не думал пока об этом, — ответил он рассеянно, с явным удовлетворением рассматривая скрученный кусок металла. — Мне безразлично… все, что хочешь… выбери сам.
Я сказал, что мне нужна лодка. Понимая, в какую он попал западню, Лесли с возмущением ответил, что лодка — слишком дорогой подарок для дня рождения, во всяком случае ему это не по карману. Я тоже возмутился и сказал, что он сам велел мне выбирать подарок. Да, велел, согласился Лесли, но он вовсе не имел в виду лодку, потому что лодки страшно дорогие. Я сказал, что если человек говорит «все, что хочешь», это значит все, что хочешь, в том числе и лодки, и, во всяком случае, я совсем не думал, что он должен покупать мне лодку. Я просто думал, что, уж если он столько знает о лодках, он может ее построить. Ну а если он считает, что это будет слишком трудно…
— Разумеется, это нетрудно, — неосмотрительно сказал Лесли и поспешно добавил: — Ну… не так уж трудно. Только вот время. Для этого потребуется целая вечность. Подумай, может, нам все-таки лучше выходить с тобой два раза в неделю на «Морской корове»?
Но я был как кремень. Мне нужна лодка, и я готов ждать ее.
— Ладно, ладно, — рассердился Лесли. — Сделаю тебе лодку. Но пока я буду ее строить, чтоб не вертелся около меня, понял? Держись от меня подальше. Увидишь ее только тогда, когда она будет совсем готова.
Я с радостью согласился на такие условия. И вот в течение двух недель Спиро без конца привозил на своей машине доски, а с задней веранды вместе с визгом пилы и стуком молотка неслись громкие проклятия. Весь дом был засыпан стружками, и, где бы ни появлялся Лесли, он всюду оставлял следы опилок. Я без особого труда сдерживал свое нетерпение и любопытство, потому что как раз в то время для меня нашлось еще одно дело. У нас только что закончился какой-то ремонт на задней стороне дома, и после него осталось три мешка чудесного розового цемента. Я тут же присвоил цемент себе и взялся за устройство маленьких прудов, где можно было бы держать не только пресноводную фауну, но и всех замечательных морских животных, каких я надеялся поймать на своей новой лодке. Рыть пруды в разгар лета оказалось труднее, чем я думал, но в конце концов мне все же удалось выкопать несколько вполне сносных прямоугольников, и потом, плескаясь в течение двух дней в липкой кашице чудесного кораллового цемента, я совсем ожил. Теперь по всему дому следы из опилок и стружек переплетались с замечательным узором розовых отпечатков.
За день до моего рождения вся семья совершила экскурсию в город. На это было три причины. Во-первых, всем надо было купить для меня подарки, во-вторых, пополнить запасы кладовой. Мы еще давно решили, что не будем приглашать много народу на вечер. К чему нам давка? Самое большое — десять гостей, старательно подобранных. Такое маленькое, но изысканное общество нам больше всего по вкусу. Когда все пришли к единодушному решению, каждый отправился приглашать десять гостей. К сожалению, все пригласили вовсе не одних и тех же людей, за исключением лишь Теодора, который получил пять отдельных приглашений. Только накануне вечера мама вдруг обнаружила, что у нас будет не десять гостей, а сорок пять. Третьей причиной для поездки в город была необходимость свести Лугарецию к зубному врачу. В последнее время зубы были главным несчастьем Лугареции, и доктор Андручелли, заглянув ей в рот и издав серию отрывистых звуков, объявил, что ей надо удалить все зубы, так как они причина всех ее болезней. После целой недели препирательств, омытых потоком слез, нам удалось вырвать у нее согласие, только она отказалась идти к врачу без моральной поддержки. И вот, посадив бледную, залитую слезами Лугарецию с собой в машину, мы поехали в город.
Вернулись мы вечером, измученные и злые. Автомобиль был доверху забит продуктами, а Лугареция, точно труп, лежала у нас на коленях и громко стонала. Было совершенно ясно, что завтра она будет не в состоянии помогать маме готовить угощения или выполнять другую работу по дому. Когда мы обратились за советом к Спиро, он нахмурил брови и как всегда ответил:
— Не беспокойтесь. Предоставьте это дело мне.
Утро было насыщено событиями. Лугареция достаточно оправилась, чтобы взяться за легкую работу. Она ходила за нами по дому, с гордостью показывала кровоточащие провалы в деснах и подробно описывала, какие ей пришлось пережить муки с каждым зубом. Я внимательно осмотрел подарки, выразил всем благодарность, а потом отправился с Лесли к задней веранде, где возвышалось таинственное сооружение, покрытое брезентом. С видом фокусника Лесли сдернул брезент, и я увидел свою лодку. Лучшей лодки, конечно, никогда ни у кого не было. Я смотрел на нее с восторгом. Она стояла передо мной и поблескивала свежей краской — мой резвый конь к очарованному архипелагу.
Лодка имела семь футов в длину и была почти круглая по форме. Как поспешил объяснить Лесли (на случай, если я подумаю, что такая форма вызвана недостатком мастерства), причина заключалась в том, что доски были слишком коротки для каркаса. Объяснение меня вполне удовлетворило. В конце концов такая досадная вещь могла случиться со всяким. Я решительно заявил, что форма у лодки прекрасна, да я и в самом деле так думал. У нее не было ни стройности, ни гладкости, ни того хищного вида, какой бывает у большинства лодок. Она казалась мирной, круглой и какой-то уютной в своей компактности и напоминала мне важного скарабея — насекомое, которое я очень любил. Лесли, обрадованный моим неподдельным восторгом, постарался объяснить, что ему пришлось сделать лодку плоскодонной, так как по разным техническим причинам такая конструкция была самой безопасной. Я сказал, что люблю плоскодонки больше всего, потому что в них можно ставить банки с образцами на дно без всякого риска. Лесли спросил, нравится ли мне окраска лодки, сам он был не очень в ней уверен. Я считал, что именно окраска придавала лодке такой замечательный вид. Внутри лодка была зеленая и белая, а ее пузатые бока со вкусом расписаны белыми, черными и ярко-оранжевыми полосками. Такое сочетание красок показалось мне очень красивым и приятным. Потом Лесли показал мне гладкий кипарисовый шест, предназначенный для мачты, и объяснил, что, пока лодка не будет спущена на воду, его нельзя устанавливать. Сгорая от нетерпения, я предложил спустить лодку не откладывая. Лесли, любивший во всем порядок, сказал, что нельзя спускать судно на воду, не окрестив его сначала. Могу ли я предложить какое-нибудь название? Это была трудная задача, для ее решения пришлось призвать на помощь всех остальных. Они обступили лодку, словно гигантский цветок, и стали шевелить мозгами.
— Не назвать ли ее «Веселый Роджер»? — спросила Марго.
Я с презрением отверг это предложение и объяснил, что мне надо какое-нибудь круглое название, которое бы сочеталось с внешним видом лодки и ее свойствами.
— «Паташон», — рассеянно предложила мама.
Это слово тоже не годилось. Лодка просто была не похожа на Паташона.
— Назови ее «Ковчег», — подал голос Лесли, но я покачал головой.
Все опять безмолвно уставились на лодку. И вдруг меня осенило! Отличное название: «Бутл» — вот как я ее назову. И слово уютное, круглое, и город такой есть, где строят корабли.
— Очень хорошо, милый, — одобрила мама.
— А я только что хотел предложить «Толстогузый», — сказал Ларри.
— Ларри, милый, — укоризненно посмотрела на него мама, — не надо учить мальчика таким вещам.
Я старался обмозговать предложение Ларри. Конечно, название было необычным, но ведь «Бутл» тоже необычное слово. И то и другое, кажется, отвечало и форме и особенностям лодки. После долгих размышлений я наконец решил, как мне поступить. Достав банку с черной краской, я старательно вывел на борту большими подплывающими буквами: «Бутл-Толстогузый». Ну вот, это будет не только необычное, но и аристократическое имя, написанное через дефис. Чтоб успокоить маму, я обещал в разговоре с посторонними называть лодку только «Бутл». Когда вопрос с названием был улажен, мы приступили к спуску лодки на воду. Для этого потребовались объединенные усилия Марго, Питера, Лесли и Ларри, которые снесли лодку вниз, к пристани, в то время как мы с мамой шли сзади с мачтой и бутылочкой вина, чтобы ознаменовать спуск должным образом. В конце пристани все остановились, изнемогая под тяжестью лодки, а мы с мамой принялись откупоривать бутылку.
— Что вы там возитесь? — раздраженно спросил Ларри. — Ради Бога, поторопитесь. Я не привык изображать стапеля.
Наконец нам удалось вытащить пробку, и я внятным голосом объявил, что нарекаю это судно именем «Бутл-Толстогузый», после чего хлопнул бутылкой о пузатый борт, ближе к корме, но так неудачно, что полпинты вина выплеснулось на голову Ларри.
— Осторожно! — возмутился он. — Кого ты собираешься спускать на воду?
С силой размахнувшись, они наконец сбросили лодку с пристани, и та с пушечным выстрелом шлепнулась на свое плоское дно, разбрызгивая во все стороны воду, и потом уверенно запрыгала на волнах. У нее был чуть приметный крен на правый борт, но я великодушно приписал это белому вину, а не мастерству Лесли.
— Ну вот! — командовал Лесли. — Поставим мачту… Марго, держи нос… вот так… Питер, если вы пройдете на корму, мы с Ларри передадим вам мачту… надо только вставить ее вон в то углубление.
Пока Марго лежала на животе, удерживая нос лодки, Питер ловко прыгнул на корму и, широко расставив ноги, приготовился принимать от Ларри и Лесли мачту.
— Эта мачта, Лесс, кажется мне несколько длинноватой, — заметил Ларри, окидывая ее критическим взглядом.
— Ерунда! — ответил Лесли. — Станет на место, будет в самый раз. Ну что, Питер, вы готовы?
Питер кивнул, приосанился, крепко схватил мачту обеими руками и опустил ее в гнездо. Потом отступил назад, отряхнул руки, и «Бутл» со скоростью, удивительной для его габаритов, опрокинулся вверх дном. Питер в своем единственном приличном костюме, который он надел в честь моего дня рождения, исчез под водой почти без всплеска. На поверхности остались только его шляпа, мачта и ярко-оранжевое дно «Бутла».
— Он утонет! Утонет! — закричала Марго, всегда ожидавшая самого худшего.
— Ерунда! Здесь не так уж глубоко, — сказал Лесли.
— Я ведь говорил, что мачта слишком длинная, — сладким голосом проворковал Ларри.
— И вовсе она не длинная, — со злостью огрызнулся Лесли. — Просто этот дурень неправильно ее вставил.
— Не смей называть его дурнем, — сказала Марго.
— Нельзя же приделать двадцатифутовую мачту к такой вот лоханке и думать, что она не перевернется.
— Если ты такой уж умник, почему ты сам не построил лодку?
— Меня никто не просил… К тому же ты считаешься знатоком, хотя я сомневаюсь, чтоб тебя держали на верфях в Клайдсайде.
— Очень смешно! Всегда легче критиковать… А все потому, что этот дурень…
— Как ты смеешь называть его дурнем?
— Ладно, ладно, не стоит ругаться, милые, — миролюбиво говорила мама.
— Но у Ларри такой менторский тон…
— Слава Богу! Он выплыл! — радостно воскликнула Марго, когда перемазанный, мокрый Питер появился на поверхности.
Мы вытащили его из воды, и они с Марго помчались домой, чтобы успеть высушить костюм к вечеру. Остальные, не переставая спорить, отправились следом за ними. Лесли, задетый за живое критикой Ларри, облачился в трусы, взял огромный учебник по конструированию яхт, прихватил рулетку и отправился спасать свое детище. Весь остаток утра он отпиливал от мачты кусок за куском, пока лодка не перестала переворачиваться, однако к тому времени высота мачты едва достигала трех футов. Лесли не мог понять, в чем дело, но обещал поставить новую мачту, как только он разработает все детально. Привязанный к пристани «Бутл» стоял там во всем своем блеске, напоминая бесхвостую пеструю кошку.
Вскоре после ленча явился Спиро. Он привез с собой высокого пожилого человека с внешностью посла. Как объяснил Спиро, это был бывший дворецкий греческого короля, он согласился нарушить свой покой, чтобы помочь нам организовать вечер. После этого объяснения Спиро выставил всех из кухни и остался там наедине с дворецким. Позднее я подкрался к окну и заглянул в него. Дворецкий стоял в жилете посреди кухни и протирал рюмки, а Спиро, нахмурившись и напевая песенку, расправлялся с грудой овощей. Время от времени он подходил к стене, где выстроилось семь жаровен, и дул на угли, заставляя их вспыхивать рубиновым пламенем.
Первым прибыл Теодор в своем лучшем, парадном костюме, сияющих башмаках и на сей раз без всякого снаряжения для сбора коллекций. В одной руке Теодор держал трость, в другой аккуратно перевязанный пакет.
— Ага! Поздравляю с днем рождения, — сказал он, пожимая мне руку. — Я принес тут… э… маленькое… э… напоминание… маленький дар, то есть подарок, чтобы… отметить годовщину… гм.
Сорвав обертку, я с радостью увидел, что это был толстый том под названием «Фауна прудов и рек».
— Думаю, что это будет полезным… гм… дополнением к твоей библиотеке, — сказал Теодор, раскачиваясь на носках. — Тут есть очень интересные сведения о… э… самых распространенных пресноводных обитателях.
Постепенно стали съезжаться и другие гости, заполняя пространство перед домом извозчиками и такси. В большой гостиной и столовой было полно людей. Все говорили, смеялись, а дворецкий (облаченный, к маминому ужасу, во фрак) передвигался от одного гостя к другому, будто почтенный пингвин, и разносил напитки и закуски с таким царственным видом, что у большинства гостей появилось сомнение, действительно ли это дворецкий или просто какой-нибудь гостящий у нас экстравагантный родственник. Внизу, на кухне, среди кастрюлек и сковородок суетился Спиро. Лицо его, раскрасневшееся от пламени жаровен, было нахмурено, он поглощал невероятное количество вина и громко пел песню своим низким голосом. Воздух был пропитан запахами чеснока и трав. Между кухней и гостиной на порядочной скорости носилась Лугареция. Иногда ей удавалось загнать в угол какого-нибудь несчастного гостя и там, подставив ему под самый нос тарелку с едой, подробно описывать свои муки у зубного врача.
Гости все прибывали, и ко мне продолжали поступать подарки. Большинство из них, по-моему, никуда не годилось, так как их нельзя было приспособить для естественнонаучных исследований. Самым лучшим подарком, с моей точки зрения, были два щенка. Их принесли мои деревенские знакомые, жившие в доме неподалеку. Один щенок был коричнево-белый с большими рыжими кругами вокруг глаз, другой угольно-черный и тоже с большими рыжими кругами. Поскольку это был подарок, мои родные, конечно, не могли его не принять. Роджер разглядывал щенков с любопытством и подозрением. Чтобы дать им возможность получше познакомиться друг с другом, я запер их всех в столовой вместе с большой тарелкой разных лакомств. Результат был не совсем тот, которого я ожидал. Когда поток гостей настолько возрос, что нам пришлось распахнуть двери в столовую и впустить туда часть людей, все увидели сидящего на полу хмурого Роджера и двух весело прыгавших вокруг него щенков. Обильно изукрашенный пол не оставлял у нас сомнений, что оба новых пришельца ели и пили в свое полное удовольствие. Ларри предложил назвать их Вьюном и Пачкуном, что сильно возмутило маму, однако имена прижились, и щенки так и остались — Вьюн и Пачкун.
Все прибывавшие гости выплескивались сначала из гостиной в столовую, а потом через стеклянные двери на веранду. Собираясь к нам, некоторые думали, что им придется у нас скучать, но уже примерно через час, увидев, как тут весело, они отправлялись домой и привозили всю свою родню. Вино лилось рекой, воздух посинел от табачного дыма, а смех и шум так перепугали гекконов, что все они попрятались по щелям в потолке. В одном углу комнаты Теодор отважился снять свой пиджак и вместе с Лессом и некоторыми другими развеселившимися гостями отплясывал каламасьяно. От их прыжков и топота пол ходил ходуном. Дворецкого, выпившего, должно быть, чуть больше, чем полагалось, очень увлек этот национальный танец. Отставив в сторону поднос, он тоже присоединился к танцующим и, несмотря на свой возраст, прыгал и стучал ногами не хуже других, так что за спиной у него взлетали фалды фрака. Мама улыбалась какой-то неестественной, отчаянной улыбкой. По одну сторону от нее сидел английский пастор, глядевший на наше веселье со все большим неодобрением, по другую — бельгийский консул, который подкручивал усы и без передышки щебетал над самым ее ухом. Из кухни вышел Спиро, чтобы посмотреть, куда подевался дворецкий, но тотчас же стал танцевать вместе со всеми каламасьяно. По комнате плавали воздушные шары, ударялись о ноги танцующих и неожиданно лопались с оглушительным треском. На веранде Ларри старался разучить с греками несколько самых остроумных английских стихотворных шуток. Оба щенка устроились на ночлег в чьей-то шляпе. Пришел доктор Андручелли и стал извиняться перед мамой за опоздание.
— Это из-за жены, мадам. Она только что произвела на свет младенца, — сказал он с гордостью.
— О, поздравляю, доктор, — сказала мама. — Надо выпить за них.
Море было по-утреннему спокойное, и восток уже начинал алеть, когда мы, зевая, стояли у парадного подъезда, а вдали замирал стук последнего экипажа. Потом я забрался в постель (в ногах у меня Роджер, с каждой стороны по щенку, вверху, на карнизе, распушил свои перья Улисс). Я смотрел через окно на небо, где розовая краска, разливаясь над верхушками олив, гасила звезды одну за другой, и думал, что в общей сложности день моего рождения прошел очень даже хорошо. Рано утром я упаковал снаряжение, взял немного еды и в компании Роджера, Вьюна и Пачкуна отправился в вояж на «Бутле». Море было спокойное, на ярко-синем небе сияло солнце, дул легкий ветерок. Это был идеальный день. «Бутл» двигался с благородной неторопливостью, на носу его, точно вахтенный, сидел Роджер. Вьюн с Пачкуном носились от одного борта к другому, боролись, норовили перегнуться через борт, чтобы хлебнуть воды, и вообще вели себя по-сухопутному, как самые жалкие новички. Какая радость иметь собственную лодку! Приятно сознавать свою силу, когда ты сидишь на веслах и чувствуешь, как лодка продвигается вперед, рассекая воду с таким звуком, будто рвется шелк; солнце ласково греет спину и зажигает на поверхности моря сотни разноцветных огней; ты с трепетом прокладываешь себе путь сквозь сложный лабиринт покрытых водорослями рифов, мерцающих почти у самой поверхности воды. Я даже с удовольствием рассматривал образовавшиеся у меня на ладонях волдыри, отчего руки мои стали неловкие и непослушные. Хотя потом я все время плавал на «Бутле» и пережил немало приключений, но с этой первой поездкой ничто сравниться не могло. И море тогда было синéе, и вода прозрачнее, чем всегда, и залитые солнцем острова казались более уединенными и более прекрасными, и морские животные как будто специально собрались в бухточках и проливчиках, чтобы приветствовать меня и мою новую лодку. Футах в ста от одного маленького островка я поднял весла, пробрался на нос, лег там рядом с Роджером и стал разглядывать сквозь толщу кристально-прозрачной воды морское дно, в то время как «Бутл» продолжал плыть к берегу с легкостью целлулоидной утки. Его похожая на черепаху тень скользила по дну, и передо мной развертывался многоцветный живой ковер из морских обитателей. На серебристых песчаных прогалинах гроздьями торчали приоткрытые раковины моллюсков-разинек. Иногда между их жесткими краями виднелся крохотный бледно-кремовый краб-горошинка, хилое, дегенеративное создание с мягкой скорлупой, живущее паразитической жизнью под защитой волнистых створок крупных раковин. Интересно было поднять тревогу в колонии этих моллюсков. Когда они оказывались как раз под моей лодкой, я осторожно опускал в воду ручку от сачка для бабочек и слегка постукивал по раковине. Створки моментально защелкивались, от их движения взметалось облачко белого песка, закручиваясь маленьким смерчем. Когда сигналы тревоги распространялись по воде, все остальные раковины в колонии, и справа и слева, в одно мгновенье захлопывались, повсюду взвивались маленькие вихри песка и потом серебряной пылью снова оседали на дно. Рядом с моллюсками обитали серпулиды — венчики красивых пушистых лепестков на конце длинной, толстой трубки сероватого цвета. Всегда подвижные, золотисто-оранжевые и голубые лепестки казались удивительно не на месте на конце этих толстых обрубков — прямо орхидея на ножке гриба. У серпулид тоже существовала система для приема сигналов тревоги, только гораздо чувствительней, чем у разинек. Палка сачка была еще в шести дюймах от водоворота мерцающих лепестков, а они все вдруг вытянулись кверху, сцепились в пучок и стремительно упали внутрь ствола, так что из песка теперь торчали лишь невзрачные столбики, похожие на куски миниатюрного шланга. На рифах, покрытых слоем воды всего на несколько дюймов и обнажавшихся во время отливов, скапливалось огромное количество животных. Из углублений на вас таращились и махали плавниками надутые морские собачки со своими толстыми негритянскими губами, придающими их мордочкам дерзкое выражение. В тенистых трещинах среди водорослей виднелись кучки морских ежей, похожих на плоды конских каштанов в блестящей бурой кожуре. Их иглы, словно стрелки компаса, поворачивались в направлении возможной опасности. Кругом лепились пухлые, глянцевитые актинии, щупальца их исполняли какой-то чувственный восточный танец, пытаясь схватить проплывавших мимо прозрачных как стекло креветок. Из темных подводных пещер я выгнал маленького осьминога. Заливаясь темно-бурой краской, он, как Медуза-Горгона, опустился на камни и глядел на меня довольно грустными глазами из-под купола своей лысой головы. Стоило мне чуть пошевелиться, как он выбросил облако темных чернил, расплывшихся в прозрачной воде, и под его прикрытием пустился наутек. Вытянув назад щупальца, он несся по воде, будто воздушный шар с вымпелом. На поверхности рифов встречались толстые зеленые крабы, машущие клешнями как бы в дружеском приветствии, а внизу, на покрытом водорослями дне, — крабы-пауки с их необычным, колючим панцирем и длинными тонкими ногами. Каждый из этих крабов носит на себе водоросли, губки, иногда актинию. Везде на рифах, среди скоплений водорослей и на песчаном дне двигались сотни раковин-волчков, искусно расписанных полосками и пятнами синего, серебряного, серого и алого цвета, а из-под них выглядывала довольно сердитая красная физиономия рака-отшельника. Раковины передвигались, будто нескладные фургончики, сталкивались друг с другом, пролезали сквозь водоросли или быстро проносились по песчаному дну среди торчащих разинек и горгонарий. Солнце склонялось к западу. Вода в заливчиках и под руинами коралловых замков становилась шиферно-серой от вечерних теней. Я направлялся домой. Чуть поскрипывали весла, и «Бутл» медленно продвигался вперед. Вьюн с Пачкуном крепко спали, истомленные солнцем и морским воздухом. Лапы у них подергивались, рыжие пятна вокруг глаз шевелились, когда щенки бегали во сне за крабами среди нескончаемых рифов. Роджер сидел в окружении стеклянных банок и пробирок, где плавали крохотные рыбки, шевелились щупальца актиний, крабы-пауки упирались тонкими клешнями в стенки своей стеклянной тюрьмы. Роджер с опасением заглядывал в банки, изредка вскидывал на меня глаза и, торопливо вильнув хвостом, снова погружался в свои исследования. Морская фауна страстно увлекала его. Солнце уже пряталось за стволами олив и на море лежали золотые и серебряные полосы, когда круглая корма «Бутла» легонько толкнулась в пристань. Голодный, усталый, умирающий от жажды, с вихрем разнообразных впечатлений в голове, я медленно взбирался вверх по склону, и следом за мной плелись три полусонные собаки.

Глава двенадцатая
Беспокойная зима
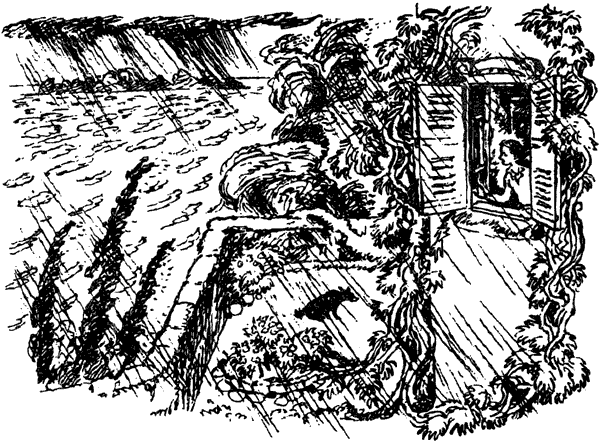
В конце лета я, к немалой своей радости, вновь оказался без учителя. К тому времени мама обнаружила, что Марго и Питер, по ее деликатному определению, «чересчур влюбились друг в друга». Поскольку все остальные были единодушны в своем осуждении Питера как возможного родственника в будущем, что-то надо было предпринимать. Единственным вкладом Лесли в разрешение этой проблемы было предложение застрелить Питера, но оно по некоторым причинам не было принято всерьез. Мне эта мысль показалась блестящей, однако я был в меньшинстве. Предложение Ларри отправить счастливую пару на месяц в Афины и тем самым, как он объяснил, вылечить их, мама отвергла на том основании, что это было бы безнравственно. Она решила просто рассчитать Питера, и тот немедленно скрылся, а нам пришлось иметь дело с трагическими переживаниями, слезами и бурными протестами Марго, которая, задрапировавшись в темные одежды, исполняла свою роль блистательно. Мама утешала ее, говорила ей всякие ласковые банальности, Ларри читал ей лекции о свободной любви, а Лесли неизвестно почему решил играть роль оскорбленного брата. Он появлялся время от времени, размахивал пистолетом и угрожал пристрелить Питера как собаку, если тот еще раз переступит порог нашего дома. Залитая слезами Марго делала трагические жесты и говорила нам, что жизнь ее разбита. Спиро, как и всякий человек, любивший драматические ситуации, из сочувствия проливал слезы вместе с нею и рассылал по всем пристаням своих многочисленных друзей, беспокоясь, как бы Питер не вернулся снова на остров. События эти доставляли всем нам огромное удовольствие. Как раз в тот момент, когда они вроде бы подходили к своему естественному концу и Марго уже могла съесть целый обед, не разразившись слезами, пришла записка от Питера, извещавшего, что он вернулся за нею. Охваченная паникой Марго показала записку маме, и вся семья с восторгом бросилась разыгрывать новый фарс. Спиро усилил охрану пристаней. Лесли смазал свои ружья и упражнялся в стрельбе по вырезанной из картона человеческой фигуре, укрепив ее на фасаде дома, Ларри то уговаривал Марго переодеться крестьянкой и бежать в объятия к Питеру, то советовал выбросить дурь из головы. Обиженная Марго заперлась на чердаке, не желая никого впускать, кроме меня, так как я был единственный член семьи, который не становился ни на чью сторону. Она лежала там, залитая слезами, и читала томик стихов Теннисона. Иногда Марго прерывала это занятие и набрасывалась на еду (которую я приносил ей на подносе), поглощая ее с завидным аппетитом.
На чердаке Марго просидела неделю. Вывело ее оттуда событие, ставшее кульминационным пунктом всей этой истории. Лесли обнаружил, что с «Морской коровы» исчезли кое-какие мелкие вещи, и заподозрил рыбаков, проплывавших ночью мимо пристани. Решив как следует проучить воров, он привязал к окну своей спальни три длинноствольных дробовика, нацеленных вниз, на пристань. При помощи хитроумного приспособления Лесли мог выстрелить из всех стволов по очереди, не вставая даже с постели. Расстояние, конечно, было слишком велико, чтобы причинить какой-либо вред, но свист дроби, пробивающей листья олив, и всплески воды, когда дробинки посыплются в море, будут, думал он, достаточно хорошим отпугивающим средством. Лесли был так упоен своим блестящим замыслом, что никому даже о нем не сказал.
Вечером мы все разошлись по своим комнатам и занялись каждый своим делом. В доме наступила тишина. Снаружи в теплом ночном воздухе раздавался тихий треск сверчков. Неожиданно весь дом задрожал от оглушительных выстрелов, прогремевших друг за другом, и внизу залаяли все собаки. Я выскочил на лестничную площадку, где было уже настоящее столпотворение: собаки, примчавшиеся сюда в полном составе, чтобы принять участие в общем веселье, прыгали во все стороны и заливались визгливым лаем. Мама с безумным лицом выскочила из спальни в своей пышной ночной рубашке, решив, что это Марго покончила жизнь самоубийством. Разъяренный Ларри вылетел из своей комнаты, желая узнать причину шума, а Марго, уверенная, что это Лесли застрелил вернувшегося за нею Питера, никак не могла открыть замок на чердаке и вопила не своим голосом.
— Она сделала глупость, она сделала глупость, — причитала мама, изо всех сил стараясь оторвать от себя Вьюна и Пачкуна, которые с сердитым рычанием тянули ее за край рубашки, вообразив, что все это просто веселая ночная игра.
— Всему есть предел… Нельзя даже поспать спокойно, — ревел Ларри. — Эта семья сведет меня с ума.
— Не троньте его… оставьте его в покое… трусы несчастные, — доносился пронзительный, плаксивый голос Марго, которая все еще отчаянно пыталась отпереть дверь чердака.
— Успокойтесь… Это только грабители, — выкрикнул Лесли, распахивая дверь своей комнаты.
— Она еще жива… жива… отцепите этих собак…
— Как вы смеете его убивать? Выпустите меня отсюда, выпустите…
— Не шуми, это только грабители…
— Целый день взрывы и звери, потом эта чертова пальба, дюжина салютов посреди ночи… Нет, оригинальность заходит слишком далеко…
Мама наконец пробилась к чердаку, волоча за собой щенков, вцепившихся в край ее ночного одеяния, и, вся бледная и дрожащая, распахнула дверь, оказавшись лицом к лицу с такой же бледной и дрожащей Марго. После долгой неразберихи мы выяснили наконец, что произошло и что каждый из нас думал. Мама, у которой зуб на зуб не попадал от нервной дрожи, строго отчитывала Лесли.
— Нельзя делать таких вещей, милый, — говорила она. — Это просто глупо. Если ты собираешься палить из своих ружей, предупреждай нас по крайней мере.
— Да, — оживился Ларри, — сделай нам такое небольшое предупрежденьице. Крикни «полундра», что ли.
— Не понимаю, как можно захватить грабителей врасплох, если я стану выкрикивать предупреждения, — обиделся Лесли.
— Черт меня побери, если я понимаю, почему нас-то всех надо захватывать врасплох, — сказал Ларри.
— Ты можешь позвонить в звонок или что-нибудь там еще. Только, пожалуйста, милый, не делай так больше… Я от этого прямо заболеваю.
Однако событие это вытащило Марго с чердака, что, по словам мамы, уже было благом.
Хотя Марго стала теперь здороваться со всеми, она по-прежнему предпочитала лечить свое разбитое сердце в одиночестве, удаляясь куда-нибудь на долгое время в обществе одних только собак. Когда начал задувать свирепый осенний сирокко, она решила, что лучше всего ей уединяться на небольшом островке в заливе, как раз против нашего дома, примерно в полумиле от берега. И вот однажды она отвязала «Бутла» (без моего разрешения), впихнула туда собак и направилась к острову помечтать о любви.
Только часам к пяти с помощью полевого бинокля мне удалось обнаружить, куда делась моя лодка и вместе с нею Марго. Разозлившись, я по глупости сообщил маме о местонахождении Марго и добавил, что она не имеет права брать мою лодку без спросу. Кто мне построит новую, если «Бутл» потонет? Сирокко уже завывал вокруг дома, словно стая волков. Мама, охваченная сильной тревогой за судьбу, как я было подумал, моей лодки, бросилась наверх, схватила полевой бинокль и, высунувшись из окна, стала разглядывать залив. Лугареция, рыдая и заламывая руки, тоже поднялась наверх, и теперь они обе вне себя от беспокойства бегали от окна к окну и всматривались в кипящий белой пеной залив. Мама хотела немедленно послать кого-нибудь на спасение Марго, но послать было некого. Ей оставалось только сидеть на окне и не выпускать из рук бинокля, в то время как Лугареция возносила молитвы святому Спиридиону и рассказывала маме длинную и сложную историю о том, как ее дядя утонул вот при таком же сирокко. К счастью, в рассказе Лугареции мама из семи слов могла понять только одно.
Через некоторое время Марго, очевидно, решила, что ей лучше вернуться домой, пока сирокко не стал еще свирепее. Мы увидели, как она пробирается среди деревьев к тому месту, где на причале метался и прыгал «Бутл». Марго продвигалась очень медленно и как-то странно. Два раза она падала, потом ярдах в пятидесяти от лодки остановилась и стала кружиться на месте. Должно быть, никак не могла увидеть лодку. По лаю Роджера она наконец отыскала ее, но тут ей долго пришлось провозиться со щенками, не желавшими занять свои места. Они не возражали прокатиться на лодке в хорошую погоду, но в бурном море не бывали ни разу и теперь не горели желанием там побывать. Когда Вьюн был благополучно водворен в лодку, Марго повернулась к Пачкуну. Пока она ловила его, Вьюн снова выскочил на берег, и так повторялось несколько раз, но потом ей все же удалось загнать обоих щенков, она прыгнула вслед за ними и принялась энергично грести, пока не заметила, что у нее не отвязана лодка.
Затаив дыхание, мама следила, как «Бутл» продвигался по заливу.
Лодка сидела низко в воде и не всегда была видна. Как только она исчезала за особенно высокой волной, мама в тревоге замирала, уверенная, что лодка со всей командой пошла ко дну. Потом отважный оранжево-белый шарик снова появлялся на гребне волны, и мама переводила дыхание. Марго шла каким-то особенным курсом. «Бутл» вертелся в разные стороны по всему заливу, и иногда даже его нос обращался к Албании. Два или три раза Марго неуверенно поднималась на ноги, внимательно оглядывала горизонт, прикрыв глаза ладонью, потом садилась на место и снова начинала грести. Когда лодка оказалась наконец на расстоянии оклика от берега (скорее по воле случая, чем по воле Марго), мы все спустились к пристани и сквозь шум волн и рев ветра стали подавать всякие советы. Следуя нашим указаниям, Марго доблестно гребла к берегу, и вскоре лодка с такой силой стукнулась о пристань, что мама чуть не упала в воду. Собаки выскочили из лодки и стрелой понеслись вверх по склону, опасаясь, должно быть, что их заставят совершить еще одно путешествие с тем же капитаном. Когда с нашей помощью Марго вышла на берег, нам стала ясна причина ее странного мореходства. Приехав на остров, она сразу растянулась на солнышке и крепко заснула. Разбудил ее шум ветра. После трехчасового сна на жарком солнце глаза ее сильно распухли и заплыли, так что она с трудом различала предметы вокруг себя. Ветер и брызги довершили дело, и, когда Марго добралась до пристани, она уже вообще ничего не видела. Кожа у нее сгорела до красноты, а веки так раздулись, что теперь она стала похожа на очень свирепого раскосого пирата.
— Знаешь, Марго, я иногда думаю, в здравом ли ты уме, — сказала мама, промывая ей глаза холодным чаем. — Ты ведешь себя ужасно глупо.
— Все это вздор, мама! — отозвалась Марго. — Вечно ты поднимаешь шум из-за пустяков. Такое могло случиться с кем угодно.
Но это происшествие, видимо, исцелило разбитое сердце Марго, так как она больше не совершала одиноких прогулок и не уплывала на лодке. Ее поведение снова стало нормальным, насколько это было возможно для Марго.
Зима на острове наступает исподволь. Небо еще было ясное, море спокойное и синее, солнце по-летнему теплое. Но что-то уже переменилось в воздухе. Густо устилавшие землю желтые и красные листья радостно шептались между собой, перебегали с места на место и пестрым хороводом кружились среди деревьев. Как будто они пробовали свои силы, как будто готовились к чему-то и говорили об этом взволнованными, шуршащими голосами, столпившись вокруг дерева. Птицы тоже собирались небольшими стайками, ерошили свои перышки, щебетали раздумчиво. Весь воздух затаился в ожидании, будто огромный зал перед поднятием занавеса. Потом в одно прекрасное утро вы открываете ставни, бросаете поверх оливковых деревьев через голубые воды залива взгляд на рыжевато-бурые горы материка и узнаете, что настала зима, потому что на каждой вершине надета снежная шапочка. Ожидание теперь становится все напряженней почти с каждым часом.
Через несколько дней белые облачка открыли свой зимний парад. Мягкие и округлые, длинные и растрепанные или маленькие и кудрявые, они разбегались по небу, словно стадо овец, подгоняемые сзади ветром. Сначала ветер был теплый и дул легкими порывами, играл серебристой листвой в оливковых рощах, тихо раскачивал кипарисы, взвивал вдруг веселым вихрем опавшие листья. Он задорно трогал перья на спине воробьишек и без предупреждения бросался на чаек, так что те внезапно останавливались в воздухе, стараясь выгнуть против ветра свои белые крылья. Хлопали ставни, начинали вдруг дребезжать двери. Но дни все еще стояли солнечные, море было спокойное, а горы в своих разорванных снежных шапках по-летнему смуглые и умиротворенные.
Ветер ласково играл с островом примерно с неделю, похлопывал его, поглаживал, распевая средиголых ветвей. Потом наступило затишье, несколько удивительно спокойных дней, и вдруг, когда вы меньше всего ожидали, ветер вернулся снова. Но это был уже совсем другой ветер, сердитый, свистящий, ревущий ветер, который набросился на остров и хотел смести его в море. Тонкая серая пелена растянулась над землей, голубое небо исчезло. Море стало темно-синим, почти черным, и покрылось белыми барашками. Кипарисы метались по небу темными маятниками, оливковые деревья (все лето такие окаменелые, такие неподвижные, будто их заколдовали) были охвачены безумием, скрипели на своих толстых, корявых стволах, шумели перламутрово-зеленой листвой. Так вот о чем шептались опавшие листья, вот к чему готовились! Теперь они взлетали высоко в воздух и кружились там в ликующем вихре, а потом, когда ветер, утомленный этой игрой, оставлял их, они плавно опускались вниз и без сил падали на землю. Вслед за ветром приходили дожди, но это были теплые дожди, приятные для прогулок. Крупные, тяжелые капли барабанили по ставням, выбивали дробь на виноградных листьях, мелодично журчали в канавах. Реки в Албанских горах вздулись и, сердито оскалив белые зубы, мчались к морю, подмывая свои берега и захватывая обломки стволов, ветки, пучки травы. Они выносили все это летнее наследие в темно-синий залив, где теперь плавала всякая всячина и крутилась пузырями грязь. Пузыри понемногу лопались, море из синего превращалось в желто-бурое. Потом налетал ветер и, разрывая поверхность залива, лепил из воды тяжелые волны, похожие на огромных коричневых львов с белой гривой, которые подкрадывались к берегу и неожиданно бросались на него.
Это была охотничья пора. Крупное озеро Бутринто на материке, покрытое у берегов звенящей корочкой льда, было усеяно стаями диких уток. На бурых склонах гор, размытых дождями, в густых зарослях скрывались зайцы, косули, кабаны, кормившиеся корневищами и луковицами, вырытыми из мерзлой земли. На острове среди болот и озерков бродили бекасы, ковыряли землю своими упругими длинными клювами и вспархивали у вас из-под ног со звоном летящей стрелы. В оливковых рощах, в миртовых зарослях прятались неуклюжие, жирные вальдшнепы. Потревоженные, они с оглушительным треском крыльев снимались с места и уносились прочь, как осенние листья по ветру.
Лесли в ту пору был в безумном упоении. С компанией таких же страстных охотников он раз в две недели ездил на материк и возвращался домой с огромной кабаньей тушей, связками окровавленных зайцев и большими корзинами, полными пестрых уток. Грязный, небритый, пропахший ружейным маслом и кровью, Лесли с сияющими глазами излагал нам подробности охоты. Шагая по комнате, он изображал, где и как он сам стоял, где и как вышел из укрытия кабан, грохот выстрела, эхом раскатившийся по горам, легкий удар пули и предсмертные сальто кабана, упавшего в вереск. Он описывал все это с такой живостью, что нам казалось, будто мы сами присутствовали на охоте. То он был кабаном, пробовал ветер, тревожно метался среди камышей, глядел из-под щетинистых бровей и прислушивался к суете загонщиков и собак, то одним из загонщиков, который осторожно пробирается сквозь высокую траву и кустарник, смотрит то в одну, то в другую сторону и издает странный булькающий крик, подымая дичь. Потом, когда кабан выходил из укрытия и, пыхтя, бросался вниз по склону, Лесли вскидывал к плечу воображаемое ружье и стрелял. Ружье, как настоящее, отдавало ему в плечо, а в углу комнаты кувыркался кабан и замертво падал на землю.
Мама не придавала особого значения охотничьим вылазкам Лесли, пока он не принес своего первого кабана. Оглядев громадную мускулистую тушу и острые клыки, приподнявшие верхнюю губу в сердитом оскале, мама слегка оторопела.
— Боже мой! — воскликнула она. — Я просто не представляла, что они такие огромные. Надеюсь, ты будешь вести себя осторожно, милый.
— Никакой опасности, — сказал Лесли, — если только он не выйдет из укрытия прямо перед вашим носом. Вот тогда будет горячее дельце, потому что, если вы промахнетесь, он насядет на вас.
— Это очень опасно, — сказала мама. — Я не представляла, что они такие огромные… Такому зверю ничего не стоит убить или ранить тебя, милый.
— Нет, нет, мама. Это совершенно безопасно, если только он не выйдет перед носом.
— Не вижу никакой опасности даже и в таком случае, — сказал Ларри.
— Это почему же? — спросил Лесли.
— Ну, если он бросится на тебя и ты промахнешься, почему бы тебе не перепрыгнуть через него?
— Что за чепуха, — усмехнулся Лесли. — Эти зверюги достигают трех футов в плечах и проворны как черти. Ты просто не успеешь перепрыгнуть через них.
— Ну почему же? — сказал Ларри. — Мне кажется, что не труднее, чем прыгнуть через стул. Если нельзя перепрыгнуть просто так, можно перепрыгнуть с каким-нибудь упором.
— Все это болтовня. Ты просто не видел, как они несутся. Через них нельзя перепрыгнуть ни так, ни этак.
— Вам, охотникам, всегда не хватает воображения, — сказал Ларри. — У меня на этот счет немало превосходных мыслей, вам бы только пользоваться ими. Но нет, вы отвергаете все, не задумываясь.
— Вот поедешь с нами в следующий раз, — предложил Лесли, — и покажешь, как это делается.
— Я вовсе не силач с волосатой грудью, — холодно заметил Ларри. — Я живу в мире идей, мое дело — производить мысли, так сказать. Я предоставляю свой мозг в ваше распоряжение, создаю планы и замыслы, а уж вы, люди с мускулами, их реализуете.
— Да, только я не собираюсь реализовывать этот твой план, — уверил его Лесли.
— Это было бы безрассудно, — сказала мама. — Не делай глупостей, милый. А ты, Ларри, не вбивай ему в голову опасных мыслей.
Ларри всегда был переполнен мыслями обо всем, чего не ведал на практике. Мне он давал советы о лучшем способе изучения природы, Марго — о нарядах, маме — о том, как вести хозяйство и не превышать кредита в банке, Лесли — об охоте. Сам он при этом был в полной безопасности, так как отлично знал, что никто из нас не сможет отплатить ему тем же — не даст ему совета, как лучше всего писать. Всякий раз, когда у кого-нибудь в семье появлялась трудная задача, Ларри знал наилучший способ ее решения, а если кто-то хвалился своими успехами, Ларри никогда не понимал, из-за чего поднимается столько шума, ведь дело совсем пустяковое, нужно только приложить к нему мозги. Именно это свойство характера Ларри стало однажды причиной пожара в доме.
Лесли только что вернулся с охоты, нагруженный дичью и весь сияющий от гордости. Как он нам объяснил, первый раз в жизни ему удалось выстрелить дуплетом. Однако, прежде чем мы смогли в полной мере оценить все великолепие его свершений, ему пришлось растолковать нам это подробно. На языке охотников «дуплет», очевидно, означал — убить двух птиц или двух животных сразу друг за другом, сначала из левого ствола, потом из правого. Лесли стоял на каменном полу посреди большой кухни, освещенной красными отсветами жаровен, и объяснял нам, как на холодной заре стая уток снимается с места и закрывает все небо. С резким шумом крыльев они проносятся над головой, и Лесли стреляет, прицелившись в вожака, затем мгновенно переводит ружье на вторую птицу, стреляет снова, и, когда он опускает дымящееся ружье, обе утки шлепаются в воду почти одновременно. Сгрудившись в кухне, мы все с разинутыми ртами слушаем его живописный рассказ. На широком некрашеном столе горою навалена дичь, мама и Марго ощипывают пару уток к обеду, я обследую разные виды и делаю заметки в своем дневнике (который быстро покрывается пятнами крови и перьями), а Ларри сидит на стуле с красивой уткой на коленях, гладит ее упругие крылья и наблюдает, как Лесли, забравшись по пояс в воображаемое болото, третий раз показывает нам, каким образом ему удалось произвести дуплет.
— Очень хорошо, милый, — сказала мама, когда Лесли описал сцену в четвертый раз. — Наверное, это очень трудно.
— Не понимаю, почему, — отозвался Ларри.
Лесли, который только что собрался рассказать обо всем еще раз, остановился и посмотрел на небо.
— Ах, не понимаешь? — воинственно спросил он. — А что ты вообще в этом смыслишь? Ты с трех шагов не попадешь в ствол оливы, не то что в летящую птицу.
— Мой дорогой мальчик, — сказал Ларри своим самым противным медовым голосом. — Я не принижаю твоих достоинств. Я просто не понимаю, почему считается трудновыполнимым то, что лично мне кажется делом совсем легким.
— Легким? Если бы ты хоть когда-нибудь занимался охотой, ты бы не считал ее легким делом.
— Не понимаю, зачем для этого нужно заниматься охотой. Мне кажется, тут просто надо не терять хладнокровия и получше целиться.
— Какая чушь! — разозлился Лесс. — Тебе всегда кажется простым то, что делают другие.
— Это наказание за многосторонность, — вздохнул Ларри. — Все оказывается до смешного простым, за что бы я ни взялся. Поэтому я и не понимаю, зачем столько шуметь из-за самого обыкновенного меткого выстрела.
— До смешного простым, за что бы ты ни взялся? — скептически повторил Лесли. — Я еще ни разу не видел, чтобы ты когда-нибудь брался за то, что другим советуешь.
— Гнусная клевета, — сказал уязвленный Ларри. — Я всегда готов доказать, что мои идеи верны.
— Очень хорошо. Тогда посмотрим на твой дуплет.
— Разумеется. Ты обеспечиваешь ружье и дичь, а я демонстрирую тебе, что для этого не требуется особых талантов. Тут нужен деятельный ум, способный все взвесить и решить задачу математически.
— Отлично. Завтра мы идем на болото за бекасами, и ты сможешь пустить в ход свой деятельный ум.
— Мне не доставит удовольствия избиение птиц, которые чахнут прямо с самого рождения, — сказал Ларри, — но поскольку задета моя честь, придется принести их в жертву.
— Если ты убьешь хоть одну, считай, что тебе повезло.
— Право же, дети, вы спорите о сущих пустяках, — философски заметила мама, стирая перья со стекол очков.
— Я согласна с Лессом, — выпалила Марго. — Ларри очень любит указывать людям, как что делается, а сам никогда ничего не делает. Ему будет полезно получить урок. Лесс просто молодец. Сумел убить двух птиц одним махом, или как там это называется?
Лесли, решив, что Марго неверно оценила его доблесть, пустился еще раз в более подробное описание эпизода.
Всю ночь шел дождь, так что на следующее утро, когда мы отправлялись смотреть, как Ларри будет совершать свой подвиг, под ногами хлюпала грязь и мокрая земля пахла, словно кекс с изюмом. Ради торжественного случая Ларри прикрепил к своей шляпе из твида огромное индюшиное перо и стал похож на маленького, осанистого и очень величественного Робин Гуда. Всю дорогу до болот, где собирались бекасы, он громко на что-нибудь жаловался. Ему было холодно, скользко, он не понимал, почему Лесли не поверил ему на слово без этого смехотворного фарса, ружье у него было тяжелое, и дичи там, наверно, не окажется, потому что в такой холодный день, как сегодня, никто не высунет носа наружу, разве что какой-нибудь слабоумный пингвин. С холодной жестокостью мы гнали его к болоту и оставались глухи ко всем жалобам и протестам.
Болото это образовалось на дне небольшой долины — акров десять плоской земли, которая в весенние и летние месяцы обрабатывалась. Зимой ей давали зарасти, и тогда она превращалась в лес тростника и травы, прорезанный ирригационными канавами, до краев полными воды. Эти канавы сильно затрудняли охоту. Они были слишком широки, чтобы их перепрыгнуть, и вброд их не перейдешь, так как в них было футов на шесть жидкой грязи и сверху еще четыре фута грязной воды. Кое-где их пересекали узкие дощатые мостики, в большинстве случаев подгнившие и шаткие, но только благодаря им можно было передвигаться по болоту. Во время охоты нам приходилось делить свое время между выискиванием дичи и поисками очередного моста.
Едва мы пересекли первый мостик, как из-под ног у нас с шумом взлетели три бекаса и понеслись прочь, раскачиваясь при полете из стороны в сторону. Ларри вскинул ружье и нажал на собачку. Курки спустились, но выстрела не последовало.
— По идее, его надо бы зарядить, — с тихим торжеством произнес Лесли.
— Я думал, ты его зарядил, — со злостью ответил Ларри. — Все-таки ты исполняешь роль оруженосца. Я бы подстрелил эту пару, если бы не твоя дурацкая нерасторопность.
Он зарядил ружье, и мы снова побрели сквозь заросли тростника. Впереди нас, в какую бы сторону мы ни шли, все время раздавалась несносная болтовня двух сорок, предупреждавших дичь. Ларри чертыхался, проклинал сорок, а они, громко болтая, продолжали лететь впереди, пока не довели его до отчаяния. Он остановился у маленького мостика, нависшего над полоской спокойной воды, и со злостью спросил:
— Нельзя ли что-нибудь сделать с этими птицами? Они же распугают всю дичь на многие мили вокруг.
— Только не бекасов, — сказал Лесли. — Бекасы будут сидеть до тех пор, пока ты на них не наступишь.
— Я думаю, дальше идти незачем, — сказал Ларри. — Это все равно что выслать вперед духовой оркестр.
Он сунул ружье под мышку и сердито двинулся к мосту. Вот тут все и произошло. Ларри достиг как раз середины скрипучей, шаткой доски, когда из высокой травы с другой стороны моста выпорхнули вдруг два бекаса. От волнения Ларри забыл о своей необычной позиции. Он схватился за ружье и, еле удерживая равновесие на танцующем мосту, выпалил из обоих стволов. Ружье загрохотало и отдало назад, бекасы умчались целые и невредимые, а Ларри с криком ужаса полетел в канаву.
— Держи ружье над головой! Держи ружье над головой! — ревел Лесли.
— Не вставай на ноги, а то тебя затянет! — визжала Марго. — Не двигайся!
Но у Ларри, распростертого на спине, была только одна мысль: убраться отсюда как можно скорее. Он сначала сел, потом попытался подняться на ноги, опираясь при этом, к ужасу Лесли, на ружейные стволы. Когда ему удалось выпрямиться среди бурлящей и хлюпающей грязи, ружье совсем скрылось из виду, и Ларри провалился по пояс.
— Смотри, что ты сделал с ружьем! — выходил из себя Лесли. — Ты забил мне грязью стволы.
— А что же я, по-твоему, должен делать? — огрызнулся Ларри. — Лежать здесь и тонуть? Дай мне, ради Бога, руку.
— Вытащи ружье, — с яростью сказал Лесли.
— Стану я спасать твое ружье, если ты меня не спасаешь! — вопил Ларри. — Будь оно проклято! Я не тюлень… Вытащи меня отсюда!
— Вот идиот! — орал Лесли. — Протяни мне конец ружья, тогда я смогу тебя вытащить. Иначе я не достану.
Ларри торопливо пошарил под водой и погрузился еще на несколько дюймов, прежде чем вытащил ружье, залепленное черной вонючей грязью.
— Господи Боже мой! Вы только взгляните на него, — стонал Лесли, обтирая ружье носовым платком. — Только взгляните!
— Может, ты перестанешь причитать над этим гнусным оружием и вытащишь меня отсюда? Или ты хочешь, чтобы меня в некотором роде постигла судьба Шелли, чтобы я утонул тут в грязи?
Лесли протянул ему конец ружья, и мы все дружно стали тянуть. Кажется, это не возымело никакого действия, разве что Ларри погрузился еще глубже, когда мы выбились из сил и перестали тянуть.
— Вам надо спасать меня, — напомнил Ларри, — а не отправлять на тот свет.
— Да перестань ты болтать и попробуй подтянуться, — сказал Лесли.
— А что я все время делаю, скажи на милость? Я уже разорвался в трех местах.
Наконец после невероятных усилий грязь издала протяжный громкий вздох, Ларри выскочил на поверхность, и мы подтащили его к берегу. Весь покрытый черной вонючей слякостью, он был похож на шоколадного солдатика у доменной печи и таял прямо у нас на глазах.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Марго.
Ларри яростно посмотрел на нее.
— Великолепно, — ответил он саркастически. — Просто великолепно. Никогда еще не испытывал такого удовольствия. Не говоря уже о том, что я схватил небольшое воспаленьице легких, радикулит и оставил там, в глубинах, один свой башмак, я еще замечательно провел время.
Всю дорогу домой Ларри изливал на наши головы гнев и презрение, а к концу пути уже не сомневался, что все это было подстроено нарочно. Когда он вошел в дом, оставляя за собой след, словно борозду на вспаханном поле, мама вскрикнула от ужаса.
— Чем ты занимался, милый? — спросила она.
— Занимался? Как ты думаешь, чем я занимался? Я занимался охотой.
— Но что с тобой случилось? На тебе сухой нитки нет. Ты что, провалился?
— Знаешь, мама, у вас с Марго такая изумительная проницательность, что я порой поражаюсь, как вы это выносите.
— Я только спрашиваю, милый, — сказала мама.
— Ну конечно; я провалился. Что же еще могло быть?
— Надо переодеться, милый, иначе ты простудишься.
— Я так и сделаю, — с достоинством ответил Ларри. — Хватит с меня на сегодня опасностей.
Отвергнув всякую помощь, он зашел в кладовую за бутылкой бренди и удалился в свою комнату, где по его просьбе Лугареция развела огонь в камине. Закутавшись в одеяло, Ларри сидел на кровати, чихал и пил бренди. После полудня он послал за другой бутылкой, и часам к пяти мы услышали его бодрые песни вперемежку с громовым чиханием. Во время ужина, когда Лугареция отправилась наверх с третьей бутылкой, маму охватила тревога. Она послала Марго взглянуть, как там у Ларри обстоят дела. Долго-долго все было тихо, потом прозвучал гневный голос Ларри и жалобная мольба Марго. Не понимая, что там происходит, мама в волнении стала подниматься по лестнице. Мы с Лесли отправились за нею следом.
В комнате Ларри пылал камин, сам Ларри был скрыт под грудой простыней и одеял, а у его кровати с безнадежным видом стояла Марго, сжимая в руках стакан.
— Что с ним такое? — спросила мама, решительным шагом пересекая комнату.
— Он напился, — ответила Марго с отчаянием, — и я ничего не могу с ним поделать. Я заставляю его принять горькую соль, чтобы завтра ему не было плохо, а он отказывается. Спрятался под одеялами и говорит, что я хочу его отравить.
Мама взяла из рук Марго стакан и подошла к кровати.
— Ну, живее, Ларри, и не будем валять дурака, — отчеканила она. — Выпей это одним глотком.
Одеяла заколыхались, из их глубин вынырнула взъерошенная голова Ларри. Затуманенным взором он посмотрел на маму и сощурился, как бы что-то припоминая.
— Вы ужасная старая женщина… Я уверен, что видел вас где-то раньше, — произнес он и, прежде чем мама успела опомниться от этого замечания, заснул крепким сном.
— Да, — сказала потрясенная мама. — Выпил он, должно быть, как следует. Ну ладно, сейчас он уснул. Подложим дров и пусть спит. Завтра утром ему будет лучше.
А на другой день, пока все еще спали, Марго вдруг обнаружила, что в доме начался пожар. Как выяснилось потом, раскаленные угли выпали из камина и сквозь щели в полу проскочили на балку под настилом. Бледная от страха, Марго в одной рубашке бросилась вниз по лестнице и влетела в мамину спальню.
— В доме пожар… уходи скорее… уходи… — выкрикивала она драматически.
Мама в один миг соскочила с кровати.
— Разбуди Джерри… разбуди Джерри! — кричала она.
— Вставайте… вставайте… Пожар… пожар! — вопила во все горло Марго.
Мы с Лесли выбежали на лестничную площадку.
— Что тут происходит? — спросил Лесли.
— Пожар! — крикнула Марго над его ухом. — Ларри горит!
Появилась мама в ночной рубашке.
— Ларри горит? Скорее, спасайте, спасайте его! — закричала она и бросилась по лестнице к мансарде.
Остальные помчались за нею следом. Комната Ларри была полна едкого дыма, выбивавшегося из-под пола. Сам Ларри безмятежно спал. Мама подбежала к кровати и стала с силой трясти его.
— Ларри, проснись! Ради Бога, проснись!
— Что такое? — спросил, поднимаясь, Ларри.
— В комнате пожар!
— Ничего удивительного, — сказал Ларри и улегся снова. — Пусть Лесли его потушит.
— Надо залить его чем-нибудь! — кричал Лесс. — Дайте что-нибудь…
Марго, получив такое наставление, схватила бутылку с остатками бренди и выплеснула ее содержимое на пол. Пламя взметнулось вверх и весело затрещало.
— Вот дуреха, это же бренди! — завопил Лесли. — Надо воды… принесите воды.
Но Марго, расстроенная своей огнеопасной деятельностью, разрыдалась. Лесс с сердитым ворчанием стащил с Ларри одеяла и принялся тушить ими огонь. Ларри в негодовании подскочил на постели.
— Что тут, черт возьми, происходит? — спросил он.
— В комнате пожар, милый.
— Не понимаю, почему я должен из-за этого замерзать до полусмерти… Зачем с меня содрали одеяла? Вот уж действительно подняли шум. Как будто трудно потушить огонь.
— Ты бы лучше заткнулся! — ответил Лесли, прыгая по одеялам.
— Ни разу не видел людей в такой панике, — сказал Ларри. — Тут надо просто не терять головы. А Лесс совсем ее потерял. Вот если Джерри принесет топор, а мама и Марго сходят за водой, мы живо все потушим.
Продолжая лежать в постели, Ларри давал указания. Через некоторое время нам удалось выдрать доски из пола и вытащить тлеющую балку. Тлела она, верно, всю ночь, так как этот двенадцатидюймовый брус из оливкового дерева уже наполовину обуглился. Когда наконец появилась Лугареция и начала убирать дымящуюся груду постельного белья, щепки, воду и бренди, Ларри со вздохом облегчения снова вытянулся на постели.
— Ну вот, — заключил он, — все сделано без суеты и паники. Надо только не терять головы. Ох, пожалуйста, пусть кто-нибудь принесет мне чаю. У меня голова раскалывается.
— Ничего удивительного, — сказал Лесли. — Вчера ты напился как сапожник.
— Нечего пятнать мою репутацию, если ты не в состоянии отличить сильной лихорадки от пьяного разгула.
— Как-никак, эта лихорадка оставила тебе похмелье, — сказала Марго.
— И вовсе не похмелье, — сдержанно ответил Ларри. — Это просто переутомление оттого, что на рассвете вас вдруг будит шайка обезумевших людей и вам приходится брать все на себя и руководить ими.
— Уж очень много ты наруководил, лежа в постели, — фыркнул Лесли.
— Важны не действия, а работа мозга, сообразительность и способность не терять хладнокровия, когда все вокруг его уже потеряли. Если б не я, вы все сгорели бы в своих кроватях.

Разговор

Опять наступила весна, и остров запестрел цветами. Ягнята, задрав хвосты, прыгали под оливами, топтали желтые крокусы своими маленьким копытцами. Ослята на неокрепших вздутых ножках лакомились асфоделями. Реки, пруды, канавы опутались цепями крапчатой жабьей икры, черепахи сбрасывали с себя зимние одеяла из земли и листьев, и первые бабочки, по-зимнему блеклые и изнуренные, лениво порхали среди цветов.
В эти бурные весенние дни мы проводили почти все время на веранде, ели там, спали, читали или просто спорили. Раз в неделю мы сообща просматривали почту, которую привозил нам Спиро. Большую часть ее составляли каталоги оружия для Лесли, журналы мод для Марго и мои зоологические журналы. Почта Ларри содержала в основном книги и нескончаемые письма от писателей, художников и музыкантов о писателях, художниках и музыкантах. Мама получала письма от родственников и иногда каталоги семян. Разбирая почту, мы то и дело обменивались замечаниями, а иногда зачитывали отдельные куски вслух. Это делалось не из потребности общения (никто друг друга вовсе и не слушал), но потому, что мы просто не в состоянии были вытянуть весь смак из писем и журналов, если б ни с кем не поделились. Случалось, однако, что какая-нибудь новость была достаточно потрясающей, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Именно это и произошло в один из весенних дней, когда небо было как голубое стекло, а мы все сидели в узорчатой тени виноградных листьев и поглощали свою почту.
— О, очень мило… Посмотрите… органди и пышные рукава… Лучше всего это сделать из бархата… а может, парчовый верх и юбка-клеш. Это тоже мило… правда ведь, будет хорошо с длинными белыми перчатками и летней шляпкой?
Пауза. Слышны только шелест бумаги и легкие стоны Лугареции в столовой. Роджер громко зевает, за ним зевают по очереди оба щенка.
— Ого! Какая красавица!.. Вы только взгляните… оптический прицел, скользящий затвор… Что за красотка! Гм… сто пятьдесят… не так уж дорого, я думаю… Теперь это хорошая цена… Посмотрим… двустволка… чокбор… Да… мне кажется, для уток надо что-нибудь потяжелее.
Роджер чешет свои уши одно за другим, с блаженным видом поворачивает голову набок и тихо ворчит от удовольствия. Вьюн ложится рядом с ним и закрывает глаза. Пачкун безуспешно гоняется за мухой, пытаясь цапнуть ее пастью, и громко щелкает зубами.
— О! У Антуана наконец приняли поэму! Тут настоящий талант, если только он сумеет до него докопаться. Верлен, пускающий печатный станок в конюшне… Фу! Малые тиражи собственных работ… Бог мой! Джордж Буллок пробует писать портреты… портреты, вы только подумайте! Он же свечки не умеет нарисовать… Вот, мама, почитай, хорошая книга: «Драматурги эпохи королевы Елизаветы»… замечательная вещь… в ней есть прекрасный материал…
Роджер с громким сопением потянулся назад, поискал блоху, действуя передними зубами, будто машинкой для стрижки волос. Вьюн дергал хвостом и ногами, его рыжие брови двигались вверх и вниз в изумлении перед собственным сном. Пачкун притворялся спящим и незаметно наблюдал за мухой.
— Тетушка Мейбл переехала в Суссекс… Она пишет, что Генри сдал все экзамены и поступает в банк… по крайней мере я думаю, что это банк… почерк у нее просто ужасный, несмотря на дорогостоящее образование, которым она всегда так хвастает… Дядя Стивен сломал ногу, бедный старик… и сделал что-то со своей поясницей? Ах, нет, я поняла… все этот почерк. Он сломал ногу, свалившись с лестницы… Я думала, у него больше разума… смешно лазить по лестницам в его возрасте… Том женился… на одной из девочек Гарнетов.
Напоследок мама всегда оставляла приходившие раз в месяц пухлые письма, где адрес был обозначен крупным, твердым круглым почерком. Это были письма от тетки Гермионы, неизменно вызывавшие у нас в семье взрыв негодования, так что и теперь все мы отложили в сторону свою почту и обратили взоры на маму, которая со смиренным вздохом развернула письмо в двадцать с лишним страниц, уселась поудобнее и начала читать.
— Она пишет, что врачи не оставляют ей много надежд, — сообщила мама.
— Они не оставляют ей никаких надежд вот уже сорок лет, а она до сих пор здорова как бык, — заметил Ларри.
— Она пишет, что ее всегда несколько удивляло наше бегство в Грецию, но у них там сейчас плохая зима, и она думает, что, быть может, мы вполне разумно выбрали такой благословенный климат.
— Благословенный! Слова-то какие!
— О Господи!.. Ох, нет… Боже мой!
— Что такое?
— Она пишет, что собирается приехать к нам… врачи рекомендуют ей теплый климат!
— Нет, я отказываюсь! Такого я не вынесу, — закричал Ларри, вскакивая со стула. — Мы все по горло сыты деснами Лугареции, не хватает еще тетки Гермионы, которая будет умирать тут каждую минуту.
— Ты должна от нее отделаться, мама… Скажи, что у нас нет места.
— Но это невозможно, милая. Я писала ей в последнем письме, какой у нас большой дом.
— Может, она уже забыла, — с оптимизмом заметил Лесли.
— Нет, не забыла. Она как раз упоминает об этом… Где же это?.. Ах, вот: «Поскольку вы можете теперь снимать такое просторное помещение, я уверена, дорогая Лу, что вы не откажете в уголке старой женщине, которой осталось так мало жить». Вот видите! Что же нам теперь делать?
— Напиши ей, что тут свирепствует эпидемия оспы, и пошли фотографию с прыщами Марго, — предложил Ларри.
— Не говори глупостей, милый. К тому же я писала ей, какое это здоровое место.
— Это просто невыносимо, мама! — воскликнул Ларри. — Я так мечтал спокойно поработать летом, пригласив лишь самых близких друзей, а теперь нам грозит нашествие этой противной верблюдицы, пропахшей нафталином и распевающей церковные гимны в уборной.
— Ты просто преувеличиваешь, милый, и я не понимаю, зачем тебе потребовалось приплетать уборную. Я никогда не слышала, чтобы она пела где-нибудь гимны.
— Она поет их не переставая… тогда как остальные выстраиваются в очередь на площадке.
— Ну, как бы там ни было, надо придумать предлог получше. Нельзя же писать, что мы не хотим ее принять из-за гимнов.
— Да почему нельзя?
— Оставь свои глупости, милый. Все-таки она наша родственница.
— Ну и что из того? Неужели мы будем охаживать эту старую ведьму только потому, что она наша родственница? Ведь по-настоящему ее надо привязать к столбу и сжечь.
— Она этого не заслужила, — возразила мама без всякого энтузиазма.
— Дорогая мама, из всех противных родственников, которые нас осаждают, она, конечно, самая отвратительная, и я просто не могу понять, как ты только с нею общаешься.
— Надо же мне отвечать на ее письма, как ты думаешь?
— Зачем? Просто пиши на них «Адресат выбыл» и отсылай обратно.
— Я не могу этого сделать, милый. Они узнают мой почерк. К тому же письмо я уже распечатала.
— Может быть, написать ей, что ты больна? — предложила Марго.
— Да, да, мы напишем, что врачи оставили уже всякую надежду, — сказал Лесли.
— Я напишу это письмо, — обрадовался Ларри.
— Нет, не напишешь, — твердо заявила мама. — Если ты это сделаешь, она немедленно приедет ухаживать за мной. Ты же ее знаешь.
— Ну скажи на милость, зачем ты поддерживаешь с ними связь? — в отчаянии спросил Ларри. — Что это тебе дает? Все они или ископаемые, или сумасшедшие.
— Ну, этого уж ты не говори, — возмутилась мама. — Они вполне нормальные люди.
— Вздор… Возьми хотя бы тетю Берту с ее невероятными кошками… Или дядю Патрика, который ходит почти раздетый и рассказывает совсем незнакомым людям, как он убивал китов перочинным ножиком. Все они какие-то придурки.
— Конечно, они с причудами. Но ведь все они очень старые, в их возрасте это положено. И они вовсе не сумасшедшие, — объяснила мама и чистосердечно добавила: — Во всяком случае, не такие уж сумасшедшие, чтобы от них можно было избавиться.
— Ну, вот что, — решительно сказал Ларри. — Если на нас готовится нашествие родственников, нам остается только одно.
— Что именно? — спросила мама, с надеждой глядя поверх очков.
— Переехать, конечно.
— Переехать? Куда переехать? — недоуменно спросила мама.
— Переехать в дом поменьше. Тогда ты сможешь написать всей этой публике, что у нас нет места.
— Не будь дурачком, Ларри. Разве можно без конца переезжать? Мы и так переехали сюда, чтобы справиться с твоими друзьями.
— Ну, а теперь мы переедем, чтобы справиться с родственниками.
— Но мы не можем носиться по всему острову… люди подумают, что мы ненормальные.
— Они еще скорее так подумают, если сюда явится эта старая гарпия. Честное слово, мама, я просто не вынесу, если она приедет. Вот возьму тогда у Лесли ружье и пробью дырку в ее корсете.
— Ларри! Прошу тебя, не говори таких вещей в присутствии Джерри.
— Я просто предупреждаю тебя.
Мама лихорадочно протирала свои очки.
— Но ведь это… — вымолвила она наконец, просто сумасбродство, менять вот так дома.
— Никакого сумасбродства здесь нет. Вполне обоснованные действия.
— Конечно, — согласился Лесли. — Это своего рода самозащита.
— Будь благоразумна, мама, — сказала Марго. В конце концов перемена — хорошо, а две лучше.
И вот, подхватив эту новую пословицу, мы стали переезжать.

Часть третья
Глава тринадцатая
Белоснежный дом
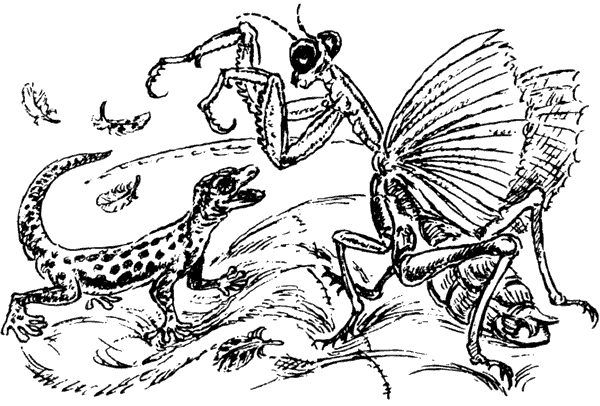
Наш новый, белый как снег дом с широкой, густо заплетенной виноградом верандой стоял на верху холма среди оливковых деревьев. Перед домом был маленький, размером чуть ли не с носовой платок, садик, аккуратно огороженный и сплошь заросший дикими цветами. Весь садик покрывала своей густой, плотной тенью огромная магнолия с темно-зеленой глянцевой листвой. От дома вниз по склону к проезжей дороге спускалась накатанная шинами колея, петлявшая среди оливковых рощ, виноградников и фруктовых садов. Дом нам понравился с первого взгляда, как только Спиро подвез нас к нему. Ветхий, но необычайно элегантный, он стоял среди пьяных олив и, пожалуй, напоминал щеголя восемнадцатого века, красующегося перед толпой поселянок. Для меня его очарование еще возросло, когда в одной из комнат была обнаружена летучая мышь. Она висела вниз головой на ставне и злобно попискивала. Я надеялся, что летучая мышь останется жить в доме, но она, как только мы там появились, решила, что место становится слишком людным, и мирно отбыла к какому-то стволу оливы. Меня огорчило такое решение, однако в то время я был занят другими делами и вскоре забыл о ней.
Только теперь, в белом доме, я свел настоящее знакомство с богомолами. До сих пор я видел их иногда на миртовых кустах, но как-то не обращал особого внимания. Теперь же они сами обратили на себя мое внимание, так как здесь, на вершине холма, где стоял наш дом, их было великое множество и таких крупных, каких я еще ни разу не встречал. С надменным видом сидели они на оливах, миртах, на гладких зеленых листьях магнолии, а вечером осаждали наш дом — неслись к свету лампы на своих зеленых крыльях, дрожавших, словно лопасти старинного колесного парохода, и потом опускались на столы и стулья. Расхаживая мелкими шажками по комнате, они поворачивали голову то вправо, то влево в поисках жертвы и, обратив к нам лица без подбородка, пристально изучали нас своими шаровидными глазами. Я даже не подозревал, что богомолы могут быть такими крупными. Некоторые экземпляры достигали в длину четырех с половиной дюймов. И этих чудовищ, наводнявших наш дом, ничто не страшило. Они, не задумываясь, могли выбрать жертву такого же, как они сами, роста или даже еще больше. Видимо, богомолы считали наш дом своей личной собственностью, а стены и потолки своими законными охотничьими угодьями. Однако гекконы, обитавшие в трещинах садовой ограды, тоже смотрели на дом как на свое заповедное поле охоты, и поэтому между богомолами и гекконами шла постоянная война. По большей части это были просто легкие стычки между отдельными представителями воюющих сторон, а так как животные обладали в общем-то одинаковой силой, борьба их редко принимала серьезный оборот. Но все же порой разгорались настоящие баталии, и мне удалось быть свидетелем одной из них. Битва разыгрывалась у меня над кроватью и в кровати.
В дневное время почти все гекконы прятались под отставшей штукатуркой на садовой стене. А вечером, когда заходило солнце и прохладная тень магнолии окутывала дом и сад, они выставляли из щелей свои маленькие, с золотыми глазами головки, внимательно оглядывали все вокруг и тихонько выбирались на стену. В сумерках их плоское тело и короткий, почти конической формы хвост казались пепельно-серыми. Осторожно пробираясь по замшелой стене, гекконы попадали наконец под надежную защиту виноградных лоз над верандой и терпеливо ждали, когда совсем стемнеет и в доме зажгут лампы. Они выбирали себе место охоты и отправлялись туда по стене дома — кто в спальни, кто в кухню, а некоторые оставались тут же, на веранде, среди виноградных листьев.
Один геккон повадился охотиться в моей спальне. Я сразу заприметил его и вскоре, изучив как следует, дал ему имя Джеронимо, потому что, на мой взгляд, все его атаки на насекомых отличались той же ловкостью и продуманностью, что и действия этого знаменитого индейца[4]. Среди других гекконов Джеронимо, кажется, был выдающейся личностью. Во-первых, он жил один, под большим камнем на клумбе с цинниями, как раз под моим окном, и терпеть не мог, чтобы другие гекконы появлялись близ его жилья. И, разумеется, он не позволял ни одному геккону забираться в мою спальню. Пробудившись, он вставал раньше других и выходил из-под камня, когда последние лучи заходящего солнца все еще освещали наш дом. Стремительно взбежав по отвесной пропасти, покрытой слоистой белой штукатуркой, геккон оказывался у окна моей спальни, протягивал голову через подоконник и обводил комнату любопытным взглядом, сделав два-три быстрых кивка. Было ли это обращенное ко мне приветствие или же геккон просто выражал свое удовлетворение, обнаружив, что в комнате ничего не изменилось, я так и не смог решить. Глотая воздух, он продолжал сидеть на подоконнике, дожидаясь, когда совсем стемнеет и в комнате появится свет. В золотистом мерцании лампы он как будто менял свою окраску с пепельно-серой на едва приметную жемчужно-розовую, и теперь на нем сильнее проступал мелкий пупырчатый рисунок, а кожа казалась такой тонкой и прозрачной, будто светилась насквозь, и вы могли видеть аккуратно свернутые, как хоботок бабочки, внутренности в его жирном животике. Глаза его горели воодушевлением, когда он поднимался по стене к своему излюбленному месту — в левом дальнем углу потолка — и сидел там вверх ногами, поджидая свою жертву к ужину.
А она не заставляла себя долго ждать. Сначала появлялись комары, разные мошки, божьи коровки, на которых Джеронимо даже не смотрел, потом следовали долгоножки, златоглазки, мелкие бабочки, несколько вполне солидных жуков. И вот тут Джеронимо приобщал меня к тайнам своего тактического искусства. Когда златоглазка или же какая-нибудь бабочка, налетавшись до одури вокруг лампы, вспархивала вверх и усаживалась в светлом кругу на потолке, Джеронимо в своем углу весь подбирался. Кивнув два-три раза головой, он начинал осторожно, шаг за шагом, продвигаться по потолку, не сводя горящих глаз с насекомого. Дюймах в шести от своей жертвы Джеронимо на секунду останавливался, и тут можно было увидеть, как шевелятся его пальцы с присосками — это он старался понадежнее закрепиться на штукатурке. От возбуждения глаза его чуть не выскакивали из орбит, кончик хвоста слегка подрагивал и мордочка принимала свирепое, по его понятиям, выражение. Но вот он опять, словно капля воды, плавно скользит по потолку. Слабый щелчок, и геккон поворачивает голову. На мордочке у него выражение самодовольного блаженства, изо рта, наподобие дрожащих моржовых усов, свешиваются ножки и крылья златоглазки. Словно разыгравшийся щенок, он радостно виляет хвостом и возвращается в угол, где можно спокойно проглотить свою жертву. У геккона было необычайно острое зрение, и я не раз наблюдал, как он, высмотрев на другом конце комнаты крохотную бабочку, направлялся туда через весь потолок и начинал подкрадываться к ней.
К соперникам, пытавшимся узурпировать его территорию, он был беспощаден. Как только они взбирались на подоконник и переводили дух после трудного подъема по стене, в углу раздавалось шуршание, Джеронимо мигом пересекал потолок, спускался по стене и шлепался на подоконник. Не успевал пришелец опомниться, как Джеронимо устремлялся вперед и прыгал на него. В отличие от других гекконов Джеронимо никогда не метил в голову или туловище противника, а бросался прямо на хвост, хватал его пастью, примерно на расстоянии полдюйма от кончика, и, повиснув на нем, как бульдог, трепал из стороны в сторону. Ошарашенный такой подлой и необычной манерой нападения, пришелец немедленно обращался к проверенному средству обороны ящериц: оставлял противнику свой хвост и, в одно мгновение перевалив через подоконник, мчался вниз по стене к клумбе из цинний. Слегка запыхавшийся Джеронимо с победоносным видом продолжал сидеть на подоконнике, зажав в пасти все еще извивающийся хвост. Убедившись, что его соперник исчез, Джеронимо усаживался поудобнее и начинал уничтожать хвост — возмутительный, на мой взгляд, обычай. Но, очевидно, это был лишь способ ознаменовать победу, и, пока хвост совсем не исчезал в его вздувшемся животе, Джеронимо отнюдь не выглядел счастливцем.
Часто залетавшие в мою комнату богомолы были обычно небольших размеров, и Джеронимо всегда стремился их поймать, однако они были слишком проворны. В отличие от других насекомых свет, как видно, богомолов не притягивал: вместо того чтобы ошалело крутиться около лампы, они спокойно устраивались в удобном местечке и начинали охотиться на танцующих, когда те присаживались отдохнуть. Их шаровидные глаза были, наверно, такие же зоркие, как у геккона, так что богомолы всегда замечали его гораздо раньше, чем он оказывался на опасном для них расстоянии, и поспешно удирали. Однако в один прекрасный вечер Джеронимо встретил богомола, который не только не пустился наутек, но даже двинулся ему навстречу. Этого уж геккон вынести не мог.
С некоторых пор меня стал интересовать способ размножения богомолов, и теперь я очень хотел увидеть, как они откладывают яички и как выводятся личинки. И вот однажды мне выпал счастливый случай. Я бродил среди холмов и столкнулся, можно сказать, лицом к лицу с необыкновенно крупной самкой, с видом королевы шествующей через траву. Живот у нее был сильно раздут, и я понял, что вскорости ожидается счастливое событие. Самка остановилась, раскачиваясь на своих тонких ногах, окинула меня холодным взглядом и снова пустилась в путь, пробираясь между стеблями травы. Я решил поймать ее, чтобы она смогла отложить яички в коробку, и потом спокойно наблюдать за их развитием. Как только богомолиха сообразила, что я пытаюсь ее поймать, она быстро повернулась, выпрямилась, расправила свои желтовато-зеленые крылья и угрожающе изогнула кверху зубчатые передние ноги. Удивляясь ее воинственности перед существом неизмеримо крупнее, чем она сама, я легонько, двумя пальцами, схватил ее за талию. Длинные, острые передние ноги сейчас же потянулись за спину и сомкнулись на моем большом пальце — будто полдюжины иголок вонзились мне в кожу. От удивления я выронил свою пленницу и сел на землю, чтобы пососать ранку. Среди маленьких проколов три были довольно глубокие, и, когда я сдавил палец, из ранки выступили капельки крови. Мое уважение к самке возрастало. Она-таки умела заставить считаться с собой. Теперь я уже действовал осторожно, пустив в ход обе руки. Одной рукой я снова подхватил ее за талию, а другой старался придерживать опасные передние ноги. Она бессильно извивалась и норовила укусить меня, склоняя к руке свое злое, острое личико и пощипывая кожу, но у нее были слишком слабые челюсти, чтобы причинить мне какой-нибудь вред. Я отнес ее домой, в свою спальню, и запер в просторной клетке, затянутой марлей и изящно украшенной папоротником, вереском икамнями, где она двигалась с большим проворством и грацией. Я дал ей имя Сисели, просто так, без всяких причин, и целыми днями ловил для нее бабочек, которых она поедала в огромном количестве. Аппетит ее, видимо, никогда не ослабевал, а живот все рос и рос. И вот, когда я с уверенностью ждал, что в любой момент она может отложить свои яички, Сисели каким-то образом сумела улизнуть из клетки.
В один из вечеров, когда я уже сидел в постели и читал, Сисели вдруг с треском пронеслась через комнату и грузно опустилась на стене, футах в десяти от того места, где Джеронимо деловито уничтожал последние остатки необыкновенно мохнатой бабочки. Губы его все еще были облеплены пушистыми волосками, но он тут же прервал свою трапезу и в изумлении уставился на Сисели. Ему наверняка ни разу не приходилось видеть такого огромного богомола, а Сисели превосходила его в длину на добрых полдюйма. Пораженный ее размерами и дерзким появлением в его комнате, Джеронимо на несколько секунд прямо застыл на месте, не сводя с нее глаз. А Сисели вертела головой в разные стороны и осматривалась с важным, сосредоточенным видом — точь-в-точь как чопорная старая дева в картинной галерее. Овладев наконец собой, Джеронимо решил, что нахальное насекомое следует проучить. Вытерев о потолок рот, он быстро-быстро закивал головой и стал махать хвостом, пытаясь довести себя до лютой ярости. Сисели же его просто не замечала и продолжала осматриваться, слегка раскачиваясь на своих длинных, тонких ногах. Джеронимо тихо скользил по стене, бешено глотая воздух. Футах в трех от богомола он остановился и начал поочередно приподнимать лапки, проверяя надежность своей позиции. Сисели посмотрела на него с притворным изумлением, будто увидела в первый раз. Не сходя с места, она повернула голову и бросила взгляд через плечо. Джеронимо продолжал пристально смотреть на нее и все отчаянней глотал воздух. Сисели холодно оглядела его своими выпуклыми глазами и снова принялась обследовать потолок, как будто геккона вовсе не было на свете. Джеронимо придвинулся на несколько дюймов, еще раз пошевелил пальцами, взмахнул кончиком хвоста. Затем он стремительно бросился вперед, и тут произошла удивительная вещь: Сисели, которая до этого момента была целиком поглощена исследованием трещины в штукатурке, вдруг подпрыгнула в воздух, перевернулась и села на то же место, только теперь она развернула веером крылья, приподнялась на задних ногах и привела в боевую готовность передние. Джеронимо, не ожидавший такого резкого отпора, отскочил назад дюйма на три и снова устремил на нее взгляд. Она тоже упорно смотрела на него с каким-то презрительным вызовом. Джеронимо, казалось, был несколько сбит с толку, ведь он уже давно привык к тому, что при его приближении богомолы тотчас срывались с места и неслись на другой конец комнаты, а тут она стояла перед ним в боевой позиции, готовая нанести удар, и раскачивалась на длинных ногах, отчего ее зеленые распущенные веером крылья слегка шелестели. Однако дело зашло уже слишком далеко, отступать было поздно, поэтому, собравшись с духом, Джеронимо прыгнул вперед и со всего размаху врезался в богомола.
Сисели покачнулась от удара, а геккон ухватил ее пастью за верхнюю часть туловища. Тогда она вцепилась острыми передними ногами ему в заднюю лапу, и они зигзагами понеслись по потолку, по стене, стараясь одолеть друг друга. Затем наступила пауза, когда противники отдыхали и готовились ко второму раунду, по-прежнему не ослабляя цепких объятий. Я раздумывал, следует ли мне вмешаться. Жалко ведь, если кто-нибудь из них погибнет, но в то же время поединок был такой захватывающий, что мне совсем не хотелось их разнимать. Пока я решал этот вопрос, борьба началась снова.
По каким-то соображениям Сисели упорно старалась стащить Джеронимо со стены на пол, а он с такой же решимостью стремился тянуть ее к потолку. Борьба продолжалась некоторое время с переменным успехом, однако решительного перелома не было. Но тут Сисели совершила роковую ошибку: воспользовавшись очередной передышкой, она рванулась в воздух, словно собиралась пролететь через комнату, держа в когтях Джеронимо, как орел ягненка. Только она совсем не учла его веса. Неожиданный рывок захватил геккона врасплох, присоски на его пальцах оторвались от потолка, и Сисели, конечно, была не в силах справиться с таким грузом. Спутанный клубок из ног и крыльев перевернулся в воздухе и рухнул на кровать.
Оба противника были настолько ошеломлены, что невольно разжали свои объятия и сидели теперь на одеяле, впившись друг в друга горящими глазами. Я решил, что подоспела пора вмешаться и объявить ничью, но только хотел схватить противников, как они снова бросились друг на друга. На этот раз Джеронимо действовал более мудро и сразу зажал в пасти острую переднюю ногу Сисели. Тогда она обвила его шею другой ногой. Обоим было неудобно сражаться на одеяле, так как их пальцы и когти то и дело застревали в ворсе, мешая двигаться. Они метались туда и сюда по постели и наконец стали пробиваться к подушке. Вид у обоих теперь был очень потрепанный: у Сисели смято и оторвано крыло и выведена из строя согнутая нога, у Джеронимо расцарапана до крови вся спина и шея. Мне очень хотелось посмотреть, кто же из них выйдет победителем, и я уже не думал их останавливать. Когда они оказались у подушки, я вылез из постели, вовсе не желая, чтобы один из острых коготков Сисели впился мне в грудь.
Сисели уже совсем выбивалась из сил, но, когда ее ноги коснулись гладкой поверхности простыни, она опять пришла в себя. Жаль только, что ее вновь обретенные силы были направлены не на ту цель. Отпустив шею Джеронимо, Сисели вцепилась ему в хвост. Надеялась ли она поднять геккона в воздух и таким образом лишить его возможности двигаться, я не знаю, но результат получился обратный. Как только ее коготки впились в хвост, Джеронимо сбросил его. При этом он с такой силой дернулся, что голова у него резко замоталась из стороны в сторону и во рту осталась вырванная нога Сисели. И вот они сидят друг против друга: Сисели зажала коготками извивающийся хвост Джеронимо, а во рту у бесхвостого, окровавленного Джеронимо дергается левая передняя нога Сисели. Сисели все еще могла бы выиграть битву, если б сразу же ухватилась за Джеронимо, пока он еще не успел выплюнуть из рта ногу, но ее слишком занимал трепещущий хвост, который она считала существенной частью противника и продолжала крепко держаться за него. А Джеронимо тем временем выплюнул ногу и бросился в атаку. Легкий треск, и вот голова и верхняя часть туловища Сисели исчезли в его пасти.
Битва окончилась. Теперь Джеронимо просто оставалось дождаться смерти Сисели. Ноги ее подергивались, раскрытые веером зеленые крылья трепетали и шелестели, огромное брюшко вздрагивало, и от этих предсмертных конвульсий оба вдруг повалились и исчезли в складках измятой постели. Долгое время их совсем не было видно. До меня доносилось лишь слабое потрескивание крыльев богомола, но и оно скоро прекратилось. Наступила тишина, а потом из простыни высунулась исцарапанная, окровавленная головка, пара золотистых глаз окинула меня ликующим взглядом, и измученный Джеронимо выполз наружу. На плече у него был выдран большой клок кожи, на его месте зияла красная, кровоточащая рана, по всей спине выступали капли крови — следы когтей богомола, а окровавленный обрубок хвоста оставлял на простыне красный след. Геккон был избит, искалечен, истерзан, но вышел из боя победителем.
Некоторое время Джеронимо сидел, глотая воздух, на постели, позволив мне обтереть ему спину намотанной на спичку ватой. Потом он получил от меня в награду пять жирных мух и проглотил их с большим удовольствием. Подкрепив таким образом силы, Джеронимо перекочевал на стену, добрался тихонько до подоконника, перелез через него и спустился по стенке к себе домой, под камень на клумбе. Должно быть, он решил, что после такой яростной схватки совсем неплохо устроить себе ночной отдых. А на следующий вечер он снова был на своем обычном месте в углу, самоуверенный, как всегда. Весело помахивая остатком хвоста, он наблюдал за праздничным хороводом насекомых вокруг лампы.
И вот однажды, недели через две после великой битвы, Джеронимо вполз на подоконник и, к моему изумлению, привел с собой другого геккона, совсем маленького, вдвое меньше, чем он сам, очень нежного жемчужно-розового цвета и с огромными блестящими глазами. Джеронимо занял свой обычный пост в углу, тогда как новый пришелец выбрал себе место в середине потолка. Оба приступили к охоте, сосредоточив на ней все свое внимание и совершенно позабыв друг о друге. Сперва я было принял этого изящного пришельца за невесту Джеронимо, но исследования на клумбе с цинниями показали, что тот по-прежнему ведет холостяцкий образ жизни. Новый геккон спал где-то в другом месте и появлялся только вечером, карабкаясь вслед за Джеронимо по стене дома в мою спальню. Зная драчливый характер Джеронимо, я не мог понять, как это он согласился терпеть другого геккона. Мне хотелось думать, что это дочь или сын Джеронимо, однако я хорошо знал, что у гекконов семьи не бывает, они просто откладывают яички и оставляют малышей (когда те выведутся) на произвол судьбы. Я все еще не мог решить, какое бы имя дать новому обитателю моей спальни, когда его вдруг постигла злая участь.
С левой стороны от нашего дома, будто зеленая чаша, раскинулась широкая лощина с зарослями корявых олив. Ее окружали каменистые обрывы футов двадцати высотой, и у их основания среди россыпи камней густо разрослись мирты. С моей точки зрения, это были прекрасные охотничьи земли, там ютилось множество всевозможных животных. Однажды, охотясь на этих камнях, я заметил под миртовыми кустами толстый полусгнивший ствол оливы. В надежде разыскать под ним что-нибудь интересное я сделал героическое усилие и откатил его в сторону. В сырой ложбинке, оставленной бревном, сидели два живых существа, заставивших меня раскрыть рот от изумления.
По виду это были обыкновенные жабы, но меня поразил их размер — каждая превосходила в обхвате блюдце средней величины. Жабы были серовато-зеленого цвета, все в бородавках и в каких-то белых лоснящихся пятнах, лишенных пигмента. Обе глядели на меня, словно тучные, покрытые коростой Будды, и с виноватым видом глотали воздух в свойственной жабам манере. Я поднял их с земли. Они сидели у меня на ладонях, похожие на слегка спущенные воздушные шары, мигали своими прекрасными, из золотой филиграни глазами и старались поудобнее устроиться на моих пальцах. Жабы смотрели на меня очень доверчиво, и, казалось, их широкие, толстогубые рты расплываются в робкой, растерянной улыбке. Я был от них в восторге, и моя находка так возбуждала меня, что я должен был немедленно разделить с кем-нибудь свою радость, иначе меня разорвало бы на части. С жабой в каждой руке я помчался что есть духу домой показывать свое новое приобретение.
Когда я ворвался в дом, мама и Спиро проверяли в кладовке запасы продуктов. Подняв руки над головой, я попросил взглянуть на моих чудесных амфибий. Спиро стоял почти рядом со мной, и, когда он обернулся, жабы оказались прямо у него перед носом. Он изменился в лице, глаза его выкатились, а кожа приняла зеленоватый оттенок. Сходство между ним и жабами было просто поразительным. Зажав рот носовым платком, Спиро неверными шагами вышел на веранду.
— Разве можно показывать Спиро подобные вещи, мой милый? — взывала ко мне мама. — Ты ведь знаешь, что у него слабый желудок.
Я знал, что у Спиро слабый желудок, но не думал, что вид этих очаровательных созданий так подействует на него.
— Да что в них ужасного? — спросил я в недоумении.
— В них нет ничего ужасного, милый. Они очаровательны, — ответила мама, подозрительно разглядывая жаб. — Просто их никто не любит.
Спиро снова вошел в кладовку. Он был бледен и вытирал платком пот со лба. Я быстро спрятал жаб у себя за спиной.
К моему глубокому разочарованию, все остальные в доме реагировали на жаб примерно таким же образом, как и Спиро. Убедившись, что мне не удастся вызвать у других хотя бы каплю восторга, я с грустью отнес бедную пару к себе в спальню и осторожно положил на кровать.
Вечером, когда зажгли лампы, я выпустил жаб прогуляться по комнате и стал сбивать для них насекомых, летавших вокруг лампы. Жабы неуклюже поворачивались то в одну, то в другую сторону, проглатывая мои подношения. Их огромные рты захлопывались с легким цоканьем, в то время как толстый язык проталкивал насекомое внутрь. Вскоре в комнату ворвалась необыкновенно большая, взбудораженная бабочка. Для жаб это было прекрасное лакомство, и я пустился за ней в погоню. Однако она скоро уселась на потолок, невдалеке от нового друга Джеронимо, где я не мог ее достать. Тогда я попытался сбить бабочку с потолка и запустил в нее журналом, что было большой глупостью с моей стороны. Журнал попал не в бабочку, а в геккона, который в это время следил за приближающейся златоглазкой. Журнал отлетел в угол комнаты, а геккон шлепнулся на коврик, прямо перед мордой более крупной жабы. Он еще не перевел духа и я не успел броситься ему на помощь, как жаба с добрым выражением на лице прыгнула вперед. Рот ее широко распахнулся, из него быстро высунулся и снова спрятался язык, унося с собою геккона. Потом жабий рот опять захлопнулся, и морда приняла свое прежнее выражение застенчивой доброты. Джеронимо, висевший в своем углу вниз головой, остался, как видно, безучастным к судьбе товарища, но на меня это происшествие произвело жуткое впечатление. К тому же я был подавлен сознанием, что все это случилось по моей вине. Опасаясь, как бы сам Джеронимо не оказался их следующей жертвой, я быстро схватил жаб и запер в коробке.
Эти гигантские жабы заинтересовали меня по многим причинам. Вообще-то они относились к обыкновенному виду, только вот тело и ноги у них в каких-то странных белых пятнах. К тому же эти чудовища раза в четыре больше всех жаб, какие мне до сих пор встречались. Странно и то, что я нашел их вместе. Удивительно найти и одного такого гиганта, а сразу двух, сидящих вот так, рядышком, — открытие совсем необыкновенное. Я даже думал, что это будет новым вкладом в науку, и, преисполненный надежд, держал их взаперти под кроватью, дожидаясь следующего четверга. Когда приехал Теодор, я мигом сбегал за ними в свою спальню.
— Ага! — произнес Теодор, пристально разглядывая жаб, потом потрогал одну из них пальцем. — Да, это, несомненно, очень крупные экземпляры.
Он вынул из коробки одну жабу и положил на пол. Жаба глядела на него грустными глазами, пятнистая кожа ее раздувалась и опадала, как комок дрожжевого теста.
— Гм… да, — произнес Теодор. — Кажется, это обыкновенные жабы, хотя, как я уже сказал, исключительные экземпляры. Их странные пятна объясняются недостатком пигмента. Думаю, что это от возраста, хотя, конечно, я могу… э… ошибаться. Возраст у них, должно быть, очень солидный, раз они достигли таких размеров.
Я был удивлен. Жабы никогда не казались мне долгоживущими животными, и теперь я спросил у Теодора, по скольку же они обычно живут.
— Ну, это трудно сказать… гм… статистики не существует. Однако я представляю, что таким вот крупным вполне может быть по двенадцать или даже по двадцать лет.
Он вынул из коробки вторую жабу и посадил ее на пол рядом с первой. Жабы сидели бок о бок, моргали, глотали воздух, вялые их бока вздымались от дыхания. Поглядев на них с минуту, Теодор достал из жилетного кармана пинцет и вышел в сад. Отыскав там под камнями крупного красновато-бурого дождевого червяка, осторожно взял его пинцетом, принес на веранду и бросил около жаб. Извивающийся червяк свернулся сперва колечком, потом стал медленно разворачиваться. Жаба, что была к нему поближе, быстро моргнула глазами и чуть-чуть повернулась. Червяк продолжал извиваться, будто клок шерсти на горячих углях. Жаба наклонила голову, на ее широкой морде появилось выражение глубочайшей заинтересованности.
— Ага! — произнес Теодор, улыбаясь в бороду.
Червяк изобразил особенно судорожную восьмерку, и жаба с волнением подалась вперед. Огромный рот распахнулся, мелькнул розовый язык, и половина червяка была унесена в жабью утробу. Когда рот захлопнулся, вторая половина отчаянно извивавшегося червяка осталась снаружи. Жаба села на место и с большой осторожностью принялась запихивать лапками в рот свисавший конец червяка. При каждом толчке она делала резкое глотательное движение и закрывала глаза с выражением острой муки. Мало-помалу червяк исчезал между толстыми губами, пока наконец снаружи не остался только маленький, не больше дюйма, кусочек, который все еще подергивался.
— Гм, — весело хмыкнул Теодор. — Я всегда любил наблюдать, как они это проделывают. Знаешь, как будто фокусники, которые ярд за ярдом вытаскивают изо рта цветные ленты… э… только, разумеется, в обратном направлении.
Жаба моргнула, отчаянно глотая воздух, глаза ее сощурились, и последний кончик червяка скрылся у нее во рту.
— Хотел бы я знать, можно ли их научить глотать шпаги? Интересно попробовать.
Сверкнув глазами, Теодор осторожно поднял жаб с пола и положил обратно в коробку.
Глава четырнадцатая
Говорящие цветы

Довольно скоро я получил неприятное известие, что мне нашли еще одного учителя. На сей раз это был некий Кралевский, человек, в жилах которого смешалась кровь множества национальностей, но преобладала английская. Мне сообщили, что он очень славный человек и к тому же интересуется птицами, так что мы с ним наверняка поладим. Однако последняя часть сообщения не произвела на меня ни малейшего впечатления. Я уже встречал немало людей, которые заявляли, что интересуются птицами, а на деле оказывалось (после тщательного опроса), что это просто шарлатаны, в глаза не видавшие удода и не умевшие отличить горихвостку-чернушку от обыкновенной горихвостки. Я был уверен, что мои родные изобрели этого любящего птиц учителя просто для того, чтобы мне не так горько было вновь приниматься за учебу. И, уж конечно, его репутация орнитолога объяснялась тем, что однажды, когда ему было четырнадцать лет, он держал у себя канарейку. Поэтому я отправился в город на свой первый урок в самом унылом настроении.
Кралевский жил в старом доме на окраине города, занимал в нем два верхних этажа. Я поднялся по широкой лестнице, с презрительной бравадой выбил громкую дробь украшавшим входную дверь молотком и, насупившись, стал ждать, изо всей силы ввинчивая свой каблук в темно-красный коврик. Когда я уже хотел было постучать второй раз, послышался тихий звук шагов, дверь широко распахнулась, и передо мной предстал мой новый учитель.
Я сразу решил, что Кралевский вовсе не человеческое существо, а замаскированный под человека гном, облачившийся в старомодный, но очень элегантный костюм. Его большая яйцевидная голова, плоская по бокам, была откинута назад, на аккуратный, круглый горб, и это придавало ему довольно странный вид, как будто он разглядывал небо и все время пожимал плечами. У него был длинный, с тонкой переносицей и широкими, вывернутыми ноздрями нос и необыкновенно большие, влажные светло-карие глаза с застывшим, отсутствующим взглядом, словно их владелец только что вышел из транса. Большие, тонкие губы соединяли в себе одновременно и чопорность и юмор. Теперь они растянулись в приветственной улыбке, обнажив ровные, но уже пожелтевшие зубы.
— Джерри Даррелл? — спросил он, подпрыгивая, как влюбленный воробей, и помахал передо мной тонкими пальцами. — Джерри Даррелл, я полагаю? Входи, дорогой мальчик, пожалуйста, входи.
Он поманил меня указательным пальцем и повел через темную прихожую со скрипучими половицами под истертым ковром.
— Вот сюда. В этой комнате мы будем заниматься, — говорил певучим голосом Кралевский, распахнув дверь и впуская меня в маленькую комнату, не слишком заставленную мебелью. Я положил свои книги на стол и сел на указанный мне стул. Опираясь на кончики превосходно наманикюренных пальцев, Кралевский склонился над столом и рассеянно улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ, не очень понимая, чего он от меня хочет.
— Друзья! — произнес он восторженно. — Очень важно, чтобы мы стали друзьями. Я вполне, вполне уверен, что так оно и будет. Как ты думаешь?
Я кивнул с серьезным видом и закусил губу, чтобы не улыбнуться.
— Дружба, — прошептал он, закрыв в восторге глаза. — Дружба! Вот что надо!
Губы его беззвучно шевелились. Я даже подумал, уж не молится ли он, и если молится, то за кого: за меня, за себя или за нас обоих? Над его головой закружилась муха и села ему на нос. Он вздрогнул, согнал муху, открыл глаза и сощурился.
— Да, да, именно так, — сказал он твердо. — Я уверен, что мы будем друзьями. Твоя мама говорила, что ты очень увлекаешься животными. Вот это нас и сблизит сразу… соединит узами, так сказать.
Большим и указательным пальцами он вытащил из жилетного кармашка большие золотые часы, поглядел на них, сокрушенно вздохнул, положил обратно и погладил лысину, сиявшую, как темный камешек среди кудрявой поросли.
— Между прочим, я развожу птиц. Правда, как любитель, — скромно признался он. — Если хочешь, посмотри мою коллекцию. Смею думать, что полчаса, проведенные перед началом занятий с пернатыми, не принесут нам вреда. Кроме того, я немножко запоздал сегодня, и еще двум-трем птичкам надо сменить воду.
Он поднялся по скрипучей лестнице наверх и загремел большой связкой ключей перед обитой зеленым сукном дверью.
Выбрав нужный ключ и повертев его в замочной скважине, Кралевский открыл тяжелую дверь. Из комнаты на меня хлынул ослепительный солнечный свет и вместе с ним громкое птичье пенье. Можно было подумать, что в темном коридоре на чердаке своего дома Кралевский распахнул передо мной врата рая. Мансарда была очень большая, чуть ли не во весь этаж. Голый пол и почти никакой мебели, кроме большого соснового стола посреди комнаты. Зато все стены от пола до потолка были увешаны просторными, легкими клетками со множеством порхающих и щебечущих птиц. Везде на полу были рассыпаны семена, приятно хрустевшие под ногами, точно мелкая галька на морском берегу. Зачарованный таким обилием птиц, я медленно шагал по комнате, разглядывая каждую клетку. Кралевский (забывший, наверно, о моем существовании) схватил со стола большую лейку и проворно двигался от клетки к клетке, наполняя блюдечки водой.
Мое первое впечатление, что все птицы в клетках — канарейки, было неверным. Я с восторгом обнаружил тут щеглов, пестрых, как клоуны, в их ярко-малиновом, желтом и черном наряде, желто-зеленых зеленушек, будто листья лимонного дерева в середине лета, коноплянок в их изящных шоколадно-белых костюмах из твида, снегирей с пышной розовой грудью и разных других птиц. В одном углу комнаты я наткнулся на стеклянную дверь, которая вывела меня на балкон. С каждой стороны балкона были пристроены большие клетки, в одной жил черный дрозд с бархатными перьями и красивым бананово-желтым клювом, в другой, напротив нее, похожая на дрозда птица в великолепном оперении всех небесных оттенков — от темно-синего до опалового.
— Каменный дрозд, — объявил Кралевский, неожиданно просунув голову в дверь и показывая на эту красивую птицу. — Мне привезли его в прошлом году из Албании, тогда он был еще птенцом. К сожалению, я до сих пор не смог получить для него даму.
Он приветливо помахал дрозду лейкой и снова скрылся за дверью. Дрозд поглядел на меня озорным глазом, вспушил на груди перья и выпустил серию отрывистых звуков, похожих на радостный смех. Насмотревшись на него вдоволь, я вернулся в мансарду, где Кралевский все еще разливал птицам воду.
— Не хотел бы ты мне помочь? — спросил он, обращая ко мне отсутствующий взор, и опустил лейку, так что тонкая струйка воды полилась на носок его начищенного до блеска башмака. — Я всегда думал, что две пары рук справятся с этой работой успешнее. Если ты возьмешь лейку… вот так… я буду доставать блюдечки… отлично! Как раз то, что надо! Вдвоем мы мигом покончим с этим делом.
Я наполнял водой глиняные поилки, а Кралевский брал их осторожно двумя пальцами и ловко расставлял по клеткам, как будто совал леденцы в рот ребенку. При этом он все время разговаривал и со мной и с птицами совершенно одинаковым тоном, так что я не всегда понимал, кому адресовано замечание, мне или одному из обитателей клеток.
— Да, они сегодня в прекрасном настроении, потому что светит солнце… как только оно окажется с этой стороны дома, они начнут петь. В другой раз надо отложить побольше… только два, моя дорогая, только два. При всем желании это выводком не назовешь. Нравятся тебе новые семена? А сам-то ты держишь кого-нибудь? Здесь можно найти очень интересных птиц… Не делай этого в чистую воду… Разводить некоторых из них совсем нелегко, но я считаю эту работу очень благодарной, в особенности с помесями. У меня обычно хорошо идет дело с помесями… Конечно, за исключением тех случаев, когда ты откладываешь только по две штуки… мошенница, мошенница!
Вода наконец была разлита. Кралевский постоял еще с минуту, любуясь своими птицами; улыбнулся про себя и старательно вытер руки маленьким полотенцем. Потом он провел меня по комнате, останавливаясь возле каждой клетки, чтобы рассказать историю птицы, ее родителей и что он собирается с птицей делать. Мы рассматривали — в приятном молчании — порхавшего толстенького снегиря, как вдруг раздался громкий дребезжащий звук, заглушивший птичье щебетание. К моему удивлению, он шел откуда-то изнутри живота Кралевского.
— Бог ты мой! — ужаснулся он, обращая ко мне страдальческий взгляд. — Боже милостивый!
Вынув двумя пальцами из кармана часы, он нажал рычажок, и трезвон прекратился. Я был несколько разочарован тем, что у звука оказался такой банальный источник. Насколько бы привлекательней были уроки, думал я, если б у моего учителя временами раздавался звон внутри. Кралевский с беспокойством посмотрел на часы и поморщился.
— Бог ты мой! — повторил он слабым голосом. — Уже двенадцать часов… время и впрямь летит как на крыльях… Подумать только, ведь тебе через полчаса надо уезжать.
Он положил часы обратно в кармашек и погладил лысину.
— Ну вот что, — сказал он наконец. — За полчаса мы все равно не сумеем добиться научных успехов, поэтому я предлагаю, если тебе это не покажется скучным, спуститься в сад и собрать немного крестовника для птиц. Это растение очень полезно для них, в особенности когда они несутся.
Мы спустились в сад и рвали крестовник до тех пор, пока с улицы не донесся шум автомобиля Спиро, подающего сигналы, похожие на крик раненой утки.
— Кажется, это твой автомобиль, — учтиво заметил Кралевский. — Нам удалось собрать достаточно зелени для птиц. Твоя помощь была неоценимой. Завтра приезжай ровно в девять, понимаешь? Нельзя опаздывать. Будем считать, что сегодняшний день не пропал даром. Это было своего рода вступление, оценка друг друга. И я надеюсь, что у нас есть основы для дружбы. Бог ты мой, как это важно! Ну, до свиданья, до завтра, значит.
Когда я закрыл за собой скрипучую чугунную калитку, он учтиво помахал мне рукой и пошел обратно к дому, оставляя за собой след из золотых цветков крестовника.
Дома меня сразу спросили, как мне понравился новый учитель. Не вдаваясь в подробности, я сказал, что человек он хороший и что я надеюсь с ним подружиться. На расспросы о том, чем мы занимались сегодня утром, я ответил не без гордости, что сегодняшние занятия были посвящены орнитологии и ботанике. Все как будто остались довольны. Очень скоро я понял, что у Кралевского не побездельничаешь и что он твердо решил дать мне образование, как бы я сам к этому ни относился. Уроки были для меня утомительны, потому что Кралевский пользовался такими методами преподавания, какие были в ходу, наверное, в середине восемнадцатого века. Историю он давал огромными, трудными для усвоения кусками, даты надо было выучивать наизусть. Мы сидели и монотонно повторяли их до бесконечности, пока они не становились каким-то заклинанием, которое мы произносили автоматически, думая совсем о другом. В географии, как я ни досадовал, мы ограничились лишь Британскими островами. Приходилось чертить бесчисленные карты и наносить на них все графства с их главными городами, а потом эти графства и города надо было выучивать наизусть вместе с названиями крупных рек, основными предметами производства, числом жителей и множеством других скучных и совершенно ненужных сведений.
— Сомерсет? — произносил Кралевский с видом судьи.
Я сдвигал брови, отчаянно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь об этом графстве. Кралевский следил за моими умственными усилиями, и от беспокойства глаза его раскрывались все шире.
— Ну ладно, — говорил он наконец, когда становилось очевидным, что мои познания о Сомерсете равны нулю. — Ладно, давай оставим Сомерсет и поговорим об Уорикшире. Ну вот, какой там главный город? Уорик! Совершенно верно! А что же производят в Уорике?
По мне, пусть бы они там вовсе ничего не производили, в этом Уорике, но я рискнул и сказал наугад: уголь. Я уже заметил, что если называть все продукты подряд (неважно, о каком графстве или городе идет речь), то рано или поздно отыскивается правильный ответ. Страдания Кралевского из-за моих промахов были неподдельны. В тот день, когда я сообщил ему, что в Эссексе производят нержавеющую сталь, в его глазах стояли слезы. Но эти долгие периоды огорчений с лихвой возмещались необыкновенной радостью и восторгом, когда мой ответ по какой-нибудь странной случайности оказывался правильным.
Раз в неделю мы мучились над французским языком. Кралевский говорил по-французски отлично, и слушать, как я коверкал язык, было для него почти невыносимо. Довольно скоро он обнаружил, что заниматься со мной по обычным учебникам совершенно бесполезно, поэтому отложил их в сторону и взял трехтомник о птицах, но все равно это был для нас тяжкий труд. По временам, когда мы в двадцатый раз читали описание оперения малиновки, на лице Кралевского появлялось выражение мрачной решимости. Он захлопывал книгу, выбегал в прихожую и через минуту появлялся в изящной панаме.
— Я думаю, небольшая прогулка освежит нас немного… проветрим наши мозги, — объявлял он, с неприязнью взглянув на «Les petits oiseaux de l’Europe»[5].— Я думаю пройтись по городу и вернуться обратно на эспланаде. Как ты на это смотришь? Отлично! Ну, не будем зря терять времени и воспользуемся прогулкой для разговорной практики французского языка. Итак, ни одного слова по-английски, будем говорить только по-французски. Таким образом мы его и выучим.
И вот почти в полном молчании мы ходили по городу. Прелесть этих прогулок заключалась в том, что, куда бы мы сначала ни пошли, мы неизменно, так или иначе, оказывались на птичьем рынке. С нами происходило почти то же самое, что с Алисой в саду Зазеркалья: как бы решительно мы ни шагали в противоположном направлении, все равно в два счета попадали на маленькую площадь, где на прилавках громоздились клетки из ивовых прутьев и воздух звенел от пения птиц. Французский язык сразу забывался. Он отходил в ту область, где оставались исторические даты, алгебра, геометрия, главные города графств и подобные им вещи. Глаза у нас сияли, лица разгорались, мы ходили от прилавка к прилавку, внимательно разглядывали птиц, отчаянно торговались с продавцами и понемногу нагружались клетками.
Потом нас внезапно возвращал на землю перезвон часов в жилетном кармане Кралевского, который, с трудом удерживая свой шаткий груз, пытался вытащить часы из кармана и остановить их.
— Бог ты мой! Двенадцать часов! Кто бы мог подумать?! Пожалуйста, подержи эту коноплянку, пока я остановлю часы… благодарю… Нам ведь надо торопиться, а? Вряд ли сможем идти пешком с таким вот грузом. Ах, Боже мой! Надо взять извозчика. Экстравагантно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь!
Мы перебегаем площадь, складываем наши щебечущие, порхающие покупки на извозчика и катим к дому Кралевского. Стук копыт и звон упряжки весело смешиваются с чириканьем нашего птичьего груза.
Я прозанимался с Кралевским уже несколько недель, прежде чем открыл, что он живет не один. Во время наших занятий он иногда останавливался прямо в середине задачи или перечисления городов и склонял голову набок, как будто прислушивался к чему-нибудь.
— Извини, пожалуйста, — говорил он. — Мне надо отлучиться на минутку к маме.
Сначала это меня очень удивляло, так как я считал Кралевского слишком старым и не ожидал, что у него может быть жива мать. Поразмыслив как следует, я пришел к выводу, что это просто вежливый предлог для того, чтобы выйти в туалет. Я отлично понимал, что не все люди могут говорить об этом с такой легкостью, как у нас в семье. И вот как-то утром я съел за завтраком слишком много мушмулы, она дала о себе знать в середине урока истории. Поскольку Кралевский был так щепетилен в этом вопросе, я решил выразить свою просьбу вежливо, воспользовавшись его собственной манерой выражаться. Твердо поглядев ему в глаза, я объявил, что хотел бы повидать его маму.
— Мою маму? — поразился он. — Повидать мою маму? Сейчас?
Я не мог понять, что его так удивляет, и просто кивнул.
— Хорошо, — сказал он неуверенно. — Конечно, она будет рада тебя видеть, но я все-таки пойду узнаю, удобно ли это теперь.
Он вышел из комнаты, все еще как бы недоумевая, и через пять минут вернулся снова.
— Мама будет рада повидать тебя, — объявил он, — только просит извинить ее за то, что она немного не в порядке.
Я сказал, что ни чуточки не возражаю, если его мама будет не совсем в порядке, с нашей это тоже иногда случается.
— А… э… да, да, я так и думал, — пробормотал он и поглядел на меня с беспокойством.
Кралевский провел меня по коридору, открыл дверь и, к моему совершенному изумлению, впустил в большую темную спальню. Это был настоящий цветник. Повсюду стояли вазы, кувшины, горшки со множеством красивых цветов, сиявших в полутьме комнаты, словно драгоценные камни на стенах пещеры. С одной стороны стояла огромная кровать, и на ней среди груды подушек виднелась маленькая, почти детская фигурка. Когда мы подошли поближе, я подумал, что женщина эта очень старая, так как ее тонкое, болезненное лицо было покрыто густой сеткой морщин, избороздивших ее мягкую, бархатистую, словно молоденький гриб, кожу. Но больше всего поражали в ней волосы, густым каскадом спадавшие ей на плечи. Они занимали полкровати и были самого изумительного темно-рыжего цвета, какой только можно себе вообразить. Волосы сверкали и искрились, будто от огня, напоминая мне осенние листья или блестящую зимнюю шкурку лисицы.
— Мама, — тихо окликнул ее Кралевский, проходя через комнату и садясь на стул у кровати. — Мама, Джерри к тебе пришел.
Миниатюрная женщина подняла прозрачные, бледные веки и посмотрела на меня большими карими глазами, ясными и умными, как у птицы. Из глубины золотых волос она подняла тонкую, красивую руку в кольцах и с озорной улыбкой протянула ее мне.
— Я очень рада, что тебе захотелось повидать меня, — сказала она тихим, хрипловатым голосом. — В наше время люди моего возраста многим кажутся скучными.
Я пробормотал что-то в смущении, а она посмотрела на меня ясными глазами, засмеялась грустным, мелодичным смехом и постучала рукой по кровати.
— Садись, — пригласила она. — Садись, пожалуйста, и поговорим немного.
Осторожно взяв в руки волосы, я отодвинул их в сторону, чтоб можно было сесть. Волосы были мягкие, шелковистые и тяжелые, они струились у меня между пальцами огненной волной.
Кралевский улыбнулся и взял в руки прядь волос, слегка покрутив их, чтоб они засверкали.
— Теперь это у меня единственная гордость, — сказала женщина. — Все, что осталось от моей красоты.
Она посмотрела на свои волосы, как будто это было что-то постороннее, не имевшее с нею ничего общего, и нежно погладила их.
— Это удивительно, — сказала она. — Очень удивительно, но, знаешь, я думаю, что красивые вещи влюбляются сами в себя, как Нарцисс. И когда это происходит, они начинают жить самостоятельно, без всякой поддержки. Они так погружаются в собственную красоту, что живут только ради нее, держатся сами собой, так сказать. И чем прекраснее они становятся, тем сильнее. Получается замкнутый круг. Вот так и с моими волосами. Они живут самостоятельно, растут сами по себе, и то, что мое тело дряхлеет, нисколько не действует на них. Когда я умру, они заполнят почти весь мой гроб и, наверно, будут еще долго расти.
— Ну полно, полно, мама, не надо так говорить, — мягко пожурил ее Кралевский. — Мне не нравятся эти болезненные мысли.
Повернув голову, она ласково посмотрела на него и тихо засмеялась.
— Вовсе они не болезненные, Джон, — сказала она. — Просто у меня такая теория. И подумай, какой это будет прекрасный саван.
Она посмотрела на свои волосы со счастливой улыбкой. В это время у Кралевского громко зазвонили часы. Он встрепенулся, вынул их из кармашка и остановил.
— Бог ты мой! — вскочил он с места. — Из тех яиц, наверно, уже вылупились птенцы. Ты меня извинишь, мама? Я на минутку, обязательно надо посмотреть.
— Беги, беги, — сказала она. — Мы с Джерри тут поговорим, пока ты не вернешься.
— Вот то, что надо! — воскликнул Кралевский и быстро пошел к двери, пробираясь, словно крот, сквозь радугу цветов. Когда дверь за ним со вздохом затворилась, миссис Кралевская повернула ко мне лицо и слегка улыбнулась.
— Говорят, — начала она, — говорят, что, когда человек становится старым, как я, в его теле все замедляется. Нет, я этому не верю. Это не так. У меня есть своя теория. Не в человеке все замедляется, а жизнь для него замедляется. Ты меня понимаешь? Все становится как бы затянутым, а когда все движется медленнее, заметить можно гораздо больше. Вам все видно! Все необыкновенное, что происходит вокруг вас, о чем вы даже и не подозревали прежде. Какое чудесное переживание, просто чудесное.
Она удовлетворенно вздохнула и обвела комнату взглядом.
— Возьмем хотя бы цветы, — сказала она, показывая на букеты, наполнявшие комнату. — Ты когда-нибудь слышал, как цветы разговаривают?
Я в удивлении покачал головой. Говорящие цветы были для меня совершенной новостью.
— Можешь мне поверить, они в самом деле разговаривают. Ведут между собой длинные беседы… во всяком случае, я считаю это беседами, а о чем они говорят, мне, конечно, непонятно. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, возможно, и ты сумеешь их услышать, если, конечно, останешься восприимчив к таким вещам. Большинство людей считает, что, когда человек стареет, он уже ничему не удивляется, ничему не верит и поэтому лучше воспринимает мысли. Глупости это! У всех старых людей, кого я знаю, мозги с отроческих лет закрылись, как серые устрицы.
Она внимательно посмотрела на меня.
— Скажи, я не кажусь тебе странной? Немного тронутой, а? Со своими разговорами о говорящих цветах?
Я искренне поспешил ее уверить, что не считаю. Конечно, цветы вполне могут разговаривать друг с другом. Вот летучие мыши издают такой тихий писк, я его слышу, а взрослые нет, потому что звуки очень высокие.
— Вот, вот! — обрадовалась она. — Все дело в длине волны. Я объясняю это замедлением движения. А еще в юности мы не замечаем, что все цветы имеют свою индивидуальность. Они отличаются друг от друга так же, как и люди. Посмотри вон туда. Видишь там розу в вазочке?
В углу на маленьком столике в серебряной вазочке стояла замечательная бархатная роза такого густого красного цвета, что казалась почти черной. Это был великолепный цветок с лепестками безупречной формы и с нежным налетом на них, таким же, как пушок на крыле только что появившейся из кокона бабочки.
— Ну что, красавица? — спросила миссис Кралевская. — Чудесная ведь, а? Она стоит у меня две недели. Трудно поверить, правда? И она не была бутоном, когда ее сюда принесли. Нет, нет, она уже тогда вполне раскрылась, только совсем поникла, я даже не думала, что она выживет. Кто-то неосторожно засунул ее в букет астр. Это смертельно, просто смертельно! Ты не представляешь, как жестоки все сложноцветные. Это очень сильные цветы, очень приземленные, и, конечно, безрассудно было помещать среди них такую аристократку, как роза. Когда ее принесли сюда, она так завяла, что я даже не заметила ее среди астр. Но, к счастью, я услышала их разговор, пока дремала тут. Его начали желтые астры, которые всегда кажутся такими воинственными. Конечно, я не знаю, о чем они говорили, но это было ужасно. Сначала я не поняла, с кем они ведут разговор, думала, они ссорятся между собой. Потом я встала с постели и увидела среди них эту бедную розу, изведенную до полусмерти. Я вынула ее, поставила отдельно, добавив в воду полтаблетки аспирина. Аспирин очень хорошо действует на розы. Серебряные монетки — для хризантем, аспирин — для роз, бренди — для душистого горошка, лимонный сок — для мясистых цветов, таких, как бегония. Ну вот, когда ее спасли от астр и дали возбуждающее средство, она очень быстро оправилась и казалась очень признательной. Очевидно, теперь в благодарность мне роза старается сохранить свою красоту как можно дольше.
Она с любовью посмотрела на цветок, сияющий в своей серебряной вазе.
— Да, я очень многое узнала о цветах. Они как люди. Если их собирается слишком много, они действуют друг другу на нервы и начинают вянуть. Смешай некоторые цветы, и увидишь, какая между ними начнется распря. Конечно, важное значение имеет вода. Знаешь, некоторые люди думают, что воду надо менять каждый день. Ужасно! Ты можешь услышать, как гибнут от этого цветы. Я меняю воду раз в неделю, кладу в нее горсть земли, и цветы стоят очень хорошо.
Открылась дверь, в комнату с победной улыбкой вошел Кралевский.
— Они вылупились, — объявил он. — Все четверо. Как я рад! Я так беспокоился. Это ее первый выводок.
— Прекрасно, дорогой. Я очень рада, — просияла миссис Кралевская. — Рада за тебя. Ну, а мы с Джерри интересно побеседовали. По крайней мере для меня это было интересно.
Я сказал, что для меня это тоже было очень интересно, и встал с кровати.
— Ты должен прийти ко мне еще раз, если тебе не скучно, — сказала она. — Может быть, мои рассуждения немного экстравагантны, но тебе их стоит послушать.
Она улыбнулась мне и поднесла руку в знак прощания. Мы с Кралевским направились к двери. На пороге я остановился, посмотрел назад и улыбнулся. Она лежала совсем неподвижно подпокровом своих тяжелых волос. Когда я оглянулся, она еще раз подняла руку и помахала ею на прощанье. Мне казалось, что в полутемной комнате цветы придвигаются к ней, теснятся у ее кровати как бы в ожидании, что она расскажет им о чем-нибудь. Старая больная королева в окружении своего двора — говорящих цветов.

Глава пятнадцатая
Цикламеновые рощи

Примерно в полумиле от нашего дома возвышался довольно большой, поросший травой и вереском холм с тремя оливковыми рощицами наверху в окружении миртовых зарослей. Я назвал эти рощицы цикламеновыми, потому что в определенное время года земля под оливковыми деревьями ярко вспыхивала от красных и малиновых цветков цикламенов, которые росли тут как будто гуще и пышнее, чем во всех других местах. Пестрые круглые луковки с отстающими чешуями сидели в земле, словно устрицы, и каждая выставляла наружу пучок темно-зеленых листьев со светлыми прожилками и фонтанчик красивых цветов, как бы составленных из ярко-красных снежинок.
В цикламеновых рощах было приятно провести время после полудня, полежать в тени олив. С холма открывался вид на долину, на мозаику полей, виноградников, фруктовых садов. Верхушка холма постоянно обдувалась ветром, хотя и очень незначительным. Как бы жарко ни было в долине, здесь, наверху, среди рощ всегда подувал легкий ветерок, играл листвою олив, заставлял без конца кланяться друг другу поникшие цветки цикламенов. Это было идеальное место для отдыха после изнурительной охоты на ящериц, когда голова у вас перекалилась на солнце, одежда намокла от пота, а три собаки, вывалив языки, пыхтят как паровозы. Однажды, отдыхая здесь с собаками как раз после такой вот охоты, я приобрел двух новых пернатых друзей и нечаянно раскрутил целую цепь событий, имевших определенные последствия для Ларри и Кралевского.
Собаки растянулись среди цикламенов, раскинули задние ноги, чтобы получше прижаться к прохладной земле, и лежали, полуприкрыв глаза и высунув мокрые, дрожащие языки. Я сидел, прислонившись к столетнему стволу оливы, прямо как к спинке кресла, смотрел на поля и старался распознать в движущихся там разноцветных точках своих деревенских друзей. Где-то далеко внизу над светлым прямоугольником спелой кукурузы появился черно-белый мальтийский крест. Он быстро скользил над плоскими участками полей и решительно направлялся к вершине холма, где я сидел. Приблизившись ко мне, сорока трижды прокричала хриплым несколько приглушенным голосом, как будто у нее было что-то в клюве, и стрелой спустилась в оливы, чуть подальше от меня. Наступила тишина. И вдруг из листвы донеслись резкие, хриплые крики. Они становились все громче, громче, а потом начали понемногу стихать. Опять послышался предостерегающий стрекот сороки, и вслед за тем она выпорхнула из листьев и полетела прочь от холма. Я все время следил за нею, пока она не превратилась в малюсенькое пятнышко, плавающее над кудрявым треугольничком виноградника на горизонте, потом осторожно подобрался к дереву, откуда только что доносились странные звуки. Там, высоко среди ветвей, я разглядел большой, наполовину скрытый серебристо-зеленой листвой овальный пук прутьев, как застрявший в ветках мячик. Вне себя от волнения, я полез вверх. Сгрудившиеся у дерева собаки с интересом следили за мной. Достигнув высоты гнезда, я посмотрел вниз, и у меня заныло под ложечкой, так как обращенные ко мне взволнованные собачьи морды казались отсюда не больше цветков фиалки. Очень осторожно (от напряжения у меня даже вспотели ладони) я стал пробираться к краю ветки, пока не оказался у гнезда среди трепетавшей на ветерке листвы. Это было солидное сооружение, большая, глубокая корзинка из тщательно переплетенных прутиков, выстланная изнутри корешками и землей. Маленькое входное отверстие открывалось сбоку, на обрамлявших его прутьях торчали острые шипы. Шипы выступали и по бокам гнезда и на искусно сплетенном куполе крыши. Такое гнездо должно было отпугнуть даже самых страстных любителей птиц.
Стараясь не глядеть вниз, я растянулся на ветке, осторожно просунул руку в отверстие усаженного колючками гнезда и стал шарить внутри. Когда моя рука наткнулась на нежный дрожащий комок пуха, из гнезда понеслись громкие, хриплые крики. Я осторожно обхватил пальцами толстого, теплого птенчика и вытащил его наружу. Даже я, при всей своей восторженной любви к птенцам, не мог бы назвать его красивым. У него был толстый короткий клюв с желтыми складками по углам, лысая голова и полуприкрытые мутные глаза, придававшие ему вид пьяного или, скорее, слабоумного субъекта. Морщинистая кожа складками болталась по всему телу, словно наспех и кое-как пришпиленная к мясу черными обрубками перьев. Между худыми длинными ногами торчал большой обвислый живот. Кожа на нем была такая тонкая, что сквозь нее просвечивали внутренности. Птенец сидел на моей ладони, выставив живот, будто наполненный водою шар, и беспомощно попискивал. Поискав внутри гнезда, я обнаружил там еще трех птенчиков, таких же безобразных, как и тот, что сидел у меня на ладони. Чуть подумав и внимательно оглядев каждого из них, я решил взять одну пару себе, а другую оставить матери. Это показалось мне вполне справедливым, я не представлял, какие у матери могут быть возражения. Себе я выбрал самого большого (он быстро подрастет) и самого маленького (у него был очень трогательный вид), бережно посадил их за пазуху и стал спускаться вниз, где меня поджидали собаки. Когда я показал щенкам новое пополнение своего зверинца, они сразу предположили тут что-то съедобное и попытались выяснить, так ли это. Сделав им серьезное внушение, я показал птенцов Роджеру. Тот обнюхал их в своей обычной манере и быстро отступил, так как птенцы вскинули вдруг головы на длинных костлявых шеях, широко раскрыли красные глотки и громко заорали.
По пути домой я старался придумать имена своим новым птенцам и все еще бился над этой проблемой, когда увидел около дома автомобиль и всех своих родных, только что вернувшихся с покупками из города. Протянув в сложенных ладонях птенцов, я спросил, может ли кто-нибудь придумать им подходящие имена. Все сразу повернулись в мою сторону, и каждый отреагировал на свой манер.
— Какая прелесть, — сказала Марго.
— Чем ты их собираешься кормить? — спросила мама.
— Опять новые звери? — возмутился Ларри.
— Господи, мастер Джерри, — с отвращением поглядел на птенцов Спиро. — Кто они такие?
Я ответил довольно холодно, что это птенцы сороки и что я никого не прошу высказывать свое мнение о них, а просто хочу, чтоб мне помогли придумать им имена. Как их можно назвать?
Но у всех оказалось не то настроение.
— Подумать только! Он отнял этих бедняжек у матери, — сказала Марго.
— Надеюсь, милый, они уже могут самостоятельно глотать пищу? — заметила мама.
— Боже мой! Чего только не приносит мастер Джерри! — воскликнул Спиро.
— Смотри, чтоб они не занялись воровством, — предостерег Лесли.
— Воровством? — забеспокоился Ларри. — А я думал, что воруют только галки.
— Сороки тоже, — сказал Лесли. — Страшные воришки.
Ларри вынул из кармана бумажку в сто драхм и помахал ею над птенцами. Те сейчас же подняли головы, закрутили шеями, открыли глотки и отчаянно завопили. Ларри живо отскочил в сторону.
— Боже мой! Ты прав! — заволновался он. — Видел, как они пытались выхватить у меня деньги?
— Глупости, милый. Они просто голодные, — сказала мама.
— Вовсе не глупости, мама… ты видела, как они прыгали? Их привлекли деньги… даже в этом возрасте у них уже преступные инстинкты. Их нельзя держать в доме. Это все равно что жить вместе с Арсеном Люпеном[6]. Джерри, пойди и отнеси сорок туда, где ты их взял.
Я с невинным видом объяснил, что не могу этого сделать, так как их бросила мать и они могут умереть от голода. Это замечание, как я и предполагал, немедленно перетянуло маму и Марго на мою сторону.
— Нельзя, чтоб бедняжки погибли от голода, — выразила свой протест Марго.
— Не понимаю, почему их опасно держать, — сказала мама.
— Вы еще пожалеете об этом, — заявил Ларри. — Сами лезете на рожон. Они обрыщут весь дом. Нам придется закопать все наши ценности и выставить около них вооруженную стражу. Это же просто безумие.
— Не говори глупостей, милый, — успокаивала его мама. — Их можно держать в клетке и выпускать только для моциона.
— Моциона! — воскликнул Ларри. — Конечно, вы скажете, что это моцион, когда они будут носиться по всему дому со стодрахмовыми бумажками в своих мерзких клювах.
Я божился, что им ни при каких обстоятельствах не позволено будет воровать. Ларри посмотрел на меня испепеляющим взглядом. Я напомнил, что сорок надо все же как-то назвать, но никто не мог ничего придумать. Все стояли и смотрели на дрожащих птенцов, и никому ничего не приходило в голову.
— Что ты собираешься делать с этими ублюдками? — спросил Спиро.
Я объяснил ледяным тоном, что собираюсь держать их в доме и что это не ублюдки, а сороки.
— Как ты их называешь? — спросил Спиро, насупившись.
— Сороки, Спиро, сороки, — сказала мама, стараясь произносить слово медленно и отчетливо.
Спиро повертел в уме это новое добавление к своему английскому лексикону, повторяя его про себя, чтобы лучше запомнить.
— Сóроки, — произнес он наконец. — Сóроки?
— Сорóки, Спиро, — поправила Марго.
— Я и говорю, сóроки, — рассердился Спиро.
Мы сразу перестали подыскивать им имена, и они обе так и остались для нас просто Сороками.
К тому времени, когда подросшие птенцы покрылись перьями, Ларри настолько привык к ним, что совсем забыл об их предполагаемых преступных наклонностях. Толстые, гладкие, болтливые Сороки сидели на краешке своей корзинки и всем своим видом выражали невинность. Все шло хорошо, пока они не начали учиться летать. На первых стадиях обучения Сороки просто срывались со стола на веранде и, отчаянно хлопая крыльями, проносились по воздуху футов пятнадцать, а потом шлепались на каменные плитки. Отвага их возрастала вместе с силой крыльев, и вскоре они уже смогли совершить свой первый настоящий полет, облетев вокруг дома. Вид у них был просто замечательный. Длинные хвосты сверкали на солнце, крылья со свистом рассекали воздух, когда птицы устремлялись вниз, пролетая над виноградными лозами. Я позвал всех из дома, чтобы они могли полюбоваться птенцами. Заметив зрителей, Сороки стали летать еще быстрее, гонялись друг за другом, подлетали почти к самой стене, прежде чем перейти в вираж, и выделывали акробатические трюки на ветках магнолии. В конце концов одна из Сорок, ставшая из-за нашего одобрения слишком самоуверенной, врезалась в виноградную лозу и рухнула на веранду. Я подобрал ее и начал успокаивать. Теперь это уже был не бесстрашный воздушный ас, а несчастный комок перьев, раскрывавший рот в жалобном хрипе. Но, раз испытав силу своих крыльев, Сороки быстро освоили дом и принялись там разбойничать.
Они узнали, что очень неплохо заглянуть иногда на кухню, если только оставаться у порога и не проникать внутрь. В гостиную и столовую, если там кто-нибудь был, они никогда не отваживались заявиться, а из всех спален только в моей могли рассчитывать на теплый прием. В спальни мамы и Марго Сороки, конечно, тоже могли залетать, но там им постоянно твердили, что этого нельзя, того нельзя, и они начинали скучать, Лесли пускал их в свою спальню не дальше подоконника, а после того, как он однажды выпалил нечаянно из ружья, Сороки совсем перестали навещать его. Нервы их были потрясены, и у них, вероятно, зародилось смутное подозрение, что Лесли покушался на их жизнь. Но, разумеется, сильнее всего их пленяла и притягивала спальня Ларри, наверное, оттого, что им еще ни разу не удалось заглянуть туда как следует. Они не успевали даже коснуться подоконника, как на них обрушивался такой неистовый рев и сыпался такой град всяких предметов, что им приходилось немедленно удирать под сень магнолии. Позиция Ларри была им совершенно непонятна. Но раз уж он так волнуется, решили они, значит, ему есть что прятать, и их долг выяснить, в чем тут дело. Они терпеливо дожидались своего часа, и вот однажды Ларри ушел на море и оставил окно открытым.
До возвращения Ларри я даже не подозревал, чем заняты птицы. Я их давно уже не видел и думал, что они улетели куда-нибудь вниз поворовать винограду. Видно, сами Сороки прекрасно понимали, каким нехорошим делом занимаются, потому что, всегда обычно говорливые, они действовали теперь в полном безмолвии и (по свидетельству Ларри) несли по очереди караул у окна. Поднявшись на холм, Ларри, к своему ужасу, увидел на подоконнике одну из Сорок и громко закричал на нее. Она подала сигнал тревоги, вторая птица сразу вылетела из комнаты, и они обе перепорхнули на магнолию, громко хихикая, словно мальчишки, которых спугнули во время набега на фруктовый сад. Ларри вломился в дом и стрелой полетел в свою комнату, схватив меня по пути за шиворот. Когда дверь распахнулась, из груди Ларри вырвался стон неизъяснимой муки.
Сороки прочесали комнату не хуже агента секретной службы, разыскивающего похищенные планы. Кругом на полу, как осенние листья, были разметаны листки отпечатанной рукописи и чистой бумаги. Почти все они были изукрашены симпатичным узором из проклеванных дырок. Сороки никогда не могли устоять перед бумагой. Пишущая машинка стояла на столе, как распотрошенная лошадь на арене после боя быков. Лента из нее была выдернута, клавиши перемазаны птичьим пометом. Весь ковер, кровать и стол белели под сугробами бумажных обрывков. Сороки, очевидно, заподозрили в Ларри контрабандиста наркотиков и геройски сражались с банкой соды, рассеяв ее содержимое по рядам книг, так что те напоминали теперь заснеженную горную гряду. На полу, на крышке стола, на рукописи, на кровати и в особенности на подушке красными и зелеными чернилами был нанесен необыкновенно живописный рисунок из отпечатков лапок, будто каждая птица опрокинула чернила своего любимого цвета и топталась по ним. Бутылка с синими чернилами, не такими яркими, осталась нетронутой.
— Нет, это уж последняя капля, — выговорил Ларри дрожащим голосом. — Решительно последняя капля. Ну вот что! Или ты примешь какие-то меры, или я своими руками пооткручиваю им шеи.
Я ответил, что Сороки не виноваты, их просто привлекают разные вещи, и они не могут удержаться. Так уж эти птицы устроены. Все представители вороньего племени, продолжал я, увлекаясь ролью защитника, очень любопытны от природы. Они не понимают, что делают зло.
— Тебя никто не просит читать лекции о вороньем племени, — угрожающе сказал Ларри. — И меня не интересует нравственность сорок, врожденная или благоприобретенная. Я только хочу тебе сказать, чтобы ты вышвырнул их из дома или держал под замком, иначе я выпущу им кишки.
Услышав нашу перебранку, все остальные тоже поднялись наверх, чтобы выяснить, в чем там дело.
— Господи Боже мой! Что же ты тут делал, милый? — спросила мама, заглядывая в разгромленную комнату.
— Послушай, мама, у меня нет настроения отвечать на глупые вопросы.
— Должно быть, Сороки, — сказал Лесли с вдохновением прорицателя. — Что-нибудь пропало?
— Нет, ничего не пропало, — со злостью ответил Ларри. — Все цело.
— Они перепутали все твои бумаги, — заметила Марго.
На минуту Ларри остановил на ней свой взгляд и глубоко втянул грудью воздух.
— Какая поразительная сдержанность речи, — вымолвил он наконец. — У тебя всегда наготове подходящая банальность, чтобы подвести итог катастрофе. Завидую твоей способности неметь пред ликом Судьбы.
— Можно обойтись и без грубостей, — сказала Марго.
— Ларри не хотел тебя обидеть, — успокаивала ее мама. — Естественно, что он расстроен.
— Расстроен? Рас-строен? Эти гнусные хищники ворвались сюда, будто свора критиков, и принялись рвать и пятнать мою рукопись, еще даже не оконченную, а ты говоришь, что я расстроен!
— Это очень досадно, милый, — сказала мама, пытаясь подыскать выражения посильнее. — Я уверена, что они не нарочно. Они ведь ничего не понимают… это всего лишь птицы.
— Прошу тебя, перестань, — рассвирепел Ларри. — Я уже выслушал одну лекцию о понятии добра и зла в вороньем племени. Просто противно, как у нас в доме носятся с животными и городят всякую антропоморфическую чушь в их оправдание. Почему бы всем вам не стать сорокопоклонниками и не воздвигнуть храм в их честь? Гладя на вас, можно подумать, что это я во всем виноват и должен быть в ответе за то, что моя комната выглядит так, будто ее грабили орды Аттилы. Ну вот что, мои дорогие: если вы сию минуту не примете мер, я сам разделаюсь с этими птицами.
У Ларри был такой кровожадный вид, что Сорок надо было, конечно, убрать подальше от греха. Я заманил их сырым яйцом в свою комнату и запер в корзинке. Что бы такое придумать для них получше? Ясно, держать их нужно в клетке, только мне хотелось бы для них клетку попросторней, но я понимал, что совсем большую мне одному не построить. Рассчитывать же на помощь своих близких просто не приходится. И вот я решил вовлечь в это дело Кралевского. Он может приехать к нам на день, и после того, как мы соорудим клетку, у него будет возможность показать мне приемы борьбы. Я уже давно ждал удобного случая для таких уроков, и теперешний казался мне идеальным. Умение бороться было одним из многих скрытых достоинств Кралевского.
Теперь я знал, что в жизни Кралевского, кроме любви к матери и птицам, было еще одно большое увлечение, целиком вымышленный мир, где всегда происходили удивительные и забавные события, в которых принимали участие только два главных действующих лица: он сам (герой) и какая-нибудь представительница прекрасного пола, называемая обобщенным именем Леди. Почувствовав, что я верю всем его историям, Кралевский становился все смелее и с каждым днем впускал меня чуть дальше в свой тайный рай. Все началось как-то во время перерыва между уроками, когда мы пили кофе с печеньем. Разговор зашел о собаках, и я признался в своем страстном желании иметь бульдога. Эти собаки казались мне совершенно неотразимыми в своем безобразии.
— Бог ты мой! Бульдоги! — воскликнул Кралевский. — Замечательные звери, верные и храбрые, чего, к сожалению, не скажешь о бультерьерах.
Он отхлебнул кофе и посмотрел на меня смущенным взглядом. Догадавшись, что мне полагается вызвать его на разговор, я спросил, почему он считает бультерьеров особенно ненадежными.
— Предатели! — воскликнул он, вытирая губы. — Настоящие предатели!
Кралевский откинулся на спинку стула, закрыл глаза и сложил руки как бы в молитве.
— Я вспоминаю, что однажды (много лет назад, тогда я жил еще в Англии) мне пришлось спасти некую Леди, когда на нее набросилась одна из этих зверюг.
Он открыл глаза и посмотрел мне в лицо. Увидел, что я слушаю с большим вниманием, закрыл их снова и продолжал:
— Как-то прекрасным весенним утром я прогуливался по Гайд-парку. В тот ранний час парк был совсем пустынный и безмолвный. Раздавалось только пение птиц. Я уже прошел порядочно, как вдруг услышал громкий лай.
Голос его перешел в дрожащий шепот. Все еще не открывая глаз, он склонил голову чуть набок, как бы прислушиваясь. Это было так естественно, что я тоже вообразил, будто слышу непрерывный бешеный лай, откликавшийся эхом среди бледно-желтых нарциссов.
— Сначала я не придал этому значения, подумал, что это какая-нибудь собака вышла погоняться за белками. Потом сквозь свирепый лай я вдруг услышал крики о помощи.
Кралевский прямо застыл на стуле, лоб его нахмурился, ноздри вздрогнули.
— Я помчался туда через заросли и вдруг увидел нечто совсем ужасное.
Он остановился, провел рукой по лбу, как будто даже теперь едва мог вынести воспоминание о происшедшем.
— Там, прижавшись спиной к дереву, стояла Леди. Юбка ее была изодрана в клочья, ноги искусаны до крови. Она старалась отогнать шезлонгом наседавшего на нее бультерьера. Собака с пеной у рта прыгала и рычала, подкарауливая удобный момент. Ясно, что силы Леди были на исходе. Нельзя было терять ни секунды.
Все еще не открывая глаз, чтобы яснее видеть воображаемую картину, Кралевский выпрямился на стуле, расправил плечи и придал своему лицу выражение насмешливого вызова, лихой отваги — выражение человека, собравшегося спасать Леди от бультерьера.
— Я поднял свою тяжелую трость и бросился вперед, громким голосом подбадривая Леди. Обернувшись на мой крик, собака сразу рванулась ко мне и страшно зарычала. Я так стукнул ее по голове, что палка моя сломалась пополам. Это, конечно, ошеломило собаку, но она все еще была полна сил. Я стоял перед нею беззащитный, а она собралась с духом, разинула пасть и прыгнула мне прямо на горло.
На лбу Кралевского выступил пот. Прервав свой рассказ, он достал носовой платок и приложил ко лбу. Мне не терпелось узнать, что было дальше. Кралевский снова соединил кончики пальцев и продолжал:
— Я сделал единственно возможную вещь. Это был один шанс на тысячу, но я им воспользовался. Когда собака оказалась у моего лица, я всунул ей руку в глотку, схватил за язык и перекрутил его изо всей силы. Зубы впились мне в запястье, брызнула кровь, однако я держался упорно, зная, что на карту поставлена моя жизнь. Собака таскала меня из стороны в сторону, и так продолжалось целую вечность. Силы мои были на исходе, я чувствовал, что больше не продержусь. Но животное вдруг резко дернулось и обмякло. Я достиг цели. Собака была задушена собственным языком.
Я вздыхал от восторга. Какая замечательная история! И это вполне могло быть правдой. А если даже это неправда, все равно такие вещи должны существовать на свете. Может быть, жизнь до сих пор не представила Кралевскому случая задушить бультерьера, что ж, он его придумал, и тут я ему вполне сочувствовал. Я сказал, что считаю его очень храбрым, если он сумел вот так справиться с собакой. Кралевский открыл глаза, просиял от удовольствия при виде моего искреннего восторга и улыбкой выразил сомнение в своей храбрости.
— Нет, нет, тут дело не в храбрости, — пояснил он. — Просто Леди попала в беду, и у джентльмена не было другого выхода. Ему ничего не оставалось, Бог ты мой!
Я оказался благодарным слушателем, так что уверенность Кралевского заметно возросла. Он рассказывал мне все новые и новые истории, одна поразительнее другой. Я скоро уразумел, что если искусно натолкнуть его на какую-нибудь мысль, то на следующий день появится соответствующее ей приключение, созданное за это время его воображением. Затаив дыхание, я слушал, как он и Леди оказались единственными уцелевшими душами после кораблекрушения на пути к Мурманску («Я ехал туда по делу»). Две недели они плыли вдвоем на айсберге в обледеневшей одежде и питались случайной рыбешкой или чайкой, пока их не подобрали. Заметивший их корабль мог бы свободно пройти мимо, если б не находчивость Кралевского: он использовал меховую шубку Леди, чтобы зажечь сигнальный огонь.
Меня очаровал рассказ о том, как он попал в руки бандитов в Сирийской пустыне («сопровождал Леди к гробницам»). Когда эти негодяи грозили похитить его прекрасную спутницу, чтобы потребовать за нее выкуп, он предложил себя вместо нее. Но бандиты, очевидно, сочли Леди более привлекательным заложником и отказались. Кралевский ненавидел кровопролития, но что может поделать джентльмен в подобных обстоятельствах? Он убил всех шестерых ножом, спрятанным в сапоге. Во время первой мировой войны Кралевский был, разумеется, агентом секретной службы, и его (с фальшивой бородой) забросили за вражеские линии, где он должен был связаться с другим английским шпионом и раздобыть кое-какие планы. Я не очень сильно удивился, когда вторым шпионом оказалась Леди. Их бегство (с планами) от стреляющей им вслед полицейской машины было чудом изобретательности. А кто, кроме Кралевского, рискнул бы пробраться в арсенал, зарядить все винтовки холостыми патронами и потом, когда загремели выстрелы, притвориться убитым? Я так привык к необычным рассказам Кралевского, что верил самым невероятным историям, какие он изредка рассказывал. Это его и погубило. Однажды он рассказал мне, что в юности, гуляя как-то вечером по парижским улицам, он наткнулся на огромного детину, пристававшего к Леди. Кралевский, в ком были оскорблены чувства джентльмена, не раздумывая, стукнул его тростью по голове. Человек оказался чемпионом Франции по борьбе и немедленно потребовал сатисфакции. Он предложил встретиться на площадке для борьбы и провести поединок. Кралевский согласился. День был назначен, и Кралевский приступил к тренировкам («овощная диета, постоянные физические упражнения»). Когда подошло назначенное число, он чувствовал себя в отличной форме. Противник Кралевского — судя по его описанию, и ростом и умственными способностями похожий на неандертальца — был чрезвычайно удивлен, обнаружив в Кралевском достойного противника. Они боролись целый час и все без результата, потом Кралевский вдруг вспомнил об одном приеме, которому его научил какой-то японский друг. Сделав поворот, он рывком подбросил своего мощного противника кверху, перевернул его и с силой швырнул за площадку. Бедняга пролежал в госпитале три месяца, так ему было худо. По словам Кралевского, это было достойное наказание для грубияна, посмевшего поднять руку на Леди.
Увлеченный рассказом, я спросил, не сможет ли он научить меня основам борьбы. Для меня это будет очень полезно, если я когда-нибудь встречу Леди в беде. Кралевский не выразил по этому поводу никакого восторга. Возможно, как-нибудь потом, если у нас будет побольше места, он и покажет мне некоторые приемы. Кралевский забыл об этом случае, но я о нем помнил, и в тот день, когда мы должны были строить новое жилье для Сорок, решил поговорить с ним о его обещании. Выждав за чаем удобный момент, когда общая беседа на минуту прервалась, я напомнил ему о его знаменитом поединке с чемпионом Франции. Кралевскому это совсем не понравилось. Он побледнел и поспешил перебить меня.
— На людях такими вещами не хвастаются, — проговорил он хриплым шепотом.
Я охотно согласился пощадить его скромность, если он даст мне урок борьбы, покажет некоторые простые приемы.
— Хорошо, — сказал Кралевский, облизывая губы. — Я могу показать тебе несколько самых элементарных позиций. Но, знаешь, чтобы стать хорошим борцом, нужно очень много учиться.
Я обрадовался и спросил, будем ли мы бороться на веранде, на виду у всех, или же уединимся в гостиной? Кралевский предпочел гостиную. Очень важно, сказал он, чтобы нас не отвлекали. Мы ушли в гостиную, раздвинули там мебель, и Кралевский нехотя снял пиджак. Он объяснил, что основной и самый существенный принцип борьбы — выбить противника из равновесия. Для этого надо обхватить его вокруг талии и сильным рывком дернуть в сторону. Он продемонстрировал, как это делается, схватил меня и осторожно бросил на диван.
— Ну вот! — сказал он, подняв кверху палец. — Ты это усвоил?
Я ответил, что, кажется, вполне усвоил.
— Как раз то, что надо! — сказал Кралевский. — Ну, повали теперь ты меня.
Я решил не посрамить своего учителя и уж повалить так повалить его. Разбежавшись через всю комнату, я обхватил Кралевского вокруг груди, стиснул что есть силы, чтоб он не вырвался, и ловким поворотом руки швырнул на стул. К сожалению, толкнул я его недостаточно сильно. Не долетев до стула, он грохнулся на пол с таким пронзительным криком, что в гостиную сбежались все мои родные. Мы подняли бледного, стонущего чемпиона и положили на диван. Марго отправилась за бренди.
— Что же ты такое с ним сделал? — спросила мама.
Я сказал, что только следовал указаниям. Мне было сказано, чтобы я положил его на обе лопатки, я и положил. Все очень просто, я даже не понимаю, какие ко мне могут быть претензии.
— Ты не имеешь представления о собственной силе, — сказала мама. — Надо действовать осторожнее, милый.
— Ничего себе дельце сделал, — сказал Лесли. — Мог убить его.
— Я знал человека, оставшегося калекой на всю жизнь после такого броска, — охотно поделился с нами Ларри.
Кралевский застонал громче.
— Честное слово, Джерри, ты иногда поступаешь очень глупо, — сокрушалась мама. Ей, очевидно, представлялся Кралевский, прикованный на весь остаток своих дней к креслу на колесиках.
Меня раздражала эта несправедливая, на мой взгляд, критика. Я снова заявил, что вины моей тут нет. Мне показали, как надо повалить человека, и предложили проделать это. Вот я и проделал.
— Он, конечно, не думал, что ты собьешь его с ног, — сказал Ларри. — Ты мог повредить ему позвоночник. У того человека, о котором я говорил, позвоночник треснул, как банан. Очень любопытно. Он рассказывал, что у него высовывались кусочки кости…
Кралевский открыл глаза и бросил на Ларри тоскующий взгляд.
— Можно попросить у вас воды? — спросил он слабым голосом.
В это время в комнату вошла Марго с бутылкой в руках, и мы заставили Кралевского выпить немного бренди. Щеки его чуть порозовели, он снова прилег и закрыл глаза.
— Ну, если вы можете сидеть, — бодро заявил Ларри, — это хороший признак. Впрочем, ненадежный. Я знал одного художника, который свалился с лестницы и сломал позвоночник, после этого он еще ходил целую неделю, прежде чем обнаружил это.
— Да что ты говоришь! — заинтересовался Лесли. — И что же с ним случилось?
— Он умер, — сказал Ларри.
Кралевский принял сидячее положение и слегка улыбнулся.
— Может быть, вы будете настолько любезны, что позволите Спиро отвезти меня в город? Я думаю, что лучше всего показаться доктору.
— Ну, конечно, Спиро отвезет вас, — сказала мама. — Надо поехать в лабораторию Теодора и попросить его сделать рентген, просто для вашего успокоения.
Мы закутали бледного, но спокойного Кралевского во множество пледов и осторожно поместили за заднее сиденье автомобиля.
— Передайте Теодору, чтобы он послал нам со Спиро записку и сообщил о вашем состоянии, — сказала мама. — Надеюсь, вы скоро поправитесь. Я так сожалею о случившемся. Джерри, конечно, поступил очень легкомысленно.
Это был великий миг в жизни Кралевского. Он улыбнулся болезненной улыбкой, стараясь выразить спокойное безразличие, и чуть помахал рукой.
— Очень прошу вас, не расстраивайтесь, — выговорил он. — Не думайте больше об этом. И не ругайте мальчика. Он не виноват. Просто я давно не упражнялся.
Поздно вечером Спиро вернулся из своего рейса милосердия и привез записку от Теодора.
«Дорогая миссис Даррелл,
рентгеновские снимки показали, что у мистера Кралевского сломано два ребра; одно из них, к сожалению, очень сильно. Он скрыл от меня причину повреждения, но сила была приложена, должно быть, немалая. Однако, если он поносит с неделю повязку, все благополучно срастется.
Передаю всем привет,
Ваш Теодор
P.S. Не забыл ли я случайно у вас черную коробочку, когда приезжал в прошлый четверг? В ней были очень интересные экземпляры малярийных комаров, и, кажется, я ее где-то потерял. Известите меня, пожалуйста».
Глава шестнадцатая
Лилии над озером

Сороки были вне себя от возмущения, когда их стали держать взаперти, хотя и в очень просторной клетке. При таком неуемном любопытстве, как у них, трудно было пережить потерю возможности разведывать и комментировать все события. Их поле зрения ограничивалось теперь фасадом дома, и, если что-нибудь случалось с задней стороны, они доводили себя почти до безумия, стрекотали, кудахтали, носились без конца по клетке и просовывали головы сквозь прутья, стараясь разузнать, что происходит. Прикованные к одному месту, Сороки могли теперь посвящать уйму времени учебе, которая заключалась в твердом усвоении греческого и английского языка и в умелом воспроизведении естественных звуков. В очень короткий срок они научились называть всех членов нашей семьи по именам и с исключительным коварством разыгрывали Спиро. Дождавшись, когда он сядет в машину и немного отъедет от дома, Сороки бросались в угол клетки и кричали: «Спиро… Спиро… Спиро!..», заставляя его нажимать на тормоза и поворачивать обратно, чтобы выяснить, кто его звал. Много невинной радости доставляли им слова «Уходи!» и «Пойди сюда!», которые они выкрикивали по очереди то на греческом, то на английском, к полнейшему замешательству собак. Еще одна проделка, бесконечно их забавлявшая, заключалась в обмане бедных, несчастных цыплят, целыми днями рывшихся в земле среди оливковых рощ. По временам на пороге кухни появлялась служанка и начинала издавать писклявые звуки вперемежку с каким-то странным громким иканием. Это был сигнал кормления, и все куры, словно по волшебству, оказывались у кухонной двери. Как только Сороки освоили этот призыв, они извели бедных кур вконец. Обычно звуки их раздавались в самое неподходящее время, когда курам после долгих усилий и бесконечного кудахтанья удавалось наконец взобраться на ветки невысоких деревьев, или же в самую жаркую пору дня, когда они устраивали себе приятный отдых в тени миртовых зарослей. Едва куры успевали погрузиться в приятную дремоту, как Сороки принимались звать их на кормежку. Одна из них воспроизводила писклявые звуки, другая — икающие. Куры нервно оглядывались, каждая ждала, пока кто-нибудь еще не проявит признаков жизни. Тогда Сороки кричали снова, более призывно и настойчиво. Неожиданно какая-нибудь курица, менее сдержанная, чем другие, с кудахтаньем вскакивала на ноги и неслась к клетке Сорок. После этого и все остальные, кудахтая и хлопая крыльями, неслись за нею что есть духу. Подлетев к прутьям клетки, они толкались, громко квохтали, наступали друг другу на ноги, клевали друг друга, потом стояли и оторопело глядели на клетку, где элегантные Сороки в своих гладких черно-белых костюмах взирали на них с насмешкой, словно пара уличных зубоскалов, ловко одурачивших толпу ограниченных серьезных горожан.
Сороки очень любили собак, хотя не упускали случая подразнить и их. В особенности им полюбился Роджер, часто приходивший к ним в гости. Навострив уши, он лежал у железных прутьев, а Сороки садились на пол клетки в трех дюймах от его носа и начинали разговаривать с ним тихими, хриплыми голосами, изредка заливаясь грубым хохотом, как будто рассказывали ему неприличные анекдоты. Они никогда не дразнили Роджера так упорно, как двух других собак, и никогда не пытались заманить льстивыми речами к самой клетке, где его можно было хлопнуть крылом или потянуть за хвост, что они часто проделывали с Вьюном и Пачкуном. В целом Сороки относились ко всем собакам благосклонно, но те должны были выглядеть и вести себя вполне как собаки, поэтому, когда у нас появилась Додо, Сороки начисто отказались верить, что это собака, и с самого начала стали относиться к ней с насмешливым, шумным презрением.
Додо была из породы шотландских терьеров. Эти собаки похожи на толстые, покрытые шерстью колбасы с малюсенькими кривыми ножками, огромными выпуклыми глазами и длинными обвислыми ушами. Как ни странно, своим появлением у нас этот забавный уродец был обязан маме. Один наш знакомый держал пару таких собак, которые вдруг (после долгих лет бесплодия) произвели на свет шесть малюток. Бедный хозяин сбился с ног, пытаясь получше пристроить щенят, и мама по своей доброте и легкомыслию обещала взять одного себе. Через несколько дней она отправилась выбирать щенка и неблагоразумно выбрала суку. В тот момент ей даже в голову не пришло, как неосторожно вводить даму в дом, населенный только одними мужественными собаками. Зажав щенка под мышкой (настоящая сосиска со слабыми признаками сознания), мама забралась в машину и с торжеством покатила домой показывать свое приобретение. Когда автомобиль подъехал к дому, мы все собрались на веранде и смотрели, как мамино пучеглазое сокровище ковыляет к нам по дорожке, отчаянно размахивая ушами. Чтобы приводить свое длинное, неуклюжее тело в движение, щенку приходилось очень усердно работать крохотными лапами. Чуть ли не на каждом шагу он останавливался у клумбы, так как после долгой езды в автомобиле его сильно мутило.
— Ах, какая прелесть! — закричала Марго.
— Ей-богу, он похож на голотурию, — сказал Лесли.
— Мама! Вот уж придумала! — воскликнул Ларри, с отвращением разглядывая Додо. — Где ты только откопала этого собачьего Франкенштейна?
— Но это же прелесть, — повторила Марго. — Что тебя в нем не устраивает?
— Это не он, а она, — сказала мама, с гордостью осматривая свою собственность. — Ее зовут Додо.
— Ну вот, — сказал Ларри. — Меня не устраивают прежде всего две вещи. Во-первых, у нее мерзкое для животного имя, во-вторых, приводить суку в дом, где живут вот эти три молодца, значит не желать себе добра. А потом, ты только посмотри на нее! Отчего это она такая? Попала в катастрофу или такой родилась?
— Не говори глупостей, милый. Это порода. Ей такой и положено быть.
— Чепуха, мама. Это урод. Ну кто умышленно станет выводить существо подобной формы?
Я напомнил, что и таксы имеют почти такую же форму. Их вывели специально для того, чтобы во время охоты на барсуков они могли проникать в их норы. Может быть, и шотландских терьеров вывели с такой же целью.
— Похоже, их вывели для того, чтобы они могли проникать в сточные трубы.
— Не говори гадостей, милый. Это очень славные собачки и очень верные.
— Еще бы, им приходится быть верными тем людям, кто проявит к ним интерес. Ведь у них не может быть много поклонников.
— Мне кажется, ты очень злишься на нее, во всяком случае, с тобой сейчас нельзя рассуждать о красоте. В конце концов ты просто поверхностный человек. Прежде чем бросать камни в чужой огород, ты лучше поищи бревно в своем глазу, — торжествующе выпалила Марго.
— Это пословица или цитата из газеты строителей? — удивился Ларри.
— Ты мне надоел, — сказала Марго с величественным презрением.
— Ладно, ладно, — увещевала их мама. — Не ссорьтесь. Это моя собака, и мне она нравится, остальное не имеет значения.
Поселившись у нас в доме, Додо почти сразу же выказала свои недостатки и причиняла нам хлопот гораздо больше, чем все остальные собаки, вместе взятые. Прежде всего у нее была слабая задняя нога, в любой час дня и ночи она без всяких видимых причин могла вывихнуться в бедренном суставе. Додо, не обладавшая стоическим характером, встречала эту катастрофу пронзительными криками, которые достигали прямо душераздирающих высот. Вынести это было невозможно. Однако же нога совсем не беспокоила Додо, когда она отправлялась на прогулку или с резвостью слона носилась по веранде за мячом! Но вечерами, когда мы, собравшись все вместе, спокойно погружались в чтение, писание писем или вязание, нога Додо непременно выходила из сустава. Собака опрокидывалась тогда на спину и визжала так, что все, побросав свои дела, вскакивали с места. К тому времени, когда нам удавалось вправить ей ногу, Додо, накричавшись до полного изнеможения, мгновенно погружалась в глубокий мирный сон, а наши нервы бывали так напряжены, что мы уже до конца вечера не могли ни на чем сосредоточиться.
Как вскоре выяснилось, интеллект у Додо был чрезвычайно ограничен. Ее черепная коробка могла вместить одновременно только одну какую-нибудь мысль, но, уж если она туда попадала, Додо упорно отстаивала ее, несмотря на все противодействия. Очень скоро после своего прибытия она решила, что мама принадлежит только ей одной, но вначале проявляла свои собственнические наклонности не так уж активно, пока мама не уехала однажды в город за покупками, не взяв ее с собой. Додо вообразила, что ей никогда больше не видать маму, и пришла в полное отчаяние. С тоскливым воем она бродила вокруг дома и порой так предавалась горю, что ее нога тут же выходила из сустава. Маминому возвращению она обрадовалась несказанно, однако решила, что с этого момента больше уже не выпустит маму из виду, иначе та сбежит снова. Она прицепилась к маме как банный лист и никогда не отставала от нее больше чем на два фута. Если мама поднималась за книгой или сигаретой, Додо отправлялась за нею через комнату, и потом они вдвоем возвращались на прежнее место. Додо с облегчением вздыхала, думая, что ей еще раз удалось предотвратить мамин побег.
На первых порах Роджер, Вьюн и Пачкун взирали на Додо со снисходительным презрением. Ведь у нее было слишком много жиру и слишком низкая посадка, чтобы совершать дальние прогулки. Если же они хотели поиграть с нею, у Додо появлялась мания преследования, и она с воем убегала в дом, стараясь найти там защиту. В общем, они считали ее скучным и бесполезным добавлением к своему собачьему семейству, пока не открыли, что за нею можно поухаживать. Сама Додо выказывала полную невинность в отношении этой трогательной стороны жизни. Казалось, она была не только удивлена, но и сильно напугана своей неожиданной популярностью, когда ее поклонники прибывали в таком количестве, что мама вынуждена была ходить повсюду с тяжелой палкой. Именно из-за своей викторианской наивности Додо стала легкой жертвой Пачкуна, соблазнившись его чудесными рыжими бровями.
На удивлением всем (включая и Додо) от этого союза родился щенок, странный мяукающий шарик с фигурой матери и замечательной коричнево-белой раскраской отца. Стать так неожиданно матерью было для Додо слишком большим испытанием, нервы ее сильно сдали. Она разрывалась между необходимостью оставаться со своим щенком и желанием быть поближе к маме. Однако мы сначала и не подозревали об этих нравственных муках. В конце концов Додо нашла компромиссное решение: ходила повсюду за мамой и таскала в зубах щенка. Она провела так целое утро, прежде чем мы догадались, что происходит. Додо держала несчастного щенка за голову, и он болтался из стороны в сторону, когда она бегала следом за мамой. Никакая брань и уговоры на нее не действовали, так что мама вынуждена была сидеть с Додо и ее щенком в спальне, а мы носили им туда на подносе еду. Но даже это не могло спасти положения. Стоило только маме встать со стула, как Додо, бывшая всегда начеку, хватала щенка и глядела на маму испуганными глазами, готовая в случае чего броситься за нею в погоню.
— Если так пойдет и дальше, — заметил Лесли, — щенок превратится в жирафа.
— Да, я знаю, бедная крошка, — сказала мама, — но что я могу поделать? Она хватаетего, даже когда я зажигаю сигарету.
— Самое простое — утопить его, — сказал Ларри. — Из него же вырастет отвратительное животное. Взгляните на родителей.
— Нет, утопить его я не дам, — рассердилась мама.
— Не будь таким противным, — сказала Марго. — Бедная крошка.
— Я считаю такое положение совершенно нелепым — позволить собаке посадить себя на цепь.
— Это моя собака, и если я хочу здесь сидеть, так оно и будет, — твердо сказала мама.
— Но сколько же это продлится? Так можно сидеть месяцами.
— Я что-нибудь придумаю, — с достоинством ответила мама.
Выход из положения мама придумала очень простой. Она наняла младшую дочь нашей служанки, и та стала носить щенка Додо. Это, кажется, вполне устраивало Додо, так что мама снова могла передвигаться по дому. Она ходила из комнаты в комнату, как восточный владыка: следом за нею семенила Додо, а замыкала шествие юная София, которая, скосив глаза и высунув язык от напряжения, несла в руках подушку, где лежал необыкновенный отпрыск Додо. Если мама собиралась долго оставаться на одном месте, София почтительно опускала подушку на пол, и Додо, глубоко вздыхая, садилась рядом со своим щенком. Когда мама намеревалась перейти в другую часть дома, куда ее звали дела, Додо сползала с подушки, встряхивалась и занимала свое обычное место в кавалькаде, а София торжественно, будто там покоилась корона, поднимала подушку. Мама оглядывала строй через очки, убеждаясь, что все в порядке, слегка кивала головой, и они трогались в путь.
Каждый вечер мама забирала собак и водила их на прогулку. Мы очень любили на них смотреть, когда вся колонна двигалась вниз по холму. Роджер, как старший, возглавлял процессию, за ним следовали Вьюн с Пачкуном, потом шла мама, похожая на гриб в своей огромной соломенной шляпе. В руке у нее была садовая лопатка на тот случай, если попадется какое-нибудь интересное дикое растение. За нею, высунув язык, плелась пучеглазая Додо и, наконец, позади всех торжественно шагала София с высокородным щенком на подушке. «Мамин цирк», называл это Ларри и, высунувшись из окна, кричал вслед:
— Ау, леди! Когда ваш цирк вернется?
Он купил бутылку жидкости для укрепления волос, чтобы мама могла, как он сам объяснил, проводить эксперименты на Софии, пробуя превратить ее в бородатую женщину.
— Это необходимо для ваших цирковых представлений, леди, — уверял он ее хриплым голосом. — Первый класс, понимаете? Для первоклассного представления нет ничего лучше бородатой женщины.
Но, несмотря на все это, мама продолжала ежедневно водить свой удивительный караван в оливковые рощи, отправляясь туда в пять часов вечера.
На севере острова Корфу есть большое озеро с приятным, звучным названием Антиниотисса, одно из наших излюбленных мест. Это продолговатое мелкое озеро, окруженное густой гривой тростника и камышей, имеет около мили в длину и отделяется с одной стороны от моря широкой пологой дюной из замечательного белого песка. В наших поездках на озеро всегда принимал участие Теодор, и мы с ним находили там обширное поле для исследований в прудах, канавах и болотистых ямках, окружавших озеро. Лесли всегда возил с собой целый арсенал оружия, потому что в тростниковых зарослях водилась дичь, а Ларри неизменно брал огромную острогу и часами простаивал в ручье, соединявшем озеро с морем, пытаясь пронзить заплывавшую туда крупную рыбу. Мама нагружалась корзинками с едой, пустыми корзинками для растений и разным садовым инвентарем для выкапывания своих находок. Самая простая экипировка была, кажется, у Марго: купальный костюм, большое полотенце и крем для загара. Наши поездки на озеро Антиниотисса со всем снаряжением носили характер прямо-таки крупных экспедиций.
Существовало определенное время года, когда озеро выглядело особенно великолепным. Это была пора цветения лилий. Плавные изгибы дюны между озером и морем были единственным местом на острове, где росли эти песчаные лилии, необычные, зарытые в песок корявые луковицы, выпускавшие раз в год пучок толстых зеленых листьев и белых цветов, так что вся дюна превращалась в сверкающий белизной глетчер. Впечатление было незабываемое, и мы всегда ездили на озеро в эту пору.
Вскоре после появления у Додо щенка Теодор сообщил нам, что время цветения лилий на носу и надо готовиться к поездке на Антиниотиссу. Необходимость взять с собой на озеро кормящую мать значительно осложняло дело.
— На этот раз нам придется ехать на лодке, — сказала мама, не отводя глаз от своего очень сложного ажурного вязанья.
— Но на лодке будет вдвое дольше, — сказал Ларри.
— Мы не можем ехать на автомобиле, милый. Додо укачает, да и места там для всех не хватит.
— Ты что, собираешься брать с собой это животное? — в ужасе спросил Ларри.
— Но я должна ее взять, милый… две накидываем, одну спускаем… я не могу оставить ее дома… три накидываем… ты ведь знаешь, какая она.
— Ну тогда найми для нее специальный автомобиль. Я ни за что не стану разъезжать в таком виде по острову. Еще подумают, что я ограбил собачий приют в Баттерси.
— Ей нельзя ехать в автомобиле. Об этом я тебе и толкую. Ты же знаешь, что ее укачивает… А теперь посиди минутку спокойно, милый, мне надо посчитать.
— Это же смешно… — начал злиться Ларри.
— Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, — громко считала мама.
— Это же смешно ехать кружным путем только потому, что Додо укачивает в автомобиле.
— Ну вот! — рассердилась мама. — Ты сбил меня со счета. Прошу тебя, не говори со мной, когда я вяжу.
— Откуда ты знаешь, что ее не укачает в лодке? — поинтересовался Лесли.
— Те, кого укачивает в автомобиле, никогда не страдают от морской болезни, — объяснила мама.
— Что-то я этому не верю, — сказал Ларри. — Все это бабьи сказки. Правда ведь, Теодор?
— Не могу сказать, — рассудительно ответил Теодор. — Я слыхал об этом и раньше, но есть ли тут… гм… понимаете ли… доля истины, не знаю. Могу только сказать, что меня до сих пор в машине не укачивало.
Ларри посмотрел на него в замешательстве.
— Ну и что это доказывает? — недоумевал он.
— Меня всегда укачивает в лодке, — просто объяснил Теодор.
— Это же просто замечательно! — сказал Ларри. — Если мы поедем в автомобиле, укачает Додо, если в лодке — то же самое случится с Теодором. Вот и выбирайте.
— Я не знала, что вы подвержены морской болезни, Теодор, — заметила мама.
— Да, к сожалению, подвержен. Это очень досадно.
— Ну, при такой погоде море будет совсем спокойное, — сказала Марго. — Вас наверняка не укачает.
— К сожалению, — ответил Теодор, поднимаясь на носках, — погода не имеет никакого значения. Меня начинает мутить при малейшем движении. Даже несколько раз в кино, когда на экране показывали корабли в бурном море, мне пришлось… гм… пришлось покинуть зал.
— Проще всего разделиться, — предложил Лесли. — Половина добирается на лодке, другая половина — на автомобиле.
— Замечательная мысль! — воскликнула мама. — Это решает дело.
Но все это вовсе не решало дела, потому что дорога к озеру Антиниотисса оказалась отрезанной из-за небольшого обвала, и добраться туда на автомобиле было невозможно. Приходилось ехать по морю или совсем отказаться от поездки.
Теплой, росистой зорькой, предвещавшей ясный безветренный день и спокойное море, мы отправились в путь. Чтобы разместить всю нашу семью, собак, Спиро, Софию, пришлось снарядить не только «Морскую корову», но и «Бутла». «Морская корова» должна была тащить пузатого «Бутла» за собой на буксире, что заметно снижало ее скорость, но иного выхода не было. По предложению Ларри, на «Бутле» разместились собаки, София, мама и Теодор, все остальные должны были ехать на «Морской корове». К сожалению, Ларри не принял в расчет одного очень важного обстоятельства: кильватерную струю от хода «Морской коровы». Волна вздымалась от ее кормы стеклянной голубой стеной и достигала максимальной высоты как раз в тот момент, когда она касалась широкой груди «Бутла», подбрасывала его в воздух и снова швыряла вниз. Мы довольно долго не замечали действия этой волны, так как шум мотора заглушал мамины отчаянные крики о помощи. Когда же наконец мотор был остановлен и к нам подскочил «Бутл», мы увидели, что укачало не только Теодора и Додо, но и всех остальных, включая даже такого испытанного и закаленного моряка, как Роджер. Пришлось забрать всех на «Морскую корову» и положить там рядком. Спиро, Ларри, Марго и я заняли их место на «Бутле». Когда мы подходили к Антиниотиссе, все стали чувствовать себя лучше, за исключением Теодора, который все еще старался держаться поближе к борту лодки, безучастно глядел на свои башмаки и односложно отвечал на все вопросы.
Мы обогнули последний мыс, сложенный из волнистых пластов золотых и красных пород, похожих на кипы окаменевших гигантских газет или на порыжевшие, покрытые плесенью остатки библиотеки колосса, и обе лодки направились в широкий голубой залив у входа в озеро. За полосой жемчужно-белого песка поднималась большая покрытая лилиями дюна. Тысячи сверкающих на солнце цветов, словно белые граммофончики, поднимали к нему свои раструбы, испуская вместо музыки тяжелый, пряный запах — очищенный аромат лета, теплое благоухание, заставлявшее вас все время глубоко вдыхать воздух и задерживать его в груди. Последний короткий треск мотора раскатился среди скал, и обе лодки почти бесшумно заскользили к берегу, откуда нам навстречу плыл над водой запах лилий.
Выгрузив на белый песок снаряжение, все разбрелись по берегу в разные стороны, и каждый занялся своим делом. Ларри и Марго растянулись на мелком месте в воде и сразу задремали, чуть покачиваясь на легких волночках. Мама, прихватив с собой лопаточку и корзинку, повела свою кавалькаду на прогулку. Спиро, похожий в своих трусах на смуглого волосатого доисторического человека, забрался в ручей, текущий от озера к морю. Он стоял там среди стаек рыб, сердито вглядывался в прозрачную воду, доходившую ему до колен, и держал наготове трезубец. Мы с Теодором и Лесли определили по жребию, кто на какой конец озера должен отправляться, и разошлись в противоположных направлениях. Пограничным знаком, отмечавшим половину пути вдоль берега озера, была большая и на редкость корявая олива. Как только мы доходили до нее, мы сразу поворачивали и шли обратно, то же самое делал на своей половине Лесли. Это не давало ему возможности убить нас по ошибке в густых тростниковых зарослях. Пока мы с Теодором копошились, словно пара усердных цапель, среди луж и ручейков, Лесли, пригнувшись, шагал сквозь заросли по другую сторону озера, и время от времени до нас доносился его выстрел, отмечавший его успехи.
Когда подошло время ленча, мы все собрались на берегу, голодные как волки. Лесли принес целую сумку дичи: куропаток, перепелов, бекасов, вяхирей; мы с Теодором — пробирки и бутылки, наполненные мелкой живностью. Пылал костер, на подстилках разложили еду, с моря принесли бутылки вина, где они охлаждались у краешка берега. Ларри подтянул свой угол подстилки на склон дюны и разлегся во всю длину среди граммофончиков лилий. Теодор сидел прямой и подтянутый, тщательно пережевывал пищу, потряхивал бородой. Марго, растянувшись в изящной позе на солнышке, лакомилась овощами и фруктами. Мама и Додо устроились в тени, под большим зонтом. Лесли с ружьем на коленях уселся прямо на песке, одной рукой он держал огромный кусок холодного мяса, другой задумчиво поглаживал стволы своего ружья. Поблизости у костра присел на корточках Спиро. Пот градом катился по его морщинистому лицу и сверкающими каплями падал на густую черную шерсть на груди, в то время как он поворачивал над огнем импровизированный вертел, на котором было нанизано семь жирных бекасов.
— Райское место! — бормотал с набитым ртом Ларри, растянувшись среди сияющих цветов. — Оно создано прямо для меня. Я хотел бы лежать здесь вечно и получать пищу и вино из рук прекрасных, обнаженных дриад. Через столетия я, конечно, забальзамируюсь от постоянного вдыхания этого аромата. Потом в один прекрасный день мои верные дриады не найдут меня здесь, останется лишь аромат. Бросьте-ка кто-нибудь мне штучку вон того аппетитного инжира.
— Когда-то я читал очень интересную книгу о бальзамировании, — воодушевился Теодор. — Египтянам, конечно, приходилось слишком много возиться с этими мумиями. И надо сказать, что способ… э… извлечения мозга через нос придуман очень остроумно.
— Что, вытаскивали мозги через нос какими-нибудь крючками? — спросил Ларри.
— Ларри, милый, пожалуйста, не во время еды.
После ленча мы удалились под сень олив и дремали там в течение самой жаркой части дня, усыпленные пением цикад. Время от времени кто-нибудь вставал и уходил к морю, потом, поплескавшись с минуту на мелком месте, освеженный, шел обратно и опять погружался в сон.
В четыре часа заливистый храп Спиро внезапно прекратился. Его массивная, обмякшая фигура зашевелилась, он зафыркал, приходя в себя после сна, и пошел к берегу разводить костер для чая. Остальные просыпались медленно, сонно потягивались, вздыхали и брели, словно стадо, через песчаный пляж к тарахтевшему на огне чайнику. Когда мы с чашками в руках расселись вокруг костра, все еще моргая в полудреме, среди лилий показалась ясноглазая, яркогрудая малиновка и запрыгала вниз по склону. Футах в десяти от нас она остановилась, окинула всех критическим взглядом. Решив, что нас стоит развлечь, малиновка подпрыгнула к тому месту, где две лилии сплелись в красивую арку, стала под ними в эффектной позе, выпятила грудь и залилась громкими, звенящими трелями. Кончив петь, малиновка вдруг быстро кивнула головой, как бы раскланиваясь перед публикой, и потом, испуганная нашим громким смехом, исчезла среди лилий.
— Вот уж милые птички, — сказала мама. — В Англии одна малиновка сидела около меня часами, когда я копалась в саду. Мне очень нравится, как они выставляют свои грудки.
— А эта сейчас присела так, будто и впрямь кланялась, — отозвался Теодор. — Надо сказать, что когда она… э… выставила свою грудь, она очень напоминала… знаете… такую вот оперную певицу.
— Да, — согласился Ларри, — поющую что-нибудь легкое, веселое… Штрауса, может быть.
— Кстати, об опере, — сверкнул глазами Теодор. — Рассказывал я когда-нибудь о последней опере на Корфу?
Нет, сказали мы и уселись поудобнее, потому что вид Теодора, рассказывающего свои истории, доставлял нам не меньшее удовольствие, чем сами истории.
— Это была, понимаете ли… гм… одна из разъездных оперных трупп. Думаю, что она прибыла из Афин, но может быть, и из Италии. Как бы там ни было, прежде всего они поставили «Тоску». Певица, ведущая партию героини, имела, как водится, довольно… э… пышные формы. Ну, а как вы знаете, в заключительном акте оперы героиня бросается навстречу смерти со стены крепости или, вернее, замка. На первом представлении героиня забралась на стену, спела последнюю арию и потом бросилась навстречу своей… знаете ли… своей погибели на скалу внизу. К сожалению, рабочие сцены забыли подложить что-нибудь под стену, куда ей можно было бы прыгать, и поэтому грохот падения и затем… э… крик боли несколько ослабили впечатление, что она разбивается на скалах насмерть. Певец, который как раз в это время оплакивал ее гибель, вынужден был петь… э… во весь голос, чтобы заглушить крики. Этот случай, как и следовало ожидать, расстроил героиню, поэтому на следующий день рабочие разбились в лепешку, чтобы обеспечить ей приятное приземление. Грохнувшись довольно сильно накануне, героиня с большим трудом провела оперу и добралась наконец до последней сцены. Она снова взошла на стену, спела свою последнюю арию и бросилась навстречу смерти. К сожалению, рабочие ударились теперь в другую крайность. Большая груда матрасов и этих… знаете… пружинных сеток была такой упругой, что героиня, коснувшись их, подскочила в воздух. И вот, когда все участники оперы подошли… э… как это называется?.. ах да, подошли к рампе и принялись рассказывать друг другу о ее смерти, верхняя часть героини, к изумлению публики, два или три раза появлялась над стенами.
Во время рассказа Теодора малиновка еще раз отважилась прискакать к нам поближе, но взрыв хохота снова вспугнул ее, и она улетела.
— Знаете, Теодор, я уверен, что вы сочиняете эти истории на досуге, — едва выговорил Ларри.
— Нет, нет, — сказал Теодор, весело смеясь в бороду. — Будь это где-нибудь в другом месте, мне пришлось бы их сочинять, но здесь, на Корфу, они… э… предвосхищают искусство, так сказать.
После чая мы с Теодором снова отправились на берег озера и продолжали свои исследования до самых сумерек. Когда уже нельзя было ничего как следует разобрать, мы побрели потихоньку обратно — к тому месту, где пылал разведенный Спиро костер, гигантской хризантемой трепетавший среди призрачных белых лилий. Спиро удалось заколоть острогой три крупные рыбины, и теперь он, сосредоточенно хмурясь, жарил их на рашпере, все время чем-нибудь сдабривая их нежное белое мясо, мелькавшее в тех местах, где отставала зажаренная корочка: то добавлял зубок чесноку, то выжимал лимонного соку, то посыпал перцем.
Над горами поднялась луна и превратила лилии в серебро. Только там, где на них падали дрожащие отсветы костра, они вспыхивали розовым пламенем. По светлому морю бежали легкие волночки и, коснувшись берега, с облегчением вздыхали. На деревьях начинали ухать совы, а в густой тени зажигались и гасли нефритовые огоньки светлячков.
Зевая и потягиваясь, мы перетащили наконец свои вещи в лодки, добрались на веслах до устья залива и, ожидая, пока Лесли заведет мотор, оглянулись на Антиниотиссу. Лилии сияли, как снежное поле под луной, а темный задник из олив был усеян смутными огнями светлячков. Костер, затоптанный нами перед отъездом, светился гранатовым пятном у края покрытой цветами дюны.
— Да, несомненно, это очень… э… красивое место, — произнес Теодор.
— Чудесное место, — согласилась мама и затем дала ему свою высшую оценку: — Я хочу, чтобы меня здесь похоронили.
Мотор, пробормотав неуверенно, прорвался наконец громким ревом. Набирая скорость, «Морская корова» пошла вдоль берега с «Бутлом» на буксире, и за ними по темной воде веером потянулся белый, легкий, как паутина, след, слегка искрящийся фосфорическим светом.

Глава семнадцатая
Шахматные поля

Между морем и линией холмов, на одном из которых стоял наш дом, тянулась полоса прорезанных каналами полей. В этом месте в сушу вдавался большой, почти отделенный от моря залив, мелкий и прозрачный. Его плоские берега покрывала густая сетка узких канальчиков, бывших в давние дни соляными варницами. Каждый квадратик земли, обрамленный водотоками, был тщательно обработан и засажен кукурузой, картофелем, инжиром, виноградом. Эти поля из маленьких ярких клеток, обведенных блестящими полосками воды, напоминали разноцветную шахматную доску, по которой двигались красочные фигурки крестьян.
Это было мое любимое место охоты, так как тут в узких канавах и среди густого кустарника водилось множество разнообразных животных. На этих полях легко было заблудиться, потому что в страстной погоне за бабочкой вы могли перейти совсем не тот мостик, соединявший один квадрат с другим, и потом бегать взад и вперед, отыскивая путь в этом сложном лабиринте среди камышей, инжира и высокой стены кукурузы. Бóльшая часть полей принадлежала крестьянам, моим друзьям, жившим вверху, на холмах, поэтому отправляясь на поля, я всегда был уверен, что смогу там отдохнуть за кисточкой винограда с кем-нибудь из знакомых, узнаю интересные новости. О том, например, что среди плетей дынь на участке Георгио есть гнездо жаворонка. Если идти по шахматной доске прямо, не останавливаться с друзьями и не обращать внимания на черепах, шлепавшихся с илистых берегов в воду, или на треск пролетавшей мимо стрекозы, вы попадете в такое место, где все каналы расширяются и исчезают среди обширной плоской полосы песка, изборожденного мелкой рябью от ночных приливов. Длинные извилистые цепи всевозможных обломков отмечали здесь медленное отступание моря. Очаровательные цепи, где можно обнаружить красочные водоросли, мертвые морские иглы, пробковые поплавки с рыбачьих сетей, казавшиеся вполне съедобными — прямо куски сочного фруктового торта, — осколки бутылочного стекла, превращенные волнами и песком в настоящие драгоценности, раковины, колючие, точно ежики, или гладкие, овальные и нежно-розовые, как ногти какой-нибудь утонувшей богини. Тут было полное раздолье для птиц: бекасов, пегих куликов, чернозобиков, крачек. Шумными стайками они суетились у самой воды, где волны лениво набегали на берег и, вскинув кудрявый султанчик, разбивались о песчаные грядки. Когда вы проголодаетесь, здесь можно забрести на морскую отмель и наловить прозрачных жирных креветок, сладких, как виноград, или же разрыть ногою песок и отыскать там ребристые, похожие на орех раковины сердцевидок. Если сложить две такие раковины край с краем, замковой частью, и резко повернуть в противоположные стороны, они легко откроются. Их содержимое, хотя и похоже слегка на резину, очень приятно на вкус.
Как-то в один из дней, не зная, чем бы еще заняться, я решил взять собак и пойти на поля. Мне хотелось еще раз попробовать поймать Старого Шлёпа, искупаться в море, полакомиться сердцевидками и вернуться домой через поле Петро, где я мог обменяться с ним новостями и поесть арбуза или спелых гранатов. Старым Шлёпом я называл большую, очень старую черепаху, жившую в одном из каналов. Я пробовал ловить ее в течение целого месяца или даже больше, однако, несмотря на свой возраст, она оказалась очень хитрой и проворной. Как бы осторожно я ни подкрадывался, когда черепаха спала на илистом берегу, в самый последний момент она всегда просыпалась, отчаянно колотила ногами, соскальзывала по мокрому склону вниз и шлепалась в воду, будто сброшенная за борт тяжелая спасательная лодка. Разумеется, я уже успел поймать великое множество черепах — и черных с мелкими золотистыми крапинками, и сереньких в светло-рыжую и кремовую полоску. Однако моей заветной мечтой оставался Старый Шлёп. Он был крупнее всех черепах, каких я только видел, и такой старый, что его морщинистая кожа и избитый панцирь стали совершенно черными, а все остальные краски, какие могли у него быть в далекой юности, исчезли. Мне хотелось поймать его во что бы то ни стало, и вот, выждав целую неделю, я решил, что пора снова приниматься за дело.
Прихватив сумку с пузырьками и коробками, сачок и корзинку для Старого Шлёпа на случай, если мне удастся его поймать, я вышел с собаками из дому и стал спускаться с холма. «Джерри!.. Джерри!.. Джерри!» — жалобно надрывались мне вслед Сороки, но, увидев, что я не возвращаюсь, потеряли всякое приличие и стали громко болтать и смеяться. Их грубые голоса все еще доносились до нас, когда мы вошли в оливковые рощи, а потом их заглушил хор цикад, от пения которых дрожал воздух. Мы шагали по белой, горячей и мягкой как пух дороге.
У колодца Яни я остановился попить воды и заглянул в загончик, сбитый из оливковых веток, где два огромных кабана с довольным хрюканьем барахтались в липкой грязи. С наслаждением втянув носом воздух, я похлопал более крупного кабана по грязному, колыхавшемуся заду и отправился дальше. Миновав первые три поля, я остановился на минуту на участке Таки, чтобы отведать его винограда. Хозяина тут не было, но я знал, что он не станет на меня сердиться. Это был сорт сладкого мелкого винограда с мускатным ароматом. Если сдавить нежную, без косточек ягоду, все ее содержимое полетит вам в рот, а между пальцами останется пустая кожица. Мы с собаками съели каждый по кисти, еще две кисти я положил к себе в сумку и пошел по краю канала туда, где обычно любил поваляться Старый Шлёп. Только я собрался предупредить собак, чтобы они не смели проронить ни звука, как вдруг из кукурузы выскочила большая ящерица и пустилась наутек. Собаки с диким лаем бросились вслед за нею. Когда я подошел к любимому катку Старого Шлёпа, о его недавнем присутствии здесь свидетельствовали лишь расходившиеся круги на воде. Я присел на землю и стал ждать собак, перебирая в уме все красочные ругательства, какие собрался на них обрушить. Но, к моему удивлению, собаки не возвращались. Долетавшее издали тявканье замолкло, и потом, после некоторой тишины, они вдруг залаяли все вместе — монотонный, размеренный лай, означавший какую-то находку. Интересно, что же такое они там нашли?
Когда я примчался туда, собаки теснились у заросшего травой края канавки. Завидев меня, они запрыгали, завиляли хвостами, весело заскулили. Роджер искривил верхнюю губу в приятной улыбке, радуясь, что я пришел полюбоваться их трофеем. Сперва я просто не мог понять, из-за чего это собаки так волнуются, потом заметил, как в траве что-то зашевелилось (то, что я принял было за корешок), и увидел пару толстых водяных ужей, страстно обвивших друг друга. Приподняв лопатообразные головы, они глядели на меня холодными серебряными глазами. Это была потрясающая находка, она почти возмещала потерю Старого Шлёпа. Я уже давно мечтал поймать одного из водяных ужей, но они были такие искусные и быстрые пловцы, что мне никак не удавалось до них добраться. И вот теперь собаки нашли эту отличную пару, гревшуюся на солнышке, — прямо, что называется, взяли с поличным.
Выполнив свой долг, собаки оставили меня с ужами, а сами отошли на безопасное расстояние (так как не доверяли рептилиям) и стали с интересом наблюдать за мной. Я не спеша крутил сачок для бабочек, пока не снял с него ручку. Теперь у меня была палка для ловли, но задача заключалась в том, как одной палкой поймать двух ужей. Пока я раздумывал над этим, один уж решил все за меня: он потихоньку развернулся и незаметно скользнул в воду. Думая, что он для меня потерян, я сердито следил, как его извивавшееся тело сливается с отражением в воде, потом, к своей радости, увидел, что со дна медленно поднялся столб грязи и цветком расплылся на поверхности. Это означало, что рептилия зарылась на дне и будет оставаться там до тех пор, пока не подумает, что я ушел. Я переключил внимание на другого ужа, прижав его палкой к сочной траве. Он скрутился в сложный узел, с шипением раскрыл свою розовую пасть. Двумя пальцами я крепко схватил его за шею, и он, обмякнув, повис в воздухе. Я погладил его красивый беловатый живот и бурую спинку, где чешуя была приподнята, как на еловой шишке, осторожно опустил в корзинку и приготовился ловить другого ужа. Отойдя чуть в сторону, я ручкой сачка стал измерять глубину канала. Там оказалось на два фута воды и под нею еще трехфутовый слой мягкой, трясущейся грязи. Поскольку вода была темная и уж скрывался на дне, я решил, что проще всего нащупать его ногой (так я разыскивал обычно сердцевидок), а потом быстро схватить руками.
Сбросив сандалии, я спустился в теплую воду, чувствуя, как жидкая грязь продавливается у меня сквозь пальцы и нежно, будто пеплом, обволакивает ноги. Два больших черных облака распустились вокруг моих бедер и поплыли через канал. Я направился к тому месту, где скрывалась моя добыча, и стал медленно и осторожно водить ногой в поднимавшихся со дна вихрях грязи. Нащупав наконец скользкое тело, я постарался схватить ужа, запустив в воду руки по локоть. В руках у меня оказалась только илистая грязь, которая просачивалась сквозь пальцы и медленно уплывала по воде клубящимися облаками. Я стоял и проклинал свою незадачу, как вдруг, всего в ярде от меня, уж вынырнул на поверхность и поплыл по каналу. С торжествующим криком я навалился на него всем своим телом.
Был один досадный момент, когда я окунулся в темную воду и грязь забила мне глаза, уши и рот, однако я чувствовал, как тело ужа отчаянно бьется в моей крепко стиснутой руке, и ликовал от радости. Еле переводя дух и отплевываясь, весь покрытый тиной, я сел посреди канала и крепко ухватил ужа за шею, пока он не успел опомниться и укусить меня. Потом я еще очень долго плевался, стараясь избавиться от мелкого песка и грязи, залепивших мне весь рот и зубы. Когда я наконец поднялся и повернул к берегу, я с удивлением увидел, что моя аудитория расширилась. Теперь рядом с собаками сидел человек. Удобно устроившись, он с веселым интересом наблюдал за моими действиями.
Это был невысокий, коренастый человек со смуглым лицом и густой копной волос табачного цвета. В его больших ярко-синих глазах светился живой, веселый огонек, от уголков глаз лучами разбегались легкие морщинки, а широкие губы под коротким орлиным носом придавали лицу насмешливое выражение. На нем была голубая рубашка, выцветшая и выгоревшая, словно незабудка под жарким солнцем, и старые брюки из серой фланели. Этого человека я видел впервые. Наверно, это был какой-нибудь рыбак из дальней деревни. Он с серьезным видом следил, как я вылезаю на берег, потом улыбнулся.
— Доброго здоровья, — произнес он мягким низким голосом.
Я вежливо ответил на его приветствие и занялся ужом, стараясь как можно осторожней опускать его в корзинку, чтобы оттуда не выскочил первый. Я ожидал, что он прочтет мне лекцию о ядовитости безобидных водяных ужей и об опасности, какой я себя подвергаю, но, к моему удивлению, он ничего этого не сказал и с интересом продолжал следить, как я запихиваю извивающегося ужа в корзинку. Управившись с ужом, я вымыл руки и достал виноград, украденный на участке Таки. Одну кисть я взял себе, другую предложил своему новому знакомому, и мы оба с удовольствием принялись уничтожать вкусные ягоды, шумно высасывая из них сочную мякоть. Когда кожица с последней виноградины шлепнулась в воду, человек вынул табак и начал скручивать папироску короткими загорелыми пальцами.
— Ты иностранец? — спросил он, с наслаждением затягиваясь.
Я сказал, что я англичанин и что мы живем в доме на холме, потом стал ждать неизбежных вопросов о количестве, поле и возрасте всех моих родных, их занятиях и стремлениях и последующего выяснения, почему мы живем на Корфу. Такие вопросы обычно задавали все крестьяне, но делали они это без всякой задней мысли, просто из дружеского любопытства. В свои собственные дела они посвящали вас с большой откровенностью и простотой и были бы обижены, если бы вы поступили иначе. Однако, к моему удивлению, этого человека, видимо, вполне удовлетворил мой ответ, он больше не задавал никаких вопросов, а просто сидел и пускал в небо тонкие струйки дыма и задумчиво глядел перед собой своими синими глазами. Я сидел рядом с ним и выцарапывал ногтем на своем бедре, по корке засохшего ила, красивый рисунок, а потом решил, что пора уже идти к морю, чтобы вымыться перед возвращением домой и почистить одежду. Я поднялся на ноги, закинул за спину сумку и сачок. Собаки тоже поднялись, встряхивались и зевали. Стараясь быть вежливым, я спросил человека, куда он собирается идти. В конце концов деревенский этикет требует, чтобы вы задавали вопросы. Это ведь свидетельствует о вашем внимании к людям. А я до сих пор не задал ему ни одного вопроса.
— Я иду к морю, — сказал он, размахивая цигаркой. — К своей лодке… А ты куда идешь?
Я ответил, что тоже иду к морю; во-первых, искупаться, во-вторых, поесть сердцевидок.
— Я пойду с тобой, — сказал он, разминая ноги. — У меня в лодке целая корзина сердцевидок. Если хочешь, возьми, сколько тебе надо.
Мы молча шагали через поля, а когда вышли к песчаному берегу, он показал немного в сторону, где уютно пристроилась повернутая боком гребная лодка с волнистой оборочкой легкой ряби у кормы. Пока мы шли к лодке, я спросил, рыбак ли он, и если рыбак, то откуда.
— Я вот отсюда… с этих холмов, — ответил он. — По крайней мере дом мой здесь, но сейчас я на Видо.
Его ответ удивил меня, потому что Видо был небольшой островок, расположенный против города Корфу, и, насколько мне известно, жили там одни арестанты и стража, так как остров был местной тюрьмой. Я ему сказал об этом.
— Верно, — согласился он, наклонившись, чтобы потрепать Роджера. — Это верно. Я и есть арестант.
Я подумал, что он шутит, и внимательно посмотрел на него, но лицо его было совершенно серьезно. Очевидно, его только что выпустили, предположил я.
— Нет, нет. К сожалению, нет, — улыбнулся он. — Мне еще два года отсиживать. Но, понимаешь, я хороший заключенный. Надежный и спокойный. Всем, кому они доверяют, разрешается построить лодку и ездить домой на выходные дни, если это не очень далеко. В понедельник утром я должен быть там как часы.
Когда тебе что-нибудь объяснят, все, конечно, становится просто. Мне даже в голову не пришло, что это какой-то странный порядок. Я знал, что из английской тюрьмы людей на выходные дни домой не отпускают, но тут ведь был Корфу, а на Корфу может происходить все что угодно. Мне захотелось узнать, какое он совершил преступление, и я уже стал подбирать в уме вопрос потактичнее, но в это время мы подошли к лодке, и то, что я увидел внутри нее, вышибло у меня из головы все остальные мысли. На корме, привязанная за желтую ногу, сидела огромная морская чайка и глядела на меня насмешливыми желтыми глазами. Я с волнением бросился вперед и протянул руку к ее широкой темной спине.
— Смотри… осторожнее! Это особа задиристая, — поспешил предупредить меня хозяин лодки.
Однако я уже успел положить руку на спину птицы и осторожно гладил пальцами ее шелковистые перья. Чайка пригнулась, слегка раскрыла клюв, зрачки ее глаз сузились от удивления, но она была так ошеломлена моей дерзостью, что ничего не предпринимала.
— Спиридион! — воскликнул мой новый знакомый. — Должно быть, ты ей понравился. Она еще никому не позволяла трогать себя безнаказанно. Обязательно клюнет.
Я погрузил пальцы в волнистые белые перья на шее птицы и слегка почесал ей голову. Чайка наклонилась вперед, ее желтые глаза затуманились. Я спросил у этого человека, как ему удалось поймать такую замечательную птицу.
— Весной я ездил на лодке в Албанию за зайцами и нашел ее в гнезде. Она была тогда совсем маленькая и пушистая, как ягненок. А теперь она прямо как большая утка, — сказал он и задумчиво поглядел на чайку. — Жирная утка, гадкая утка, кусачая утка. Так ведь?
Услышав все эти эпитеты, чайка открыла один глаз и издала короткий, резкий крик, который мог означать и отрицание и согласие. Человек пригнулся и вынул из-под сиденья большую корзину. Она была доверху наполнена большими круглыми раковинами сердцевидок, которые мелодично позвякивали, стукаясь друг о друга. Мы уселись в лодку и принялись уничтожать моллюсков. Я не сводил глаз с птицы, очарованный ее белоснежной грудкой и головой, ее длинным, загнутым клювом, свирепыми глазами цвета желтых весенних крокусов, широкой спиной и сильными крыльями, черными как сажа. В моих глазах она была просто неотразима, от самого кончика клюва до больших перепончатых лап. Проглотив последнюю сердцевидку, я спросил человека, сможет ли он в следующую весну раздобыть мне птенца чайки.
— Тебе нужна чайка? — удивился он. — Они тебе нравятся?
Это была явная недооценка моих чувств. За такую чайку я мог бы отдать душу.
— Ну бери ее, если она тебе нужна, — беззаботно сказал человек, ткнув в птицу большим пальцем.
Я просто не верил своим ушам. Иметь такую замечательную птицу и так легкомысленно отдать ее другому — это же настоящее безумие.
А ему разве не нужна птица, спросил я.
— Да, я люблю ее, — ответил он, — но она съедает больше, чем я могу поймать, и она такая злюка, что клюет всех без разбору. Ее никто не любит — ни заключенные, ни охрана. Я пытался выпустить ее, только она не хочет уходить, все время возвращается обратно. В один из выходных дней я собирался отвезти ее в Албанию и оставить там. Так что, если она тебе действительно нужна, можешь ее взять.
Действительно нужна? Да мне, можно сказать, предложили ангела небесного. Правда, несколько злого ангела, зато какие у него замечательные крылья! Я был так взволнован, что ни разу даже не подумал, как у нас дома встретят эту птицу размером с гуся и с острым, как бритва, клювом. Опасаясь, как бы человек не передумал, я поспешил сбросить одежду, кое-как выбил из нее засохшую грязь и быстренько искупался на мелком месте. Одевшись снова, я свистнул собакам и приготовился нести свой трофей домой. Человек передал мне отвязанную чайку. Зажав ее под мышкой и удивляясь, что такая огромная птица может быть легкой как перышко, я стал горячо благодарить человека за его замечательный подарок.
— Птица знает свое имя, — заметил он, схватив чайку за клюв, и слегка потрепал ее. — Я зову ее Алеко. Если покричишь ему, он прилетит.
Услышав свое имя, Алеко заволновался, заболтал ногами, вопросительно обратил ко мне свои желтые глаза.
— Ему нужна рыба, — сказал человек. — Я собираюсь выйти завтра на лодке, около восьми утра. Если хочешь, поедем со мной. Мы сумеем наловить для него порядочно.
Я сказал, что это будет замечательно, Алеко тоже выразил криком свое согласие. Человек наклонился к носу лодки, чтобы столкнуть ее на воду, и тут я кое о чем вспомнил. Стараясь держаться как можно естественнее, я спросил, как его зовут и за что его посадили в тюрьму.
С очаровательной улыбкой он посмотрел на меня через плечо и сказал:
— Меня зовут Кости. Кости Панопулос. Я убил свою жену.
Зашуршав по песку, лодка соскользнула в воду. У кормы, словно озорные щенята, заплескались, запрыгали мелкие волночки. Кости залез в лодку и взялся за весла.
— Доброго здоровья, — крикнул он. — До завтра.
Весла ритмично заскрипели, и лодка стала быстро скользить по прозрачной воде. Стиснув под мышкой свой драгоценный подарок, я поплелся по песку к шахматным полям.
Путь домой оказался довольно долгим. Должно быть, я неверно оценил вес Алеко и теперь изнемогал под непомерным грузом. С каждым шагом птица становилась все тяжелее, пришлось снова засунуть ее под мышку, на что она ответила громким протестующим криком. На половине пути я увидел подходящее для нас дерево со спелым инжиром, в тени которого можно было отдохнуть и подзакусить. Пока я валялся в высокой траве и уплетал инжир, Алеко сидел рядом совершенно неподвижно, как деревянный истукан, и немигающим взглядом следил за собаками. Единственным признаком жизни были его зрачки, которые то расширялись, то сжимались от возбуждения, стоило только какой-нибудь собаке пошевелиться.
Немного отдохнув и подкрепившись, я намекнул своей братии, что нам предстоит преодолеть последний этап пути. Собаки сразу послушно поднялись, но Алеко так взъерошил свои перья, что они зашуршали, будто опавшая листва, и весь затрясся при одной только мысли об этом. Очевидно, ему не нравилось, что я таскаю его под мышкой, точно старый мешок, и мну его перья. Теперь же, когда он убедил меня посадить его в этом прекрасном месте, у него больше не было желания продолжать такое скучное, такое ненужное, на его взгляд, путешествие. Когда я хотел взять его на руки, он щелкнул клювом, издал громкий, пронзительный вопль, а его взметнувшиеся над спиной крылья приняли в точности такое положение, как у надгробных ангелов. Желтые глаза его сверлили меня упорным взглядом. Зачем, говорил этот взгляд, покидать такое место? Здесь столько тени, мягкая травка, вода поблизости. Какой смысл уходить отсюда и шататься Бог весть где да еще в таком неудобном и неприличном положении? Я умасливал его некоторое время и, когда он вроде бы успокоился, опять попробовал взять его на руки.
На сей раз Алеко показал мне недвусмысленно, что не желает уходить отсюда. Не успел я опомниться, как он выбросил вперед голову и сильно долбанул клювом по протянутой руке. Будто кто тюкнул меня ледорубом. Мне было ужасно больно, из глубокой раны хлестала кровь. А у Алеко был такой наглый, самодовольный вид, что я потерял всякое терпение. Схватив сачок для бабочек, я ловко сбил птицу с ног и закрутил в складках сачка. Прежде чем Алеко успел опомниться от потрясения, я прыгнул на него, ухватился за клюв рукой, обернул его несколько раз носовым платком и крепко завязал веревочкой. Потом снял рубашку и прикрутил ему крылья к телу, чтоб он ими не хлопал. Алеко лежал, точно связанная для продажи курица, сверлил меня глазами, кричал заглушенным голосом от ярости. Я молча собрал снаряжение, схватил Алеко под мышку и зашагал домой. Получив такую птицу, я не собирался терять ее теперь из-за всяких глупостей, не дойдя даже до дому. Всю дорогу Алеко ни на минуту не прекращал своих безумных заглушенных платком криков, так что к концу пути я уже порядком на него разозлился.
Протиснувшись в гостиную, я опустил Алеко на пол и под его непрерывный хриплый аккомпанемент принялся разматывать рубашку. На шум из кухни прибежали мама и Марго. Алеко стоял посреди комнаты со все еще завязанным клювом и неистово орал.
— Что это такое? — спросила мама, стараясь отдышаться.
— Какая огромная птица! — воскликнула Марго. — Это что, орел?
Меня всегда раздражал недостаток орнитологических знаний у моих родных. Еле сдерживаясь, я разъяснил им, что это не орел, а чайка — чайка морская, потом рассказал, как я ее приобрел.
— Но подумай, милый, чем же мы ее будем кормить? — спросила мама. — Они что, питаются рыбой?
Алеко, сказал я, не теряя оптимизма, может есть все что угодно. Мне хотелось снять платок с его клюва, но он не давался, думая, верно, что я собираюсь его вздуть, и сердито заорал сквозь платок. Этот новый взрыв ярости заставил Ларри и Лесли выскочить из своих комнат.
— Кто это тут, черт побери, завел волынку? — спросил Ларри, врываясь в гостиную.
Алеко на миг остановился, окинул вновь прибывшего холодным взглядом и, сделав о нем свое заключение, громко и презрительно крикнул.
— Господи! — сказал Ларри и поспешно отступил назад, наткнувшись на Лесли. — Что это за штука?
— Джерри принес новую птицу, — сказала Марго. — Правда, свирепая?
— Эта чайка, — сказал Лесли, выглядывая из-за ларриного плеча. — Во сильна!
— Ерунда, — сказал Ларри. — Это альбатрос.
— Нет, чайка.
— Что за глупости! Разве чайки бывают таких размеров? Говорю вам, это очень большой альбатрос.
Алеко сделал несколько шагов в сторону Ларри и опять крикнул на него.
— Позови его к себе, — скомандовал мне Ларри. — Не спускай с этого черта глаз, не то он нападет на меня.
— Стой спокойно, он тебя не тронет, — посоветовал Лесли.
— Хорошо тебе говорить, когда ты стоишь сзади. Сейчас же поймай эту птицу, Джерри, покаона меня не искалечила.
— Не кричи так, милый. Ты ее пугаешь.
Мне удалось незаметно подползти и схватить Алеко сзади, потом под его оглушительные протесты снять ему с клюва платок. Когда я снова отпустил его, он весь затрясся от возмущения и два или три раза щелкнул клювом, прямо как хлыстом.
— Вы только послушайте! — воскликнул Ларри. — Зубами скрежещет!
— У них нет зубов, — сказал Лесли.
— Ну ладно, скрежещет еще чем-то. Надеюсь, мама, ты не позволишь держать его в доме? Сразу видно, что это опасный зверь, посмотрите только на его глаза. К тому же он приносит несчастье.
— Откуда ты это взял? — спросила мама, знавшая толк в приметах.
— Это всем известно. Если держать в доме даже одни его перья, то и тогда все поумирают от чумы или сойдут с ума или что-то такое с ними случится.
— Так это же относится к павлинам, милый.
— Нет, к альбатросам. Все это знают.
— Нет, милый, несчастье приносят павлины.
— Ну, как бы там ни было, а держать эту птицу в доме нельзя. Это же чистое безумие. Нам всем придется спать с арбалетом под подушкой.
— Право же, Ларри, ты все очень усложняешь, — сказала мама. — Мне кажется, что она совсем ручная.
— Вы дождетесь, что в одно прекрасное утро все проснутся с выклеванными глазами.
— Какую чепуху ты городишь, милый. Птица выглядит совсем безобидной.
В этот момент Додо, которой всегда требовалось некоторое время, чтобы угнаться за быстро проходящими событиями, впервые заметила Алеко. Тяжело отдуваясь и выпучив глаза от любопытства, она приковыляла к нему и начала обнюхивать. Клюв Алеко мелькнул у самой головы Додо, и, если б она в этот миг не обернулась на мой отчаянный вопль, ее нос был бы начисто срезан, а так скользящий удар пришелся лишь по боковой части головы. Додо до того удивилась, что нога ее сразу выскочила из сустава. Запрокинув голову, она пронзительно завизжала. Алеко, как видно, решил, что его приглашают потягаться голосами. Он старался перекричать Додо и хлопал крыльями с такой силой, что погасил одну из ламп.
— Ну вот, — ликовал Ларри. — Что я вам говорил? Не успел пробыть в доме и пяти минут, как убил собаку.
Марго и мама успокаивали Додо, вправляя ей ногу, а Алеко с интересом наблюдал за этой процедурой. Он громко щелкал клювом, как бы удивляясь хрупкости собачьего племени, потом щедро разукрасил пол и с важностью помахал хвостом, будто сделал что-нибудь умное.
— Как мило! — сказал Ларри. — Теперь мы еще должны ходить по дому чуть ли не по пояс в гуано.
— Не лучше ли вынести его на улицу, милый? — посоветовала мама. — Где ты его собираешься держать?
Я сказал, что хочу разгородить клетку Сорок и держать Алеко там. Маме это понравилось. А пока я привязал его на веранде, извещая всех по очереди о его временном местопребывании.
— Ну вот что, — сказал Ларри, когда мы сели обедать, — если на дом обрушится циклон, прошу меня не винить. Я вас предупредил. Большего я сделать не в силах.
— Почему циклон, милый?
— Альбатросы всегда приносят с собой плохую погоду.
— Первый раз слышу, чтобы циклон называли плохой погодой, — заметил Лесли.
— Но ведь несчастье приносят павлины, милый. Я все время тебе об этом толкую, — жалобно сказала мама. — Я это хорошо знаю, потому что у одной моей тетки в доме были павлиньи перья, и у них умерла кухарка.
— Дорогая мама, всему миру известно, что альбатрос предвещает несчастье. Даже закаленные морские волки бледнеют и теряют сознание при виде альбатроса. Поверьте, что в одну прекрасную ночь у нас в трубе засияют огни святого Эльма. Не успеем мы опомниться, как огромная приливная волна потопит нас прямо в постелях.
— Ты говорил, что это будет циклон, — напомнила Марго.
— Циклон и приливная волна, — сказал Ларри. — И, может быть, еще землетрясение, а также извержение двух-трех вулканов. Держать эту птицу — значит искушать Провидение.
— Где ты ее все-таки раздобыл? — спросил меня Лесли.
Я рассказал о своей встрече с Кости (ни словом не поминая морских змей, так как Лесли змей ненавидел) и о том, как он отдал мне птицу.
— Ни один человек в здравом уме, — сказал Ларри, — не стал бы делать таких подарков. Интересно, кто же это был?
— Арестант, — ответил я, не задумываясь.
— Арестант? — дрожащим голосом спросила мама. — Что ты этим хочешь сказать?
Я объяснил, что Кости разрешают приезжать домой на выходные дни, так как на острове Видо ему доверяют, и добавил, что завтра утром я собираюсь ехать с ним на рыбную ловлю.
— Не знаю, стоит ли это делать, милый, — неуверенно сказала мама. — Мне не хочется, чтобы ты ездил с заключенными. Мы же не знаем, что он сделал.
Я заявил с горячностью, что очень хорошо это знаю. Он убил свою жену.
— Убийца? — произнесла ошеломленная мама. — Но как же он расхаживает тут на свободе? Почему его не повесили?
— Смертная казнь здесь существует только для бандитов, — объяснил Лесли. — Вы можете получить три года за убийство и пять лет, если будете глушить рыбу динамитом.
— Просто смешно, — возмутилась мама. — Я еще не слыхала ничего подобного.
— Мне кажется, это свидетельствует о тонком восприятии важности сущего, — заметил Ларри. — Мальки важнее женщин.
— Как бы там ни было, я не отпущу тебя с убийцей, — сказала мама. — Он может перерезать тебе горло или сделать еще что-нибудь.
Целый час мне пришлось спорить и упрашивать маму. Наконец она согласилась отпустить меня с Кости при условии, что сначала Лесли пойдет взглянуть на него. Таким образом, на следующее утро я все же отправился с Кости в море, а когда мы возвратились, наловив Алеко рыбы дня на два, я пригласил своего нового знакомого к нам в дом, чтобы мама могла составить о нем собственное мнение.
Обычно при большом умственном напряжении маме удавалось припомнить два-три греческих слова. Такой скудный словарный запас и в лучшие времена лишал ее возможности вести вольные беседы, а теперь, когда ей предстояло пройти через тяжкое испытание и поговорить с убийцей, все греческие слова, какие она знала, вылетели у нее из головы в одну минуту. Так что, пока мы сидели на веранде, она могла только беспомощно улыбаться, в то время как Кости в своей выцветшей рубашке и потертых штанах пил пиво, а я переводил его разговор.
— Он кажется таким славным, — сказала мама, когда Кости ушел. — И ничуть не похож на убийцу.
— А как, по-твоему, выглядит убийца? — спросил Ларри. — Ты что думаешь, он с заячьей губой или косолапый и держит в руках бутылку с ядом?
— Не говори глупостей, милый. Конечно, я так не думаю. Но мне казалось, что он должен выглядеть… как бы это сказать, более кровожадным.
— Не надо судить о человеке по внешности, — заметил Ларри. — Значение имеют только поступки. Я мог бы сразу определить, что это убийца.
— Каким образом, милый? — заинтересовалась мама.
— Очень просто, — со вздохом ответил Ларри. — Только убийце могла прийти в голову мысль отдать Джерри этого альбатроса.

Глава восемнадцатая
Представление со зверями

Весь дом был охвачен кипучей деятельностью. У кухонной двери без конца толпились деревенские жители с корзинками снеди и связками клохчущих кур. Два, а то и три раза в день к дому подъезжал Спиро на своем автомобиле, доверху набитом ящиками вина, стульями, легкими разборными столами и другими предметами. Охваченные волнением Сороки носились из конца в конец по клетке, просовывали головы сквозь прутья и громкими хриплыми голосами комментировали события. На полу в столовой в окружении больших листов оберточной бумаги лежала Марго и рисовала на них мелками крупные, яркие фрески; в гостиной Лесли, окруженный горой мебели, математическим способом пытался определить, сколько столов и стульев может вместить дом, оставаясь пригодным для жилья; на кухне мама (с двумя помогавшими ей крикливыми девушками) двигалась в атмосфере, какая бывает внутри вулкана, окутанная клубами пара, искрами огня, тихим кипением и пыхтением кастрюлек; мы с собаками слонялись из комнаты в комнату, помогали, где могли, давали советы и вообще старались быть полезными; наверху, у себя в спальне, безмятежно спал Ларри. Семья готовилась к большому приему гостей.
Как всегда, устроить этот вечер мы решили совсем неожиданно и без всякой на то причины, просто нам так захотелось. Преисполненные любовью к ближнему, мы решили пригласить всех, о ком только могли вспомнить, даже тех, кого терпеть не могли. Все с жаром принялись за подготовку. Поскольку было начало сентября, вечер решили назвать рождественским, а чтобы вся затея не оказалась слишком мимолетной, гостей мы пригласили к ленчу, к чаю и к обеду. Это означало, что еды надо было наготовить целые горы, поэтому мама (вооруженная кипой замусоленных кулинарных книг) скрылась на кухне и оставалась там много часов подряд. Когда она наконец вышла оттуда в запотевших очках, с нею было почти невозможно говорить о чем-нибудь, не имевшем отношения к еде.
Как и обычно в тех редких случаях, когда все в семье были единодушны в своем желании принимать гостей, за подготовку взялись задолго до срока и с таким рвением, что ко дню празднества все уже падали от усталости и становились злые, как черти. Нет нужды объяснять, что наши вечера никогда не проходили так, как были задуманы. Сколько бы мы ни старались, всегда в последнюю минуту какое-нибудь непредвиденное событие переводило все на другие рельсы и наш тщательно разработанный проект шел под откос. За много лет мы к этому уже привыкли — себе во спасение, иначе наш рождественский вечер с самого начала был бы обречен на провал, так как им почти полностью завладели звери. А ведь все началось с безобидных золотых рыбок.
В то время мне удалось поймать (с помощью Кости) черепаху, которую я называл Старым Шлёпом. Получив такое роскошное добавление к своему зверинцу, я задумал чем-нибудь отметить это событие. Лучше всего, решил я, преобразовать черепаший пруд, который был сделан просто из старого корыта. На мой взгляд, это было слишком низменное обиталище для такой персоны, как Старый Шлёп. Я раздобыл большой прямоугольный резервуар из камня (когда-то в нем хранили масло) и художественно оформил его камнями, водяными растениями, песком, галькой. В готовом виде все это выглядело как в естественной обстановке и, кажется, пришлось по вкусу черепахам и водяным ужам. Однако я сам был не совсем доволен. В общем вся эта штука была, конечно, замечательная, но чего-то в ней не хватало. Хорошенько пораскинув мозгами, я решил, что вполне законченный вид ему придадут золотые рыбки. Вопрос заключался лишь в том, где их взять.
Самым близким местом, где можно купить подобные вещи, были, наверно, Афины, но поездка туда — дело сложное, да и долгое, мне же хотелось, чтобы пруд был готов ко дню нашего празднества. В доме все слишком заняты, никто не станет терять время на золотых рыбок, поэтому я отправился со своей проблемой к Спиро. Когда я красочно и подробно описал ему, как выглядят золотые рыбки, Спиро ответил, что затея моя невыполнима. На Корфу ему такие рыбки никогда не попадались. Но все-таки, сказал он, над этим надо подумать. Потянулись долгие дни ожидания, и я уже решил, что Спиро забыл обо всем, но вот, за день до торжества, он отозвал меня в сторонку, удостоверившись сначала, что нас никто не подслушивает.
— Мастер Джерри, — загремел он хриплым шепотом. — Наверное, я смогу достать тебе этих золотых рыбок. Только не говори никому. Поедешь со мной в город сегодня вечером, когда я повезу твою маму делать прическу. Захвати какую-нибудь посудину.
Меня эта новость очень взволновала. Заговорщицкий вид Спиро придавал всей истории добывания золотых рыбок волнующий налет опасности и тайны, и я бросился искать нужную банку. В тот вечер Спиро запаздывал. Мы с мамой довольно долго сидели на веранде, прежде чем услышали шум и гудки его автомобиля, с визгом подкатившего к дому.
— Честное слово, миссис Даррелл, так получилось, — извинялся он перед мамой за опоздание, подсаживая ее в автомобиль.
— Ничего, Спиро. Мы просто боялись, что вы потерпели аварию.
— Аварию? — презрительно сказал Спиро. — У меня никогда не бывает аварий.
Уже почти смеркалось, когда мы высадили маму у парикмахерской, и Спиро повез меня на другой конец города. Остановившись у высоких чугунных ворот, он выскочил из машины, с опаской оглянулся, подошел к воротам и свистнул. Через некоторое время из-за кустов показался старик с бакенбардами. Спиро посовещался с ним о чем-то шепотом и вернулся к автомобилю.
— Давай банку, мастер Джерри, — прогрохотал он, — и жди меня тут. Я скоро вернусь.
Человек с бакенбардами впустил Спиро в ворота, и они оба скрылись за кустами. Вернулся Спиро через полчаса. В башмаках у него хлюпала вода, брюки внизу промокли насквозь, а к мощной груди его была прижата банка.
— Держи, мастер Джерри, — сказал он, всовывая мне в руки банку. — Там внутри плавает пять штук жирных блестящих рыбок.
Невероятно обрадовавшись, я принялся на все лады благодарить Спиро.
— Ну, все в порядке, — сказал он, включая мотор. — Только никому ни звука, понял?
Я спросил, кто ему дал рыбок и чей это сад.
— Какая тебе разница? — нахмурил брови Спиро. — Лучше смотри, чтобы об этом никто не узнал, ни одна душа.
Только через месяц или два во время прогулки с Теодором мне вновь случилось пройти мимо тех самых чугунных ворот, и я спросил, кто здесь живет. Теодор объяснил, что это дворец, где останавливается греческий король (или члены королевской семьи), когда приезжает на остров. Моему восхищению Спиро не было границ: прорваться во дворец и выкрасть из королевского пруда золотых рыбок — это ли не выдающийся подвиг! Да и цена самих золотых рыбок, беспечно снующих среди черепах, с тех пор для меня намного возросла, придавая им дополнительный блеск.
События в тот день стали разворачиваться с самого утра. После завтрака я помчался взглянуть на золотых рыбок и, к своему ужасу, увидел, что от двух рыбок уже почти ничего не осталось. Накануне вечером в своей безмерной радости от нового приобретения я совсем забыл, что и черепахи и водяные ужи не прочь иногда полакомиться такой вот пухлой рыбкой. Пришлось отсадить рептилий в банки из-под керосина до той поры, когда я придумаю что-нибудь получше. Пока я чистил и кормил Сорок и Алеко и все еще размышлял о невозможности совместного житья рептилий и рыб, подошел час ленча. Первые гости могли нагрянуть в любую минуту. Я угрюмо ходил вокруг своего благоустроенного пруда и вдруг увидел, что кто-то выставил банку с водяными ужами на самое солнце. Вялые и перегревшиеся ужи лежали на поверхности воды. В первую минуту я даже подумал, что они сдохли. Только немедленная помощь могла их спасти. Схватив ужей, я бросился в дом. Мама была на кухне, измученная и рассеянная, она старалась делить свое внимание между стряпней и вновь одолевавшими Додо кавалерами.
Я объяснил, что случилось с ужами и что спасти их может только продолжительное пребывание в прохладной воде. Могу я поместить их в ванну примерно на час?
— Да, милый. Я думаю, это поможет. Проверь, чтоб там никого не было, а потом не забудь продезинфицировать ванну.
Я наполнил ванну чудесной прохладной водой и бережно опустил туда ужей. Через несколько минут они начали проявлять несомненные признаки жизни. Обрадовавшись, я оставил их отмокать в воде, а сам побежал наверх переодеться. На обратном пути я заглянул на веранду, чтобы оценить стол, накрытый под сенью виноградных листьев. В самом центре стола на очень красивой вазе с цветами сидели Сороки. Похолодев от ужаса, я стал осматривать стол. Ножи и вилки валялись где попало, сливочное масло было размазано по тарелкам и масляные отпечатки птичьих лапок разбегались по всей скатерти. Перец и соль довольно эффектно украшали измазанные осколки разбитой соусницы с острой приправой. И в довершение всего несравненные Сороки опрокинули на стол кувшин с водой.
В поведении преступниц было явно что-то подозрительное, решил я. Вместо того, чтобы немедленно удрать отсюда, они сидели с блестящими, ясными глазами среди изломанных цветов, мерно раскачивались и обменивались благодушными замечаниями. Одна из них, с цветком в клюве, поглядела на меня с минуту восхищенным взглядом, затем неуверенными шагами прошлась по столу и, не удержав на самом краю равновесия, грохнулась на пол. Другая Сорока весело хихикнула, засунула голову под крыло и мигом заснула. Меня поразило такое странное поведение птиц. Потом я заметил на полу разбитую бутылку пива и сразу все понял. У Сорок тут был собственный пир, и они хватили лишнего. Поймал я их без труда, хотя та, что была на столе, пыталась спрятаться под измазанной маслом салфеткой и притвориться, что ее там нет. Пока я стоял с Сороками в руках и раздумывал, можно ли сунуть их как-нибудь незаметно в клетку и потом сделать вид, что ты знать ничего не знаешь, на веранду вошла мама с соусником в руках. Пойманный, так сказать, с поличным, я уже не мог свалить все на неожиданный порыв ветра или на крыс или придумать еще какую-то причину разгрома. Вместе с Сороками мне предстояло получить по заслугам.
— Право же, милый, — жалобным голосом сказала мама, — нужно было получше запирать дверцу клетки. Ты же знаешь, на что они способны. Ну ничего, это просто несчастный случай. И потом, что с них взять, раз они пьяные.
Как я и опасался, Алеко тоже не преминул воспользоваться случаем и удрал. Водворив пьяных Сорок в их половину клетки, я прочитал им хорошую нотацию. К тому времени опьянение их достигло буйной стадии, они с яростью кидались на мой башмак, а потом, не поделив шнурков, стали кидаться одна на другую. Я предоставил им полную возможность метаться по клетке и в пьяном бессилии долбить друг друга клювом, а сам пошел искать Алеко. Я обыскал весь дом и сад, но нигде его не обнаружил. Улетел, как видно, к морю освежиться, подумал я, радуясь, что хоть этот убрался от греха подальше.
Тем временем прибыли первые гости. Они собрались на веранде выпить по рюмке вина, и я направил туда свои стопы. Вскоре мы с Теодором уже увлеклись интересной беседой. Потом я вдруг с удивлением увидел, как из оливковых рощ с ружьем под мышкой вышел Лесли. Он тащил полную сетку бекасов и огромного зайца. Я просто забыл, что он ушел на охоту, надеясь набрести на ранних вальдшнепов.
— Ага! — восхитился Теодор, когда Лесли перемахнул через перила веранды и показал нам свои охотничьи трофеи.
Лесли пошел переодеться, а мы с Теодором снова углубились в беседу. Вошла мама с Додо и присела на барьер. Ее роль любезной хозяйки была несколько испорчена тем, что ей все время приходилось прерывать разговор и, скорчив свирепую гримасу, замахиваться тяжелой палкой на собак, собравшихся в садике. Временами приятели Додо затевали между собой шумную драку, тогда мы все мигом оборачивались и кричали «цыц!», отчего у наших наиболее нервных гостей расплескивалось вино. Всякий раз после такой заминки мама одаривала гостей приветливой улыбкой и старалась опять наладить беседу. Ей только что удалось проделать это в третий раз, когда вдруг все разговоры мигом оборвались. Откуда-то изнутри дома до веранды донесся ужасный рев. Такой рев мог бы издавать минотавр, страдающий зубной болью.
— Что же это такое с Лесли? — спросила мама.
Ей не пришлось оставаться долго в неведении, так как Лесли появился на веранде, прикрытый только небольшим полотенцем.
— Джерри! — заорал он, и лицо его побагровело от ярости. — Где этот мальчишка?
— Тихо, тихо, милый, — успокаивала его мама. — Ну что там случилось?
— Змеи, — прорычал Лесли, широко разводя руки, чтобы показать невероятную длину змей, но тут же быстро схватился за сползающее полотенце. — Змеи, вот что случилось.
Любопытна была реакция гостей. Те, кто нас хорошо знал, следили за этой сценой с величайшим интересом, непосвященные же подумали, что Лесли немножко чокнутый, и не знали, как им поступить: не обращать ни на что внимания и продолжать разговор или же схватить Лесли, пока он еще ни на кого не бросился.
— О чем ты говоришь, милый?
— Этот зараза мальчишка напихал в ванну до черта змей, — ответил Лесли, вполне проясняя ситуацию.
— Язык, милый, что за язык! — автоматически произнесла мама и рассеянно добавила: — Пойди надень что-нибудь на себя, а то ведь так ты можешь простудиться.
— Ужасно здоровенные твари, как пожарный шланг… Не понимаю, как они меня не укусили.
— Ну ничего, милый. Это я виновата. Я посоветовала Джерри посадить их туда, — оправдывалась мама и потом, чувствуя, что гостям надо дать какие-то разъяснения, добавила: — У них был солнечный удар, у бедняжек.
— Ну знаешь, мама! — воскликнул Ларри. — Мне кажется, это уж слишком.
— Ты бы помолчал, милый, — твердо сказала мама. — Ведь это Лесли купался со змеями.
— Не понимаю, почему Ларри во все должен вмешиваться? — Проворчала Марго.
— Вмешиваться? Я вовсе не вмешиваюсь. Но если мама вступает в сговор с Джерри и они набивают ванну змеями, я просто обязан выразить свое недовольство.
— Ах, да замолчите вы! — перебил Лесли. — Лучше скажите, когда он собирается убрать этих тварей?
— Мне кажется, вы слишком шумите по пустякам, — сказала Марго.
— Если со временем назреет необходимость совершать свои омовения в гнезде королевских кобр, я вынужден буду переселиться.
— Смогу я выкупаться или нет? — прохрипел Лесли.
— Почему ты сам их не вынешь?
— Только святой Франциск Ассизский смог бы почувствовать себя здесь как дома.
— Ах, ради Бога, не шумите!
— Я имею точно такое же право высказывать свои взгляды…
— Мне нужна всего лишь ванна. Не так уж многого я требую…
— Тихо, тихо, милые, не ссорьтесь. Джерри, пойди и вытащи змей из ванны. Положи их на время в таз или еще куда-нибудь.
— Нет, нет! Их надо совсем убрать из дома, — волновался Ларри.
— Хорошо, милый. Ты только не кричи.
В конце концов я принес из кухни кастрюлю и посадил туда водяных ужей. К моей радости, они совершенно оправились и дружно шипели, когда я вынимал их из ванны. На веранду я вернулся как раз вовремя, чтобы услышать, как Ларри изливается перед гостями.
— Поверьте мне, дом этот очень опасный. Малейший закоулок или трещина набиты тут ужасным зверьем, готовым в любую минуту прыгнуть на вас. Не понимаю, как только я не сделался калекой на всю жизнь. Здесь нельзя, например, зажечь сигарету. Казалось бы, такое простое, безобидное действие, но оно чревато опасностью. Не принимается в расчет даже святость моей спальни. Сначала меня атаковала скорпиониха, мерзкая зверюга, которая рассеивала повсюду яд и своих младенцев. Потом мою комнату разнесли на куски сороки. Теперь вот у нас змеи в ванне, а вокруг дома носится огромная стая альбатросов, которые шумят, как испорченный водопровод.
— Ларри, милый, ты все сильно преувеличиваешь, — сказала мама, рассеянно улыбаясь гостям.
— Дорогая мама, я не только не преувеличиваю, но даже преуменьшаю. Вспомни, как Квазимодо задумал спать в моей комнате.
— В этом не было ничего ужасного, милый.
— Ну, конечно, — с достоинством ответил Ларри. — Очень приятно, когда в половине четвертого утра тебя будит голубь, задравший хвост прямо над твоим глазом…
— Ну хорошо, мы достаточно поговорили о животных, — поспешно перебила его мама. — Я думаю, стол уже давно накрыт, не перейти ли нам туда?
— Во всяком случае, — сказал Ларри, когда все двинулись к столу, — сам мальчишка опасен… у него там завелись звери, на его чердаке.
Гостям указали их места, раздался грохот отодвигаемых стульев, потом все уселись за стол и начали улыбаться друг другу. Почти в тот же миг двое из гостей закричали не своим голосом и слетели со стульев.
— О Господи, что же еще случилось? — с тревогой спросила мама.
— Наверно, опять скорпион, — ответил Ларри, вскакивая с места.
— Что-то меня укусило… укусило за ногу!
— Вот видите! — закричал Ларри. — Что я вам говорил? Я не удивлюсь, если вы обнаружите под столом парочку медведей.
Единственный из гостей, кого не охватил ужас от мысли, что у ног его притаилась опасность, был Теодор. Он спокойно нагнулся, поднял скатерть и заглянул под стол.
— Ага! — послышался его заглушенный голос.
— Что там? — спросила мама.
Голова Теодора вынырнула из-под скатерти.
— Кажется, какая-то… э… какая-то птица. Большая черно-белая птица.
— Это альбатрос! — оживился Ларри.
— Нет, нет, — поправил Теодор. — Я думаю, это какой-то вид чайки.
— Не двигайтесь… старайтесь сидеть спокойно, если вы не хотите, чтобы вам отхватили ногу до колена, — оповещал гостей Ларри.
Такие слова, разумеется, не способствовали сохранению спокойствия. Все гости разом повскакали с мест и отошли от стола.
Алеко издал из-под скатерти протяжный, грозный крик. Был ли это страх упустить добычу или протест против шума, трудно сказать.
— Джерри, сейчас же поймай эту птицу, — командовал Ларри с безопасного расстояния.
— Правда, милый, — согласилась мама. — Посади ее лучше в клетку, ей нельзя здесь оставаться.
Я осторожно поднял край скатерти. Алеко расселся под столом, как барон, и глядел на меня желтыми злыми глазами, а когда я протянул к нему руку, поднял крылья и свирепо щелкнул клювом. Он был явно не расположен к шуткам. Я попробовал подвести к его клюву салфетку.
— Мой дорогой мальчик, тебе не нужна помощь? — спросил Кралевский.
Очевидно, репутация орнитолога обязывала его сделать какое-то предложение, но мой отказ от помощи его очень обрадовал. Я объяснил, что Алеко в плохом настроении, сразу его не поймаешь.
— Только поскорей, ради Бога, суп ведь стынет, — сердито пробурчал Ларри. — Нельзя ли его чем-нибудь выманить? Что эти скоты едят?
Мне наконец удалось схватить Алеко за клюв, и, как он ни кричал, как ни хлопал крыльями, я вытащил его из-под стола, связал ему крылья и отнес в клетку. Когда я, весь запаренный и взъерошенный, возвращался на веранду, вслед мне неслись громкие оскорбления и угрозы Алеко.
Звенели бокалы, стучали ножи и вилки, пенилось вино. Одно кулинарное чудо сменялось другим, и, когда все гости выражали свое единодушное восхищение очередным блюдом, мама улыбалась с притворной скромностью. Разговор, конечно, вертелся вокруг животных.
— Помню, еще ребенком, — начал рассказывать Ларри, — меня отправили к одной из наших многочисленных теток, экстравагантных старух. Она питала страсть к пчелам и развела их видимо-невидимо. Сотни ульев гудели у нее в саду, как телеграфные столбы. И вот однажды, заперев нас для надежности в доме, она надела перчатки, закрыла лицо сеткой и отправилась к одному из ульев за медом. То ли она не окурила пчел как следует, то ли еще что-нибудь, но они вырвались из улья настоящим смерчем, едва только была откинута крышка, и облепили тетку со всех сторон. Мы наблюдали все это из окна, но, ничего не смысля в пчелах, думали, что так оно и положено. А потом увидели, как тетка мечется по саду, стараясь ускользнуть от пчел, и цепляется сеткой за кусты роз. Наконец она добежала до дома и бросилась к двери. Открыть дверь мы ей не могли, потому что она заперла нас на ключ. Мы старались втолковать ей это, однако ее отчаянные крики и гудение пчел заглушали наши голоса. Кажется, это Лесли пришла потом в голову блестящая мысль окатить ее водой из окна спальни. К сожалению, он так постарался, что вместе с водой вниз полетело и ведро. Холодный душ и удар по голове большим оцинкованным ведром уже само по себе было достаточным испытанием, а ей при этом приходилось отбиваться еще и от огромного роя пчел. Когда мы наконец смогли втянуть тетку в дом, она уже вся раздулась почти до неузнаваемости.
Ларри печально вздохнул и помолчал некоторое время.
— Бог ты мой, как это ужасно, — воскликнул Кралевский. — Они могли закусать ее до смерти.
— Да, могли, — согласился Ларри. — Во всяком случае, это совершенно испортило мне каникулы.
— Она поправилась? — спросил Кралевский.
Мне было ясно, что он уже придумывает захватывающее приключение с разъяренными пчелами и со своей Леди.
— Да, поправилась, пролежала несколько недель в больнице, — беззаботно ответил Ларри. — Только это, кажется, не отвадило ее от пчел. В скором времени у нее в печной трубе обосновался целый пчелиный рой. Пытаясь выкурить его оттуда, она подожгла дом. Когда прибыла пожарная команда, от дома остался лишь обугленный остов, над которым кружились пчелы.
— Ужасно, ужасно! — бормотал Кралевский.
Теодор, старательно намазывающий маслом ломтик хлеба, хрюкнул от удовольствия.
— Кстати, о пожарах, — начал он, и в его глазах сверкнул задорный огонек. — Я вам не рассказывал о тех временах, когда на Корфу модернизировали пожарную команду? Начальник пожарной службы, кажется, побывал в Афинах, и там на него очень сильное… э… впечатление произвело новое пожарное оборудование. Он подумал, что пора уже на Корфу ликвидировать старую пожарную машину на конной тяге и приобрести новую… гм… красивую, блестящую, желательно красного цвета. Он позаботился также и о других усовершенствованиях и вернулся сюда, полный… гм… энтузиазма. В первую очередь он велел проделать отверстие в потолке пожарной каланчи, чтобы пожарные могли должным образом соскальзывать по столбу вниз. Но, торопясь поскорее все модернизировать, он, очевидно, упустил из виду столб, так что на первых порах двое пожарных сломали себе ноги.
— Ох, знаете, Теодор, я этому просто не верю. Вы все выдумываете.
— Нет, нет, уверяю вас, это чистейшая правда. Этих двоих пожарных приводили ко мне в рентгеновский кабинет. Наверно, начальник ничего не сказал им о столбе, и они решили, что надо прыгать в отверстие. Но это было только начало. Вскоре они приобрели, заплатив за нее значительную сумму, большую пожарную машину. Начальник настаивал на самой большой и самой лучшей. К сожалению, она оказалась такой большой, что в городе на ней можно было ездить только по одной дороге. Вы ведь знаете, какие там узкие улицы. Довольно часто можно увидеть, как машина несется на пожар в совершенно противоположном направлении. Выехав за город, где дороги немного пошире, она уже может добраться до места пожара. Но самым интересным, мне кажется, было дело с автоматическим пожарным сигналом. Это, знаете, такая штука, где надо разбить стекло, и внутри там есть нечто вроде… гм… телефона. Так вот, они очень долго обсуждали, куда его повесить. Начальник мне рассказывал, что это было очень трудно решить, так как никто ведь не знает, где может начаться пожар. Во избежание недоразумений сигнал повесили на дверях пожарной каланчи.
Теодор остановился, потеребил бороду и отпил глоток вина.
— Едва они закончили всю переделку, как вспыхнул первый пожар. Мне посчастливилось быть неподалеку, так что я видел все своими глазами. Загорелся гараж, и, пока его владелец бегал на пожарную станцию разбивать стекло, пламя разбушевалось вовсю. А тут началась перебранка, так как начальнику было досадно, что его пожарный сигнал разбили так скоро. Он сказал владельцу гаража, что надо было просто постучать в дверь. Сигнал-то совсем новенький, и теперь стекло на нем не скоро заменишь. Наконец на улицу выкатили пожарную машину, собрали пожарных. Начальник произнес перед ними короткую речь, призывая каждого исполнить свой… гм… долг. Потом они расселись по местам и немного поспорили о том, кому должна принадлежать честь звонить в колокол, но в конце концов начальник взял это на себя. Когда машина прибыла на место, вид у нее, должен заметить, был очень внушительный. Пожарные спрыгнули на землю, и работа закипела. Они размотали очень большой шланг, но тут произошла заминка. Никто не мог найти ключа, чтобы отпереть машину сзади, куда полагалось вставить шланг. Начальник сказал, что он отдал его Яни, но Яни, кажется, сегодня выходной. После долгих споров кто-то побежал к Яни, жившему, к счастью, не очень далеко. Ожидая его возвращения, пожарные любовались пламенем, которое теперь разгорелось как следует. Вернулся посланный и сказал, что Яни нет дома, но, по словам жены, он ушел на пожар. Начали смотреть в толпе и вскоре отыскали его среди зевак, с ключом в кармане. Начальник очень рассердился и сказал, что это производит плохое впечатление. Открыли машину, вставили шланг, пустили воду, но к тому времени от гаража уже, конечно, ничего не осталось, тушить было нечего.
После еды гости отяжелели, им хотелось только спокойно отдыхать на веранде. Предложение Кралевского поиграть в крикет было встречено без всякого энтузиазма. Лишь немногих, самых неутомимых, Спиро отвез к морю, где мы плескались в воде, пока не наступила пора идти пить чай — еще один из маминых гастрономических триумфов.
Беседа почти замерла. Слышалось лишь легкое позвякивание чашек да искренний вздох кого-нибудь из сытых по горло гостей, кому предлагали еще один кусок пирога. После чая все разбрелись по веранде, вели бессвязные, сонливые беседы, в то время как сквозь оливковые рощи постепенно наползали сумерки. На увитой виноградом веранде сгущались тени, и лица гостей становились неясными.
Среди деревьев показался вдруг автомобиль Спиро, уезжавшего куда-то по своим загадочным делам. Громкий рев рожка оповещал теперь всех и вся о его прибытии.
— И для чего это Спиро нарушает вечернюю тишину такими ужасными звуками? — обиженным голосом спросил Ларри.
— Вот именно, вот именно, — пробормотал полусонный Кралевский. — В это время суток надо слушать соловьев, а не автомобильные гудки.
— Помню, как я был удивлен, — раздался в полутьме голос Теодора, — когда первый раз ехал со Спиро. Не припомню теперь точно, о чем мы тогда говорили, но только он вдруг сказал мне: «Знаете, доктор, когда я проезжаю через какую-нибудь деревню, там всегда пустынно». Я мысленно представил себе… гм… совершенно безлюдные деревни и горы трупов по краям дороги… Потом Спиро добавил: «Да, если я проезжаю через деревню, я всегда сигналю что есть мочи и пугаю всех до смерти».
Автомобиль подкатил к дому, свет фар на мгновение скользнул по веранде, высветив зеленое кружево виноградных листьев, группки болтавших и смеявшихся гостей, двух накрывавших на стол деревенских девчонок с алыми повязками на голове, шлепавших тихонько босыми ногами по каменным плиткам. Шум мотора смолк, и Спиро вывалился на дорожку, прижимая к груди огромный и, очевидно, тяжелый пакет в оберточной бумаге.
— О Боже! Взгляните! — драматически воскликнул Ларри, указывая на Спиро дрожащим пальцем. — Издатели снова вернули мне рукопись.
Спиро остановился, сдвинул брови.
— Нет, мастер Ларри, честное слово, нет, — объяснил он серьезно. — Тут три индюшки. Это моя жена зажарила для вашей мамы.
— А! Тогда еще есть надежда, — сказал Ларри с преувеличенным вздохом облегчения. — От потрясения я чуть не упал в обморок. Пойдемте все в дом, выпьем по рюмочке.
В комнатах горели лампы. Легкий ветерок чуть шевелил развешанные по стенам яркие фрески Марго. Зазвенели, заговорили рюмки. Пробки вылетали со звуком брошенного в колодец камня, вздыхали сифоны, будто утомленные поезда. Гости оживали. В глазах у них появился блеск, разговоры становились все громче.
Оглушенная шумом и потерявшая надежду привлечь к себе внимание мамы, Додо решила одна прогуляться по саду. Но не успела она приковылять к магнолии, как перед нею очутилась целая свора страшных, ощетинившихся воинственных собак, имевших, очевидно, самые дурные намерения. Завизжав от страха, Додо задрала хвост и со всей возможной для ее коротких, жирных ног прытью бросилась искать защиты в доме. Страстные поклонники, однако, не собирались отступать без боя. Они торчали тут на жаре целую вечность, стараясь завести знакомство с Додо, и теперь не хотели упускать этого ниспосланного прямо небесами случая. Додо с визгом влетела в людную гостиную, и следом за нею вкатилась волна рычащих собак. Роджер, Вьюн и Пачкун, удалившиеся было подремать на кухню, стрелой примчались обратно и от возмущения застыли на месте. Уж если кому-то и предстояло обольстить Додо, то это должен быть один из них, а не какой-нибудь захудалый деревенский пес. И они с остервенением набросились на преследователей Додо. В один миг в комнате все перевернулось. По полу катился клубок грызущихся и рычащих собак, до смерти перепуганные гости пытались прыгнуть куда-нибудь повыше.
— Это же волки!.. — вопил Ларри, ловко вскакивая на стул. — Значит, нам придется тут зимовать.
— Спокойно, спокойно! — ревел Лесли, схватив подушку и швыряя ею в ближайших собак. В одну секунду пять зияющих пастей разодрали ее в клочья.
В воздух взметнулось огромное облако перьев и поплыло по комнате.
— Где Додо? — беспокоилась мама. — Разыщите Додо. Они ее искусают.
— Разнимите их! Разнимите! Они убьют друг друга! — закричала Марго и, схватив сифон с содовой водой, стала без разбору поливать и гостей и собак.
— При собачьих драках хорошо действует перец, — заметил Теодор, у которого вся борода была, как снегом, облеплена перьями. — Правда, сам я ни разу этого не пробовал.
— Бог ты мой! — закричал Кралевский. — Спасайте женщин.
Следуя своему призыву, он помог одной из женщин забраться на диван и сам вскочил вслед за нею.
— Вода тоже считается хорошим средством, — продолжал в задумчивости Теодор и, словно желая это проверить, с завидной меткостью выплеснул из своей рюмки вино в оказавшуюся рядом собаку.
Услышав слова Теодора, Спиро сходил на кухню и принес оттуда бачок воды.
— Берегись! — гаркнул он. — Я сейчас поставлю на место этих недоносков.
Гости бросились врассыпную, однако недостаточно быстро. Стеклянная, сверкающая масса воды пролетела по воздуху и грохнулась на пол, снова взметнулась вверх и волной раскатилась по комнате. У стоявших поблизости гостей был теперь самый жалкий вид, зато на собак это подействовало как удар грома. Испуганные шумом и плеском воды, они в один миг расцепились и стрелой выскочили из дома, оставив позади себя поле умопомрачительной битвы. Комната была похожа на куриный насест после урагана. Мокрые, облепленные перьями, по ней бродили наши друзья. Перья садились на лампы, и в воздухе пахло паленым. Сжимая в руках Додо, мама оглядывала комнату.
— Лесли, милый, сходи за полотенцами, нам надо вытереться. В комнате все перевернуто вверх дном. Ну ничего, пойдемте на веранду, — сказала мама, очаровательно кивнув головой. — Очень жаль, что так получилось. Вы видите, это все из-за Додо.
Гостей вытерли, сняли с них перья, налили им вина и усадили на веранде, где на каменных плитках луна отпечатала темный рисунок из виноградных листьев. Ларри с набитым ртом потихоньку бренчал на гитаре и слегка подпевал. Сквозь стеклянные двери я видел, как Лесли и Спиро, сосредоточенно нахмурившись, ловко разрывали на части огромных жареных индеек. Мама беспокойно двигалась среди теней, спрашивая каждого гостя, достаточно ли у него еды. Кралевский сидел на перилах веранды, подставив горб луне, и рассказывал Марго какую-то длинную, сложную историю. Теодор читал доктору Андручелли лекцию о звездах, показывая на созвездия полуобглоданной ножкой индейки.
Лунный свет расписал весь остров черными и серебряными узорами. Далеко внизу среди темных кипарисов мирно перекликались совы. Небо было черное и мягкое, как кротовая шкурка, забрызганная каплями звезд. Над домом раскинула свои ветки огромная магнолия, усыпанная, будто маленькими лунами, сотнями белых цветов. Их сильный, густой аромат сладостно разливался над верандой и как бы околдовывал вас, завлекал в таинственные лунные дали.
Возвращение
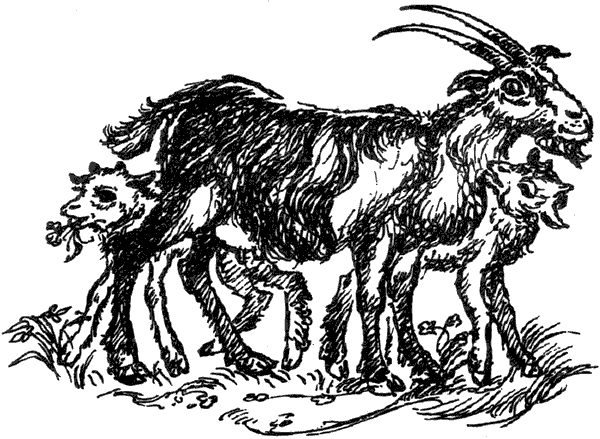
С благородной честностью, совсем, на мой взгляд, непростительной, мистер Кралевский сообщил маме, что он уже научил меня всему, что сам знал. Настало время, сказал он, отправить меня куда-нибудь в Англию или Швейцарию, где бы я мог закончить образование. Подобные разговоры доводили меня до отчаяния. Я заявил, что хочу быть полуобразованным. Это даже лучше, если человек ничего не знает, тогда он удивляется всему гораздо больше. Но мама была тверда как сталь. Нам просто необходимо вернуться в Англию, пожить там с месяц, укрепить свое положение (что означало препирательства с банком) и потом уже решить, где я буду учиться дальше. Чтобы унять наш ропот и подавить сопротивление, мама сказала, что к этому следует относиться просто как к отпуску, приятному путешествию. И скоро мы опять вернемся на Корфу.
Уже упакованы ящики, сундуки, чемоданы, для птиц и черепах сделаны клетки, а собаки в своих новых ошейниках чувствуют себя как-то неловко и имеют виноватый вид. Последние прогулки по оливковым рощам, последние слезные прощания с многочисленными деревенскими друзьями, и вот уже вереница автомобилей медленно спускается с холма, напоминая, как заметил Ларри, похороны преуспевающего старьевщика.
Гора нашего имущества высится на таможне, а рядом стоит мама и гремит большой связкой ключей. Все остальные ждут на улице, под ослепительным солнцем, разговаривают с Теодором и Кралевским, которые пришли нас проводить. Появился таможенник и слегка ахнул, увидев пирамиду багажа, увенчанную клеткой, откуда на него со злорадством глядели Сороки. Мама нервно улыбалась и вертела в руках ключи. Вид у нее был как у контрабандиста, пытающегося провезти алмазы. Таможенник посмотрел на маму, потом на багаж, затянул потуже пояс и нахмурился.
— Это все ваше? — спросил он для полной уверенности.
— Да, да, все мое, — прощебетала мама, взмахнув ключами. — Надо что-нибудь открыть?
Таможенник о чем-то сосредоточенно думал.
— Увасес новы одеста? — спросил он.
— Не понимаю, — сказала мама.
— Увасес новы одеста?!
Мама в отчаянии поискала глазами Спиро.
— Извините. Я не совсем уловила…
— Увасес новы одеста… новы одеста?
— Извините, никак не могу…
Таможенник остановил на ней сердитый взгляд.
— Мадам, — сказал он грозно и подался вперед, — вы говорите английски?
— Да, да! — воскликнула мама в восторге, что поняла его. — Да, немножко.
От гнева таможенника ее спас своевременный приезд Спиро. Обливаясь потом, он ввалился в таможню, утешил маму, успокоил таможенника, объяснив ему, что у нас много лет не было никакой новой одежды, и не успел никто глазом моргнуть, как багаж оказался на пристани. Затем Спировзял у таможенника кусочек мела и собственноручно пометил весь багаж, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений.
— Не говорю прощайте, а только до свиданья, — пробормотал Теодор, пожимая каждому из нас руку. — Надеюсь, вы снова вернетесь сюда… гм… очень скоро.
— До свиданья, до свиданья, — мягким голосом говорил Кралевский, подходя ко всем по очереди. — Мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения. Бог ты мой, конечно! И пожелаю вам получше провести время в доброй старой Англии. Пусть это будет отпуск. Как раз то, что нужно!
Спиро молча пожал всем руки, а потом стоял и глядел на нас, нахмурив, как всегда, брови, и вертел в руках кепку.
— Ну, надо прощаться, — начал он, и голос его вдруг задрожал и осекся.
Крупные слезы выступили у него из глаз и градом покатились по морщинистым щекам.
— Честное слово, я не собирался плакать, — всхлипывал он, вздыхая всей своей могучей грудью. — Но я как будто прощаюсь с родными. Мне кажется, что вы моя родня.
Пока мы утешали Спиро, катеру пришлось терпеливо ждать. Потом, когда застучал мотор и лодка понеслась через темно-синие воды, мы не отрываясь глядели на своих трех друзей, стоявших на красочном фоне лепившихся по склону домишек. Теодор, прямой и стройный, с сияющей на солнце бородой, поднял свою трость, посылая нам грустное приветствие. Кралевский приседал, подскакивал и очень энергично махал рукой. Нахмуренный Спиро держал в руке носовой платок, то вытирая им слезы, то махая нам вслед.
Когда пароход вышел в открытое море и остров Корфу растворился в мерцающем жемчужном мареве, на нас навалилась черная тоска и не отпускала до самой Англии.
Закопченный поезд мчался из Бриндизи в Швейцарию. Мы все сидели в безмолвии, говорить никому не хотелось. Вверху, на сетке для багажа, заливались в клетках зяблики, стрекотали и стучали клювами Сороки, временами Алеко издавал свой печальный крик. Внизу, у наших ног, храпели собаки. На швейцарской границе в вагон вошел ужасающе вышколенный чиновник и проверил наши паспорта. Он возвратил их маме вместе с небольшим листком бумаги, без улыбки поклонился и оставил нас с нашей тоской. Чуть позднее мама взглянула на заполненный чиновником бланк и застыла на месте.
— Вы только посмотрите, что он тут написал, — сказала она с возмущением. — Какой наглец!
Ларри взглянул на анкету и фыркнул.
— Это тебе в наказание за то, что ты уехала с Корфу, — сказал он.
На маленькой карточке, в графе «Описание пассажиров», аккуратным крупным почерком было выведено: «Передвижной цирк и штат служащих».
— Надо же такое написать! — все еще кипятилась мама. — Каких только чудаков нет на свете!
Поезд уносил нас к Англии.

Птицы, звери и родственники

Перевод с английского
Л. А. ДЕРЕВЯНКИНОЙ, В. А. СМИРНОВА
Gerald Durrell
BIRDS, BEASTS AND RELATIVES
London, Collins, 1969
Разговор

Теодору Стефанидесу — в благодарность за часы удовольствия и учебу
Зима в тот год была суровой, и, даже когда подошло время весне, крокусам — так трогательно и неколебимо верившим во времена года — пришлось с трудом пробиваться сквозь корку снега. Серое и низкое небо готово было в любую минуту обрушить новый поток снега, а вокруг домов завывал резкий ветер. Одним словом, погода не была идеальной для сбора семьи, особенно такой, как наша. Мне было жаль, что, когда впервые после войны они встретились в Англии, их встреча скорее напоминала бурю. Она не выявила лучшие их черты, а сделала всех более раздражительными, чем обычно, и более чувствительными к обидам. Менее всего они могли прислушиваться к чьей-либо точке зрения, кроме своей собственной. Словно стая сердитых львов, они сидели вокруг огня, такого обширного и яркого, что он мог в любую минуту перекинуться на каминную доску. Моя сестра Марго поддерживала огонь простым способом, втаскивая один конец принесенного из сада деревца в огонь, тогда как остаток ствола оставался снаружи. Мама вязала, по ее слегка рассеянному взгляду и мерному движению губ можно было подумать, что она молится, но на самом деле ее занимало меню к завтрашнему ленчу. Брат Лесли зарылся в учебник по баллистике, а старший брат Лоренс, одетый в свитер, какие обычно носят рыбаки (довольно великоватый для него), стоял у окна и непрерывно чихал и сморкался в большой красный платок. — Вот уж ужасная страна, — сказал он, поворачиваясь к нам так воинственно, словно все мы были повинны в непрерывной дурной погоде. — Стоит только вступить на берег у Дувра, и вас встретит прямо-таки заграда гриппозных микробов… понимаете ли вы, что это моя первая простуда в этом году? Просто потому, что у меня хватило разума подальше держаться от Острова Пуддингов. Все, кого я встретил до сих пор, были простужены. Такое впечатление, будто все население Британских островов целый год совершенно ничего не делает, а только топчется хороводом один за другим и с упоением чихает друг другу в лицо… своего рода инфекционная карусель. И как можно спастись от этого? — Только потому что ты подхватил простуду, ты злишься так, будто всему миру пришел конец, — сказала Марго. — Не понимаю, почему мужчины всегда так волнуются из-за пустяков. Ларри уничтожающе посмотрел на нее слезящимися глазами. — Беда ваша в том, что вам нравится быть мучениками. Ни один человек без мазохистских наклонностей не остался бы в этом… этом вирусном раю. Вы все инертны, вы любите барахтаться в этом море инфекций. Простительно тем, кто никогда не видел ничего иного, но вы-то все вкусили солнце Греции, вам бы не мешало знать, что это такое. — Да, милый, — сказала мама, желая его утешить, — но ведь ты приехал в самое плохое время. Ты же знаешь, здесь бывает очень славно. Весной, например. Ларри метнул на нее злой взгляд. — Мне бы не хотелось вытряхивать тебя из транса Рип-Ван-Винкля, — сказал он, — но ведь это и есть весна… а ты только посмотри на нее! Нужна команда здоровяков, чтобы спуститься вниз и отправить письмо. — Полдюйма снега, — фыркнула Марго. — Ты явно преувеличиваешь. — Я согласен с Ларри, — сказал Лесли, выглянув из-под своего учебника. — На улице чертовски холодно. Прямо ничего не хочется делать. Нельзя даже прилично пострелять. — Совершенно верно, — сказал, торжествуя, Ларри, — тогда как в такой разумной стране, как Греция, можно завтракать во дворе, а потом спуститься к морю для утреннего купания. Здесь же зубы у меня ходят таким ходуном, что я с трудом вталкиваю в себя завтрак. — Я бы очень хотел, чтобы ты не заводил волынку с Грецией, — сердито сказал Лесли. — Это напоминает мне об ужасной книге, которую написал Джерри. Понадобилось несколько лет, чтобы забыть все это. — Несколько лет, — язвительно произнес Ларри, — а что он сделал со мной? Вы себе представить не можете, какой вред нанесла эта карикатура в духе Диккенса моему писательскому облику! — Между прочим, он написал обо мне так, будто я ни о чем другом никогда не думал, кроме ружей и лодок. — Но ты действительно ни о чем больше не думал, кроме ружей и лодок. — Больше всех пострадала я, — заявила Марго. — Он только и говорил о моих прыщах. — Я думаю, — сказала мама, — это было вполне точное изображение всех вас, но меня он выставил настоящей дурочкой. — Я не возражаю, — заявил Ларри, — чтобы на меня писали памфлеты хорошей прозой, но быть высмеянным дурным английским языком просто невыносимо. — Одно название чего стоит, — сказала Марго, — «Моя семья и другие звери». Мне надоело отвечать людям: «каким же из зверей изображена ты?» — По-моему, заглавие довольно забавное, — сказала мама. — Только почему он не изобразил самые интересные события? — В самом деле, — поддержал ее Лесли. — Какие интересные события ты имеешь в виду? — с подозрением спросил Ларри. — Например, твое плавание на яхте Макса вокруг острова. Это было чертовски забавно. — Если бы эта история появилась в печати, я бы подал на него в суд. — Не понимаю почему, — сказала Марго, — это было очень забавно. — А что ты скажешь о спиритизме? — язвительно спросил Ларри. — Что, если бы он написал об этом, тебе бы это очень понравилось? — Нет, нет! Он не посмел бы написать об этом! — со страхом сказала Марго. — Ну вот, получай, — торжествовал Ларри. — А что вы скажете о судебном деле Лесли? — Не понимаю, зачем меня впутывать в это дело, — воинственно заявил Лесли. — Ведь это ты возмущался, что он не включил в книгу самые забавные случаи. — По правде говоря, я уж забыла все эти истории, — сказала мама, посмеиваясь. — Но думаю, они были забавнее тех, что описал ты, Джерри. — Рад это слышать, — сказал я задумчиво. — Почему? — спросил Ларри, глядя на меня с подозрением. — Потому что я решил написать еще одну книгу о Корфу и использовать все эти истории, — объяснил я с самым невинным видом. Все сразу зашумели и заволновались. — Я запрещаю это, — закричал Ларри, громко чихая, — категорически запрещаю! — Ты не можешь писать о моем спиритизме, — вскрикнула Марго. — Мама, скажи ему, чтобы он не писал об этом. — И о моем судебном деле, — закричал Лесли. — Я не потерплю этого. — И если ты заикнешься о яхтах… — начал Ларри. — Ларри, дорогой, говори потише, — попросила мама. — Ну тогда запрети ему писать продолжение, — кричал Ларри. — Не говори глупостей, дорогой, я не могу запретить ему, — сказала мама. — Ты хочешь, чтобы все повторилось сначала? — спросил Ларри хриплым голосом. — Опять посыплются письма из банка: не будете ли вы так любезны снять ваш вклад, опять лавочники будут смотреть на вас с подозрением, опять у дверей появятся анонимные бандероли со смирительными рубашками, и все родственники отвернутся от вас. Ты считаешься главой семьи, так запрети ему писать об этом! — Ты все преувеличиваешь, Ларри, дорогой, — сказала мама. — А кроме того, я никак не могу запретить ему, если он хочет написать об этом. Не думаю, что это причинит какой-нибудь вред. Все это отличные истории, и я не вижу, почему бы ему не написать продолжение. Все семейство разом поднялось со своих мест, и все принялись громко растолковывать ей, почему нельзя писать продолжение. Я ждал, пока уляжется шум. — Помимо этих историй есть еще немало других, — сказал я, припоминая. — Каких же, милый? — с интересом спросила мама. Все семейство, с покрасневшими лицами, рассвирепевшее, рассерженное, уставилось на меня в выжидательном молчании. — Ну, — сказал я в раздумье, — мне бы хотелось описать твой роман с капитаном Кричем, мама. — Что? — возмутилась мама. — Ты, конечно, не напишешь ничего подобного… Вот еще, роман с этим противным стариком. Не позволю, чтобы ты писал об этом. — Ну, а по-моему, это самая лучшая история из всех, — елейным голосом произнес Ларри, — трепетная страсть романтической истории, ласковое, старинное очарование героя… манера, с которой ты обращалась со старым приятелем… — Да успокойся же, Ларри, — сердито сказала мама, — ты раздражаешь меня такими вот разговорами. Не думаю, Джерри, что ты затеял доброе дело, написав эту книгу. — Я тоже не думаю, — сказал Ларри. — Если ты опубликуешь ее, мы все подадим на тебя в суд. Перед лицом такой спаянной, единой семьи, рассвирепевшей в своей решимости помешать мне любой ценой, у меня оставался единственный выход. Я сел и написал эту книгу.

Часть первая Лондон: прелюдия
Глава первая
Схватка с духами

Все началось в те дни, когда Марго вдруг стала прибавлять в весе. К ее ужасу, за короткое время она сделалась почти круглой. Мама вызвала нашего доктора Андручелли, чтобы он взглянул, в чем тут дело. Он произнес целую серию горестных «по, по, по», когда увидел ожиревшую Марго, и назначил ей множество пилюль и микстур и разные диеты, но все оказалось безрезультатно.
— Он говорит, — сообщила Марго однажды со слезами за завтраком, — что, он думает, это миндалевидная железка.
— Миндалевидная? — спросила мама с тревогой. — Что это значит миндалевидная железка?
— Не знаю, — всхлипнула Маргарет.
— Надо ли нам, — спросил Ларри, — обсуждать ваши болезни во время еды?
— Ларри, дорогой, Андручелли говорит, что это миндалевидная железка, — сказала мама.
— Ерунда, — беззаботно ответил Ларри, — это попросту щенячий жир.
— Щенячий жир! — пропищала Марго. — Да знаешь ли ты, какой у меня вес?
— Тебе надо побольше двигаться, — сказал Лесли. — Почему бы тебе не заняться парусным спортом?
— Не думаю, что удастся найти лодку подходящих размеров, — заметил Ларри.
— Скоты! — сказала Марго, разражаясь слезами. — Вы бы так не говорили, если б знали, как я себя чувствую.
— Ларри, милый, — сказала мама умиротворяюще, — не очень любезно говорить подобные вещи.
— Я бы и не говорил, если бы она не блуждала кругом, словно арбуз, покрытый пятнами, — заявил Ларри с раздражением. — Можно подумать, что это по моей вине вы все тут без конца топчетесь на одном месте.
— Что-то надо предпринять, — сказала мама. — Завтра я снова повидаюсь с Андручелли.
Но Андручелли повторил, что, по его мнению, это миндалевидная железа, и он думает, что Марго нужно ехать в Лондон для лечения. И вот после потока телеграмм и писем Марго была отправлена в Лондон на попечение двух единственно стоящих родственников, с которыми мы все еще поддерживали отношения, — маминой племянницы Пруденс и ее матери, тетушки Фэн.
После коротенького письма, где сообщалось, что она благополучно доехала и вместе с кузиной Пру и тетушкой Фэн поселилась в отеле вблизи Ноттинг-Хилл Гейт и что она познакомилась с хорошим доктором, от Марго довольно долгое время не было никаких известий.
— Хорошо бы получить от нее письмо, — сказала мама.
— Не беспокойся, мама, — сказал Ларри, — о чем ей писать, разве что о ее теперешнем объеме?
— Да нет, я хочу знать, что там происходит, — сказала мама, — как-никак она в Лондоне.
— Какое отношение имеет к этому Лондон? — спросил Ларри.
— В таком большом городе, как Лондон, все может случиться, — мрачно сказала мама. — Сколько приходится слышать всяких историй о девушках в больших городах.
— Право же, мама, ты напрасно беспокоишься, — с раздражением сказал Ларри. — Скажи, ради Бога, что, по-твоему, с ней может случиться? Ты думаешь, ее завлекут в какой-нибудь притон? Да ноги ее там никогда не будет!
— Это не шуточное дело, Ларри, — сурово сказала мама.
— Но ты совсем напрасно поддаешься панике, — ответил Ларри. — Сама подумай, какой уважающий себя мужчина дважды посмотрит на Марго? А кроме того, где взять такого здоровяка, который решился бы ее похитить?
— И все равно я беспокоюсь, — сказала мама с вызовом, — и намерена послать телеграмму по этому поводу.
Она и в самом деле послала телеграмму на имя своей племянницы Пруденс, и та ответила наконец, что Марго связалась с людьми, которых она не одобряет, и что неплохо было бы маме приехать, чтобы поговорить с Марго как следует. Что тут началось! Обезумевшая мама послала Спиро, нашего добровольного и безотказного советчика, философа и друга, купить билеты и принялась поспешно упаковываться. Затем она вдруг вспомнила обо мне. Чувствуя, что это может принести больше вреда, чем пользы, если оставить меня под присмотром двух старших братьев, она решила взять меня с собой. Спиро еще раз послали за билетами и теперь уже дополнительно упаковали мои вещи. Я смотрел на все приготовления как на дар небес — дело в том, что мне только что дали нового учителя, мистера Ричарда Кралевского, который стремился — с твердой решимостью и несмотря на мое сопротивление — обучать меня неправильным французским глаголам, и эта поездка в Англию, думал я, принесет мне желанную передышку.
Путешествие на поезде прошло без особых происшествий, если не считать постоянного маминого страха быть арестованными фашистскими карабинерами. Этот страх тысячекратно возрос, когда в Милане я нарисовал на запыленном стекле вагона карикатуру на Муссолини. Мама минут десять стирала ее носовым платком с самоотверженностью опытной прачки, пока наконец не решила, что от рисунка не осталось и следа.
Контраст между тихими, долгими, солнечными днями на Корфу и приездом в Лондон поздно вечером был для нас большим испытанием. Столько незнакомых людей на станции, сновавших взад-вперед с серыми озабоченными лицами. Язык, на котором говорят носильщики, почти непонятный, а Лондон — сияющий огнями и набитый людьми. Такси осторожно пробиралось по Пиккадилли, словно жук сквозь фейерверк. Холодный воздух делал ваше дыхание заметным, будто дым около губ, когда вы говорили, так что вы казались фигуркой из комикса.
Наконец такси остановилось возле покрытых копотью фальшивых коринфских колонн отеля «Балаклава». С помощью швейцара, пожилого кривоногого ирландца, мы внесли свой багаж в отель. Однако нас никто не встретил. Видимо, телеграмма о нашем приезде где-то еще блуждала. Молодая леди, сказал нам швейцар, ушла на свою встречу, а мисс Хьюз и старая леди отправились кормить собак.
— Что он говорит, милый? — спросила мама, когда швейцар вышел из комнаты, — его акцент был настолько сильным, что звучал как иностранный язык.
Я сказал, что Марго пошла на встречу, а кузина Пру и тетушка Фэн кормят собак.
— Что бы это могло значить? — недоумевающе спрашивала мама. — На какую встречу пошла Марго и о каких собаках он говорит?
Я сказал, что не знаю, но, насколько мне удалось видеть Лондон, собак в нем маловато.
— Хорошо, — сказала мама, неумело вставляя шиллинг в счетчик и зажигая газ. — Я думаю, что нам надо устроиться поудобнее и ждать, пока они не вернутся.
Мы прождали час, когда вдруг раскрылась дверь и с криком «Лу, Лу, Лу» вбежала Пру, протягивая руки, словно удивительная болотная птица. Она обняла нас обоих, ее черные, как терновая ягода, глаза светились любовью и волнением. Красивое лицо приятно пахло и было нежное, как фиалка, когда я послушно прикоснулся к нему губами.
— Я уж думала, вы никогда не приедете, — сказала она. — Мамочка еще поднимается. Она с трудом ходит по лестнице, бедняжка. Вы оба чем-то обеспокоены, ну, расскажите-ка мне все. Тебе нравится этот отель, Лу? Он дешевый и удобный, но здесь много самого странного люда.
Сквозь открытую дверь послышалась тихая одышка.
— А, это мамочка, — крикнула Пру. — Мамочка, мамочка, Лу приехала.
В дверях показалась тетя Фэн. На первый взгляд, подумал я довольно бессердечно, она была похожа на ходячую палатку. На ней был ржаво-красный твидовый костюм невероятного стиля и размера. На голове красовалась слегка изношенная бархатная шляпка такого фасона, какие носят феи. Сквозь сверкающие очки глаза ее казались совиными.
— Лу! — закричала она, распахивая объятия и возводя глаза к небу, словно мама была божественным видением. — Лу и Джеральд! Вы прибыли!
Меня и маму сердечно обнимали и целовали. Это не было легкое, словно цветок, объятие Пру. Это было сильное, до хруста в ребрах, объятие и крепкий поцелуй, от которого, казалось, синели губы.
— Я так сожалею, Лу, дорогая, что нас не было дома, но мы не были уверены, когда вы приедете, и нам надо было кормить собак.
— Каких собак? — спросила мама.
— Ну, моих бедлингтонских щенят, конечно, — сказала Пру. — Разве вы не знаете? Мы с мамочкой завели собак. — Она залилась звонким, как колокольчик, смехом.
— Но помнится, у вас появилось еще кое-что в последнее время, — сказала мама. — Кажется, козы.
— О, мы их до сих пор держим, — сказала тетя Фэн, — да еще моих пчел и цыплят. Но Пруденс решила, что неплохо было бы завести еще и собак. Она такая деловая.
— Я и впрямь думаю, что это доходное дело, Лу, дорогая, — серьезно сказала Пру. — Я купила Тинкербелла, а потом Люсибелла…
— А затем Тайнибелла, — перебила ее тетя Фэн.
— И Тайнибелла, — сказала Пру.
— И Люсибелла, — сказала тетушка Фэн.
— Успокойся, мамочка. Я уже сказала о Люсибелле.
— Есть еще Тинкербелл, — сообщила тетя Фэн.
— Мамочка плоховато слышит, — сказала Пру, что и без того было очевидно. — И у всех есть щенята. Я привезла их в Лондон на продажу и в то же время не спускаю глаз с Марго.
— Да, где же Марго? — спросила мама.
Пру на цыпочках подошла к двери и тихонько ее закрыла.
— Она на сеансе, дорогая.
— Я знаю, но что это за сеансы? — спросила мама.
Пру с беспокойством огляделась.
— Спиритические сеансы, — прошептала она.
— И затем, есть еще Люсибелл, — сказала тетя Фэн.
— Успокойся, мамочка.
— Спиритические сеансы? — спросила мама. — С какой стати она ходит на эти спиритические сеансы?
— Лечится от ожирения и от прыщей, — ответила Пру, — но, помяните мое слово, добра от этого не будет. Это злая сила.
Я заметил, что мама начинает волноваться.
— Но я не понимаю, — сказала она. — Я отправила Марго в Лондон, чтобы ее посмотрел доктор, забыла, как его имя.
— Я знаю, дорогая, — сказала Пру. — Но после приезда в отель Марго попала во власть этой злой женщины.
— Какой злой женщины? — спросила мама, теперь уже по-настоящему обеспокоенная.
— Козы — это тоже хорошо, — сказала тетя Фэн, — но в этом году они дают чуть меньше молока.
— Ой, мамочка, да помолчи же ты, — сквозь зубы процедила Пру. — Я имею в — виду эту злую женщину, миссис Хэддок.
— Хэддок, Хэддок, — растерянно повторила мама. Ее мысли всегда несколько отвлекались, стоило при ней произнести слово, связанное с кулинарией.
— Она медиум, моя дорогая, — сказала Пру, — и она расставила для Марго ловушки. Она сказала Марго, что ей нужен гид.
— Гид? — спросила мама, теряя силы. — Какой гид?
По ее состоянию я мог видеть, что она теперь думает, будто Марго занялась альпинизмом или чем-то в этом роде.
— Духовный гид, — сказала Пру. — Его зовут Мауэйк. Должно быть, он индеец.
— У меня теперь десять ульев, — сказала тетя Фэн с гордостью. — Мы получаем в два раза больше меду.
— Помолчи, мамочка, — сказала Пру.
— Я не понимаю, — жалобно сказала мама, — почему она до сих пор не идет к доктору для уколов.
— Потому что Мауэйк ей не разрешает, — торжественно произнесла Пру. — Три сеанса назад сказал он — по словам Марго, и все это в передаче миссис Хэддок, так что в достоверности сказанного можно усомниться, — так вот, по словам Марго, Мауэйк сказал, что ей не нужны больше проколы.
— Проколы? — спросила мама.
— Ну, я полагаю, индеец имел в виду уколы, — сказала Пру.
— Как приятно повидаться с тобой, Лу, — сказала тетя Фэн. — Не попить ли нам чайку?
— Очень хорошая мысль, — едва слышно произнесла мама.
— Я не спущусь туда, чтобы заказать чай, — сказала Пру, взглянув на дверь, как будто за нею скрывались все демоны ада. — Во всяком случае, не теперь, когда у них там сеанс.
— Почему, что случилось? — спросила мама.
— И хорошо бы сделать тосты, — сказала тетя Фэн.
— Да помолчи же, мамочка, — сказала Пру. — Ты представления не имеешь, что происходит на этих сеансах, Лу. Миссис Хэддок входит в транс, затем начинает покрываться эктоплазмом.
— Эктоплазмом? — спросила мама. — Что такое эктоплазм?
— У меня в комнате есть горшок моего собственного меда, — сообщила тетя Фэн, — я уверена, он тебе понравится, Лу. Не сравнить со всей этой синтетикой, какую вы теперь покупаете.
— Это такое вещество, которое производят медиумы, — сказала Пру. — Оно похоже на… ну, на такое… я сама его никогда не видела, но говорят, что оно похоже на мозги. Потом они заставляют летать трубки и все такое. Скажу тебе одно, моя дорогая: я никогда не спускаюсь вниз, когда у них сеанс.
Как я ни был зачарован разговором, мне не хотелось упустить случая увидеть женщину по имени миссис Хэддок, покрытую мозгами и с парой трубок, летающих вокруг, поэтому я вызвался спуститься вниз и заказать чай.
К моему разочарованию, на нижнем этаже отеля я не увидел ничего хотя бы отдаленно напоминающего описание Пруденс. Но чай я раздобыл, его принес на подносе швейцар-ирландец. Мы попивали чай, и я пытался объяснить тете Фэн, что такое эктоплазм, когда вошла Марго с большим кочаном капусты под мышкой и в сопровождении маленькой коренастой женщины с выпуклыми голубыми глазами и редкими волосами.
— Мама! — драматическим тоном произнесла Марго. — Ты приехала!
— Да, милая, — мрачно сказала мама, — и, кажется, как раз вовремя.
— Это миссис Хэддок, — сказала Марго, — она совершенно очаровательна.
Сразу бросилось в глаза, что миссис Хэддок страдает странной болезнью. Казалось, что она не может дышать, когда говорит, поэтому ее речь получалась бессвязной, все слова сливались в одну гирлянду, и затем, когда у нее прорывалось дыхание, она останавливалась и втягивала воздух, производя шум, звучавший как «уаааха».
Теперь она обратилась к маме.
— Радавасвидетьмиссис Дррелл конечно мойдуховный гид сбщил мне вашемприезде надеюсь вы хрошо доехали… уаааха.
Мама, которая собиралась оказать миссис Хэддок весьма холодный и достойный прием, была сбита с толку этой странной дикцией.
— О да. А как вы? — сказала она, нервничая и напрягая слух, чтобы понять, о чем говорит миссис Хэддок.
— Миссис Хэддок спиритуалистка, мама, — с гордостью сказала Марго, как будто она представляла по меньшей мере Леонардо да Винчи или изобретателя аэроплана.
— В самом деле, милая? — сказала мама, холодно улыбаясь. — Это очень интересно.
— Очнь приятно узнать что те кто уехал рньше теперь соединились… уаааха, — сказала миссис Хэддок серьезно. — Так мнго людей… уаааха… не знает о духовном мире кторый лежит так близко.
— Ты бы повидала щенят, Марго, — заметила тетя Фэн. — Маленькие шалунишки изодрали всю свою подстилку.
— Помолчи, мамочка, — сказала Пру, оглядывая миссис Хэддок так, как будто ожидала, что у той в любой момент вырастут рога или хвост.
— Вашей дчери очень повезло так как он… уаааха… сумел получить одного из лучших гидов, — сказала миссис Хэддок, как будто Марго перелистывала Дебретта, прежде чем решить, какой дух вызвать, чтобы получить совет.
— Его зовут Мауэйк, — произнесла Марго. — Он просто прелесть!
— Кажется, он пока не принес тебе много добра, — резко ответила мама.
— Нет, принес, — возмутилась Марго. — Я похудела на три унции.
— Это требует времени и терпения и полной веры в будущую жизнь… уаааха… моя дорогая миссис Дррелл, — сказала миссис Хэддок, улыбаясь маме сладенькой улыбкой.
— Да, я верю, — сказала мама, — но я бы предпочла, чтобы Марго находилась под присмотром врача.
— Я не думаю, что это они нарочно, — сказала тетушка Фэн. — У них, наверно, режутся зубы и поэтому болят десны.
— Мамочка, мы говорим не о щенках, — сказала Пру. — Мы говорим о гиде Марго.
— Это будет славно для нее, — сказала тетя Фэн, ласково улыбаясь Марго.
— Мир духов намного мудрее любых существ на земле… уаааха… ваша дочь не могла бы быть в лучших руках… Мауэйк был великим врачевателем в своем племени один из лучших во всей Северной Америке… Уаааха.
— И он дал мне такой добрый совет, мама, — сказала Марго. — Правда ведь, миссис Хэддок?
— Нет больше проколов белая девушка не должна больше делать проколов… Уаааха, — произнесла миссис Хэддок.
— Ну вот! — сказала Пру торжествующе. — Я же тебе говорила.
— Поешьте немного меду, — радушно предложила тетя Фэн. — Это не синтетическая дрянь, какую теперь продают в магазинах.
— Помолчи, мамочка.
— Я все же предпочитаю, миссис Хэддок, чтобы у моей дочери был разумный врач, а не этот Мауэйк.
— О, мама, ты такой отсталый и старомодный человек, — в сердцах сказала Марго.
— Моя дорогая миссис Дррел вы должны научиться верить огромному влиянию духовного мира который только и старается помогать и руководить… Уаааха… — Миссис Хэддок перевела дух. — Я чувствую что если бы вы пришли на один из наших сеансов вы бы убедились в огромной силе духовного мира который в конечном счете единственный старается помочь и направить нас… Уаааха… Я чувствую что если бы вы пришли на один из наших сеансов вы бы убедились в огромной силе добра которое есть у наших духовных гидов. Уаааха.
— Благодарю вас. Я предпочитаю руководствоваться своим собственным духом, — с достоинством сказала мама.
— Мед теперь не такой, как раньше, — сказала тетя Фэн, следившая за разговором.
— У тебя просто предубеждение, мама, — сказала Марго. — Ты порицаешь вещь, даже не испробовав ее.
— Я чувствую уверенность что если бы ты смогла убедить свою маму присутствовать на наших сеансах… Уаааха… она бы нашла целый новый мир открывшийся перед нею.
— Да, мама, — сказала Марго, — тебе надо прийти на сеанс. Я уверена, что ты будешь убеждена в том, что увидишь и услышишь! В конце концов, нет дыма без огня.
Я видел, что мама страдает от внутренней борьбы. Много лет она проявляла глубокий интерес к суевериям, народной магии, колдовству и подобным вещам, и теперь соблазн принять предложение миссис Хэддок был очень велик. Я ждал, затаив дыхание, надеясь, что она примет предложение. В тот момент мне больше всего хотелось увидеть миссис Хэддок, покрытую мозгами и трубками, летающими вокруг ее головы.
— Ну ладно, — сказала мама нерешительно. — Там будет видно. Мы поговорим об этом завтра.
— Я уверена как только мы прорвем барьер для вас мы сможем оказать вам большую помощь и руководство… Уаааха… — сказала миссис Хэддок.
— Да, да, — сказала Марго, — Мауэйк просто прелесть!
— У нас будет завтра вечером еще один сеанс здесь в отеле… уаааха… и я очень надеюсь что и вы и Марго будете на нем. Уаааха.
Она чуть заметно, словно бы нехотя, улыбнулась нам, прощая все наши грехи, потрепала Марго по щеке и удалилась.
— Право же, Марго, — сказала мама, когда закрылась дверь за миссис Хэддок, — ты заставляешь меня злиться.
— Ох, мама, ты такая старомодная, — ответила Марго. — Этот доктор не принес мне никакой пользы своими уколами, а Мауэйк творит чудеса.
— Чудеса, — фыркнула мама с презрением, — по мне, так ты выглядишь точно такой, как была.
— Клевер, — сказала тетя Фэн, жуя тост, — считается самым лучшим, хотя я предпочитаю вереск.
— Послушай, дорогая, — сказала Пру, — эта женщина зажала тебя в тиски. Она злая. Поостерегись, пока не поздно.
— Я только прошу, чтобы вы пришли на сеанс и посмотрели, — ответила Марго.
— Никогда, — сказала Пру, содрогаясь. — Мои нервы этого не вынесли бы.
— Интересно, — сказала тетя Фэн, — что для опыления клевера нужны шмели.
— Ох, я слишком устала, — сказала мама, — чтобы обсуждать это теперь. Мы поговорим об этом утром.
— Не поможете ли вы мне с капустой? — спросила Марго.
— Что сделать? — спросила мама.
— Помочь мне с капустой, — ответила Марго.
— Я всегда интересовалась, — в раздумье сказала тетя Фэн, — можно ли разводить шмелей.
— Что ты делаешь с капустой? — спросила мама.
— Она кладет ее на лицо, — презрительно сказала Пру. — Просто смех.
— Ничего смешного, — рассердилась Марго. — Это приносит моим прыщам мир добра.
— Что? Ты варишь ее или как? — спросила мама.
— Нет, — ответила Марго, — я положу листья на лицо, а ты завяжешь их на мне. Так посоветовал Мауэйк, и это делает чудеса.
— Один смех, Лу, дорогая. Ты должна остановить ее, — сказала Пру, ощетинившись, как котенок. — Это не что иное, как колдовство.
— Я очень устала, чтобы спорить об этом, — сказала мама. — Не думаю, чтобы это могло принести тебе какой-нибудь вред.
Марго села на стул и приложила большие морщинистые листья капусты к лицу, а мама торжественно привязала их красной ленточкой к голове. Я подумал, что в таком виде Марго похожа на странную зеленую мумию.
— Это же язычество, вот что это такое, — сказала Пру.
— Ерунда, Пру, напрасно ты волнуешься, — ответила Марго заглушенным капустными листьями голосом.
— Я иногда думаю, — сказала мама, завязав последний узел, — вся ли моя семья в своем уме.
— Марго собирается на маскарад? — спросила тетя Фэн, с интересом следившая за происходящим.
— Нет, мамочка, — захохотала Пру. — Это для ее прыщей.
Марго встала и ощупью направилась к двери.
— Пойду прилягу.
— Если тебе встретится кто-нибудь на лестничной площадке, он испугается до смерти, — сказала Пру.
— Повеселись хорошенько, — сказала тетя Фэн. — Не возвращайся слишком поздно. Знаю я вас, молодых.
Когда Марго ушла, Пру повернулась к маме.
— Вот видишь, дорогая Лу? Я не преувеличивала. Эта женщина имеет злое влияние. Марго ведет себя как ненормальная.
— Да ладно, — сказала мама, чей жизненный принцип был всегда защищать молодых, как бы неправы они ни были. — Просто она несколько неблагоразумна.
— Неблагоразумна! — воскликнула Пру. — Капустные листья на все лицо! Никогда ничего не делает, если Мауэйк ей не скажет. Это вредно для здоровья.
— Я нисколько не удивлюсь, если она возьмет первый приз, — засмеялась тетушка Фэн. — Вряд ли там найдутся другие, изображающие капусту.
Спор продолжался с перевесом то в одну, то в другую сторону, перемежаясь с воспоминаниями тети Фэн о балах-маскарадах, на каких она бывала в Индии. Наконец Пру и тетушка Фэн ушли, и мы с мамой приготовились ко сну.
— Мне иногда кажется, — сказала мама, снимая одежду и выключая свет, — мне иногда кажется, что я единственный нормальный человек в семье.
На следующее утро мы решили походить по магазинам, так как на Корфу не было многого, что маме хотелось бы купить и взять с собой. Пру сказала, что это отличный план и она может занести по дороге бедлингтонских щенят к их новым владельцам.
И вот в девять часов мы все собрались на тротуаре у отеля «Балаклава» и, должно быть, представляли занятную картину для прохожих. Тетушка Фэн, наверное в честь нашего приезда, надела шляпку феи с большим пером. Она стояла на тротуаре, обвитая, словно майское дерево, поводками восьми бедлингтонских щенков, которые дрались, играли и мочились вокруг нее.
— Я думаю, нам лучше взять такси, — сказала мама, с беспокойством глядя на прыгавших щенят.
— Ой нет, Лу, — сказала Пру, — подумай о расходах! Мы можем поехать на метро.
— Со всеми щенками? — с сомнением спросила мама.
— Да, дорогая, мамочка привыкла справляться с ними.
Тетя Фэн, связанная теперь почти до неподвижности поводками щенят, вынуждена была выпутаться, прежде чем мы могли спуститься к станции метро.
— Сироп из дрожжей и клена, — сказала Марго. — Ты не должна, мама, позволить мне забыть о сиропе из дрожжей и клена. Мауэйк говорит, что это отличное средство от прыщей.
— Если ты еще раз упомянешь имя этого человека, я рассержусь всерьез, — ответила мама.
Наше продвижение к станции метро было медленным, так как щенки обходили каждый предмет на нашем пути в обратном направлении и мы без конца останавливались, чтобы размотать поводок и освободить тетю Фэн от фонарного столба или почтового ящика, а иногда и от прохожих.
— Маленькие проказники! — восклицала она, теряя дыхание после каждой встречи. — Это они не нарочно.
Когда мы наконец прибыли к билетной кассе, Пру долго и язвительно спорила о цене для провоза бедлингтонов.
— Но ведь им всего восемь недель, — протестовала она, — а вы не берете платы с детей до трех лет.
Но вот наконец билеты были куплены, и мы направились к эскалаторам, навстречу потоку теплого воздуха, идущего от отверстий в земле. Щенят это, по-видимому, подбадривало. Рыча и тявкая, в путанице поводков, они рвались вперед и тянули за собой тетушку Фэн, как тяжелый галион. И только увидев эскалаторы, они стали опасаться того, что до сих пор казалось им чудесным приключением. Судя по всему, им не нравилось стоять на чем-то, что двигалось, и в своем решении они были единодушны. Вскоре все мы образовали тугой узел на верху эскалатора, сражаясь с истерически визжавшими щенками.
Позади нас образовался хвост.
— Это следовало бы запретить, — сказал строгого вида мужчина в котелке. — Собак нельзя пускать в метро.
— Я за них заплатила, — задохнулась Пру. — У них столько же прав ехать в метро, как и у вас.
— Черти проклятые! — сказал другой мужчина на ярко выраженном кокни. — Я очень спешу. Пропустите меня.
— Маленькие мои проказники! — заметила тетя Фэн, смеясь. — Они такие веселые в этом возрасте.
— Может быть, каждый из нас возьмет по щенку? — предложила мама. Ее все больше смущал ропот толпы.
В этот момент тетя Фэн оступилась на первой ступеньке эскалатора, поскользнулась и упала в водопад твида, потащив за собой тявкающих щенят.
— Слава Богу, — сказал мужчина в котелке, — теперь мы, может быть, пройдем.
Пру стояла на верху эскалатора и смотрела вниз. К этому времени тетя Фэн достигла половины эскалатора, но не могла подняться из-за облепивших ее щенков.
— Мамочка, мамочка, у тебя все в порядке? — кричала Пру.
— Я уверена, дорогая, что все в порядке, — успокаивала ее мама.
— Маленькие мои шалунишки! — с трудом говорила тетя Фэн, когда ее несло по эскалатору.
— Теперь, когда ваши собаки убрались, мадам, — сказал мужчина в котелке, — быть может, и мы наконец воспользуемся удобствами этой станции?
Пру повернулась к нему, исполненная решимости вступить в битву, но Марго и мама утихомирили ее и поехали вниз по лестнице, к груде твида и бедлингтонов, представлявшей собой тетю Фэн.
Мы подняли ее, отряхнули и распутали щенят, после чего направились к платформе. Теперь щенки являли собой подходящий сюжет для афиши. В обычное время бедлингтоны — весьма воспитанные собаки, но в критические моменты мне не приходилось видеть более жалкого зрелища. Дрожащие от страха щенки стояли на платформе, издавая высокие жалобные звуки, словно миниатюрные морские чайки, и то и дело приседали на кривых ножках, чтобы украсить платформу результатом своего страха.
— Бедняжки, — посочувствовала проходившая мимо толстая женщина, — стыдно так обращаться с животными.
— Нет, вы слышали, что она говорит? — воинственно сказала Пру. — Хотелось бы мне пойти за ней и сказать ей пару теплых слов.
К счастью, в этот момент с шумом, изрыгая потоки теплого воздуха, подошел поезд и отвлек всеобщее внимание. На щенят его приход оказал немедленное действие. С минуту они продолжали стоять дрожа и воя, словно стадо полумертвых от голода серых ягнят, затем бросились вдоль платформы не хуже упряжки лаек и потянули за собой тетю Фэн.
— Мамочка, мамочка, иди назад! — закричала Пру, когда мы бросились им вслед.
Пру совсем упустила из виду метод тети Фэн вести собак на поводке, который та мне подробно объяснила: никогда не тянуть за поводок, это может повредить им шею. Следуя новому методу, тетушка бежала по платформе, а бедлингтоны бежали впереди. Наконец мы догнали ее и сдержали щенков как раз в тот момент, когда двери поезда закрылись с самоуспокоенным шипением и он с грохотом умчался от станции, так что нам вместе с бедлингтонами пришлось ждать следующего поезда. Когда мы наконец затащили их в вагон, щенки оживились. Они весело боролись друг с другом, рычали и визжали, обматывая поводками ноги пассажиров, а один из них так разошелся, что подпрыгнул и вырвал газету «Таймс» из рук пассажира, который сидел с видом управляющего Английским банком.
Когда мы прибыли на место, голова у нас шла кругом, только тетя Фэн чувствовала себя отлично и была в восторге от живости щенят. Следуя совету мамы, мы переждали, пока схлынул людской поток, и только тогда рискнули воспользоваться эскалатором. К нашему удивлению, подъем щенков вверх не доставил особых хлопот. Судя по всему, они стали закаленными путешественниками.
— Слава Богу, все позади, — сказала мама, когда мы наконец оказались наверху.
— Боюсь, что щенята были несколько надоедливы, — волновалась Пру, — но ведь они привыкли жить за городом, а в городе им все не по нраву.
— А? — спросила тетя Фэн.
— Не по нраву, — крикнула Пру. — Щенкам. Им кажется, что все не так.
— Какая жалость, — сказала тетя Фэн и, прежде чем мы успели ее остановить, повела собак к другому эскалатору, и они исчезли в недрах земли.
Избавившись от щенков, мы благополучно справились с покупками, хотя и были несколько утомлены. Мама купила все, что ей было нужно. Марго достала свой сироп из дрожжей и клена, а я, пока они занимались приобретением всех этих ненужных мне предметов, сумел обзавестись красивым красным кардиналом, пятнистой саламандрой, толстой и лоснящейся, как атласное стеганое одеяло, и чучелом крокодила.
Удовлетворенные каждый своими покупками, мы вернулись в отель «Балаклава».
По настоянию Марго мама решила вечером побывать на сеансе.
— Не делай этого, дорогая Лу, — сказала Пруденс, — это связано с неведомым.
Но мама оправдывала свои действия весьма логично.
— Я чувствую, что должна встретиться с этим Мауэйком, он все же лечит Марго.
— Ну вот что, дорогая, — сказала Пру, видя мамину непреклонность, — я считаю это сумасшествием. Но я считаю своим долгом пойти с тобой. Нельзя же позволить, чтобы ты одна присутствовала на подобных вещах.
Я попросил взять и меня с собой, ссылаясь на то, что недавно в мои руки попала книга об искусстве разоблачения псевдомедиумов, так что мои знания могли пригодиться.
— Мне кажется, не следует брать мамочку, — сказала Пру. — Это на нее может плохо подействовать.
И вот в шесть часов вечера в сопровождении Пру, трепещущей, словно только что пойманный птенец, мы отправились на нижний этаж, где жила миссис Хэддок. Там уже собралось довольно много народу. В числе других были миссис Глат, управительница отеля, высокий мрачный русский, говоривший с таким сильным акцентом, точно его рот был набит сыром, молодая, очень серьезная блондинка и вялый молодой человек, который, по слухам, собирался стать актером, но единственным занятием которого было дремать безмятежно в пальмовом шезлонге. К моей досаде, доначала сеанса мама не позволила мне обыскать комнату, чтобы обнаружить спрятанные веревки или фальшивый эктоплазм. Но мне все же удалось сказать миссис Хэддок, какую книгу я читал: если она не шарлатанка, думал я, это ее заинтересует. Однако взгляд, который она бросила на меня, был далеко не доброжелательный.
Мы сели в кружок, держась за руки. Начало сеанса было довольно неблагоприятным, потому что, едва погасили свет, Пру с пронзительным криком вскочила со стула, на котором сидела. Как оказалось, кожаная сумочка, которую она прислонила к ножке стула, соскользнула и коснулась ее ноги. После того как мы успокоили Пру и убедили ее, что это не козни злого духа, все вернулись на свои места и снова взялись за руки. Комната освещалась свечой на блюдце, она оплывала, мигала и посылала волнистые тени, поэтому лица у всех выглядели так, будто они только что восстали из мертвых.
— Теперь никто не должен разговаривать и я должна просить всех держать руки крепко сжатыми так чтобы мы не теряли ни единой сущности… Уаааха, — сказала миссис Хэддок на одном дыхании. — Я знаю что среди нас есть неверующие тем не менее я прошу вас держать свой рассудок спокойным и восприимчивым.
— Что она имеет в виду? — шепотом спросила Пру у мамы. — Я не могу считать себя неверующей. Наоборот, я верю слишком сильно.
Проинструктировав нас, миссис Хэддок уселась в кресло и с напускным спокойствием погрузилась в транс. Я пристально следил за ней, решив не пропустить эктоплазм. Вначале она просто сидела с закрытыми глазами и все было тихо, за исключением шороха и поскрипывания стула, на котором вертелась возбужденная Пру. Но вот миссис Хэддок начала глубоко дышать, потом раздался храп с громким резонансом. Казалось, на чердаке кто-то рассыпает по полу мешок картошки. На меня это не произвело впечатления, ведь храп легче всего подделать. Рука Пру, сжимавшая мою руку, стала влажной от пота, и я почувствовал, как по ней пробегает дрожь.
— Ааааа, — произнесла вдруг миссис Хэддок, а Пру подпрыгнула на своем стуле и отчаянно вскрикнула, словно ее ударили кинжалом.
— Аааааааа, — повторила миссис Хэддок, извлекая полные драматизма возможности из этого простого звука.
— Мне это не нравится, — прошептала дрожавшая всем телом Пруденс. — Лу, дорогая, мне это не нравится.
— Успокойся, не то ты все испортишь, — прошипела Марго. — Расслабься и постарайся сделать свой ум восприимчивым.
— Я вижу среди нас новичков, — сказала вдруг миссис Хэддок с таким сильным индийским акцентом, что я чуть не рассмеялся. — Новичков, которые пришли в наш кружок. Я говорю им: добро пожаловать.
Мне показалось странным, что миссис Хэддок больше не соединяла свои слова вместе и не производила удивительных вдохов. Она побормотала и поворчала с минуту что-то непонятное, а потом сказала ясно:
— Это Мауэйк.
— Ооо! — воскликнула Марго с восторгом. — Он пришел! Вот и он, мама! Это Мауэйк!
— Кажется, мне сейчас будет плохо, — сказала Пру.
Я внимательно смотрел на миссис Хэддок в тусклом мерцающем свете, но, как ни старался, не заметил ни единого следа эктоплазма или летающих трубок.
— Мауэйк говорит, — объявила миссис Хэддок, — что белой девушке не нужны больше проколы.
— Вот! — сказала Марго торжествующе.
— Белая девушка должна слушаться Мауэйка. Ей не нужно влияние неверующих.
Я услышал, как мама воинственно фыркнула в темноте.
— Мауэйк говорит, что, если белая девушка доверится ему до наступления двух лун, она будет здорова. Мауэйк говорит…
Но, что собирался сказать Мауэйк, мы так и не узнали, потому что в эту минуту кошка, которая разгуливала незамеченная по комнате, прыгнула на колени Пру. Раздался оглушительный крик. Пруденс вскочила на ноги и с отчаянным призывом «Лу, Лу, Лу!», как ослепленный светом мотылек, ощупью заблуждала по комнате вокруг сидящих людей, вскрикивая всякий раз, когда касалась чего-нибудь.
Кто-то догадался включить свет, прежде чем Пру в своей цыплячьей панике не причинила бы какого-нибудь вреда.
— Послушайте, не слишком ли это, а? — заметил вялый молодой человек.
— Вы могли нанести ей большой вред, — сказала девушка, глядя на Пру сверкающими глазами и обмахивая миссис Хэддок носовым платком.
— Меня что-то задело. Что-то коснулось, оказавшись у меня на коленях, — со слезами сказала Пру. — Эктоплазм.
— Ты все испортила, — рассердилась Марго, — как раз тогда, когда проходил Мауэйк.
— Мне кажется, мы достаточно слышали Мауэйка, — сказала мама. — Теперь самое время кончить валять дурака с этой чепухой.
Миссис Хэддок, которая невозмутимо похрапывала в течение всей сцены, вдруг проснулась.
— Чепухой? — повторила она, уставившись на маму своими выпуклыми глазами. — Вы смеете называть это чепухой?.. Уаааха.
Это был один из крайне редких случаев, когда я видел маму по-настоящему рассерженной. Она выпрямилась во весь свой рост и рассвирепела.
— Шарлатанка! — бросила она в лицо миссис Хэддок. — Я сказала, что это чепуха, и повторяю: чепуха. Я не позволю, чтобы моя семья имела какое-нибудь отношение ко всякому вздору. Пойдем, Марго, пойдем, Джерри, пойдем, Пру. Мы уходим.
Нас так удивило проявление решительности обычно спокойной мамы, что мы кротко последовали за ней и вышли из комнаты, оставив разгневанную Хэддок в окружении нескольких ее учеников.
Едва мы очутились в безопасности своих комнат, Марго разразилась потоком слез.
— Ты все испортила, испортила, — говорила она, ломая руки. — Миссис Хэддок больше никогда не станет разговаривать с нами.
— И правильно сделает, — сказала мама непреклонно, наливая бренди дрожавшей и все еще не пришедшей в себя Пруденс.
— Хорошо ли вы провели время? — спросила проснувшаяся вдруг тетя Фэн, глядя на нас совиными глазами.
— Нет, — ответила мама резко. — Плохо.
— Я не могу отделаться от мысли об эктоплазме, — сказала Пру, судорожно глотая бренди. — Это похоже на… похоже… ну знаете, на что-то влажное.
— Как раз когда появился Мауэйк, — стонала Марго. — Когда он собирался сказать что-то важное.
— Хорошо, что рано вернулись, — продолжала тетя Фэн, — потому что даже в это время года вечерами холодно.
— Я уверена, что это искало мое горло, — сказала Пру, — хотело наброситься на горло. Это было похоже на… нечто вроде влажной руки.
— Только Мауэйк мог принести мне пользу.
— Мой отец всегда говорил, что в это время года погода неустойчивая, — сказала тетя Фэн.
— Марго, прекрати болтать глупости! — сердито сказала мама.
— Лу, дорогая, я просто чувствовала, как ужасные влажные пальцы нащупывали мое горло, — сказала Пру, не обращая внимания на стенания Марго, поглощенной расцвечиванием своих переживаний.
— Отец всегда брал с собой зонтик и зимой и летом, — говорила тетя Фэн. — Все смеялись над ним, но он считал, что даже в самые жаркие дни должен иметь зонтик при себе.
— Ты вечно все портишь, — хныкала Марго, — вечно вмешиваешься.
— Беда в том, что я недостаточно вмешиваюсь, — ответила мама. — Еще раз говорю, чтобы ты прекратила все эти глупости, перестань плакать, и мы сию же минуту едем обратно на Корфу.
— Если бы я не вскочила, — сказала Пру, — это впилось бы мне в вену.
— Отец всегда говорил, что нет ничего лучше, чем пара калош, — сказала тетя Фэн.
— Не поеду я на Корфу. Не поеду. Не поеду.
— Ты поступишь так, как тебе сказано.
— Это обвилось вокруг моего горла так ужасно.
— Он никогда не одобрял резиновых сапог, считал, что от них кровь приливает к голове.
Я перестал слушать. Все мое существо ликовало. Мы едем обратно на Корфу. Покидаем каменный, бездушный Лондон. Едем назад к чудесным оливковым рощам и синему морю, к теплу и смеху наших друзей, к долгим, золотистым, ласковым дням.

Часть вторая Перама
Глава вторая
Крещение

Корфу лежит между албанскими и греческими берегами подобно длинному, изъеденному ржавчиной кривому турецкому ятагану. Там, где эфес ятагана, расположена гористая местность острова, большей частью бесплодная и каменистая, с высокими отвесными скалами, излюбленное место голубых каменных дроздов и соколов. Однако в долинах, где с красных и золотистых скал струятся потоки воды, вы найдете целые леса миндаля и грецкого ореха, отбрасывающих тень, прохладную, как родник, батальоны пирамидальных кипарисов и густые заросли фиговых деревьев с серебристой коркой и крупными, как поднос, листьями. Лезвием ятагана служат растущие уступами серебристо-зеленые раскидистые гигантские оливы — говорят, что некоторым из них не менее пятисот лет, — и каждая отличается своей особой изогнутой формой, а стволы их усеяны сотнями дыр наподобие пемзы. На конце лезвия вы найдете Лефкими с его ослепительно сверкающими дюнами и обширными соляными топями с зарослями бамбука, который скрипит, шуршит и тайно перешептывается друг с другом.
Возвратиться на Корфу — значило для меня возвратиться домой. Впервые мы приехали туда год или два назад и быстро устроились в светлом розовом доме с зелеными ставнями в форме кирпичиков. Он приютился в роще олив, спускавшейся по склону холма к морю, и был окружен крошечным садиком, цветные клумбы которого выложены с геометрической точностью в викторианском духе, и весь садик обнесен высокой густой оградой из фуксий, где таинственно шелестели птицы.
Как ни роскошны были разные сады, которые я видел в Англии, они никогда не давали мне такого ассортимента живности. Я находился под очень странным впечатлением нереальности, словно родился впервые. В этом сияющем хрупком свете я мог в полную меру оценить красные крылышки божьей коровки, великолепный шоколадный и янтарный цвет уховертки и темный блестящий агат муравьев. Затем моему взору представилось множество неизвестных доселе существ. Большие пушистые шмели-плотники, подобно голубым игрушечным медвежатам, с гудением перелетали с цветка на цветок; ярко-желтые в черную полоску бабочки-парусники в своих элегантных визитках совершали пируэты над оградой из фуксий, исполняя сложные па менуэта друг с другом; бабочки-колибри неподвижно висели в воздухе перед цветами, исследуя каждый цветок своим длинным тонким хоботком.
У меня не было сведений, даже простейших, об этих созданиях и не было книг, чтобы узнать о них. Я мог только наблюдать за ними, когда они хлопотали в саду, или ловить их, чтобы изучить более тщательно. Очень скоро моя спальня заполнилась множеством банок из-под варенья и жестянками из-под бисквитов, набитых трофеями, которые я находил в нашем маленьком садике. Все это приходилось проносить домой тайком, так как вся семья, разве что за исключением мамы, с тревогой смотрела на внедрение фауны в дом.
Каждый сверкающий день множил загадки о поведении насекомых, словно бы подчеркивал мою неосведомленность. Одним из созданий, которое особенно интриговало и раздражало меня, был навозный жук. Обычно я лежал на животе с Роджером, моей собакой, припавшей к земле радом со мной подобно горе черных кудряшек, и наблюдал за двумя черными блестящими жуками, каждый с изящно изогнутым носорожьим рогом на голове. Они катали между собой (с огромной самоотверженностью) чудесной формы шар из коровьего помета. Прежде всего мне хотелось узнать, как им удается сделать совершенно круглый шар. По собственному опыту с глиной и пластилином я знал, как это трудно сделать, сколько бы вы ни терли и ни мяли материал, тогда как жуки, пользуясь только своими заостренными ногами как инструментом, без циркуля и другой помощи ухитрялись лепить очаровательные шарики навоза, круглые, как луна. Вторая загадка: зачем они делают эти шарики и куда их несут?
Я разрешил эту проблему или часть ее, посвятив однажды целое утро парочке навозных жуков и отказавшись от наблюдений за другими насекомыми в саду. Даже тихое тявканье и зевота скучающего Роджера не могли отвлечь меня от этой задачи. Медленно, на четвереньках, я следовал за жуками фут за футом через сад, такой маленький для меня и такой обширный мир для них. Наконец они подползли к небольшому склону под оградой из фуксий. Катить шарик вверх по склону было им очень трудно, несколько раз нога то одного, то другого жука срывалась, и шарик скатывался к подножию. Тогда жуки спешили к нему и, как представлялось моему воображению, бранили друг друга за оплошность. Мало-помалу они все-таки втаскивали его наверх и затем направлялись вниз по противоположной стороне. У основания склона я впервые заметил круглое отверстие вроде колодца, уходившее в глубь земли; туда-то и направились жуки. Когда они были дюймах в двух от отверстия, один из жуков продвинулся вперед и попятился к отверстию, где и уселся, отчаянно работая передней ножкой, тогда как другой с большим усилием (я почти убедил себя, что слышу его тяжелое дыхание) подкатил шарик к краю ямки. Какое-то время они толкали и тянули его, пока он вместе с жуками не скрылся под землей. Меня взяла досада. Ведь они, несомненно, собирались что-то сделать с навозным шариком, но если они делают это под землей, как я мог увидеть, что именно? Надеясь пролить некоторый свет на эту проблему, я поставил ее перед родными, когда мы собрались за ленчем. Что, спросил я, делают навозные жуки с навозом? На минуту воцарилась неожиданная тишина.
— Ну, я полагаю, они извлекают из него пользу, милый, — неопределенно сказала мама.
— Надеюсь, ты не собираешься тащить их в дом? — спросил Ларри. — Я отказываюсь жить в доме, где весь пол украшен навозными шариками.
— Нет, нет, милый, он этого не сделает, — миролюбиво сказала мама, но в ее тоне чувствовалось сомнение.
— Ну, мое дело было предупредить вас, не более, — сказал Ларри. — Кажется, в его спальне спрятаны все самые опасные насекомые из сада.
— Может быть, они нужны им для тепла, — произнес Лесли после некоторого раздумья. — Очень теплое вещество навоз. Ферменты.
— Не нужно ли нам обзавестись центральным отоплением? — спросил Ларри. — Пожалуй, я об этом подумаю.
— Может быть, они едят их, — сказала Марго.
— Марго, милая, — сказала мама, — только не за завтраком.
Как обычно, недостаток биологических знаний у моей семьи разочаровал меня.
— Что тебе нужно почитать, — заметил Ларри, рассеянно накладывая себе в тарелку еще жаркого, которое, как он только что втолковывал маме, было совсем невкусное. — Что тебе нужно почитать — это Фабра.
Я спросил, что такое или кто такой этот Фабр, скорее из вежливости, чем по другой причине, так как, поскольку совет исходил от Ларри, я был убежден, что Фабр мог оказаться каким-нибудь незаметным средневековым поэтом.
— Натуралист, — сказал Ларри с полным ртом, махнув вилкой в мою сторону. — Писал о насекомых и прочем. Постараюсь достать тебе книгу.
Пораженный таким неожиданным великодушием моего старшего брата, я был очень осторожен в течение следующих двух-трех дней, стараясь ничем не вызвать его гнева, но проходили дни, а книга не появлялась, и в конце концов я забыл о ней и занялся другими насекомыми в саду.
Но слово «почему» преследовало и обескураживало меня на каждом шагу. Почему шмель вырезает маленькие круглые кусочки из листьев розы и улетает с ними? Почему муравьи ведут себя так, будто они страстно влюблены в огромную массу тли, которой заражены многие растения в саду? Что это были за странные янтарного цвета насекомые или раковинки, которых я находил на стеблях травы и на оливковых деревьях? Они представляли собой пустую оболочку, хрупкую, как пепел, каких-то созданий с круглым телом, выпуклыми глазами и парой толстых колючих передних ног. Почему у этих раковин распорота спина? Может быть, на них напали и высосали из них все жизненные соки? Если так, то кто это сделал и кто они сами? Вопросы сыпались на меня как из рога изобилия, но никто из моего семейства не мог дать ответа.
Я был на кухне, когда утром несколько дней спустя прибыл Спиро и показал маме мое последнее приобретение: длинную, тонкую, цвета жженого сахара сороконожку, которая, как я утверждал, вопреки ее недоверию светилась по ночам белым светом. Спиро ввалился в кухню весь в поту и по обыкновению со свирепым и озабоченным видом.
— Я принес вам почту, миссис Даррелл, — сказал он маме и затем взглянул на меня: — Доброе утро, мастер Джерри.
Полагая по своей наивности, что Спиро разделяет мой восторг по поводу моего последнего приобретения, я протянул ему под нос банку из-под варенья и пригласил полюбоваться на нее. Он бросил быстрый взгляд на сороконожку, которая крутилась на дне банки, как часовой механизм, выронил почту на пол и быстро отступил за кухонный стол.
— Право, мастер Джерри, — сказал он хрипло, — что вы с ней делаете?
Озадаченный его реакцией, я объяснил, что это всего-навсего сороконожка.
— Эта тварь ядовитая, миссис Даррелл, — серьезно сказал Спиро маме. — Честное слово, мастер Джерри не должен возиться с такими вещами, как эта.
— Возможно, вы и правы, — сказала мама неуверенно. — Но ему все это так интересно. Вынеси ее, милый, чтобы Спиро не мог ее видеть.
— Держитесь подальше, — услышал я слова Спиро, когда выходил из кухни со своей драгоценной банкой. — Честное слово, миссис Даррелл, держитесь подальше от всего, что этот мальчик находит.
Мне удалось унести сороконожку в свою спальню, не встретив по пути никого из других членов семьи, и поместить ее в маленькую миску, украшенную мхом и кусочками коры. Я решил, что родня оценит мою находку — ведь сороконожка светилась в темноте, — и строил планы, как затею настоящий пиротехнический спектакль после обеда. Однако все мысли о фосфоресцирующей сороконожке улетучились из моей головы, так как среди прочего в почте оказался толстый коричневый пакет, который Ларри перебросил мне, когда мы сидели за ленчем.
— Фабр, — сказал он кратко.
Забыв о еде, я разорвал пакет, и там внутри была толстая зеленая книга, озаглавленная «Священный жук и другие» Жана Анри Фабра. Открыв ее, я пришел в восторг, так как на фронтисписе была картинка с изображением двух навозных жуков, столь хорошо мне знакомых, словно это были близкие родственники моих собственных жуков. Жуки катили красивый круглый шарик из навоза. В восторге, смакуя каждую страницу, я медленно листал книгу. Текст был восхитительный. Это не была ученая заумная книга. Написана она была таким простым, ясным языком, что даже я мог понять его.
— Оставь книгу на попозже, милый, — сказала мама. — Ешь завтрак, пока он не остыл.
Нехотя я положил книгу на колени и набросился на еду с такой скоростью и свирепостью, что у меня потом полдня болел живот. Однако это нисколько не помешало мне зарыться в книгу Фабра. Пока семья отдыхала, я лежал в тени мандаринового дерева и пожирал страницу за страницей, и, когда наступило время чая, я — к моему огорчению — закончил книгу. Но моему восторгу не было предела. Теперь я был вооружен знаниями, я чувствовал, что знаю все, что нужно, о навозных жуках. Они более не были таинственными насекомыми, с трудом ползающими по оливковым рощам, они стали моими близкими друзьями.
К этому времени мой интерес к естественной истории расширило и подстегнуло еще одно обстоятельство — хотя не могу сказать, что я оценил это тогда, — встреча с моим первым репетитором Джорджем, другом Ларри. Джордж был высокий, худощавый молодой человек, с темной бородкой, в очках, обладающий неброским и сардоническим чувством юмора. Одно утро в неделю он посвящал исключительно естественной истории. Это было единственное утро, когда я выходил ему навстречу. Я шел через оливковые рощи на полпути к его маленькому дому, и затем мы с Роджером скрывались в зарослях миртов и ждали его приближения. Вскоре появлялся Джордж. Все его одеяние составляли пара сандалий, выцветшие шорты и огромная рваная соломенная шляпа; под мышкой он нес связку книг, а свободной рукой размахивал длинной изящной тросточкой. Мы с Роджером сидели на корточках среди душистых миртов и держали пари друг с другом, станет ли Джордж и в это утро сражаться с оливковым деревом.
Джордж был искусный фехтовальщик, подтверждением чему служили многочисленные кубки и медали; неудивительно, что желание пофехтовать часто находило на него. Он размашисто шагал по тропинке, поблескивая очками и размахивая тростью, когда внезапно одно какое-нибудь оливковое дерево превращалось в злого противника, которому следовало преподать урок. Отбросив книги и шляпу, Джордж осторожно продвигался к дереву, его правая рука держала трость, превратившуюся теперь в шпагу, а левая была изящно откинута назад. Медленно, напрягая ноги, словно терьер, приближавшийся к мастифу, он обходил вокруг дерева, наблюдая прищуренными глазами за его первым недружелюбным движением. Внезапно он делал выпад, и конец трости исчезал в одном из отверстий на стволе оливы. Он произносил довольное «ха» и немедленно отступал назад, прежде чем дерево могло ответить ему тем же. Я заметил, что, если ему удавалось загнать свою шпагу в одно из маленьких отверстий в стволе оливы, это не означало смертельной раны, а только легкую царапину, которая, надо полагать, приводила его противника в ярость, потому что через секунду он боролся так беспощадно, словно от этого зависела его жизнь, легко танцевал вокруг оливы, делая выпады и отступления, отскакивая в сторону, рубил сверху вниз шпагой, увертываясь от страшного выпада оливы, но так быстро, что я не успевал заметить движений. С некоторыми деревьями он расправлялся совсем легко, нанося смертельный удар в большое дупло, где его шпага исчезала почти до эфеса, но иногда олива оказывалась достойным противником, и около четверти часа между ними шел бой не на жизнь, а на смерть. Лицо у Джорджа было суровое, и он пускал в ход все хитрые трюки, какие знал, чтобы пробить оборону гигантского дерева. Убив противника, Джордж тщательно вытирал кровь со шпаги, надевал шляпу, поднимал книги и, напевая про себя, продолжал свой путь вниз по тропинке. Я всегда давал ему пройти значительное расстояние, прежде чем присоединиться к нему, из опасения, как бы он не догадался, что я наблюдал за его воображаемым сражением, и это смутило бы его.
Джордж познакомил меня с человеком, который сразу стал самой важной личностью в моей жизни: доктором Теодором Стефанидесом. Теодор — самый замечательный из всех людей, которых я когда-либо встречал (и тридцать три года спустя я по-прежнему держусь того же мнения). Со своими пепельными волосами и бородой, с прекрасными орлиными чертами лица Теодор был похож на греческого бога и, конечно, казался мне таким же всеведущим. Он был не только хорошим врачом, но также биологом, поэтом, писателем, переводчиком, астрономом и историком. А между этими многочисленными занятиями он еще находил время и помогал вести рентгеновский кабинет, единственный на Корфу. Побывав впервые в его квартире в городе, я спросил маму, можно ли мне пригласить его к нам на чай.
— Думаю, что да, милый, — ответила мама, — надеюсь, он говорит по-английски.
Сражение мамы с греческим языком окончилось неудачей. Только день назад она потратила целое утро, приготавливая какой-то особенно вкусный суп для ленча. Наконец, когда все было готово, с чувством удовлетворения она перелила суп в супницу и вручила служанке. Та вопрошающе посмотрела на нее, и тогда мама произнесла одно из немногих греческих слов, какие она могла припомнить. «Эксо, — сказала она твердо, махнув руками, — эксо». Затем она продолжала свою стряпню и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как служанка выливала остатки супа в раковину. Это, естественно, вселило в маму страх перед собственными лингвистическими способностями.
Я с возмущением заявил, что Теодор превосходно говорит по-английски; если уж на то пошло, лучше, чем мы. Успокоенная этим, мама предложила написать Теодору записку и пригласить его в следующий четверг. Я провел два мучительных часа, бродя по саду в ожидании его приезда во власти самых ужасных чувств, и поминутно выглядывал сквозь ограду из фуксий. Что, если записка не дошла до него? Или, быть может, он положил ее в карман и забыл о ней и в этот самый момент слоняется где-то на южной оконечности острова в поисках знаний? А может быть, он наслышался о нашем семействе и просто не захочет прийти? Если так, я поклялся, что не прощу им этого. Но вскоре я увидел Теодора в изящном костюме из твида и в фетровой шляпе, аккуратно сидевшей на голове. Он шел среди олив, размахивая тростью и напевая про себя. Через плечо у него была перекинута сумка для коллекций, такая же неотъемлемая часть его самого, как руки и ноги.
К моей великой радости, Теодор сразу же и бесповоротно пришелся по душе моей родне. Ему ничего не стоило с застенчивой учтивостью беседовать с Ларри о мифологии, греческой поэзии и истории Венеции; говорить с Лесли о баллистике и лучших охотничьих местах на острове; с Марго обсуждать диету для похудания и способы лечения прыщей; делиться с мамой деревенскими рецептами и рассказывать ей детективные истории. Вся семья вела себя так же, как и я, когда пришел к нему на чашку чая. Он оказался таким кладезем знаний, что все засыпали его вопросами, и Теодор непринужденно, как ходячая энциклопедия, отвечал на все из них, сдабривая их для полноты картины невероятно плохими каламбурами и веселыми анекдотами об острове и его жителях.
К моему негодованию, Ларри сказал, что Теодор не должен поощрять моего увлечения естественной историей, так как наш дом небольшой и уже забит до отказа всякими отвратительными жуками, каких я только мог поймать.
— Не это меня беспокоит, — сказала мама, — а беспорядок, в который он приводит себя. Право, Теодор, после прогулок с Роджером он должен менять всю одежду. Я не знаю, что он с нею делает.
Теодор весело хрюкнул.
— Я помню, как однажды, — сказал он, отправляя в рот кусок пирога и медленно жуя, при этом борода его приподнялась, а глаза светились радостью, — я пошел пить чай с некоторыми… э… знаете ли, моими друзьями здесь, в Пераме. В то время я служил в армии и очень гордился тем, что меня произвели в капитаны. Итак… э… вы знаете… э… чтобы похвалиться, я надел униформу, которая в числе прочего включала отлично начищенные сапоги со шпорами. В Пераму меня перевезли на пароме, и, когда я проходил через маленький болотистый участок, мне бросилось в глаза незнакомое растение. Я подошел ближе, чтобы сорвать его. Наступив на то… знаете ли… что казалось твердой землей, я вдруг обнаружил, что погрузился под самые подмышки. К счастью, поблизости росло маленькое деревце, и я… э… сумел ухватиться за него и выбрался наверх. Но теперь я был покрыт от самой талии черной вонючей грязью. Море было… э… знаете ли… совсем близко, так что я… э… подумал, что лучше обмыться чистой морской водой, чем быть в грязи, поэтому я вошел в море и принялся ходить взад-вперед. Как раз в этот момент по дороге вверху проходил автобус, и, когда они увидели меня в фуражке и мундире, разгуливавшего в море, водитель остановился, чтобы все пассажиры могли… э… получше разглядеть меня. Все они были сильно удивлены, но удивились еще больше, когда я вышел из моря и они увидели на мне сапоги со шпорами.
Теодор торжественно ждал, когда успокоится смех.
— Я думаю, знаете ли, — сказал он с задумчивым видом и вполне серьезно, — что я подорвал их веру в здравомыслие армии.
С тех пор Теодор приходил к нам по крайней мере раз в неделю, а иногда и чаще, если мы могли отвлечь его от бесчисленных дел.
К этому времени у нас уже было много друзей среди крестьян, живших вокруг, и все они были столь гостеприимны, что даже короткая прогулка затягивалась на неопределенное время, так как в каждом домике, мимо которого мы проходили, нас непременно угощали стаканом вина или уговаривали отведать фруктов и побеседовать с хозяевами. В чем-то это было весьма полезно для нас, так как каждая такая встреча укрепляла наше довольно нетвердое владение греческим языком, и вскоре мы обнаружили, что в состоянии вполне умело вести довольно сложные беседы с нашими сельскими друзьями.
Затем произошло посвящение — акт, который доказал нам, что мы приняты всей общиной: нас пригласили на свадьбу. Замуж выходила Катерина, сестра нашей служанки Марии, — пышная девушка с широкой сверкающей улыбкой и карими глазами, большими и мягкими, как анютины глазки. Веселая, дерзкая и певучая как соловей, она в свои двадцать лет разбивала сердца во всей округе. Теперь она остановила свой выбор на Стефаносе, крепком, красивом парне, который немел при одном взгляде на Катерину и краснел от любви.
Когда вас приглашают на свадьбу, как мы вскоре обнаружили, дело не ограничивается полумерами. Празднества начинаются с помолвки, когда вы приходите в дом невесты и приносите подарки, а она горячо благодарит вас и подносит вино. Угостив гостей, жених и невеста отправляются в свой будущий дом, возглавляемые деревенским оркестром (две скрипки, флейта и гитара), играющим веселые мелодии, и в сопровождении несущих подарки гостей. Подарки Катерины представляли собой довольно смешанную массу. Самой важной была огромная двуспальная латунная кровать — ее во главе процессии несли четыре друга Стефаноса. Вслед за ними тянулась цепочка гостей, несших простыни, наволочки, подушки, деревянный стул, сковородки, большие бутыли оливкового масла и прочие дары. Сложив подарки в новом доме, мы пили за здоровье четы и тем самым отмечали новоселье будущей семьи. Затем все, слегка опьяневшие, возвращались домой и ждали следующего акта спектакля, самой свадьбы.
Несколько неуверенно мы спросили, может ли Теодор присутствовать с нами на свадьбе. И невеста, и ее родители чрезвычайно этому обрадовались, потому что, как они объяснили с подкупающей искренностью, очень немногие свадьбы в округе могли похвастаться присутствием в качестве гостей английской семьи и настоящего доктора.
Великий день настал, и, надев свои лучшие наряды и прихватив из города Теодора, мы направились к дому родителей Катерины, стоявшему среди олив у самого сверкающего моря. Там должна была происходить церемония венчания. Когда мы прибыли туда, дом гудел как улей. Из отдаленных деревень на ослах приехали родственники. Вокруг дома группками сидели старики и дряхлые старухи, поглощая вино в изрядных количествах. Все непрерывно и оживленно болтали, словно сороки. Для них это был великий день — не только из-за свадьбы, но и потому, что, живя далеко друг от друга, они, возможно, впервые за двадцать лет получили возможность обменяться новостями и сплетнями. Деревенский оркестр был в ударе; жалобно плакали скрипки, бренчала гитара, флейта периодически издавала жалобный писк, словно заброшенный щенок, и под эту музыку гости помоложе танцевали под деревьями, а неподалеку под огромной пламенеющей хризантемой из горячих углей на вертелах шипели и пузырились туши четырех ягнят.
— Ага! — сказал Теодор, его глаза засветились интересом. — Танец, который они исполняют, — это национальный танец Корфу. Он… э… и мотив возникли здесь, на Корфу. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что этот танец — так сказать, его па — впервые появился на Крите, но что касается меня, то я считаю, что это… э… целиком детище Корфу.
Девушки в нарядных золотистых костюмах образовали красивый полукруг, перед ними скакал смуглый молодой человек с алым носовым платком. Он прыгал, крутился, наклонялся — ни дать ни взять цветистый петушок в окружении восхищенных курочек. Катерина в сопровождении всей семьи подошла к нам, чтобы приветствовать и провести на почетное место за шаткий дощатый стол, накрытый белой скатертью, за которым уже сидел величественный старый священник — это ему предстояло провести церемонию венчания. Старец был огромных размеров в обхвате, со снежно-белыми бровями, усами и бородой, столь пышными, что они закрывали все лицо, оставляя открытыми лишь два оливково-черных озорных глаза и большой выступающий красный нос. Услышав, что Теодор врач, он по доброте душевной принялся живописать со всеми подробностями бесчисленные симптомы своих болезней (которые Господь счел нужным ниспослать на него) и под конец громко рассмеялся, услышав наивные рекомендации Теодора о том, что поменьше вина и побольше движения — и все его недуги как рукой снимет.
Ларри внимательно рассматривал Катерину, которая в белом подвенечном наряде присоединилась к кружку танцующих. В тугом белом атласе живот Катерины выступал рельефнее и заметнее, чем обычно.
— Эта свадьба, — сказал Ларри, — происходит не слишком рано.
— Потише, милый, — прошептала мама. — Некоторые из них могут знать английский.
— Любопытно, — сказал Теодор, пропустив слова мамы мимо ушей, — что на многих свадьбах вы можете увидеть невесту… э… гм… в подобном положении. Крестьяне здесь придерживаются весьма устаревших взглядов. Если молодой человек… э… серьезно ухаживает за девушкой, ни одна семья ни на минуту не допустит, что он на ней не женится. Если он попробует… гм… знаете ли… ускользнуть, обе семьи, и его собственная, и невесты, удержат его. Поэтому, когда молодой человек… э… ухаживает, его поддразнивают, то есть подначивают, все окрестные парни, которые говорят, что они сомневаются в его… гм… доблести как… гм… возможного отца. Они ставят беднягу в такое положение, что он почти вынужден… э… знаете ли… гм… доказать обратное.
— Очень неумно, я бы сказала, — заметила мама.
— Нет, нет, — сказал Теодор, стараясь исправить мамин ненаучный подход к проблеме. — На самом деле беременность считается хорошим признаком для невесты. Это доказывает ее… гм… плодовитость.
Но вот священник поднял свой упитанный корпус на подагрические ноги и направился в главную комнату дома, приготовленную для церемонии. В это же время Стефаноса, сильно вспотевшего — костюм был маловат для него — и слегка ошеломленного своим счастьем, со смехом и шутками подталкивали к дому молодые парни, а группа пронзительно кричавших женщин то же проделывала с Катериной.
Главная комната была слишком мала, так что, когда грузная фигура священника втиснулась в нее и туда же препроводили все принадлежности его профессии, там едва нашлось место только для счастливой пары, чтобы стать перед ним. Остальные довольствовались заглядыванием в двери или в окна. Служба была невероятно длинной и для нас непонятной, хотя я слышал, как Теодор переводил отрывки для Ларри. Мне казалось, что обряд включает в себя совершенно ненужное количество речитативов, сопровождаемых бесчисленными осенениями креста и окроплением волнами святой воды. Но вот над головами Катерины и Стефаноса появились два маленьких цветочных венка, словно два парных ореола, и пока священник продолжал гудеть, их время от времени меняли местами. Поскольку люди, державшие венки, прибыли на церемонию уже давно, они от усталости иногда неправильно понимали указания священника, и над головами сочетаемой пары происходило, если можно так выразиться, столкновение венков. Наконец жених и невеста обменялись кольцами, их надели на загорелые, мозолистые от работы пальцы, и Катерина со Стефаносом по-настоящему стали мужем и женой, как мы надеялись, на всю жизнь.
Во время церемонии тишина стояла почти полная, ее нарушало лишь случайное сонное кудахтанье курицы или пронзительный, тут же подавляемый крик ребенка, но когда торжественная часть церемонии была окончена, празднество расцвело с новой силой. Оркестр старался выдать весь свой репертуар и с каждым разом исполнял все более веселые и живые мелодии. Смех и рискованные шутки раздавались со всех сторон. Вино, булькая, лилось из бутылок, и гости, раскрасневшиеся и счастливые, кружились, и кружились, и кружились в танце, неутомимые, как стрелки часов на циферблате.
Веселье кончилось далеко за полночь. Гости постарше разъезжались по домам на понурых ослах. Костры с остатками бараньих туш угасали в пелене серого пепла, и только отдельные гранатовые угольки изредка вспыхивали в них. Мы выпили последний стакан вина с Катериной и Стефаносом и сонные направились через оливковые рощи, посеребренные луной, огромной и белой, как цветок магнолии. Совы печально перекликались друг с другом, и отдельные светлячки мерцали на нашем пути изумрудно-зеленым светом. Теплый воздух пах дневным солнечным светом, росой и сотней ароматических листьев. Опьяневший и разомлевший от вина, проходя между большими изогнутыми оливами и полосатыми от прохладного лунного света стволами, я думал о том, что все мы наконец по-настоящему дома, что мы приняты островом. Под спокойным мягким светом луны мы чувствовали себя истинными жителями Корфу. Ночь была прекрасной, а завтра, мы знали, нас ожидает еще один тигрово-золотистый день. Казалось, Англии не было и в помине.

Глава третья
Бухта среди олив

Если от нашего дома спуститься через оливковые рощи вниз по холму и выйти на дорогу, покрытую толстым слоем белой, мягкой, как шелк, пыли, а потом пройти по ней еще немного, вы попадете на крутую козью тропку, сбегающую сквозь заросли олив к маленькой бухточке в форме полумесяца. Бухта окаймлена белым песчаным пляжем и грудами сухих бурых водорослей, выброшенных сюда во время зимних штормов и теперь похожих на большие растрепанные гнезда птиц. С двух сторон в бухте поднимаются мелкие скалы, и там, среди скал, видимо-невидимо всякой морской живности.
Как только мой учитель Джордж понял, что ему не удастся овладеть моим вниманием, если он будет держать меня каждое утро в четырех стенах, он сделал новый шаг в педагогике и учредил «уроки под открытым небом». Песчаный пляж и косматые груды водорослей сразу превратились в знойные пустыни или непроходимые джунгли, где мы вели свои исследования, а неповоротливые крабы и мелкие рачки-бокоплавы исполняли у нас роль Кортеса или Марко Поло. Теперь уроки географии стали для меня необыкновенно привлекательными. Несколько позднее мы задумали выложить из камней карту мира, расположив ее вдоль самого берега, так что карта у нас была с настоящим морем. Работа эта растянулась надолго. Во-первых, не так-то легко было найти камень, похожий на Африку, Индию или Южную Америку. Иногда, чтобы получить желаемый континент, приходилось складывать вместе по два или по три камня. Во-вторых, разыскав нужный камень, мы обнаруживали под ним кучу всяких морских животных и занимались ими добрых четверть часа, пока Джордж вдруг не спохватывался, сообразив наконец, что так мы с нашей картой мира далеко не продвинемся.
Этот заливчик стал одним из любимейших моих мест, куда мы с Роджером ходили каждый день в жаркие послеполуденные часы, когда в доме все отдыхали. Мы проходили через застывшие оливковые рощи, пронизанные звоном цикад, и брели по дороге. Роджер вздымал своими огромными лапищами белую пыль и все время сладострастно чихал, как от нюхательного табака. Добравшись до бухты, которая в это время была такой тихой и прозрачной, словно в ней и вовсе не было воды, мы купались на мелком месте, а затем каждый отправлялся по своим делам.
У Роджера они заключались в отчаянных и безуспешных попытках поймать шнырявших по мелководью рыбок. Уставившись в воду и навострив уши, он медленно крался за рыбками и что-то тихо ворчал про себя. Потом голова его вдруг исчезала под водой, слышался лязг сомкнувшихся челюстей, и вскоре он снова вытаскивал из воды голову, громко чихал и встряхивался, а бычок или морская собачка, за которой он охотился, успевала тем временем проскочить ярда на два вперед и, пристроившись у камня, оборачивала к нему свою надутую мордочку и кокетливо махала хвостом.
В этой крохотной бухте ютилось столько разнообразных животных, что я просто не знал, с чего начать свой сбор. Повсюду на камнях виднелись известково-белые ходы кольчатых червей, будто сложный извилистый узор из сахарной глазури на пироге, а в местах чуть поглубже из песка торчали прямо-таки обрубки миниатюрного шланга. Если постоять и понаблюдать внимательно, можно увидеть, как на концах шлангов появляется пучок нежных, пушистых, переливчато-синих, красных и бурых щупалец. Это сидячие многощетинковые черви. Очень неблагозвучное, на мой взгляд, название для таких прекрасных созданий. Иногда они встречались небольшими скоплениями, напоминая цветочную клумбу, где все цветы непрестанно шевелились. Подходить к ним надо очень осторожно, так как при слишком быстром передвижении от ваших ног по воде разойдутся волны и уведомят их об опасности. Щупальца тогда сразу сцепятся вместе и с невероятной быстротой исчезнут в трубке.
Кое-где на песчаном дне бухточки чернели полумесяцы блестящих водорослей ламинарий — словно кто-то разбросал по песку боа из темных перьев. И там среди них можно было увидеть морскую иглу. Голова ее удивительно напоминает вытянутого морского конька, приставленного к длинному гибкому телу. Морские иглы держатся среди ламинарий в вертикальном положении и почти сливаются с ними, сразу их и не разглядишь.
Около берега у подножий скал можно разыскать маленьких крабиков или пурпурных актиний — настоящие подушечки для булавок, расшитые алым и голубым бисером. Встречаются там и другие актинии с нежной, кофейного цвета ножкой и длинными извивающимися щупальцами, которым позавидовала бы сама Медуза-горгона. Все камни были покрыты розовыми, белыми или зелеными кораллами и нежной порослью миниатюрных морских водорослей, среди них — изящная Acetabularia mediterranea с тонкими нитевидными стеблями. На конце каждого стебля красовался маленький зеленый зонтик, как бы вывернутый наизнанку каким-то подводным ветром. Иногда на скале виднелась большая черная губка с открытыми высокими устьицами, похожими на конусы вулканов. Такую губку неплохо оторвать от скалы и разрезать бритвой пополам, внутри у нее иногда можно найти какое-нибудь интересное животное. Правда, в отместку губка зальет ваши руки слизью с отвратительным запахом чесночного перегара, который очень долго не проходит.
У берега и между скалами я собирал новые раковины для своей коллекции, и мне доставляла удовольствие не только красивая форма раковин, но и их необычайно выразительные названия. Я узнал, например, что остроконечная раковина, у которой один край вытянут наподобие полуперепончатых пальцев, называется «нога пеликана», а белая, почти круглая в основании коническая раковина, сходная по форме сулиткой-блюдечком, носила название «китайская шляпа».
Были там еще раковины «ковчег». Разъятые створки этой удивительной вроде сундучка раковины вполне можно сравнить (если у вас есть хоть капля воображения) с двумя маленькими ковчежками. Скрученная раковина «башня» заострена, как бивень нарвала, а раковина «волчок» расписана яркими зигзагами алого, черного и синего цвета. У подножия больших скал встречались блюдечки с названием «замочная скважина». На верхушке у этой раковины необычное, действительно в форме замочной скважины отверстие, через которое дышит ее обитатель. Но особенно радостно найти «морские ушки» — уплощенную слоисто-серую раковину с рядом отверстий на одной стороне. Если перевернуть эту раковину и вытащить из нее законного владельца, вам откроется вся ее внутренность, сияющая опаловыми и радужными красками невероятной красоты. В то время у меня еще не было аквариума, поэтому в одном уголке бухты я отгородил камнями заводь — футов восемь в длину и четыре в ширину, — где мог держать всю свою разнообразную добычу, почти не сомневаясь, что найду ее там и на следующий день.
Именно в этой бухточке мне удалось поймать своего первого краба-паука. Я бы наверняка прошел мимо него, вообразив, что это покрытый водорослями камень, если бы краб не сделал неосторожного движения. И по величине, и по форме тело его напоминало небольшую плоскую грушу с шипами на верхнем суженном конце и двумя выступами над глазами вроде рогов. Ноги и клешни у него были очень тонкие и длинные, но больше всего я удивился тому, что вся спина его и ноги были густо усеяны мелкими морскими водорослями, словно они росли у него из скорлупы. Меня очаровало это необыкновенное создание, я поднял его и торжественно понес в свою заводь. Держать его надо было очень крепко, так как он уже сообразил, что в нем распознали краба, и отчаянно пытался убежать, поэтому, когда мы добрались до заводи, почти все водоросли с него были посодраны.
Я посадил краба на мелком месте и, растянувшись на животе, стал следить сквозь прозрачную воду, что он будет делать дальше. Краб поднялся на своих высоких ногах, словно паук в погоне за жертвой, отбежал примерно на фут от того места, где я его посадил, и застыл как неживой. Так он просидел довольно долго, я уж даже решил, что он будет сидеть неподвижно всю первую половину дня и приходить в себя от пережитого потрясения, но краб вдруг вытянул тонкую, длинную клешню и очень деликатно, почти застенчиво, сорвал кусочек водоросли с ближайшего камня, поднес ко рту и стал жевать. Я думал, он ее ест, но это было вовсе не так. С угловатой грацией краб занес клешню за спину, осторожно нащупал местечко и прикрепил туда кусочек водоросли. Очевидно, он смочил основание водоросли слюной или каким-то сходным веществом, чтобы можно было прилепить ее к щитку. Я продолжал наблюдать за ним, а он медленно колесил по всей заводи и с самоотверженным усердием ученого-ботаника собирал разнообразные водоросли. Уже примерно через час спина его покрылась таким густым слоем растительности, что если б я на минуту отвел глаза, а краб застыл бы на месте, мне не сразу удалось бы определить, где он находится.
Заинтригованный таким хитроумным камуфляжем, я тщательно обыскал весь залив, нашел еще одного краба-паука и отгородил для него особый маленький бассейн с песчаным дном, где не было и признаков водорослей. Когда я посадил туда краба, вид у него был вполне довольный. На следующий день я принес из дому щеточку для ногтей (хозяином ее оказался Ларри) и, схватив несчастного краба, стал немилосердно скрести, пока ни на спине, ни на ногах у него не осталось и следа водорослей. Потом набросал в его запруду всякой всячины (раковинок волчков, кусочков коралла, миниатюрных актиний, мелких осколков бутылочного стекла, превращенных морем в невиданные драгоценности) и, присев рядом, стал наблюдать.
Несколько минут краб сидел не шелохнувшись — видно, приходил в себя после той унизительной чистки, какую я ему учинил. Затем, как бы не в состоянии до конца поверить в постигшую его злую участь, он поднял обе клешни над головой и очень осторожно потрогал спину. Наверно, вопреки всякой очевидности надеялся найти там хоть веточку водорослей. Он сделал несколько неуверенных шагов, остановился и с полчаса просидел в мрачном унынии, но потом все же преодолел свою подавленность и подошел к краю бассейна, пробуя протиснуться под темные камни ограды. Там он и остался сидеть, предаваясь грустным мыслям об исчезнувшей маскировке, а мне уж подоспело время возвращаться домой.
На следующее утро я пришел к заливу очень рано и, к своему восторгу, увидел, что в мое отсутствие краб времени даром не терял. Стараясь не поддаваться отчаянию, он украсил свой панцирь всем тем добром, что я для него оставил. Вид у него стал очень потешный, точно он оделся для карнавала. На спине вперемежку с обломками коралла торчали расписные раковинки волчков, а ближе к голове была прикреплена актиния — прямо-таки шикарная шляпка с лентами. Я наблюдал, как краб ползет по песчаному дну, и думал, что теперь он стал слишком уж бросаться в глаза, но вот он подполз к облюбованному им местечку под скалой и, на мое удивление, превратился просто в кучку раковин и коралловых обломков с парочкой актиний на верхушке.
Слева от моей бухты, примерно на расстоянии четверти мили от берега, расположен остров Пондиконисси, или Мышиный остров, — по форме почти равнобедренный треугольник. Весь он зарос олеандрами и высокими старыми кипарисами, приютившими белую церквушку и маленький домик рядом с ней. Жил на острове вреднющий старый монах в длинном черном одеянии и головном уборе наподобие цилиндра. Днем ему, очевидно, полагалось временами звонить в колокол в своей крохотной церквушке, а вечером он не торопясь отправлялся на лодке к видневшемуся невдалеке мысу, где стоял маленький монастырь и жили три древние монашки. Там он получал еду и чашку кофе, вел беседы (должно быть, о греховности современного мира), а когда заходящее солнце превращало тихие воды вокруг его острова в разноцветный шелковый муар, медленно плыл обратно сгорбившись, словно черный ворон, в своей скрипучей, подтекавшей лодке.
Как раз в те времена Марго, разочаровавшись в воздушных ваннах, решила испробовать другое целебное средство Матери Природы — морские купания. Каждое утро она поднималась около половины шестого, вытаскивала меня из постели, и мы вдвоем шли к морю, окунались в прозрачную воду, все еще прохладную от лунного сияния, и потом не спеша плыли к Пондиконисси.
Марго сразу же растягивалась на солнышке, а я с увлечением копался в мелкой воде. К сожалению, визиты наши на остров очень не нравились монаху. Не успевала Марго опуститься на скалу и принять эффектную позу, как по каменным ступеням длинной, ведущей к церквушке лестницы уже топал монах, грозил ей кулаком и извергал из глубин своей большой, косматой бороды потоки непонятных греческих слов. Марго встречала монаха светлой улыбкой и дружески махала рукой, что приводило его в бешеную ярость. Рассекая воздух своим черным одеянием, он носился в разные стороны и дрожащим, замусоленным перстом указывал на небеса, а потом на Марго. Это повторялось изо дня в день, и, поскольку словарный запас монаха не был обширным, мне в конце концов удалось запомнить несколько его излюбленных выражений. Когда я потом спросил у своего друга Филемона, что они значат, тот покатился со смеху. От хохота он почти не мог говорить, но все же я наконец понял, что монах осыпал Марго бранными словами, и самое мягкое среди них было «белая ведьма».
Однако со временем все это превратилось просто в игру. Отправляясь теперь на остров, мы прихватывали для монаха несколько сигарет, а он, завидев нас, слетал вниз по каменным ступеням, потрясал кулаком и грозил божьей карой. Исполнив таким образом свой долг, монах поддергивал рясу, садился на каменную ограду и благодушно курил наши сигареты. Иногда он даже возвращался к церквушке, чтобы принести нам горсть инжиру со своего дерева или свежего, сочного миндаля, который мы кололи на берегу двумя гладкими камнями.
Между Пондиконисси и моим любимым заливом цепочкой тянулись рифы, некоторые размером не больше стола, но иные и с маленький садик. Почти все они были с плоской верхушкой и не доходили до поверхности моря лишь дюйма на два, так что, если залезть на них и стоять наверху, издали может показаться, будто вы ходите по воде. Мне уже давно хотелось исследовать рифы, потому что там водились морские животные, каких не встретишь в мелких водах залива. Однако тут я столкнулся с непреодолимыми трудностями, потому что не мог взять с собой необходимого снаряжения. Как-то я попытался доплыть к одному из рифов с двумя большими стеклянными банками на шее и с сачком в руке, но на полпути обе банки вдруг разом наполнились водой и потянули меня вниз. Прошло несколько секунд, прежде чем я сумел избавиться от них и вынырнуть на поверхность. Пока я отдувался и отплевывался, банки мои уже лежали в глубине вод, покачивались, поблескивали и были так же недоступны, как если б оказались на Луне.
Однажды в знойный день я возился в своей бухточке, разыскивая там под камнями длинных, разноцветных червей немертин, и так увлекся своим занятием, что не заметил, как подошла лодка. Только когда под носом лодки зашуршал песок, я оглянулся. На корме, опершись о весло (все рыбаки гребли там одним веслом, взмахивая им в воде наподобие рыбьего хвоста), стоял молодой парень, загоревший почти до черноты. У него были темные кудрявые волосы, блестящие глаза, черные, как тутовая ягода, и ослепительно белые зубы, сверкавшие на загорелом лице.
— Ясу, — сказал он, — будь здоров.
Я ответил на приветствие, глядя, как ловко парень выскочил из лодки с небольшим ржавым якорьком в руках и закрепил его на берегу позади широкой гряды сухих водорослей. Потом он вернулся и по-приятельски сел рядом со мной, достав из кармана жестянку с табаком и папиросной бумагой. Одет он был только в драную фуфайку и штаны, бывшие когда-то синими, но теперь выгоревшие почти до белизны.
— Жарко сегодня, — поморщившись, сказал парень, а в это время его толстые загрубелые пальцы с необычайным проворством скрутили сигаретку.
Он прикурил от большой металлической зажигалки, глубоко затянулся и вздохнул, а потом, вздернув бровь, поглядел на меня своими ясными, как у малиновки, глазами.
— Ты не из тех иностранцев, что живут на том холме? — поинтересовался он.
К тому времени я уже вполне сносно говорил по-гречески и ответил ему, что да, мол, я из тех иностранцев.
— А другие? — спросил он. — Другие в доме, они кто?
Я уже давно знал, что все жители Корфу, в особенности крестьяне, любят порасспрашивать вас обо всем, да и сами расскажут вам все подробности своей личной жизни. Я объяснил ему, что другие в доме — это моя мама, два брата и сестра. Он кивнул с серьезным видом, будто это были сведения исключительной важности.
— А твой отец? — продолжал он расспросы. — Где твой отец?
Я объяснил, что отец умер.
— Бедняга, — откликнулся он с живым сочувствием. — И твоя несчастная мать осталась с четырьмя детьми на руках!
Он горестно вздохнул от столь тяжких мыслей, но потом успокоился и философски заметил:
— Такая уж она, жизнь. Ты что ищешь там под камнями?
Я постарался растолковать ему это получше, хотя мне всегда было трудно объяснить, почему меня так интересуют все эти противные на вид и совсем несъедобные животные.
— Как тебя зовут? — спросил он.
Я объяснил, что в греческом языке моему имени Джеральд больше всего подходит Герасимос, но что друзья называют меня Джерри.
— А меня зовут Таки, — сказал он. — Таки Танатос. Я живу в Беницесе.
Я спросил, что же он тут делает, в такой дали от своей деревни.
— По пути из Беницеса, — сказал он, — я все время ловил рыбу. Сейчас я поем и посплю, а к ночи зажгу огонь и поплыву обратно. Снова буду ловить рыбу.
Это известие сильно взволновало меня. Совсем недавно мы возвращались поздно вечером из города и, остановившись на дороге перед своим холмом, видели, как внизу медленно проплыла лодка с большой дуговой лампой на носу. Рыбак не торопясь вел лодку по мелкой темной воде, и круг света от его лампы ярко освещал морское дно, а когда лодка проходила мимо рифов, они все вспыхивали желтыми, бурыми, розовыми и лимонно-зелеными красками. Я сразу понял, какое это чудесное занятие, только у меня еще не было знакомых рыбаков. Теперь я с восторгом поглядел на Таки и сразу спросил, в какое время он начнет рыбную ловлю и собирается ли огибать рифы между этой бухтой и островом Пондиконисси.
— Я отправляюсь в десять часов, — ответил он. — Обойду остров, потом поплыву домой.
Я спросил, не может ли он взять меня с собой. И пояснил, что на рифах водится множество интересных животных, которых без лодки я добыть не могу.
— Отчего же не взять? — ответил он. — Я буду ждать напротив Менелаоса. Приходи туда в десять. Обойдем рифы, и я снова высажу тебя у Менелаоса, а потом уж поплыву домой.
Я горячо заверил его, что в десять буду на берегу, потом свистнул Роджеру, схватил сачок и бутылки и поспешил убраться, пока Таки не передумал. Оказавшись на порядочном от него расстоянии, я замедлил шаг и стал напряженно думать, как бы уговорить своих домочадцев, и в особенности маму, отпустить меня в десять часов в море.
Маму, как известно, всегда беспокоило мое нежелание отдыхать в жаркую пору дня. Я объяснял ей, что это самое лучшее время для насекомых и подобной живности, только мама не считала это веским доводом. А по вечерам, как раз в то время, когда происходило что-нибудь особенно интересное (например, словесная перепалка между Ларри и Лесли), мама сердито ворчала:
— Пора в постель, милый. Не забывай, что днем ты совсем не спал.
Я понимал, что именно это обстоятельство может стать препятствием для моей ночной рыбной ловли. Сейчас еще только три часа, и, конечно, в эту пору все в доме спят без задних ног за закрытыми ставнями. Лишь к половине шестого они начнут просыпаться и загудят, как сонные мухи.
Я что есть духу помчался к дому, а ярдах в ста от него на минуту остановился, снял рубашку и старательно обернул ею банки, чтобы не выдать себя ни стуком, ни звоном, а Роджеру наказал молчать под страхом смерти. Мы осторожно прокрались в дом и, словно тени, скользнули в мою спальню. Роджер, затаив дыхание, уселся посреди комнаты и с заметным удивлением стал следить, как я раздеваюсь и ложусь в постель. У него вовсе не было уверенности, что такое поведение можно одобрить. Ведь впереди у нас, думал он, еще целых полдня чудеснейших приключений, а я вдруг собрался спать. Пес попробовал было заскулить, но я так свирепо цыкнул на него, что он, поджав обрубок хвоста, залез под кровать и улегся там с печальным вздохом. Я взял книжку и попытался читать. Комната с закрытыми ставнями превратилась как бы в прохладный зеленый аквариум; на самом же деле воздух в ней был горячий и душный, и по моим ребрам струйками стекал пот. Я ворочался на взмокшей уже простыне и удивлялся: что уж такого хорошего находят люди в этом послеполуденном сне? Какой им от него прок? Мне было неясно, как они вообще могут уснуть. И именно в этот момент я мигом погрузился в сон.
Проснулся я в половине шестого и заспанный вышел на веранду, где все уже пили чай.
— Боже мой! — воскликнула мама. — Неужели ты спал?
Я сказал, как бы между прочим, что сегодня мне было полезно отдохнуть.
— Может, ты нездоров, милый? — забеспокоилась мама.
Я ответил, что совсем здоров, а отдыхать решил потому, чтобы сберечь к вечеру силы.
— А что случилось, милый? — спросила мама.
Стараясь держаться со всей возможной для меня небрежностью, я сказал, что отправляюсь в десять часов в море с одним рыбаком, который берет меня с собой на ночной лов. Потом объяснил, что некоторые животные выходят только ночью и это самый лучший способ добыть их.
— Надеюсь, — угрожающе произнес Ларри, — это не означает, что у нас в доме на пол начнут шлепаться спруты и морские угри. Ты лучше не пускай его, мама, а то не успеешь опомниться, как весь дом и по виду, и по запаху станет похож на рыбные ряды.
Я в запальчивости ответил, что вовсе не собираюсь тащить животных в дом, я посажу их прямо в свой специальный бассейн в заливчике.
— Десять часов — это очень поздно, милый, — сказала мама. — Когда же ты вернешься?
Я отважно солгал, что рассчитываю вернуться к одиннадцати.
— Ладно, оденься только потеплее, — сказала мама. Она всегда думала, что если на мне не будет шерстяной фуфайки, то, несмотря на тихие, теплые ночи, я обязательно схвачу двустороннее воспаление легких.
Честно пообещав тепло одеться, я допил чай и потом около часа проверял и осматривал снаряжение. С собой я брал сачок с длинной ручкой, большую бамбуковую палку с тремя проволочными крюками на конце, чтобы подтягивать к себе для осмотра скопления морских водорослей, восемь стеклянных банок с широким горлом и несколько коробочек и жестянок для ракушек и крабов. Удостоверившись, что мамы поблизости нет, я надел под шорты купальные трусики, а на дне коллекционной сумки спрятал полотенце. Ведь за некоторыми образцами мне наверняка придется нырять. Если б мама знала, что я собираюсь прыгать в воду, ее страх перед двусторонним воспалением стал бы в сто раз сильнее.
Без четверти десять я закинул за спину сумку и с фонариком пошел через оливковые рощи. На звездном небе виднелся бледный, тусклый серпик луны, почти не дававший света. В темноте среди олив мерцали изумрудные огоньки светлячков и было слышно, как окликают друг друга совы — тоинк, тоинк!
Когда я подошел к берегу, Таки сидел в лодке и курил. Он уже зажег на носу лампу. Она отбрасывала в воду круг яркого света и сердито шипела, распространяя сильный запах чеснока. Я сразу заметил, как много живности привлекал ее свет. Из своих норок выплыли бычки и морские собачки, расположились на покрывших камни водорослях и, поглатывая воду, сидели там с надутыми мордочками — совсем как публика в театре, ждущая поднятия занавеса. Кругом сновали береговые крабы, на каждом шагу они останавливались и, деликатно отщипнув кусочек водоросли, затискивали ее в рот. То и дело появлялись раковины волчков, их таскали на себе маленькие, сердитые на вид раки-отшельники, сменившие законных владельцев.
Я положил свое снаряжение на дно лодки и со вздохом удовлетворения сам забрался в нее. Таки оттолкнулся от берега, взял одно весло и, действуя им как шестом, повел лодку через мелководье по скоплениям бурых водорослей, которые тихо шуршали, задевая борта лодки. На глубоком месте он приладил оба весла и стал грести. Двигались мы очень медленно, Таки не отрывал глаз от светлого нимба, озарявшего морское дно футов на двенадцать в разные стороны, и что-то напевал про себя. Ритмично поскрипывали уключины. У одного борта лежал восьмифутовый шест с пятью устрашающими зубьями на конце. На носу я заметил бутылочку с оливковым маслом — непременную часть снаряжения рыбака. При легком ветре, когда на воде появляется рябь, стоит только побрызгать из бутылочки, и взбаламученная поверхность моря чудесным образом успокаивается. Мы медленно подбирались к черному треугольнику Пондиконисси, туда, где были рифы, и, когда подошли к ним, Таки на минуту перестал грести и сказал:
— Сначала мы поколесим тут немного, пока я не поймаю что-нибудь, а потом уж высаживайся на рифах и лови что хочешь.
Я охотно согласился. Мне очень хотелось посмотреть, как Таки будет действовать своей огромной острогой. Лодка медленно стала огибать самый большой риф. Свет озарял удивительные подводные скалы, покрытые розовыми и багряными водорослями, похожими на пушистые дубы. Склонившись над водой, я вообразил себя птицей, парящей на распахнутых крыльях над пестрым осенним лесом.
Вдруг Таки перестал грести и осторожно погрузил весла в воду, чтобы затормозить ход. Лодка была уже почти неподвижной, когда он взялся за острогу.
— Гляди, — сказал он, показывая на песчаное дно под нависшей подводной скалой. — Скорпиос.
Сначала я ничего не увидел, но потом понял, куда он показывает. Там, на песке, лежала рыба фута два в длину. На спине у нее поднимался целый лес острых колючек наподобие гребня дракона, по песку распластались огромные плавники. Голова у рыбы была необычайно широкая, с золотыми глазами и сердитым, надутым ртом. Но больше всего меня поразила ее расцветка. Рыба была окрашена в красные тона — от алого до винного — и усеяна белыми точками и пятнами. Вид у этой яркой красотки, лежавшей на песке, был очень самоуверенный и очень опасный.
— У нее вкусное мясо, — прошептал, к моему удивлению, Таки, потому что рыба казалась мне исключительно ядовитой.
Таки осторожно опустил острогу в воду и постепенно, дюйм за дюймом, стал подводить к рыбе зубцы с зазубринами. Все было тихо, слышалось только сердитое шипение лампы. Острога медленно приближалась к рыбе. Я затаил дыхание. Эта крупная, златоглазая рыба, думал я, уж наверняка заметит свой надвигающийся рок. Взмахнет вдруг хвостом, поднимет вихрь песка — и поминай как звали. Но нет, она все еще лежит там и с важным видом поглатывает воду. Когда зубцы были уже в футе от нее, Таки остановился. Я видел, как его рука, сжимавшая острогу, чуть переменила положение. Какую-то секунду, хотя мне она показалась вечностью, он стоял не шелохнувшись и вдруг с такой быстротой, что я попросту не увидел этого движения, всадил все пять зубьев прямо в затылок большой рыбьей головы. Взметнулось облако песка и крови, и рыба закрутилась и задергалась на зубьях. Она так извивалась, что колючки на ее спине втыкались в острогу. Но вырваться ей было невозможно: Таки слишком ловко нанес свой удар. Быстро перебирая руками, он вытащил из воды шест, и рыба, переброшенная через борт, забилась на дне лодки. Я пододвинулся ближе, чтобы помочь Таки снять ее с зубьев, но он резко оттолкнул меня назад.
— Осторожно, — сказал он. — Скорпиос опасная рыба.
Я смотрел, как он лопастью весла снимает рыбу с остроги, и, хотя ей, по существу, уже полагалось быть мертвой, она все еще извивалась и билась и норовила вонзить в борт лодки свои острые спинные колючки.
— Гляди, гляди, — сказал Таки. — Понимаешь теперь, почему мы называем ее скорпиос? Если бы ей удалось вонзить в тебя эти колючки, святой Спиридион, какая бы это была боль! Тебе пришлось бы немедленно идти в больницу.
Ловко действуя веслом и острогой, Таки поднял скорпену в воздух и швырнул в пустую банку из-под керосина, где она никому не могла причинить вреда. Я спросил, почему ее считают вкусной, если она такая ядовитая.
— А-а, — произнес Таки, — это только ее колючки. Их срезают, а мясо у нее сладкое как мед. Я тебе ее отдам, когда будешь уходить домой.
Он снова взялся за весла, и лодка, поскрипывая, заскользила вдоль рифа. Через некоторое время Таки опять остановился. Дно в этом месте было песчаное, лишь кое-где зеленели пучки молодых водорослей. Он вновь замедлил ход лодки и взялся за острогу.
— Гляди, — сказал он. — Осьминог.
От волнения у меня захватило дух, потому что до сих пор я видел только мертвых осьминогов, которых продавали в городе, и был уверен, что они совсем не похожи на живых. Но как я ни таращил глаза, песчаное дно казалось совсем безжизненным.
— Вон там, там, — показывал Таки, осторожно опуская острогу в воду. — Не видишь? У тебя что, глаза на затылке? Ну вот, смотри, я почти касаюсь его.
Но я все еще ничего не видел. Таки опустил острогу еще на фут.
— Ну, теперь видишь, дурачок? — засмеялся он. — Как раз под зубьями.
И вдруг я увидел. Я и раньше смотрел туда, но осьминог был такой серый и так сливался с песком, что отличить его от морского дна было почти невозможно. Он лежал на песке, окруженный щупальцами, из-под его лысой куполообразной головы на нас смотрели жутко человеческие, несчастные глаза.
— Большой, — сказал Таки.
Он слегка передвинул пальцы, сжимавшие острогу, но движение было неосторожным. Осьминог мгновенно сменил свою тусклую, песочно-серую окраску на яркую, зеленую, с изумительными переливами, выпустил из сифона струю воды и под ее прикрытием бросился сквозь тучи песка наутек. Он несся по воде с откинутыми назад щупальцами, напоминая летящий аэростат.
— А, гаммото! — воскликнул Таки.
Он бросил острогу, схватился за весла и быстро последовал за осьминогом. Осьминог, по-видимому, трогательно верил в свой камуфляж, так как футов через тридцать снова опустился на дно.
Таки опять подвел к нему лодку и стал опускать острогу в воду. На этот раз он действовал осторожнее. Когда зубья были всего в футе от куполообразной головы осьминога, Таки крепче сжал в руке острогу и направил ее в цель. Закружился облаком серебряный песок, задергались, заколотились щупальца, обвились вокруг остроги. Из тела осьминога вылетела струя чернильной жидкости, заколыхалась черным кружевным занавесом и, как дым, поползла над песком. Таки теперь смеялся от радости. Он быстро вытащил острогу наверх, и, когда переваливал осьминога в лодку, два щупальца присосались к борту. Таки сделал резкий рывок, и щупальца отстали с таким звуком, будто отдирался липкий пластырь, только в тысячу раз громче. Ухватившись за круглое скользкое тело осьминога, Таки ловко снял его с зубьев, а потом, к моему изумлению, подхватил эту корчившуюся голову медузы и приставил к своему лицу. Щупальца обвились вокруг его лба, шеи, щек, и присоски оставляли белые следы на смуглой коже. Старательно выбрав местечко, Таки вдруг впился зубами в самую сердцевину осьминога, мотнул головой и хрустнул зубами, будто терьер, переломивший крысиный позвоночник. Очевидно, он перекусил какой-то жизненно важный нервный узел, потому что щупальца сразу оторвались от его головы и повисли как плети. Только у самых кончиков они еще чуть дергались и извивались. Таки бросил осьминога туда же, где лежала скорпена, сплюнул за борт и, зачерпнув в сложенные ладони морской воды, прополоскал рот.
— Ты принес мне удачу, — сказал он с улыбкой и вытер губы. — Не каждую ночь мне попадается и осьминог, и скорпиос.
Но, видно, удача Таки на этом и оборвалась. Сколько мы потом ни объезжали вокруг рифа, нам больше ничего не удалось поймать. В одном месте мы видели голову мурены, высунувшуюся из отверстия в рифе, — злющая на вид голова размером с голову небольшой собаки. Но когда Таки опустил в воду острогу, мурена спокойно, с большим достоинством и мягкой грацией скрылась в глубинах рифа. Больше мы ее не видели. Лично меня это только обрадовало, так как мурена была, вероятно, не меньше шести футов в длину, а схватиться в едва освещенной лодке с шестифутовой муреной было таким испытанием, что даже я, страстный натуралист, мог вполне без него обойтись.
— Ну что ж, — философски заметил Таки. — Поедем теперь за твоей добычей.
Он подвез меня к самому большому рифу и со всем снаряжением высадил на его плоскую верхушку. Вооружившись сачком, я бродил вдоль краев рифа, а Таки вел лодку футах в шести позади и освещал эту затаенную красоту. Там было столько разнообразных животных, что я не надеялся поймать их всех.
Были там хрупкие, золотисто-алые морские собачки и какие-то крохотные, размером с половину спички, ярко-красные рыбки с большими черными глазами и еще одни такого же размера — серо-голубые вперемежку с лазурью. Кроваво-красные и ломкие офиуры, или змеехвостки, с их тонкими, длинными, колючими лучами, которые беспрерывно то скручивались, то раскручивались. Захватывать их сачком надо очень осторожно, малейший толчок — и они с отчаянной щедростью расшвыривают все свои лучи.
Были там улитки-туфельки; если их перевернуть, то с обратной стороны на одной половине увидишь отчетливый выступ, так что вся раковина действительно похожа на разношенную домашнюю туфлю для подагрической ноги. Были там еще раковины ципреи, одни белоснежные, слегка ребристые, другие бледно-кремовые, густо усеянные багряно-черными точками. По расщелинам скал, как огромные мокрицы, торчали раковины хитонов длиной около двух с половиной дюймов. В одном месте я заметил маленькую каракатицу размером со спичечный коробок и чуть не свалился с рифа, пытаясь поймать ее. К моему величайшему огорчению, ей удалось удрать. Уже через полчаса я обнаружил, что все мои банки, склянки и коробки набиты до отказа, и мне волей-неволей пришлось сворачиваться.
Таки в очень веселом расположении духа доставил меня к моей любимой бухте и стал с интересом наблюдать, как я осторожно вынимаю свои образцы и пересаживаю их в заводь. Потом мы поехали к пристани у Менелаоса. Когда я вышел из лодки, Таки взял веревочку, продел ее сквозь жабры теперь уж мертвой скорпены и вручил мне.
— Передай своей маме, — сказал он, — что ее надо готовить с красным перцем и оливковым маслом и есть с картошкой и молодыми кабачками. Это очень вкусно.
Я поблагодарил его за рыбу и за то, что он так долго возился со мной.
— Порыбачим еще разок, — сказал он. — Я буду здесь через неделю. В среду или четверг. Дам тебе знать, когда приеду.
Я поблагодарил и сказал, что буду ждать с нетерпением. Таки оттолкнул лодку от берега и с шестом в руках повел ее через мелкие места, направляясь к Беницесу.
Вслед ему я крикнул: «Будь счастлив!»
Я повернулся и устало побрел вверх по холму. К моему ужасу, оказалось, что уже половина третьего ночи. У мамы теперь, конечно, нет никаких сомнений, что я утонул, попал в пасть акулы или со мной случилось что-нибудь не менее страшное. Однако я надеялся задобрить ее скорпеной.

Глава четвертая
Миртовые чащи

Примерно в полумиле от нашего дома, с северной стороны, оливковые рощи редеют, и их сменяет плоская котловина площадью акров в пятьдесят — шестьдесят. Оливковых деревьев здесь нет, кругом раскинулись только заросли миртов с сухими, каменистыми прогалинами, где красуются необыкновенные канделябры чертополоха, сияющие яркими голубыми огнями, и большие чешуйчатые луковицы морского лука.
Это было мое любимое место охоты, так как здесь обитало множество замечательных животных. Мы с Роджером устраивались в пахучей тени миртовых кустов и наблюдали, как мимо нас проносится масса разнообразных насекомых. В определенное время дня среди миртовых ветвей царило такое же оживление, как на главной улице города.
В миртовых чащах было полно богомолов, крупных, дюйма в три, с ярко-зелеными крыльями. Они раскачивались среди ветвей на своих тонких ногах, подняв в притворной молитве переднюю пару ног, оснащенных страшными коготками. Их заостренные личики с выпуклыми, соломенного цвета глазами вертелись то в одну, то в другую сторону, ничего не пропуская. Если белая капустница или перламутровка опускалась на глянцевый листок мирта, богомол приближался к ней с большой осторожностью, двигаясь почти незаметно. Он то и дело останавливался, чтобы покачаться на ногах и тем самым заставить бабочку поверить, будто это всего лишь взъерошенный ветром листок.
Однажды я видел, как богомол подкрался и напал на большого махаона, который, пошевеливая крыльями, грелся на солнышке и в задумчивости о чем-то мечтал. Однако в последнюю минуту богомол оступился и вместо того, чтобы схватить махаона за тело, как он собирался сделать, вцепился ему в крыло. Вздрогнув, махаон вышел из транса и взмахнул крыльями с такой силой, что передняя часть богомола приподнялась над листвой. Еще несколько сильных взмахов, и, к досаде богомола, махаон, припадая на один бок, улетел с оборванным крылом. С философским спокойствием богомол уселся на лист и стал уничтожать кусок крыла, оставшийся у него в коготках.
Под камнями среди чертополоха ютилось поразительное множество всевозможных тварей, хотя земля в этом месте, выжженная солнцем, была сама как камень и такая горячая, что на ней можно было зажарить яичницу. Здесь водились зверюги, от которых меня всегда пробирала дрожь. Это были плоские многоножки около двух дюймов в длину, с густой бахромой очень длинных тонких ног с обеих сторон. Многоножки были такие плоские, что сумели бы проникнуть в самую незначительную щель, и двигались с огромной скоростью, скорее скользили по земле, чем бежали, — так катится плоский камешек по льду. По-латыни они называются Scutegeridae[7], и я не представляю себе более подходящего названия для этих созданий, которые так противно передвигаются.
В разных местах среди камней можно было увидеть пробуравленные в твердой земле отверстия, каждое размером с монету в полкроны или побольше. Внутри они обтянуты шелковой паутиной, а над входом паутина расстилается кольцом в три дюйма. Это норы тарантулов, огромных жирных пауков шоколадного цвета в рыжих крапинках. С раскинутыми ногами они занимают пространство, равное, пожалуй, величине кофейного блюдечка, а тело у них — с половинку небольшого грецкого ореха. Это очень сильные, быстрые и безжалостные охотники, удивительные по своей злой смышлености. Охотятся тарантулы в основном ночью, но иногда и в дневное время можно увидеть, как они торопливо шагают среди чертополоха на своих длинных ногах и выискивают жертву. Обычно при виде человека они удирают и скрываются среди миртов, но однажды я видел паука, который так увлекся охотой, что подпустил меня совсем близко.
Он сидел на стебле голубого чертополоха футах в шести или семи от своей норы, шевелил передними ногами и внимательно оглядывал все вокруг, напоминая охотника, который вскарабкался на дерево, чтоб посмотреть, нет ли поблизости дичи. Так продолжалось минут пять. Затем паук слез с чертополоха и с решительным видом устремился куда-то, словно высмотрел для себя добычу со своей наблюдательной вышки. Оглядевшись, я нигде не заметил никаких признаков жизни. К тому же я вовсе не был уверен, что у тарантула может быть такое острое зрение. Однако шагал он очень уверенно и вскоре оказался у зарослей коикса (или слез Иова), красивого дрожащего злака, у которого головки с семенами напоминают плетеные батончики хлеба. Подойдя ближе, я вдруг сообразил, за какой дичью охотится тарантул. Под нежными метелочками светлой травы виднелось гнездо жаворонка и в нем четыре яйца. Из одного яйца только что вылупился розовый, пушистый птенчик, который все еще барахтался в обломках скорлупы.
Прежде чем я успел сделать что-нибудь разумное для спасения птенчика, тарантул перешагнул через край гнезда. Секунду помедлив, это страшное чудовище быстро притянуло к себе дрожавшего малыша и запустило ему в спину свои длинные изогнутые жвалы. Птенчик раза два чуть слышно пискнул и, широко раскрыв рот, задергался в волосатых объятиях паука. Скоро подействовал яд. Малыш на мгновение застыл и потом, обмякнув, безжизненно поник. Паук сидел неподвижно, пока не убедился, что яд сделал свое дело. Тогда он повернулся и зашагал прочь, сжимая в своих челюстях болтавшегося птенца. Он напоминал длинноногую собаку со своей первой в сезоне куропаткой в зубах. Нигде не останавливаясь, тарантул быстро добрался до своей норы и исчез там вместе со слабеньким, жалким тельцем птенчика.
Меня эта встреча поразила по двум причинам: во-первых, я даже не представлял, что тарантул может справиться с таким крупным живым существом, как птенец, во-вторых, мне было непонятно, откуда он знал, что в траве есть гнездо. А он, несомненно, это знал, так как без колебания шел прямо к нему. От чертополоха до гнезда было около тридцати пяти футов (как я определил шагами); с такого расстояния, думалось мне, ни один паук не сумеет увидеть так хорошо замаскированное гнездо и птенца в нем. Оставался только запах, но и тут (хотя я и знал о способности животных улавливать тончайшие запахи, недоступные нашим грубым ноздрям) надо было обладать сверхъестественным обонянием, чтобы в такой безветренный день учуять на расстоянии тридцати пяти футов птенца жаворонка. Я мог придумать только одно объяснение: паук обнаружил это гнездо во время своих прежних прогулок и потом время от времени проверял, не появился ли там птенец. Однако такое объяснение меня не удовлетворяло. Ведь я наделял паука способностью мыслить, а этой способностью он, конечно, не обладал. Даже мой оракул Теодор не смог удовлетворительно разрешить эту загадку. Я же знаю только одно: несчастной паре жаворонков в тот год не удалось вырастить ни единого птенца.
Из других обитателей миртовой чащи мое воображение особенно занимали личинки муравьиного льва. Взрослые муравьиные львы бывают разной величины и почти всегда отличаются довольно серой расцветкой. Они похожи на свихнувшихся, растрепанных стрекоз. Крылья у них вроде бы совсем не пропорциональны телу, и при полете муравьиные львы отчаянно колотят ими воздух, словно им приходится прилагать огромные усилия, чтобы не хлопнуться наземь. Это очень добродушные, ленивые создания, не способные никого обидеть, чего не скажешь об их личинках. Так же как хищная личинка стрекозы в пруду, действует и личинка муравьиного льва на сухих песчаных участках среди миртовых кустов. На присутствие этих личинок указывают лишь необычные конические ямки в тех местах, где почва достаточно мелкозернистая и мягкая для рытья. Когда мне первый раз встретились такие воронки, я даже представить себе не мог, кто их нарыл. Может, это мыши раскапывали тут какие-нибудь корешки? Я и не знал, что у основания каждой воронки, зарывшись в песок, сидит архитектор, всегда наготове, всегда начеку, опасный, как скрытый капкан. Потом я увидел одну из этих воронок в действии и впервые понял, что это не только жилье личинки, но и гигантская ловушка.
Вот суетливо пробегает какой-то муравей (мне неизменно представлялось, что, бегая по своим делам, муравьи всегда напевают про себя), это может оказаться мелкий черный хлопотливый муравей или же один из тех крупных красных одиночных муравьев, которые шныряют кругом, обратив к небу, как зенитное орудие, свое красное брюшко. Но какого бы вида ни был муравей, стоит ему только переступить через край одной из этих ямок, и он сразу же почувствует, что ее склоны движутся, он сам соскальзывает вниз, к основанию воронки. Муравей повернет обратно и попробует выкарабкаться из ямки, но земля или песок под его ногами начнет сползать вниз маленькими лавинами. Когда одна из лавин достигает основания воронки, это служит для личинки сигналом, что пора начинать действия. И тут на муравья скорым пулеметным огнем обрушивается песок или земля, которую личинка с поразительным проворством выбрасывает головой со дна ямки. На неустойчивом склоне под непрерывным обстрелом муравей теряет точку опоры и позорно катится на дно. Из песка мгновенно высовывается голова личинки, плоская, похожая на муравьиную, с парой огромных, изогнутых наподобие серпов челюстей. Они вонзаются в тело несчастного, и личинка снова скрывается под песком, унося отбивающегося муравья в его могилу. Так как я считал, что личинки муравьиного льва одерживают нечестную победу над простодушными и довольно серьезными муравьями, я без сожаления выкапывал их из ямок, относил домой и держал в маленьких марлевых клетках, пока они не превращались во взрослых муравьиных львов. Если это были новые для меня виды, я присоединял их к своей коллекции.
Как-то нас с Роджером захватила одна из тех бурных гроз, когда небо становится иссиня-черным и молнии покрывают его густой серебряной филигранью. Вскоре начался дождь. Он сыпался крупными, тяжелыми каплями, теплыми, как парное молоко. Когда гроза отошла, промытое небо засияло чистой голубизной, словно яйцо завирушки. От влажной земли поднимались удивительно пряные, почти гастрономические запахи — яблочного пирога или кекса, а подсыхающие на солнце стволы олив дымились, будто охваченные огнем.
Мы с Роджером любили эти летние грозы. Хорошо было шлепать по лужам и чувствовать, как твоя одежда намокает под теплым дождем. Роджеру, кроме того, было очень приятно полаять на молнии. Когда дождь прекратился, мы прошлись по миртовым зарослям. Я надеялся, что после грозы некоторые животные выйдут из своих укрытий, где они обычно прячутся от жары. И в самом деле, по миртовой ветке навстречу друг другу тихо скользили две жирные улитки медово-янтарного цвета и призывно шевелили рожками. Я знал, что в разгар лета эти улитки обычно впадают в спячку. Прикрепившись к подходящей ветке, они затягивают вход в раковину тонкой, как бумага, крышечкой и отступают в глубину своих спиралей, чтобы сберечь влагу в теле, защитить ее от палящих лучей солнца. Бурная гроза, очевидно, пробудила улиток и привела в радостное, романтическое настроение. Они продолжали ползти навстречу друг другу, пока их рожки не соприкоснулись.
В этот момент улитки остановились и посмотрели в глаза друг другу долгим, серьезным взглядом. Потом одна из них слегка переменила положение, давая дорогу другой. Когда обе улитки оказались рядом, произошло нечто такое, что заставило меня не поверить собственным глазам. Из бока одной улитки и одновременно из бока другой выскочило что-то вроде маленьких белых стрел на тоненькой белой ниточке. Стрела из первой улитки пронзила бок второй улитки и исчезла там, а стрела из второй улитки таким же образом вонзилась в бок первой. И вот они сидят рядышком, бок о бок, связанные двумя белыми ниточками, словно два парусных корабля, счаленные канатами.
Уже одно это было настоящим чудом, но потом пошли еще более удивительные чудеса. Ниточки стали постепенно укорачиваться и притягивать улиток друг к другу. Я глядел во все глаза, чуть ли не задевая улиток носом, и сделал невероятный вывод: каждая улитка с помощью какого-то механизма в своем теле (наподобие лебедки) сматывала канатик и подтягивала к себе другую улитку, пока обе они не оказались крепко притиснутыми друг к другу. Тела их были сцеплены слишком плотно, и я не сумел разглядеть, что там в точности происходило. В таком экстазе улитки просидели минут пятнадцать, а потом, даже не кивнув, так сказать, друг другу на прощание, расползлись в разные стороны. Ни у той, ни у другой не осталось и следа от стрел или ниточек, и ни одна не выражала какого-либо восторга по поводу успешного завершения романа.
Меня так потрясло все виденное, что я едва дождался следующего четверга, когда к нам пришел Теодор и я смог рассказать ему обо всем. Слушая мое красноречивое описание, Теодор чуть покачивался на носках и серьезно кивал головой.
— Ага, да, — произнес он, когда я закончил свой рассказ. — Тебе, знаешь ли… гм… необыкновенно повезло. Я много раз наблюдал за улитками иникогда этого не видел.
Я спросил, не померещились ли мне все эти стрелы и ниточки.
— Нет, нет, — сказал Теодор. — Все абсолютно правильно. Стрелы состоят из такого… гм… вещества… нечто вроде кальция, и, когда они проникают в улитку, они исчезают… растворяются. Видимо, можно считать, что стрелки вызывают своего рода покалывание, которое улиткам… гм… очевидно, нравится.
Потом я спросил, верно ли, что улитки сматывают свои ниточки.
— Да, да, совершенно верно, — сказал Теодор. — У них, видно, есть… гм… какой-то механизм внутри, который может тянуть ниточку обратно.
Я сказал, что никогда не видел ничего более удивительного.
— Да, конечно. Это удивительно, — согласился Теодор и потом добавил нечто такое, от чего у меня захватило дух. — Когда они сближаются… гм… мужская половина одной улитки соединяется с женской половиной другой и… э… наоборот, так сказать.
Прошло несколько секунд, прежде чем я сумел осмыслить это поразительное сообщение, а потом осторожно спросил, верно ли я понял, что каждая улитка одновременно и самец и самка.
— Гм. Да, — сказал Теодор. — Гермафродит.
Он потеребил бороду, в глазах его сверкнул огонек. Ларри, у которого обычно с лица не сходило страдальческое выражение, когда мы с Теодором обсуждали вопросы естествознания, тоже был изумлен этой поразительной новостью о жизни улиток.
— Вы, конечно, шутите, Теодор? — спросил он. — Неужели вы хотите сказать, что каждая улитка одновременно и самец и самка?
— Да, конечно, — ответил Теодор и с великолепной сдержанностью добавил: — Это очень любопытно.
— Вот это да! — выпалил Ларри. — Я считаю, что это несправедливо. Все эти проклятые слизняки блуждают как помешанные по кустам и обольщают друг друга, переживая и те и другие чувства. Почему же человеческий род не получил такого дара? Вот что мне интересно.
— Ага. Но ведь тогда вам пришлось бы откладывать яйца, — заметил Теодор.
— Действительно, — сказал Ларри, — зато какой бы это был чудесный предлог отказаться от приглашения на коктейль. Вы, например, говорите: «Ужасно сожалею, что не могу прийти. Мне надо высиживать яйца».
Теодор фыркнул.
— Улитки не высиживают яиц, — объяснил он. — Они зарывают их во влажную землю и больше о них не думают.
— Замечательный способ воспитывать детей, — неожиданно и с большой убежденностью произнесла мама. — Если б я могла зарыть всех вас во влажную землю и больше ни о чем не думать!
— Очень нехорошо, жестоко так говорить, — сказал Ларри. — Это может оставить у Джерри комплекс на всю жизнь.
Но если разговор и оставил у меня комплекс, то он был связан с улитками, и я уже замышлял с Роджером крупные экспедиции по сбору улиток. Собрать их целые десятки, принести домой и держать в банках, чтобы можно было наблюдать сколько душе угодно, как они будут пускать друг в друга любовные стрелы. Однако, хотя я и собрал за несколько недель сотни улиток, держал их в банках и окружал всяческой заботой и вниманием (даже изображал для них с помощью лейки грозовой ливень), добиться от них я ничего не мог.
Только еще раз увидел я эту необычную любовную игру, когда мне удалось добыть пару огромных виноградных улиток, которые водились на каменистых склонах горы Десяти святых. А добраться туда и поймать этих улиток я смог только потому, что мама купила мне ко дню рождения маленького ослика, о котором я страстно мечтал.
Хотя с самого приезда на Корфу я видел, что тут очень много ослов — на них, можно сказать, держалось все сельское хозяйство острова, — но они как-то не занимали особенно моих мыслей, до тех пор пока мы не побывали на свадьбе Катерины. Там я увидел массу ослов с ослятами, многим из которых было всего лишь несколько дней от роду. Меня очаровали их вздутые коленки, огромные уши, неуверенные, дрожащие шаги, и я решил, что у меня непременно будет свой собственный ослик.
Стараясь обработать маму в этом направлении, я объяснил ей, что ослик, который будет возить меня и мое снаряжение, позволит мне забираться гораздо дальше от дома. Почему, спрашивал я, мне нельзя было бы его получить, скажем, к Рождеству? Потому, отвечала мама, что, во-первых, они стоят очень дорого, во-вторых, именно в то время не бывает новорожденных ослят. Но если они так дорого стоят, продолжал я, то пусть это будет один подарок — и к Рождеству, и ко дню рождения. Я бы охотно отказался от всех других подарков и променял их на осла. Мама сказала, что она посмотрит, а это, как я знал по горькому опыту, в общем означало, что она забудет обо всем в самое ближайшее время. Когда подошел день моего рождения, я еще раз выложил все свои доводы в пользу приобретения осла, но мама только повторила, что мы, мол, посмотрим.
Спустя некоторое время в оливковой роще, как раз за маленьким садиком, появился Костас, брат нашей служанки, с огромной связкой бамбука на плечах. Весело насвистывая, он принялся рыть в земле ямки и забивать в них бамбуковые колья, так что они образовали небольшой квадрат. Глядя на Костаса сквозь ограду из фуксий, я заинтересовался, что это он там такое делает, и, свистнув Роджеру, отправился посмотреть.
— Строю дом, — сказал Костас. — Для твоей мамы.
Я удивился. Для чего это маме понадобился бамбуковый дом? Может, она решила спать тут, на воздухе? Нет, это маловероятно. Зачем, спросил я у Костаса, нужен маме бамбуковый дом?
— Кто его знает? — ответил он и поглядел на меня туманным взором. — Может, она хочет держать тут растения или хранить сладкий картофель на зиму.
Я подумал, что это маловероятно. Через полчаса мне уже наскучило смотреть на Костаса, и мы пошли с Роджером гулять.
На следующий день остов бамбукового домика был уже готов, Костас переплетал теперь его камышом, чтобы стены и крыша стали крепкими и плотными. Еще день, и постройка была закончена. Выглядела она точь-в-точь как хижина Робинзона Крузо, которую он построил в самом начале. Когда я спросил у мамы, для чего ей нужен этот домик, она ответила, что в точности еще не знает, но для чего-нибудь он пригодится. Такой неопределенной информацией мне и пришлось довольствоваться.
Накануне моего дня рождения все стали вести себя несколько более странно, чем всегда. Ларри, например, ходил по всему дому и выкрикивал «ату!», «апорт!» и другие охотничьи словечки. Поскольку подобные штучки случались с ним довольно часто, я не придал им значения.
Марго таинственно шныряла по дому с какими-то свертками под мышкой. Однажды я столкнулся с ней в прихожей нос к носу и с удивлением заметил, что она держит в руках разноцветные украшения, оставшиеся с Рождества. Увидев меня, Марго испуганно вскрикнула и с видом пойманной преступницы бросилась в свою спальню, а я только рот раскрыл от изумления.
Даже Лесли и Спиро были сами не свои. Они то и дело уходили в садик на тайные совещания. Из тех обрывков фраз, которые мне удалось подслушать, я не сумел понять, что же они замышляют.
— На заднем сиденье, — говорил насупившись Спиро. — Честное слово, мастер Лесли, я уже такое делал.
— Ну, если вы уверены, Спиро, — с сомнением отвечал Лесли, — только смотрите, чтоб не было никаких сломанных ног.
Тут Лесли увидел, что я без стеснения подслушиваю их, и грубо спросил, какого черта я позволяю себе слушать чужие разговоры. Шел бы лучше к морю и прыгал там со скалы. Чувствуя, что все в доме плохо настроены, мы с Роджером ушли в оливковые рощи и до конца дня попусту гонялись за зелеными ящерицами.
А вечером, только я загасил лампу и улегся в постель, из оливковых рощ вдруг донеслось хриплое пение и взрывы хохота. Через некоторое время я уже мог различить голоса Лесли и Ларри и голос Спиро. Все они, кажется, пели разные песни. Должно быть, куда-то ходили и слишком хорошо там повеселились, решил я. По сердитому шепоту и шарканью ног в коридоре я мог заключить, что Марго и мама пришли к тому же выводу.
Продолжая громко смеяться над какими-то остротами Ларри, компания ворвалась в дом, где мама и Марго встретили их сердитым шиканьем.
— Тише, — сказала мама. — Вы разбудите Джерри. Расскажите, что вы пили?
— Вино, — величественно произнес Ларри и икнул.
— Вино, — повторил Лесли. — А потом мы танцевали. Спиро танцевал, и я танцевал, и Ларри танцевал. И Спиро танцевал, и потом Ларри танцевал, и потом я танцевал.
— Ложитесь-ка лучше в постель, — сказала мама.
— И потом Спиро опять танцевал, — сказал Лесли.
— Хорошо, хорошо, милый, — сказала мама. — Иди, ради Бога, спать. Знаете что, Спиро, по-моему, не надо было разрешать им столько пить.
— Спиро танцевал, — сказал Лесли, и на сей раз кстати.
— Я уложу его в постель, — предложил Ларри. — Только я один и трезвый.
До меня донесся шум их нестройных шагов по каменным плиткам, когда они, обняв друг друга, выходили из коридора.
— Теперь я танцую с тобой, — послышался голос Лесли, которого Ларри втащил в спальню и посадил на кровать.
— Вы извините меня, миссис Даррелл, — проговорил Спиро осипшим от вина голосом. — Я не мог их остановить.
— Вы его привезли? — спросила Марго.
— Да, мисси Марго, не беспокойтесь, — ответил Спиро. — Он там, у Костаса.
Спиро наконец ушел, вслед за тем отправились спать мама и Марго. Так непонятно закончился этот и без того необычный день. Но скоро я забыл о странном поведении своих близких и с мыслями об ожидавших меня подарках погрузился в сон.
Проснувшись на следующее утро, я некоторое время лежал и думал, что это такое особенное было в сегодняшнем дне. Потом вспомнил. Это — мой день рождения. Я лежал и наслаждался мыслью, что впереди у меня целый день, когда все будут подносить мне подарки, а родным придется уступать любой моей просьбе.
Только я собрался встать с постели и пойти посмотреть, какие мне приготовили подарки, как в прихожей поднялась суматоха.
— Держите ему голову. Голову! — послышался голос Лесли.
— Осторожно! Вы испортите украшения, — причитала Марго.
— На черта они сдались, твои дурацкие украшения, — сказал Лесли. — Держите ему голову.
— Тихо, тихо, милые, — успокаивала мама. — Не бранитесь.
— Господи, — возмутился Ларри, — сколько кругом навоза!
Весь этот загадочный разговор сопровождался странным постукиванием, как будто по кафельному полу прихожей прыгали шарики пинг-понга. Что же они там затеяли, думал я. Обычно в такое время все только еще продирают глаза и, не вставая с постели, одурело тянутся за чашкой чаю. Я собрался идти в прихожую и принять участие в общем веселье, когда дверь вдруг распахнулась и в мою спальню галопом вбежал ослик, весь обвешанный разноцветными бумажными гирляндами и елочными украшениями. На голове у него, ловко прицепленные между ушами, торчали три огромных пера. Лесли с силой тянул ослика за хвост и орал:
— Тпру, зануда!
— Язык, милый, — сокрушалась стоявшая в дверях мама.
— Ты портишь украшения! — кричала Марго.
— Чем раньше эта скотина уберется отсюда, — сказал Ларри, — тем лучше. Вся прихожая завалена пометом.
— Это ты его испугал, — заявила Марго.
— Я ничего не делал, — возмутился Ларри. — Я его только чуть толкнул.
Ослик остановился у моей кровати и посмотрел на меня большими карими глазами. Вид у него был недоумевающий. Он с силой встряхнулся, так что перья между его ушами повалились набок, и, изловчась, задней ногой долбанул Лесли в голень.
— Господи Иисусе! — взревел Лесли, прыгая на одной ноге. — Сломал мне ногу, зараза!
— Лесли, милый, — сказала мама. — Зачем так сильно ругаться? Не забывай о Джерри.
— Чем скорее вы уберете осла из этой комнаты, тем лучше, — сказал Ларри. — Иначе тут будет пахнуть как от навозной кучи.
— Вы погубили украшения, — жаловалась Марго, — а мне это стоило немалого труда.
Но я уже не обращал ни на кого внимания. Ослик подошел еще ближе к моей кровати, с минуту разглядывал меня пытливыми глазами, а потом, издав радостный гортанный крик, ткнулся мне в протянутые ладони своей серой мордой, такой мягкой и нежной, как все самое мягкое и нежное, о чем я только мог подумать: коконы шелковичных червей, новорожденные щенята, морские камешки или бархатистые на ощупь древесные лягушки. Лесли тем временем снял брюки и приступил к осмотру ушиба на ноге, извергая при этом потоки проклятий.
— Он тебе нравится, милый? — спросила мама.
Нравился ли он мне! Да я просто онемел от восторга.
Ослик был густо темно-бурого цвета, почти фиолетовый, с большими, похожими на цветок каллы ушами и в белых чулочках над крохотными полированными копытцами, складными, как башмаки у чечеточника. Вдоль спины у него тянулся широкий черный крест — гордый знак, свидетельствующий, что племя его возило Христа в Иерусалим (и всегда с тех пор продолжало быть самой оклеветанной домашней скотиной), а большие блестящие глаза были обведены белыми кругами, знак того, что родом он из деревни Гастури.
— Помнишь ослицу у Катерины? — спросила Марго. — Она еще тебе так понравилась. Ну вот, это ее дочка.
Такое сообщение, разумеется, сделало ослика еще милей моему сердцу. А он, убранный как в цирке, стоял и сосредоточенно жевал кусочек мишуры. Я быстро оделся и, почти не дыша, спросил у мамы, где я буду держать своего ослика. Конечно, в доме его оставлять нельзя, Ларри и без того уже сказал маме, что при желании она может вырастить в прихожей недурной урожай картофеля.
— Для этого Костас и выстроил домик, — сказала мама.
Я был вне себя от радости. Вот какие у меня благородные, добрые, хорошие родные! Как ловко они от меня все скрывали, как много сил потратили, чтобы так разукрасить ослика! Медленно и бережно, словно это был хрупкий фарфор, я провел своего скакуна через садик в оливковую рощу, открыл дверь бамбукового сарайчика и впустил его туда. Мне хотелось прикинуть размеры, ведь Костаса я считал никудышным строителем. Сарайчик был великолепный. Как раз по ослику. Я снова вывел его наружу, привязал длинной веревкой к дереву и с полчаса стоял как зачарованный, разглядывая ослика со всех сторон, пока он мирно пощипывал травку. Наконец я услышал, как мама зовет меня к завтраку, и блаженно вздохнул. Конечно, подумал я, без всякого сомнения и без малейшего преувеличения можно сказать, что этот ослик самый замечательный на всем острове Корфу. И не знаю почему, я решил дать ему имя Салли. Потом быстро поцеловал его в шелковистую мордочку и побежал в дом завтракать.

Часть третья Контокали
Глава пятая
Карликовые джунгли

Был теплый весенний день, и я с нетерпением дожидался приезда Теодора. Мы собирались совершить с ним прогулку за две или три мили от дома — к маленькому озеру, одному из наших любимых мест. Эти дни, проведенные с Теодором, эти «экскурсии», как он их называл, имели для меня исключительное значение, но Теодора они должны были утомлять, потому что с первой же минуты его появления и до самого момента отбытия я засыпал его бесконечными вопросами.
Наконец экипаж Теодора со стуком и звоном подкатил к дому, и Теодор вышел из него, одетый, по обыкновению, самым не подходящим для нашего похода образом: изящный костюм из твида, дорогая, начищенная до блеска обувь и серая фетровая шляпа, надетая ровно и аккуратно. В этой нарядной городской одежде было только одно несоответствие: переброшенная через плечо коллекционная сумка, набитая пробирками и пузырьками, да маленький сачок с бутылочкой на конце, прикрепленный к его трости.
— Гм, — произнес он с серьезным видом, пожимая мне руку. — Здравствуй, здравствуй. Я вижу, сегодня выдался… гм… прекрасный денек для нашей экскурсии.
В такое время года прекрасные деньки тянулись многие недели кряду и вовсе не были дивом, однако Теодор отмечал это всякий раз, как будто видел в этом особую милость, ниспосланную нам богами.
Мы, не теряя времени, забрали приготовленную мамой сумку с едой и глиняными бутылочками имбирного пива и забросили ее за спину вместе с моим снаряжением, которое было побольше, чем у Теодора, поскольку мне шла впрок всякая добыча и приходилось быть ко всему готовым.
И вот мы вместе с Роджером проходим сквозь полосатые тени залитых солнцем рощ, а впереди у нас весь остров, по-весеннему свежий и сияющий. В такую пору оливковые рощи все в цветах. Бледные анемоны с красноватым отливом по краям, точно их лепестки обмакнули в вино, ятрышник, как бы из розовой сахарной глазури, и желтые крокусы, такие мясистые и глянцевитые и так похожие на воск, что кажется, они будут гореть как свеча, если поднести к их тычинкам спичку. Около мили мы прошли по дороге, обсаженной высокими старыми кипарисами, сильно запорошенными белой пылью — настоящие малярные кисти в известке, потом свернули в сторону и направились к гребню невысокой горы. Тут перед нами открылось озеро размером акра в четыре, заросшее у берегов тростником и зеленое от водных растений.
В тот день на спуске к озеру я шел немного впереди Теодора и вдруг остановился как вкопанный, с изумлением разглядывая тропинку впереди себя. Вдоль края этой тропинки тянулось русло ручья, сбегавшего в озеро. Ручеек был так мал, что даже весеннее солнце успело его высушить почти целиком, на дне у него оставалась лишь тоненькая струйка воды. Поперек ручья, подымаясь затем на тропинку и опять спускаясь в ручей, лежал, как мне показалось, толстый канат, и он был как живой. Приблизившись, я увидел, что канат состоит из множества каких-то маленьких, покрытых пылью змеек. Я сразу крикнул Теодору и, когда он подошел, показал ему на это чудо.
— Ага! — сказал Теодор, и в глазах его загорелось любопытство. — Гм, да. Очень интересно. Elver.
Я спросил, к каким змеям относятся эти elver и почему они передвигаются все вместе.
— Нет, нет, — сказал Теодор. — Это не змеи, это молодые угри, и, кажется, они… гм… понимаешь ли… пробираются к озеру.
Я с восторгом склонился над колонной этих маленьких угрей, решительно пробивающих себе путь по камням и траве, среди колючего чертополоха. Кожа у них была сухая и запыленная. Их было там, наверно, миллионы. Кто бы мог подумать, что в этом пыльном, сухом месте можно встретить живых угрей!
— Вся история… гм… угрей, — сказал Теодор, опустив на землю сумку и устроившись поудобнее на камне, — очень любопытна. Видишь ли, в определенные периоды взрослые угри покидают пруды и реки, где они обитали, и… э… устремляются к морю. Это происходит со всеми европейскими угрями и со всеми североамериканскими. Куда они все уходят, долгое время оставалось загадкой. Ученые только знали, что обратно они никогда не возвращаются и что через какое-то время появляются молодые угри и заселяют те же реки и водоемы. Только гораздо позднее люди узнали, что происходит на самом деле.
Теодор задумчиво провел рукой по бороде и продолжал:
— Все угри направляются в море. Через Средиземное море они попадают в Атлантический океан и плывут к тому месту, которое называется Саргассово море, оно расположено, как ты знаешь, против берегов Южной Америки. Угрям… гм… к Северной Америке, конечно, не приходится столько плыть, но они тоже идут к тому же месту. Там они мечут икру и погибают. Личинка угря, когда она выходит из икры, выглядит совсем необычно… э… знаешь ли… она прозрачная и имеет форму листа. Эти личинки так непохожи на взрослых угрей, что долгое время их выделяли в особый род. Так вот, личинки медленно плывут обратно, направляясь к тем местам, откуда пришли их родители. К тому времени, когда они достигнут Средиземного моря или берегов Северной Америки, они выглядят так, как вот эти.
Теодор остановился, снова потрогал бороду и осторожно просунул конец трости в живую массу угрей, так что те сердито зашевелились.
— Видимо, в них очень… э… гм… очень силен инстинкт родного дома, — продолжал Теодор. — Ведь отсюда до моря не меньше двух миль, и, однако же, все эти маленькие угри оказались здесь, пробивая себе путь к тому самому озеру, где жили их родители.
Теодор внимательно огляделся и показал мне на что-то тростью.
— Путешествие это довольно опасно, — заметил он, и я понял, что он имел в виду. Как раз над полоской угрей в небе черным крестиком плавала пустельга. Мы видели, как она камнем упала вниз и потом, крепко зажав в когтях клубок угрей, унеслась прочь.
Пока мы шли вдоль полосы угрей (они следовали в том же, что и мы, направлении), мы видели, как действуют другие хищники. При нашем приближении в воздух поднимались стайки галок, сорок, взлетела пара соек, и краем глаза мы успели заметить, как мелькнул и исчез в миртовых кустах огненный хвост лисицы.
Добравшись до озера, мы обычно действовали по заведенному уже порядку. Прежде всего определяли, под какой оливой нам лучше сложить еду и снаряжение, какая из них будет давать в полдень самую густую тень. Выбрав дерево, мы складывали под ним в кучку свои вещи, а потом с сачками и сумками шли к озеру и трудились все утро. Медленно, с сосредоточенным видом, словно пара цапель, высматривающих рыбу, шагали мы по воде и погружали в нее сачки сквозь путаницу водных растений. Здесь Теодор превосходил самого себя. Вокруг него звенящими стрелами носились большие алые стрекозы, а он стоял в воде и извлекал из ее глубин чудеса, каким позавидовал бы сам волшебник Мерлин.
Здесь, в спокойных, золотистых водах, раскинулись карликовые джунгли. По дну озера среди остатков прошлогодней листвы пробирались страшные, коварные, как тигры, хищники — личинки стрекоз. На отмелях, словно стадо толстых бегемотов в какой-нибудь африканской реке, резвились черные головастики, гладкие и блестящие, как лакричные леденцы. Среди зелени подводных дебрей суетилась и порхала, напоминая стаи экзотических птиц, разноцветная микроскопическая живность, тогда как внизу, у корней, в темной глубине этого леса извивались и вытягивались вечно голодные пиявки и тритоны. А там, куда проникало солнце, среди волнистых холмов мягкой черной грязи в своих косматых шубах из обломков и веточек сонно ползали личинки ручейников — как только что очнувшиеся от спячки медведи.
— Ага, это вот довольно интересно. Видишь… гм… вон того червячка? Так это личинка огневки. Тебе, между прочим, не мешает взять ее для коллекции. Огневка интересна тем, что это одна из немногих бабочек, у которых личинка развивается под водой. Она живет там до тех пор, пока не настанет пора… гм… превратиться в куколку. Интересно, что у этого вида существуют… э… гм… две формы женских особей. У самца, конечно, полностью развиты крылья, он летает, как только выведется. Одна из самок тоже летает, но у другой, когда она выйдет из куколки… гм… крыльев нет, она продолжает жить под водой и плавает при помощи ног.
Теодор прошел чуть дальше по берегу, покрытому грязью, уже подсохшей и потрескавшейся на весеннем солнышке. С ветки ивы голубым фейерверком взлетел зимородок, а к середине озера спустилась и грациозно проскользила на своих серповидных крыльях крачка. Теодор погружал сачок в воду и тихонько водил им из стороны в сторону, будто гладил кошку. Потом выхватывал его и поднимал вверх, чтобы подвергнуть самому тщательному осмотру болтавшийся на конце пузырек.
— Гм, да, — говорил он, разглядывая пузырек сквозь лупу. — Несколько циклопов. Две личинки комара. Ага, это интересно. Видишь вон там личинку ручейника, которая соорудила свой чехлик целиком из раковин маленьких улиточек? Это… знаешь… очень красиво. А вот тут у нас, я думаю… да, да, тут у нас несколько коловраток.
Отчаянно стараясь угнаться за этим беспрерывным потоком сведений, я спросил, что такое коловратки, и сквозь увеличительное стекло стал глядеть в пузырек, где прыгали и скакали эти самые обитатели вод.
— Прежде натуралисты называли их колесиками, — сказал Теодор, — из-за этих вот любопытных конечностей, которыми они так необычно размахивают, что становятся похожи… гм… э… на колесики часов. Когда ты в следующий раз придешь ко мне, я покажу их тебе под микроскопом. Это исключительно красивые создания. Все это, конечно, самки.
Я спросил, почему они обязательно должны быть самками.
— Это одна из наиболее интересных особенностей коловраток. Самки откладывают неоплодотворенные яйца. Гм… э… ну, вроде как у кур бывают яйца-болтуны. Только из яиц коловраток выводятся самки. Но в определенные периоды самки откладывают более мелкие яйца, из которых выходят самцы. Вот когда я покажу их тебе под микроскопом, ты увидишь, что у самки, как бы это сказать?.. довольно сложное тело, пищевой тракт и все прочее… у самца же совсем ничего нет. Это всего лишь… э… плавающий мешок со спермой.
Я немел от сложностей личной жизни коловраток.
— Они интересны еще тем, — продолжал Теодор, весело нагромождая одно чудо на другое, — что в определенные времена… э… если лето выдалось жаркое или еще там что-то произошло, отчего пруд может пересохнуть, они опускаются на дно и покрываются такой твердой оболочкой. Это своего рода анабиоз, так как пруд может оставаться сухим… э… скажем, лет семь или восемь и они так и будут лежать в пыли. Но при первом же дожде, когда пруд наполнится водой, они вновь оживут.
Мы шли с ним дальше и опять опускали в воду сачки среди шарообразных скоплений лягушачьей икры и вытянутых ожерелий жабьей икры.
— Вот посмотри-ка… э… возьми на минутку лупу и посмотри… очень красивая гидра.
Под лупой зашевелился крохотный обрывок водоросли, к которому был прилеплен длинный, тонкий, кофейного цвета столбик с пучком нежных щупалец на конце. В это время откуда-то появился круглый серьезный циклоп с двумя большими и, очевидно, тяжелыми сумками розовых яиц и резкими скачками подплыл слишком близко к извивавшимся щупальцам гидры. Он был проглочен в одно мгновение, успел лишь раза два дернуться перед смертью. Я знал, что если наблюдать подольше, можно по перемещению вздутия на столбике гидры проследить, как постепенно поглощается циклоп.
Вскоре мы определили по солнцу, что пора уже есть, и вернулись к оливковому дереву. Разложили свои припасы, достали имбирное пиво и приступили к трапезе под сонное пение только что появившихся весенних цикад и тихое, недоуменное воркование кольчатых горлиц.
— По-гречески, — сказал Теодор, неторопливо прожевывая бутерброд, — кольчатая горлица называется dekaoctura, то есть восемнадцать монет. Есть легенда, что, когда Христос… гм… нес крест на Голгофу, один римский солдат, заметив, как он изнемогает, пожалел его. Как раз в том месте у дороги сидела старуха и продавала… гм… молоко. Солдат спросил у нее, сколько стоит кружка молока. Она ответила, что просит за нее восемнадцать монет. У солдата оказалось только семнадцать. Он… э… понимаешь… попросил старуху, чтобы она продала ему кружку молока для Христа за семнадцать монет, но жадная женщина настаивала на восемнадцати. И вот, когда Христа распяли, старуха превратилась в кольчатую горлицу. До конца дней ей суждено было летать кругом и повторять dekaocto, dekaocto — восемнадцать, восемнадцать. Если она когда-нибудь скажет dekaepta, семнадцать, то снова превратится в женщину, если же из упрямства произнесет dekaennaea, девятнадцать, наступит конец света.
В прохладной тени оливы мелкие черные муравьи, похожие на ясные зернышки икры, разворовывали остатки нашего завтрака, суетясь среди сухой прошлогодней листвы, пожелтевшей и побуревшей под солнцем минувшего лета. Теперь она шуршала и хрустела, как крекер. По склону позади нас прогоняли козье стадо. Уныло звякал колокольчик вожака, и было слышно, как пощелкивают челюсти коз, объедающих все на своем пути. Вожак подошел к нам вплотную и с минуту пялил на нас свои желтые глаза, обдавая запахом чебреца.
— Их нельзя оставлять… э… без надзора, — сказал Теодор, отгоняя козу палкой. — Они просто разоряют сельскую местность. Ничто ее так не губит.
Вожак насмешливо мекнул и ушел, уводя за собой свою банду опустошителей.
После еды мы с часок повалялись под деревом, разглядывая сквозь листву рассыпанные по небу мелкие белые облачка — словно отпечатки детских ладошек на синем замерзшем окне.
— Послушай, — сказал наконец Теодор, поднимаясь с земли. — Надо бы пойти на другую сторону озера… э… взглянуть, что там есть.
И вот мы снова бредем вдоль берега. Постепенно наши пробирки, бутылки и банки заполняются всевозможной микроскопической фауной, а мои коробки, ящички и мешочки уже до отказа набиты лягушками, маленькими черепашками и разными жуками.
— Мне кажется, — произносит Теодор и с сожалением смотрит на заходящее солнце. — Мне кажется… гм… что пора идти домой.
Мы с трудом поднимаем ставшие очень тяжелыми сумки и, закинув их за спину, устало тащимся домой. Впереди бодрой рысцой бежит Роджер, язык его свисает, как розовый флаг. Добравшись до дому и разместив своих пленников по более просторным квартирам, мы с Теодором отдыхаем, обсуждаем события минувшего дня и целыми галлонами поглощаем горячий, бодрящий чай, налегая как следует на сдобные, румяные, только что испеченные мамой лепешки.
Однажды я ходил на это озеро без Теодора, и в тот раз мне удалось совершенно случайно поймать одного водяного обитателя, с которым я давно хотел встретиться. Вытащив из воды сачок, я стал разглядывать спутанный клубочек водных растений и вдруг увидел, что там — можете себе представить! — притаился паук. Я был в восторге. Мне уже приходилось читать об этих интересных пауках, самых, должно быть, необычных пауках в мире, так как они ведут совершенно удивительный, водный образ жизни. Паук был размером с полдюйма и в чуть приметных серебристо-бурых крапинках. Я с торжеством посадил его в одну из своих жестяных банок и бережно понес домой.
Дома я отвел для него аквариум, набросал туда всяких веточек и водных растений, посадил паука на выступавший из воды прутик и принялся наблюдать. Паук тотчас же спустился по прутику в воду, где сразу оделся в красивое, блестящее серебро — благодаря множеству воздушных пузырьков, приставших к его волосатому телу. Минут пять он бегал под водой, исследуя все веточки и листики, и наконец выбрал себе место для жилья.
Паук этот — истинный изобретатель водолазного колокола, и я, усевшись перед аквариумом, наблюдал, как он его создает. Сначала паук протянул между веточками несколько длинных шелковых прядей, служивших основными растяжками, потом уселся примерно посредине и начал плести плоскую паутину неправильной овальной формы более или менее обычного типа, только с ячейками помельче, так что она напоминала скорее тонкую ткань. Эта работа заняла у него почти два часа. Заложив основу своего дома, паук должен был снабдить его теперь запасами воздуха. Для этого он стал совершать бесконечные рейсы к поверхности воды и выныривал на воздух. Когда паук возвращался, все его тело было в серебряных пузырьках. Он спешил вниз, садился под паутиной и начинал сметать с себя лапками пузырьки, которые тут же поднимались вверх и останавливались под паутиной.
После пятого или шестого рейса все эти мелкие пузырьки слились в один большой пузырек. По мере того как паук добавлял туда все новые и новые порции воздуха, пузырь становился все больше, начиная давить на паутину, и вот наконец паук получил то, что ему нужно. Крепко расчаленный между веточками и водными растениями, в воде возникал колокол, наполненный воздухом. Теперь это был дом паука, где он мог жить вполне спокойно, не имея нужды часто наведываться на поверхность, потому что воздух в колоколе, как мне было известно, пополнялся кислородом от водных растений, а выделяемый пауком углекислый газ просачивался сквозь шелковые стены его домика.
Я глядел на этот удивительный образец мастерства и размышлял, как же сумел самый первый водяной паук (который только еще собирался стать водяным пауком) создать такой хитроумный образ жизни под водой. Но пауки эти интересны не только своим подводным строительством. В отличие от большинства других видов самец водяного паука вдвое больше самки, и после оплодотворения супруга не пожирает его, как нередко случается в семейной жизни пауков. По размерам моего паука я определил, что это самка, и брюшко у нее, кажется, было вздуто. Решив, что она находится в счастливом ожидании, я старался давать ей побольше добротной пищи. Она любила толстых зеленых дафний, которых умела ловить с необычным проворством, когда те проплывали мимо. Но, видимо, больше всего ей нравились новорожденные тритончики, и, хотя это была слишком крупная для нее дичь, она бросалась на них без колебания. Все, что ей удавалось поймать, она уносила в свой колокол и там поедала среди тишины и покоя.
В один прекрасный день я увидел, что самка расширяет свой колокол. Трудилась она над этим не спеша, и работа заняла два дня. И вот, заглянув утром в аквариум, я, к своему восторгу, увидел, что питомник заполнился круглыми яичками. В положенный срок из них вышли крохотные паучки — точная копия мамаши.
Теперь водяных пауков у меня было в избытке. Но вскоре я с негодованием заметил, что их мать, начисто лишенная родительских чувств, преспокойно поедает собственное потомство. Пришлось отсадить малышей в другой аквариум. Однако, когда паучки подросли, они стали поедать друг друга, так что в конце концов я оставил у себя только двух наиболее умных с виду отпрысков, а остальных отнес на озеро и выпустил.

Глава шестая
Крабы и каракатицы

Каждое утро, когда я просыпался, комната моя была вся в полосках солнечного света, проникавшего сквозь закрытые ставни. Собаки уже умудрялись без моего ведома залезть ко мне под кровать и теперь, растянувшись, спали безмятежным, крепким сном. У окна сидел Улисс и с крайним неудовольствием щурился на золотые солнечные полосы. За окном раздавались хриплый, насмешливый крик петуха и тихое, умиротворяющее (словно овсяная каша булькала на плите) квохтанье кур, рывшихся под лимонными и апельсиновыми деревьями, отдаленный звон козьих колокольчиков, громкое чириканье воробьев на карнизах и неожиданный суетливый щебет, означавший, что в гнездо под моим окном вернулись заботливые ласточки и принесли своему выводку полный клюв еды. Сбросив простыню и прогнав собак на середину комнаты, где они встряхивались, потягивались и зевали, скрутив листиком свои яркие розовые языки, я шел к окну отворять ставни. Затем, пока мои глаза привыкали к яркому свету, я растягивался на подоконнике, выставив на утреннее солнце свое голое тело, на котором виднелись маленькие розовые пятнышки от укусов собачьих блох, и в задумчивости почесывался. Перестав наконец жмуриться, я бросал взгляд через серебряные верхушки олив на берег и на море, синевшее в полумиле от нашего дома. Именно здесь, на этом берегу, появлялись время от времени рыбаки со своими сетями, что всегда было для меня чрезвычайным событием, поскольку в сетях, вытащенных из синих глубин залива, всегда оказывалось много замечательных морских животных, каких я сам добыть бы не смог.
Едва завидев на волнах маленькие рыбачьи лодки, я живо одевался и, прихватив нужный скарб, вылетал через оливковые рощи на дорогу и дальше к морю. Почти всех рыбаков я знал по имени, но особую дружбу водил с одним высоким и сильным парнем с копною темно-рыжих волос. Имя его было Спиро, в честь неизменного святого Спиридиона, и поэтому, чтобы отличать его от всех других Спиро, каких я знал, я называл его Кокино, что значит рыжий. Кокино охотно добывал для меня образцы животных, и, хотя сами животные его ничуть не интересовали, ему доставляло удовольствие видеть мою неподдельную радость.
Однажды я пришел на берег как раз в то время, когда вытаскивали невод. Загорелые рыбаки тянули за мокрые веревки, с силой упираясь в песок босыми ногами, и все ближе подводили тяжелые сети к берегу.
— Будь здоров, кирие Джерри, — крикнул мне Кокино, махнув большой веснушчатой рукой. Волосы его вспыхнули на солнце костром. — Сегодня у нас будут для тебя интересные животные. Мы забросили невод на новом месте.
Я присел на песок и стал терпеливо ждать, а рыбаки с веселой болтовней и шутками продолжали свое дело. Через некоторое время в воде показалась и вскоре вышла на поверхность верхняя часть невода. Уже было видно, как блестит и сверкает в сетях рыба. Когда невод вытащили, он был весь как живой, дрожал от бившейся в нем с шумом рыбы — ровное, глухое стаккато рыбьих хвостов, отчаянно хлеставших друг друга.
Рыбаки поднесли корзины и стали выбрасывать в них из невода рыбу. Красная рыба, белая рыба, рыба в темно-красных полосках, скорпена, похожая на огненно-красный гобелен. Иногда попадались осьминог или каракатица со своими человеческими глазами, тревожно глядевшими из глубины сетей. Когда вся съедобная часть улова была благополучно разложена по корзинам, наступил мой черед.
На дне сетей всегда оставалась большая куча камней и морских водорослей, вот там-то и были мои трофеи. Однажды я нашел плоский круглый камень, из середины которого поднималось очень красивое коралловое деревце безупречной белизны. Оно было как молодая березка зимой, покрытая слоем пушистого снега. Иногда мне попадалась кожистая морская звезда, пухлая, как бисквитный торт, и почти такого же размера. Цвет у нее светло-коричневый, с яркими алыми точками, а по краям не вытянутые, как у всех звезд лучи, а круглые фестоны. Один раз я вытащил из кучи двух удивительных крабов, у которых ноги и клешни, когда они их подбирают, точно совпадают с краями овального панциря. Окрашены они в белый цвет, и на спине ржаво-красный рисунок — настоящая маска туземца.
В то утро Кокино, разложив по корзинам последнюю рыбу, подошел мне помочь. В большой куче водорослей был обычный ассортимент мелких кальмарчиков, морских игл, крабов-пауков и разных рыбок, которые, несмотря на свои малые размеры, не смогли проскользнуть сквозь ячейки сети. Вдруг Кокино хмыкнул от радостного удивления, вытащил что-то из спутанного клубка водорослей и протянул мне на своей жесткой ладони. Я поглядел и глазам не поверил, потому что это был морской конек. Буро-зеленый, очень складный, удивительно похожий на шахматную фигурку, он лежал на ладони Кокино и хватал воздух своим открытым, сильно выступавшим вперед ртом. Хвост его судорожно скручивался и раскручивался. Я в один миг сгреб его с ладони и опустил в банку с морской водой, мысленно вознося молитву святому Спиридиону за то, что он помог мне спасти конька. К моей радости, конек сразу расправился и повис посреди банки, плавнички по бокам его лошадиной головы мелко-мелко дрожали, сливаясь в неясное пятно. Убедившись, что с коньком все в порядке, я снова начал рыться в водорослях с лихорадочным волнением золотоискателя, промывающего песок со дна реки, где он нашел самородок. Усердие мое было вознаграждено, и через несколько минут в банке у меня уже сидели шесть коньков разной величины. Вне себя от такой удачи я быстро попрощался с Кокино и остальными рыбаками и полетел домой.
Дома я бесцеремонно выдворил из аквариума живших там четырнадцать веретениц и предназначил его для своих новых питомцев. Я знал, что кислорода в банке, где сидели морские коньки, надолго не хватит, поэтому, если я не хочу, чтобы они погибли, надо поторапливаться. Я схватил аквариум и пошел к морю. Вымыл там его как следует, насыпал на дно песку и быстро вернулся домой, а потом еще три раза бегал к морю с ведрами, чтобы наполнить аквариум водой. Когда я выливал последнее ведерко, пот лил с меня градом, я даже подумал, стоило ли так стараться из-за коньков? Ну конечно, стоило! Это я увидел сразу, как только коньки шлепнулись из банки в аквариум. Они моментально расправились, а потом, словно табунчик выпущенных на волю пони, закружились около раскидистой веточки оливы, которую я укрепил в песке на дне аквариума. Плавнички их двигались так быстро, что были совсем не видны, казалось, будто каждый конек движется с помощью какого-то внутреннего моторчика. Обозрев свои новые владения, все коньки собрались у ветки оливы, зацепились за нее хвостами и с серьезным видом застыли на месте.
Морские коньки сразу всем понравились. Это были почти единственные из всех животных, каких я приносил в дом, заслужившие единодушное одобрение всей семьи. Даже Ларри тайком наведывался ко мне в кабинет, чтобы взглянуть, как резвятся коньки в своем водоеме. У меня морские коньки отнимали очень много времени. Вода в аквариуме быстро портилась, и приходилось раза четыре или пять на дню бегать с ведрами к берегу моря. Это было совсем не легким делом, но я радовался, что не бросил его, иначе мне не пришлось бы увидеть необыкновенное чудо.
У одного из коньков, очевидно старого, так как он почти весь почернел, было очень большое брюшко. Я приписывал это только возрасту. Но вот как-то утром мне бросилась в глаза полоска на его брюшке, будто проведенная лезвием бритвы. Я стал следить за ним, пытаясь узнать, не было ли драки между морскими коньками, а если была, то что они использовали в качестве оружия (ведь на вид коньки были такие беспомощные), но тут, к моему величайшему изумлению, разрез на брюшке чуть расширился и оттуда выскочил крохотный морской конечек. Я едва мог поверить своим глазам. Как только этот малыш чуть отплыл в сторону и повис в прозрачной воде, из брюшка появился другой, за ним еще один, потом еще и еще, и вот уже двадцать микроскопических коньков крутились облачком дыма около своей гигантской мамы. Испугавшись, как бы другие взрослые коньки не съели малюток, я поставил другой аквариум и отсадил туда, как мне представлялось, мамашу и ее отпрысков. Наполнять свежей водой два аквариума было еще труднее, чувствовал я себя как загнанная лошадь, однако решил держаться до четверга, когда приедет Теодор и можно будет показать ему свои сокровища.
— Ага, — сказал Теодор, с профессиональным любопытством заглядывая в аквариум. — Это и в самом деле интересно. Судя по литературе, морские коньки, конечно, должны быть в этих местах, но сам я… никогда их здесь раньше не видел.
Я показал Теодору другой аквариум, где плавала мамаша со стайкой малышей.
— Нет, — сказал Теодор. — Это не мать, это отец.
Сначала я подумал, что Теодор просто разыгрывает меня, но он объяснил, как все происходит на самом деле. Когда самка вымечет икру и самец оплодотворит ее, он забирает икринки в свою специальную выводковую камеру, и они там у него развиваются. То, что я принял было за гордую мамашу, оказалось на самом деле гордым отцом.
Скоро мне стало совсем не по силам держать конюшню с морскимиконьками и снабжать их свежей водой и запасами пищи. С величайшим сожалением я вынужден был выпустить их на волю.
Кокино не только добывал животных для моей коллекции, но и показал мне один из самых удивительных способов рыболовства.
Как-то я встретил его на берегу, где он возился в своей утлой лодочке, ставил в нее банку из-под керосина, наполненную морской водой. На дне банки лежала большая, благодушная на вид каракатица, обвязанная веревкой в том месте, где голова ее соединялась с большим яйцевидным телом. Я спросил Кокино, куда он собрался, и он ответил, что собрался ловить каракатиц. Это меня удивило, потому что в лодке не было ни удочек, ни сетей, ни даже остроги. Я спросил, как же он думает ловить каракатиц.
— С помощью любви, — загадочно сказал Кокино.
Я считал, что долг естествоиспытателя велит мне исследовать все способы ловли животных, и сразу же спросил Кокино, может ли он взять меня с собой. Мы вышли в голубой залив и остановились в тех местах, где глубина достигала двух саженей. Здесь Кокино вытащил конец веревки, за которую была привязана каракатица, и намотал его на большой палец ноги, потом достал каракатицу и бросил за борт лодки. Каракатица поплавала немного на поверхности, поглядела на нас как бы с подозрением и, выпустив струю воды, скачками поплыла прочь в голубые глубины залива. Веревка понемногу выскальзывала из лодки и вскоре туго натянулась. Кокино закурил сигарету, взъерошил свою огненную гриву.
— Теперь, — сказал он с улыбкой, — мы увидим, что может делать любовь.
Склонившись над веслами, Кокино медленно повел лодку по заливу, то и дело останавливал ее и с напряженным вниманием следил за веревкой на своем пальце. Вдруг он слегка хрюкнул, отбросил весла, так что они прижались к бортам лодки, как крылья бабочки, и, схватившись за веревку, стал тянуть ее к себе. Я перегнулся через борт лодки и во все глаза глядел сквозь прозрачную воду, стараясь увидеть конец туго натянутой веревки. Кокино стал тянуть быстрее. Через некоторое время в глубине появилось неясное пятно, и вскоре я разглядел каракатицу. Когда она приблизилась, я с удивлением увидел, что это не одна каракатица, а две, крепко сцепившиеся вместе. Кокино быстро подтянул их к себе, выдернул из воды и опустил на дно лодки. Самец, видно, был слишком увлечен возлюбленной, и даже внезапный переход из родной стихии на открытый воздух ничуть его не обеспокоил. Он так крепко вцепился в самку, что Кокино не сразу удалось оторвать его и бросить в банку с морской водой.
Меня очень увлекла необычность такого способа ловли, хотя в глубине души я чувствовал, что это немного нечестно, не по-спортсменски. За час мы на сравнительно небольшом пространстве выловили пять каракатиц-самцов. Я удивлялся, что залив так густо населен, ведь днем тут каракатиц редко увидишь. Все это время каракатица-самка исполняла свою роль с безразличием стоика, но я все равно считал, что она заслужила награду, и уговорил Кокино отпустить ее на волю, хотя он сделал это с явным сожалением.
Я спросил, откуда Кокино знает, что каракатица привлечет самцов.
— Такое время, — пожал он плечами.
— Значит, в это время, — спросил я, — можно с тем же успехом привязать любую каракатицу?
— Да, — сказал Кокино. — Но, конечно, одни каракатицы могут, как и женщины, быть привлекательней других, и, значит, проку от них будет больше.
Жаль, что этот способ нельзя применять к другим животным. Как было бы чудесно, например, забросить на нитке в воду самку морского конька и вытащить ее потом обвешанную страстными поклонниками!
Насколько мне было известно, такой своеобразный способ лова применял один лишь Кокино, я никогда не видел, чтобы им пользовались другие рыбаки, а те, с кем я говорил, даже ничего не слышали о нем и не очень-то верили моим рассказам.
У изрезанных берегов напротив нашего дома водилось особенно много разных животных, и, так как места эти были сравнительно мелкие, ловить там животных было нетрудно. Как раз в то время я уговорил Лесли построить для меня лодку, которая намного облегчила мне исследования. Эта плоскодонная, почти круглая посудина с сильным креном на правый борт, получившая название «Бутл Толстогузый», была после осла самой дорогой для меня собственностью. Уставив дно лодки банками, коробками и сачками и прихватив большой пакет еды, я пускался в вояж с командой из трех собак — Вьюна, Пачкуна и Роджера, а иногда брал с собой сову Улисса, если он изъявлял на то желание. В жаркую, безветренную пору мы целыми днями исследовали дальние заливчики и скалистые, покрытые водорослями архипелаги и пережили в этих экспедициях немало интересных приключений. Однажды нам попалась огромная стая «морских зайцев» (улитки тетис). У этих улиток пурпурное, яйцевидное тело с гофрированной оборочкой по краю и два странных выступа на голове, которые действительно очень похожи на длинные заячьи уши. Улитки скользили над песчаным дном и над камнями, направляясь куда-то к югу от острова. Друг к другу они не проявляли никакого интереса, и я заключил, что собрались они вместе не для спаривания, а просто мигрируют целым скоплением.
В другой раз, когда мы стояли на якоре в небольшой бухточке, к нам подплыла стайка толстых, добродушных дельфинов. По-видимому, их привлекла яркая, оранжево-белая окраска «Бутла». Дельфины резвились вокруг нас, прыгали, плескались, подплывали к самой лодке, выставив из воды улыбчивые лица, и испускали через свои дыхальца глубокие, страстные вздохи. Один молодой дельфин, более решительный, чем взрослые, нырнул даже под лодку, и мы почувствовали, как его спина проехала по плоскому дну «Бутла». Я с восторгом смотрел на это восхитительное зрелище и в то же время старался подавить бунт своей команды, которая реагировала на появление дельфинов совсем по-разному. Вьюн, никогда не отличавшийся храбростью, забился на нос лодки, дрожал там от страха и тихо скулил. Пачкун решил, что спасти свою жизнь можно только одним путем — покинуть корабль и пуститься вплавь к берегу, поэтому мне приходилось удерживать его силой, как и Роджера, убежденного, что, если б только ему позволили прыгнуть в море, он сумел бы один за несколько минут расправиться со всеми дельфинами.
Однажды я привез из такой экспедиции совсем необыкновенный трофей. В тот день все были в городе, за исключением Лесли, только что перенесшего жестокую дизентерию. Он лежал на диване в гостиной, слабый как котенок, пил чай со льдом и читал объемистый труд по баллистике. Мне Лесли сразу же заявил, и довольно ясным языком, чтоб я не надоедал ему и не вертелся перед глазами, а так как в город ехать мне не хотелось, я взял собак и направился к «Бутлу».
Когда мы плыли по заливу, я еще издали заметил на его спокойной поверхности большой клубок, как мне показалось, желтых водорослей. Морские водоросли всегда заслуживают внимания. В них неизменно оказывается масса разных мелких животных, а иногда, если вам повезет, то кое-что и покрупнее. Я, конечно, устремился к этому месту, но, когда подплыл ближе, увидел, что это вовсе не водоросли, а какой-то камень желтоватого цвета. Только какой же камень может плавать тут в воде, в заливе глубиной двадцать футов? Я пригляделся повнимательней и, к своей невероятной радости, увидел, что это была черепаха, и довольно большая. Подняв весла, я цыкнул на собак, перешел к носу лодки и ждал там, сгорая от нетерпения, пока «Бутл» все ближе подплывал к черепахе. Черепаха лежала на поверхности воды и, казалось, крепко спала. Надо было поймать ее, прежде чем она успеет проснуться. Сачки и прочее снаряжение, бывшее у меня в лодке, вовсе не предназначались для ловли черепах длиной не меньше трех футов. Мне казалось, что поймать ее можно, только нырнув в воду, ухватить как-нибудь и перекинуть в лодку, пока она еще не проснулась. Я был слишком возбужден, и мне даже в голову не пришло, что черепаха такого размера может обладать немалой силой и вряд ли сдастся без борьбы.
Когда лодка была футах в шести от черепахи, я набрал воздуху в легкие и нырнул. Нырять я решил прямо под черепаху, чтобы отрезать ей путь к отступлению. Погружаясь в теплую воду, я произнес коротенькую молитву, дабы всплеск от моего тела не разбудил черепаху, а если она все же проснется, то чтобы спросонья не успела быстро удрать. Нырнул я довольно глубоко и сразу повернулся на спину. Надо мной, как огромная золотая гинея, лежала черепаха. Я бросился вверх и крепко ухватил ее за передние ласты, свисавшие из панциря наподобие серпов. К моему удивлению, черепаха не проснулась даже от таких действий. Когда я, отфыркиваясь и все еще сжимая ласты, поднялся на поверхность и проморгался, я понял, в чем дело. Черепаха была дохлая. Издохла она уже давно, как о том свидетельствовали мое собственное обоняние и стайки мелких рыбок, клевавших ее чешуйчатые конечности.
Досадно, что и говорить, но все же мертвая черепаха лучше, чем ничего. Я подтянул ее тело к лодке и крепко привязал у борта за один ласт. Собаки были страшно заинтригованы, они решили, что я раздобыл специально для них какое-то невиданное лакомство. «Бутл» из-за своей формы никогда не был легко управляемым судном, а теперь, когда у него на боку болталась дохлая черепаха, он и вовсе норовил крутиться на одном месте. И все же после целого часа напряженной гребли мы благополучно добрались до пристани. Привязав лодку, я вытащил черепаху на берег и как следует рассмотрел ее. Это была черепаха-бисса. Из панциря черепах этого вида выделывают оправу для очков, так что чучело ее иногда можно увидеть в витрине магазинов оптики. У биссы массивная голова с морщинистой желтой кожей и с загнутым наподобие клюва носом, что придает ей необыкновенное сходство с ястребом. Панцирь у моей черепахи был местами побит — следы морских штормов, а может, акульих зубов — и украшен гроздьями белоснежных мелких рачков, морских уточек. Нижний щит желтоватого цвета вминался, как толстый размокший картон.
Только недавно я произвел замечательное анатомирование дохлой речной черепахи, и теперь мне представлялся идеальный случай сравнить внутреннее строение морской черепахи со строением ее пресноводного собрата. Я быстро сбегал наверх за садовой тачкой, отвез на ней к дому свой трофей и торжественно разложил его на веранде. Затем приготовил тетрадь для записей, аккуратно, как в операционной, разложил свои пилки, скальпели, бритвенные лезвия и приступил к делу.

Глава седьмая
Сумятица под оливами

К маю сбор олив шел полным ходом. В жаркие летние дни плоды налились и созрели и теперь падали и лежали, мерцая в траве, словно россыпь черных жемчужин. Крестьянки являлись толпами, неся на голове жестяные банки и корзины. Они располагались вокруг оливкового дерева и, переговариваясь пронзительно, как воробьи, собирали плоды в банки и корзины. Некоторые деревья приносили столь обильный урожай уже в течение пяти веков, и в течение пяти веков крестьяне собирали оливы точно таким способом.
Это было время, когда удавалось вдосталь и поболтать, и посмеяться. Я обычно переходил от дерева к дереву, от группы к группе и, присаживаясь на корточки, помогал собирать блестящие оливы, слушая сплетни о родственниках и приятелях сборщиц и от случая к случаю разделяя с ними трапезу под деревьями, которую они поглощали с волчьим аппетитом; а состояла она из черствого черного хлеба и небольших плоских лепешек, приготовленных из прошлогоднего сушеного инжира и завернутых в виноградные листья.
Собирая оливки, крестьянки пели песни, и, как ни странно, их голоса, такие грубые и хриплые, когда они разговаривали, звучали жалобно-нежно, слитые в единой гармонии. В эту пору года, когда восково-желтые крокусы только-только начинают проглядывать между корнями олив, а косогоры сплошь покрываются ковром из пурпурных колокольчиков, крестьянки, сгрудившиеся под оливами, казались живыми цветочными клумбами, а их песни эхом отдавались между рядами старых олив, печальные и мелодичные, как звон колокольчика на шее козы.
Когда банки и корзины наполнялись доверху, их ставили на головы и длинной переговаривающейся вереницей сносили к прессу, в хмурое, мрачное здание в нижней части долины, по которой протекал крохотный светлый ручеек. Прессом заправлял папаша Деметриос, крепкий старик, скрученный и согнутый, как сами оливковые деревья, с совершенно лысой головой и огромными — как говорили, самыми большими на Корфу — белоснежными усищами с желтыми подпалинами от никотина. Папаша Деметриос был человек резкий и раздражительный, но, сам не знаю почему, я пришелся ему по душе, и мы с ним отлично ладили. Он даже допустил меня к своему святая святых — прессу для выжимания оливкового масла.
Это была большая круглая лохань наподобие декоративного пруда с вделанным в нее гигантским жерновом, в центре которого торчала деревянная укосина. К ней была припряжена древняя коняга папаши Деметриоса. Она ходила по кругу с мешком, накинутым на глаза, чтобы не кружилась голова, и таким образом вращала огромный жернов, давивший оливки, сыпавшиеся на него сверкающим водопадом. Мятые оливки источали резкий, кислый запах. Единственными звуками, сопровождавшими этот процесс, были тяжелый топот лошадиных копыт, погромыхивание жернова и непрерывное «кап-кап» оливкового масла, сочащегося из отверстий лохани, золотистого, словно профильтрованный солнечный свет.
В углу помещения высилась черная рассыпчатая груда выжимок — раздробленные косточки, мякоть и кожура оливок, — слипшихся в черные твердые лепешки наподобие торфа. От нее исходил густой кисло-сладкий запах, отчего впору было подумать, что выжимки годятся в пищу. В действительности же их скармливали скоту и лошадям вдобавок к зимнему корму, а также использовали как исключительно добротное, хотя и чрезвычайно вонючее топливо.
Из-за неуживчивого характера папаши Деметриоса крестьяне с ним не общались, а просто сдавали собранные оливки и со всех ног спешили прочь: как знать, может, у папаши Деметриоса дурной глаз. Поэтому старик был одинок и с радостью воспринял мое вторжение в его сферу деятельности. От меня он узнавал все местные сплетни: кто родил и кого — мальчика или девочку, кто за кем приударяет, а иногда ему перепадал и более лакомый кусочек, как, например, весть о том, что Пепе Кондос арестован за контрабандную торговлю табаком. В награду за то, что я служил ему своего рода газетой, папаша Деметриос ловил для меня животных. Иногда это был бледно-розовый, хватающий ртом воздух геккон, иногда богомол или гусеница олеандрового бражника, вся в розовых, серебристых и зеленых полосах, словно персидский ковер. И не кто иной, как папаша Деметриос, добыл одного из самых очаровательных любимцев, каких я держал в то время, — жабу-чесночницу, которую я окрестил Августус Пощекочи-Брюшко.
Я был внизу в оливковых рощах, помогал крестьянам собирать урожай и вдруг захотел есть. Я знал, что папаша Деметриос всегда держит изрядный запас съестного у пресса, и пошел проведать его. Стоял искрящийся день, шумливый смеющийся ветер тренькал в оливах, словно на арфе. Было свежо, я бежал всю дорогу, окруженный прыгающими и лающими собаками, а когда, раскрасневшийся и запыхавшийся, добрался до пресса, то застал папашу Деметриоса склоненным над костром, который он соорудил из оливковых «лепешек».
— А! — сказал он, свирепо глядя на меня. — Так ты прибежал, да? Где ты был? Я два дня тебя не видел. Надо полагать, теперь, когда настала весна, у тебя не находится времени для старого человека вроде меня.
Я объяснил, что был занят множеством дел, как, например, изготовлением новой клетки для моих сорок, поскольку они только что совершили налет на комнату Ларри и их нужно было немедленно заточить ради их же собственной безопасности.
— Гм, — хмыкнул папаша Деметриос. — Ну ладно. Хочешь кукурузы?
Я ответил как можно небрежнее, что ничего так не люблю, как кукурузу.
Он встал, прошествовал на своих кривых ногах к прессу и вернулся с большой сковородой, листом жести, бутылкой оливкового масла и пятью золотисто-коричневыми высушенными початками кукурузы — ни дать ни взять золотые слитки. Поставив сковороду на огонь, он прыснул на нее масла и выждал, пока оно заурчало, пошло пузырьками и слегка задымилось. Затем схватил кукурузный початок и стал быстро выкручивать его своими подагрическими руками, так что золотые зерна посыпались на сковороду, будто дождь прошелестел по крыше. После этого старик прикрыл сковороду листом жести, что-то бормотнул про себя и, закурив сигарету, откинулся назад.
— Слышал новость про Андреаса Папоякиса? — спросил он, перебирая пальцами свои роскошные усы.
— Нет, — сказал я. — А что?
— А, — радостно произнес старик. — Он в больнице, дурачок.
Я ответил, что мне очень жаль слышать это, ибо я любил Андреаса. Это был веселый, добросердечный, жизнерадостный парнишка, вечно делавший что-нибудь не так. В деревне о нем говорили, что он поехал бы на осле задом наперед, если б сумел.
— Что же с ним приключилось? — спросил я.
— Динамит, — сказал папаша Деметриос, выжидающе глядя на меня — интересно, как я прореагирую на это.
Я присвистнул, как бы от ужаса, и медленно покачал головой. Папаша Деметриос, уверившись в моем безраздельном внимании, уселся поудобнее.
— Это случилось так, — начал он свой рассказ. — Ты сам знаешь, Андреас глупый мальчишка. У него в голове пусто, как в ласточкином гнезде зимой. Но он все же славный малый. Никому никогда не делал зла. Так вот, он задумал глушить рыбу динамитом. Знаешь маленькую бухточку возле Бенитсеса? Ну, стало быть, он пригнал свою лодку туда, потому как ему сказали, что местный полицейский на весь день отправился дальше на юг по побережью. Разумеется, ему, глупому мальчишке, и в голову не пришло проверить, навести справки, что полицейский и вправду ушел дальше на юг по побережью.
Я сожалеюще щелкнул языком. За глушение рыбы динамитом дают пять лет тюрьмы и налагают немалый штраф.
— Так вот, — продолжал папаша Деметриос, — он сел в лодку и не спеша пошел на веслах вдоль берега, как вдруг заприметил впереди на мелководье большой косяк барбуни. Он бросил весла и поджег фитиль динамитного патрона, который у него был.
Папаша Деметриос выдержал трагическую паузу, взглянул, как поджаривается кукуруза, и закурил еще одну сигарету.
— Все бы хорошо, — продолжал он, — но только Андреас хотел бросить динамит, как рыбы уплыли, и как ты думаешь, что сделал этот мальчишка-идиот? Не отбросив динамит, он поплыл за ними! Бах!
Я заметил, что, вероятно, Андреас серьезно пострадал.
— Ну еще бы, — презрительно сказал папаша Деметриос. — Он даже не умеет путем глушить рыбу динамитом. У него был такой махонький патрон, что ему лишь оторвало правую руку. Но все равно он обязан жизнью полицейскому, который и не думал уходить дальше на юг по побережью. Андреас сумел подгрести к берегу и потерял сознание от потери крови. Он несомненно умер бы, если бы полицейский, услышав взрыв, не спустился к берегу посмотреть, кто это глушит динамитом рыбу. К счастью, как раз в это время проходил рейсовый автобус, полицейский остановил его, и Андреаса посадили в автобус и доставили в больницу.
Я выразил глубокое сожаление, что с Андреасом, славным парнишкой, случилось такое несчастье, но, слава Богу, ему повезло и он остался в живых. Я высказал предположение, что, когда он поправится, его возьмут под стражу и отправят на пять лет в Видо.
— Нет, нет, — возразил папаша Деметриос. — Полицейский сказал, что, по его мнению, Андреас и так достаточно наказан, а в больнице он сказал, что Андреасу отхватило руку какой-то машиной.
Кукуруза начала взрываться и загремела по листу жести, словно залпы миниатюрных пушек. Старик снял сковороду с огня и поднял крышку.
Кукурузные зерна лопнули, и каждое являло собой маленькое желто-белое облачко, хрусткое и аппетитное. Папаша Деметриос достал из кармана скрученную бумажку и развернул ее. В ней оказалась крупнозернистая серая морская соль. Мы обмакивали в нее облачка кукурузы и с удовольствием хрумкали их.
— Я кое-что для тебя раздобыл, — сказал наконец старик, тщательно вытирая усы большим красно-белым платком. — Еще одну из этих ужасных тварей, до которых ты такой охотник.
Набив полный рот остатками жареной кукурузы и вытерев пальцы о траву, я, старая от нетерпения, спросил, что это.
— Сейчас принесу, — сказал старик, вставая. — Очень любопытная тварь. Никогда раньше не видел ничего подобного.
Мне оставалось только ждать. Он сходил к прессу и вернулся с помятой жестяной банкой, заткнутой листьями.
— На, — сказал он. — Будь осторожен, она воняет.
Я вытащил затычку из листьев и, заглянув в жестянку, убедился, что папаша Деметриос был совершенно прав: его добыча жутко воняла чесноком, как целый автобус крестьян в ярмарочный день. На дне банки сидела средней величины, гладкокожая, зеленовато-коричневая жаба с огромными янтарными глазами и ртом, застывшим в вечной, как у идиота, ухмылке. Когда я сунул руку в жестянку, чтобы достать жабу, она спрятала голову между передними лапами, втянула, на удивительный манер всех жаб, свои выпученные глазищи в черепную коробку и издала пронзительный блеющий крик, словно миниатюрная овца. Я вынул ее из жестянки. Она отчаянно сопротивлялась, источая ужасный запах чеснока. На задних лапах у нее было по мозолистому черному наросту в виде лопасти, напоминающему плужный лемех. Я пришел от нее в восторг, ибо затратил немало времени и сил на безуспешные поиски жаб-чесночниц. Рассыпавшись перед папашей Деметриосом в благодарностях, я с торжеством отнес жабу домой и водворил в аквариум в своей спальне.
Я покрыл дно аквариума слоем земли и песка толщиной в два-три дюйма, и освобожденная жаба, нареченная Августусом, немедленно приступила к устройству своего жилища. Забавными движениями задних лап спереди назад, пользуясь лопастями-наростами, как лопатой, она очень быстро вырыла себе нору и исчезла из виду, выставив на поверхность лишь выпученные глаза и ухмыляющийся рот.
Августус, как вскоре выяснилось, оказался на диво смышленой тварью и был наделен множеством привлекательных черт характера, выявлявшихся по мере того, как он становился все более ручным. Стоило мне войти в комнату, как он вышныривал из своей норы и предпринимал отчаянные попытки прорваться ко мне сквозь стеклянные стенки аквариума. Если я вынимал его и опускал на пол, он скакал за мной по комнате, а когда я садился, изо всех сил карабкался по моей ноге мне на колени и разваливался в самых непринужденных позах, греясь теплом моего тела, медленно помаргивая, глядя на меня с ухмылкой и хватая ртом воздух. Тогда-то я и обнаружил, что он любит лежать на спине и чтоб его легонько поглаживали пальцем по брюшку. Из-за этой экстраординарной прихоти он и получил кличку Пощекочи-Брюшко. К тому же, как выяснилось, прося есть, он пел. Когда я подносил к аквариуму большущего извивающегося земляного червя, Августуса переполнял бурный восторг. Его глаза, казалось, еще больше выпучивались от возбуждения, он издавал негромкие хрюкающие звуки и тот странный блеющий крик, который я услышал, впервые взяв его в руки. Когда червяк наконец падал перед ним, он энергично тряс головой, словно рассыпаясь в благодарностях, хватал червяка за один конец и запихивал его в рот большими пальцами. А когда у нас бывали гости, их неизменно потчевали рассказом о Пощекочи-Брюшко, и все с серьезным видом соглашались, что он обладает наилучшим жабьим голосом и репертуаром, какие им доводилось знать.
Примерно в это же время Ларри привел в наш дом Дональда и Макса. Максом звали чудовищно высокого австрийца с вьющимися светлыми волосами, светлыми усами, элегантной бабочкой сидевшими у него над губой, и пронзительно синими добрыми глазами. Дональд, напротив, был мал ростом и бледнолиц — один из тех англичан, которые по первому впечатлению кажутся не только косноязычными, но и совершенно лишенными индивидуальности.
Ларри наткнулся на эту столь несообразно подобранную пару в городе и по доброте душевной пригласил к нам пропустить стаканчик-другой вина. Тот факт, что они прибыли в два часа ночи, размякшие от множества возлияний, нимало не смутил нас, поскольку к тому времени мы уже привыкли — или почти привыкли — к манере Ларри приводить в наш дом своих знакомых.
Мама рано легла спать с жесточайшей простудой, остальные домашние тоже разбрелись по своим комнатам. Я единственный из членов семьи еще не ложился спать. Причиной тому был Улисс: я ждал, когда он вернется в спальню из своих ночных блужданий и проглотит ужин из мяса и рубленой печенки. Я лежал и читал, как вдруг до моего слуха из оливковых рощ донесся неясный, приглушенный шум. Сначала я решил, что это группа крестьян возвращается за полночь с какой-нибудь свадьбы, и не придал этому особого значения. Но источник неблагозвучия приближался, и по стуку копыт и звяканью, сопровождавшему его, я заключил, что это какие-то запоздалые бражники проезжают по дороге в экипаже. Однако песня, которую они распевали, звучала как-то не по-гречески, и меня взяло сомнение: кто бы это мог быть? Я вылез из постели и, высунувшись из окна, всмотрелся в ночную тьму.
Тут экипаж свернул с дороги и стал медленно взбираться вверх по длинному взъезду к нашему дому. Я видел его совершенно отчетливо, так как пассажир, сидевший на заднем сиденье, судя по всему, разжег там небольшой костерок. Я смотрел на огонь, заинтригованный, не зная, что и подумать, а он, то вспыхивая, то пригасая, двигался среди деревьев к нам наверх.
В этот момент наподобие тихо парящего зонтика одуванчика прямо с ночного неба слетел Улисс и попытался устроиться на моем голом плече. Я стряхнул его и сходил за оставленной ему миской с едой. Он жадно накинулся на нее, издавая чуть слышные гортанные звуки и мигая мне своими блестящими глазами. Тем временем экипаж медленно, но верно преодолел подъем и въехал во двор нашего дома. Зачарованный открывшимся моим глазам зрелищем, я высунулся из окна.
В задней части экипажа не было костра, как мне подумалось вначале. Там сидели два индивида, каждый с огромным серебряным канделябром в руке. В канделябры были воткнуты большие белые свечи, какие обычно покупали местные жители, чтобы поставить в церкви святого Спиридиона. Индивиды громко и немелодично, но с великим тщанием распевали песню из «Девушки с гор», пытаясь, насколько возможно, попасть в тон друг другу.
Но вот экипаж остановился у лестницы, ведущей на веранду.
«В семнадцать лет…» — вздыхал безусловно английский баритон.
«В семнадцать лет!» — модулировал другой певец с довольно сильным акцентом уроженца Центральной Европы. «Влюблен был безответно, — продолжал баритон, неистово размахивая канделябром, — в тех глаз голубизну».
«В тех глаз голубизну», — трактовал среднеевропейский акцент на развратный манер бесхитростные слова, только его надо было слышать, чтобы в это поверить.
«А в двадцать пять от глаз другого цвета, — подхватывал баритон, — он понял, что идет ко дну».
«Ко дну», — скорбно вторил среднеевропейский акцент.
«От глаз другого цвета», — произнес баритон и так неистово потряс канделябром, что свечи, как ракеты, посыпались из своих гнезд и с шипением упали в траву.
Дверь моей спальни открылась, и вошла Марго, облаченная в целые ярды кружев и прозрачной материи вроде муслина.
— Кто это так шумит? — обвиняюще спросила она хриплым шепотом. — Ты ведь знаешь, что маме неможется.
Я объяснил, что не имею к этому шуму никакого отношения, просто, похоже, к нам прикатили гости. Марго высунулась из окна и посмотрела на экипаж, седоки которого добрались до следующего куплета.
— Послушайте, — приглушенным голосом крикнула она, — вам обязательно надо подымать такой шум? Мама плохо себя чувствует.
Экипаж тотчас же окутала тишина, затем на ноги неуверенно поднялась высокая нескладная фигура. Она высоко подняла канделябр и серьезным взглядом вперилась в Марго.
— Не надо, дорогой леди, — загробным голосом нараспев проговорила фигура. — Не надо беспокойт муттер.
— Ни в коем случае, — согласился английский голос из экипажа.
— Как по-твоему, кто это? — взволнованным шепотом спросила меня Марго.
Я ответил, что для меня все совершенно ясно: это, должно быть, приятели Ларри.
— Вы приятели моего брата? — нежным голоском проворковала Марго из окна.
— О благородный существо, — произнесла высокая фигура, качнувши канделябром в ее сторону. — Он приглашает нас выпить с ним.
— Э-э… Минуточку, я спущусь к вам, — сказала Марго.
— Посмотрейт вас вблизи — все равно что утоляйт амбиций всей своей жизнь, — произнес высоченный малый, кланяясь несколько неустойчиво.
— Увидеть вас вблизи, — поправил спокойный голос из задней части экипажа.
— Я сойду по лестнице, — сказала мне Марго, — впущу и утихомирю их. А ты пойди разбуди Ларри.
Я натянул шорты, не церемонясь сграбастал Улисса (который с полузакрытыми глазами переваривал свой ужин), подошел к окну и выбросил его вон.
— Замечательно! — сказал высоченный малый, глядя, как Улисс исчезает над посеребренными луной верхушками олив. — Это есть походийт на дом Дракулы[8], не так ли, Дональд?
— Именно так, — согласился Дональд.
Я протопал вниз по коридору и влетел в комнату Ларри. Мне не сразу удалось разбудить его, ибо, решив, что мама надышала на него микробов простуды, он в порядке профилактики потребил перед сном полбутылки виски. В конце концов он, одурманенный сном, сел в кровати и уставился на меня.
— Чего тебе надо, черт бы тебя побрал? — спросил он.
Я рассказал ему о двух личностях, прикативших в экипаже и утверждавших, что он пригласил их на выпивку.
— О Боже! — воскликнул Ларри. — Скажи им, что я уехал в Дубровник, и вся недолга.
Я объяснил, что это невозможно, так как Марго уже зазвала их в дом, а маму в ее болезненном состоянии нельзя беспокоить. Стеная, Ларри встал с постели, набросил на себя халат, сунул ноги в шлепанцы, и мы вместе сошли по скрипучей лестнице в гостиную. Там нашему взору предстал долговязый, эффектный, добродушный Макс; развалясь на стуле, он махал на Марго канделябром, из которого вылетели все свечи. На другом стуле с видом владельца похоронной конторы сидел ссутулившийся и мрачный Дональд.
— Ваши глаза, они нежный, голубой, — сказал Макс, помахивая длинным пальцем в сторону Марго. — Мы есть распевайт о голубой глаза, верно, Дональд?
— Правильнее: мы пели про голубые глаза, — поправил Дональд.
— Это я и сказал, — благодушно произнес Макс.
— Ты сказал, мы есть распевайт, возразил Дональд.
Макс на секунду задумался.
— Во всякий случай, — сказал он, — глаза был голубой.
— Были голубые, — поправил Дональд.
— А, наконец-то вы пришли, — упавшим голосом сказала Марго, когда мы вошли. — Надо полагать, это твои друзья, Ларри.
— Ларри, — промычал Макс, вскинувшись с неуклюжей грацией жирафа, — мы есть приходийт, как ты есть сказалт нам.
— Очень приятно, — сказал Ларри, пытаясь выдавить на своем помятом со сна лице некое подобие обаятельной улыбки. — Вы не могли бы говорить потише? Маме нездоровится.
— Муттеры, — с безграничной убежденностью сказал Макс, — самое важное вещь на свете.
Он повернулся к Дональду и, приложив палец к губам, сказал «Тсс!» так громко, что Роджер, до того спавший мирным сном, вскочил на ноги и неистово залаял. Вьюн и Пачкун громогласно присоединились к нему.
— Это чертовски неприлично, — заметил Дональд между взлаиваниями. — Гость не должен вести себя так, чтобы собаки хозяина лаяли.
Макс стал на колени и обнял своими длинными руками не перестававшего лаять Роджера. Я не без тревоги наблюдал за этим маневром, ибо Роджер, как мне казалось, был готов превратно истолковать его.
— Тсс, гав-гав, — сказал Макс, лучезарно улыбаясь ощетинившемуся, воинственно настроенному псу.
К моему изумлению, Роджер тотчас перестал лаять и принялся истово лизать Макса в лицо.
— Не хотите ли… э-э… выпить? — сказал Ларри. — Разумеется, я не могу просить вас остаться надолго, потому что мама, к сожалению, больна.
— Очень мило с вашей стороны, — сказал Дональд. — Право, очень мило. Я должен извиниться за него. Сами понимаете, иностранец.
— Ну, я, пожалуй, пойду снова на боковую, — сказала Марго, осторожно подвигаясь к двери.
— Нет, не пойдешь! — рявкнул Ларри. — Кто-то же должен разливать напитки.
— Не удаляйт, — сказал Макс. Он развалился на полу и, не выпуская Роджера из объятий, с жалостью глядел на нее. — Не удаляйт этих глаз из мой орбит.
— Ладно, я схожу за спиртным, — упавшим голосом сказала Марго.
— А я вам помогайт, — сказал Макс, отшвырнув от себя Роджера и вскочив на ноги.
Роджер тешил себя иллюзией, что Макс намеревается провести остаток ночи в обнимку с ним перед затухающим камином, а потому не без оснований рассердился, когда его так бесцеремонно отшвырнули. Он вновь залаял.
Тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге возник Лесли в чем мама родила, если не считать дробовика под мышкой.
— Что тут происходит, черт побери? — свирепо спросил он.
— Лесли, умоляю тебя, пойди и накинь на себя что-нибудь, — сказала Марго. — Это друзья Ларри.
— А, — мрачно произнес Лесли, — только и всего.
Он повернулся и пошел вверх по лестнице.
— Питья! — восторженно воскликнул Макс, заключая в объятия Марго и вальсируя с ней по комнате под аккомпанемент истерического лая Роджера.
— Я бы очень хотел, чтобы вы вели себя потише, — сказал Ларри. — Макс, прошу тебя, Христа ради.
— Это чертовски неприлично, — заметил Дональд.
— Не забывайте, что мама больна, — сказал Ларри, подметив, что упоминание о матери явно затрагивает какую-то струну в душе Макса.
Тот немедленно перестал вальсировать с запыхавшейся Марго и остановился.
— Где ваша муттер? — спросил он. — Леди есть болен… Проводийт меня к ней, чтобы я мог полечить ее.
— Помощь в тяжелую минуту, — заметил Дональд.
— Я здесь, — сказала мама с порога слегка гнусавым от простуды голосом. — Что случилось?
Она была в ночной рубашке, на плечах, по причине простуды, объемистая шаль. Под мышкой она держала обвисшее, тяжело дышащее, апатичное тельце своей любимицы Додо.
— Ты пришла как раз вовремя, мама, — сказал Ларри. — Позволь представить тебе Дональда и Макса.
Впервые выказав признаки оживления, Дональд встал, быстро прошел через комнату к маме, схватил ее руку и слегка склонился над ней.
— Очень приятно, — сказал он. — Ужасно сожалею за причиненное беспокойство. Мой друг, понимаете ли. С континента.
Очень рада вас видеть, — сказала мама, собрав все свои силы.
При ее появлении Макс широко раскинул руки и теперь взирал на нее с благочестием крестоносца, впервые узревшего Иерусалим.
— Муттер! — патетическим тоном произнес он. — Вы муттер!
— Здравствуйте, — неуверенно сказала мама.
— Вы есть больная муттер? — спросил Макс, начиная соображать, что к чему.
— О, ничего серьезного, легкая простуда, — энергично возразила мама.
— Мы есть разбудийт вас, — сказал Макс, хватаясь за грудь, и на его глаза навернулись слезы.
— Мы разбудили, — вполголоса поправил Дональд.
— Пошли, — сказал Макс и, обняв маму длинными руками, подвел ее к стулу возле камина, где с величайшей деликатностью усадил ее. Он снял с себя пальто и заботливо укутал ее колени. Затем присел рядом на корточки, взял ее руку и серьезно заглянул ей в лицо.
— Что хочет муттер? — спросил он.
— Спать ночь без просыпа, — сказал только что вернувшийся Лесли, одетый более прилично — в пижаме и сандалиях на босу ногу.
— Макс, — сурово произнес Дональд. — Дай другим слово сказать. Ты забыл, зачем мы сюда явились?
— Ну как же, — восторженно отозвался Макс. — У нас есть чудесный новость, Ларри. Дональд решил стать писатель.
— Пришлось, — скромно пробормотал Дональд. — Глядя, как все вы утопаете в роскоши. Гонорары так и сыплются с неба. Вот я и подумал, почему бы и мне не попробовать.
— Прелестно, — отозвался Ларри почему-то без всякого восторга.
— Я только что закончил первую главу, — сказал Дональд, — и вот мы, если можно так выразиться, примчались сюда как на пожар, чтобы прочесть ее вам.
— О Господи, — в ужасе произнес Ларри. — Не надо, Дональд, право же, не надо. К половине третьего ночи мои способности критика совершенно иссякли. Может, вы оставите рукопись у нас и я прочту ее завтра?
— Она коротенькая, — сказал Дональд, пропуская мольбу Ларри мимо ушей и доставая из кармана небольшой лист бумаги, — но, надеюсь, вы найдете стиль интересным.
Ларри обреченно вздохнул, а мы все откинулись на спинки стульев и приготовились слушать, пока Дональд откашливался.
— Вдруг, — начал он низким дрожащим голосом, — вдруг, вдруг, вдруг появился он, а затем вдруг появилась она, вдруг, вдруг, вдруг. И вдруг он взглянул на нее, вдруг, вдруг, вдруг, а она вдруг взглянула на него, вдруг. Она вдруг раскинула руки, вдруг, вдруг, а он раскинул свои, вдруг. Затем вдруг они сошлись, и вдруг, вдруг, вдруг он ощутил тепло ее тела, и вдруг, вдруг она ощутила тепло его губ на своих губах, и они вдруг, вдруг, вдруг вместе упали на кушетку.
Последовала долгая пауза; мы ждали продолжения. Дональд несколько раз глотнул ртом воздух, словно справляясь с волнением от чтения собственного произведения, тщательно сложил листок и сунул его в карман.
— Ну, что вы об этом думаете? — спросил он у Ларри.
— Чуточку коротковато, — уклончиво ответил тот.
— Но что вы думаете о стиле? — продолжал допытываться Дональд.
— Гм… Это интересно, — ответил Ларри. — Впрочем, со временем вы обнаружите, что так уже пробовали писать до вас.
— Не может быть, — возразил Дональд. — Видите ли, я только сегодня ночью это придумал.
— По-моему, ему не следует больше пить, — громко сказал Лесли.
— Помолчи, дорогой, — сказала мама. — Как вы намереваетесь назвать это, Дональд?
— Я хотел, — с глуповатым видом сказал Дональд, — я хотел назвать это «Книга вдруг».
— Очень меткое название, — сказал Ларри. — Но все же я полагаю, что ваших главных персонажей не помешало бы разработать, если можно так выразиться, поглубже, прежде чем заваливать их на кушетку.
— Да, — сказал Дональд. — Вы совершенно правы.
— Это и вправду интересно, — сказала мама, мучительно чихая. — А теперь, я полагаю, всем нам не помешает чашка чаю.
— Я приготовляйт чай для вас, муттер, — сказал Макс и вскочил на ноги, заставив тем самым всех собак вновь залиться лаем.
— Я помогу тебе, — сказал Дональд.
— Марго, дорогая, я думаю, тебе лучше пойти с ними и позаботиться о том, чтобы они все нашли, — сказала мама.
Когда троица вышла из комнаты, мама взглянула на Ларри.
— И ты утверждаешь, что эти люди не эксцентричны? — холодно спросила она.
— Ну Дональд-то не эксцентричен, — возразил Ларри. — Он лишь чуточку под парами.
— И вдруг, вдруг, вдруг, вдруг он опьянел, — продекламировал Лесли, подбрасывая дров в камин и пиная их ногой, чтобы добиться хоть какого-то пламени.
— Они славные ребята, — сказал Ларри. — Дональд уже перезнакомился с половиной Корфу.
— Что ты имеешь в виду? — спросила мама.
— Ну, ты знаешь, как здесь на Корфу, любят выпытывать твою подноготную, — ответил Ларри. — Они все уверены, что, раз у него есть, по-видимому, личное состояние и он такой до невероятности британец, у него должно быть ужасно интригующее прошлое. И вот он забавляется тем, что рассказывает им байки. Пока что, как меня уверяли, он успел побывать старшим сыном герцога, племянником лондонского епископа и внебрачным сыном лорда Честерфилда. Он обучался в Итоне, Хэрроу, Оксфорде, Кембридже, и, к моему восхищению, не далее как этим утром миссис Папанопоулос уверяла меня, что он получил официальное образование в Джиртоне.
Тут в гостиную с несколько обескураженным видом вошла Марго.
— Тебе бы лучше пойти и как-нибудь унять их, Ларри, — сказала она. — Макс разжег огонь в кухонной плите пятифунтовой банкнотой, а Дональд куда-то исчез и, не переставая, кричит нам «ау!», а мы ума не приложим, куда он делся.
Мы толпой ввалились в гигантскую, вымощенную каменными плитами кухню. Там, на плите, которую топили древесным углем, уже завел свою песню чайник, а Макс скорбно созерцал обгорелые остатки пятифунтовой банкноты, которые он держал в руке.
— Право же, Макс, — сказала мама, — что за глупые шутки.
Макс лучезарно улыбнулся ей.
— Для муттер не жалко никакой затрат, — сказал он, вкладывая остатки денег в ее руку. — Сохраняйт это как сувенир, муттер.
— Ау! — раздался меланхолический, отдающийся эхом крик.
— Это Дональд, — гордо сказал Макс.
— Где он? — спросила мама.
— Не знаю, — ответил Макс. — Раз уж он хочет спрятаться, он спрятайтся.
Лесли подошел к задней двери и распахнул ее.
— Дональд, — позвал он, — где вы?
— Ау! — донесся дрожащий крик с едва слышным резонансом.
— О Боже! — проговорил Лесли. — Этот безмозглый болван провалился в колодец.
В саду возле кухни был большой колодец футов пятидесяти глубиной, с толстой круглой железной трубой, идущей прямо в глубину шахты. По резонансному отзвуку голоса Дональда мы всецело уверились в правоте высказанной Лесли догадки. Захватив фонарь, мы поспешили к колодцу и, оцепив кружком сруб, заглянули в его темную глубину. Вполвысоты на трубе, крепко обхватив ее руками и ногами, сидел Дональд. Он взирал на нас снизу вверх.
— Ау! — застенчиво сказал он.
— Дональд, черт побери, кончайте валять дурака! — раздраженно сказал Ларри. — Вылезайте наверх. Если вы свалитесь в воду, вы утонете. Меня это мало беспокоит, но вы испортите нам весь запас питьевой воды.
— Не испорчу, — сказал Дональд.
— Дональд, — сказал Макс, — ты есть нужен нам. Вылезайт. Там внизу есть холодно. Вылезайт и выпивайт чай с муттер, и мы побеседувайт о твоей книга.
— Вы настаиваете? — спросил Дональд.
— Да, да, настаиваем, — нетерпеливо ответил Ларри.
Дональд медленно, с трудом стал взбираться вверх по трубе, мы, затаив дыхание, следили за ним. Когда он оказался в пределах досягаемости, Макс и все домашние перегнулись через край колодца, ухватились за Дональда с разных сторон и, вытащив его наверх,закончили спасательные работы. Затем мы препроводили наших гостей обратно в дом и накачивали их горячим чаем до тех пор, пока они не обрели трезвый вид — насколько это было возможно без сна.
— Я полагаю, теперь вам лучше отправиться домой, — твердо сказал Ларри. — Свидимся завтра в городе.
Мы проводили их на веранду. Экипаж стоял на прежнем месте, лошадь понуро горбилась в оглоблях. Извозчика нигде не было видно.
— У них был извозчик? — спросил меня Ларри.
Я ответил, что был всецело захвачен зрелищем их канделябров и, честно говоря, не обратил внимания.
— Я будет править, — сказал Макс, — а Дональд споет мне.
Дональд осторожно устроился с канделябрами на заднем сиденье, Макс взобрался на козлы. Он как заправский извозчик щелкнул кнутом, и лошадь, выйдя из коматозного состояния, вздохнула и поплелась вниз по подъемному пути.
— Доброй ночи! — прокричал Макс, размахивая кнутом.
Мы ждали, пока они не исчезли из виду за оливковыми деревьями, затем гурьбой вернулись в дом и, облегченно вздохнув, закрыли за собой дверь.
— Право же, Ларри, тебе не следует приглашать людей так поздно, — сказала мама.
— Я не приглашал их так поздно, — с досадой ответил Ларри. — Они явились сами. Я пригласил их выпить.
В этот момент раздался громкий стук в дверь.
— Я исчезаю, — сказала мама и с завидным проворством взлетела вверх по лестнице.
Ларри открыл дверь. На пороге возникла фигура убитого горем извозчика.
— Где мой каррокино? — крикнул он.
— Где вы были? — спросил Ларри. — Господа забрали его.
— Они украли мой каррокино? — воскликнул извозчик.
— Нет, конечно, они и не думали красть его, глупец, — сказал Ларри, теряя терпение. — Вы не дождались их здесь, вот они и сели в него и уехали обратно в город. Если вы быстро побежите, сможете их догнать.
Взывая к святому Спиридиону о помощи, извозчик бросился через оливковую рощу к дороге.
Решив до конца досмотреть этот спектакль, я спешно занял выгодную позицию, откуда можно было ясно видеть начало взъезда к нашему дому и часть освещенной луной дороги, ведущей в город. Экипаж только что съехал вниз по взъезду и резво выкатился на дорогу. Дональд и Макс весело распевали. В этот момент извозчик выскочил из оливковой рощи и, изрыгая проклятия, бросился за ними.
Макс испуганно посмотрел через плечо.
— Волки, Дональд! — крикнул он. — Держись! — И он принялся с такой силой обрабатывать злополучный зад лошади, что она, испугавшись, перешла в галоп. Но это был галоп, каким бегают только извозчичьи лошади в Корфу, позволивший владельцу экипажа бежать за ним изо всех сил на расстоянии десяти шагов. Извозчик кричал, умолял и чуть ли не плакал от ярости. Макс, полный решимости во что бы то ни стало спасти Дональда, безжалостно погонял лошадь, а Дональд, перегнувшись через задок экипажа, время от времени выкрикивал: «Трах!» Так они и исчезли из моих глаз по дороге в Корфу.
Наутро за завтраком все мы чувствовали себя несколько разбитыми, а мама сурово отчитывала Ларри за то, что он позволяет своим дружкам являться в дом для выпивки в два часа ночи. Как раз в этот момент перед домом остановился автомобиль, из него вылез Спиро и, держа в руках огромный плоский сверток в коричневой бумаге, вразвалку направился к веранде, где мы сидели.
— Это для вас, миссис Даррелл, — сказал он.
— Для меня? — переспросила мама, поправляя очки. — Что это может быть?
Она осторожно развернула коричневую упаковку, и там, внутри, оказалась нарядная и такая большущая коробка шоколадных конфет, каких я в жизни своей не видывал. К ней была приколота маленькая белая карточка, на которой изрядно трясущейся рукой было написано: «С извинениями за минувшую ночь. Дональд и Макс».

Глава восьмая
Совы и аристократия

Наступила зима. Все вокруг пропахло дымом горящего оливкового дерева. Ставни скрипели и хлопали по бокам домов, когда ветер принимался за них, а птиц и листья беспорядочно швыряло по темному, низко нависшему небу. Коричневые горы на материке надели клочкастые снежные шапки, дождь затоплял выветренные каменистые долины, превращая их в пенящиеся потоки, которые неудержимо устремлялись к морю, унося с собой грязь и мусор. Достигнув моря, они пронизывали желтыми прожилками голубую воду, и вся поверхность была усеяна луковицами морского лука, бревнами и изгибистыми сучьями, мертвыми жуками и бабочками, пучками бурой травы и расщепленного тростника. Бури назревали среди побеленных пиков албанских гор и затем обрушивались на нас; огромные черные нагромождения туч изрыгали жгучий дождь, рассеянные вспышки молний расцветали и умирали, как желтые папоротники, на небе.
В начале зимы я получил письмо.
«Дорогой Джеральд Даррелл!
Насколько мне известно от нашего общего друга доктора Стефанидеса, Вы страстный натуралист и держите ручных животных. Вот почему мне подумалось, что Вы, возможно, захотите приобрести белую сову, найденную моими работниками в старом сарае, который они сносили. К сожалению, у нее сломано крыло, в остальном же она совершенно здорова и хорошо ест.
Если мое предложение Вам понравится, я приглашаю Вас на завтрак в пятницу, и Вы заберете ее, возвращаясь домой. Надеюсь, Вы будете столь любезны, что дадите мне знать. Без четверти час будет самым подходящим временем.
Искренне Ваша
графиня Мавродаки».
Это письмо взволновало меня по двум причинам. Во-первых, потому, что я давно мечтал о сипухе, а речь шла явно о ней, во-вторых, потому, что все светское общество на Корфу годами безуспешно пыталось познакомиться с графиней. Она была по натуре отшельницей. Невероятно богатая, она жила на отшибе в огромной, пришедшей в упадок вилле в венецианском стиле и никогда не принимала и не видела никого, кроме работников своего обширного поместья. Ее знакомство с Теодором ограничивалось тем, что он давал ей медицинские советы.
По слухам, графиня владела большой ценной библиотекой, по каковой причине Ларри всячески домогался приглашения побывать у нее на вилле, но безуспешно.
— Бог мой, — с горечью молвил он, когда я показал ему приглашение, — я месяцами добивался разрешения у этой старой гарпии взглянуть на ее книги, и вот, пожалуйста, — она приглашает тебя на завтрак. Где справедливость?
Я сказал, что, быть может, позавтракав с графиней, я спрошу у нее, нельзя ли ему посмотреть ее книги.
— Вряд ли после завтрака с тобой, она соизволит показать мне хотя бы номер «Таймс», не говоря уж о библиотеке, — сказал Ларри, испепеляя меня взглядом.
Как бы то ни было, вопреки столь низкому мнению моего брата насчет моих светских манер я решил замолвить за него словечко, если подвернется такая возможность. Я понимал, что предстоит важное, если не сказать торжественное, событие, и поэтому оделся с особым тщанием. Моя рубашка и шорты были аккуратнейшим образом выстираны, и я уговорил маму купить мне пару новых сандалий и новую соломенную шляпу. Я поехал на Салли, на которую вместо седла набросили новое одеяло, ибо до поместья графини было довольно далеко.
День выдался пасмурный, земля размякла. Похоже было, нас застигнет буря, но я надеялся, что это случится не ранее, чем я достигну места назначения: дождь испортил бы хрусткую белизну моей рубашки. Пока мы трусили через оливковые рощи и из миртовых кущ перед нами время от времени с гудением взлетали вальдшнепы, мною все больше овладевало волнение. Мне казалось, что я плохо подготовился к такому визиту. Начать с того, что я забыл захватить с собой заспиртованного четырехногого цыпленка. Я был уверен, что графине было бы небезынтересно увидеть его, и, во всяком случае, он мог бы составить предмет разговора и помочь нам преодолеть неловкость первых минут знакомства. И второе: я забыл посоветоваться с кем-либо насчет того, как следует величать графиню. «Ваше величество», думалось мне, безусловно будет слишком формальным, особенно если учесть, что она отдавала мне сову. Возможно, «ваше высочество» было бы лучше, а то и просто «мадам»? Ломая голову над хитросплетениями этикета, я предоставил Салли самой себе, и она тотчас стала клевать носом. Из всех животных, предназначенных для верховой езды, только ослы, по-видимому, способны спать на ходу. Результат не заставил себя ждать: Салли уклонилась к самой придорожной канаве, споткнулась, покачнулась, и я, всецело погруженный в свои мысли, свалился в грязную воду шести дюймов глубиной. Салли уставилась на меня с видом укоризненного изумления, которое она напускала на себя всякий раз, когда чувствовала за собой вину. От ярости я готов был задушить ее. Из моих новых сандалий сочилась грязная жижа, мои шорты и рубаха — за минуту перед тем такая хрусткая, чистая, свидетельствующая о благонравии — были обляпаны грязью и обрывками гниющих водных растений. Я чуть не плакал от неистовства, от крушения всех моих надежд. Мы отъехали слишком далеко от дома, чтобы можно было вернуться и переодеться, оставалось одно: двигаться дальше, промокшим и жалким, теперь уже уверенным, что не важно, как величать графиню. Она, я не питал иллюзий на этот счет, лишь взглянет на мое цыганское обличье и велит мне убираться домой. И я не только потеряю сову, но и шанс протащить Ларри в ее библиотеку. «Какой же ты дурак, — с горечью думал я. — Нужно было идти пешком, а не доверяться этой злосчастной скотине, которая теперь резво рысила, навострив уши, похожие на пушистый кукушечий арум».
Вскоре мы достигли владений графини; вилла стояла в глубине оливковых рощ, к ней вела подъездная аллея с высокими зелеными и розовоствольными эвкалиптами. Въезд в аллею охраняли два белокрылых льва на колоннах, презрительно глядевшие на нас с Салли, трусивших вниз по аллее. Дом был огромный, построенный в виде квадрата с внутренним двориком. Когда-то он был выкрашен приятным для глаза ярким венецианским кармином, но с течением времени краска поблекла до бледно-розовой, штукатурка местами вспучилась и растрескалась, и, как я заметил, кое-где на крыше не хватало коричневых черепиц. Под стрехами лепилось больше ласточкиных гнезд — ныне пустующих и похожих на маленькие заброшенные коричневые печки, — чем мне когда-либо приходилось видеть собранными в одном месте.
Я привязал Салли к дереву и подошел к проходу под аркой, который вел во внутренний двор. Тут висела ржавая цепь, и, дернув за нее, я услышал, как где-то в недрах дома слабо звякнул колокольчик. Некоторое время я терпеливо выжидал и уже готов был снова позвонить, но тут массивные деревянные двери открылись. Моим глазам предстал человек, озиравший меня совсем как законченный бандит. Он был высок ростом и дюж, с большим торчащим ястребиным носом, раскидистыми пышными белыми усами и гривой вьющихся седых волос. На нем был красный тарбуш, свободная белая куртка, красиво расшитая алой и золотой канителью, мешковатые плиссированные черные штаны, а на ногах чаруки с загнутыми вверх носами, украшенные огромными красными и белыми помпонами. По его смуглому лицу пошли морщины, собравшиеся в ухмылку, и я увидел перед собой полный рот золотых зубов. Прямо как на монетном дворе, подумалось мне.
— Кирие Даррелл? — спросил он. — Добро пожаловать.
Я прошел за ним в дом через внутренний дворик, полный магнолий и заброшенных зимних клумб. Он направился вниз по длинному коридору, выложенному красным и синим кафелем, распахнул какую-то дверь и ввел меня в просторную мрачную комнату, от пола до потолка заставленную книжными полками. В одном ее конце располагался большой камин, в котором плясали, шипели и потрескивали языки пламени. Над камином висело огромное зеркало в золотой раме, почти почерневшее от времени. На длинной кушетке у огня, почти совсем затерявшись в цветастых шалях и подушках, сидела графиня.
Она была нисколько не похожа на то, что я ожидал увидеть. Я воображал ее себе высокой, сухопарой, довольно-таки грозной женщиной, но когда она вскочила на ноги и танцующей походкой прошла через комнату ко мне, я увидел перед собой крошечную, очень толстую женщину с ямочками на розовых щеках — ни дать ни взять розовый бутон. Ее медового цвета волосы были высоко взбиты в стиле «помпадур», а глаза под изогнутыми как бы в удивлении бровями были ярко-зеленые, как незрелые оливки. Она схватила мою руку теплыми пухлыми маленькими ручками и прижала ее к своей пространной груди.
— Как мило, о, как мило, что вы приехали! — воскликнула она мелодичным голосом маленькой девочки, источая в равных количествах ошеломляющий запах пармских фиалок и бренди. — Как мило, о, как мило! Можно я буду звать вас Джерри? Разумеется, можно. Мои друзья зовут меня Матильда… Разумеется, это не мое настоящее имя. Мое настоящее имя Стефани Зиния… такое неуклюжее, как у патентованного лекарства. Мне больше нравится Матильда, а вам?
Я осторожно заметил, что, на мой взгляд, Матильда очень красивое имя.
— Да, утешительное старомодное имя. Имена так важны, как по-вашему? А вот он, — сказала она, поводя рукой в сторону человека, который ввел меня, — он зовет себя Деметриос. Я же зову его Мустафа.
Она взглянула на Мустафу и подалась вперед, едва не удушив меня запахом бренди и пармских фиалок, и вдруг прошипела по-гречески:
— Он незаконнорожденный турок.
Лицо Мустафы налилось краской, а усы встопорщились, придавая ему еще более бандитский вид.
— Я не турок, — огрызнулся он. — Вы врете.
— Ты турок, и тебя зовут Мустафа, — отозвалась графиня.
— Меня не… Я не… Меня не… Я не… — бессвязно лепетал слуга вне себя от ярости. — Вы врете.
— Не вру.
— Врете.
— Не вру.
— Врете.
— Не вру.
— Вы старая чертова врушка.
— Старая! — взвилась она, и ее лицо покраснело. — Как ты смеешь называть меня старой!.. Ты… ты турок.
— Вы старая и жирная, — холодно отозвался Деметриос-Мустафа.
— Ну, это уж слишком! — пронзительно вскрикнула она. — Старая… жирная… Это уже слишком. Ты уволен. Предупреждаю тебя за месяц. Нет, уходи сейчас же, сын незаконнорожденного турка.
Деметриос-Мустафа выпрямился с царственным видом.
— Очень хорошо, — сказал он, — желаете ли вы, чтобы я подал завтрак и напитки, прежде чем уйти?
— Разумеется, — ответила графиня.
Он молча пересек комнату и извлек бутылку шампанского из ведерка со льдом позади кушетки, открыл ее и налил равные порции бренди и шампанского в три больших бокала. Подал нам по бокалу, а третий поднял сам.
— Предлагаю тост, — торжественно обратился он ко мне. — Выпьем за здоровье жирной старой врушки.
Я не знал, как поступить. Выпей я за этот тост, создалось бы впечатление, будто я разделяю его мнение насчет графини, а это было бы вряд ли вежливо; с другой стороны, если бы я отказался, слуга, похоже, был вполне способен отколотить меня. Я заколебался, как вдруг графиня, к моему изумлению, радостно захихикала, и на ее жирненьких щечках обозначились очаровательные ямочки.
— Не смей дразнить нашего гостя, Мустафа. Но не могу не признать, что тост хорош, — сказала она, единым духом осушая бокал.
Деметриос-Мустафа ухмыльнулся мне, блестя зубами в отблесках пламени.
— Пейте, кирие, — сказал он. — Не обращайте на нас внимания. Она живет для того, чтобы есть, пить и склочничать, и моя обязанность — доставлять ей все это.
— Глупости, — сказала графиня, хватая меня за руку и подводя к кушетке, так что я почувствовал себя словно пристегнутым к маленькому жирному розовому облачку. — Глупости, я живу ради множества вещей, ради множества вещей. Ну, а ты не стой столбом, пьяница, выпивоха за мой счет. Поди позаботься о закуске.
Деметриос-Мустафа осушил свой бокал и вышел из комнаты. Графиня уселась на кушетку, сжимая мою руку в своих руках и лучезарно улыбаясь мне.
— Здесь так уютно, — радостно сказала она. — Только вы да я. Скажите, вы всегда ходите в такой заляпанной грязью одежде?
Я поспешно и сбивчиво объяснил, в чем дело.
— Так вы приехали на осле, — сказала она таким тоном, как будто осел Бог весть какое необыкновенное средство передвижения. — Очень разумно с вашей стороны. Я сама не доверяю автомобилям, они такие шумные и непослушные. Ненадежные. Помнится, когда мой муж был еще жив, у нас был автомобиль, такой большой, желтый. Но, Господи, это был сущий зверь. Он слушался мужа, но не желал слушаться меня. Однажды он мне назло наехал задним ходом на большой ларек с фруктами и овощами — несмотря на все мои старания остановить его, — а потом съехал с причала в море. Когда я вышла из больницы, я сказала мужу: «Генри», — сказала я, — так его звали — милое, буржуазное имя, не правда ли? Так на чем я остановилась? Ах, да. «Генри, — сказала я, — это злая машина. Она одержима злым духом. Ты должен продать ее». Так он и сделал.
Бренди и шампанское на пустой желудок вкупе с теплом донельзя разморили меня. Я испытывал приятное головокружение, кивал и улыбался, а графиня продолжала болтать.
— Мой муж был очень культурный человек, право, очень культурный. Он, знаете ли, собирал книги. Книги, картины, почтовые марки, металлические крышки от пивных бутылок, его влекло все, что имеет отношение к культуре. Перед самой смертью он начал собирать бюсты Наполеона. Вы бы поразились, сколько сделано бюстов этого ужасного маленького корсиканца. У моего мужа их было пятьсот восемьдесят два. «Генри, — сказала я ему, — Генри, пора остановиться. Либо ты кончишь собирать бюсты Наполеона, либо я оставлю тебя и уеду на Святую Елену». Я сказала это в шутку, только в шутку, и вы знаете, что он мне ответил? Он ответил, что собирается отправиться на отдых на Святую Елену — со всеми своими бюстами. Боже мой, какая приверженность! Это было невыносимо! Я согласна, чуточку культуры — это уместно, но нельзя же быть одержимым ею.
В комнату вошел Деметриос-Мустафа, наполнил наши бокалы и сказал:
— Завтрак будет через пять минут.
— Он был, если можно так выразиться, коллекционером по велению сердца, мой дорогой. Подумать только, как я дрожала всякий раз, когда видела этот фанатический блеск в его глазах! Однажды на окружной ярмарке он увидел комбайн, во-о-о какой огромный. Глаза у него загорелись, но уж тут я решительно воспротивилась. «Генри, — сказала я ему, — Генри, мы не станем загромождать все поместье комбайнами. Если тебе так уж необходимо, почему бы не коллекционировать что-нибудь разумное? Драгоценные камни, меха или еще что-либо в этом роде?» Господи, возможно, это была резкость с моей стороны, но что я могла поделать? Если бы я хоть на минуту расслабилась, он бы набил весь дом сельскохозяйственными орудиями.
В комнату снова вошел Деметриос-Мустафа.
— Завтрак готов, — сказал он.
Не переставая болтать, графиня вывела меня за руку из комнаты, и мы прошли выложенным изразцами коридором вниз по скрипящей лестнице в огромную кухню в подвальном помещении. На нашей вилле кухня тоже была достаточно велика, но по сравнению с этой она выглядела просто карликом. Эта кухня была вымощена каменными плитами, и в одном ее конце под булькающими котелками пылал и мерцал целый ряд костров из древесного угля. Стены были увешаны множеством медных котелков, чайников, блюд, кофейников, огромных сервировочных подносов и супниц. Все они светились розово-красным в отблесках пламени, ярко блестя и мерцая, словно жуки-скакуны. Посреди кухни стоял обеденный стол превосходно отполированного орехового дерева футов двенадцати длиной. Он был безукоризненно накрыт на две персоны — белоснежные салфетки, сверкающие столовые приборы. Два гигантских серебряных канделябра в центре стола возносили вверх белый лес зажженных свечей. Кухня, она же парадная столовая, производила поистине необыкновенный эффект. Здесь было очень жарко и столько вкусных запахов, что они почти забивали благоухания, исходящие от графини.
— Надеюсь, вы не имеете ничего против завтрака в кухне, — сказала графиня таким тоном, как будто и впрямь не было ничего унизительнее трапезы в таком скромном окружении.
Я ответил, что, по-моему, есть в кухне в высшей степени разумно, особенно зимой — так теплее.
— Совершенно верно, — сказала графиня, усаживаясь на стул, который поддерживал Деметриос-Мустафа. — К тому же, если бы мы ели наверху, меня б засыпал жалобами этот старый турок — ему, видите ли, далеко ходить.
— Я жалуюсь не на расстояние, а на количество еды, которую мне приходится таскать, — сказал Деметриос-Мустафа, разливая по бокалам светлое зеленовато-золотистое вино. — Если б вы не ели столько, все было бы не так плохо.
— А, кончай с жалобами и начинай подавать, — плаксиво сказала графиня, тщательно засовывая салфетку под свой подбородок с ямочкой.
Набравшись шампанского и бренди, я довольно сильно опьянел и был голоден как волк. Я в тревоге озирал орудия еды, лежавшие рядом с моей тарелкой, не зная, какое пустить в ход первым. Мне вспомнилось любимое мамино изречение: «Начинай снаружи и забирайся вглубь», но я все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Надо выждать и посмотреть, что первым возьмет графиня, а затем последовать ее примеру. Это было неразумное решение, ибо вскоре обнаружилось, что она с утонченным безразличием брала какой попало нож, вилку или ложку, так что вскоре я совсем сбился с толку и стал поступать так же.
Первое блюдо, которое Деметриос-Мустафа поставил перед нами, был превосходный прозрачный суп с крохотными золотистыми блестками жира и гренками с ноготь величиной, плававшими, словно хрупкие маленькие плоты по янтарному морю. Он был необыкновенно вкусен, и графиня взяла две порции, хрумкая гренки с таким звуком, будто кто-то ступал по хрустким листьям. Деметриос-Мустафа вновь наполнил наши бокалы прозрачным, отдающим мускусом вином и поставил перед ними деревянную тарелку с крохотными обжаренными рыбками, покрытыми золотисто-коричневой корочкой. Их сопровождали большое блюдо с желто-зелеными ломтиками лимона и соусник, доверху наполненный каким-то незнакомым мне экзотическим соусом. Графиня навалила на свою тарелку гору рыбы, залила ее лавовым потоком соуса, затем обильно спрыснула лимонным соком рыбу, стол и себя. Она улыбнулась мне лучезарной улыбкой, и ее лицо теперь приобрело ярко-розовый цвет, а на лбу выступили бисеринки пота. Чудовищный аппетит, казалось, нисколько не умерял ее способности вести разговор, ибо она без умолку болтала.
— Как вам нравятся эти маленькие рыбки? Божественно! Разумеется, очень печально, что им суждено умереть столь молодыми, но что поделаешь. Какое наслаждение есть их целиком, нисколько не думая о костях! Вот уж воистину облегчение! Генри, мой муж, знаете ли, однажды начал коллекционировать скелеты. Господи Боже, дом выглядел и пах, как морг. «Генри, — сказала я ему, — Генри, этому должен быть положен конец. В тебе взыграло нездоровое желание смерти. Ты должен показаться психиатру».
Деметриос-Мустафа забрал пустые тарелки, налил нам красного вина, темного, как сердце дракона, а затем поставил перед нами блюдо бекасов — причем головки были свернуты таким образом, что длинные клювы как бы пронзали их самих, а пустые глазницы обвиняюще глядели на нас. Они были пухленькие и поджаристые, и у каждого сбоку подрумяненный кусочек хлеба. Их, словно вороха осенних листьев, окружали тоненькие ломтики жареного картофеля, бледные зеленовато-белые свечи спаржи и зеленый горошек.
— Я просто не в состоянии понять вегетарианцев, — сказала графиня, энергично молотя вилкой по головке бекаса, чтобы сокрушить ее и добраться до мозга. — Генри однажды пытался стать вегетарианцем. Можете в это поверить? Но для меня это было невыносимо. «Генри, — сказала я ему, — этому должен быть положен конец. У нас в кладовке достаточно еды, чтобы накормить целую армию, и я не могу справиться с ней одна». Представьте себе, дорогой, я только что заказала два десятка зайцев. «Генри, — сказала я, — тебе придется расстаться с этой глупой причудой».
Мне пришло на ум, что, судя по всему, Генри, хоть и был самую малость несносным мужем, тем не менее прожил жизнь, полную несбывшихся надежд.
Деметриос-Мустафа убрал остатки бекасов и налил нам еще вина. Я чувствовал, как меня начинает раздувать от еды, и уповал лишь на то, что ее последует не слишком много. Но рядом с моей тарелкой по-прежнему находилось целое войско неиспользованных ножей, вилок и ложек, вот почему я с тревогой наблюдал, как Деметриос-Мустафа направляется к нам через мрачную кухню с огромным блюдом в руках.
— А! — сказала графиня, в волнении воздев свои пухленькие ручки. — Главное блюдо! Что это такое, Мустафа, что это такое?
— Дикий кабан, присланный Макрояннисом, — ответствовал Деметриос-Мустафа.
— О, кабан! Кабан! — пронзительно вскрикнула графиня, охватывая руками свои жирненькие щечки. — О, как чудесно! Я совсем забыла про него. Надеюсь, вы любите кабанину?
Я ответил, что это один из моих любимых видов мяса, и это было истинно так. Но, пожалуйста, только самый маленький кусочек.
— Ну конечно, — сказала она, склоняясь над большущим поджаристо-коричневым сочным окороком и отрезая от него толстые розовые ломти. Три из них она положила на тарелку — явно полагая, что это и есть, по любым меркам, маленький кусочек, — а затем принялась гарнировать их. Гарниром служили очаровательные маленькие золотистые лесные грибы-лисички с тонким, почти винным вкусом; крохотные кабачки, фаршированные каперсами со сметаной; картофелины, запеченные в мундире, аккуратно разрезанные и смазанные маслом; морковки, красные, как морозное зимнее солнце, и большие древесные стволы белого лука-порея, тушенного в сливках. Обозрев все это блюдо съестного, я украдкой расстегнул три верхние пуговицы на шортах.
— Мы ели столько кабанины, когда Генри был жив. Видите ли, он ездил стрелять кабанов в Албанию. А теперь кабанина у нас в редкость. Какое же это наслаждение! Хотите еще грибов? Нет? Ну и отлично. Теперь, я думаю, нам следует сделать передышку. Передышка, как я неизменно полагаю, необходима для хорошего пищеварения, — сказала графиня и наивно добавила: — К тому же она дает возможность съесть еще больше.
Кабанина, хорошо вымоченная в вине с запахом какой-то травы и нашпигованная чесноком, благоухала и исходила соком, но все равно я едва одолел ее. Графиня же съела две порции равных объемов, после чего откинулась на спинку стула с лицом, залитым бледной красновато-коричневой краской, и отерла пот со лба совсем не подходящим для этой цели кружевным платком.
— Передышка, да? — улыбаясь мне, произнесла она заплетающимся языком. — Передышка, чтобы собраться с силами.
Я не ощущал в себе сил, с которыми можно было бы собраться, но предпочел умолчать об этом. И только кивнул, улыбнулся в ответ и расстегнул остальные пуговицы на шортах.
Во время передышки графиня курила длинную тонкую манильскую сигару и ела соленые орешки, без умолку болтая о своем муже. Передышка пошла мне на пользу — мне уже не так хотелось спать и я стал более непринужденным. Когда графиня в конце концов решила, что мы дали достаточный отдых нашим внутренним органам, и потребовала следующее блюдо, Деметриос-Мустафа принес два по-божески маленьких омлета с хрустящей коричневой корочкой снаружи и жидкие и сочные внутри, начиненные крошечными розовыми креветками.
— Что у тебя на десерт? — с полным ртом спросила графиня.
— Я ничего не готовил, — ответил Деметриос-Мустафа.
Глаза графини округлились и застыли.
— Ты не приготовил десерт? — сказала она голосом, в котором прорывались нотки ужаса, как будто слуга сознавался в каком-то гнусном преступлении.
— Я не успел, — сказал Деметриос-Мустафа. — Вы не вправе требовать от меня, чтобы я и обед приготовил, и сделал всю работу по дому.
— Но обойтись без сладкого! — в отчаянии проговорила графиня. — Завтрак без сладкого — это невозможно.
— Я купил немного меренг, — сказал Мустафа. — Придется удовольствоваться ими.
— О, как чудесно! — сказала графиня, вновь сияющая и счастливая. — Это как раз то, что нужно.
Мне это было вовсе не нужно. Меренги были большие и белые, хрупкие, как коралл, с льющимся через край кремом. Вот когда я пожалел, что не взял с собой Роджера, — он мог бы сидеть под столом и поглотить половину того, что мне предлагалось, поскольку графиня была слишком занята собственной тарелкой и собственными воспоминаниями, чтобы по-настоящему сосредоточиться на мне.
— Ну как? — спросила она наконец, проглотив последний кусок меренги и смахивая с подбородка белые крошки. — Ну как, вы насытились? Или не возражаете съесть чуточку чего-нибудь еще? Скажем, фруктов? Правда, в это время года их не так уж много.
Я сказал: нет, большое спасибо, я вполне сыт.
Графиня вздохнула и проникновенно взглянула на меня. Я уверен, ничто не доставило бы ей большего удовольствия, чем напичкать меня еще двумя-тремя блюдами.
— Вы едите недостаточно, — сказала она. — В вашем возрасте мальчикам следует есть больше. Вы слишком худы. Ваша матушка кормит вас как следует?
Представляю себе, как разгневалась бы мама, услышав эту инсинуацию. Я сказал да, мама превосходно готовит и все мы питаемся роскошно.
— Рада слышать это, — сказала графиня. — Но все равно вы кажетесь мне чуточку изможденным.
Я не мог произнести этого вслух, но причиной тому, что я начал выглядеть изможденным, было покушение съеденной пищи на мой желудок: оно уже давало себя знать. Я объяснил как можно вежливее, что мне, пожалуй, пора трогаться в обратный путь.
— Ну конечно же, мой дорогой, — сказала графиня. — Боже мой, уже четверть пятого. Как летит время!
Она вздохнула при мысли об этом, затем ее лицо заметно просветлело.
— Как бы то ни было, теперь почти время пить чай. Вы и в самом деле не хотите задержаться и съесть чего-нибудь еще?
Я сказал: нет, мама будет беспокоиться обо мне.
— Так, дайте мне подумать, — сказала графиня. — За чем же вы пришли? Ах да, за совой. Мустафа, принеси мальчику сову, а мне кофе и тех чудесных турецких сладостей, что в гостиной.
Мустафа появился с картонной коробкой, перевязанной бечевкой, и вручил ее мне.
— Я бы не стал открывать ее, пока не добрался бы домой, — сказал он. — Она совсем дикая.
При мысли, что, если я не поспешу с отъездом, графиня пригласит меня разделить с ней турецкие сладости, я пришел в ужас, а посему сердечно поблагодарил обоих за сову и откланялся.
— Ну что ж, — сказала графиня. — Очень мило было встретиться с вами, право, очень мило. Вы должны непременно приехать еще — лучше всего весной или летом, когда у нас выбор фруктов и овощей побогаче. Мустафа умеет приготовить осьминога так, что он просто тает во рту.
Я заверил ее, что чрезвычайно охотно приеду еще, отметив про себя, что, если на это решусь, заблаговременно поголодаю дня три.
— Вот, — сказала графиня, всовывая апельсин мне в карман, — возьмите это. На случай, если вы проголодаетесь в пути.
Когда я взобрался на Салли и мы потрусили рысцой вниз по подъездной аллее, она крикнула:
— Езжайте поосторожнее!
С серьезным выражением лица, прижав сову к груди, я сидел на Салли, пока мы не выехали за ворота поместья. Но вскоре тряска, которую я претерпевал, стала непереносимой. Я спешился, зашел за оливковое дерево, и там меня основательно вывернуло наизнанку, после чего я почувствовал себя гораздо лучше.
Добравшись домой, я пронес сову наверх в свою спальню, открыл коробку и высадил трепыхающуюся, щелкающую клювом сову на пол. Собаки, собравшиеся вокруг нас посмотреть на мое новое приобретение, поспешно отступили назад. Они знали, на что способен Улисс в дурном расположении духа, а эта сова была втрое больше его. Она показалась мне одной из самых красивых птиц, каких мне доводилось видеть. Перья на ее спине и крыльях были золотистые, как пчелиные соты, с бледными пепельно-серыми пятнами; грудка сплошь кремово-белая, а маска из белых перьев вокруг темных, до странности восточного типа глаз резко очерчена и такая накрахмаленная с виду, как круглый плоеный жесткий воротник Елизаветинской эпохи.
Крыло ее было не в таком плохом состоянии, как я опасался. Оно было сломано, но без нагноения, и после получасовой борьбы, в течение которой сова несколько раз сумела пустить кровь, мне, к моему удовлетворению, удалось взять крыло в лубок. Сова — я решил назвать ее Лампадуза просто потому, что это имя мне нравилось, — по всей видимости, испытывала воинственный ужас перед собаками, решительно не желала подружиться с Улиссом и с нескрываемым отвращением взирала на Августуса Пощекочи-Брюшко. Мне казалось, что ей будет лучше, если она обоснуется в каком-нибудь темном, уединенном уголке, поэтому я отнес ее на чердак. Там была совсем крохотная комнатка с маленьким окошком, до того грязным и затянутым паутиной, что оно едва пропускало свет. В ней было покойно и сумрачно, как в пещере, и я рассчитывал, что здесь Лампадуза окончательно выздоровеет. Я ссадил ее на пол, поставил перед ней большое блюдце с рубленым мясом и хорошенько запер дверь, чтобы никто ее не потревожил. Вечером, когда я пришел навестить сову, захватив с собой мертвую мышь в качестве подарка, она как будто чувствовала себя значительно лучше. Во всяком случае, она съела бóльшую часть мяса и теперь шипела и щелкала на меня клювом, с частым легким постукиванием бегая по полу, распустив крылья и глядя на меня горящими глазами. Обрадованный ее явными успехами, я оставил сову с мышью и улегся спать.
Несколько часов спустя меня разбудили голоса, доносящиеся из маминой комнаты. Теряясь со сна в догадках, что может делать семья в столь поздний час, я встал с постели, высунул голову из двери спальни и прислушался.
— Говорю вам, это ужас какой огромный домовой, — сказал Ларри.
— Это не может быть домовой, милый, — сказала мама. — Домовые бросаются вещами.
— Ну кто бы то ни был, он звякает цепями там наверху, — заявил Ларри, — и я хочу, чтоб его изгнали. Вы с Марго слывете знатоками загробной жизни. Так вот, поднимитесь наверх и избавьте нас от него.
— Я не пойду наверх, — дрожащим голосом сказала Марго. — Это может быть все что угодно. Это может быть злой дух.
— Он чертовски злой, это верно, — согласился Ларри. — Вот уже час, как он не дает мне заснуть.
— Ты уверен, что это не ветер или еще что-нибудь, милый? — спросила мама.
— Мне кажется, я умею отличить ветер от треклятого привидения, что играет по всему дому цепями с ядрами, как на ноге каторжника, — ядовито произнес Ларри.
— А может, это воры? — спросила Марго скорее для того, чтобы придать себе уверенности, чем для чего-либо другого. — Может, это воры и надо разбудить Лесли?
Спросонок да к тому же еще слегка осоловелый от спиртного, выпитого у графини, я никак не мог взять в толк, о чем речь. Ситуация казалась не менее интригующей, чем все прочие конфликты, которые мои родные горазды были провоцировать в самые неподходящие часы дня и ночи, посему я подошел ближе и заглянул в дверь. Ларри прохаживался по комнате взад-вперед, при этом его халат царственно шелестел.
— Что-то надо предпринять, — сказал он. — Я не могу спать, когда у меня над головой звякают цепями, а если я не высплюсь, я не могу писать.
— Не понимаю, чего ты ожидаешь от нас, говоря, что надо что-то предпринять, милый, — сказала мама. — Я уверена, что это ветер.
— Да, ты не вправе ожидать, чтобы мы пошли наверх, — заметила Марго. — Ты мужчина, ты и иди.
— Послушай, — сказал Ларри, — ведь это ты вернулась из Лондона вся в эктоплазме, с разговорами о бесконечном. Очень может быть, это какое-нибудь исчадие ада, которое ты вызвала во время одного из своих сеансов, и оно последовало за тобой. Выходит, это твой любимчик. Вот и иди, управляйся с ним.
При слове «любимчик» я вздрогнул. Неужели это Лампадуза? Как у всех сов, крылья у сипух мягкие и бесшумные, словно зонтики одуванчика. Нет, не может быть, чтобы это она производила шум, похожий на грохотанье цепи на ноге каторжника.
Я вошел в комнату и осведомился, о чем они все толкуют.
— Это всего только привидение, милый, — утешительно сказала мама. — Ларри обнаружил привидение.
— Оно на чердаке, — возбужденно пояснила Марго. — Ларри утверждает, оно последовало за мной из Англии. Уж не Мауэйк ли это?
— Ну, мы не будем ворошить прошлое, — твердо сказала мама.
— Мне безразлично, кто это, — заявил Ларри. — Какой именно из ваших лишенных телесной оболочки друзей. Я хочу, чтобы его убрали.
Я сказал, что, быть может, это Лампадуза, хотя на этот счет у меня очень большие сомнения.
— А что это такое? — осведомилась мама.
Я объяснил, что это сова, которую мне подарила графиня.
— Я должен был это предвидеть, — сказал Ларри. — Должен был предвидеть. Не знаю, почему это сразу не пришло мне в голову.
— Ну-ну, милый, — сказала мама. — Это всего-навсего сова.
— Всего-навсего сова! — возмутился Ларри. — Она грохочет там наверху, как целый танковый батальон. Скажи ему, чтобы он убрал ее с чердака.
Я сказал, что мне и самому непонятно, почему Лампадуза подняла такой шум, — ведь совы тишайшие создания… Они парят ночью на бесшумных крыльях, как хлопья пепла…
— Ну у этой нет бесшумных крыльев, — сказал Ларри. — Эта гремит, словно целый совиный джаз. Поди и выкинь ее!
Я поспешно взял фонарь и поднялся на чердак. Открыв дверь, я сразу понял, в чем дело: Лампадуза уничтожила мышь, после чего обнаружила длинный обрезок мяса в своем блюдце. За долгий жаркий день мясо затвердело и присохло к донышку блюдца. Лампадуза, решив, что этот кусок мяса послужит ей легкой закуской, позволяющей дожить до рассвета, всячески пыталась оторвать его от блюдца. И хотя ее острый, изогнутый, янтарного цвета клюв вошел в мясо, оно никак не желало расставаться с блюдцем. Теперь Лампадуза, угодив в ловушку, безуспешно хлопала крыльями и бегала по полу, гремя и звеня блюдцем по деревянным доскам в попытках отделаться от него. Я высвободил сову из затруднительного положения, принес ее в мою спальню и для верности заключил в картонную коробку.

Часть четвертая Кризеда
Глава девятая
Ежи и морские волки

С наступлением весны мы перебрались на новую виллу, элегантную и белоснежную, затененную огромной магнолией и расположенную среди оливковых рощ неподалеку от нашего первого дома. Она стояла на склоне холма, господствуя над плоской обширной местностью, размеченной наподобие гигантской шахматной доски оросительными канавами, между которыми, как я знал, были поля. В сущности, это были старые венецианские варницы, в старину в них собирали соленую воду, устремлявшуюся в канавы из большого соленого озера, к берегам которого они выходили. Озеро давным-давно заилилось, и канавы, ныне затопляемые пресной водой с холмов, служили отличной оросительной системой для покрытых бурной растительностью полей. Здесь в изобилии водилась всякая живность, и поэтому эта местность была для меня одним из излюбленных уголков.
Весна на Корфу никогда не бывает затяжной. Словно бы совершенно внезапно зимние ветры сдувают с неба облака, так что оно сияет ясно-голубым, как живокость, светом, и так же внезапно зимние дожди затопляют долины дикорастущими цветами; розовые пирамидальные орхидеи, желтые крокусы, длинные бледные колоски златоцветника, голубые глаза гадючьего лука смотрят на тебя из травы, и словно окунутые в вино ветреницы склоняются под малейшим дуновением ветерка. Ожившие оливковые рощи полнятся шорохами прилетевших птиц; лососево-розовые с черным удоды с удивленно приподнятыми гребешками тычут свои длинные изогнутые клювы в мягкую землю между кустиками изумрудно-зеленой травы; щеглы в золотисто-алом и черном оперении, трезвоня и присвистывая, весело, словно танцуя, перескакивают с ветки на ветку. Вода в оросительных канавах зеленеет от водорослей, переплетенных низками лягушачьей икры наподобие ожерелий из черного жемчуга; изумрудно-зеленые лягушки квакают друг на друга; пресноводные черепахи с черными, как эбеновое дерево, панцирями вскарабкиваются на берег, чтобы вырыть нору и отложить яйца. Стрекозы синевато-стального цвета, тоненькие, словно нитка, выводятся из личинок и, подобно дыму, плывут через подлесок в удивительном, как бы застывшем полете. Наступает пора, когда берега канав зажигаются по ночам пульсирующим зеленовато-белым светом тысяч светлячков, а днем мерцают ягодами земляники, свисающими наподобие красных фонариков в тени. Это волнующая пора, пора исследований и новых открытий, пора, когда, перевернув бревно, можешь наткнуться на что угодно, начиная с гнезда полевки и кончая блестящими извивающимися детенышами слепозмейки, словно отлитыми из бронзы и отполированными.
Однажды днем, когда я бродил внизу по полям в надежде поймать несколько коричневых водяных змей, что водились в оросительных канавах, издали, примерно через шесть полей, меня окликнула старая женщина, с которой я был немного знаком. Стоя по щиколотки в жирном суглинке, она перекапывала землю мотыгой с широкой лопастью на коротком черенке. На ней были грубые толстые чулки из овечьей шерсти, какие крестьяне обычно надевают для такой работы.
— Я кое-что нашла для тебя! — крикнула она. — Иди скорей.
Добраться до нее быстро было невозможно, ибо каждое поле со всех сторон окружали оросительные канавы, и отыскивать мостки через них — все равно что отыскивать путь в лабиринте.
— Скорее! Скорее! — пронзительно кричала старая женщина. — Они разбегаются. Скорее!
Я бежал, прыгал, семенил, едва не сваливаясь в канавы и на всех парах мчась через шаткие дощатые мостки, и наконец, тяжело переводя дух, подскочил к ней.
— Вот, — она повела рукой. — Вот. Смотри, как бы они тебя не укусили.
Оказалось, она откопала из-под земли ворох листьев, в котором шевелилось что-то белое. Я тихонько разворошил листья черенком сачка и, к своему восхищению, увидел четырех толстеньких новорожденных ежат, розовых, как цикламен, с мягкими белоснежными иглами. Они были еще слепые и извивались и тыкались носами друг в друга, как выводок крохотных поросят. Я забрал их и осторожно положил себе за пазуху, поблагодарил крестьянку и отправился домой. Я волновался за своих новых любимцев главным образом потому, что они были такие маленькие. У меня уже жили два взрослых ежа, Зудючка и Чесучка; свои клички ониполучили потому, что давали приют полчищам блох. Однако они не были по-настоящему ручными. Эти же детеныши, думалось мне, вырастут совсем иными, я буду для них все равно что мать. В моем воображении уже рисовалась такая картина: вот я гордо шагаю по оливковым рощам, предшествуемый собаками, Улиссом и двумя сороками, а за мной по пятам трусят четыре ручных ежа, которых я научил разным трюкам.
Мои родные сидели на веранде под виноградными лозами, занятые каждый своим делом. Мама вязала, время от времени считая петли вслух и чертыхаясь, когда ошибалась в счете. Лесли, сидя на корточках на каменном полу, тщательно отвешивал порции пороха и маленькие кучки дроби и набивал ими блестящие красные патронные гильзы. Ларри читал какую-то толстенную книгу и то и дело с раздражением поглядывал на Марго, а та знай себе строчила на швейной машинке какое-то прозрачное одеяние и, безбожно фальшивя, напевала единственную запомнившуюся ей строку из любимой модной песенки.
«Она была в маленьком синем жакете, — щебетала Марго. — Она была в маленьком синем жакете. Она была в маленьком синем жакете. Она была в маленьком синем жакете».
— Единственное, что восхищает в твоем пении, — это твое упорство, — сказал Ларри. — Любой другой на твоем месте давно бы спасовал, признал свое поражение перед лицом факта, что он не способен воспроизвести мотив и запомнить самые простые слова.
Он бросил на пол недокуренную сигарету, чем вызвал взрыв негодования у Лесли.
— Осторожно, тут порох! — рявкнул тот.
— Лесли, милый, — сказала мама, — право же, не надо так кричать, ты сбил меня со счета.
Я с гордым видом достал своих ежат и показал маме.
— Ах, какая прелесть, — сказала она, благосклонно вглядываясь в них сквозь очки.
— О Господи! Неужто он опять притащил что-то новое? — спросил Ларри, с отвращением взирая на розовое потомство в белых иголочках. — Что это? — осведомился он.
Я объяснил, что это маленькие ежата.
— Не может быть, — сказал он. — Ежи сплошь бурые.
Невежество моих родных относительно мира, в котором они обитали, всегда было для меня источником беспокойства, и я никогда не упускал случая вразумить их. Я объяснил, что ежиха не может родить детенышей, покрытых жесткими иглами, не претерпевая при этом самых изощренных мучений, вот почему они и родятся с такими эластичными, как резина, белыми иголочками, которые легко, как перышко, можно согнуть пальцами. Со временем, когда ежи подрастут, иголочки потемнеют и отвердеют.
— Как же ты думаешь кормить их, милый? — спросила мама. — У них такие маленькие ротики, и, уж наверное, они еще сосут молоко.
Я ответил, что видел в одном магазине в городе полный детский комплект для выхаживания младенцев. В него входило несколько никчемных предметов, например целлулоидная кукла, пеленки, детский стульчак и тому подобное, но мое внимание привлекла миниатюрная бутылочка для детского питания с набором крохотных красных сосок. Вот, сказал я, идеальное приспособление для вскармливания ежат, а стульчак, куклу и прочие принадлежности можно отдать какому-нибудь достойному крестьянскому ребенку. Но тут есть одна маленькая закавыка: в последнее время мне пришлось пойти на довольно большие затраты (как, например, покупка проволоки для клетки, в которой будут содержаться сороки) и я израсходовал мои карманные деньги.
— Ну что же, милый, — слегка колеблясь, сказала мама, — если комплект стоит не слишком дорого, я, пожалуй, куплю его для тебя.
Я сказал, что комплект вовсе не дорогой, если учесть, что вся покупка будет как бы капиталовложением, ибо мы не только приобретем бесценную бутылочку для выкармливания, которая пригодится и для других животных, но и вырастим четырех ручных ежей да в придачу осчастливим какого-нибудь ребенка. Существует ли лучший способ тратить деньги? — спросил я. Итак, комплект был куплен. Маленькая крестьянская девочка, к которой я питал симпатию, с превеликой радостью получила куклу, стульчак и все прочее, а я приступил к нелегкой задаче выкармливания ежат. Они поселились у меня под кроватью в большой картонной коробке, выстланной ватой, а на ночь, чтобы они не мерзли, я ставил ящик на бутылку с горячей водой. Мне хотелось, чтобы они спали в постели вместе со мной, но мама возразила, что это не только негигиенично, но и рискованно: я могу повернуться ночью и заспать ежат. Как выяснилось, лучше всего им подходило разбавленное водой коровье молоко, и я прилежно кормил их три раза в день и один раз среди ночи. Ночная кормежка пошла не так гладко, ибо, чтобы не проспать, я позаимствовал у Спиро большой жестяной будильник. Он делал свое дело с треском ружейной пальбы и, к сожалению, будил не только меня, но и моих домашних. В итоге мама — столь громогласны были их жалобы — предложила, чтобы я дополнительно кормил ежат поздно вечером, а не в два часа ночи и не поднимал весь дом на ноги. Так я и поступил, и ежата чувствовали себя превосходно и подрастали. У них прорезались глазки, а иголки из белоснежных стали серыми и отвердели. В эту пору, как я и предполагал, они признали меня за мать и пытались вскарабкаться на край коробки, когда я открывал ее; они толкались и рвались к первому глотку из бутылки, издавая чуть слышный пыхтящий писк и ворчанье. Я ужасно гордился ими и предвкушал тот день, когда они побегут за мной через оливковые рощи.
Но в один прекрасный день наши друзья пригласили нас с мамой провести конец недели у них на крайнем юге острова, и я не знал, как быть. С одной стороны, мне очень хотелось поехать к ним, ибо на песчаных, с мелководьями побережьях юга можно было отлично поохотиться на сердцевидных морских ежей, которые, собственно говоря, мало чем отличаются от обычных ежат. Они имеют форму сердечка и покрыты мягкими иглами, образующими хвост хохолком сзади и нечто вроде колючего головного убора индейцев вдоль спины. До сих пор я нашел лишь одного ежа, расплющенного морскими волнами до неузнаваемости, но, по словам Теодора, юг острова изобилует ими и искать их надо в песке на глубине двух-трех дюймов. С другой стороны, на руках у меня был выводок ежат, взять их с собой я не мог, а так как мама уезжала, у меня не было человека, на которого я мог бы оставить их со спокойной душой.
— Я присмотрю за ними, — вызвалась Марго. — Такие милые маленькие зверюшки.
Меня взяло сомнение. Осознает ли она, спросил я, всю сложность ухода за ними? Например, то, что вату в их коробке следует менять три раза в день? Что пьют они только разбавленное коровье молоко? Что молоко надо подогревать до комнатной температуры и не более того? А важнее всего, что за раз каждому полагалось скармливать лишь полбутылочки молока? Ибо я очень скоро обнаружил, что, дай им только волю, они напьются до бесчувственного состояния, и тогда в лучшем случае придется менять вату гораздо чаще.
— Не говори глупостей, — сказала Марго. — Уж, конечно, я сумею позаботиться о них. Возиться с младенцами и зверюшками мне не в новинку. Ты только запиши на листе бумаги, что мне следует делать, и они будут в полном порядке.
Марго была так разгневана моим недоверием, что в конце концов я неохотно уступил. Я уговорил Ларри, который, по счастью, оказался в хорошем расположении духа, отпечатать на машинке подробный список того, что следует и чего не следует делать людям, выращивающим ежей, и преподал Марго практический курс подогревания бутылочки и смены ваты.
— Похоже, они ужасно голодные, — сказала она, вынимая поочередно извивающихся пискунов из коробки и суя кончик соски в их жадные рты.
Я ответил, что они всегда такие. Не стоит обращать на это внимание. Они жадны по натуре.
— Бедные маленькие зверюшки, — сказала Марго.
Эти слова должны были бы послужить мне предостережением.
Я провел чудесный уик-энд. Правда, я жутко обгорел на обманчиво нежном весеннем солнце, но вернулся победно с восемью сердцевидными ежами, четырьмя новыми раковинами для своей коллекции и воробышком, выпавшим из гнезда. На вилле, претерпев лай, лизание и покусывания собак, которыми они всегда приветствовали меня, стоило мне отсутствовать более двух часов, я с жадным любопытством спросил Марго, как поживают мои ежи-малютки.
— Теперь они в полном порядке, — ответила она. — Но право же, Джерри, я совершенно уверена, что ты дурно обращаешься со своими любимцами. Ты чуть не уморил до смерти маленьких бедных зверюшек. Они так голодали. Ты представить себе не можешь.
С упавшим сердцем выслушал я эти слова сестры.
— Они умирали с голоду, бедняжки. Знаешь, они за раз выпивали по две бутылочки каждый?
Я в ужасе бросился в свою спальню и вытащил из-под кровати коробку. В ней лежали мои четыре ежонка, невероятно раздутые. Животики у них были такие большие, что они могли лишь слабо шевелить ножками, ничуть не продвигаясь вперед. Они выродились в розовые мешки, полные молока и словно сединой покрытые иглами. Все они испустили дух в ту же ночь, и Марго безутешно рыдала над их надутыми, как воздушные шары, трупиками. Но ее горе не послужило мне утешением, ведь теперь ежи не будут послушно трусить за мной через оливковые рощи. В наказание и постоянное напоминание попустительнице-сестре я вырыл в саду четыре могилки, поставил четыре маленьких креста и четыре дня не разговаривал с Марго.
Однако я не долго горевал о скончавшихся ежах, ибо в это время на острове вновь появились Дональд и Макс. Они победоносно приплыли на тридцатифутовой яхте, и Ларри ввел в нашу семью капитана Крича.
Мы с мамой провели очень приятный день в оливковых рощах, она — собирая дикорастущие цветы и травы, я — занятый ловлей вновь появившихся бабочек. Усталые, но довольные, мы заторопились обратно на виллу к чаю. Приблизившись к дому, мама вдруг остановилась.
— Кто это сидит у нас на веранде? — спросила она.
Я был занят бросанием палок собакам и потому не сразу обратил внимание. Но, подняв голову, и я увидел фигуру незнакомца в измятых белых парусиновых брюках, растянувшегося на веранде.
— Кто это? Ты видишь? — возбужденно спрашивала мама.
В то время ее терзала мысль о том, что директор нашего банка в Англии может в любой момент прилететь на Корфу с целью обсудить превышение нашего кредита, вот почему незнакомая фигура на веранде подстегнула ее страхи.
Я внимательно осмотрел незнакомца. Это был старый, почти совсем лысый мужчина, только на затылке росли жидкие волосы, длинные, белые и всклокоченные, как пушок чертополоха поздним летом. У него была такая же неопрятная белая борода и усы. Я заверил маму, что, по моему разумению, он нисколько не походит наружностью на директора банка.
— О Господи, — обеспокоенно сказала она. — Он непременно прибудет сейчас. А у меня совершенно ничего нет к чаю. Интересно, кто бы это мог быть?
Когда мы приблизились, незнакомец, дотоле мирно дремавший, вдруг проснулся и увидел нас.
— Эй, на море! — крикнул он так зычно и так внезапно, что мама споткнулась и чуть не упала. — Эй, на море! Должно быть, вы матушка Даррелл, а ты, конечно, ее сын. Ларри все рассказал мне о вас. Лезьте на борт.
— О Господи, — прошептала мама. — Это еще один из дружков Ларри.
Мы подошли ближе, и я увидел, что у нашего гостя на редкость необычное лицо, розовое и все в извилистых морщинах, как грецкий орех. Его хрящеватому носу, по-видимому, в свое время досталось столько жестоких ударов, что он извилисто спускался вдоль по лицу наподобие змеи. Челюсть также претерпела аналогичную судьбу и была сдвинута набок, будто невидимая нить связывала ее с правым ухом.
— Ужасно рад познакомиться с вами, — сияя слезящимися глазами, сказал он с таким видом, словно сам был хозяином этой виллы. — Вот так бабенция! Вы выглядите лучше, чем мне описывал ваш сын.
Мама оцепенела и выронила ветреницу из букета, который она несла в руках.
— Я, — сказала она с чопорным достоинством, — миссис Даррелл, а это мой сын Джеральд.
— Меня зовут Крич, — сказал старик. — Капитан Патрик Крич. — Он выдержал паузу и аккуратно пустил обильную струю слюны поверх перил точнехонько в мамину любимую клумбу циний. — Лезьте на борт, — повторил он, весь пыша добродушием. — Рад вас видеть.
Мама нервно прокашлялась.
— Мой сын Лоренс здесь? — спросила она, обретая мелодичный аристократический голос, что с ней бывало лишь в крайне напряженные моменты.
— Нет, нет, — ответил капитан Крич. — Я простился с ним в городе. Он сказал, чтобы я ехал к вам на чай. Он сказал, что вскоре будет на борту.
— Садитесь же, — сказала мама, стойко выдерживая роль хозяйки. — Если вы не против чуточку подождать, я пойду напеку пшеничных лепешек.
— А, лепешек? — отозвался капитан Крич, озирая маму с таким сладострастием, что она уронила еще два цветка. — Я люблю лепешки и женщин, расторопных в камбузе.
— Джерри, — ледяным тоном произнесла мама, — займи капитана Крича, пока я буду готовить чай.
Она поспешно и, признаться, не самым достойным образом удалилась, а я остался единоборствовать с капитаном Кричем.
Он снова опустился на стул и уставился на меня своими слезящимися глазами из-под клочковатых белых бровей. Его пристальный взгляд несколько нервировал меня. Тем не менее, сознавая свои обязанности хозяина, я протянул ему коробку с сигаретами. Он заглянул в нее, словно в колодец, при этом его челюсть ходила с боку на бок, словно живот чревовещателя.
— Смерть! — воскликнул он вдруг, и так энергично, что коробка с сигаретами чуть не вывалилась у меня из рук. Он откинулся на спинку стула и вновь уставился на меня слезящимися голубыми глазами.
— Сигареты — это смерть, малыш, — сказал он, пошарил в кармане брюк, извлек оттуда короткую трубку, черную и шишковатую, как кусок древесного угля, и сунул ее в рот, отчего челюсть его приобрела еще более кривобокий вид. — Не забывай, — добавил он, — трубка — лучший друг настоящего мужчины.
Он оглушительно захохотал собственной шутке, и я из чувства долга последовал его примеру. Он встал, пустил обильную струю слюны поверх перил веранды и снова шмякнулся на стул. Я лихорадочно искал предмет разговора. Ничто не приходило на ум. Вряд ли его заинтересует, что сегодня я впервые услышал стрекот цикад или что курочка, принадлежащая Агати, снесла шесть яиц величиной с лесной орех. Поскольку, судя по всему, круг его интересов ограничивался лишь тем, что относится к морю, я спрашивал себя, может, его взволнует новость, что Таки, который не мог позволить себе роскоши обзавестись лодкой, отправился на ночную рыбалку (одной рукой держа фонарь над головой, а в другой зажав трезубец) и всадил трезубец себе в ногу, приняв ее за какую-то диковинную рыбу? Но тут капитан Крич, глядя на меня из-за клубов жирного дыма, извергаемого трубкой, сам начал разговор.
— Тебя удивляет мое лицо, правда, малыш? — обвиняюще спросил он, и я заметил, что при этих словах его щеки стали еще более розовыми и лоснящимися, как атлас. Не успел я дать отрицательный ответ, как он продолжал: — Это случилось при работе с парусами. Да, при работе с парусами. Когда мы огибали мыс Горн. Дул свирепый ветер, прямо из заднего прохода Земли. Я упал, понимаешь? Паруса хлопали и ревели со страшной силой. Веревка выскользнула у меня из пальцев, словно намасленная. Я упал ничком на палубу. Мне помогли, чем могли… Разумеется, на борту не было врача. — Он выдержал паузу и задумчиво ощупал челюсть. Я, завороженный, сидел, как прикованный к стулу. — К тому времени, как мы добрались до Чили, все затвердело, словно цемент, — сказал он, продолжая поглаживать челюсть. — Тогда мне было шестнадцать лет.
Я колебался: следует выразить ему сочувствие или нет, но он погрузился в собственные мысли, и его голубые глаза приобрели отсутствующее выражение. Тут на веранде появилась мама и остановилась: наша неподвижность поразила ее.
— Чили, — с наслаждением произнес капитан. — Чили. Там я впервые подцепил триппер.
Мама вздрогнула и громко прокашлялась.
— Джерри, помоги мне принести чай, — сказала она.
Вдвоем мы принесли на веранду чайник, молочник, чашки и тарелки с золотисто-желтыми лепешками и гренками.
— Вкуснотища, — проговорил капитан Крич, набивая рот лепешкой. — Спасает от урчания в животе.
— Мм… Вы надолго думаете остановиться у нас? — спросила мама с явной надеждой, что он ответит отрицательно.
— Может быть, буду жить здесь на пенсии, — невнятно произнес капитан, смахивая крошки с усов. — У вас тут местечко что надо. Могу бросить здесь якорь.
Из-за поврежденной челюсти он был вынужден шумно прихлебывать чай. Я заметил, что лицо мамы становится все более озабоченным.
— Мм… У вас есть судно? — спросила она.
— Нет, черт побери, — ответил капитан, хватая еще одну лепешку. — Жить на пенсию, вот я о чем. Теперь у меня будет время вплотную заняться бабешками.
При этих словах он окинул маму оценивающим взглядом, не переставая энергично разжевывать лепешку.
— Постель без женщины все равно что корабль без трюма, — заметил он.
К счастью, мама была избавлена от необходимости отвечать ему, так как в эту минуту к дому подъехали на автомобиле остальные домашние с Дональдом и Максом в придачу.
— Муттер, вот мы и приехайт, — возвестил Макс, лучезарно улыбаясь и нежно обнимая ее. — И я вижу, мы есть подоспевайт прямо к чай. Бабешки! Как чудесно! Дональд, у нас бабешки к чаю!
— Лепешки, — поправил Дональд.
— Пшеничные, — уточнила мама.
— Мне припоминается одна бабешка из Монтевидео, — сказал капитан Крич. — Замечательная была сука. За два дня обслужила весь экипаж. Нынче таких выносливых не выводят.
— Кто этот отвратительный старик? — спросила мама, едва ей представилась возможность загнать в угол Ларри, оторвав его от чаепития, которое было в самом разгаре.
— Его зовут Крич, — ответил Ларри.
— Это мне известно, — сказала мама, — но с какой стати ты пригласил его к нам?
— Он забавный старикан, — ответил Ларри, — и едва ли у него много денег. Надо полагать, он приехал на остров жить на крохотную пенсию.
— Он не будет жить на пенсию у нас, — твердо сказала мама. — Будь добр, не приглашай его больше к нам.
— Я думал, он тебе понравится, — сказал Ларри. — Он объехал весь свет и даже был в Индии. Он может рассказать кучу самых замечательных историй.
— Что касается меня, то он может и дальше разъезжать по свету, — сказала мама. — Истории, которые я пока слышала, на мой взгляд, отнюдь не замечательные.
Капитан Крич, раз обнаружив, как он выражался, нашу «якорную стоянку», зачастил к нам. Обычно он появлялся, мы подметили это, как раз к еде, выкликая: «Эй, на судне! Можно подняться к вам на борт потрепаться?» Поскольку было совершенно очевидно, что он не случайно проходил две с половиной мили через оливковые рощи, чтобы добраться до нас, было трудно отказать ему в возможности «подняться на борт», и мама, бормоча под нос что-то не самое доброе, бросалась на кухню разбавлять суп и нарезать сосиски, дабы капитан Крич мог присоединиться к нам. Он потчевал нас рассказами из своей морской жизни и сыпал названиями мест, где побывал. С его изуродованных губ соблазнительно срывались названия, которые я знал только по картам: Тринкомали, Дарвин и Дурбан, Буэнос-Айрес, Веллингтон и Калькутта, Галапагосские и Сейшельские острова и острова Товарищества. Казалось, нет такого уголка земного шара, куда бы он не добрался. Свои рассказы он уснащал пространными и донельзя вульгарными хоровыми песнями матросов и прибаутками такой биологической изощренности, что, к счастью, мама их не понимала.
Затем настал незабываемый день, когда капитан Крич явился незваным гостем к чаю, в то время как мы принимали местного английского священника с женой — скорее из чувства долга, чем из религиозных соображений. К нашему изумлению, капитан Крич вел себя на диво прилично. Он обменялся со священником мнениями насчет морских змей и высоты приливных волн и объяснил жене священника разницу между долготой и широтой. Его манеры были образцовыми, и мы вполне гордились им, как вдруг, к концу чаепития, жена священника с необыкновенной ловкостью перевела разговор на тему о своих детях. Этот предмет был для нее всепоглощающим; впору было подумать, что она единственная женщина в мире, которой доводилось рожать детей, и к тому же они были зачаты безукоризненно. Угостив нас десятиминутным монологом о невероятной проницательности своего потомства, она на мгновение умолкла, чтобы выпить чаю.
— Я чуток слишком стар, чтобы заводить детей, — сказал капитан Крич.
Жена священника поперхнулась.
— Но, — с удовлетворением продолжал он, — я старался, и это было страх как приятно.
Чаепитие было испорчено.
Вскоре после этого на вилле объявились Дональд и Макс.
— Муттер, — сказал Макс, — мы хотим унейсти вас.
— Прогулка на яхте, — пояснил Дональд. — Изумительная идея. Макса, конечно.
— Прогулка на яхте — куда? — осведомилась мама.
— Вокруг острова, — сказал Макс, раскидывая свои длинные руки во всеохватывающем жесте.
— А я-то думал, вы не умеете управлять яхтой, — сказал Лесли.
— Нет, нет. Мы не будем управляет ей. Ларри будет управляйт, — торжествующе возвестил Макс.
— Ларри? — недоверчиво спросил Лесли. — Да ведь Ларри ничего не смыслит в морском деле.
— О нет, — серьезно сказал Дональд, — о нет. Он по этой части собаку съел. Он брал уроки у капитана Крича. Да и сам капитан будет с нами как член экипажа.
— Ну, в таком случае все ясно, — сказала мама. — Я не поплыву на яхте вместе с этим отвратительным стариком, не говоря уже о том, как опасно плыть на яхте, которой управляет Ларри.
Они всячески пытались уговорить ее, но мама неколебимо стояла на своем. Остальные домашние, включая Теодора, проедут через весь остров и встретятся с ними на берегу бухты, где мы сможем устроить пикник и, если будет тепло, искупаться, — это был максимум того, на что она дала согласие.
Стояло ясное, безоблачное утро, когда мы тронулись в путь, и все говорило за то, что погода будет идеальной и для плавания, и для пикника, но к тому времени, когда мы достигли противоположного берега острова и распаковали все необходимое для пикника, появились приметы того, что нас застигнет сирокко. Мы с Теодором спустились между деревьями к бухте. Море стало холодного, серо-стального цвета, ветер гнал по синему небу вытянутые, словно накрахмаленные облака. На кромке моря вдруг появились три водяных смерча, они скачками продвигались вдоль горизонта, словно огромные извивающиеся шеи каких-то доисторических чудовищ. Колеблясь и наклоняясь, грациозные, как лебеди, они протанцевали вдоль горизонта и исчезли.
— Ага! — сказал Теодор, с интересом наблюдавший за этим феноменом. — Я никогда не видел их по три за раз. Весьма любопытно. Ты заметил, как они двигались все вместе, совсем как если бы они были… э-э… животными в стаде?
Я сказал, что мне хотелось бы увидеть их вблизи.
— Гм… — отозвался Теодор, теребя бороду большим пальцем. — Не уверен, что водяные смерчи относятся к тем вещам, с которыми желательно познакомиться… э-э… гм… поближе. Помнится, я однажды был в Македонии, и один такой смерч, понимаешь ли… э-э… обрушился на берег. Он оставил после себя полосу разрушений около двухсот ярдов в ширину и четверти мили в длину. Я хочу подчеркнуть — на суше. Даже большие оливковые деревья были… э-э… повреждены, а деревья поменьше, понимаешь, ломались, как спички. И, разумеется, в том месте, где смерч наконец распался, земля пропиталась тоннами соленой воды и стала… гм… совершенно непригодной для земледелия.
— Послушайте, вы видели эти огромные треклятые водяные смерчи? — спросил Лесли, подходя к нам.
— Да, это очень интересно, — сказал Теодор.
— Мама в панике, — сказал Лесли. — Она уверена, что они направляются прямо к Ларри.
— Вряд ли существует такая опасность, — сказал Теодор. — По-моему, они слишком далеко в открытом море.
К тому времени, как мы водворились в оливковой роще близ берега бухты, не оставалось сомнений в том, что нас накроет один из тех внезапных и чрезвычайно жгучих сирокко, которые дуют здесь в это время года. Ветер хлестал по оливам и вспенил море бурунами с белыми гребнями.
— Мы могли бы с равным успехом отправиться домой, — сказал Лесли. — Не большое удовольствие устраивать пикник при такой погоде.
— Мы не можем, милый, — сказала мама. — Мы обещали встретиться с Ларри здесь.
— Если они не совсем растеряли мозги, они станут на рейд где-нибудь в другом месте, — ответил Лесли.
— Не хотел бы я сейчас быть на их месте, — заметил Теодор, глядя на бьющие о скалы волны.
— О Господи, я так надеюсь, что с ними ничего не случится, — сказала мама. — Право же, Ларри неблагоразумен.
Мы прождали час; мама с каждой минутой паниковала все больше. Но вот Лесли, взбиравшийся на мыс по соседству, вернулся с вестью, что увидел их.
— Признаться, я очень удивлен, что они добрались сюда, — заметил Лесли. — Гик ходит ходуном, и они практически идут кругами.
Вскоре яхта вошла в узкое устье бухты, и нам стало видно, как Дональд и Макс снуют по палубе, дергая за веревки и паруса, меж тем как Ларри и капитан Крич, вцепившись в румпель, судя по всему, во весь голос дают указания. Мы с интересом наблюдали за их эволюциями.
— Надеюсь, они не забыли про риф, — сказал Лесли.
— Какой риф? — встревоженно спросила мама.
— Там, где сейчас вон та белая вода, есть чертовски большой риф, — ответил Лесли.
Спиро все это время стоял и хмурясь глядел на море, словно некая смуглая гаргулья.
— Не нравится мне это, мастер Лесли, — хрипло прошептал он. — Что-то непохоже, чтобы они умели ходить под парусами.
— О Господи, — сказала мама. — И зачем только я согласилась на это?
В этот момент (из-за того, как выяснилось впоследствии, что Дональд и Макс не поняли данных им указаний и подняли часть парусов, а не опустили их) произошло одновременно несколько событий. Внезапно налетевший шквал раздул паруса. Гик развернулся и с треском ломающегося дерева, который был явственно слышен на берегу, смахнул Макса за борт. Яхта почти легла на бок и под напором ветра с необыкновенно громким хрустом налетела прямо на риф, вздыбилась на мгновение, а затем, словно отчаявшись в матросском искусстве людей на борту, лениво завалилась набок. В одно мгновение хаотически все смешалось.
Мама с криком «О Господи! О Господи!» без сил опустилась на корень оливы. Марго разразилась слезами, без устали махала руками и пронзительно кричала: «Они утонут! Утонут!» Спиро, Лесли и я выбежали на берег бухты. Мы ничем не могли помочь потерпевшим кораблекрушение, так как у нас не было ни лодки, ни иного спасательного средства. Но вскоре мы разглядели наших четырех морских волков, плывущих от остатков яхты, причем Ларри и Дональд, похоже, тянули на буксире капитана Крича. Мы поспешно сбросили с себя одежду и бросились в море. Вода была холодна как лед, а волны значительно сильнее, чем я предполагал.
— Вы целы? — крикнул Лесли, когда флотилия горе-моряков приблизилась к нам.
— Целы! — крикнул Макс. — Целы и невредимы!
На лбу у него зияла рана длиной дюйма в четыре, по его лицу и усам струилась кровь. У Ларри под глазом был синяк и царапины, синяк быстро набухал. Лицо капитана Крича, выскакивавшее, как пробка, между головами Ларри и Дональда, приняло необычайный розовато-лиловый оттенок, как у цветка сливы.
— Помогите нам тянуть капитана! — крикнул Ларри. — Этот глупый старый ублюдок сказал мне, что не умеет плавать, только когда мы кувырнулись за борт.
Спиро, Лесли и я подхватили капитана Крича и облегчили задыхающихся Дональда и Ларри в их спасательных работах. Мы, должно быть, являли собой захватывающее зрелище, когда выходили, шатаясь и ловя ртом воздух, по отмели на берег. Лесли и Спиро поддерживали капитана Крича с боков, и его ноги, казалось, вот-вот подломятся.
— Эй, на судне! — крикнул он маме. — Эй, ты там, моя бабенция!
— Посмотрите на голову Макса! — пронзительно крикнула Марго. — Он истечет кровью!
Мы шатаясь взобрались под укрытие оливковой рощи и, пока мама, Марго и Теодор поспешно оказывали первую помощь Максу и Ларри, уложили капитана Крича под оливой, поскольку он, видимо, был не в силах держаться на ногах.
— Наконец-то в порту, — с удовлетворением молвил он. — Наконец-то в порту. Я еще сделаю из вас настоящих моряков, ребята.
Теперь, когда у нас было время собраться с мыслями, выяснилось, что капитан смертельно пьян.
— Право, Ларри, ты заставляешь меня сердиться, — сказала мама. — Вы все могли утонуть.
— Это была не моя вина, — обиженно отозвался Ларри. — Мы делали все, что велел капитан. Но Дональд и Макс потянули не за те веревки.
— Какие указания он мог давать? — спросила мать. — Он ведь пьян.
— Он не был пьян, когда мы отплыли, — ответил Ларри. — Должно быть, у него на борту припрятан запас спиртного. Похоже, он и вправду слишком часто спускался в каюту, теперь-то мне ясно, когда я могу поразмыслить, что к чему.
— Не верь ему, нежная дева, — трясущимся баритоном пропел капитан Крич. — При сердце своем золотом он бросит тебя светлым утром, и груз будет в трюме твоем.
— Отвратительная скотина, — сказала мама. — Нет, в самом деле, Ларри, я положительно сержусь на тебя.
— Выпьем, ребята! — хрипло выкрикнул капитан Крич, махнув рукой в сторону взъерошенных Макса и Дональда. — Не выпивши, нельзя плыть под парусами.
Наконец мы обсохли, насколько смогли, отжали мокрую одежду и, дрожа всем телом, направились вверх по склону к машине.
— Что будет с яхтой? — спросил Лесли, поскольку судьба судна, казалось, нимало не волновала его владельцев, Дональда и Макса.
— Мы остановимся в ближайшей деревне, — сказал Спиро. — У меня там знакомый рыбак, он все устроит.
— Вот что, — сказал Теодор. — Если у нас есть спиртное, сейчас самое время подкрепить Макса. Он, наверное, страдает от потрясения после такого удара.
— Да, у нас есть бренди, — сказала мама и, нырнув в машину, извлекла бутылку и чашку.
— Милая девочка, — сказал капитан Крич, приковываясь блуждающим взором к бутылке. — Вот как раз то, что прописал врач.
— Это не про вас, — твердо сказала мама. — Это для Макса.
Мы разместились в машине как могли, устраиваясь на коленях друг у друга и стараясь как можно больше места предоставить Максу; лицо его теперь стало скверного серо-свинцового цвета, и его всего била дрожь. К неудовольствию мамы, она волей-неволей оказалась втиснутой бок о бок с капитаном Кричем.
— Садитесь ко мне на колени, — гостеприимно предложил капитан. — Садитесь ко мне на колени, и мы маленько пообнимаемся для сугреву.
— Еще чего, — строго ответила мама. — Я скорее сяду на колени к Дональду.
По пути к городу через остров капитан потчевал нас известными ему вариантами матросских песен. Между моими родными разгорелся спор.
— Я настаиваю, чтобы ты запретил ему петь эти песни, Ларри, — сказала мама.
— Как я могу запретить? Ты сидишь сзади, ты и запрети.
— Он твой друг, — сказала мама.
— Ах, какая жалость, одна лишь титя осталась, чтобы кормить дитя. Бедный маленький пидер в футболе не лидер, не вырастет сильный, большой.
— Он чуть не погубил всех вас, грязная скотина, — сказала мама.
— Собственно говоря, вина за все почти целиком лежит на Ларри, — заметил Лесли.
— Как бы не так, — негодующе ответил Ларри. — Вы не были там, а потому не можете знать. Попробуй разбери что-нибудь, когда тебе кричат привестись ближе к ветру или что-то в этом роде, а шквал завывает вовсю.
— В Чичестере живет одна девица, — с наслаждением вставил капитан Крич, — у нее и святой расшевелится.
— Кого я жалею, так это Макса, — сказала Марго, сочувственно глядя на него.
— Не вижу особой причины для таких симпатий, — сказал Ларри, чей глаз к этому времени окончательно заплыл и представлял собой густо-черную лоснящуюся кляксу. — Это он, дурак, виноват во всем. Яхта полностью подчинялась мне, пока он не поднял тот парус.
— Ну, я не считаю тебя моряком, — сказала Марго. — Если б ты был настоящим моряком, ты бы не велел ему поднимать парус.
— В том-то и дело, — огрызнулся Ларри, — что я не велел ему подымать парус. Он поднял его самовольно.
— Хорошее судно «Венера»… — начал было капитан, чей репертуар казался неисчерпаемым.
— Не спорьте об этом, милые, — сказала мама. — У меня ужасно болит голова. Чем скорее мы попадем в город, тем лучше.
В конце концов мы добрались до города, ссадили Дональда с Максом у их гостиницы, а все еще распевающего капитана Крича — у его и поехали домой, продрогшие и злые.
Наутро, чувствуя себя несколько разбитыми, мы сидели на веранде и доканчивали завтрак. Глаз Ларри теперь принял оттенки заката, которые могла бы передать только кисть Тёрнера. Тут к вилле с громкими гудками подъехал Спиро. Собаки бежали перед автомобилем, рыча и норовя укусить колеса.
— Я решительно против, чтобы Спиро подъезжал к дому с таким шумом, — сказал Ларри.
Спиро тяжело протопал на веранду и, как обычно, перездоровался со всеми.
— Доброе утро, миссис Даррелл. Доброе утро, мисс Марго. Доброе утро, мастер Ларри. Доброе утро, мастер Лесли. Доброе утро, мастер Джерри. Как ваш глаз, мастер Ларри? — спросил он, сочувственно хмурясь.
— Сейчас я чувствую себя так, словно мне до конца дней придется ходить с палкой слепого, — ответил Ларри.
— Я привез вам письмо, — сказал Спиро маме.
Она надела очки и вскрыла конверт. Мы выжидающе смотрели на нее. Ее лицо залилось краской.
— Какая наглость! Какое нахальство! Омерзительная скотина! Право, я никогда не слышала ничего подобного.
— В чем дело? — спросил Ларри.
— Это все отвратительная тварь, Крич, — сказала мама, махая письмом в сторону Ларри. — Это ты виноват, ты ввел его в наш дом.
— В чем же я провинился теперь? — в замешательстве спросил Ларри.
— Эта грязная скотина сделала мне предложение, — сказала мама.
Ошеломленные, мы все на минуту умолкли, вникая в столь замечательное сообщение.
— Предложение? — осторожно спросил Ларри. — Как я полагаю, неприличное предложение?
— Нет, нет, — сказала мама. — Он пишет, что хочет жениться на мне. Какая я прекрасная маленькая женщина и куча сентиментального вздора в этом роде.
Мы все, наконец-то в полном единодушии, откинулись на спинки стульев и расхохотались до слез.
— Тут не над чем смеяться, — сказала мама, с сердитым видом расхаживая по веранде. — Вы должны что-то предпринять.
— О, — сказал Ларри, вытирая глаза. — О, такое случается нечасто. Я полагаю, он вообразил себе, раз он снял вчера в твоем присутствии брюки, чтобы отжать их, он обязан сделать из тебя честную женщину.
— Перестаньте смеяться, — сердито сказала мама. — Это не смешно.
— Представляю себе, — вкрадчиво начал Ларри. — Ты в белой кисее, мы с Лесли в цилиндрах выдаем тебя замуж, Марго твоя подружка, Джерри несет шлейф невесты. Это будет чрезвычайно эффектное зрелище. Церковь, по моему разумению, заполнят заезжие куртизанки, и все они только и ждут минуты, чтобы помешать свершению брачного таинства.
Мама пробуравила его взглядом.
— Когда наступает действительно критический момент, — сердито сказала она, — от вас, детей, проку как от козла молока.
— А по-моему, ты будешь прелестно выглядеть в белом, — хихикнула Марго.
— Где же вы решили провести медовый месяц? — спросил Ларри. — Говорят, на Капри чудо как хорошо в это время года.
Но мама не слушала. Она повернулась к Спиро, вся с головы до пят воплощение решимости.
— Спиро, вы должны сказать капитану, что я ответила отрицательно и что я решительно настаиваю, чтобы его ноги больше не было в нашем доме.
— О, полноте, мама, — запротестовал Ларри. — Мы, дети, хотим, чтобы у нас был отец.
— А вы все, — в ярости напустилась на нас мама, — только попробуйте рассказать кому-нибудь про это! Я не потерплю, чтобы мое имя упоминалось в связи с этим отвратительным… отвратительным негодяем.
С тех пор мы больше не видели капитана Крича. Но то, что мы называли маминым великим любовным приключением, положило благоприятное начало году.

Глава десятая
Говорящая голова

Лето разинуло свою пасть над островом, словно дверца огромной печи. Прохлады не было даже в тени оливковых рощ, и непрерывный, пронзительный стрекот цикад, казалось, нарастал и становился все настойчивей с каждым горячим синим полуднем. Вода в прудах и канавах убывала, и грязь по краям принимала вид зубчатой пилы, трескалась и завивалась на солнце. Море лежало совершенно бездыханное и неподвижное, похожее на огромное шелковое полотно, а вода на отмелях была слишком теплая и не освежала. Приходилось выгребать на лодке на глубокую воду — ты и твое отражение единственное шевеление на море — и нырять через борт. Это выглядело так, будто ныряешь в небо.
Наступила самая пора для охоты на бабочек и мотыльков. Днем на склонах холмов, где пульсирующее солнце, казалось, высосало до последней капли всю влагу, можно было поймать больших ленивых бабочек-парусников, изящно и хаотично перепархивающих с куста на куст; перламутровок, пышащих жаром горячо и сердито, совсем как раскаленные уголья, и перелетающих быстро и расторопно с цветка на цветок; капустниц; шафрановых желтушек и лимонно-желтых или оранжевых крушинниц, беспорядочно летающих взад-вперед на неопрятного вида крыльях. Толстоголовки, подобно бурым пушистым самолетам, легко и плавно, с мурлыкающим звуком летали в разнотравье, а на мерцающих плитах селенита сидели, складывая и раскрывая крылья, как будто умирая от жары, адмиралы, пламенеющие, словно драгоценные камни Вулворта. По ночам лампы облепляли полчища мотыльков, и розовые гекконы на потолке, большеглазые и плоскостопные, наедались до отвала, так что едва могли двигаться. Неизвестно откуда в комнату с жужжанием влетали зеленовато-серебристые олеандровые бражники, в неистовстве любви они устремлялись к лампе и ударялись о нее с такой силой, что стекло разбивалось вдребезги. Бражники «мертвая голова», в имбирных и черных крапинах, с мрачным черепом и скрещенными костями, словно вышитыми на их мохнатых плюшевых грудках, набивались через трубу в камин и лежали на решетке, трепыхаясь и извиваясь, пища словно мыши.
На склонах холмов, где широкими грядами рос вереск, теплый и до хруста обожженный солнцем, охотились черепахи, ящерицы и змеи, а богомолы висели в зеленой листве мирта, медленно и зловеще раскачиваясь из стороны в сторону. Вторая половина дня была наилучшим временем для знакомства с животным миром холмов, но она же была и наиболее жаркая. Солнце барабанило тебе по черепу, а спекшаяся земля жгла ноги сквозь подошву сандалий, словно раскаленная сковорода. Вьюн и Пачкун боялись солнца и никогда не составляли мне компанию во второй половине дня, зато Роджер, как неустанный естествоиспытатель, всегда сопровождал меня, тяжело дыша и большими глотками заглатывая свисающую с языка слюну.
Мы пережили с ним множество приключений. Так, однажды мы как зачарованные наблюдали за двумя ежами, пьяными в стельку от съеденного ими упавшего и наполовину перебродившего винограда; они, качаясь, ходили кругами, воинственно огрызались, икали и издавали тонкие пронзительные крики. В другой раз мы наблюдали за красным, как осенний лист, лисенком, впервые наткнувшимся в зарослях вереска на черепаху. Черепаха флегматично, в свойственной всем черепахам манере, втянула голову и лапы в панцирь, наглухо замкнулась, как чемодан. Однако это движение не ускользнуло от внимания лисенка, и он, навострив уши, медленно обошел черепаху. Затем, будучи еще совсем неопытным, быстро ударил лапой по панцирю и отскочил в сторону, ожидая возмездия. А потом лег и, положив голову на лапы, несколько минут изучал черепаху. Наконец он довольно осторожно подошел к ней и после нескольких неудачных попыток сумел подхватить ее челюстями, после чего, высоко подняв голову, с гордым видом затрусил прочь по вересковой пустоши. На этих же холмах мы наблюдали, как вылупливаются из яиц с тонкой, словно бумага, скорлупой малютки черепахи, иссохшие и морщинистые с виду, как будто в момент рождения им уже было по тысяче лет. И еще здесь я впервые увидел брачный танец змей.
Было это так. Мы с Роджером сидели под большой купой миртовых кустов, дававших чуточку тени и возможность укрыться. Мы вспугнули ястреба, устроившегося на кипарисе поблизости, и теперь терпеливо ждали, когда он вернется, чтобы хорошенько рассмотреть его, как вдруг футах в десяти от того места, где мы затаились, я заметил двух змей, выползающих из коричневой непролази стеблей вереска. Роджер, напуганный змеями, встревоженно взвизгнул и поджал уши. Я яростно цыкнул на него и продолжал наблюдать. Одна змея, казалось, вплотную следовала за другой. «Уж не гонится ли она за ней, чтобы съесть?» — подумалось мне. Змеи выскользнули из зарослей вереска и исчезли среди пучков добела выжженной солнцем травы, и я потерял их из виду. Проклиная судьбу, я собрался было занять иную позицию в надежде снова увидеть их, как вдруг они появились опять на относительно открытом месте.
Тут змея, что ползла впереди, остановилась, а та, что следовала позади, пристроилась бок о бок с ней. Так они лежали некоторое время, затем преследователь стал пытливо тыкаться головой в голову преследуемой. Я решил, что первая змея самка, а преследователь самец. Он продолжал тыкаться головой в шею самки и наконец приподнял ее голову и шею от земли. Она замерла в этой позе, и самец, отползши на несколько дюймов, также поднял голову. В таком положении, неподвижные, глядя друг на друга, они оставались довольно продолжительное время. Затем самец медленно скользнул вперед, обвился вокруг самки, и они вместе поднялись вверх, насколько могли без потери равновесия, обвившиеся друг вокруг друга, словно вьюнки. Некоторое время они оставались неподвижными, а затем стали раскачиваться наподобие двух борцов, упершихся друг в друга на ринге; их хвосты завивались и цеплялись за корни травы вокруг, чтобы найти надежную точку опоры. Внезапно они хлопнулись на бок, задние концы их тел встретились, и они спарились, лежа на солнце, переплетшиеся, словно бумажные ленты серпантина.
В этот момент Роджер, с нарастающим беспокойством наблюдавший мой интерес к змеям, вскочил на лапы и, не успел я остановить его,встряхнулся, тем самым давая понять, что с него хватит и нам лучше двинуться дальше. К сожалению, змеи заметили его. На мгновение они конвульсивно сжались в запутанный клубок, блестя кожей на солнце, затем самка высвободилась и устремилась к спасительным зарослям вереска, волоча за собой все еще не оторвавшегося от нее беспомощного самца. Роджер взглянул на меня, с наслаждением чихнул и завилял своим обрубком-хвостом. Но я был недоволен им и недвусмысленно заявил об этом. В конце концов, разъяснил я ему, он и сам не раз имел дело с суками, и как бы он чувствовал себя, если б его застигла врасплох опасность и его вот так же позорно уволокли с места любовных утех?
С наступлением лета остров наводнили оравы цыган, они помогали убирать урожай и крали все, что попадалось под руку. С глазами как сливы, со смуглой, обгоревшей на солнце почти дочерна кожей, взлохмаченные и одетые в лохмотья, они кочевали семьями по белым пыльным дорогам, сидя на ослах или на гибких маленьких пони, лоснящихся, словно каштаны. Их стоянки неизменно являли собой редкое по убожеству зрелище: десяток подвешенных над кострами булькающих котелков с различными ингредиентами, старухи, сидящие в тени неопрятных кибиток и старательно вылавливающие насекомых из лежащих на их коленях голов детишек, тогда как ребятня постарше, в зубчатых, как листья одуванчика, лохмотьях, катается, визжит и играет в пыли. Те из мужчин, кому посчастливилось найти побочную работу, заняты ею. Вот один из них скручивает и связывает вместе разноцветные воздушные шары, так что они протестующе визжат, принимая формы диковинных животных. Другой, может статься, гордый обладатель театра теней Карагиози, подновляет ярко раскрашенные резные фигурки и опробует пошлые реплики Карагиози на восторженно хихикающих красивых молодых женщинах, помешивающих в котелках или сидящих с вязаньем в тени.
Я всегда стремился поближе сойтись с цыганами, но они были пугливыми, враждебно настроенными людьми и едва терпели греков. Копна волос, почти добела выгоревших на солнце, и голубые глаза автоматически делали меня подозрительным типом, и хотя цыгане допускали меня к себе в табор, они никогда не были общительными, как, например, крестьяне, и не раскрывали передо мной подробности своей личной жизни, своих устремлений. Тем не менее именно цыгане косвенным образом вызвали переполох в нашей семье. На этот раз я был совершенно невиновен.
Случилось это так. Чрезвычайно жаркий летний день был на исходе. Мы с Роджером занимались изнурительным делом: преследовали большущего негодующего ужа вдоль сухой каменной стены. Не успевали мы разобрать одну ее часть, как уж ускользал в другую, и после того, как мы восстанавливали снесенную нами часть стены, уходило полчаса или около того, чтобы отыскать ужа среди зазубренных скал. В конце концов мы нехотя признали свое поражение и отправились домой к чаю, жаждущие, сплошь в поту и пыли. Когда мы прошли поворот дороги, я кинул взгляд на небольшую долину и увидел, как мне показалось на первый взгляд, человека с необычайно большой собакой. При ближайшем рассмотрении, однако, я, едва веря своим глазам, убедился, что это не собака, а медведь. Я так изумился, что невольно вскрикнул. Медведь встал на дыбы и, повернувшись, посмотрел на меня, человек тоже. Некоторое время они сверлили меня взглядами, затем человек приветственно махнул рукой и вернулся к своему занятию — продолжал раскладывать свои пожитки под оливой, меж тем как медведь опустился на землю и, сидя на задних лапах, с интересом следил за ним. Я в волнении поспешил вниз по склону холма. Мне говорили, что в Греции есть танцующие медведи, но мне еще не приходилось их видеть. Шанс был слишком хорош, чтобы упустить его. Приблизившись, я окликом приветствовал незнакомца, и он отвернулся от вороха своих пожитков и довольно вежливо ответил мне. Передо мной был цыган с темными диковатыми глазами и иссиня-черными волосами, но выглядел он куда благополучнее большинства своих сородичей: на нем был вполне приличный костюм, а на ногах — башмаки, что в те времена служило знаком отличия даже среди крестьян — землевладельцев острова.
Я спросил, можно ли мне, не рискуя жизнью, подойти поближе, ибо, хотя медведь и был в кожаном наморднике, он не был привязан.
— Да подходи, — ответил цыган. — Павло не причинит тебе вреда, только оставь собаку.
Я повернулся к Роджеру и увидел, что, как он ни храбрится, вид медведя ему не нравится и он остается при мне лишь из чувства долга. Я велел ему отправляться домой, и он, бросив на меня благодарный взгляд, затрусил вверх по косогору с таким видом, будто знать ничего не знает. Вопреки уверениям цыгана, что Павло не причинит мне никакого вреда, я приближался к нему с опаской, ибо, хотя медведь был еще совсем молодой, встав на дыбы, он превзошел бы меня примерно на фут ростом и на широких шерстистых лапах у него виднелся устрашающий и очень действенный набор блестящих когтей. Он сидел и помаргивал крохотными блестящими карими глазками, легонько дыша, — ни дать ни взять большая груда одушевленных, растрепанных морских водорослей. Для меня он был самым желанным животным, какое я когда-либо видел, и я обошел его вокруг, обозревая его достоинства с самых различных точек зрения.
Сгорая от нетерпения, я засыпал цыгана вопросами. Сколько лет медведю? Как он попал к нему? Что он с ним делает?
— Он танцует и этим зарабатывает на пропитание себе и мне, — отвечал цыган, явно забавляясь моим восторгом. — Вот посмотри.
Он взял в руку палку с маленьким крючком на конце и продел крючок в кольцо, вделанное в кожаный намордник на пасти медведя.
— Ну-ка, станцуй с папой.
Одним быстрым движением медведь поднялся на задние лапы. Цыган щелкнул пальцами и начал насвистывать жалобную мелодию, шаркая в такт ногами, и медведь последовал его примеру. Они танцевали вдвоем медленный, величавый менуэт среди ярко-синего чертополоха и высохших стеблей златоцветника. Я мог бы глядеть на них бесконечно. Когда цыган довел напев до конца, медведь по привычке опустился на четвереньки и чихнул.
— Браво! — негромко сказал цыган. — Браво!
Вне себя от восторга я захлопал в ладоши. Никогда еще я не видел ни такого прекрасного танца, серьезно сказал я, ни такого искусного исполнителя, как Павло. Можно мне погладить его?
— Можешь делать с ним что угодно, — посмеиваясь, сказал цыган и отцепил палку от намордника. — Он дурачок. Он даже не тронет разбойника, который позарится на его еду.
В доказательство своих слов цыган стал скрести медведя по спине, и тот, высоко задрав голову, издал от удовольствия ряд хриплых, гортанных, бормочущих звуков, постепенно сник на землю в экстазе и в конце концов распластался на ней — ну прямо, подумалось мне, как коврик из медвежьей шкуры.
— Он любит, когда его щекочут, — сказал цыган. — Подойди и пощекочи его.
Последующие полчаса были для меня истинным наслаждением. Я щекотал медведя, а он мурлыкал от удовольствия. Я осмотрел его большущие когти, его уши, его крошечные блестящие глазки, а он лежал на земле и терпел от меня все, как будто спал. Затем я прильнул к его теплому огромному телу и заговорил с его хозяином. В моем уме созревал план. Медведь, решил я, должен принадлежать мне. Собаки и все прочие жившие в доме животные скоро привыкнут к нему, и мы вдвоем будем кружиться в вальсе на склонах холмов. Я льстил себя надеждой, что мои родные страшно обрадуются приобретению такого разумного животного, но, прежде чем торговаться, надо было привести хозяина медведя в соответствующее настроение. Торговаться с крестьянами было занятием шумным, затяжным и трудным. Но этот человек был цыганом, а уж с ними-то договориться можно. Он показался мне не столь молчаливым и сдержанным, как все другие цыгане, с которыми я имел дело, и я истолковал это как добрый знак. Я спросил его, откуда он приехал.
— Издалека, издалека, — ответил он, накрывая свои пожитки ветхим брезентом и вытряхивая несколько потрепанных одеял, очевидно служивших ему постелью. — Высадились в Лефкими прошлой ночью и с тех пор все идем и идем, Павло, Голова и я. Видишь ли, Павло не пускают в автобусы, люди боятся его. Вот мы и провели прошлую ночь без сна, ну а теперь переночуем здесь и завтра будем в городе.
Заинтригованный, я спросил, как понимать его слова «Павло, Голова и я».
— Моя Голова, конечно, — ответил он. — Моя маленькая Говорящая Голова.
И он взял в руки палку с крючком и, ухмыляясь, стукнул ею по груде вещей под брезентом.
Я раскопал в кармане шортов остатки разломанной плитки шоколада и занялся скармливанием их медведю. Тот принимал каждый кусочек, издавая громкие стоны и пуская слюни от удовольствия. Я сказал цыгану, что не понимаю, о чем он говорит. Тогда он присел передо мной на корточки и закурил сигарету, глядя на меня темными глазами, неприязненными, как у ящерицы.
— У меня есть Голова, — сказал он, указывая большим пальцем на груду своих пожитков, — живая Голова. Она разговаривает и отвечает на вопросы. Это, несомненно, самая замечательная вещь на свете.
Я был озадачен. Хочет ли он сказать, спросил я, что у его головы нет туловища?
— Ну, разумеется. Просто Голова. — И он сложил перед собой руки ковшиком, словно держал в них кокосовый орех. — Она сидит на маленькой палочке и разговаривает с вами. Ничего подобного свет еще не видал.
Но каким образом, осведомился я, голова без тела может жить?
— Волшебство, — торжественно изрек цыган. — Волшебство, которое передалось мне по наследству от моего прапрадеда.
Я был уверен, что он разыгрывает меня, но, какой бы интригующей ни была дискуссия на тему о говорящих головах, мы уклонились от моей главной цели — приобретения права собственности на Павло. С хриплыми вздохами удовлетворения медведь засасывал через намордник последний кусочек шоколада. Я внимательно оглядел цыгана; он сидел на корточках с мечтательным выражением в глазах, голова его была окутана облаком дыма. Я решил, что лучше всего подойти к нему, руководствуясь пословицей «Смелость города берет», и спросил напрямую, как он относится к тому, чтобы продать медведя и за какую цену.
— Продать Павло? — переспросил он. — Ни за что! Он мне все равно что сын родной.
Конечно, сказал я, если он попадет в хороший дом. В такое место, где его будут любить и танцевать с ним, разумеется, при таких условиях для него, хозяина, будет заманчиво продать медведя. Цыган задумчиво глядел на меня, попыхивая сигаретой.
— Двадцать миллионов драхм? — сказал он и засмеялся, заметив выражение ужаса в моих глазах. — Люди, у которых есть земля, должны иметь ослов, чтобы обрабатывать ее, — сказал он. — Они не так легко расстаются с ними. Павло мой осел. Он танцами зарабатывает на жизнь и себе и мне, и, пока он не станет слишком стар, чтобы танцевать, я не расстанусь с ним.
Я был глубоко разочарован, но видел, что он не уступит. Я поднялся с широкой, теплой, слегка храпящей спины Павло, на которой лежал, и отряхнул с себя пыль. Ну что ж, сказал я, ничего не поделаешь. Я понимаю его желание держать при себе медведя, но если он передумает, пусть свяжется со мной, ладно? Он серьезно кивнул. И если он будет давать представление в городе, пусть даст мне знать где, чтобы я мог присутствовать, ладно?
— Ну конечно, — сказал он. — Но я думаю, люди скажут тебе, где я нахожусь, потому что моя Голова — вещь единственная в своем роде.
Я кивнул и пожал ему руку. Павло встал на лапы, и я похлопал его по голове.
Добравшись до верхнего конца долины, я оглянулся. Они стояли бок о бок. Цыган махнул рукой, Павло, раскачиваясь на задних лапах, высоко задрал морду, поводя носом в мою сторону. Мне хотелось думать, что так он прощался со мной.
Я медленно побрел домой, размышляя о цыгане, его Говорящей Голове и чудесном Павло. Представится ли мне возможность, спрашивал я себя, раздобыть где-нибудь медвежонка и вскормить его? Что, если дать объявление в газете в Афинах? Быть может, это принесет результат?
Все домашние сидели в гостиной и пили чай, и я решил поделиться с ними тем, что меня волновало. Однако не успел я войти в комнату, как безмятежная сцена чаепития удивительным образом преобразилась. Марго издала пронзительный крик, Ларри уронил чашку с чаем себе на колени, вскочил и укрылся за столом, Лесли схватил в руки стул, а мама, раскрыв рот, с ужасом воззрилась на меня. Никогда еще мое появление не вызывало такую недвусмысленную реакцию у моих родных.
— Убери его отсюда! — рявкнул Ларри.
— Да убери отсюда эту проклятую тварь! — вторил ему Лесли.
— Он убьет всех нас! — визжала Марго.
— Достаньте ружье, — слабым голосом сказала мама. — Достаньте ружье и спасите Джерри.
Я, хоть убей, не мог понять, что с ними сталось. Все они уставились на что-то за моей спиной. Я повернулся, посмотрел — и ахнул: в дверях стоял Павло, с надеждой принюхиваясь к запахам, исходившим от чайного стола. Я шагнул к нему и ухватил его за морду. Он нежно тыкался в меня носом. Я объяснил, что это всего-навсего Павло.
— С меня довольно, — проговорил Ларри хриплым голосом. — С меня довольно. Птицы, собаки, ежи по всему дому, а теперь еще и медведь. Скажите мне, Христа ради, что для него этот дом? Кровавая римская арена?
— Джерри, милый, будь осторожен, — дрожащим голосом сказала мама. — У него такой свирепый вид.
— Он задерет всех нас, — трясущимся голоском, но уверенно сказала Марго.
— Я не могу пройти мимо него за своими ружьями, — сказал Лесли.
— В этом нет необходимости. Я запрещаю, — сказал Ларри. — Я не хочу, чтобы наш дом превратился в берлогу.
— Где ты его раздобыл, милый? — спросила мама.
— Мне все равно, где он его раздобыл, — сказал Ларри. — Он должен отвести его обратно сейчас же, сию минуту, прежде чем эта тварь разорвет нас на куски. У мальчишки нет никакого чувства ответственности. Я не намерен играть роль христианина-мученика, это в мои-то годы.
Павло встал на дыбы и издал долгий хрипящий стон, который я истолковал как желание присоединиться к нам в поедании сластей, что были на столе, однако домашние истолковали его иначе.
— Ой! — взвизгнула Марго, как будто ее укусили. — Он нападает!
— Джерри, будь осторожен, — сказала мама.
— Я не отвечаю за то, что я сделаю с этим мальчишкой, — сказал Ларри.
— Если ты останешься в живых, — сказал Лесли. — Да заткнись же ты наконец, Марго, ты только все ухудшаешь. Ты спровоцируешь эту проклятую тварь.
— Я могу визжать, когда хочу, — с негодованием ответила Марго.
Мои родные от страха так разгалделись, что не дали мне возможности вставить словечко. Теперь я предпринял попытку объяснить, в чем дело. Во-первых, сказал я, Павло не принадлежит мне, а во-вторых, он ручной, как собака, и мухи не обидит.
— Я не верю ни одному твоему объяснению, — сказал Ларри. — Ты стащил его из какого-нибудь треклятого цирка. Мы рискуем не только тем, что из нас выпустят кишки, но и тем, что нас арестуют за укрывательство краденого.
— Ну-ну, милый, — сказала мама, — дай Джерри объяснить.
— Объяснить? — переспросил Ларри. — Объяснить? Как можно объяснить присутствие огромного медведя в гостиной?
Я сказал, что медведь принадлежит цыгану, у которого есть Говорящая Голова.
— Что ты разумеешь под говорящей головой? — спросила Марго.
Я ответил, что это голова без тела, которая умеет говорить.
— Мальчишка спятил, — уверенно заявил Ларри. — Чем скорее мы сведем его к психиатру, тем лучше.
Все домашние к этому времени сбились в трепещущую кучку в дальнем углу комнаты. Я негодующе заявил, что мои слова — чистая правда и что в доказательство этого я могу заставить Павло танцевать. Я схватил со стола кусок торта, продел палец в кольцо на наморднике медведя и произнес те же приказания, какие произносил его владелец. Не сводя жадного взгляда с торта, Павло встал на дыбы и начал танцевать со мной.
— Ой, смотрите! — сказала Марго. — Смотрите, он танцует!
— Мне безразлично, пусть даже он ведет себя как целый кордебалет, — сказал Ларри. — Я хочу, чтобы эту треклятую тварь убрали отсюда.
Я просунул кусок торта через намордник Павло, и он с жадностью втянул его в рот.
— Право, он совсем милый, — сказала мама, поправляя очки и с интересом рассматривая медведя. — Помнится, у моего брата в Индии был когда-то медведь. Он был очень славным домашним животным.
— Нет! — в один голос сказали Ларри и Лесли. — Этому не бывать.
Я сказал, что так или иначе не смогу держать у себя медведя, ибо владелец отказывается его продать.
— Вот и прекрасно, — сказал Ларри. — Почему бы в таком случае не возвратить медведя его хозяину, если ты кончил свой эстрадный дивертисмент?
Захватив еще кусок торта в качестве приманки, я снова продел палец в кольцо на наморднике Павло и вывел его из дома. На полпути к маленькой долине я встретил хозяина Павло. Он был в смятении.
— Вот он! Вот он, разбойник! Я и представить себе не мог, куда он мог запропаститься. Обычно он всегда безотлучно при мне, вот почему я не держу его на привязи. Должно быть, ты очень ему понравился.
Я не мог покривить душой и сказал, что, по-видимому, Павло последовал за мной по той единственной причине, что увидел во мне поставщика шоколада.
— Фу-ты ну-ты! — сказал цыган. — У меня гора с плеч свалилась. Я опасался, что он ушел в деревню, это означало бы неприятности с полицией.
Я нехотя передал Павло его владельцу и с грустью смотрел, как они удаляются по направлению к своей стоянке под деревьями. Затем тронулся в обратный путь, не без трепета представляя себе, как предстану перед родными. Хоть я и не был виноват в том, что Павло последовал за мной, вся моя прошлая деятельность говорила не в мою пользу, и мне стоило немало труда убедить их, что на сей раз моей вины совершенно нет.
Наутро всецело в мыслях о Павло я тем не менее послушно отправился в город — что я делал каждое утро — к моему наставнику Ричарду Кралевскому. Это был человечек-гном со слегка сгорбленной спиной и большими, серьезными, янтарного цвета глазами, испытывавший поистине муку мученическую в безуспешных попытках научить меня уму-разуму. У него было два подкупающих достоинства. Во-первых, глубокая любовь к естествознанию (весь чердак его дома был занят огромным множеством канареек и других птиц, во-вторых, то, что какую-то часть времени он жил в мире грез, где всегда был героем. Свои приключения он поведывал мне. В них его неизменно сопровождала безымянная героиня, которую он называл просто Леди.
Первая половина утра была посвящена математике, и весь в думах о Павло я выказывал невиданную тупость, к величайшему ужасу Кралевского, который доселе был убежден, что уже познал всю глубину моего невежества.
— Мой милый мальчик, вы просто рассеянны сегодня, — серьезно сказал он. — Вы не способны понять простейшие вещи. Быть может, вы слегка переутомились? Сделаем кратенький перерыв, идет?
Эти кратенькие перерывы нравились Кралевскому не меньше, чем мне. Он уходил на кухню и, повозившись там недолго, возвращался с двумя чашками кофе и печеньем. Мы усаживались за стол, исполненные глубокой приязни друг к другу, и он принимался в красках описывать мне свои воображаемые приключения. Но в это утро он не получил такой возможности. Едва мы уселись поудобнее, прихлебывая кофе, я рассказал ему все про цыгана с Павло и Говорящей Головой.
— Это неслыханно! — сказал он. — Не из тех вещей, с какими ожидаешь столкнуться в оливковой роще. То-то, должно быть, ты удивился. Представляю себе.
Тут его глаза остекленели, и он впал в задумчивость, уставясь в потолок и наклонив чашку так, что кофе проливался на блюдечко. Было ясно, что мой интерес к медведю вызвал в нем усиленную работу мысли. Несколько дней назад я ознакомился с очередной порцией его воспоминаний о прошлом и теперь с нетерпением ждал, что будет дальше.
— В молодости, — начал Кралевский, бросив на меня серьезный взгляд, дабы убедиться, что я слушаю, — в молодости я, пожалуй, был чуточку легкомысленным. То и дело, видишь ли, попадал в беду.
Он усмехнулся своим воспоминаниям и смахнул крошки печенья с жилета. Глядя на его холеные руки и большие нежные глаза, трудно было поверить, что когда-то он был легкомысленным, но я из чувства долга сделал такую попытку.
— Одно время я даже подумывал о том, чтобы поступить в цирк, — продолжал он с видом человека, признающегося в детоубийстве. — Помнится, в деревню, где мы жили, приехал большой цирк, и я не пропустил ни одного представления. Ни одного. Я близко познакомился с циркачами, и они даже научили меня нескольким трюкам. Они говорили, что я бесподобен на трапеции. — Он застенчиво взглянул на меня, желая увидеть, как я отнесусь к такому заявлению. Я с серьезным видом кивнул, как будто в том, чтобы представить себе Кралевского в украшенном блестками трико на трапеции, не было ничего смешного.
— Хочешь еще печенья? — спросил он. — Да? Вот это правильно! Пожалуй, я тоже съем одно.
Жуя печенье, я терпеливо ждал, когда он возобновит свой рассказ.
— Так вот, — продолжал он, — пролетела неделя, и настал вечер последнего представления. Я бы ни за что не пропустил его. Меня сопровождала Леди, моя молодая подруга, она желала посмотреть это представление. Как она смеялась выходкам клоунов! И восхищалась лошадьми. Она и думать не думала, что вскоре случится нечто ужасное.
Кралевский достал тонко надушенный платок и промокнул им влажный лоб. Он всегда чуточку нервничал, когда доходил до кульминационного пункта рассказа.
— В заключительной сцене, — сказал он, — выступал укротитель львов. — Тут он выдержал паузу, дабы я усвоил вещий смысл сказанного. — У него было пять зверей. Огромные нубийские львы с черными гривами, только что из джунглей — так он мне сказал. Мы с Леди сидели в первом ряду, откуда арена просматривалась как нельзя лучше. Тебе приходилось видеть клетку, которую сооружают на арене для выступления со львами? Так вот, в самый разгар выступления одна из ее секций, очевидно плохо закрепленная, рухнула внутрь. К нашему ужасу, мы увидели, что она упала на укротителя, сбила его с ног и он потерял сознание. — Кралевский опять выдержал паузу, нервно отхлебнул кофе из чашки и снова вытер лоб.
— Что было делать? — риторически вопросил он. — Перед нами было пять огромных рычащих львов, а рядом со мной Леди. Я быстро соображал. Если Леди можно спасти, то лишь одним-единственным способом. Схватив трость, я вспрыгнул на арену и вошел в клетку.
Я издал невнятные, едва слышные звуки в знак восхищения.
— За ту неделю, что я бывал в цирке, я с особой тщательностью изучил метод укротителя львов и теперь благодарил за это счастливое созвездие, под которым родился. Рычащие звери на пьедесталах возвышались надо мной, но я смотрел им прямо в глаза. Человеческий глаз, знаешь ли, обладает огромной силой над животными. Медленно, вперив в них пронзительный взгляд и выставив вперед трость, я подчинил львов своей воле и мало-помалу вытеснил их с арены и загнал в клетку. Ужасную трагедию удалось предотвратить.
Я сказал, что, надо полагать, Леди была ему благодарна.
— Именно так. Именно так, — с довольным видом подхватил Кралевский. — Она даже сказала, что я выступил лучше, чем сам укротитель.
А что, поинтересовался я, приходилось ли ему видеть танцующих медведей, когда он бывал в цирке?
— Там были самые различные животные: слоны, тюлени, дрессированные собаки, медведи, — щедро перечислял Кралевский. — Там было все.
В таком случае, сказал я осторожно, не хочет ли он пойти посмотреть танцующего медведя? Это недалеко отсюда, и, хотя это вовсе не цирк, мне кажется, ему будет интересно.
— Ей-Богу, это идея, — сказал Кралевский. Он достал из кармана жилета часы и взглянул на них. — Десять минут, ладно? Так, чтобы хорошенько проветриться.
Он взял шляпу и трость, и мы, сгорая от нетерпения, двинулись по узким многолюдным улицам города, насыщенным запахами фруктов и овощей, сточных канав и свежеиспеченного хлеба. Расспросив нескольких ребятишек, мы установили, где владелец Павло дает представление. Это был большой, скудно освещенный сарай позади одного магазина в центре города. По пути туда я занял у Кралевского немного денег и купил палочку липкой нуги: мне казалось, что я просто не могу явиться к Павло без гостинца.
— А, друг Павло! Добро пожаловать! — сказал цыган, когда мы появились в дверях сарая.
К моему восхищению, Павло узнал меня и шаркающей походкой вышел к нам, издавая тихое ворчание, затем встал передо мной на дыбы. Кралевский отступил назад, несколько поспешно на мой взгляд, если вспомнить его богатый цирковой опыт, и крепче сжал в руке трость.
— Будь осторожен, мой мальчик, — сказал он.
Я угостил Павло нугой, и когда наконец он с чавканьем оторвал последний кусок липкой сласти от зубов и проглотил его, он удовлетворенно вздохнул, лег и положил голову между лап.
— Хотите посмотреть Голову? — спросил цыган. Он сделал жест в сторону задней стены сарая. Там стоял простой стол из сосновых досок, а на нем квадратный ящик, обтянутый тканью.
— Постойте, — сказал цыган, — я зажгу свечи.
На верху ящика, прилепленные талым воском, стояли штук двенадцать больших свечей, и он зажег их, так что язычки пламени, вспыхивая и пригасая, разгорелись трепетными огоньками, от которых плясали тени в сарае. Затем он подошел к столу и постучал по нему своей палкой с крючком.
— Голова, ты готова? — спросил он.
Я ждал с чувством страха, легким покалыванием пробегавшим по спине. И вот из глубины матерчатого ящика послышался звонкий высокий голос:
— Да, я готова.
Цыган откинул ткань с одной стороны ящика, и я увидел, что ящик сделан из тонких планок, к которым была свободно прикреплена тонкая ткань. Объемом ящик был около трех квадратных футов. В центре его находился маленький пьедестал с плоским верхом, и на нем жуткая в мигающем свете свечей голова мальчика лет семи.
— Клянусь Богом! — в восхищении сказал Кралевский. — Вот это да!
Больше всего меня поразило то, что голова была живая. Это была голова маленького цыганского мальчика, довольно грубо загримированная черным салом под негритенка. Она пристально смотрела на нас и моргала глазами.
— Ты готова отвечать на вопросы? — спросил цыган, с явным удовлетворением глядя на зачарованного Кралевского. Голова облизнула губы и сказала:
— Да, я готова.
— Сколько тебе лет? — спросил цыган.
— За тысячу, — ответила Голова.
— Откуда ты родом?
— Я родом из Африки, меня зовут Нго.
Цыган продолжал монотонно задавать вопросы, и Голова отвечала на них, но меня интересовало не это, а то, как делается трюк. Когда цыган впервые упомянул о Голове, я решил, что она либо вырезана из дерева, либо вылеплена из гипса и говорит за нее чревовещатель, но тут передо мной была живая голова, водруженная на маленький деревянный пьедестал окружностью всего со свечу. Я не сомневался, что Голова живая, ибо ее глаза блуждали из стороны в сторону, когда она машинально отвечала на вопросы, а один раз, когда Павло поднялся и встряхнулся, на ее лице отразился страх.
— Вот видите, — гордо сказал цыган, покончив с вопросами. — Что я вам говорил? Это самая замечательная вещь на свете.
Я спросил, можно ли мне ознакомиться с его устройством поближе. Мне вдруг вспомнилось, что Теодор рассказывал о подобного рода иллюзии, достигаемой с помощью зеркал. И хотя я не видел места, где было бы возможно спрятать тело, принадлежащее голове, меня так и подмывало осмотреть стол и ящик.
— Ну конечно, — к моему удивлению, ответил цыган. — Вот, возьми палку. Прошу только об одном: не трогай саму Голову.
Я осторожно, с помощью палки прощупал пространство вокруг пьедестала, пытаясь обнаружить спрятанные зеркала или проволоку, и Голова наблюдала за мной, в ее черных глазах светилась легкая насмешка. Бока ящика несомненно были сделаны только из ткани, а дном служила поверхность стола, на котором он стоял. Я обошел ящик вокруг, но ничего не обнаружил. Я даже залез под стол, но и там ничего не было, и уж во всяком случае места, где можно было бы спрягать тело. Я был совершенно озадачен.
— Ага, — торжествующе сказал цыган. — Ты не ожидал ничего подобного, не так ли? Ты думал, у меня там спрятан мальчишка, не так ли?
Я покорно согласился с ним и попросил рассказать, как это все устроено.
— О нет. Этого я не могу сказать, — ответил цыган. — Это волшебство. Если я скажу, Голова исчезнет в клубе дыма.
Я еще раз осмотрел ящик и стол, но, даже поднеся свечу поближе к предмету своих исследований, не мог разгадать, как это все делается.
— Ладно, — сказал цыган. — Хватит с нас Головы. Поди-ка потанцуй с Павло.
Он продел крюк в кольцо на наморднике медведя, и Павло встал на задние лапы. Цыган вручил мне палку, затем достал маленькую деревянную флейту и заиграл, и мы с Павло торжественно прошествовали в танце.
— Превосходно, ей-Богу, превосходно! — воскликнул Кралевский, восторженно хлопая в ладоши.
Я спросил, не желает ли он потанцевать с Павло, ведь у него такой богатый цирковой опыт.
— Как тебе сказать, — ответил Кралевский. — Вряд ли это разумно. Видишь ли, это животное меня не знает.
— О, он будет вести себя спокойно, — сказал цыган. — Он со всеми ведет себя как ручной.
— Ну что ж, — нехотя сказал Кралевский. — Если вы так уверены. Если вы настаиваете.
Он осторожно взял у меня палку с крючком и стал перед Павло с чрезвычайно опасливым выражением на лице.
— А теперь, — сказал цыган, — танцуйте.
И он заиграл на флейте веселую мелодичную песенку.
Я стоял зачарованный этим зрелищем. В желтом мигающем свете свечей маленькая сгорбленная фигурка Кралевского и косматая громада медведя отбрасывали тени на стену, кружились и кружились в пируэтах, а Голова, посмеиваясь, наблюдала за ними со своего пьедестала.

Глава одиннадцатая
Сердитые бочки

В конце лета пришла пора убирать виноград. В течение всего года виноградники воспринимаются лишь как часть пейзажа, и только с наступлением поры уборки винограда вспоминается последовательность событий, приведших к ней: виноградники зимой, когда лозы кажутся мертвыми, словно прибитые к берегу хворостины, рядами воткнутые в землю; весенний день, когда впервые замечаешь зеленое сияние на каждой лозе, одевшейся в нежные, как бы отделанные рюшем листочки. Но вот листья становятся большими и висят на лозах, как зеленые руки, греющиеся на солнце. Затем появляются виноградины — крошечные узелки на ветвистом стебле; постепенно они растут и набухают на солнечном свету, пока не принимают вид яшмовых яиц какого-то диковинного морского чудовища. Вслед за этим наступает пора опрыскивания. Известь и медный купорос доставляют на виноградники в больших бочках, установленных на маленьких деревянных тележках, запряженных многотерпеливыми ослами. Опрыскиватели являются в специальных костюмах, в которых они выглядят настоящими инопланетянами: защитные очки и маски, на спине большая канистра, от нее отходит гибкий, как слоновый хобот, резиновый шланг, по которому течет распрыскиваемая жидкость синее неба и моря. Кажется, будто в ней сконцентрировалась синева всего синего в мире. Канистры наполняются, и опрыскиватели движутся по отделанным рюшем виноградникам, покрывая каждый листочек, окутывая каждую гроздь зеленого винограда нежной паутиной ярко-синего цвета. Под этим защитным синим покрывалом гроздья набухают и созревают, и наконец в самые жаркие дни лета они готовы к тому, чтобы их собрали и избавили от обременяющего их сока.
Сбор винограда настолько важное событие, что он, естественно, стал порой хождения по гостям, порой пикников и празднеств, порой, когда наливаешь стакан прошлогоднего вина и, размышляя, неторопливо потягиваешь его.
Нас пригласил присутствовать при винной жатве господин Ставродакис, крохотный, весь в добрых морщинах человечек с лицом как у полумертвой от голода черепахи. Он владел виллой и несколькими большими виноградниками в северной части острова. Этот человек жил ради вина, считал, что важнее вина нет ничего на свете, поэтому его приглашение было обставлено со всей торжественностью, подобающей такому случаю, и принято с равной торжественностью нашей семьей. В своем приглашении, написанном четким каллиграфическим почерком и разукрашенном росчерками и завитушками, отчего оно выглядело как кованый железный узор, говорилось: «Прошу Вас, выберите по своему вкусу друзей, которые, по Вашему мнению, могут получить от этого удовольствие».
— Вот и прекрасно, — сказал Ларри. — Говорят, у него лучший винный погреб на Корфу.
— Ну что ж, полагаю, мы можем поехать, если вы хотите, — сказала мама, однако в голосе ее прозвучало сомнение.
— Разумеется, я хочу, — сказал Ларри. — Подумать только, сколько там вина. Знаете что, мы наймем бендзину и устроим пикник.
— Да, да, — оживилась Марго. — У него в поместье замечательный пляж. Мы должны еще поплавать, пока лето не кончилось.
— Можно пригласить Свена, — сказал Ларри. — К тому времени он должен возвратиться. А еще мы можем прихватить Дональда и Макса.
— И Теодора, — сказал Лесли.
— Ларри, милый, — сказала мама, — человек всего лишь приглашает нас посмотреть, как давят виноград или что там еще они с ним делают, и мы просто не можем привезти с собой кучу людей.
— В своем приглашении он говорит, чтобы мы взяли с собой всех, кого хотим, — сказал Ларри.
— Да, но не можем же мы нагрянуть с оравой нахлебников, — сказала мама. — Как этот бедняга прокормит всех нас?
— Ну, это не проблема, — сказал Ларри. — Напиши ему, что мы явимся со своей едой.
— Иными словами, я должна буду сама готовить еду? — спросила мама.
— Глупости, — уклончиво ответил Ларри, — мы просто возьмем с собой несколько отбивных или что-нибудь в этом роде и поджарим их на рашпере над костром.
— Я знаю, что это означает, — сказала мама.
— Ну ты наверняка сможешь как-нибудь это организовать, — сказал Ларри. — В конце концов, как мне кажется, уж это-то дело самое простое.
— Ну что ж, — нехотя сказала мама, — я переговорю утром со Спиро и посмотрю, что тут можно предпринять.
В результате мама написала господину Ставродакису осторожную записку, в которой извещала, что мы с радостью принимаем его приглашение и захватим с собой нескольких друзей. Мы привезем с собой собственную еду и устроим пикник на пляже. Господин Ставродакис ответил еще одним образчиком каллиграфического письма, в котором сообщал, что он совершенно очарован любезностью, с какой мы приняли его приглашение, и заранее предвкушает наш приезд. При этом он добавлял: «Приезжайте, пожалуйста, неодетыми, по-семейному». Эта фраза немало озадачила нас, поскольку он уже много лет был холостяком, но потом мы сообразили, что это был просто дословный перевод с французского.
В конце концов компания составилась. В нее вошли Дональд и Макс, Теодор, Кралевский, Свен, явившийся в самый последний момент из Афин, Спиро и наша семья. В половине седьмого утра мы собрались на провалившихся ступенях лестницы позади королевского дворца в городе, где, приветственно покачиваясь на мелкой ряби, нас поджидала низенькая свежеокрашенная бендзина. Посадка заняла немало времени. Пришлось грузить многочисленные корзины с провизией и вином, кухонную утварь и огромный мамин зонт, без которого она отказывалась путешествовать в летнюю пору. Наконец сияющий Кралевский с поклонами препроводил на борт маму и Марго.
— Тихонько, не споткнитесь. Вот то, что надо! — говорил он, сопровождая их на борт катера с учтивостью венецианского дожа, сажающего в гондолу очередную возлюбленную.
— К счастью, — сказал Теодор, проницательно глядя на безоблачное небо из-под полей своей фетровой шляпы, — к счастью, похоже, что… э-э… м-м… видите ли, день будет погожий. Я рад этому, ибо, как вам известно, я плохо переношу даже малейшее волнение на море.
Всходя на борт, Свен оступился и чуть было не уронил в воду свой драгоценный аккордеон, только длинная рука Макса спасла инструмент от гибели в пучине. Но вот мы все перебрались на катер. Бендзину оттолкнули от берега, мотор заработал, и мы поплыли. В жемчужно-белесом утреннем мареве город казался игрушечным городком, построенным из разборных кубиков. Фасады высоких, старинных, понемногу осыпающихся венецианских домов, окрашенных в бледные тона кремового, коричневого, белого и розового, как цикламен, цвета, затушевывались маревом и казались смазанными, как на рисунке пастелью.
— Жизнь на океанской волне! — патетически произнес Кралевский, вдыхая теплый, неподвижный воздух. — Вот то, что надо!
— Хотя море кажется таким спокойным, — заметил Теодор, — на нем, я полагаю, есть легкое, почти неощутимое волнение.
— Какая чепуха, Теодор, — сказал Ларри. — На такое море положишь ватерпас — и пузырек не шелохнется.
— Муттер чувствовайт себя удобно? — любовно осведомился Макс у мамы.
— О да, милый, спасибо, вполне удобно, — ответила она, — но я немного обеспокоена. Я не уверена, положил ли Спиро чеснок.
— Не беспокойтесь, миссис Даррелл, — сказал Спиро, услышавший ее слова, — я положил все, что вы мне велели.
Свен, с великим тщанием осмотрев аккордеон, дабы убедиться, не поврежден ли он, перекинул ремень через плечо и в порядке эксперимента пробежал пальцами по клавишам.
— Душещипательную матросскую песню — вот что нам надо, — сказал Дональд. — И-хо-хо и бутылка рома.
Я ушел ото всех и, пройдя на нос бендзины, улегся там и стал смотреть, как катер разрезает синюю стеклянную поверхность моря. Время от времени перед нами взлетали стайки летучих рыб; переливаясь синими и серебристо-лунными красками на солнце, они вырывались из воды и низко летели над морем подобно летним ласточкам, охотящимся за насекомыми над синей лужайкой.
К восьми утра мы доплыли до места назначения — пляжа длиной в полмили у подножия Пандократора. Оливковые рощи подходили тут к самому морю, отделенные от него лишь широкой полосой гальки. Когда мы приблизились к берегу, мотор выключили, и катер тихонько дрейфовал по инерции. Теперь, когда машина молчала, стал слышен стрекот цикад, гостеприимно приглашающих нас на сушу. Бендзина с тяжким вздохом впечатала свой нос в камешки на мелководье. Ее владелец, гибкий смуглый парень, прошел от машины на нос, спрыгнул с якорем в воду и прочно закрепил его за камни. Затем он нагромоздил кучу ящиков вдоль носа бендзины, построив некое подобие шаткой лестницы, и мама с Марго в сопровождении Кралевского сошли по ней на сушу. Кралевский изящно кланялся каждой, когда та ступала на гальку, но несколько смазал эффект, по неосторожности отступив назад в воду на глубину шести дюймов и тем непоправимо загубив тщательно отглаженную складку своих элегантных брюк. Наконец мы перебрались на берег со всем своим хозяйством и, беспорядочно побросав его в тени олив, так что это напоминало имущество, спасенное с потерпевшего крушение и поглощенного морской пучиной корабля, направились вверх по косогору к вилле Ставродакиса.
Вилла, представлявшая собой большое квадратное здание блекло-красного цвета с зелеными ставнями, была построена с таким расчетом, чтобы нижний этаж служил вместительным погребом. Вверх по подъездной аллее к вилле с гибкой кошачьей грацией тянулись вереницы девушек-крестьянок с корзинами винограда на головах. Ставродакис, минуя их, выбежал нам навстречу.
— Как любезно с вашей стороны, как любезно! Право же, как любезно! — повторял он, когда мы по очереди представлялись ему.
Он усадил всех нас на веранде под большой ярко-красной ветвью бугенвиллеи и откупорил несколько бутылок своего наилучшего вина. Оно было крепкое и терпкое и светилось тускло-красным светом, словно в наши стаканы лился гранатовый сок. Когда мы подкрепились и слегка захмелели, он, двигаясь легко и быстро, словно черный дружелюбный жук, повел нас в свои погреба.
Погреба были такие обширные, что в их самых темных углах пришлось пользоваться светильниками — плошками с янтарного цвета маслом, в котором плавали маленькие фитили, дававшие неровный мигающий свет. Каждый погреб был разделен на две части, и Ставродакис повел нас сперва туда, где давили виноград. Здесь в смутном свете над всем неясно вырисовывались три гигантских чана. Один из них наполняла виноградом непрерывная череда крестьянок. В двух других работали давильщики. В углу на перевернутом бочонке сидел седой субтильного сложения старик и с величайшей торжественностью играл на скрипке.
— Это Таки, а это Яни, — сказал Ставродакис, показывая на давильщиков.
Голова Таки едва виднелась над краем чана, тогда как у Яни были видны еще и плечи.
— Таки давит виноград с прошлой ночи, — сказал Ставродакис, с беспокойством поглядывая на маму и Марго, — так что боюсь, он немного опьянел.
И впрямь даже там, где мы стояли, явственно ощущались пьянящие пары, исходившие от давленого винограда, а уж в теплой глубине чана их концентрация была, вероятно, втрое выше. Снизу из чана неочищенное молодое вино сочилось в лохань, где оно парило с клочьями пены на поверхности, розовыми, как цветок миндаля. Отсюда его сифонами разливали по бочкам.
— Вы видите конец сбора, — объяснял Ставродакис. — Это остатки красного винограда. Он растет в небольшом винограднике высоко в горах и дает, осмелюсь полагать, одно из лучших вин Корфу.
Таки на мгновение перестал танцевать джигу на винограде, перекинул руки через край чана и повис на нем, словно пьяная ласточка на гнезде; его руки были по локоть окрашены вином и сплошь покрыты коркой из виноградной кожуры и косточек.
— Мне пора выходить, — заплетающимся языком сказал он, — не то я буду мертвецки пьян.
— Да, да, через минуту, мой Таки, — сказал Ставродакис, беспокойно оглядываясь вокруг. — Через минуту придет Костос и сменит тебя.
— Должен же человек справить малую нужду, — удрученно объяснил Таки. — Человек не может работать, не справив малую нужду.
Старик, сидевший на бочке, положил свою скрипку и, вероятно в виде компенсации, протянул Таки большой ломоть простого хлеба, на который тот накинулся с волчьей жадностью.
Тем временем Теодор читал Свену сугубо научную лекцию по виноградарству, указывая тростью на давильщиков и на бочки, словно на музейные экспонаты.
— Кто это утонул в бочкемальвазия? — спросил Макс у Ларри.
— Один из более или менее благоразумных героев Шекспира, — ответил Ларри.
— Помнится, однажды я повел Леди по одному из самых больших погребов во Франции, — обращаясь к Дональду, сказал Кралевский. — На полпути я ощутил какое-то беспокойство. У меня было предчувствие беды, и я вывел Леди из погреба. Представьте, в этот момент четырнадцать бочонков вина взорвались с грохотом, как из пушек…
— Здесь, как вы видите, мы давим виноград, — сказал Ставродакис. — А теперь, если вы соизволите пойти за мной, я покажу вам, где хранится вино.
Он провел нас по сводчатому проходу в другую сумрачную часть погреба. Здесь ряд за рядом лежали на боку бочки и царил невероятный шум. Сначала я подумал, что он исходит снаружи, но потом понял, что от бочек. Вино бродило в их бурых утробах, и бочки урчали, пищали и ворчали друг на друга, совсем как рассерженная толпа людей. В этом было что-то завораживающее и вместе с тем чуточку устрашающее. Казалось, в каждой бочке заключен страшный демон, изрыгающий непонятные ругательства.
— Крестьяне утверждают, — с каким-то мрачным наслаждением заметил Теодор, слегка постукивая тростью по одной из бочек, — крестьяне утверждают, что такие звуки издает утопающий.
— Мальвазий! — возбужденно воскликнул Макс. — Бочки и бочки мальвазий! Ларри, мы утоплимся вместе.
— Утопимся, — поправил Дональд.
— Все это в высшей степени интересно, — лицемерно сказала Ставродакису мама, — но если вы не возражаете, мы с Марго, пожалуй, вернемся на пляж и позаботимся о завтраке.
— Интересно, какую силу вино порождает там внутри, — произнес Лесли, задумчиво оглядывая бочки. — Я хочу сказать, если оно порождает силу, достаточную для того, чтобы вытолкнуть затычку, с какой мощностью оно это делает?
— С весьма значительной, — отозвался Теодор. — Помнится, я однажды видел, как человека тяжело покалечило затычкой, вылетевшей из бочки. — И словно для того, чтобы продемонстрировать это, он с силой ударил тростью по бочке, так что все мы подпрыгнули.
— Да, конечно, если вы не возражаете, — нервно сказала мама, — мы с Марго, пожалуй, пойдем.
— Но все остальные, все остальные поднимутся наверх и отведают вина? — взмолился Ставродакис.
— Ну, разумеется, — сказал Ларри таким тоном, словно оказывал ему услугу.
— Мальвазий! — сказал Макс, в экстазе закатывая глаза. — Мы отведайт мальвазий!
Мама и Марго ушли на пляж, чтобы помочь Спиро собрать завтрак, а Ставродакис, суетясь, торопливо повел нас обратно на веранду и так накачивал вином, что к тому времени, когда пора было отправляться на пляж, мы размякли, разгорячились и раскраснелись.
— Мне снилось, — распевал Макс, пока мы шли через оливковые рощи, захватив с собой к завтраку обрадованного Ставродакиса, — мне снилось, что я живу в мраморных залах, а все корабли и лужайки бок о бок со мной.
— Он нарочно дразнит меня, — пожаловался Дональд Теодору. — Он отлично знает эту песню.
Под деревьями на берегу моря были разложены три костра из древесных углей. Они пышали жаром, вздрагивали и чуть дымили, а над ними трещало и шипело самое разнообразное съестное. Марго расстелила в тени большую скатерть и раскладывала на ней столовые приборы, расставляла стаканы и фальшиво напевала про себя, меж тем как мама и Спиро, присев, словно ведьмы, над кострами, умащали шипящую коричневую тушку козленка маслом и чесноком и орошали лимонным соком большую рыбину, кожа которой лопалась пузырьками и соблазнительно завивалась.
Растянувшись во весь рост вокруг яркой скатерти, на которой светились стаканы с вином, мы неторопливо поглощали завтрак. Козлятина была жирная и сочная, вся пронизанная пряными травами, а куски рыбы таяли во рту, как снежинки. Разговор тянулся медленно, то разгораясь, то снова лениво опадая, как дым костров.
— Вы должны быть влюблены в камень, — торжественно изрек Свен. — Вы видите десятки камней. Вы говорите: «Тьфу! Это не для меня». Но вот перед вами камень, изящный и элегантный, и вы влюбляетесь в него. Он как женщина. Но потом следует женитьба, и это может быть ужасно. Вы боретесь с ним и обнаруживаете, что камень твердый. Вы впадаете в отчаяние, и вдруг он, как воск, тает в ваших руках, и вы создаете форму.
— Помнится, — сказал Теодор, — Берленкур — вы знаете, это тот французский художник, что живет в Палеокастрице, — пригласил меня взглянуть на его работы. Он сказал… э-э… понимаете ли, совершенно недвусмысленно: «Приходите взглянуть на мои картины». Я пришел к нему как-то днем, и он встретил меня чрезвычайно радушно. Он напоил меня… э-э… понимаете ли, чаем с маленькими пирожными, и затем я сказал, что хотел бы взглянуть на его картины, и он указал на большое полотно, стоящее на… м-м… как называется эта штука, которой пользуются художники? Ах да, мольберт. Право, это была вполне приличная картина. На ней был изображен залив у Палеокастрицы и монастырь, но, когда я выразил свое восхищение ею и огляделся, чтобы взглянуть на другие его работы, я не обнаружил ни одной. Тогда я… э-э… спросил его, где же остальные его картины, и он указал на мольберт и сказал… э-э… что они «там, под этой». Мне подумалось, что у него просто не было денег, чтобы покупать полотно, и поэтому он писал одну картину на другой.
— Страдание — удел великих художников, — мрачно заметил Свен.
— Когда настанет зима, я возьму вас с собой на болота Бутринто, — с воодушевлением сказал Лесли. — Там пропасть уток и чудовищно огромные дикие кабаны на холмах.
— Утки я любю, но вот дикие кабан, пожалуй, чуточку велик для меня, — сказал Макс с убежденностью человека, знающего пределы своих возможностей.
— Не думаю, чтобы от Макса была особая польза, — сказал Дональд. — В критический момент он, вероятно, попросту смоется. Ведь он иностранец.
— А уж потом, — сказала мама, обращаясь к Кралевскому, — вы кладете лавровый лист и щавель до того, как суп закипит.
— Вот я и говорю ему, мисс Марго, плевать мне на то, говорю я, что он французский посол, все равно он ублюдок.
— Тогда на краю болот — правда, идти тяжеловато, потому что почва вязкая, — можно добыть вальдшнепа и бекаса.
— Как-то раз я побывал в одной деревне в Македонии, там вырезают очень любопытные… гм… скульптуры из дерева.
— Одно время я знал молодую женщину, которая готовила суп не с лавровым листом, а со щепоткой мяты.
Был самый жаркий час дня, когда даже цикады, казалось, стрекочут тише и с запинками. Черные муравьи деловито сновали по скатерти, подбирая крошки съестного. Слепень, с глазами как два злых блестящих изумруда, на мгновение сел на бороду Теодора и с жужжанием улетел прочь.
Отяжелевший от съеденной пищи и выпитого вина, я медленно поднялся и пошел вниз к морю.
— А временами, — донесся до меня голос Ставродакиса, разговаривавшего с Марго, — временами бочки прямо-таки кричат. Они поднимают такой шум, будто дерутся. Тогда я держу ухо востро.
— Ой, не надо, — содрогаясь, сказала Марго. — У меня мурашки по спине бегают, стоит мне подумать об этом.
Море лежало тихое и теплое, словно оцепенелое, только у самой кромки воды подернутое мельчайшей зыбью. Галька хрустела и пересыпалась, обжигая мои босые ноги. Камни побольше и мелкие камушки на этом пляже, отполированные волнами и легким трением друг о друга, были необыкновенно разнообразны по виду и цвету. Их словно изваяли в миллионе форм: тут встречались наконечники стрел, серпы, петушки, лошади, драконы, морские звезды. Расцветки их были не менее причудливы, чем формы, ибо они были смоделированы соками земли миллионы лет назад и теперь их узоры шлифовало и полировало море. Здесь можно было найти камушки белые с золотой или красной филигранью; кроваво-красные с белыми крапинками; зеленые; синие; бледные желтовато-коричневые; коричневые, как куриное яйцо, с глубоким ржаво-красным рисунком наподобие папоротника; розовые, как пион, с белыми египетскими иероглифами, заключающими в себе таинственное, не поддающееся расшифровке сообщение. Весь пляж казался огромной сокровищницей драгоценных камней, лежащей у кромки воды.
Я забрел на теплую отмель, нырнул и поплыл в море, к более прохладной воде. Здесь, если задержать дыхание и погрузиться на дно, мягкое бархатистое покрывало моря моментально оглушало тебя, закладывало уши. Затем через некоторое время они настраивались на подводную симфонию. Становились слышны отдаленный пульсирующий звук судовой машины, мягкий, как биение сердца; легкий шепот песка, который перемешивало и перемещало движение моря, и громче всего благозвучное перекатывание гальки у самого берега. Чтобы услышать, как обрабатывает море свой богатый запас камушков, любовно шлифуя и полируя их, я вернулся с глубоководья на отмель. Там я устроился поудобнее, набрав полную горсть разноцветных камней, а затем, окунув голову в воду, стал слушать, как поет берег под нежным прикосновением маленьких волн. Если бы грецкие орехи умели петь, подумалось мне, они бы звучали вот так же. Хруст, треньканье, писк, бормотание, покашливание (сменявшиеся тишиной, когда волна откатывалась); со следующей волной все повторялось в новом ключе. Море играло с берегом, как на музыкальном инструменте. Некоторое время я в полудреме лежал на теплой отмели, потом, чуть не засыпая на ходу, направился к оливковой роще.
Улегшись где попало, все спали вокруг остатков пиршества. На всем лежала печать опустошения, как после какой-то ужасной битвы. Я свернулся калачиком среди спасительных корней большой оливы и тоже погрузился в сон.
Проснулся я от легкого звяканья чашек — это мама и Марго раскладывали на скатерти чайную посуду. Спиро, олицетворение сосредоточенности, размышлял над пышущими жаром угольями, на которые он поставил чайник. Я сонно наблюдал, как чайник приподнял крышку и бодро помахал ему, шипя паром. Спиро схватил чайник своей огромной ручищей и наполнил кипятком чайник для заварки, а затем, повернувшись, бросил грозный взгляд на наши неподвижные тела.
— Чай! — громогласно объявил он. — Чай готов!
Все вздрогнули и проснулись.
— Господи Боже! Тебе обязательно надо так рявкать, Спиро? — жалобно посетовал Ларри невнятным со сна голосом.
— Чай, — просыпаясь и оглядываясь вокруг, сказал Кралевский с видом взъерошенного мотылька. — Чай, клянусь Богом. Превосходно. Вот то, что надо.
— Господи, как болит голова, — пожаловался Лесли. — Это, должно быть, от того вина. Ну и забористое же.
— Да, я тоже чувствую себя слегка раскисшим, — зевая и потягиваясь, сказал Ларри.
— А я чувствоваю себя как утонутый, — уверенно сказал Макс. — Утонутый в мальвазий и вернутый к жизнь искусственным воздыханий.
— Ты и впредь намерен уродовать английский язык? — раздраженно спросил Дональд. — Видит Бог, достаточно того, что это делают тысячи англичан, а тут еще вы, иностранцы, помогаете.
— Помнится, я где-то читал, — начал Теодор, который проснулся мгновенно, как кошка, и, хотя спал, как все, выглядел безукоризненно, словно и не спал вовсе. — Помнится, я где-то читал о племени в горах Цейлона, которое говорит на никому не понятном языке. Я хочу сказать, что даже опытные лингвисты не могут его понять.
— Похоже, это что-то вроде английского, на котором говорит Макс, — сказал Дональд.
Благодаря чаю, гренкам с маслом, соленому печенью, сандвичам с кресс-салатом и огромному фруктовому торту, такому сочному, рассыпчатому и ароматному, как глина, мы оживились. Вскоре мы сошли к морю и плавали в теплой воде до тех пор, пока не зашло солнце и тень горы не надвинулась на пляж, отчего он сразу стал казаться холодным и лишенным красок. Тогда мы вернулись на виллу Ставродакиса и, усевшись под бугенвиллеей, смотрели, как краски заката расплываются и смешиваются над морем. Распрощавшись со Ставродакисом, который настоял на том, чтобы мы взяли с собой дюжину больших кувшинов его лучшего вина в память о нашем визите, мы направились к бендзине.
Подходя ближе к морю, мы вышли из тени горы на теплый свет солнца, которое горело кроваво-красным, заходя за громаду Пандократора, и бросало мерцающие блики на воду подобно охваченному пламенем кипарису. Окрасив несколько крохотных облачков в розовый и винно-желтый цвета, солнце нырнуло за гору, и небо из синего стало бледно-зеленым, а гладкая поверхность моря на какой-то момент приняла все волшебные тона огненного опала. Судовая машина размеренно стучала, и мы постепенно приближались к городу, оставляя за собой белое кружево кильватерной струи. Свен тихо заиграл вступление к «Миндальному дереву», и все запели.
Цветущий миндаль покачнула она
Своею лилейной рукой,
И белых как снег лепестков пелена
Покрыла ее с головой.
И видя на ней этот снежный наряд,
Я к милой своей подбежал.
Смести лепестки с черных прядей был рад,
Целуя ее, я сказал.
Смести лепестки с черных прядей был рад,
Целуя ее, я сказал.
Глупышка, украситься снегом стократ
Успеет еще эта прядь.
Суров и уныл зимних дней долгий ряд.
Не смей его предвосхищать!
Суров и уныл зимних дней долгий ряд.
Не смей его предвосхищать!
Глупышка, украситься снегом стократ
Успеет еще эта прядь.
Суров и уныл зимних дней долгий ряд.
Не смей его предвосхищать!
Суров и уныл зимних дней долгий ряд.
Не смей его предвосхищать!

Эпилог

Корфу имеет для меня столь большое значение, что потеря его нанесет роковой удар по моим планам.
Помните: при нынешнем состоянии Европы самое большое несчастье, какое может постичь меня, — это потеря Корфу. Наполеон
Переписка
Письмо
Дорогая миссис Даррелл! Похоже, войны уже не избежать, и, по-моему, Вы поступили благоразумно, покинув Корфу. Остается только надеяться, что все мы можем встретиться в лучшие времена, когда человечество образумится. С нетерпением жду этого. В случае, если Вы пожелаете связаться со мной, мой адрес: Афины, Ионический банк, для передачи мне. Желаю Вам и всем Вашим близким наилучших успехов в будущем. С любовью ко всем вам Ваш ТеодорОткрытка
Мама! Я перебрался в Афины, так что поддерживай со мной связь. Город чудесен. Акрополь как розовая плоть на солнце. Отослал вам свои вещи. В чемодане, помеченном № 3, ты найдешь книгу под заглавием «Анализ творчества Марлоу». Не пришлешь ли ее мне? Здесь все носят стальные шлемы и пахнет войной. Покупаю себе большое копье. С любовью ЛарриПисьмо
Дорогая мама! Все мои туристские чеки стибрил один треклятый итальянец. Меня чуть было не арестовали, когда я дал ему по физиономии. То и дело попадаются шулера! Не можешь ли ты выслать мне немного денег в Милан по адресу: Плаца де Контина, отель «Магнифика»? Скоро буду дома. Не тревожься. С любовью Лес P.S. Пахнет войной, не так ли?Письмо
Милая мамочка! Пишу тебе наспех. Я отплываю на пароходе в понедельник и рассчитываю быть в Англии недели через три. Обстановка здесь беспокойная, но чего еще можно ожидать? Дождей нет, зато идет снег. По-моему, немцы ведут себя просто безобразно. Будь моя воля, я бы сказала им об этом. Вскоре мы увидимся. Любящая тебя Марго P.S. Вкладываю письмо от Спиро. В высшей степени странное.Письмо
Дорогая мисси Марго! Сообщаю вам, что объявлена война. Никому ни гугу. СпироОглавление
По всему свету
Вступление … 7 Часть первая Место действия Глава первая. Черный буш … 12 Глава вторая. Озеро яканы … 23 Часть вторая Животные вообще Глава третья. Животные ухаживают … 35 Глава четвертая. Животные строят … 47 Глава пятая. Животные сражаются … 56 Глава шестая. Животные изобретают … 64 Глава седьмая. Исчезающие животные … 72 Часть третья Животные в частности Глава восьмая. Животные-родители … 82 Глава девятая. Разбойники … 89 Глава десятая. Вильгельмина … 96 Глава одиннадцатая. Воспитание муравьеда … 105 Глава двенадцатая. Портрет Пабло … 112 Часть четвертая Двуногие прямоходящие Глава тринадцатая. Мактуутл … 123 Глава четырнадцатая. Себастиан … 130Моя семья и другие звери
Слово в свое оправдание … 139 Часть первая Переезд … 142 Глава первая. Неожиданный остров … 147 Глава вторая. Землянично-розовый дом … 156 Глава третья. Человек с Золотыми Бронзовками … 166 Глава четвертая. Полный кошель знаний … 179 Глава пятая. Паучье сокровище … 190 Глава шестая. Чудесная весна … 203 Разговор … 214 Часть вторая Глава седьмая. Бледно-желтый дом … 218 Глава восьмая. Черепашьи горы … 230 Глава девятая. Мир на стене … 243 Глава десятая. Парад светлячков … 255 Глава одиннадцатая. Очарованный архипелаг … 269 Глава двенадцатая. Беспокойная зима … 283 Разговор … 300 Часть третья Глава тринадцатая. Белоснежный дом … 306 Глава четырнадцатая. Говорящие цветы … 319 Глава пятнадцатая. Цикламеновые рощи … 332 Глава шестнадцатая. Лилии над озером … 347 Глава семнадцатая. Шахматные поля … 362 Глава восемнадцатая. Представление со зверями … 377 Возвращение … 393Птицы, звери и родственники
Разговор … 399 Часть первая Лондон: прелюдия Глава первая. Схватка с духами … 404 Часть вторая Перама Глава вторая. Крещение … 424 Глава третья. Бухта среди олив … 438 Глава четвертая. Миртовые чащи … 455 Часть третья Контокали Глава пятая. Карликовые джунгли … 468 Глава шестая. Крабы и каракатицы … 477 Глава седьмая. Сумятица под оливами … 486 Глава восьмая. Совы и аристократия … 504 Часть четвертая Кризеда Глава девятая. Ежи и морские волки … 520 Глава десятая. Говорящая голова … 540 Глава одиннадцатая. Сердитые бочки … 557 Эпилог … 571



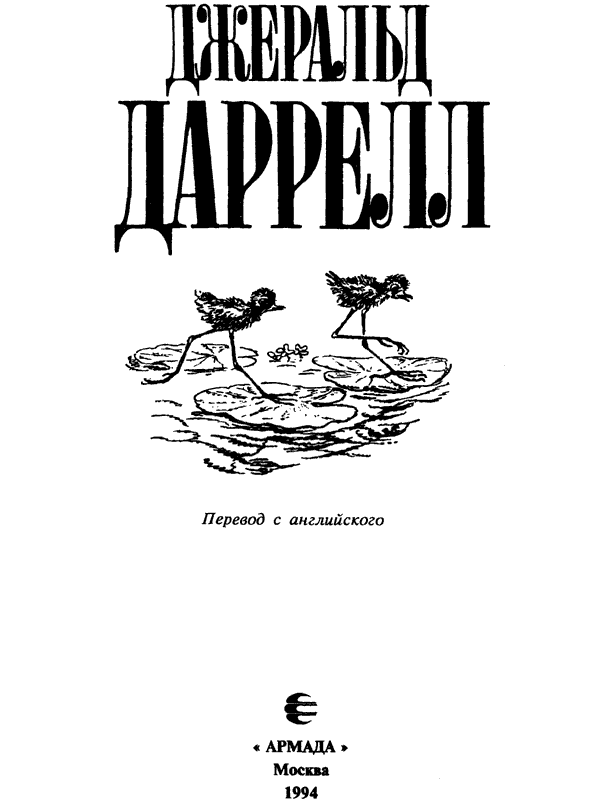


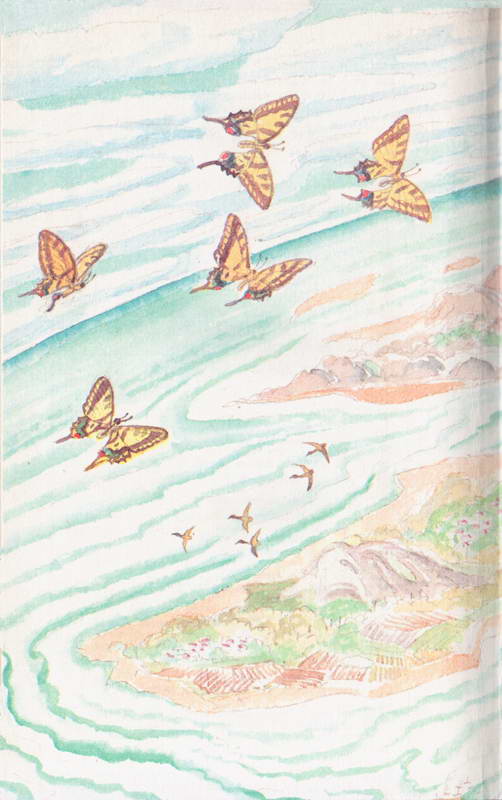

Последние комментарии
3 часов 13 минут назад
8 часов 57 минут назад
10 часов 4 минут назад
11 часов 2 минут назад
11 часов 16 минут назад
20 часов 27 минут назад